Эдуард Зорин Богатырское поле
Часть 1 УСОБИЦА
Пролог
1
Лодии шли по Русскому морю, оставив далеко позади себя толчею тесных улиц и пламенем горящие на солнце соборные купола Царьграда.
После долгих лет разлуки возвращался на Русь зиждитель и камнесечец Левонтий.
Торговый гость Ярун, хозяин всех лодий и товара, принял его с радушием, выделил место в кормовой избе по соседству с византийскими послами, поспешавшими в Киев, — тем самым изъявил простому ремесленнику, не боярину и не дружиннику, знак своего особого расположения.
Сам Ярун жил в носовой избе с женой Ксенией, тридцатилетней смуглой женщиной, на лице которой, казалось, застыло извечное выражение скорби. За все время пути Левонтий ни разу не слышал ее голоса. Она тихо готовила в большом медном котле еду, стирала белье, прибиралась в избах.
— Годов пять это с ней, — сказал однажды Ярун Левонтию, — с той поры, как половцы увели в полон сынишку. Стояли мы тогда на волоке; дружина не подоспела, а поганые тут как тут. Не счесть, сколько увезли с собой товару, а уж народу погубили…
Не ожесточила сердца Яруна давнишняя беда, но неспроста вдруг забудется он среди беседы, уйдет в себя остановившимся взором: куда б ни занесло его — в латинские ли страны, в Трапезунд или за Джаб-эль-Тарик, к зеленым, невиданно прекрасным островам, — неизбывная горечь подымалась в нем снова и снова, едва только покажутся родные берега.
С ясной погодой за кормой и наполненными попутным ветром парусами лодии в срок подошли к Олешью. В днепровском устье стояли на якорях большие и малые суда, меж ними юрко проплывали смоленые челны; ближе к посаду, ощетинив пенное трехрядье длинных весел, степенно покачивались на волнах два византийских корабля; на берегу у бревенчатых и саманных изб толпился народ. Были здесь новгородцы в зипунах, киевляне в опашнях, рязанцы и суздальцы в белых, ниже колен, посконных рубахах, греки в ладно сшитых накидках — коловиях, персы в синих и розовых дибаджах, — разноголосый, разноязыкий торговый люд. Сошедшие на берег русские гости торопились в церковь Параскевы Пятницы или к установленному на вершине пригорка храмцу, в нише которого виднелось изображение Николы Мокрого с мечом в тонкой руке.
Ярун истово помолился Николе, купецкому заступнику. Когда он кланялся, в ухе его подпрыгивала и ярко взблескивала золотая серьга.
Встав на колени рядом с купцом, прочитал молитву и Левонтий. Никола покровительствовал всем плавающим по воде, а камнесечцу еще предстоял долгий и опасный путь через пороги к Киеву и дальше — по Оке и Клязьме — к новому городу Владимиру Залесскому.
Множество былей, похожих на небыль, услышал Левонтий от купцов о владимирском князе Андрее Юрьевиче. И умен-де он, и храбр, и боголюбив. Ему бы в Киеве старшим среди братьев сидеть, а он пошел супротив отцовской воли — выбрал себе небольшую крепость на самой окраине Руси. В ту пору дивились ему все, иные открыто посмеивались. Зато нынче ходят под ним в покорстве и киевские строптивые князья…
Дивно украшает Андрей свой стольный град, кличет со всех концов земли мастеров. Съезжаются на берега Клязьмы резчики по дереву и камню, богомазы, златокузнецы и мостники из Мурома и Рязани, из Чернигова и Новгорода. Устоит ли седовласый Киев перед юным богатырем?! Не потускнеет ли его древняя красота перед владимирскими белокаменными храмами?! Не поблекнут ли живые краски его иконостасов?! Не одряхлеют ли стены?! Не обветшает ли былая вера?!
Велика земля русская, несметны ее богатства. Тянутся из Руси обозы, плывут лодии на восход солнца и на закат — в Багдад и Хорезм, в Чанвань и к берегам Варяжского моря. И сюда, в Олешье, на теплое Белобережье, стекаются дары всех стран. Такого богатства не видывал Левонтий нигде, разве только в Царьграде на главной торговой улице, шумной и веселой Месе.
У самых причалов и выше, на холме, расположились со своим товаром арабы и греки, хорезмийцы и ясы, булгары и половцы. Торговали соболями, бобровыми благовониями, медом, воском, пшеницей, горючим камнем, рыбьим зубом, конями, ловчими птицами, хитрой кузнью, богатым узорочьем, кольчатой и дощатой броней, мечами и шлемами с искрящейся насечкой, наборными уздечками с бирюзовыми глазками.
Ярун бродил между рядов, присаживался на корточки, уважительно пересыпал из ладони в ладонь пшеницу, пробовал мед, глядел коням в зубы, громко, как и все, рядился и приценивался к товару, а Левонтия пленило многообразие виденного и слышанного, все пытливо подмеченное, мастерски выполненное резцом и зубилом, любовно сохраненное в рисунке и цвете для доброго глаза, для сердца, жадно ищущего красоту…
2
Немало постранствовал Левонтий по свету, немало чудес повидал на своем веку.
И вспомнился ему милый Суздаль, вспомнилось, как после работы, намахавшись горбушей, падал в душистую траву, собранную на кочкарнике, и глядел в небо, словно в колодец со звездными точками на черном студеном дне. Отец его, впалогрудый, сухой, будто ольховый сучок, безбородый мужик, с раннего детства приохочивал к работе Левонтия.
— От княгини родится княжич, — говаривал он, — от робы робичич.
Левонтий спозаранок уходил с отцом рубить лес, корчевать пни под будущую пашню, косить сено на болотных кулигах: лучшая-то земля, бывшая общинная, теперь была у боярина. Домой возвращались, когда уж солнце уплывало в камыши за Каменку и над неровным пряслом ивовой изгороди показывалась яркая Прикол-звезда. А случалось, что ночевали и на сенокосе: домой, в посад, идти не было сил. Жевали перед сном хлеб, хлебали ушицу — отец ставил на реке лозовые морды: благо, река еще не отошла к боярину, а вот на Колокше, сказывают, и на реке боярские знамена.
Каждую весну, когда почернеют пригорки и Каменка вздуется от темной воды, мужиков из окрестных сел собирали на суздальский вал — подправлять городские стены. Иные городни разбирали совсем, иные рубили заново, навешивали на крепкую верею дубовые полотна ворот. В году работы всякой было много; не успеешь управиться — в двери стучатся сборщики подати.
Только уедут — впору и передохнуть, ан нет: в прошлогоднюю сухмень взял отец в долг зерна; с долгом-то рассчитался, да резы, поди, набралось столько же. Не успел отдать резу, нависла над семьей продажа — мелкий сбор в пользу князя. Чуть где не доглядел — прощай вольная воля. А из холопства путь один — в другое холопство, к другому боярину, князю ли… Недавно еще жил мужик как хотел, пил молоко да хлебал кисели, бил в лесу зверя, ловил в озерах рыбу; подать платил, но не такую, как ныне: господ-то над ним было — раз-два и обчелся.
Отступает община, теряет вековую вольницу, беднеют крестьянские дворы. Раньше-то в этих местах почти не знали голода, а теперь, почитай, едва ли не всюду запасали на зиму желуди, сушили и толкли в муку вместо пшеницы корни стрелолиста и рогозы. Хороша ли еда?.. Пучило у мужиков животы, в засушливые годы мор так и косил людей чуть ли не целыми деревнями.
Пришла беда и на Суздаль. Свалил голод Левонтьева отца, вскоре прибрал мать и сестру. Левонтия нашел случаем проходивший мимо избы чернец, — услышал стоны, сунулся в лозняковые корзины, за кадушки с рассохшимися ладами, и увидел на куче старого тряпья совсем отощавшего мальчонку.
Чернец жил в лесу, в пахнущей свежей смолою келье, людей чурался, творил ежедневные молитвы перед ликами святых, читал книги, ставил на реке заколы, а в лесу силки. За кельей, в низенькой пристройке с двускатной крышей из сосновой щепы, распевали в клетках выловленные чернецом птицы. Он хорошо знал повадки всякой божьей твари; из-за божницы у него торчал высокий лук с кожаной тулой, из которой выглядывали оперенные концы червленных стрел.
По ночам чернец царапал что-то на скрученных листах бересты, и Левонтий слышал невнятное бормотанье.
— О чем это ты, Евлампий? — спрашивал он чернеца. — Вроде бы заговариваешь. Уж не колдун ли ты?
— Воистину колдун, — улыбался Евлампий, чистыми глазами глядя на мальчика. — Хочешь, и тебя научу?..
Ну как Левонтию не захотеть?! Оно, конечно, страшно, а все-таки… Через год он уже читал и писал. Евлампий радовался его успехам. Книг у чернеца было мало — разве только вот эта толстая, в тяжелых коричневых досках с позеленевшими медными застежками и красными буквицами в начале слов: «Шестоднев», да «Евангелие» без досок, да «Иудейская война» со следами мышиных зубов на ломких страницах… Знал Евлампий много преданий и песен; много былин сказывал вьюжными зимними вечерами. Славный был чернец, добрый, словоохотливый, зла никому не творил, жил по справедливости. Так бы и молиться ему перед темными иконами, ставить в лесу силки или читать мудрые книги у зажатых в светце лучин, да беда слепа: булгарской ли стрелой обернется, красным ли петухом, серым ли волком. Разыскала она и Евлампия, навалилась на него сотнями жадных зеленых глаз, уронила в сухой январский снег под самый Варварин день…
Всю ночь прождал Левонтий чернеца, наутро достал из-за божницы тугой лук и отправился за реку, по следу знакомых лапотков. Нашел он в лесу только клочки рясы да отлетевшую за пенек шапчонку со знакомым красным подбоем. А вокруг — видимо-невидимо волчьих следов.
Тут понял Левонтий, как близок был ему добрый чернец; отряхнул он от снега его потертую шапку, сел на пенек и заплакал.
А на следующий день собрал суму, сплетенную из мягкого лыка, положил в нее краюху хлеба, мяса да соли, перебросил через плечо лук, нацепил тулу со стрелами и отправился куда глаза глядят — лишь бы к теплу, лишь бы к добрым людям…
Месяц шел, а то и боле — вышел к большой реке. У самого берега, там, где укатанная дорога взбегала на занесенный снегом дощатый помост, увидел он несколько всадников в круглых шапках с поперечными гребнями. Меж коней стояли двое мужиков со связанными за спиной руками; на мужиках были старенькие лапти и вывернутые мехом наружу овчинные облезлые телогреи.
Левонтий так и обмер: булгары! Впору бы кинуться ему назад, в лесную глушь, но лапти будто приросли к дорожному насту. Лошадиная пасть обдала его зловонным дыхом, сильный удар свалил с ног. Перевернулось небо, почернел снег… А когда он очнулся, то увидел, что руки его крепко связаны, невдалеке потрескивает костер, у костра сидят булгары, жуют большие куски мяса, облизывают пальцы и что-то лопочут по-своему…
Через несколько дней холодного и голодного пути пленников пригнали в большой город, развязали и заперли в пустой житне. Сквозь щели в досках Левонтий увидел улицу, вымощенную деревянными чурбаками, башни с причудливыми куполами, похожими на булгарские круглые шапочки, дома с плоскими крышами.
Утром за пленниками пришла стража. Мужиков вытолкнули во двор к высокому крыльцу. Там стоял важный и толстый человек с вьющейся бородой и узкими припухшими глазками. На нём был малиновый с золотыми хвостатыми птицами кафтан, кунья шапка и белые сафьяновые сапоги с серебряным тиснением. Начальник стражи, сурового вида кривоногий детина с покатыми плечами и отрубленным ухом, о чем-то полопотал с человеком на крыльце, вскочил на коня, и пленных погнали со двора на улицу, а потом на площадь. Здесь Левонтия продали желтолицему купцу с длинными, выпирающими вперед зубами. Тот привел его на свою вмерзшую в лед лодию и сдал сухому, вертлявому, как собака, хорезмийцу. Левонтий таскал тюки, топил печи, убирал палубу, сгребал по утрам снег. Весной, когда сошел лед, лодия влилась в большой новгородский караван и двинулась вниз по Волге к Хвалынскому морю.
Моря Левонтий не видел еще никогда. Подгоняемые быстрым течением, лодии миновали заросшее камышами и низкими деревцами, наполненное птичьим перекриком и пересвистом волжское устье и плавно закачались на покатой зеленоватой волне. Берег вдруг быстро ушел назад, паруса наполнились ветром — и лодии скользнули вперед, в синюю дымку, откуда, чудилось, надвигается грозной пропастью самый что ни на есть край земли…
Но края земли все не было, и солнце день ото дня опускалось в черную воду и выкатывалось, умытое, из-под воды. Жаркие его лучи нагревали настил, трескались доски, брызги засыхали на них белыми пятнами.
К началу третьей недели разыгралась буря, обломала мачты, разорвала паруса, разбила лодию о чужой скалистый берег. Погибли все, в живых остался один Левонтий. Подобрали его местные жители, привезли в село, долго отпаивали травами, кормили овечьим острым сыром. Через месяц Левонтий окреп, стал ходить на охоту. Не зря учил его чернец Евлампий мужской нелегкой работе: бил Левонтий первой стрелой могучего орла, в шею разил стремительного сайгака.
Хорошо жилось ему в Асских горах; бесхитростные, добрые и справедливые окружали его люди. Но тянула к себе далекая Русь, тосковало сердце по милому Суздалю. Надел он на ноги легкую обувку из сыромятной кожи, распрощался с гостеприимными хозяевами и отправился в сторону Большой Ледяной горы, откуда, сказывали старики, начинаются половецкие степи, а за ними катит свои чистые воды Днепр.
Много дней шел Левонтий. Ночевал в горных селениях, по утрам с изумлением разглядывал соборы, поднявшиеся на орлиных утесах, благоговейно касался ладонями серых выветренных камней с причудливыми узорами — виноградными лозами и человеческими фигурами, держащими в руках маленькие изображения церквей. В низинах попадались ему большие каменные рыбы с круглыми глазами и аккуратно высеченными тонкими жабрами. Заходил он и в златокузни, любовался ванскими кружевами и каринскими вышивками, замирал перед фресками Звартноца, Ахтала, Кобаира…
Но, где бы он ни был, снились ему ночами русские деревни, черные срубы изб, прихотливая резьба по карнизам и по причелинам, богато изукрашенные фигурками зверей и птиц ворота, любовно расписанные наличники… Снились дубы да вязы в поймах широко разлившихся рек, березки, замершие на зеленых взгорках, разлапистые клены и по-девичьи стройные красавицы ели. Снилось небо в комочках легких облаков, бусинки утренней росы на листках притаившейся в прохладном логу малины, желтое облако зацветающей сосны, ласково лоснящиеся молодые побеги черной ольхи.
Тянулся Левонтий к работе: землю пахал, камни выламывал, храмы возводил. А вышел в половецкие степи, увидел перед собой бесконечный простор — и вдруг почувствовал, как прирос сердцем и к этим горам, что остались позади, и к городам с шумными многоцветными базарами, и к людям, которые бескорыстно учили его строительному мастерству. Но уж вобрало его в себя пахучее полынное море, уж замаячили у волнистой кромки горизонта одинокие всадники в островерхих шапках, взметнулись к небу белые воронки пыли — тонко пропела у самого уха каленая половецкая стрела, не то шальная, не то в сердце нацеленная. У каменных идолов вскидывались в душное, горечью настоянное небо желтые сигнальные костры…
И снова тропою рабства вышел Левонтий к торговым берегам — там смотрелась бойницами сторожевых башен в Сурожское и Русское море несметно богатая Тмутаракань…
3
Ярун торопился перевалить пороги, поэтому задерживаться в Олешье не стал. Зарев на носу, а ему еще добираться до самого Великого Новгорода.
Византийских и русских купцов сопровождала по берегу княжеская дружина. Гребцы споро гнали лодии против течения.
Солнце в то лето стояло горячее, в степи покачивались далекие миражи: за дымкой мерещились прохладные озера и реки. Из сухмени, из плотной пыли, вырывались к самому берегу половцы на коротконогих лохматых лошаденках, гортанными криками обрывали повисшую над рекой дремотную тишину и исчезали так же внезапно, как и появлялись. Вои на лодиях вскидывали к бортам щиты, гребцы живей налегали на весла.
До самых порогов Днепр был безволненный; скрипели уключины, бледнело и вновь наливалось синью высокое небо.
Вот так же безветренно и тихо было тогда, одиннадцать лет назад, когда греческий корабль с мехами, конями и рабами пристал в Золотом Роге в виду царьградских зубчатых стен. Левонтий увидел сказочный город с торчащими повсюду в бесчисленном множестве куполами церк вей и соборов. В темной зелени кипарисов белели дворцы богатых ромеев.
На пристани пахло дегтем и рыбой; по сходням спешили рабы, согнувшиеся под тяжестью тюков; постукивали плотницкие топоры, гремели цепи, громко хлопали приспущенные паруса судов, тесно стоявших друг подле друга в узком пространстве бухты.
Казалось тогда Левонтию — вот она, неизбывная беда. Не вернуться теперь на Русь, не взглянуть на милый сердцу Суздаль. Счастье единожды улыбнулось, а от ромеев не уйти: крепки царьградские стены, далек отсюда батюшка Днепр.
Рабами торговали на Месе. Бледность Левонтия да выпирающие из-под рубахи ребра отпугивали придирчивых покупателей. Хозяин злился, дергал его за повешенную на шею цепь: пропал товар — пропали деньги. Но к вечеру покупатель все же нашелся.
Новый хозяин Левонтия был брюхат и кривоног; рыхлое, пористое лицо его выражало брезгливость, глаза были холодны и прозрачны, как зеленые стекляшки. Все думал Левонтий дорогой — за что взял его этот странный человек: за малую ли цену или по безоглядству своему?
Или, может, понял смятенную душу Левонтия? Но отчего же тогда у него такие пустые глаза, отчего идет, не радуется покупке, зябко кутается в потертый коловий?
Скоро узнал Левонтий: скуп и алчен был его новый хозяин. Содержал он скрытно маленький флот и отправлял корабли до первого ревуна на разбойный промысел. А потом вез награбленное к немцам, обменивал на золото и драгоценные камни, которые прятал в своих подвалах.
Как-то хозяин отправил молодого раба с письмом к богатому ромею. Впервые Левонтий оказался один на улицах Царьграда. Времени у него было много, и он, еще в стране яссов наслушавшись о чудесах византийской столицы, устремился к храму святой Софии.
Видел Левонтий монастырские соборы в Ахиате, Санаине и Татеве, часами простаивал перед трехъярусным храмом Гагика в Ани, с толпою богомольцев пробирался в Ахтамарский храм, осматривал скальный монастырь Айриванк. Но здесь, выйдя на просторную площадь перед Софией, замер, потрясенный ее красотой. Могучее здание было увенчано огромным куполом, к которому примыкали с двух сторон постепенно понижающиеся полукупола. Казалось, пробудившийся богатырь, привстав с земли, напряженно вглядывается в бурлящую вокруг него пеструю и недолговечную жизнь. Людские волны, словно пена, клокочут у его рук и плеч, разбиваясь в радужные брызги, а над шлемом, едва не задевая его своими крыльями, медленно плывут белые облака…
Этот образ остался в памяти Левонтия навсегда, и ночами тревожили его причудливые сны, в которых грузные камни Царьграда легко вписывались в нежную зелень Ополья, а причудливая резьба по причелинам и подзорам деревенских изб сплеталась с виноградными лозами на фризах Ахтамарского храма. А порою и не знал он, где сон, а где явь, — так радостно ожила вдруг в его сердце далекая Русь.
Но еще не скоро было ему суждено вернуться на лодие Яруна к устью широкоструйного Днепра.
Опасный и нелегкий путь прошел он горными тропами с покорностью раба и мужеством вольного русича. Гибли его товарищи, срываясь в пропасти, вмерзая в альпийский лед, обливаясь кровью под мечами жестоких германцев. А ему суждено было увидеть и дворцовую капеллу в Ахене, и массивные базилики в Гернроде, и недавно законченный собор в Ангулеме, и рельефы портала церкви в Муассаке, и Венецию — этот город на сваях, глядящийся в зеркальные воды Адриатики.
Обычно хозяин сам ожидал у причалов Золотого Рога возвращающиеся с новой добычей корабли. Но однажды их встретили закованные в броню топотериты с суровыми, замкнутыми лицами. Рабов согнали в подвал на пристани, кормчего увели с собой. Оказывается, хозяина разоблачил один из тех, кому он ссужал деньги, пронюхавший от своей любовницы о его черном промысле. Все имущество казненного, движимое и недвижимое, было распродано; рабов снова вывели на Месу.
На этот раз Левонтия купил архитектор Галата, сухонький маленький старичок в грязной хламиде из дорогой шелковой ткани. У Галаты было продолговатое лицо и бороденка, как у Христа на старинных фресках. Он громко кашлял, хватаясь за впалую грудь, и вглядывался в Левонтия глубокими белесоватыми глазами.
Очень скоро приметливый Галата выделил молодого росса; чутье большого мастера и старого человека победило в нем закоснелого рабовладельца. Галата приглашал Левонтия, как равного, в свои покои, беседовал с ним, дивился его приключениям, расспрашивал о народах, обитающих за Ясскими горами. Левонтий, в свою очередь, узнал о том, как возводилась поразившая его воображение святая София, как вместо прежнего, рухнувшего во время землетрясения купола привезенный из Армении архитектор Трдат построил новый, более красивый.
«Из этого, еще не перебродившего теста можно вылепить большого художника», — сказал себе Галата. И оказался прав. Его только смущала необузданная фантазия нового ученика.
— В зодчестве свои законы, — поучал Галата. — Они требуют величественности и простоты. Взор мирян должен быть устремлен на небо. А твои зверушки и птицы тянут их к бренной земле…
Но втайне он завидовал Левонтию, уносившему его своими помыслами в давно минувшую молодость. Вот так же и Галата много лет назад, полный творческого задора, здоровый и жизнерадостный, переступил порог мастерской своего учителя…
А над Днепром все ярче разгорались звезды. Легко шли лодии против широкогрудой волны. Левонтий подставлял лицо прохладному ветерку.
Завтра они прибудут в Киев.
— Пристанешь к соляному обозу, — поучал его кормчий Василий. — Одному-то опасно в пути: тати да усобица.
Провожая Левонтия, Галата сказал:
— Вот тебе вольная — ступай на Русь. Князь Андрей Юрьевич со всей земли зовет к себе мастеров. Иди к нему, поклонись. Собери вокруг себя учеников… Иди.
Но не о дивном соборе, который ему предстояло возвести, и не об юнотах думал сейчас Левонтий. Да и думал ли он о чем?.. Он жил как птица, как зверь в бескрайней степи — ушами, ноздрями, всем упруго напряженным телом. Звуки, запахи, краски щедро вливались в него. Волновали Левонтия воспоминания — и плыл, и плыл перед глазами дивный Суздаль, и речки за Суздалем, и леса, и поля с короткой веретенью, и девчата в Суздале, и пестрый полдень, и небо с белыми облаками над причудливыми куполами церквей…
За околицами сел по-над Днепром вечерились девчата и парни, водили хороводы. Сквозь шум стекающей с невидимых весел воды долетали до Левонтия шорохи камыша, позвякивание стреноженных коней, гулкие перекрики ночных птиц, внеурочное ваваканье потревоженных перепелов.
Сторожкой, вытянутой тенью, ощетиненной островерхими шлемами, шла днепровским берегом княжеская дружина, стерегла лодии от половцев, охраняла купцов на волоке; бражничали дружинники с купцами, выменивали на оружие перстеньки с драгоценными агатами, падали от половецких метких стрел, рубили поганых мечами харалужными, высились каменными богатырями над темными перелесками.
Сорвалась с высокого берега, упала на воду и побежала по серебристой волне грустная русская песня. Чей-то юный голос вывел ее начало, а подхватила вся дружина.
Левонтий стоял на корме, слушал ее, и беспричинные светлые слезы туманом занавесили ему днепровскую даль…
Глава первая
1
Ростовский именитый боярин Добрыня Долгий поспешал в Боголюбово к князю Андрею Юрьевичу с челобитной о расширении вотчины. Но еще в пути на ночлеге он узнал, что князь убит. Новость эта поразила Добрыню.
Жалеть Андрея у боярина не было причин, но и радоваться его смерти он не спешил. Что и говорить, владимирский князь был крут, много пролито из-за него кровушки, а еще больше — вдовьих слез… Другое тревожило боярина: шутка ли, в одночасье остались Владимир, Суздаль и Ростов без головы. Кого сажать на пустующий стол?
Возок покачивался на ухабах, и мысли Добрыни путались. В ночи из посада доносились пьяные вопли; когда проезжали Золотые ворота, под сводами сгрудились чадящие факелы.
— Гони! Гони! — закричал Добрыня и сунул посох в чье-то искаженное злобой лицо.
Кони захрапели, возок мотнулся в сторону, накренился, но не упал. Мужики затопали по дороге, бросили вслед боярину несколько увесистых камней. Кажется, пронесло. Добрыня облегченно откинулся на подушки, провел рукой по липкому, мокрому от холодного пота лбу.
Боярин и раньше не любил Владимир с его улицами, заполоненными простолюдинами, с широко раскинувшимися по холмам ремесленными посадами, теперь же он его возненавидел и велел, не останавливаясь, скакать в Суздаль.
Прохладный ветер высушил его лицо, вернул в спокойное русло мысли.
«Был бы Андреев сын Юрий покладистее, — рассуждал Добрыня, — лучшего князя на владимирском столе не сыскать». Но страшно было: безоглядчив молодой княжич, собственной выгоды не увидит, а то и того хуже: что, как обнаружится в нем отцов крутой нрав?!
Долго думал и гадал Добрыня, но так ничего ему в голову и не пришло, хотя знал: Ростов далеко, а все равно за его спиной.
В Суздале тоже было не легче. Три дня шумели бояре и решили наконец искать князя на стороне.
Оказались в ту пору на княжеском дворе знатные рязанцы Детилец с Борисом Куневичем. У тех свои были задумки. Потолкавшись в сенях, послушав других, поглядев по сторонам, стали они, сговорившись, расхваливать перед владимирцами да суздальцами князей Мстислава и Ярополка, Андреевых племянников. То одному на ухо шепнут, то другому: и молоды-де князья, и храбрости не занимать, а главное — не строптивы. Боярской воли не умалят, в боярских скотницах злато считать не станут. Да и за плечами у них не кто-нибудь, а рязанский князь Глеб — как-никак зять, в трудный час в беде не оставит…
Давно уж не видывали жители Суздаля такого скопища родовитых людей, давно уж не стаивали у коновязи перед княжеским теремом такие холеные кони под богатыми седлами.
Гости пировали, охотились, держали совет в просторных сенях, на советах часто ссорились, петушились друг перед другом, а потом снова пили меды и брагу.
Боярин Добрыня вел себя с достоинством — речи говорить не спешил, больше слушал других; приложив ладонь к уху, прикидывался глухим, кивал, поддакивал. Выбрать князя — дело не пустяшное. Невесту и ту целый месяц обхаживают сваты.
Трезвым рассудком своим Добрыня скоро понял: правы рязанские бояре, хоть и радеют не без корысти. Юрия на стол не посадишь, а Михалку со Всеволодом, Андреевых братьев, и вовсе нужно держать в стороне: как бы снова не схватили бояр за бороды. Мстислав с Ярополком были ему по душе.
Детилец тоже предупреждал:
— Ежели Михалка сядет на стол, начнет искать Андреевых убийц — далеко-о ниточка потянется. Да и Всеволод, хоть и принял от Андрея много обид, одной с ним крови, нрава тоже не мягкого. От Всеволода пощады не ждите.
Было чего остерегаться боярам. Слова Детильца о мести за Андрееву смерть попали в цель. Еще немного поспорив для приличия, сошлись на том, что куда ни шагни, а лучше Мстислава или Ярополка князя не сыскать.
Стали рядить, кого направить в Рязань; владимирцам да суздальцам ехать не хотелось: кто знает, как еще повернется дело?.. Выбор пал на Детильца с Борисом Куневичем:
— Вы из Рязани, вам и ехать ко Глебу.
А рязанским боярам только того и нужно. Рассудили они хитро: узнают молодые князья, кто челом бил за них перед зятем, милостью своей не обойдут.
И отправились Детилец с Куневичем в Рязань. А Добрыня, сев в возок, тем же днем велел гнать в Ростов. Спешил он предупредить ростовских бояр: Михалку-де со Всеволодом не звать (и так натерпелись страху под Андреевой пятой), а Ростиславичей — Мстислава и Ярополка — встречать с хлебом-солью, да не шибко-то давать рязанцам хозяйничать. По старшинству Ростов — первый город в Белой Руси. И ставить князя будут они, ростовцы: руки у рязанских коротки…
2
Душно было в боярских палатах, жарко. За отволоченными оконцами вздрагивало над раскаленной землей дымчатое марево. Накинув на голое тело кафтан, Добрыня сидел на лавке, пил из запотевшего глиняного кувшина только что принесенный из погреба малиновый квас.
Сколь уж времени прошло с того дня, как вернулся он в Ростов, а успокоился только сегодня, выслушав прискакавшего чуть свет владимирского гонца. Слава те, господи, — свершилось!..
А могло повернуться иначе? Еще как могло! Детилец-то с Куневичем оказались не ахти как проворны, да и Глеб Рязанский был себе на уме: прямехонько из своих палат направил послов в Чернигов к деду Ростиславичей по матери — Святославу Всеволодичу. Вот ведь что удумал: знал, что гостят у Святослава и Ярополк со Мстиславом и Михалка Юрьевич.
Послы будто бы сказали Ростиславичам, что хотят их на владимирский стол, но те без дедова совета ответ держать побоялись. А когда пошли к Святославу, тот, выслушав их, сообразил, что задуманное боярами не крепко. «Хорошо, что вас зовут во Владимир, — сказал он. — Но город сей отчина Юрьева, наследник которого сын его, а ваш стрый Михалка. Сдается мне, что ни Михалка, ни Всеволод стола вам не уступят, пойдут ратью и разорят землю. И кто ведает, кому в том бог поможет?..»
Добрыня улыбнулся: умен, умен Святослав, задумки у князя дальние, осторожность ко времени — глядит на Киев, но и про них, грешных, не забывает, чует, что за Ростовом да Суздалем великая сила, помнит Андрея. Вот и прикинул: а не лучше ли до поры примирить князей? И землю поделить: Михалке — Владимир и Суздаль с пригородами, Всеволоду — Ростов, а Ростиславичам — Переяславль и Городец?..
Задумано — сделано. На том все и целовали крест от руки черниговского епископа.
Добрыня отхлебнул квасу, откинулся к стене, закрыл глаза и вспомнил, как мчался в Переяславль спасать почти утерянное, как загнал по пути лошадей и сам чуть не убился на одной из переправ, как уговаривал Ярополка сесть во Владимире, елейно улыбался и льстил ему, хотя и раньше знал, а нынче только утвердился: думает молодой князь о себе одном, а бояре у него под рукой — сила супротив стрыев; всем поступится — только бы сесть на владимирский стол. Вот как это было. Не о себе — об общем боярском деле пекся Добрыня.
Михалка узнал о сговоре и пошел от Москвы на Владимир, ворота которого гостеприимно распахнули перед ним ремесленники и прочий простой люд.
Ярополк, струсив, хотел бежать — а кто предостерег его от опрометчивого шага? Кто внушил ему веру и укрепил его слабую руку? Опять же он, Добрыня. Это по его, Добрыниному, наущению собрались в Переяславле владимирские и суздальские бояре, стали звать верных людей, собирать войско…
Добрыня поднялся с лавки, неторопливо подошел к оконцу, отволокнул его — и замер: вот она перед ним, земля ростовская, отцова, и дедова, и прадедова. За сверкающими верхами собора, за крутыми крышами теремов и крепостным частоколом лежало на зеленой скатерти лугов Неро-озеро — будто блюдо в оправе из драгоценных каменьев. Под знойным солнцем обвяли белые паруса лодии, на пристани — ни души. Безлюдье на улицах, во дворах, только нежатся в горячей пыли полусонные куры да где-то протяжно скрипит старый колодезный ворот…
Глава вторая
1
Давыдка проснулся рано — от пронзительного крика первых петухов. За низким оконцем в горнице, где с вечера постелила ему сестра Аленка, чуть брезжил рассвет. У печи гремела горшками мать. Яркое пламя освещало ее изъеденное глубокими морщинами продолговатое лицо. Она прищуривала слезящиеся глаза, постукивала кочергой по розовым уголькам, резво выпрыгивавшим через очелок ей под босые ноги, бормотала что-то беззубым, шамкающим ртом. В горнице разливался запах пареной репы и свежего духовитого хлеба.
Давыдка потянулся, сбросил с лавки босые ноги. Пол был чистым, белые, выскобленные доски приятно отдавали прохладой. Прохлада таилась в углах горницы, за иконами, перед которыми спокойно тлел огонек лампады; только от печи несло жаром, красные бесы суетились и потрескивали под сводом, с глухим уханьем ударялись в низкие обороты… Услышав позади себя шорох, мать обернулась.
— Поспал бы еще, сынок. Притомился, поди, — сказала она ласково и подправила на голове подаренный сыном расписной плат.
Вчера Давыдка испытывал к матери только нежность — сегодня он обратил внимание на ее усталую согбенную спину, на руки в синих узловатых желваках, на обвисшую, будто пергаментную кожу щек — и пронзительная жалость охватила его. Там, во Владимире, в княжеской дружине; он давно уже отошел от нехитрого деревенского житья. А если и случалось наведываться в село, взимать дань или усмирять мужиков, то это никак не связывалось с родным Заборьем, словно лежало оно совсем на другом конце земли, за темными лесами, за топкими лешачьими болотами.
А ведь Заборье ничем не отличалось от других таких же сел, утративших былую волю и незаметно, исподволь, подпавших под боярскую алчную десницу.
Давыдка вышел во двор, умылся колодезной водой из осиновой долбянки. Утро было росным, свежим, от поречья подымались длинные космы тумана. Наскоро утерев лицо и грудь мягким убрусом, Давыдка вернулся в горницу и сел в задний угол на лавку-коник. Здесь уже дожидалось его в глиняном горшке густое варево с лесными душистыми травами.
Давыдка был здоров, в плечах широк, розовощек и голубоглаз. И до еды великий охотник. Поэтому и опростал горшок в одну минуту и принялся за ветряную рыбу, которую любил еще с детства, когда с отцом, бывало, уходил на Клязьму ставить сети.
Отца давно уже нет в живых, да и мать плоха. А от сына, хоть он и в милостниках у князя Андрея, какая нынче подмога? Все больше в походах, некогда добро собирать. И давнего долга с матери и сестры не снимет боярин Захария; он ведь как глядит — ему бы и соседнюю общину прибрать к рукам.
А вот и Аленка. Хороша у Давыдки сестра — одно загляденье. Глаза, как у всех в отцовом роду, голубые, лицо смуглое, золотые волосы собраны в косу. Вошла в горницу и прямо от двери — к Давыдке:
— Проснулся, брате?
— А ты уж наработалась?
— Да вот веничков принесла, повесила, чтобы пообвяли…
Оглядев по-хозяйски стол, Аленка вдруг спохватилась:
— Ой, да что же это ты, мама, братику меду не подала?
— А и правда, запамятовала, старая, — засуетилась мать. — Медку-то отведай, сынок.
— Сама варила, — похвасталась Аленка, наливая Давыдке густого настоя в деревянную кружку, расписанную желтыми и красными петухами.
Давыдка выпил — понравилось. Аленка налила еще.
— А хмельно-ой, — похвалил Давыдка, рукавом вытирая губы.
Конечно, в походах и на пирах у князя Андрея доводилось ему пивать не только меды, а и заморские вина. Но этот напиток, Давыдка знал, Аленка готовила специально для него: хоть и не ведала, что так скоро, но верила — приедет, обрадовать хотела, побаловать засидевшегося в городских теремах важного братца.
— Ты бы на люди вышел, поглядел, что да так, — посоветовала Аленка, когда Давыдка управился с медом.
— Что верно, то верно, — согласился он и, поблагодарив мать и сестру за угощение, вышел из избы.
На огородах, за лозняковыми плетнями, потемневшими за зиму, бабы, пестрея платочками, копошились на черных грядках. Самое время высаживать огурцы — на Фалалея-огуречника: земля набрякла, вобрала в себя и влаги, и солнца — за полдень будто дышит, легким паром струит над зелеными сочными травами прелый воздух, горько пахнущий перегноем и — сладко — лесными ландышами. Пройдет Фалалей — там и Аленин день, ранние льны да поздние овсы. Много работы в поле — знай подтягивай поясок потуже, не зевай: лето пролежишь — зимой с сумой побежишь.
За деревней от двух кряжистых сосен юрко сбегала к речке узенькая тропинка: то в кусты нырнет, то снова вывьется на взлобок. С пригорка да в низинку, из низинки снова на пригорок — упиралась тропинка в прокопченный, рубленный в обло сруб под прохудившейся, застланной щепью крышей.
Хорошо помнил Давыдка и эту тропинку, и этот дуб, миновать который никак нельзя было, если надумал податься в Клязьминскую пойму — на песчаном ли откосе полежать, половить ли раков у берегов серповидных стариц, которых у Заборья — три. Не пройти, никак не пройти мимо кузни дядьки Михея, мимо груды железа, сваленной у входа, в которой и зазубренные, поеденные ржавчиной мечи, и кинжалы, и побуревшие наконечники от копий… Все это когда-то грозное оружие властно тянуло к себе мальчишек со всей деревни, и Давыдка не раз с сердечным трепетом вытаскивал из кучи какой-нибудь длинный меч с крестообразной рукоятью. Дядька Михей, в старом кожаном переднике, с сыромятным ремешком, перехватившим на измазанном копотью лбу рассыпающиеся русые волосы, только посмеивался да приговаривал, вытирая ветошью сильные, большие руки:
— Ай да молодцы-удальцы! Учитесь ратному делу.
Подручным у дядьки Михея в те поры уже был ухватистый младший сын его Мокей. Старшего-то, Кузьму, в Диком поле порубили половцы, а Мокей всего на два года был повзрослее Давыдки, но тогда еще управлялся с горном и с молотком. Парень был такой же — мослатый, как и отец, походка в развалочку, добродушная усмешечка в уголках толстых губ. Только чернявый — в кого и удался?..
«Повидаю-ка дядьку Михея», — подумал Давыдка и сошел, минуя зеленя, с холма. Издалека услышал он посапывание мехов, незлобивое гудение разогретого пламенем воздуха. Иногда позвякивали ретивые молоточки да тяжко, будто с ленцой, ухал большой Михеев молот. Давыдка хорошо помнил этот молот — сколько раз, бывало, стоял он в дверях кузни и, замирая от восторга, смотрел, как под его ударами простая, раскаленная докрасна металлическая плашка превращается в ладный обоюдоострый меч. Дядька Михей пристукивал по плашке молоточком, указывая, куда ударять, а Мокей со зверским лицом, на котором, совсем как у половецкого конника, сверкали зубы да белки вытаращенных глаз, бил тяжким молотом так, что по кузне во все стороны разлетались огненные живцы окалины. Он резко выдыхал при каждом ударе, а подымая молот, громко хватал воздух разинутым, дергающимся ртом.
Но не увидел. Давыдка в кузне дядьку Михея. Незнакомый парень, стрельнув в него озорными глазами, подхватил клещами только что откованное орало и сунул его в широкий бочонок с водой. Вода в бочонке зашипела, забурлила, ударила в лицо пареньку столбом белого пара. Паренек отбросил клещи и, улыбаясь, провел тылом ладони по мокрому от пота лбу.
— Поклон добрым людям, — сказал Давыдка, всматриваясь в полутьму кузни, где, ему показалось, был еще кто-то. Пламя, облизывая края горна, жаром обдавало щеки. Из глубины выдвинулось широкое плечо, сверкнули и погасли знакомые половецкие зрачки.
— Спасибо на слове…
— Мокеюшка, — подался вперед Давыдка, радуясь кузнецу, будто родному. — А дядька Михей? Не видать что-то дядьки Михея…
— Дедушка Михей преставился под Василия-капельника, — с любопытством заглядывая в лицо Давыдке, прострекотал подручный и прыгнул от тяжелой руки молчаливого Мокея в дальний угол кузни.
— Преставился, значит, — растерянно повторил Давыдка и перекрестился. — Царствие ему небесное…
Мокей бросил на груду железа молот; склонившись над бочонком, неторопливо умыл лицо.
На воле, на ярком дневном свету, старый приятель уже не казался Давыдке таким большим и сильным, как в кузне у своего красного горна. Глубокие складки залегли в уголках Мокеева смешливого рта.
— Совсем пригорюнился ты, Мокеюшка, — первым нарушил долгое молчание Давыдка. — Сказал бы что… Поди, целый век не виделись.
— Век-то век, да моя ли вина? — усмехнулся кузнец. — Сам, чай, дорогу к нам позабыл… Ну а нынче — отдохнуть приехал али переждать смуту?
Давно ожидал Давыдка этого вопроса. Не единожды сам себя спрашивал, а ответа не находил.
— Про то не говори, — сердито пробормотал он.
— Ладно, — сказал кузнец, разглядывая дружинника. — Видать, и вам не шибко сладко, на княжеских-то хлебах…
— Дядя Мокей! — крикнул от кузни мальчонка-подручный, кузнецов юнота. — Крицы-то нам не хватит. Как быть?
— Задувай домницу, — распорядился кузнец.
Давыдке показалось, что он вздохнул с облегчением — неладный пошел у них разговор. А юнота помог, отвлек от ненужного спора.
— Федькой зовут, — кивнул в сторону паренька Мокей. — А то пойдем, поглядишь, как работаем.
— Это можно, — тоже с видимым облегчением сразу согласился Давыдка.
В городах крицу варили кричники, поставляли сырье для кузнецов. На селе кузнец все делал сам — и руду таскал из ям на болотах, и крицу варил, и орала ковал, а если надо — ковал мечи.
В низинке за кузней Давыдка увидел домницу, какие встречал и в других местах, — с горном и глиняными трубками, через которые нагнетался воздух. Металл варили в высоких черных горшках, — сейчас возле них возился Федька, весь в рыжей рудоносной грязи.
— Хороший у меня юнота, — похвалил Мокей подручного. — Добрый будет кузнец.
— А и воин будет добрый, — вставил Давыдка.
Мокей ничего не сказал ему на это, только налег на ручку больших хлюпающих мехов.
— Подсоби, — попросил Давыдку, а сам отошел глянуть на юнотовы старания.
Давно не держал Давыдка в руках ни топора, ни молота. Истосковались ладони по работе, закоснели мускулы от безделья.
Он крякнул, заворачивая до локтя рукава рубахи. Налег на мехи, вдохнул в домницу с опушки нанесенного свежего лесного воздуха — забегали по березовым уголькам быстрые желтенькие ящерки; второй раз налег на мехи — и пламя вспыхнуло в глубине; с третьего раза длинные языки вырвались из домницы, будто выплюнул огонь Змей Горыныч… А мех под сильными руками Давыдки работал все сильнее, все настойчивее. Теперь уже воздух спорил с огнем, сдирал пламя с рубиновых плашек, а оно снова бросалось из домницы, а мехи снова задували его в домницу, и так боролись они друг с другом, пока не закипела в глиняных горшках руда, пока не поплыл по тоненьким желобкам выплавленный из руды металл — ржавый, с синими искорками внутри, будто скользнувшая в папоротнике чешуйчатая гадюка…
— Эх-ха, — радостно покрикивал Давыдка над мехами у ревущего гулко пламени, и Мокей одобрительно поглядывал в его сторону помягчевшими белкастыми глазами.
2
Руды не хватило, и Мокей сказал, что ее нужно набрать в болоте.
— Поедешь со мной? — спросил он Давыдку.
— Поеду.
Они сели в лодку, стоявшую на приколе подле самой кузни, и поплыли вниз по Клязьме.
Половодье только что спало. Река вошла в берега, но по быстрине еще несло весенний мусор — щепки, кору, бревна, целые кусты и кряжистые дубовые лесины, выволоченные мутной водой на середину потока.
Мокей расталкивал бревна лопастью весла, греб легко, будто и не напрягаясь. По берегам светло распахивались березовые рощицы; насупясь, глядели с песчаных круч могучие исполины — ели. Солнце, выкарабкавшееся на полдень, зажигало красным огнем сосновые стволы, серебрило в низинах кучно разросшийся ивняк, богатым кружевом выстилало заводи со склонившимися над ними рябинками.
За двумя поворотами, где из густого ивняка вытекала прозрачной струей и врезалась в водоворотное течение Клязьмы мелководная речушка, напоенная бьющими в смурой лесной тесноте ключами, берега присели, деревья пошли пореже, а потом и совсем исчезли. В болотистой низине тускло светились маленькие озерца. К этим озерцам, в узкую, как щель, протоку, и направил Мокей свою однодеревку. Клюнув тупым носом мшистый берег, лодка прошуршала днищем по мелкому галечнику и остановилась, плавно вскинув осевшую корму.
— Приехали, — сказал Мокей, спрыгивая в воду, и, взяв лопату, зашагал по влажному мху в середину кочкарника.
Давыдка едва поспевал за ним. Они вышли на большую поляну, буревшую высокими кучами недавно набросанной глины. Слева и справа виднелись ямы с обвалившимися краями и мутными лужицами на дне. Лужицы глухо урчали и чавкали, выталкивая на поверхность жирные зеленые пузыри.
Пощупав лопатой вязкое дно самой большой ямы, Мокей спрыгнул, перехватил половчее черенок и начал выбрасывать куски маслянистой грязи. Скоро лодка была нагружена почти до краев. Сменив Мокея, Давыдка сел на корму и выгреб из протоки, заросшей болотником, на быстрину.
Хоть и перевалило уже на лето, но вечера стояли по-весеннему холодные. Солнце скатывалось к вершине холма, иззубренного темной стеной хвойного леса, и тени берез, привставших на цыпочки у косогора, перекидывались через всю Клязьму и доставали верхушками до противоположного берега.
Давно уже Давыдка не видел этакой красоты. Все что-нибудь заслоняло — чужое, злобное. Река глядела разбухшими синими лицами утопленников, поле — посеченными телами, лес щетинился стрелами притаившегося в засаде врага… Нелегка служба у князя, ох как нелегка! И зря Мокей глядит на него осуждающим взглядом. Вернулся бы Давыдка в свое Заборье, на землю бы сел, бортничал в лесу или ковал орала. Да хлебнул он боярского сладкого меду, взглянул на боярскую сытую жизнь — и запала ему в сердце крепкая дума. Сбудется ли?!
В Заборье заказан Давыдке путь, только Аленку жалко. Он бы Аленку с собой взял, да некуда. Прав был Мокей — сам он рыскает, будто волк по чужой земле… Страшно. А что, как ищут его? Что, как выкликают по дорогам его воровское имя?!
Он пытался стряхнуть беспокойные мысли, старался думать о другом, но напрасно. От себя не уйти, совесть свою не перехитрить. Куда там!..
Плыли тихо, Мокей прислушивался к шорохам, доносившимся с левого, высокого берега реки. Кто-то тяжелый, не то человек на коне, не то зверь, продирался через густой подлесок. Давыдка тоже услышал треск ломаемых сучьев и в несколько взмахов весла подвел однодеревку к противоположному берегу, затаился под упавшими к воде длинными ивовыми ветвями. Мокей поглядывал вприщур то на Давыдку, то на берег. Оба молчали.
Шум нарастал, кусты раскинулись, и на поляну вырвался окровавленный лось.
Подавшись к воде, лось вздрогнул, склонив набок рогатую голову, прислушался. Из чащи выехал всадник на взмыленном коне. Всадник был молод, округлое, чуть одутловатое лицо его охватывала узкая бородка, из-под красного корзна виднелся шитый золотом кафтан, на голове была кунья шапка с малиновым верхом, на ногах — сафьяновые малиновые сапоги.
Давыдка тут же узнал его: «Ярополк Ростиславич… Князь!» Мокей тоже смекнул, что не с простым гриднем и не с боярским сыном столкнул их случай, мысленно перекрестился: «Минуй мя, господи!»
О бесчинствах Ярополка и он был достаточно наслышан. Ростовские и рязанские бояре правили молодым князем как хотели. По их наущению отнял Ярополк у соборной церкви Владимирской богоматери волости и доходы, данные ей Андреем. Взял он и ключи от храма, велел своим дружинникам перетаскать в княжеские хоромы церковную казну, золото и серебро, а победоносную Вышгородскую икону Марии, всю обложенную драгоценными каменьями, подарил зятю своему Глебу Рязанскому…
Лось истекал кровью, силы покидали его. Казалось, с ним все было кончено. Но, припертый к воде, он неожиданно, склонив рога, бросился вперед, на Ярополка. Ярополк, ловко передернув удила, увернулся от удара. Ощерив зубы, конь вскинулся на дыбы и заржал, но лось, вместо того чтобы бежать в чащу, остановился у кромки леса и снова ринулся на князя.
Давыдка охнул, зажмурился, но Ярополк был настороже. Привстав на стременах, он с силой вонзил в шею животного длинный меч. Пуская изо рта кровавую пену, лось стал боком оседать на подламывающиеся передние ноги. Князь спрыгнул с коня и метким ударом кинжала завершил опасную охоту.
На берегу показались пестро разодетые всадники. Отдав коней меченошам, они окружили возбужденного охотой Ярополка. Первым к нему подоспел молодой воин в голубом полукафтанье и отороченной мехом круглой шапке.
— Мстислав Ростиславич, — шепнул Мокею на ухо Давыдка.
— А то боярин наш, кровопивец Захария, — сказал Мокей, показав черным пальцем на тучного наездника, с трудом сползавшего с кологривого, в яблоках коня. Опустившись на землю, Захария оттолкнул подскочивших к нему отроков и, отдуваясь, с подобострастной улыбкой приблизился к князьям.
Ловчие уже разделывали тушу зверя; рядом гарцевали выжлятники. Тихие берега Клязьмы огласились криками, смехом, ржаньем коней, бряцаньем снаряжения.
Многие из тех, что сейчас толпились вокруг князей, были хорошо известны Давыдке еще по службе в дружине князя Андрея. Сухого и длинного Детильца, рязанского боярина с заостренным, будто секира, длинноносым лицом, он встречал в Москве, в бывшем Кучковом имении; был с ним и другой боярин, тоже из Рязани, большеухий, с зелеными, подвижными, как у мыши, глазками Борис Куневич.
Разглядывая из кустов князей и бояр, Давыдка вдруг снова — в который уж раз! — вспомнил ту тревожную пору, когда к крепостным валам Владимира подступили Ростиславичи, обложили город со всех сторон и стали жечь костры на холмах и в лесах за Клязьмой.
Почти два месяца отбивались владимирцы от врагов, и Михалка все время был на валу. А когда иссякли силы, призвал к себе Давыдку и велел скакать к Ростиславичам. «Не хотят же они себе зла, — сказал князь, — пусть одумаются. Давно ли сами нарекли меня отцом и отдали мне во владение старейшинство? А ныне сговариваются погубить. Ведаю я, чьи это козни: убийц Андреевых. Неужто и молодые князья с ними?! Неужто и они хотят разорить Владимир?!»
Слово в слово передал Давыдка Ярополку все, что наказал ему князь.
— Это я-то пришел зорить Владимир?! — побагровел Ярополк. — Возвращайся и донеси Михалке, что Андрея мы не убивали и в совете том не были, а убили его народом за его неправду, что неповинно многих казнил и чинил вражду среди русских князей. Михалку не мы не хотим — весь народ не хочет. И пусть он идет с миром в Переяславль, а ежели не сделает этого, то увидит, как нас с ним бог разведет…
Горяч был Давыдка, нетерпелив.
— То ложь, князь! — крикнул он. — Не народ, а бояре убили Андрея.
Даже нынче страшно Давыдке от этих слов, а тогда не испугался. Кинулись на него княжеские слуги, скрутили, бросили на землю. Ярополк ногами затопал:
— Холоп!
— Не холоп я, а Андреев дружинник, — спокойно возразил Давыдка.
Видно, бог его уберег — не отдал врагам на растерзание. Воротился он во Владимир и рассказал обо всем Михалке.
Так и не удержался Михалка на владимирском столе. Испугавшись за свои дома, за жен и детей, стали просить его горожане, чтобы, помирясь с племянниками, ушел он в Переяславль, собрал там войско, а уж когда вдругорядь вернется, будет ему всяческая помощь. Ныне же Ростиславичи в силе и, взяв город, начнут бесчинствовать.
Михалка заперся в палатах и день и ночь не выходил, а на утро третьего дня сказал выборным:
— Натерпелись вы из-за меня, и разорять вас вконец я не хочу. Бились вы славно, и за верность вашу вам спасибо.
Владимирцы в великой скорби отворили ворота, и князь выехал из города. Когда проезжал он мимо осадившего город войска, Мстислав и Ярополк смеялись над ним, но Михалка чести княжеской не уронил и, гордо восседая на коне, спокойно простился с толпящимся на валу людом…
В ту же ночь, когда пировали Ростиславичи в Андреевом дворце, Давыдка скрылся из города, зиму прожил неподалеку в монастыре, а весной, заскучав от молитв и постного чернецкого житья, держась лесами правее Клязьмы, отправился в родное Заборье.
3
Накормив и проводив Давыдку, Аленка собрала грязное исподнее брата и отправилась на реку. Шла, ступая по мягкой, прохладной от росы траве босыми ногами. Прислонив к бедру отмытую до древесной желтизны кадушку с бельем, она жмурилась от жаркого солнца и улыбалась. Ветерок ласкал ей лицо, забирался под рядно, доносил от леса запахи первой зелени. С реки долетало недружное плесканье вальков: бабы стояли, заголясь, на горбыльчатом настиле, белье кучками укладывали на лесину.
Аленка остановилась, поискала глазами свободное место.
— Подь сюда! — позвала ее Любаша. Была она в синем сарафане, на полные плечи стекали густые светлые волосы. Статная, грудастая, с белым чистым лицом и бархатными бровями, под которыми светились слегка прищуренные карие глаза, она, проходя по деревенскому порядку, всегда притягивала к себе восхищенные взгляды мужиков.
Аленка спустилась к самой воде, поставила кадушку с бельем рядом с Любашей. Та улыбнулась ей, сверкнув зубами. Спросила:
— Братец спит, поди?
— Куда там! Поднялся с зарей, — сказала Аленка. — Соскучился по Заборью.
— С год, а то и боле не наведывался…
Давно уже нравился Любаше Давыдка. Приметила она его еще до того, как проезжал по их деревне князь Андрей и обратил внимание на рослого парня с рассыпчатой копной пышных волос. Но не то слишком молод был в ту пору Давыдка, не то Любаша пришлась ему не по душе, а больше влекли его лесные просторы, река, охота, рыбная ловля да Михеева кузня. В тот приезд князя Андрея выловил Давыдка в Клязьме двадцативершковую стерлядь. Сам принес рыбицу к княжескому столу. Андрей похвалил его:
— Добрый, знать, ловец. А и силушкой, видать, наградил тебя бог не малой?
Давыдка плечом повел, застенчиво улыбнулся. Силушка была — спроси любого парня в Заборье: когда, случалось, выходили на кушачки, не встречалось ему равного; вот разве только кузнецов сын — тот брасывал его на лопатки…
Вызвал князь со двора любимца своего Прова.
— Вот, Пров, гляди — ежели одолеет тебя холоп, быть ему моим дружинником.
Неторопко отпоясал Пров меч, сбросил с себя суконную ферязь. Был он хоть и не велик ростом, а ловок, — долго дразнил Давыдку, не давая тому взять себя за кушачок. Так и ходили они по кругу, как два задиристых петуха. За воротами, вдоль тына, толпились княжеские слуги и Давыдкины земляки. Княжеские подбадривали Прова, деревенские — Давыдку. Спорили промеж собой:
— Наш посильнее будет.
— Нет, наш.
— А вот поглядим.
— А вот и поглядим.
Князю весело стало — любил он на пиру позабавить себя борцами или скоморохами. Разного потешного люда много держал при дворе своем в Боголюбове. Да и в дружину набирал все людей сильных да веселых. Знал про то и Давыдка. Вот отчего и заходилось у него сердце, едва только услышал, про что говорит князь. «А ведь и вправду возьмет в дружинники!» — подумалось ему.
Но Пров слыл испытанным борцом, и справиться с ним было не просто. Однако на третьем заходе он оплошал — схватил его Давыдка за кушачок, поднял в воздух, перекинул через себя. А как упал Пров на траву подле княжеского стола, ахнула прильнувшая к плетню Любаша: не видать ей больше ясного солнышка, желанного своего…
Так и случилось. Ушел Давыдка с князем в Боголюбово и лишь изредка доносила молва разные разности о его сладком житье. Порою на быль они походили, порою — на сказку. Но ходил молодой дружинник при князе в большом почете. Полюбил его княжий милостник Пров, приласкал, приблизил к себе, а значит, и к князю! Куда уж было теперь до него Любаше! Но сердцу ретивому не прикажешь. Увидала коня его за околицей, побежала в загон, чтобы в щелку поглядеть — не увидит ли и Давыдку. Ночью спала плохо, молилась про себя:
— Господи, помоги мне, господи…
Шептала, вся в огне, прижимаясь грудью к шершавым бревнам ложницы. А утром, чуть свет, собрала бельишко и, нарочно замедляя шаг, прошла мимо Давыдкиной избы к реке. Надеялась: увидит — остановит, а он, вишь ты, с зарей еще ушел в луга. Догадалась бы — подстерегла у околицы.
Аленка — та знала о Любашиной тайне. Да как скажешь об этом братику? Человек он теперь важный, занятой. Во Владимире-то холеные боярышни подле него, сладкими пряниками кормленные. Поди, приглядел уж себе невесту, а нет — сам князь оженит.
— Дай-ка я помогу, — вызвалась Любаша постирать Давыдкино исподнее.
— Сама управлюсь, — смущенно отстранилась от нее Аленка. — Еще чего?!
— Давай, давай, — потянула у нее кадушку Любаша.
Соседки, стучавшие вальками на плоту, хихикая, поглядывали в их сторону. Завтра по всей деревне разнесут сорочьи байки. А Любаше все равно. Не боится она сплетен, за себя умеет постоять.
Белье под сильной ее рукой мягко чмокало и пенилось. Она откидывала спадающие на лоб волосы, не то морщилась, не то улыбалась. Аленка рядом полоскала Любашино белье, шлепала им по зеленоватой воде.
— Не уставайте, бабоньки! — донесся с берега натужный, с хрипотцой, старческий голос.
Бабы распрямили одеревеневшие спины, с любопытством разглядывая тщедушную фигуру странника. В сухонькой, как березовый сучок, руке его захватанная до блеска коричневая шелепуга, поверх кафтана из полосатой востолы — сумка рядная, лапти густо припорошены дорожной пылью.
— Далеко ли путь держишь, дедушка? — приветливо спросила Любаша.
— Ходил поклониться богородице, — собирая маленькое личико в морщинки, прошепелявил старичок. — Да супостаты разграбили святыню. В Рязань, слышь-ко, свезли икону-то, ко князю Глебу.
— Что так?
— Иду я из города, — не слыша ее, продолжал калика; перехватив шелепугу двумя руками, сел на склон бережка. — Иду я из города, а позади-то топ… Оглянулся — ба-атюшки! — кони резвые, бояр видимо-невидимо, сокольничьи да выжлятники. Шмыгнул я в кусты да лесочком, лесочком… Опас ноне большой: не доглядишь чего — тебя и в поруб. Княжеский суд короток.
Холодок пробежал у Аленки по спине.
— Не ропоти, божья коровка, — оборвала странника Любаша. — Аль соврал кто?
— Вот те крест, сам видал. Сюда скачут, — сказал богомолец. Бороденка торчала у него выхлестанным веником, острые, как хорьки, глазки вожделенно ощупывали столпившихся на помосте заголенных баб. — Берегитесь их, милые. Ярополк, сказывают, ох как до вашей сестры охоч!
Аленка заторопилась, выхватила у Любаши из рук белье, побросала в кадушку.
— Князя испугалась? — смешливо прищурилась Любаша. — Все врет странничек, зазря пужает…
— Дело есть, — побелевшими губами прошелестела Аленка и побежала по осклизлому берегу наверх, к Заборью.
— Ох, мамонька, беда-то какая, — кинулась она с порога к матери. — Вдогад мне, князья в деревню норовят. Странник сказывал — скачут сюда.
Мать подалась навстречу Аленке; на поблекшем лице ее играл нездоровый румянец.
— Как бы с Давыдкой чего не случилось, — проговорила она, опускаясь на скамью. Но тут же вскочила, мелкими шажками засеменила по избе, слепо тыкаясь то в один, то в другой угол. Остановилась перед лампадой, бухнулась на колени.
Аленка с отчаянием глянула на нее, выхватила из горшка две черные репы, отломила от лежащей на столе горячей ковриги кусок хлеба, запихнула все в рядно, сунула в буравок и выскочила из избы. Сразу же за избой она свернула на зады, легко перелезла через изгородь, быстро побежала к синеющему неровной грядой лесу.
Близко за деревней начинался болотняк — сухостой да вадеги. Но Аленка хорошо знала места и потому шла уверенно, легко перепрыгивая с коряги на корягу. Высокие мокрые кочки, будто торчащие из зацветшей воды нестриженые волосатые головы, податливо сминались под ее ногами, проваливались в трясину и снова всплывали позади Аленки, отекая черной слизью.
У Бездонного озера в осиннике было особенно темно и страшно. Аленка едва продралась через колючий бурелом, цеплявшийся за ее сарафан ломкими скрюченными пальцами. Сухие ветки трещали и осыпались в мутную воду. Аленка вздрагивала и останавливалась, поводя вокруг себя испуганными глазами. Солнце хоть и высоко, а в лесу все равно было страшно. От нагретого болота тонкими волокнами подымался пар, вытягивался вдоль искореженных стволов длинными, в саван запеленутыми фигурами. Белые тени нависали над Аленкой, кланялись безрукими телами, покачивали большими головами на тоненьких прозрачных шейках.
Аленка остановилась, чтобы перевести дух, а назад уж не поглядела; назад взглянуть было жутко — там, за плотной травой, и булькало, и вздыхало что-то огромное, лохматое, живое…
Не забредет княжеская охота в этакое нечистое логово, да и мужики побаивались сюда заходить; оно и ни к чему — ни птицы, ни зверя не водилось в окрестностях Бездонного.
— Ой! — вскрикнула Аленка, едва не попав поскользнувшейся ногой в зазывно распахнутую вадегу. Из болотного окна смотрели на нее два желтых глаза. Потемнело у Аленки в голове, подогнулись коленки. Но уж перемахнула она на соседнюю хлипкую кочку, а когда стрельнула взглядом по болоту, поняла, что и не глаза это, а солнце, пробившееся через туман, отразилось светлыми плошками в двух расплывшихся вокруг кочки глубоких окнах.
Скоро зыбун кончился, кочки тоже присели, стали ниже, а потом и совсем исчезли. Кой-где светло завиднелись березки. Аленка услышала шум ручья, остановилась и увидела сквозь заросли черной смородины горбатый шалаш. Сухие дрова потрескивали под навешенным над костром закопченным котелком.
— Никитка, — тихо позвала Аленка.
Из темного нутра шалаша высунулась взлохмаченная голова.
Вслед за головой показалось тело, укутанное полукафтаньем, а потом и ноги в стареньких, сильно поношенных ступнях. Человек поднял голову, и из-под всклокоченных русых волос глянули добрые темные, совсем еще молодые глаза. У парня было бледное, осунувшееся лицо, редкая бородка. За расстегнутым воротом рубахи нежно белела тонкая, почти девичья шея.
Аленка подалась вперед, ткнулась лбом в грубое рядно, свисавшее с узких Никиткиных плеч. Щеки парня покрылись румянцем.
— Жив, жив, — быстро прошептала Аленка, поднимая к его лицу глаза, наполнившиеся слезами.
4
Родом Никитка был не из Заборья, а из Мурома. В Заборье привела его великая нужда.
Был Никитка простым смердом. Помыкали им и боярский огнищанин, и боярский тиун. Тяжело жилось ему в Муроме, хоть и слыл он отменным мастером и с детства еще родителем своим Кирей посвящен был в хитрое плотницкое ремесло. Пойди-ка поброди по деревням да по боярским усадьбам — везде следы ловкого не то дедовского, не то отцовского, не то его, Никиткиного, топора. Научился Никитка тонко работать по дереву, чудо-зверями да жар-птицами расписывать терема. Наличники и причелины кружевами выходили из-под его резца. Так вырядит, бывало, простую избу, что ровно и не из дерева она, а из тонкой серебряной скани. Крылечко с витыми колонками — Никиткино, ставни в ягодках, в рябинках и смородиновом листе — Никиткины, боевой петух на коньке — Никиткин. И не работал он вроде, а колдовал — часы не считал, за мздой не тянулся: трудился и на бояр, и на простых мужиков, ходил по деревням с топором за кушачком — где остановится, там ему и очаг. Накормят его, приласкают — спасибо. Утром встанет, выпьет квасу — и снова в путь.
Но не по нутру, знать, пришлось боярину Завиду, что Никитка хоть и сидит на его земле, а вроде бы человек не подневольный. Ну, боярскую усадьбу разукрасит — за то ему и почет, и послабление, но чтобы тем же топором да беспортошной обели избы, как боярские терема, рубить — это уж не по закону, это уж боярину поперек души. И велел Завид строго-настрого запретить Никитке отлучаться от своей усадьбы: коли дела нет — ступай на пашню, ратай, следи за скотиной. Суровый был боярин, своенравный. Вольностей не терпел, а за ослушание наказывал.
Раз поставил Никитка крыльцо златокузнецу Онуфрию — призвал его к себе боярин и заточил в поруб. День сидит Никитка, два сидит: на третий прислал ему Завид вина и блюдо пряженой с чесноком оленипы: боялся боярин, как бы не отощал Никитка, потому что была ему от него большая польза. Обещал он самому князю прислать мастера, а княжеские милости, известно, неисчислимы…
Вино Никитка выпил — не пропадать же добру! — мясо съел, а благодарить боярина не стал: той же ночью, как выпустили из поруба, сбежал от Завида и подался по первому снегу во Владимир. То один шел, то приставал к купеческому обозу, таился в дремучих лесах от погони. А пришел ко Владимиру, остановился, очарованный, на Поклонной горе, долго вглядывался в белые стены Успенского собора, в церквушки и избы, раскинувшиеся по косогору, в ощетиненные частоколом высокие городские валы. Дымка спадала к заснеженной Клязьме: по реке, по черной унавоженной дороге тянулись длинной вереницей возы.
В ремесленном посаде, что у самых Ивановских ворот, узнал Никитка, где искать мастеров, работающих по строительству.
— Левонтия ищи, камнесечца, — сказали ему оружейники.
Левонтия Никитка отыскал в Боголюбове, на княжеском подворье. Там, над плоской поймой Нерли и Клязьмы, вырос, продолжая отлогий холм, белокаменный дворец князя Андрея. Со двора доносился стук молотков, звяканье зубил, надсадное фырканье пил. Мужики в свободных, до колен, рубахах долбили большие белые плиты, здесь же, рядом, резчики вели по глыбам каменный узор. Никогда не думал Никитка, что и из камня, не только из дерева, можно выделывать такие чудеса. Мелкая пыль сыпалась из-под зубил, выбеливая и одежду, и лица работающих, и весь двор вокруг дворца тоже был бел и от снега, и от покрывавшей его известняковой крошки.
Завидев во дворе незнакомого неуклюжего парня, мужики поглядели на него с любопытством, даже работу побросали. Иные, воспользовавшись случаем, потянулись к лукошкам с едой и питьем. Улыбались, кивая в сторону Никитки.
Но вот на крыльцо вышел худощавый человек в полушубке, и все, завидев его, снова принялись за работу.
«Князь», — похолодел Никитка и — задком, задком — попятился со двора. Однако краешком глаза приметил: не попадали мужики князю в ноги, разве только еще ретивее застучали по камню своими тесалами и зубилами.
«Не князь», — решил Никитка. С боярами ему говаривать доводилось — уж на что Завид был зверь.
Худощавый в полушубке приблизился к нему, и Никитка увидел устремленные на него умные глаза.
— К кому, отрок, путь наладил? Аль потерял кого? — спросил боярин, но в голосе его не было ни важности, ни гордости, а глаза с лукавинкой так и притягивали Никитку.
«Не боярин, — понял Никитка. — Старшой». И опустился — коленями прямо в утоптанный снег.
— Иду ко князю Андрею. Резчик я.
Так познакомился Никитка с камнесечцем Левонтием.
Проверил Левонтий его на деле — понравилось. Допустил в княжеские хоромы работать по дереву. А после приобщил и к каменных дел мастерству. Никитка был сметлив и переимчив. Скоро поставил Левонтий молодого резчика головой над мастерами, делавшими фризы для нового храма. Отметил его и князь Андрей. Любил он хаживать на стройку, часами простаивал на дворе.
Через год срубил себе Никитка избу у Медных ворот, стал уж и невесту присматривать — навсегда задумал остаться во Владимире. По душе пришлась ему работа, да и мужики не обижали, пригрели, приласкали парня. Пуще всех привязался он к Левонтию. Вот и в Заборье попал по наказу старого камнесечца.
— Походи, — сказал Левонтий, — погляди по деревням, авось где и сыщется что для дворцового украшения.
Выслушал Никитка мастера, заткнул за пояс топор и отправился на правый берег Клязьмы, в Мещерские леса. Спал, где застанет ночь, — в избе ли, в овине ли, рубил наличники да подзоры, приглядывался к тому, как мужики украшают свое жилье. Новое хранил в памяти — хотел, как вернется, перенести на камень. А еще хотел Никитка построить сказочный дворец — чтобы весь был разукрашен чудесными зверушками, будто стоишь в лесу и глядишь, и радуешься земному великолепию. Мечтал Никитка поставить дворец на удивленье всему свету и с той мечтой дошагал до Заборья. А в Заборье подстерегла его лихоманка, слег он и две седмицы пролежал без памяти.
Очнувшись на третью седмицу, увидел склоненное над собою смуглое девичье лицо.
Долго ухаживала за ним Аленка. Когда Никитка немного окреп, выводила его за околицу — подышать сосновым воздухом. Но не воздух, не Аленкин нежный уход поставили на ноги молодого мастера, а девичья невиданная красота. Разомлел Никитка, сердцем прирос к бедной избе под берестяной кровлей, забыл и про Владимир, и про наказ Левонтия. И уж видел себя с Аленкой в том новом тереме у Медных ворот, который поставил, задумав однажды обзавестись семьей.
— Не вольная я, — говорила ему Аленка, — боярина Захарии холопка. Не отпустит меня боярин, а тебе что за охота орать пашню в Заборье, когда ждут тебя во Владимире и слава великая и почет?!
— Не нужно мне славы без тебя, Аленка, — отвечал ей Никитка. — А вернусь во Владимир, упаду мастеру Левонтию в ноги, попрошу за тебя. Левонтий к князю Андрею вхож — он поможет, все сделает, чтобы мы были вместе…
Говорил так и верил своим словам Никитка, а когда, распрощавшись с Аленкой, возвратился в город, понял, что нелегкое задумал дело, что и Левонтий ему не поможет, а князю и подавно не до мужика. У князя своих забот полон рот — ему и булгар воевать нужно, и половцев, и с князьями, родичами своими, делить дедово да отцово наследство. На стольный град Киев замахнулся могучей рукою князь Андрей, с братьями живет в ссоре, бояр не жалует… Нет, не поможет ему князь. Да и боярин Захария — редкий гость в Боголюбове: свои у него с Андреем счеты.
А еще хуже стало, как убили князя родичи его Кучковичи. Тут уж смута пошла великая: кто за князя, кто против него. Дворцы пограбили наученные боярами темные люди, пошли бить ремесленников, княжеских милостников. Разбежались из Владимира мастера, бросили дома свои — лишь бы живот спасти. Но избу камнесечца Левонтия не тронули — уважали, побаивались его горожане.
На другой год, как сдал Михалка Владимир Ростиславичам, сожгли и Никиткину избу с резным крыльцом у Медных ворот. А когда жгли ее, Никитка ударил в беспамятстве одного из заводил колом по голове — уложил насмерть. И оказался убиенный милостником Ярополка, доезжачим его Охабнем. Понял Никитка, несдобровать ему после такого самоуправства, и той же ночью бежал в Заборье. Куда было еще податься — не в Муром же, к боярину Завиду!
Брел он, как и тогда из Мурома, до самого Заборья глухими лесами, волчьими тропами, хоронясь в чащобе от недоброго глаза. Трое суток не ел, не пил, на четвертые, ночью, совсем уже обессилев, постучал в знакомое волоковое оконце…
5
Когда Давыдка с Мокеем вернулись в деревню, солнце уже перевалило за полдень. Лодку поставили в заводи у кузни, Мокей привязал ее к колышку.
— Выгребай руду, — мрачно приказал он юноте, а сам вразвалочку, по-медвежьи, зашагал в гору.
Давыдка шел по тропинке за ним следом, а сам все поглядывал вверх — туда, где за двумя соснами топорщилось прогнившими крышами Заборье. Баб на огороде не было — словно ветром сдуло, а у околицы деревни, неясно различимые, пританцовывали на конях всадники.
Первой мыслью было переждать до ночи в кузне у Мокея, но Давыдку томила тревога — чего не стрясется в деревне, коли князья выбрали ее для постоя!.. А там мать, сестра Аленка. Что, как вздумает боярин Захария выспрашивать да пытать их — где Давыдка?
— Пойду погляжу, что да как…
— Ты князей пасись, — посоветовал ему Мокей. — Не ровен час, схватят. Тогда поминай как звали.
Возле кузни на груде старого железа сидел калика, жевал беззубым ртом краюху черного хлеба.
— Фефел, — кивнул ему Мокей, — далеко ли путь держишь?
Старик сглотнул кусок, уставился на Давыдку водянистыми, выцветшими глазами. Не приглянулся ему Давыдкин чистый кафтан — не из княжьих ли угодников? На всякий случай подобострастно улыбнулся.
Мокей сказал:
— Знакомцев своих не узнаешь.
— Отрок мне не знаком, — покачал головой Фефел.
— Из Заборья он. Никодимов сын…
Под лохматыми бровями старика загорелись огоньки.
— Аль позабыл? — удивился Мокей.
— Отчего же, помню Никодима. И сына его помню. Давыдка ли?
— Он самый, старче, я…
— Сдается мне, ходил Давыдка в Андреевых милостниках, — опять недоверчиво покачал головой калика.
Это оскорбило Давыдку.
— В милостниках — не в татях, — сдавленным голосом проговорил он.
Из деревни донесся крик, неясный гул толпы.
— Князья тешатся, — сказал Фефел и суетливо потянулся к шелепуге. Беззубый рот его кривился злой ухмылкой.
— Помню, помню, — бормотал он, будто в смехе, мелко потряхивая бороденкой. — Скакал добрый молодец на лихом коне. Горячий был, караковый жеребец… А где плеть твоя, Давыдка? Хороша была плеть. Зарубки от той плети и пононе у меня на спине…
Неожиданно ловко сбросил Фефел край истлевшей одежи, обнажил серую, всю в струпьях, жилистую шею. Поперек шеи синел шрам.
— Вот она — меточка.
Мокей кашлянул, шевельнул ногой в железной груде. Тихо стало у кузни. Только под плавильной печью потрескивали остывающие угольки.
— Ты меня, дед, не лай, — примирительно обратился к страннику Давыдка. — Княжья служба — дело подневольное.
— Оно и видать, — хихикнул Фефел.
Давыдка кивнул Мокею и, обойдя тинистую заводь, стал подниматься к деревне. Он шел осторожно, то и дело останавливался, вслушиваясь в ровное шелестенье ветерка.
6
Прямо из лесу, от Никитки, попала Аленка на княжеский пир. Мстислав с Ярополком сидели перед шатром на просторном ковре, вокруг толпились бояре. Неподалеку горел костер, облизывая жаркими языками насаженную на вертел тушу только что убитого лося. Князья пили мед из серебряных чар, отрывали руками куски горячего мяса.
Боярский меченоша шутник Склир с тяжелой бляхой на груди преградил Аленке дорогу.
— Стой, краса, девичья коса, куда поспешаешь, дорогих гостей не замечаешь?
Глаза у Склира, маленькие, будто недозревшие вишенки, ловко обежали ладную девичью фигурку, остановились на Аленкином лице.
— Не одаришь ли милостью, не поклонишься ли князьям-боярам? — с насмешливой сладостью в голосе проговорил он.
Глянула Аленка поверх плеча Склира да так и обмерла вся: не соврал языкастый Склир — и впрямь князья.
Изба рядом, а не ступишь теперь и шагу без княжеского позволения.
— Красивая девка, — сказал Ярополк.
— Красивая, — важничая, кивнул боярин Захария.
С трудом поднял отяжелевшее от питья и еды брюхатое тело, мягко, по-кошачьи, подкрался к Аленке. Обхватил ее мокрой, горячей рукой за плечи, дыхнул в ноздри чесночным духом:
— Чья будешь?
— Никодимова дочь, боярин.
— А пошто князьям не кланяешься?
— Задумалась я, — проговорила Аленка.
— А ты князьям поклонись. Еще раз поклонись. И боярам поклонись, — ткнул ее кулаком в шею Захария.
— Кланяюсь, кормилец, кланяюсь…
Ярополк колюче рассмеялся:
— Аль приглянулась холопка, боярин?
— Куды уж мне, старому-то, — замахал Захария длинными рукавами шитого золотом опашня.
— Отпусти ее, — приказал князь.
— Ступай, ступай, — подтолкнул Аленку улыбчивый Склир.
Лицом к князьям, боясь поглядеть на них, девушка попятилась с холма. Споткнулась, чуть не упала, зарделась румянцем. Ярополк засмеялся, засмеялись бояре.
— Ступай, ступай, — повторил Склир.
Аленка вбежала в избу чуть живая; мать не узнала ее, уставилась подслеповатыми глазами в светлый проем двери. Узнав, подковыляла, спросила испуганно:
— Что с тобой, доченька?
Аленка не ответила, но мать и без слов все поняла. Знала старая всей жизнью своей: вой или сокольник, доезжачий или выжлятник — все они и бражники, и бабники.
Старуха обняла Аленку, провела в конец избы, где на лавку была брошена тряпица.
— Приляг, доченька, отдохни. А спросит кто, скажу, что у тебя огневица. Ладно ли?
Аленка только сейчас по-настоящему перепугалась, опустившись обмякшим телом на скамью, отчаянно прошептала:
— Сбегу я, мама. В лес убегу, в лесу меня не сыщут.
— Убежишь, убежишь, — и вправду будто с больной, соглашалась с нею мать. — Да не посветлу. Посветлу тебя княжеские люди из избы не выпустят…
Аленка легла на лавку, навзрыд заплакала, запричитала. Мать сняла с себя персевой плат, накинула его дочери на плечи. Бесшумно скользнула в угол, обратя затуманенный взор к иконам, зачастила, глотая слова:
— Господи Исусе, господи Исусе…
Дверь откинулась, будто шальным ветром ее распахнуло. На пороге, чуть ссутулившись, стоял Склир. Слюнявые красные губы продирали усмешку сквозь густые заросли бороды. В руке он держал пустой кубок.
— Ты бы, стара, отволокнула окно, — сказал он и ступил через порог в горницу.
Старуха засуетилась, отпихнула ольховую черную доску — в избу протянулся узкий луч света, уперся в свиляво расщепившиеся бревна противоположной стены.
Незваный гость не сразу разглядел лежавшую под платом Аленку.
— А ну, мать, сказывай, где прячешь свою красавицу.
Старуха заохала, замотала головой, прикрывая беззубый рот вздрагивающими ладонями.
— Не бойся, старая, — усмехнулся Склир. — Не мне надобно. Князь востребовал дочь твою. Поглядит — отпустит, зла не сотворит. Он у нас милостив.
Аленка пошевелилась на лавке.
— Хворая она, — прошамкала старуха, оглаживая сухонькими руками одетое в кольчугу плечо Склира. — Огневица у нее…
— Ништо, — отмахнулся посыльный.
Аленка села на лавке, подоткнула под ноги рядно, прижалась к стене.
— Ишь как глазищами поводит, — рассмеялся Склир и, склонившись, крепко схватил ее за руку повыше локтя. — Пойдем, пойдем, красавица, — ворковал он пьяно, шаря другой, свободной рукой по обнаженной девичьей шее.
— Да что же делаешь ты, окаянный?! — закричала старуха. Сухонькие пальцы ее вцепились в Склирову кольчугу, но тот, не оборачиваясь, повел спиной. Старуха осела на пол, ойкнула, как от удара.
Склир подхватил брыкавшуюся Аленку под колени и, смеясь, понес ее на руках к двери. Аленка царапалась, хватала его за пушистую бороду, а он добродушно смеялся и дышал ей в лицо густым винным перегаром.
В узких, пахнущих кислой капустой сенях навстречу ему выдвинулась большая гривастая тень. Склир попятился от неожиданности, Аленка скользнула на пол, вскрикнула: «Давыдка, брате!»— выскочила за дверь и побежала на огороды…
Склир выругался, потянулся к рукояти длинного крыжатого меча. Но, пока тащил он меч из ножен, Давыдка ударил его головой в грудь и ввалил обратно в избу. Склир покатился по полу, звякая кольчугой; Давыдка сел на него верхом и ткнул лицом в половину. Из-под носа Склира растеклась красная лужа.
— Отпусти-и, — пробулькало из бороды.
— Ну, гляди, — сказал Давыдка и слез с меченоши. — Добивать мне тебя не к спеху.
Склир встал — сначала на четвереньки, потом на колени, провел рукавом по мокрому от крови лицу.
Поморщился, хлюпая, протянул с укором:
— Ишь навалился, ровно медведь.
— А ты не озоруй.
— Я и не озорую. То не моя — княжья воля. А супротив князя пойдешь ли? Не завидую я тебе.
— Еще поглядим, — сурово оборвал его Давыдка и только сейчас увидел на полу, под образами, перепуганную мать. Он бережно приподнял ее, усадил на лавку. Зыркнул в сторону меченоши, все еще отиравшего разбитое лицо рукавом. — Вона смелый какой. С бабами воюешь.
Меч валялся в сенях за порогом. Давыдка поднял его, но Склиру не вернул.
— Ступай, пока цел, — сказал он. — А это — моя добыча.
— Верни меч, — попросил Склир. — Меня ратники засмеют.
— Не верну. Ступай.
Боязливо пятясь, меченоша выскочил из избы. Скоро за стенами под оконцами и у двери загудели голоса:
— Вор!
— Супостат!
— Выходи, вязать будем!
Давыдка сунулся в дверь, держа перед собою меч. Люди затопали, отваливаясь от избы. Испуганно зашумели:
— Да у него меч!
— Видать, мужик свирепой.
— Выходи, князь велит! — прикрикнул осипшим голосом боярин Захария. — А не выйдешь сам, силой достанем. Тогда пощады не жди.
Мать смотрела на сына тоскливыми глазами.
— Что же это будет, сынок?.. Что же это? — пролепетала она помертвевшими губами.
— Не бойся, мать, — сказал Давыдка. — Сдамся я на княжескую милость, авось голову не ссекут.
Не было у Давыдки другого выбора. Вышел он на крыльцо, бросил меч:
— Вяжите.
Тут же, словно собаки на раненом вепре, повисли на нем служки; вязали сперва с опаской, а после, когда связали, повалили на землю, стали бить кто рукоятью меча, кто ногой. Склир норовил ударить побольнее. Сам он все еще хлюпал и отхаркивался кровью.
— Стойте вы, псы, — отстранил хмельных людей Захария. — Пленник сей зело большой злодей. То Давыдка, мой закуп, князя покойного милостник. Отвезем его во Владимир, судить будем по справедливости. Много слуг наших верных сгубил — за то ему и зачтется…
Тут дым повалил от избы: верно, угольки попадали из печи на соломку, да никто на них внимания не обратил.
Все закричали, бросились тушить, да где там — хорошо просохшие бревна принялись сразу. Яркий свет выхватил за высоко приподнятыми над землей узенькими оконцами бедное убранство избы. На крыльце, будто подбитая птица, припадающая на крыло, заметалась темная фигура женщины.
— Мать! Мать! — позвал Давыдка.
Дружинники хотели удержать старуху. Но она уж взмахнула повоем, согнулась и тут же исчезла в двери, красной, как зев затопленной печи.
Давыдка, не мигая, смотрел перед собой, будто завороженный. Вот приподнялась крыша, зашевелилась и осела внутрь избы. Жаркие искры снопом взметнулись в вечереющее небо. Толпа дохнула разом, подалась вперед и тут же отпрянула… Тихо стало. Люди снимали шапки, крестились.
Перекрестился и боярин Захария; маленькие глазки его мстительно пожирали разбушевавшийся огонь… Громко потрескивали в пламени коричневые, как ржаные сухари, бревна, падал к ногам дружинников разнесенный ветром пепел.
А возле сгоревшей избы, там, где лежал связанный Давыдка под охраной свирепого с лица копейщика, все еще толпились мужики. Никто не смел приблизиться к пленнику, только кузнец Мокей, как всегда черный от копоти, протиснулся к нему с ковшом воды:
— Испей, брате.
— Ступай, ступай, — нацелив копье кузнецу в грудь, погнал его стражник.
Мокей презрительно смерил его взглядом, откуда-то из-под его руки вынырнула Любаша; перехватив ковш, склонилась над Давыдкой. Несколько холодных капель упало ему на потрескавшиеся губы. Он застонал, провел по ним пересохшим языком, но стражник ударил Любашу голоменем меча по спине.
В толпе заволновались.
Князья приказали трубить сбор — заржали кони, крутясь под копытами, залаяли собаки. Копейщики оттеснили мужиков к плетню.
Давыдку перебросили через седло, крепко привязали веревками. С заходом солнца княжеская охота покинула Заборье.
Когда выезжали за околицу, обогнали пробиравшегося по обочине Фефела. Глаза Давыдки и странника встретились. Губы Фефела беззвучно кривились в торжествующей усмешке…
Глава третья
1
Аленка прибежала к Никитке едва живая, сотрясаясь от плача. Упав в траву, рассказала про все, что случилось в деревне. Лежа за ручьем в березняке, видела она, как вспыхнула ее изба, как рухнула кровля.
— Братки нет, мамка сгорела, — повторяла она одно и то же.
Никитка, сидя рядом с ней, прижимал к груди ее вздрагивающую голову, кончиком убруса вытирая слезы.
— А может, и не сгорела? — спрашивал он и ловил отчаяние в ее каменеющем взгляде.
— Сгорела, сгорела, — как заклятье, шептала Аленка.
Все теперь пошло прахом. Вдвоем не прожить им в топком зыбуне — умрут с голоду. А возвращаться в деревню Аленке нельзя. Ясно же, наказал боярин Захария своему старосте следить за пепелищем.
— Подадимся в город, — сказал Никитка. — Найдем Левонтия — он поможет. Не помирать же с голоду в гнилом болоте.
Они похлебали варева, приготовленного Никиткой из остатков репы, запили его кипятком. Аленка предложила:
— Заглянуть бы к Мокею. Кузня его на отшибе.
— А не донесет старосте?
— Мокей-то?! — удивилась Аленка. Никитка не стал возражать. Девушка хорошо знала односельчан. — Хлебца бы нам на дорогу да еще каких харчей. Только идти надобно потемну.
Они старательно затоптали костер. Никитка взвалил на плечи суму с нехитрым добром, Аленка взяла его за руку и повела по болоту.
К кузне они подошли, когда совсем уже стемнело и крупные колючие звезды усыпали небосвод. Над рекой клубился плотный туман.
В кузне мерцал огонек. Аленка постучала в дверь. Никто не отозвался. Она постучала сильнее. На берегу, за кузней выросла высокая тень:
— Эй, кого бог принес?
— Аленка я, дядя Мокей, — обрадовалась девушка.
— Аленка?!
Мокей быстро спустился по тропинке.
— Аль у меня таилась?
— Не…
— Ну, заходи.
Он приоткрыл дверь. Аленка замешкалась у порога, оглянулась через плечо — в темноту. Мокей догадался:
— Не одна ты?
— Одна, дяденька…
Добродушная улыбка шевельнула черную бороду кузнеца. Он подтолкнул Аленку в кузню, а сам громко сказал:
— Заходи, добрый человек. Не боись.
Никитка вошел, низко поклонился кузнецу, поправил на плече суму.
— А говорила — одна, — ухмыльнулся Мокей. Аленка смутилась. — Ну да ладно, расспрашивать я не мастак. А догадка есть. Заходите, заходите, будете гостями…
В кузне — не в избе. Одна только лавка у Мокея. Аленка с Никиткой покорно сели на лавку. Мокей растолкал спавшего в углу на груде тряпья юноту. Мальчонка приподнялся, протирая заспанные глаза, с удивлением уставился на нежданных гостей. Узнал Аленку — улыбнулся, на Никитку покосился недоверчиво.
— Сходи в погреб, принеси квасу, да хлеба, да мяса, — наказал ему Мокей, а сам сел на наковальню, почесал грязной пятерней в густой бороде. Когда мальчонка вышел, спросил: — Не ко Владимиру ли поспешаете?
Острые, живые глаза придирчиво ощупали Никитку. Наметанно прикинул — по обличью человек свой. А от кого таится? От бояр?..
— Ко Владимиру, дяденька, — кивнула Аленка. — Не с руки мне ноне в деревне оставаться. Одна я теперь.
— Что верно, то верно, — согласился Мокей. — Слышал я, как наказывал боярин старосте: Аленку, сестрицу Давыдки, сыскать и гнать на усадьбу.
— Ой! — испуганно вскрикнула Аленка.
— А братика твово увезли с собой, — продолжал кузнец.
Девушка заплакала, и Мокей вышел покуда из кузни. Когда вернулся, Аленка уже успокоилась. Скоро прибежал юнота со жбаном холодного квасу и с едой, завернутой в холстину.
Сели есть. Молчали. Пока ели, угольки в горне подернулись пеплом, от двери засквозило влажным холодком.
— Ночевать у меня будете? — спросил Мокей, — Али пойдете по темноте?
Хорошо у Мокея в кузне, тепло. После еды разморил сон. Прилечь бы сейчас, отдохнуть. Но Никитка решительно взялся за суму.
— Спасибо за хлеб-соль, — поблагодарил он. — Нам — в дорогу.
Аленка тоже поднялась. За день лицо ее побледнело, осунулось; только голубые глаза, как и прежде, светились глубокими озерами. Но Мокей разглядел печалинку на самом их дне. Тяжело молодой-то, сразу вдруг сиротой осталась. Хорошо, парень с ней рядом, а то хоть в омут головой.
— Верно рассудил, молодец, — похвалил Никитку Мокей. — В Заборье делать вам нынче нечего. Ну а ежели нужда заставит оборотиться, не проходите мимо моей кузни. Будет вам здесь и хлеб, и соль, и ночлег…
Выйдя за дверь, они сразу окунулись в беспросветную мглу. Воздух был густой и темный, вытяни руку — пальцев не увидишь.
— Дороги здесь Аленке знакомы, — глухо сказал Мокей. — Ты, Аленка, держись на тот борок, что у большой старицы. Выберетесь под утро к муромской дороге, а там недалече. Ежели что, хоронитесь в лесу.
— Спасибо, дяденька, за наказ, — поклонился кузнецу Никитка. — Жив останусь, вовек не забуду твоей доброты.
— Ну-ну, — подтолкнул их Мокей на тропу. — Ступайте с богом…
Долго шли Никитка с Аленкой — сначала берегом Клязьмы, потом лесом. В лесу было темно, как у Бездонного озера. Перебрались через болото, а утром, едва забрезжила над деревьями ранняя зорька, вышли к Пойменному городищу, обнесенному плотным частоколом, за которым сполошно лаяли собаки.
Аленка посоветовала в городище не заходить — народ жил здесь пришлый от булгар; сказывали про городищенских много худого. А то еще схватят да отвезут откупать боярину. Они отыскали белеющую в темноте неровную тропку и снова углубились в лес.
С первыми лучами солнца вышли к большаку. Дорога была пустынна, но, опасаясь случайной встречи, Аленка с Никиткой пробирались подлеском. В листве свистели рано проснувшиеся зяблики, позванивали овсянки. Аленка срывала пахучие восковые побеги с молодых сосенок и, сдирая липкую кожицу, клала их в рот.
Несколько раз за деревьями проезжали всадники. В полдень, расположившись на обед, беглецы услышали протяжный скрип колес. Никитка подполз к обочине. Он долго лежал там, прячась в мелком березняке. Вернувшись, шепотом сказал Аленке, что видел на дороге скоморохов — наверное, путь держат во Владимир.
Аленка смекнула.
— Пристанем к скоморохам. Пройдем с ними в город — никто не заметит.
Так они и сделали. Срезав петлю поворота, вышли на дорогу, сели у обочины. Ждать пришлось недолго. Скоро показалась разваленная повозка, в которую была впряжена тощая лошаденка с рыжими потертыми боками. Вокруг ее головы вились мухи, лошаденка поводила ушами и фыркала, обнажая широкие желтые зубы; на повозке под рядном сидел бородатый мужик в чеботах из некрашеной кожи и пропыленной сермяге с заплатами на локтях. Из-под сермяги виднелись полосатые пестрядевые штаны, продранные на коленях. Сзади мужика на груде старых тряпок сидел маленький горбатый человечек с худеньким, сморщенным, как печеная репа, личиком. Накинутая на плечи человечка рубаха свисала с края телеги и задевала за грязные, облепленные навозом и глиной колеса. Человечек шамкал, что-то жевал, изредка бросая угрюмые взгляды на дорогу. У Аленки даже сердце захолонуло от страха, но тут она увидела в груде тряпья бледненькую мальчоночью мордашку, всю усеянную мелкими частыми веснушками, грязную и подвижную, с веселыми серыми глазами, увидела и успокоилась. И уж совсем позабыла про страхи, когда разглядела привязанного к задку телеги большого лохматого медведя.
Тем временем телега жалобно скрипнула, вильнула из колеи, колесо угодило в яму и отвалилось от оси. Мужик выругался, сунул в лохмотья кнут и спрыгнул на землю.
— Помочь, дяденька? — привстал с обочины Никитка.
— А вы кто такие будете? — подозрительно покосился на невесть откуда появившегося парня мужик. — Поди, беглые?
— Не, мы люди посадские. Идем из Мурома, да вот присели передохнуть. Сидим, глядь — и вы едете.
— Ну, коли посадские, — проворчал мужик и пнул колесо. — Третий раз уже отлетает, чтоб ему…
— А мы живо, дяденька, — наклонился к колесу Никитка. — Мы быстро управимся.
У Никитки руки ловкие, ко всякой работе привычные. Случалось ему и телеги мастерить. Вынув из-за кушачка топор, постучал Никитка по ступице, поковырял лезвием старого засапожника. Попросил мужика подсобить, поддержать телегу. А сам подкатил колесо, поставил на место.
— До Владимира доедем, — сказал уверенно.
— А вы куда? — спросил мужик.
— Туда же, во Владимир.
— Тогда садись в телегу — подвезу.
Аленка вскарабкалась в кузов, на дне которого была набросана пахнущая житом сухая солома. Мальчонка потеснился, давая ей место подальше от тряского задка. Горбун пронзил Аленку острым, как шильце, взглядом. Помедлив, подтолкнул Никитку локтем под бок, спросил неожиданно молодым голосом:
— А не жена она тебе?
Никитка догадался, о ком речь.
— Не, не жена.
Возница взмахнул кнутом. Мухи, облепившие понуро повисшую голову лошаденки, разлетелись в стороны; телега застучала по неровностям дороги.
Мужик поглядывал по сторонам, словоохотливо объяснял:
— Скоморохи мы. Тащимся от самого Мурома. Кормимся — что люди подадут. Ремесло наше песенное, веселое. А жизнь непутевая. Уйду я в ратаи. Надоело.
Горбун рассыпчато засмеялся.
— Чему скалишься? — огрызнулся мужик.
— Да уж третий год тому — все на землю садишься. Не свернуть тебе, Радко, с заповедной дорожки. Отец твой был скоморохом, ты тоже скоморохом помрешь.
— Не будет того.
— А вот поглядим. И Карпуше твоему того же не миновать… Да и то — по холопской доле соскучился? Боярских батогов не нюхал?..
Горбун заботливо поправил под мальчонкой рядно, огладил на плечах рубаху.
И вдруг сказал ни с того ни с сего, снова кольнув глазами-шильцами Аленку:
— А и не посадские вы вовсе.
— С чего взял, дяденька? — всполошилась Аленка.
Горбун опять засмеялся. Засмеялся и мальчонка. Засмущавшись, Аленка надвинула на глаза плат.
— Много, милая, повидал я всякого люда, — сказал горбун. — Ну, коли не жена ты ему, чья будешь?
Совсем оробела Аленка, растерялась под догадливым взглядом горбуна. И зачем им было связываться со скоморохами?! Так бы помаленьку и сами добрели, чай, не бояре.
Словно читая ее мысли, горбун успокоил:
— Не боись. Это я так. А коли посадские, то и посадские. Нам-то что? Верно, Радко?
— Ты Маркела не слушай, — сказал возница. — Пошутить он горазд. А мужик доброй…
Понурая лошаденка вытащила телегу на поляну. За поляной, обогнув березовую рощицу, дорога шла под уклон — там, вдалеке, за широкой клязьминской поймой, показались высокие, обнесенные частоколом крепостные валы большого города.
2
На деревянном мосту через Клязьму работали плотники. Они сидели верхом на перилах и строгали их остро отточенными легкими топорами. Кудрявилась и падала в воду смолистая стружка, течение сносило ее на быстрину, крутило в водоворотах. По мосту тащились возы, осаживая под колесами горбыльчатый настил. Вода хлюпала в щелях, растекалась под ногами пешеходов. Пешеходы ругались и теснились к перилам.
На спуске к реке вкривь и вкось ютились перед дубовыми воротами старые, уже осевшие, и новые, недавно срубленные, еще золотистые от смолы, избы посада. Дворы были обнесены крепкими заборами, за которыми белыми облаками пенились зацветающие вишни. Здесь же, на зеленых полянах перед избами, паслись коровы и козы. У реки бабы стирали белье, выстиранное несли в гору в больших плетеных корзинах, повешенных на коромысла.
В городских воротах, под низкими прохладными сводами, было сыро и полутемно. Разморенный солнцем, стоял на выходе, прислонившись спиной к старому срубу, зоркий воротник в старенькой шапке и кольчуге поверх уже не нового холщового подбронника.
Телега Радка прогромыхала по уложенному поперек въезда бревенчатому настилу и вынырнула по другую сторону ворот — уже в городе.
Хоть и недавно Никитка из Владимира, но и он глядел как человек, впервые попавший в город. Аленка же совсем растерялась. Она привыкла к тишине и безлюдью в своем родном Заборье, а здесь народу было видимо-невидимо. На улице перед кузнечными рядами работали мостники. Из-под низких, окуренных копотью навесов слышался перестук молотков, звон и лязг железа. За кузнецами тянулись ряды оружейников, бронников, ручечников, клобучников, швецов. Товар был у всех на виду — тулы для стрел, луки, кольчуги, шлемы, кожаные щиты и пестротканые одежды, украшения и обувь. Длинный и тощий монах торговал носками грубой вязки; здесь же отмеряли пшеницу и пшено. В толпе мелькали юркие фигуры мытников, наблюдавших за торговлей.
В горшечном ряду поймали вора. Два дюжих дядьки волокли его к доводчику. За ними, голося, бежала растрепанная баба.
Вдалеке послышались удары колотушки по медному щиту. Это шли биричи. За уличным шумом Аленка не расслышала, о чем они оповещали, но ей почему-то стало страшно, и она прижалась к плечу притихшего Карпуши.
Зато Радко чувствовал себя в этой суматохе как щука в реке. Привстав в телеге, он громко покрикивал на лошадь и, размахивая кнутом, смело погонял ее через плотное людское море.
— Куда прешь? — вдруг набросились на него мостники. — Аль очеса застило?
Один из мужиков, распалясь и крепко ругаясь, схватил лошаденку под уздцы.
— Сворачивай к Медным!..
— Но-но, покрикивай! — огрызнулся Радко.
Лошадь попятилась, и телега уперлась в лозняковый тын. Тын накренился, покачнулся; медведь, привязанный к задку, замотал головой, зарычал. Из избы выскочил хозяин-гончар. Руки его по локти были в маслянистой желтой глине.
— Тын-то не опрокиньте! — кричал он.
Пришлось слезать с телеги и разворачивать ее руками. Никитка придерживал лошадь, чтобы не дергала, Карпуша приманивал испугавшегося медведя.
Собравшиеся вокруг люди спрашивали:
— Никак, скоморохи?
— Скоморохи! — гордо отвечал Радко.
— Князей забавлять приехали?
— Бояр тешить?
— И девка ваша?!
— Ужо попотешу бояр, — благодушно заверял мужиков Радко. — Приходите заутра на торг.
— Придем.
Дальше ехали боковыми, более тихими улицами и переулками. Дорога здесь не была выстлана бревнами, как у Золотых ворот, и трясло поменьше. Зато колеса почти по ступицу проваливались в грязь.
Недолго покружив, остановились у невысокой избы, наполовину вросшей в землю. Из избы доносился гул множества голосов.
Никитка хорошо знал это место. Камнесечцы часто наведывались сюда после тяжелого трудового дня.
— Посидите, скоро вернемся, — сказал Радко, и они с Никиткой вошли в избу.
Там над узенькими оконцами плавал тяжелый медовый дух. На лавках вдоль длинных скобленых столов, заставленных ендовами, мисками с капустой и пареной репой, со щами и кашей, сидели друг подле друга мужики — бородатые, раскрасневшиеся, хмельные. Два оборванца валялись у самого порога. На одного из них чуть не наступил Никитка. Оборванец мыкнул и откатился под стол.
Радко прошел через всю избу, раздвигая тяжелые лавки, к печи, возле которой высился у большой дубовой бочки широкоплечий детина. Детина доставал черпаком из бочки мед и разливал его по ендовам.
— А, Радко приехал, — приветствовал он скомороха. — Издалека нынче?
— Из Мурома, — ответил Радко. — Ай не соскучились по игрищам?
— Времячко ноне не то, — сказал хозяин и опустил черпак в бочку. — Эй, подходи, кому меду!
На зов его никто не откликнулся.
— Жить будешь? — снова обратился он к Радку.
— Со мной еще двое. В дороге пристали…
Хозяин поглядел на Никитку, кивнул:
— Ступайте в избу, коня — во двор. Как всегда. Да вот медку испейте…
Он налил им по полной чаре. Радко принял свою с поклоном, то же сделал и Никитка. Мед был сладкий и крепкий. От выпитого скоро зашумело в голове. Хозяин, улыбаясь толстогубым ртом, налил им по второй.
За столами кричали, ругались разнузданно. Среди прочих безликих завсегдатаев избы выделялся большого роста монах в кукуле, с длинным лошадиным лицом и круглым багровым носом, торчащим из бороды, словно из пожухлой травы перезрелая земляника. Монах смеялся и кричал громче всех, откинув до локтя рукава темно-серой рясы, торжественно крестил каждую чару.
— Благословен бог, питаяй нас, — рокотал он.
— Знатные гости у тебя, — насмешливо сказал Радко хозяину.
— Куда уж знатней. Вот тот — Чурила, суждальский книжник, — махнул он черпаком в сторону монаха. — Вчерась учинил драку, замечен был. Вернется в монастырь, наложат епитимью…
Чурила обнимал тощего, подержанного мужичка, клюющего тупым, как у дрозда, носом коричневые, залитые медом доски стола, и гудел ему в самое ухо:
— Ты ведаешь? Ты знаешь?..
Мужик вздыхал, глядел на него грустными глазами.
— Иже в монастырех часто пиры творят, созывающе мужа вкупе и жены и в тех пирах друг друга преспевают, кто лучший сотворит пир, — наставлял его Чурила, — сия ревность не о бозе, но от лукавого…
Аленка с Карпушей, сидя в телеге, заждались мужиков. Те вернулись навеселе.
Смеркалось.
Радко завел телегу в неширокие ворота под дощатый навес. Здесь, на веревках, перекинутых между перекладинами, висели прошлогодние еще, сухие березовые веники. Лошадь, задрав голову, потянулась к ним губами. Радко ударил ее ладонью по морде. Лошадь, отвернув голову, зафыркала, а Радко поднялся по шаткой лесенке на сеновал, сбросил оттуда охапку душистого сена. Маркел с Карпушей выпрягли телегу. Медведь поднялся на задние лапы и протяжно-жалобно зарычал.
— Погулять захотелось, Мишенька? — обратился к медведю Радко.
— Погулять, погулять! — обрадовался Карпуша.
— Цыц ты! — прикрикнул на него Радко. — А ну, ступай в избу.
Карпуша покорно нырнул в дверь; вслед за ним заковылял Маркел. На пороге горбун остановился и поманил за собой Аленку. Радко и Никитка вошли после всех.
Пахло овчинами. В пузатой бочке у печи доходила брага. Маркел вспрыгнул на лавку, заблеял по-овечьи.
— А ты, тетенька, с нами ночевать будешь? — спросил Карпуша, мышонком вынырнув из-за матерчатой занавески, делившей избу на две части.
Аленка погладила его по голове.
— С вами, с вами, — сказала устало. Веки ее отяжелели, плотный воздух избы клонил ко сну.
Аленка дремала сидя, положив голову на Никиткино плечо. Она не слышала, как пришел хозяин, не почувствовала, когда Никитка уложил ее на лавку и накрыл своим полукафтаньем.
Самому Никитке никак не спалось. До света прислушивался он к бормотанью Маркела, к сонному посапыванию Аленки, покашливая, переваливался с боку на бок.
3
Во Владимире Давыдку не били. Когда боярин Захария, подобострастно улыбаясь, спросил Ярополка, что делать с пленником, тот распорядился бросить его в поруб.
Давыдку сняли с коня, рассекли путы на отекших ногах. Два молодших дружинника, насмехаясь и задирая, провели его через весь двор мимо церкви Спаса и княжеского дворца к приземистому срубу, откинули засов с двери, толкнули во мрак. Давыдка оступился, упал, но его тут же подхватили и поволокли дальше. За поворотом потайного хода зияла прикрытая деревянной решеткой дыра, из которой несло сыростью, запахом гнилого сена и человеческого навоза. Дружинники отодвинули решетку и скинули Давыдку вниз. Решетка со скрипом встала на место.
Скользя сапогами по сырому полу, Давыдка поднялся, оперся спиной о зловонную стенку.
Знал он этот поруб, хорошо знал. Еще при князе Андрее доводилось ему самому бросать сюда пленников. Место считалось гиблым, редко кто выбирался отсюда живым.
При княжеской городской усадьбе несколько таких нор. Теперь они опустели. После убийства Андрея пленников освободили. Многие из них бродят по лесным дорогам. Попадись им Давыдка — с живого снимут кожу, поджарят на медленном огне…
Когда-то и он, сбросив в яму очередного узника, как эти молодшие дружинники, уходил спокойно допивать меды на княжеском пиру. Сейчас пируют другие. Льется темное заморское вино из Андреевых заветных медуш, блюда с жареным мясом проплывают, как лодии, в обширную княжескую трапезную; гусляр, непременный завсегдатай больших торжеств, сидит перед князем, степенный, белобородый, и слагает ему льстивую песнь…
От навозного духа Давыдку тошнило, мрак отнимал остатки мужества. Знал бывший княжеский милостник — бывало и так: узники слепли, подолгу оставаясь в порубе. А если и его забудут в этой яме?.. Только вряд ли. Не насладился еще боярин Захария местью. Месть его впереди. Он еще напотешится над пленником, ох и напотешится. Сейчас Давыдка снова холоп — и только. Взял его когда-то князь Андрей в дружину, приблизил к себе, а убили Андрея — и не стало красавца дружинника Давыдки. Что задумает Захария, так тому и быть. Здесь его сила, его боярская воля…
Давыдка застонал, обессиленно забился в углу. Темнота окутала, облепила его. Она была тяжелой и вязкой, как смола.
Вдруг ему почудилось, будто в яме он не один.
— Эй, есть еще кто в порубе?
Тишина. Но Давыдка явственно расслышал чье-то прерывистое дыхание.
— Коли есть кто, не таись, — повторил он и, привстав, двинулся вдоль ямы.
Нога его ткнулась во что-то мягкое. Давыдка склонился, пошарил в темноте рукой — пальцы его утонули в густой шерсти. Испуганно отпрянул — медведь!.. Не сразу сообразил — откуда бы взяться в яме медведю?!
Потом услышал — мохнатое зашевелилось, зафыркало, зашипело по-змеиному. И только тут дошло до Давыдки, что не зверь это вовсе, а человек, что человек смеется и смех его похож на шипение…
— У, чтоб тебя! — выругался Давыдка.
Человек зашуршал соломой, загремел, как пес, железной цепью.
— Чей ты? — спросил Давыдка.
— Незнамко я, — сипло отозвалась тьма. Человек поперхнулся и закашлялся, будто и впрямь залаяла собака.
— Откудова будешь?
— Из Незнамкина…
— Ишь, — проворчал Давыдка. — Молод ты аль стар? Когда в поруб угодил?
— Когда угодил — не чел, а молод или стар — не ведаю. В порубе все мы — черви.
«Уж не мой ли узник?» — подумал Давыдка и стал припоминать, кого бросал в эту нору. Но ведь давно ли сбивали с порубов решетки, выводили на волю пленников. Отчего же этот не ушел?
Снова зашуршала в углу солома, звякнула цепь. Осипший голос запел:
А жил-был дурень, А жил-был бабин, Вздумал он, дурень, На Русь гуляти, Людей видати, Себя казати. Отошедши, дурень, Версту, другу, Нашел он, дурень, Две избы пусты, В третьей людей нет…Узнал Давыдка узника. По песне узнал гусляра Ивора. Вспомнил: пришел Ивор из Чернигова — в коротком скоморошьем платье, с гуслями за спиной. Он и тогда уж был не молод, и слухи о нем ходили по всей Руси. Сказывали, певал он и в Новгороде, и в Киеве. Не одной шубой был жалован с боярского плеча. Но охоч был Ивор до сладкого меду, а еще больше любил он правду, и хоть жаловали его бояре шубами, а выпроваживали из своих вотчин — собирал он народ на площадях, сказывал ему былины, в которых добрыми молодцами были крестьяне и каменщики, а дурнями — бояре да огнищане, да боярские и огнищанские сыновья.
Донесли князю Андрею о прибытии Ивора во Владимир, и повелел князь Давыдке сыскать того сказителя и привести его в Боголюбово на почестен пир.
Сыскать Ивора — дело пустяковое. Не иголка в стогу — певец на миру. Передал ему Давыдка княжескую волю. Выслушал его Ивор, упираться не стал. Дело для него привычное — петь перед князьями. Бросил он за спину гусли, сел на коня и поспешил с Давыдкой к Боголюбову. Подъезжая, подивился на славен княж-град, перекрестился на церковь да прямо с коня — в палаты.
Привел Давыдка гусляра, как и повелел князь Андрей, в большую трапезную. В трапезной накрыт стол на всю длину, на столе — яства чудесные, меды пряные, душистые вина из дальних латинских стран. Князь Андрей поглядел на певца, велел налить ему полную чашу, подождал, пока выпьет, а потом и говорит:
«Много наслышаны мы о тебе, Иворка. Сказывают, знаешь немало ты былин, да правдин, да песен свадебных и застольных. Певал ты и в Киеве, и в Чернигове, и в Ростове, и в Новгороде. Спой же и нам свои песни. А мы послушаем тебя, вспомним время богатырское да выпьем вина за твое здоровье».
Выслушав князя, сел Ивор на лавку, провел пальцами по гусельным струнам и запел об Илье Муромце:
Стал князю Илья Муромец выговаривать: «Ты нас не кормишь, не поишь, не жалуешь. Есть-то пить во Киеве есть кому, А заступить за Киев-град некому…»Хорошо пел Ивор, мед принимал с поклоном. А когда опьянели гости, когда попадали те, что послабее, под стол, завел правдину о лыковом горе, о богатстве да о бедности, о том, что и глупый в богатстве умен, а умный в бедности — дурак. О боярах и о главном боярине сказывал Ивор, о том, что рядится он в одежды бархатны, а сердцем лют, нравом гневлив и в несправедливости своей хоть и боголюбив, а творит дела противубожеские.
А и горя, горе-гореваньица! А в горе жить — некручинну быть. Нагому ходить — не стыдитися,—лихо подпевал себе Ивор.
Нахмурился князь Андрей. Брови сдвинул, пальцы запустил в бороду. Перебирает пальцами волоски, перст нями посверкивает. А как кончил Ивор, велел поднести ему самую большую чашу. И благодарил певца такими словами:
«А и хорошо сказываешь, Иворка, все нутро мне перевернул. Так сказываешь, что и подумал я: а не посидеть ли тебе в моем порубе? Поруб мой не простой — княжеской. Посидишь в порубе — сложишь песню. И кормить тебя будут вдоволь, и поить — по-княжескому. И на цепь тебя прикую — со свово медведя велю снять, — прикую на цепь княжескую. Аль не щедр князь Андрей, Иворка?..»
«Спасибо тебе, князь, на добром слове, — поклонился ему Ивор. — Полземли обошел, а щедрот таких не видывал…»
Изломали Иворовы гусли, бросили Ивора в поруб. Бросили да и забыли о нем. Не поскаредничал князь, заплатил ему сполна. Обессилел гусляр, не смог выбраться из норы, когда посбивали замки. А потом повесили на поруб новые крепкие запоры.
Давыдке боль защемила сердце. Будто и он виноват. А виноват ли? Не свою исполнял он волю. Что же до песни Иворовой, то и Давыдке она по душе. Все в ней верно — хорошая песня. Только зачем было петь ее, да еще на пиру у князя?!
Душно в порубе, смрадно. Опустился Давыдка на солому, загрустил под Иворову тихую песню. Ни звука с воли не просочится в поруб.
Так и задремал. А когда проснулся, обступили его невеселые думы. Вспомнил Заборье, Аленку, мать с кочергой у битой печи, деревянного петуха над берестяной крышей родной избы.
«Не орел ты и не сокол, — сказал он себе с сердцем, — галица худородная».
Прислушался к гомозившемуся в углу Ивору.
— Эй, старче, худо, что ли?
— Ничего, миленький, — отозвался Ивор. — Живу помаленьку. А ты, добрый молодец, как в яму угодил? Аль чего загрезил?
— С боярином счеты сводил…
Ивор захихикал, заохал. Не то проговорил, не то простонал:
— Очи свербит. Ослеп я…
— Терпи, дедушка, терпи.
4
Утром, ни свет ни заря, разбудил Аленку Никитка. Потряс ее за плечо:
— Вставай.
По избе уже ходили люди. Карпуша прыгал у печи возле незнакомой Аленке бабы — должно быть, хозяйки. Баба, охватив тряпицей горшок, вытряхивала из него в миску пареную репу с луком. Горбун Маркел строгал в углу палку — вырезывал на ней потешную голову с усами и бородой, — поглядывал в сторону печи. С улицы пришли хозяин и Радко. Хозяин ласково пригласил гостей к столу:
— Проголодались, поди?
Поели — дружно похлебали щи из общей деревянной миски, пожевали репу. Перекрестились на образа.
— Ну, мил человек, куда теперь путь наладим? — сказал Радко, сытыми глазами разглядывая Никитку с Аленкой. — По всему видать, люди вы к скоморошьему ремеслу непривычные, с нами вам не по пути.
Горбун засмеялся, провел облизанной ложкой по бороденке:
— Беглые они, дяденька, — проскрипел, будто по дереву деревом. — Им и податься-то некуда.
Никитка осадил его взглядом.
— Дело у нас во Владимире, — сказал он.
— Ну, коли дело, — кивнул Радко. — А то приходите на позорище. Ежели ночлега не найдете, изба знаете где. Примем, не спросим, кто такие.
— Спасибо, добрые люди, — поклонился Никита скомороху. Поклонился и хозяину.
Аленка тоже поклонилась:
— Спасибо за хлеб-соль.
Карпуша, любовно заглядывая Аленке в глаза, проводил их до порога. Радко сказал с теплотой в голосе:
— Ишь как малец привязался. Возвращайтесь.
Перекинув суму через плечо, Никитка зашагал по дороге обратно к Медным воротам. Город знал он хорошо — не заблудится. Аленка едва поспевала за ним. Маленько покружив по узким и грязным переулкам, они вышли к площади.
Это было самое высокое и чистое место в городе. Улицы выстланы бревнышками, терема новые, с узорчатыми крылечками и охлупами. Над теремами золотились церковные купола, а за ними высился Успенский собор, у белокаменных Золотых ворот виднелся Княжий дворец — деревянный, резной, будто пряничный.
Аленка остановилась, дернула Никитку за рукав.
— Красота-то какая-я!
— Красота! — разъяснились радостью и тут же померкли Никиткины широко раскрытые глаза. — Только нынче в оба гляди, как бы чего не разорили… Вишь, бояре с утра пируют.
На высоком крыльце княжеского терема появился пьяный дружинник. Из окон подворотной избы нестройно доносились песни.
— Идем быстрее, — подтолкнул Аленку Никитка. — Не ровен час, остановят.
Они пересекли площадь и нырнули в густую, несмотря на ранний час, толпу, растекшуюся от Ивановских до Серебряных ворот. Шли недолго.
Никитка свернул в переулок, уверенно постучал в чьи-то ворота.
— Это кто там такой резвый? — спросил со двора молодой женский голос.
— Калика, голубица. К отцу Левонтию с гостинцем, — шутливо отозвался Никитка. Аленке шепнул: — Антонина, Левонтьева дочь.
Звякнули запоры. Калитка приоткрылась, и в проеме показалась простоволосая голова девушки с продолговатым лицом — востроносеньким, свеженьким, с ямочками на пухлых щеках.
— Ники-итка! — удивленно и обрадованно пропела девушка.
Никитка ступил во двор, увлекая за собой Аленку.
— А это кто такая? — спросила Антонина, разглядывая девушку.
— Аленка. Из Заборья она. Ну, пущай. Отец-то где? — перебил ее Никитка.
Бывал он у Левонтия запросто. Знал хорошо Антонину — говорливая девка, страсть как любит почесать язык.
Они поднялись на крыльцо. В светлой горенке, набросив на плечи суконную однорядку, сидел рыжебородый мужик. На столе перед ним лежала толстая книга, каких Аленка еще в жизни не видывала, стояли ендова и чара. Мужик прихлебывал из чары и читал книгу. Когда вошли Никитка с Аленкой, он поднял на них отекшие усталые глаза, жиденькие брови его вскинулись.
— Вот так гость!
Однорядка соскользнула с плеч. Левонтий выбрался из-за стола и обнял парня. С мягкой улыбкой поглядел на Аленку:
— А девка из чьих будет?
— Не спрашивай, Левонтий, — замялся Никитка. — Трудно все-то сразу сказать-рассказать. Зовут ее Аленкой. Из Заборья она, Андреева милостника Давыдки сестра.
— Уж не гонятся ли за тобой? Не прячешься ли? — тревожно спросил Левонтий.
— И это есть. Прошли мы от Заборья не малый путь. Устали. В город со скоморохами въехали. Должно, никто не признал.
Левонтий окликнул вертевшуюся поблизости дочь:
— Ты, Антонина, на стол накрывай, а гости пусть с дороги умоются.
Он достал с полки чистый убрусец, протянул Аленке.
За столом беседа потекла живее. Никитка рассказал мастеру о своих скитаниях, обо всем, что случилось в Заборье. Аленка, слушая его, погрустнела. Она снова — в который уже раз — представила себе и княжий шатер на холме, и пожар, и вступившегося за нее Давыдку, и мать в охваченной огнем избе.
Левонтий задумался. Не простую задал ему Никитка задачу. В былые-то времена замолвил бы перед князем за него словечко. А теперь? Теперь, того и гляди, доберутся и до его, Левонтьевой, избы. Ростовские бояре ремесленный люд корчуют, как пни на вырубке.
А невеста у Никитки ладная. Левонтий посмотрел на девушку, и взгляд его прояснился. Почему-то подумал: подружатся они с Антониной. Ишь, как посматривают друг на друга, глазищами так и стригут.
— Ты бы, Тоня, голубей Аленке показала, — посоветовал он дочери: поговорить ему надо с Никиткой наедине.
Антонина поняла отцов намек, взяла Аленку за руку.
— А у тебя голуби есть?
Аленка покачала головой: какие там голуби — своей крыши над головой и то нет. Они вышли, и Левонтий, оправляя на плече сползающую однорядку, придвинулся к Никитке.
— Вот, брат, какие дела, — сказал он, подмигнув. Горячо задышал на ухо: — Сказывают, Михалка войско собирает. Клятвы Ростиславичам он не дал. Пойдет ко Владимиру — ремесленники его поддержат. Есть тут один — Володарем зовут… Мужик крепкий и справедливый. Знает, что нашему брату нужно. Если Михалка двинет ко Владимиру, бояр перевяжем и ворота настежь. Михалка — Андреев брат. Нам он не враг. Камнесечцев обижать не станет.
Никиту потом прошибло от мятежных Левонтьевых речей. Понял — доверяют. И от догадки этой стало ему радостно. К князьям, вечно окруженным надутыми боярами, душа у него не лежала. Да и какое дело Никитке, простому камнесечцу, до Андреевых братьев?! Однако руки его давно уже истосковались по ремеслу, по настоящей работе. Пора оседать, надоело рыскать, как волку, по лесам и долам, спасаясь от погони!..
Левонтий пообещал свести его с Володарем.
— Ты — молод. Тебе и меч плеча не оттянет.
Когда вернулись девушки, Никитка и Левонтий мирно допивали квас.
5
В Успенском соборе отслужили заутреню. Протопоп соборного клироса Микулица, желтоглазый, с клочьями седины в густой бороде, окруженный клирошанами, тиунами и темными да юркими, как скворцы, служками, продирался через плотную толпу на площади. Служки, громко покрикивая, теснили с дороги мужиков.
Те ворчали:
— Почто пихаете?
— Аль не видите — сам протопоп, — задиристо отвечали служки.
Микулица переоделся после службы в обычную ферязь с широким откладным воротником и плотно застегнутыми на кистях рукавами, переобулся в коричневые сафьяновые сапоги; одна только скуфья на голове выдавала в нем священника. Старушки, закатывая глаза, падали ему в ноги:
— Благослови, батюшко!
Микулица крестил толпу. Был он невысокого роста, широкоскул и бледнолиц; сомкнутый рот и тяжелые мешки под желтыми навыкате глазами придавали ему суровое выражение. Еще не успели во Владимире забыть, как после смерти Андрея Боголюбского прошел он в ризах по городу с чудотворной иконою, — выход Микулицы поутишил грабежи. Восставал он и сейчас против ростовских бояр, требовал вернуть от Глеба Рязанского икону святой Владимирской божьей матери. Князь Ярополк серчал на протопопа, бояре советовали изгнать его из собора, однако Микулицу поддерживал митрополит Константин. Ярополк был молод, к боярам прислушивался, но оглядывался и на Киев.
Толпа тянулась к Микулице. Народ на площади кричал:
— Заступись, батюшко!
— Изгони иродов!
— Верни святыню!
Вдруг шедшие впереди протопопа клирошане растерянно остановились. Посреди площади в кругу стояла телега, на телеге мужик в коротком скоморошьем кафтане бойко выкрикивал:
Старые, молодые, Женатые, холостые, Усачи-бородачи, Добрые молодцы…— Ай да хват, — переговаривались меж собой мужики, — Ай да скоморох!..
Рядом, на той же телеге, топтался горбун в лисьей шкуре. Голова лисы была откинута с лица Маркела на спину и болталась там, оскалив зубастую пасть. Маркел подпрыгивал и кувыркался.
— Дорогу, дорогу протопопу! — вопили служки, расталкивая людей.
Микулица поморщился: прямо из божьей церкви — и на позорище. Слаба, слаба еще вера. Жив Ярило, стучит в мужичье сердце горячей языческой кровью.
Радко рассказывал байки. Черные одеяния клирошан и церковных служек затерялись в толпе среди пестрых рубах и кафтанов. Благословляя направо и налево неохотно расступающихся перед ним людей, протопоп прошествовал в церковь Рождества на валу.
Радко тем временем установил возле телеги высокий шест. Гибкий, как девочка, Карпуша легко скользнул по шесту на самую вершину и стал изгибаться там под негромкое дуденье сопелки. В сопелку дул горбун, а Радко, напрягая шею, держал обеими руками шест и выкрикивал прибаутки, от которых то вздыхала, то громко охала толпа.
Потом Маркел, наряженный лисой, вывел на середину раздавшегося круга медведя. Медведь был ручной, покорный. Он неуклюже топтался, рычал и поводил лапами в стороны, совсем как человек. На мохнатой спине его топорщился алый кафтан, а из-под шапки торчали острые уши. Глядя на него, люди давились от смеха: ни дать ни взять — сам князь Ярополк Ростиславич.
Беременные бабы из толпы протягивали медведю хлеб, примечали: ежели возьмет хлеб с рыком, то родится девочка, ежели молча — мальчик.
— А теперь, Мишенька, покажи, как боярин о мужиках своих печется, — продолжал Радко.
Медведь встал на задние лапы и двинулся на Маркела, выряженного в лисью шкуру. Горбун замахал руками, снял и положил перед ним кафтан. Зверь понюхал кафтан, недовольно покачал головой и снова подступил к Маркелу. Маркел пятился от него, бросая с себя на землю то одну, то другую вещь. Наконец, совсем отчаявшись, сбросил и шкуру.
Радко выкрикивал:
— Вот как боярин бережет свово холопа!
Толпа возбужденно вздыхала, мужики хохотали.
— Ай да боярская любовь!
— Княжеская…
Карпуша привязал медведя к задку телеги, Маркел взял в руки гудок и, ловко поводя луковидным смычком по струнам, запел:
Небылица в лицах, небывальщина, Да небывальщина, да неслыхальщина. Старину спою да стародавнюю. Да небылица в лицах, небывальщина, Да небывальщина, да неслыхальщина. Ишша сын на матери снопы возил…Песню эту не раз уже слыхивали мужики, но горбуна не прерывали, стояли вокруг тесно, жадно вглядывались в его страдальчески напряженное лицо.
В заключение Радко обошел всех с шапкой. Обходя, приговаривал:
А мы на площади гуляем, Денежки собираем…Левонтий с Никиткой и Аленка с Антониной тоже были в толпе, слушавшей скоморохов. Левонтий бросил в шапку две резаны. Радко узнал Никитку, подмигнул ему шальным глазом:
— Своих отыскал?
— Отыскал…
Маркел дернул за уздцы лошадь, телега покатилась по площади.
— Прощайте, люди добрые, — поклонился мужикам Радко. Особо поклонился Левонтию с Никиткой. — Может, и свидимся…
Мужики расходились неохотно. Шли куда глаза глядят. Много было в толпе гулящего люда. После смерти Андреевой да неурядиц некому было следить в городе за порядком. Иные из ремесленников позакрывали свои мастерские, иные бежали…
У Золотых ворот на валу, поросшем молодой травой, сидел Фефел, ковырял землю залапанной шелепугой. Лапти у него совсем поизносились, одежда превратилась в лохмотья. Злые глазки калики цепко вонзались в лица проходивших мимо людей, чуткие ноздри вдыхали дразнящий запах еды. Два дня и маковой росинки не побывало во рту Фефела. Шел он из Заборья, надеялся на сытую жизнь в городе. Но и в городе не накормили, гнали калику от домов непотребными словами. Подорожал хлеб во Владимире, прошлогодние запасы все вышли — едва хватит дотянуть до осени. Не до нищих. Так рассудили горожане: ежели каждому подавать, сам пойдешь по миру.
Вот и сидит Фефел на валу, думает свою нелегкую думу. Давно сидит. Уж и воротник стал поглядывать на него с подозрением.
Люди шли от площади, вспоминали скоморохов. Громче всех судачил монах — высокий, бородищей обросший, с малиновым носом, торчащим, как переспелая земляника, — тот самый Чурила, которого еще с вечера заприметил Никитка в избе.
У Чурилы взгляд острый, издали разглядел высохшего калику на валу.
— Откуда, старче?
До разговоров ли сейчас Фефелу? Голодные глаза калики подернуло пеленой. Хорошо спрашивать монаху — монастыри живут сытно: у монастырей свои угодья, и зверь в лесу, и борти с медом. А Фефелу до меду ли? Ему бы корочку какую пожевать.
— Издалече, — скрипнул Фефел и вдруг вытянул петушиную, в синих прожилках, шею: увидел — идет в темном сарафане девка, Давыдкина сестра, та, что в Заборье от князей утекла. Не ошибся Фефел — она. Идет с добрым молодцем, щеки румянцем горят… — Эй, воротник!
Мужик у ворот встрепенулся, суетливо схватил копье. Калика сорвался с вала, подскочил — откуда и сила взялась? — замахал, будто ветряк, длинными руками, закричал:
— Вора держи, вора!
Толпа на улице заволновалась, загудела, прихлынула к валу. Послышались угрозы:
— Князев послух!
— В ров его!..
Воротник юркнул в избу, прильнул изнутри к оконцу. Фефел попятился к частоколу, прижался лопатками к теплым кряжам. За кряжами стена круто сбегала вниз — там виднелись избы посада. Высоко!
Кто-то выхватил у него из рук шелепугу, кто-то замахнулся березиной. Ох-ох, много ли надо Фефелу?! Вот стукнут сейчас — люди хмельные, — а у него и домовина не припасена. Закопают в землю без покаянья и без вечного петья. А грехов-то у него, а грехо-ов!
Чурила, подоткнув полы рясы, схватил Фефела за руку:
— Бежим, старче!
Потянул за собой в узкий лаз под частоколом. В лазу было грязно и темно. У входа, откуда цедился свет, толпились мужики, заглядывали вниз, недобро посмеивались:
— Тута его не пымать, в заходе-то…
— Сбежал старичок облегчиться — порты отяжелели…
Чурила вывел калику на волю, спросил:
— Ты и впрямь послух?
— То небывальщина. Мужичка знакомого встретил…
— А почто воротника звал?
— Воротник мне братеник.
— Брешешь ты, заселшина, — сказал монах. — А за то тебе епитимья. Пойдешь со мной в Суждаль — грехи замаливать… И задорить не смей. То-то же.
Глава четвертая
1
До Суздаля не рукой подать — верст сорок будет. А Фефел совсем ослаб, идти не может, кряхтит да охает, то за грудь, то за бок хватается. Как вышли за Серебряные ворота да свернули на прямую дорожку к Ополью, что левее Боголюбова — а боголюбовские церковки вот тебе, рядом видны! — монах остановился, сел на брошенного с краю дороги четырехликого деревянного идола, покачал головой.
— Совсем ты худой, заселшина. Едва ноги волокешь. Где уж тебе дойти до Суждаля — околеешь. Опять же мне тебя хоронить.
Фефел, охая, присел рядом. Глядя на него, монах нарочно не спешил. Рассуждал как бы сам с собой:
— И отколь вас таких только носит? Вот лонись тоже объявился тут калика — ходил, как ты, с шелепугой, песни божьи распевал. А у них — ватага. А он в ватаге той — атаман. Ну, вынюхали, значит, что к чему, да в Березовке к попу и нагрянули. Поп в церкви, дома бабы одни, попадья с дочерью. Прижгли они бабонек огоньком, те и признались, где калита зарыта. Денежки калики прибрали да еще поклонилися: не посетуйте-де, на будущий год снова в гости наведаемся…
— Не, я не такой, — испуганно мотнул головой Фефел. — Я — смирной.
— Видали мы, какой ты смирной, — сказал Чурила. — Едва человека в поруб не упек.
— Вот те крест, не грешен, — быстро перекрестился Фефел. — Вот те крест…
— Крестом-то не размахивай, — задержал его руку монах. — Крест-то не тынинка. Он — святой… Крестом сатану изгоняют.
— Человек доброй! Не губи ты меня, пусти душу на покаяние, — упал на колени Фефел. — Не хочу я в твой монастырь. К каликам хочу. Калики меня заждались. На Афон собираемся. Буду на Афоне, помолюсь и за тебя, грешного.
— Врешь, старик, не грешен я, — отпихнул его ногой Чурила. Разгневался он. Чуял — черная у калики душа. Напоил, накормил волка, от смерти спас, а он все в лес глядит. — Пойдем в Суждаль. В Суждали грехи свои отмолишь, да и за меня попросишь у господа. На кой мне твой Афон?!
Понял Фефел: не отступится от задуманного Чурила. Так и поплелся, всхлипывая, за монахом. Шаркал по дороге ногами, шамкал беззубым ртом, проклинал тот час, когда пришел за сытной жизнью во Владимир. А Чурила посмеивался. Хмель еще бродил у него в голове. Поразмяться бы!
— Эй ты, заселшина. И как тебя земля держит? — издевался он над Фефелом. — Аль только молитвами и жив?
Скоро ночь опустилась на дорогу. Нырнули во мрак холмы и деревеньки. Небо раздвинулось, высыпали звезды. Похолодало. Фефел совсем уж выдохся, отстал от монаха. Долго так-то он протащится с каликой, подумал Чурила. И с рассветом не доберется до Суздаля. Одному ему, без попутчика, с его легким шагом и сорок верст не дорога.
— Эй ты, старче!
— Ой-я?
Часто, с надрывом дыша, Фефел приблизился к Чуриле.
— Не надоело глину толочить?
— Надоело, батюшка, ох как надоело, — сразу же согласился Фефел. — Костерок бы нам разложить, пожевать чего…
— Тебе бы только жевать, — буркнул Чурила, выбирая тропку в стороне от дороги.
Здесь, в березнячке, было потеплее — ветер шел верхом, под стволы не залетал. Фефел сел, Чурила натаскал сухих веток, высек кресалом огонь. Приложил бересту, подул на трут. Язычок пламени выскочил из бересты, запрыгал в Чурилиных заскорузлых пальцах…
В суме у монаха — запас съестного. Пока Чурила раскладывал на траве перед бойко потрескивающим огнем репу, мясо и хлеб, Фефел ерзал от нетерпения. Чурила удивлялся — и куда у этакого тощего старикашки столько всего помещается?! Сдается, век Фефел не едал. Запаслив калика — наедается впрок.
Пока ели, монах выспрашивал у старика разные разности. Фефел был неразговорчив. Подумал Чурила — таится калика, злой у него глаз, мысли недобрые. Или жизнь обозлила — все попреки да тумаки?
— Родом-то ты откуда?
— Из Рязани.
— Холоп?
— Отец мой огнищанином был.
— А мать?
— Матери не припомню.
Говорил, будто заученное. И это не понравилось Чуриле. Монах сам много побродяжничал на своем веку. Ходил и с каликами. Попрошайничал. Знал он это бесовское племя. Скрывались среди калик не только беглые холопы, заводилами в их ватагах ходили прожженные тати: таким и голову кому снести — пустое дело.
— Попрошу игумена, — пообещал Чурила. — Будешь при монастыре. То печь истопить, то водицы принести, то еще чего. А тебе за это и постель, и еда. Старость — не в радость. К месту прибиваться надо.
Фефел икнул, тайно пощупал живот — тугой. Сонно закачался у костра, задремал, однако сквозь полуприкрытые веки следил за монахом. Чурила про себя посмеялся: вона, и сейчас прикидывает, как бы сбежать. Креста на нем нету — бесу душу заложил. Вспомнил, как звал Фефел во Владимире воротника. А после врал, все врал. Ни слову его не верил Чурила.
Был монах душой ребенок, сердцем добр. Но любил поозоровать. Вот и теперь из озорства только тащил за собой калику. То-то обрадуется игумен!
Пламя костра тепло колыхалось у ног, искры взлетали и гасли в черном небе. Розово светились стволы обступивших поляну берез. Казалось, сладкий сок наливается под тонкой корой. Тронь — и брызнет тебе в лицо медовая влага…
К Суздалю подошли еще затемно. Остановились у монастыря перед воротами с набитым поперек лесин железным узорочьем. Чурила постучал в оконницу кулаком — тотчас же по ту сторону ворот послышался сухой кашель, неторопливое шарканье ног.
2
Фефела забрал к себе в избу вратарь.
— Поговорю с игуменом после заутрени, — пообещал калике Чурила, а сам отправился в свою келью.
Утонувшее в полумраке крыльцо как живое заходило под его тяжелыми шагами. Келья Чурилы была расположена возле самой истопки, высокое косящатое оконце выходило на Каменку. На истопке видимо-невидимо водилось котов и кошек. По ночам они мяукали, сваливались с кровли на монастырский двор. Иногда Чурила бросал им кусок мяса или рыбы, глядел, как они дрались из-за добычи.
Войдя в келью, Чурила поежился — продуло келью насквозь напористым ветром. Окна едва только подернуло серебристой дымкой — светало медленно. По свету Чурила знал: до заутрени можно отоспаться. Прямо в рясе он лег на узкую лавку, крытую сукмяницей поверх рогожи. Поворочался, задремал. Едва только задремал, послышались удары била — вроде и не спал вовсе.
Но в келье было светло, ясно проступили рубленые стены, образа в углу, на полке, почти под самым потолком, — горою книги, берестяные свитки.
Чурила наскоро помолился на образа, утер заспанное лицо полой рясы и спустился во двор. Монахи, серые, молчаливые, лениво собирались возле церкви.
Солнце стояло уже высоко — над крепостным зубчатым валом. Тень от вала пересекала весь монастырский двор и упиралась в бретьяницы. Над крышей трапезной свивался печной дымок.
Чинно, вместе со всеми отстояв заутреню, Чурила подошел к игумену. Игумен, толстый, будто клоп, налитый темной кровью, подпустил монаха к руке, скрестив пальцы на животе, стал расспрашивать о мирском. Гладкие щечки его блестели; Чурила потянул на себя дух, исходивший от игумена, — не квасной, знакомый, пьянящий.
Игумен по глазам прочел Чурилину догадку, улыбнулся спелыми девичьими губами.
— Пойдем ко мне в келью. Слышал я, приволок ты калику на наш двор. Зачем?
По пути Чурила рассказал, как встретил Фефела, пожалел старца. Игумен оборвал его:
— Распорядился я — калику покуда приютят.
В монастыре Чурила был на особом счету, чаще других получал у игумена печати для выхода в город. Слыл он книжником, разумел грамоте, и хоть пил отчаянно, но не дерзил и крепко держался монастырского устава. Пришел он в монастырь издалека — из-под самого Киева. Зпал игумен и прошлое Чурилы. Знал, что привело его в Суздаль. Случилось это три лета тому назад, когда набрели на Чурилу недобрые люди. (Про попа-то, что сказывал он Фефелу, Чурила из своей жизни выдумал.) Связали они книжника, стали допытываться, где хоронит золото. Но золота у Чурилы сроду не было — все пошло с наговора. Не поверили разбойники чернецу. Подтянули его вервием на дуб, под босыми пятками костерок развели. А сами уселись под деревом бражничать. Бражничали да дровишки подбрасывали. И как ни молил, как ни просил их Чурила, не мог пронять татьбою загубленных душ. Тогда рванул он веревки крученые — высвободил одну руку, рванул еще — высвободил другую. Перепугались разбойнички, бросились кто куда — не чаяли такой силищи в книжнике. Но Чурила нагнал одного из них, да и перевернул голову ему глазами назад. А когда вгляделся в мертвого, понял, что погубил самого молодшего татя — совсем еще мальчонку… С той поры и запил Чурила, и подался в монастырь подальше от мира, грех свой великий замаливать. Пришел в Суздаль к игумепу, все рассказал, как было, и наложил на себя тяжкую епитимью. Молился истово, заходы вычищал, делал всю грязную работу.
Проверил игумен Чурилу на грамоту — назначил помощником к старому летописцу Сергию. Грамотный монах — человек в монастыре нужный. А когда преставился Сергий, отвел игумен Чуриле старцеву келью, указал на книги и велел продолжать летописание. Исправно нес чернец свои обязанности, а согрешив, исповедовался и грехи свои замаливал без принужденья.
Со двора провел игумен Чурилу в свою келью о трех оконцах, усадил на лавку, поставил ему в чаре меду сладкого, но другим монахам сказывать не велел.
Чурила выпил мед, поблагодарил игумена. Вернувшись к себе, достал с полки краски и пергамент, пристроился за столом возле оконца. Посидев и подумав, нарисовал писалом в левом углу листа красную буквицу, украсил ее золотом. Еще немного подумал и неторопливо вывел:
«В лето 6682 сели Ростиславичи на княженье в земле Ростовской и роздали по городам посадничество русским детским…»
Глава пятая
1
У нового князя владимирского Ярополка боярин Захария в чести и милости. Вхож он и в парадные палаты. А при Андрее любой гридень мог продержать боярина в сенях полдня, да так и не допустить к князю.
Сейчас боярин приезжает на княжеский двор, как на свою усадьбу. Конь у боярина кологривый, игрений в яблоках, седло богатое, попона бархатная, серебряные стремена. А уж на самого боярина и поглядеть любо — дородный, важный, борода метлой, холеная, пахнет заморскими благовониями. На боярине, хоть и к лету солнышко, хоть и припекает, тяжелая шуба, украшенная соболями, на груди крест с дорогими каменьями, на боку меч в переливчатых ножнах, широкий кожаный пояс с золотыми пластинами и впаянными в них голубыми бусинками.
Едет боярин по Владимиру — впереди служки скачут, разгоняют толпу. Конь боярский вышагивает важно, по сторонам поглядывает с достоинством — не гридня, дескать, везу, не простого дружинника, а переднего мужа.
Глядит сам на себя Захария из серой толпы, собой любуется, на ремесленных людишек посматривает свысока. Будто кот, жмурится, подставив лицо ярким солнечным лучам.
В воротах отроки, сидя кружком и прислонив к частоколу копья, играли в зернь. Увидев подъезжающего боярина, посторонились, почтительно уступили дорогу. Носатый воротник, как аист, привстал на тонкой ноге, посмотрел на боярина испуганными глазами. Дурная слава ходила о Захарии: сказывали, лют боярин, нравом зверь хищный, хуже зверя. Тяжела рука у боярина, не знает жалости. Разными слухами полнилась округа, а Захария знал про них, радовался: власть — она на страхе держится.
Миновал боярин ворота, легонько подхлестнул кологривого. Въехал на княжеский двор рысцой. Вот она — красота, и он ей тоже хозяин. Ярополк молод еще, несмышлен, и бояре при нем — советчики. Все что ни скажут они, то и сбудется. Трудно давалась такая воля. Трудно, а — далась. Наконец-то!.. Все Андреевы порядки сломать перво-наперво. Горожан осадить, разогнать чернь, камнесечцам руки укоротить. Не трудом, не теремами — боярской твердостью красна земля русская. Навеки так и останется.
Уже издалека увидел Захария возле нарядного всхода рязанских наушников — Детильца да Бориса Куневича. Стоят, опираясь на посохи, неторопливую беседу ведут промеж собой. Детилец высокий, тощий, лицо заостренное, как топор; Борис Куневич — толстый, дородный, солнце сало вытапливает из красной шеи. Неприятно покоробило Захарию, даже поморщился — вот они, все еще тут. Давно бы пора им вернуться в Рязань. Дело сделали, княжеские милости поделили, казну церковную растащили — тащить больше нечего. А если еще на что рот разевают, то тут им и запрет наложить: своим, владимирским, ничего не останется.
Захария подъехал ко всходу, спешился. Бросил подбежавшему юркому мальчонке-булгарину поводья, тяжко отдуваясь и разминая ноги, потоптался на месте. К боярам подходить не спешил, ждал, когда подойдут сами. Мальчонка отвел кологривого к коновязи, накрыл его попоной. Конь пофыркал и потянулся к сену. Захария ревниво проследил, чтобы мальчонка не забыл дать ему воды. Очень берег он коня — купил за немалые деньги. Привели кологривого из набега на Волгу, отбили у булгар. Такого игренего боярин отроду не встречал. А черные яблоки на боках — одно загляденье…
— Хорош у тебя конь, боярин, — степенно сказал Детилец.
— Птица, а не конь, — подтвердил Борис Куневич.
— О коне твоем князь Ярополк вспоминал. Как увидел на охоте, потерял покой, — снова сказал Детплец. Узенькие глаза-щелки боярина глядели лукаво, от уголков побежали к косицам тоненькие морщинки.
— Князь приметлив, — согласно кивнул Захария. Подождал, что еще скажут бояре. Но бояре молчали. Стояли как истуканы в половецкой степи.
Тем временем в усадьбу съезжались новые гости. Скоро у коновязи не осталось ни одного свободного места. Бояре и старшие дружинники, званные на княжеский пир, толпились у терема, прохаживались, красуясь друг перед другом. Многих из них не видывали здесь при убиенном Андрее: в ту пору отсиживались они в своих вотчинах. Теперь всех потянуло во Владимир — ждали подачек от нового князя.
Тут на всходе показался огнищанин в нарядном розовом кафтане, пригласил гостей к столу.
Бояре вошли в сени первыми, спеша занять место поближе к князю. Прежде чем опуститься на лавку, поясно кланялись Ярополку.
Увидев Захарию, князь велел ему знаком сесть по левую руку от себя. По правую руку уже сидели Детилец и Борис Куневич.
Стали подавать еду. Служки проворно бегали вокруг пирующих, расставляли на скатерти серебряные блюда с утками, курами, осетрами, лососями и щуками. Дичь была украшена пестрыми перышками: куски подрумяненного мяса пахли чабером и кропом. Среди жаркого тут и там высились расписанные ендовы с медом, квасом и вином.
Первую чару выпили за князя, вторую за гостей. Потом пили без здравиц, наливали себе вино из корчаг черпалами, не дожидаясь, когда это сделают служки. Ели мясо и рыбу, кости бросали под стол, вытирали лоснящиеся от жира руки о скатерть.
Охмелев, до того молчаливые, бояре разговорились. Перебивая друг друга, потянулись к князю. Льстивые речи, будто брага, полились рекой.
Только Детилец с Борисом Куневичем сидели молча; заметил Захария, что и пили они помалу. Тогда и он попридержал свою чару.
Ярополк хмелел быстро. Хмелел, таял, мягко улыбался боярам; лучшие куски с его блюда, однако, перепадали сидящим поблизости Детильцу с Борисом да угрюмому Захарии.
— Уныл ты, боярин, нынче, — сказал ему Ярополк. — Аль не рад, что попал на пир? Аль обидел кто?
— От тебя, князь, милости неисчислимы, — смущенно привстал Захария, преданным взглядом впиваясь в глаза Ярополка. — А приуныл я оттого, что, проехав по городу, видел беспорядки великие. Простцы голову подняли, глумятся над слугами твоими верными, князей своих не почитают…
— Отколь это, боярин? — нахмурился Ярополк, — Иль не вознаградил я владимирских камнесечцев за неправду их?.. Мне бы суд чинить за татьбу и убивство дяди моего Андрея, я же все простил.
— Скоморохи на площади ходят ряженые, непристойные песни поют, бояр высмеивают. А протопоп тем людям потатчик.
Услышав, в который уже раз, про Микулицу, Ярополк прищурился.
— Боишься, никак, боярин?
Хмельные, зеленью отливающие глазки смотрели на него в упор. Потом умылся Захария, но взгляд Ярополка выдержал.
— Служи мне верой и правдой, — сказал князь. — И слово мое княжеское твердо: дарую я тебе, боярин, угодья по реке Ворше и по Клязьме от Боголюбова — с бортями, ловищами и людьми. Пользуйся. А про Микулицу не думай — сам вижу, знаю: всему свой срок…
Не ждал, не гадал Захария о такой щедрости. Даже язык отнялся у боярина. Привстав, потянулся целовать Ярополкову руку — чару с медом опрокинул, потек мед со стола на дорогой кафтан, на светлые шелка.
— Полно тебе, боярин, — отстранился от него князь. — Меды пить надо, а не лить. За боярина Захарию! — возгласил он здравицу.
Жадными, завидущими глазами окинули соседа рязанские бояре. Узкое, топориком, лицо Детильца вскинулось и опустилось к столу — будто голову отхватило Захарии.
— И вас, бояре, жалую, — обратился к рязанцам Ярополк. — Примите и вы за службу верную угодья по Нерли и Пекше…
— Спасибо, князь-батюшка, — дрогнувшими голосами поблагодарили Детилец с Борисом Куневичем, — Несть числа твоим милостям.
Встрепенулся боярин Захария. Распахнул кафтан, обнажив грудь с золотым крестом поверх нательной рубахи.
— А ты, князь, прими-ко в благодарность от раба твоего коня справного Орлика со сбруей и седлом, со всем снаряженьем. Не побрезгуй, прими. Добрый конь Орлик — тебе под стать.
Сказав, понял, что не промахнулся, в самое сердце княжеское угодил. Возликовал про себя: просветила-таки святая богородица, благо, сами же рязанские бояре надоумили. Глянул на всех торжествующе.
Князь даже чару отставил:
— Ну, уважил ты меня, боярин. За Орлика кладу тебе сто гривен… И шубу дарую — носи, не изнашивай.
«Не слишком ли расщедрился князь? — подумал Захария с тревогой. — Как бы не пошел на попятную…»
В сенях поднялся шум. Все повскакали со своих мест, заговорили разом:
— А за нас почто, князь, слова не молвил?
— А за нас?!
— А за нас?!
Задвигались бояре и дружинники, алчными взглядами приникли к Ярополкову лицу. Князь смеялся, утирая губы рушником. Упивался, радовался. Владимирский стол — не переяславский. С легкостью рассудил затуманенной вином головой: а людишки правы — пришла пора делить Андреево наследство. Пусть и оскудеет казна, а за Ярополка бояре постоят. Ведь ежели скинут стрыи Ярополка с владимирского стола, отберут и у бояр угодья.
И, рассудив так, веселый и щедрый, раздавал он пирующим и землю, и леса, и ловища… Вино лилось рекой. Иные уж под стол свалились, иные храпели, упав лицами в солила, иные спали на лавках, а служки, не уставая, все подносили и подносили питье и яства.
Пир закончился, когда совсем стемнело. Ярополк огруз; постельничьи с трудом уволокли его из сеней.
Захария вернулся домой на чужом коне. Отроки сняли боярина с седла, под руки проводили в терем. Захария причитал, звал плаксивым голосом:
— Евпраксиюшка!.. Доченька!..
Дочь боярина Евпраксия, тоненькая, невысокого роста, с большими, будто испуганными, черными глазами на продолговатом лице, с длинной, до пояса, черной же косой, всем обличьем своим похожая на половчанку, открыла дверь в горницу и, остановившись на пороге, строго посмотрела на отроков, поддерживавших отца.
Отроки, оробев под ее взглядом, опустили оседавшего боярина, попятились во двор. Захария причитал:
— Ой, тошно мне! Ой, лихо…
Евпраксия ни слова не сказала, только брезгливо поморщила носик. Взяв отца под локоть, провела его через горницу по узкой лесенке — в ложницу. В ложнице было жарко от только что истопленной печи. Захария совсем разомлел, едва добрел до лавки. Стал скидывать сапоги, повалился на бок.
Евпраксия накинула на него шубу, отворила оконце, чтобы впустить свежего воздуха, задула затрепыхавшееся пламя свечи. Боярин захрапел.
Неслышно, будто по воздуху, проплыла Евпраксия в светелку, села на резную скамеечку к окошку, перекинула косу на грудь. Перебирая ее тонкими пальцами, задумалась. Шестнадцать весен у нее позади. С тех пор как начала помнить себя, знает она и эту светелку, и этот вид из оконца. Мало что изменилось за эти годы в доме боярина Захарии. Разве что разрослась усадьба, да застроилась улица новыми теремами, да вырос за вязами на взгорке златоглавый Успенский собор.
Помнила еще Евпраксия мать свою, половецкую княжну Итверхану. Но мать умерла рано; воспитывала Евпраксию нянька Гудила, старуха с большим горбом, крючковатым носом и усиками над верхней губой. Была Гудила еще Итверханиной мамкой, вскормила ее своим молоком на далеком половецком стойбище, и никто не мог угадать, сколько Гудиле лет. Была она всегда стара и сгорблена, всегда морщинки бороздили ее смуглое лицо, а белые волосы неопрятными космами спадали ей на спину из-под пестрого застиранного платка. Сказывали, когда русские вои, мстя за набеги, промчались с гиком и посвистом по горящему половецкому кочевью, когда голову князя, Итверханина отца, вздев на копье, возили по степи, ушла Гудила за юной княжною в рабство — по своей воле. Гнали вои Гудилу — кому нужна такая старуха?! А она упрямо месила босыми ногами снег и шла, как собака, за далеко растянувшимся обозом. Пожалели ее вои, смягчились, допустили к княжне. А княжна-то как обрадовалась! Бросилась к старой, стала ее целовать, обнимать да что-то лопотать нежное по-своему, по-половецки.
Пленил Итверхану черниговский воевода Зворун, человек буйного нрава и тяжелой руки. Сперва голубил ее, ласкал, а потом, когда наскучила, проиграл в зернь пьянице-огнищанину из Рязани. Уж от того огнищанина попала Итверхана на двор боярина Захарии.
Скоро попривыкла она к своему новому житью — не наложницы, законной жены. Крут был Захария с людьми, а перед Итверханой робел, как робел сейчас перед дочерью ее Евпраксией. Та же спокойная твердость в дочернином взгляде, та же гордая уверенность в себе. На чем поставит, от того, хоть режь, не отступится.
В детстве Евпраксия, всем на удивление, все больше водилась с мальчишками: и на дерево вскарабкается, и проскачет на лихом коне, а если что — то и кулачками помашет не хуже иного парня.
А еще любила она книги. В шесть лет выучилась грамоте, в семь — писала свободно. Отец скрепя сердце — экое напрасное разорение! — заказывал для нее переписывать за немалые деньги редкие книги. Многие из них Евпраксия почти от корочки до корочки помнила наизусть…
Хорошо у Евпраксии в светелке — на окнах чистые занавесочки с вышивкой, на полу коврик цветастый, на коврике растения невиданные вытканы, павлины да жар-птицы. Стол на толстых дубовых точеных ножках придвинут к оконцу, на столе — подсвечник из красной бронзы, круглое медное зеркало, книги с посеребренными застежками и обшитыми кожей досками.
Но весенние запахи — запахи снеговой стремительной воды, молодого листа и прелого глинозема — приносили и в ее светелку залетные шальные ветры.
2
С утра Антонина с Аленкой истопили баню. Натаскали из-под навеса сухих дров, поддали пару. Баня у Левонтия жаркая. Попаришься — помолодеешь на десять лет. А если хворь какая, то и хворь вышибет крепким паром.
Редко мылся Никитка в настоящей бане. Раньше, бывало, все в печи. Истопит мать печь, выскребет с поду красные угольки, поставит шайку с холодной водой, бросит веничек — полезай. В печи тесно, черно. Пошевелишься не так — обожжешь плечи о свод, потом ходишь с волдырями.
А у Левонтия баня просторная, за печью — полки лесенкой. На нижней полке попрохладнее, на верхней — такой жар, что дух захватывает.
Вот туда-то, на самый верх, и вскарабкался Левонтий, позвал Никитку. Стали они друг друга похлестывать веником. Березовые веники, еще прошлым годом заготовленные на зиму, распаренные, пьяняще попахивали лесом. Никитка потянул в себя зеленый дух — хорошо!
— Ложись-ка, — приказал Левонтий.
Никитка лег животом на горячие доски полка, голову положил на руки. Левонтий не спеша обмакнул веник в душистый квас, легонько пошлепывая, прошелся по Никиткиной спине. Кости сразу ослабли, спина приятно обмякла. Левонтий еще раз прошелся — уже пошибче. Горячие листочки сгоняли пот, распаренное покрасневшее тело дышало легко, свободно.
У Левонтия руки ловкие, нежные. Ходили они с веничком по Никиткиной худой спине, будто что лепили из нее. По ногам прошлись, а когда Никитка перевернулся, прошлись по Никиткиному впалому животу.
Под конец Никитка взмолился — совсем обессилел, ни косточки в теле.
— Ну как, хороша наша банька? — довольный, спрашивал Левонтий.
— Ух как хороша!
Потом Никитка стегал веничком Левонтия. Лысеющая голова камнесечца блаженно запрокидывалась, тело сладостно подергивалось под ударами.
Внизу, у печи, стоял жбан с грушевым кислым квасом. Напарившись, мужики пили квас. И снова лезли на полок, и снова стегали друг друга веником. Квас тут же вышибало горячим паром. Поохивая от удовольствия, Левонтий мечтательно промолвил:
— Сейчас бы в прорубь…
Никитка согласился: в прорубь бы сейчас в самый раз. Да где ее сыщешь? Не зима, чай, на дворе — лето глядится.
Из баньки мужики в исподнем прибежали в избу. В избе пахло щами, сытный дух плавал по горнице.
Угощала Аленка. В холщовой рубахе, чистая и румяная, она подавала на стол всякую снедь. Антонина была за гостью, ела, похваливая Аленкино варево. Хвалили и мужики.
Едва покончили со щами, едва испили браги, в ворота требовательно постучали. Велев Никитке припрятаться, Левонтий вышел во двор. На улице ждал его церковный служка.
— Протопоп Микулица спрашивает Левонтия.
— Ну, я Левонтий, — недовольно проговорил камнесечец. — Зачем протопопу понадобился?
— Того протопоп не сказал, а велел быть тотчас же.
Ждет в соборе, — сказал служка, дыхнул луком и попятился.
Хоть виду Левонтий и не подал, но, получив такое известие, встревожился. С чего бы протопопу такая спешка? Аль заказ какой?.. Но мысли склонялись к недоброму. Думалось всякое — время смутное: не донес ли кто?
Вернувшись в избу, задумчиво окинул Левонтий стол. Дочери сказал:
— Собирай, Антонина, одежу — ту, что понаряднее. Протопоп в гости кличет.
Антонина, ахнув, побледнела. Никитка недоверчиво переспросил:
— Неуж протопоп?
— Протопоп — не князь, — сказал Левонтий, стараясь придать голосу твердость. — Заказ, должно. Церковь божья прохудилась…
— Не для заказов время, — покачал головой Никитка.
— И то верно. Ну да ладно. Спасибо, не вязать пришли.
Антонина вынесла лучший отцовский кафтан, сапоги с красным верхом, опушенную мехом высокую шапку. Левонтий молча переоделся за занавеской. Уходя, Никитку отозвал в сени, предупредил:
— В случае чего — уходи по задворкам. У Серебряных ворот постучишься к Пахому. Его изба от ворот третья по левому ряду. Меня назовешь, скажешь, кто таков. Пахома не таись, мужик свой, спрячет тебя покуда. Аленка же пущай у меня переждет. Девка она молодая, рыскать по городу ей ни к чему. Антонина назовет подругой из Гончарной слободы. Покуда разберутся, время уйдет, а там, глядишь, бог нам поможет.
— Ох, боязно что-то, Левонтий, — признался Никитка.
Мастер улыбнулся, ободряюще потрепал Никитку по плечу.
— Недруга порешил — не испугался. Во Владимир шел — не испугался… А коли совсем худо будет, ищи своего скомороха. Скоморохи люди смелые, в беде нипочем не бросят.
С тем и ушел. Время катилось к обеду, заутреня кончилась, у собора народу было мало. Воротнику Левонтий сказал, что идет по зову протопопа; у главного входа в собор его встретил все тот же служка.
На воле день был ясный, солнечный, а за порогом собора — гулкая тишина, прорезанный белесоватым свечением полумрак. Левонтию даже зябко стало, но он догадался, что это от волнения, а не от холода. Воздух в соборе был густой и теплый. Неясно проступали по сторонам золотом отливающие оклады икон, с расписанных богомазами серых сводов глядели глазастые лики Святых.
Чуть забегая вперед Левонтия, служка указывал ему дорогу. Он прошел за боковую нишу, где камнесечцу приходилось уже бывать, когда восстанавливали осевшие закомары, и нырнул в низенькую дверцу. Согнувшись почти пополам, Левонтий последовал за ним.
Все здесь было знакомо камнесечцу, хотя кое-что переделывалось уже без него, но собор строил он.
Что-то пробормотав, служка пропал в полутьме. Едва только он исчез, как Левонтий увидел Микулицу.
Протопоп, без ризы и без рясы, в длинной рубахе, подпоясанной обыкновенным лыковым пояском, сидел на лавке и ел осетра во все блюдо — жирного, подернутого росинками прозрачного студня.
— Пришел, — Микулица тряхнул гривастой, с выстриженным гуменцом головой и скосил, все еще склоняясь над блюдом, мутный, с желтизной и красными прожилками глаз на вошедшего Левонтия.
«Постарел отче», — подумал Левонтий. Последний раз, когда рядились на починку собора, в протопопе было больше достоинства, да и выглядел он помоложе. Может быть, оттого, что принимал камнесечцев после службы — во всем своем нарядном облачении. Тогда взгляд его светился святостью, в глазах еще не остыли вдохновенные искорки, а на плечах была золотом и каменьями, расшитая тяжелая риза. Да, постарел отче, пообвял…
Левонтий подошел к старцу под благословение, смиренно прикоснулся губами к пахнущей осетриной руке.
Микулица был по-домашнему благодушен; глядя на Левонтия, удовлетворенно поглаживал бороду.
— Садись, Левонтий. Испей нашего меду.
Улыбчивые, с хитринкой глаза камнесечца будто спросили: «Аль мед пить звал?» Но отказать протопопу не посмел, сел на лавку, меду испил, похвалил:
— Хорош медок.
— Из Андреевых медуш, — со значением сказал Микулица.
Левонтий насторожился. Но протопоп беседу завязывал неторопливо, начинал издалека. Спросил, не хвор ли Левонтий, не скорбит ли душой, как дом, как дочь.
— Благодарствую, отче. На бога не гневаюсь. Все мне дал, всего у меня в достатке. А о палатах каменных и не помышляю.
— Не князь, помышлять грешно, — оборвал его Микулица. Пристально взглянул из-под тяжелых бровей, неторопливо погладил бороду — от шеи к подбородку. — Дочь здорова ли? — повторил вопрос.
— Здорова. С чего бы ей хворой быть? — недоуменно уставился на протопопа Левонтий. Почудилась ему в глазах старца лукавая смешинка. Гусиные лапки побежали у Микулицы от краешков глаз, побежали и тут же сгладились, уткнулись в уголки седых ресниц. С тоской подумал Левонтий — не пустяшный разговор, разговор с глубинкой. Но, как ни старался, никак не мог угадать, к чему клонит протопоп.
— Красавица у тебя дочь, — продолжал мурлыкать Микулица. — Красавица… Телом бела, лицом красна.
Говорил тягуче, словами усыплял. И вдруг — будто лезвием в глаза:
— Недругам княжеским потатчик!
Побледнел Левонтий, приподнялся с лавки:
— Зря лаешь, отче. Немилости твоей не заслужил.
— Ан заслужил, заслужил, — дискантом закричал старец, уже не сдерживая гнева.
«Вот оно», — неожиданно успокоившись, подумал Левонтий. Но от глаз Микулицы снова побежали гусиные лапки, и Левонтий растерялся. Не знал, что и взять в догадку.
А протопоп уж отвернулся от него, потянулся губами к жбану с медом. Сосал долго, сопя и блаженно вздыхая. Медленно ходил под бородой Микулицы острый кадык. Глазки утонули в опущенных лохматых бровях. «Ох, ох», — повздыхал протопоп, потом, оторвавшись от сладкого жбана, колюче, зыркнул на Левонтия:
— Аль не сладок мед?
— Сладок, отче.
— Ну а коли сладок — пей.
Выпил Левонтий жбан свой до дна, рукавом утер мокрые губы — под неусыпным взглядом протопопа. А зачем звал Микулица, так и не понял.
— Хитер ты, камнесечец.
— Пошто, отче?
Голубые глаза Левонтия ясны, как речные заводи с весенней студеной водой. Не сморгнул, не потупился. Грозного взгляда не испугался, молча уставился на икону на обшарпанной стене. Икона без оклада, покосилась…
Понял протопоп Левонтиев взгляд, покашлял глухо, в бороду.
— Храм божий разграбили. Золотые оклады с икон содрали…
Иль почудилась Левонтию эта боль в словах Микулицы? Но протопоп уже снова глядел на него строго:
— Ну, будя. Поговорили. А теперь — ступай.
Размашисто благословил Левонтия, отвернулся. Камнесечец попятился к дверце, через которую впустил его служка, но протопоп остановил его:
— Не туда. Сюда ступай.
За тяжелой занавесью был другой ход. Отодвигая полог, Левонтий еще раз взглянул на Микулицу. И снова поразился, приметив, как поползли добрые лучики от мутных, с желтинкой глаз протопопа.
У собора уже собирался народ — к обедне. Когда Левонтий выходил, на площади гулко ударило било. Прислушиваясь к нему, камнесечец остановился. Почему-то подумал: «Нельзя оставаться у меня Никитке, опасно. Ежели протопоповы послухи донесли, не донесли ли и князевы?»
И еще такое подумалось: «А что, как упреждал меня Микулица?..»
3
Исправно трудился Фефел на монастырском подворье. Правда, силенок у него было маловато, но с легкой работой он справлялся, вот и решил игумен оставить калику при монастыре.
Свободными вечерами Фефел почти каждый день поднимался в келью Чурилы, скидывал ступни и часами сидел, покачиваясь, против чернеца, глядел, как тот заполняет ровным уставом пергаментные страницы.
Иногда, загрустив, Чурила надолго исчезал, возвращался только под утро, хмельной и насмешливый. Фефел покорно сносил его грубые шутки, раздевал и укладывал монаха спать.
Привязался калика к Чуриле, как собака к своему новому хозяину. Все, что ни попросит монах, тут же бежит исполнять.
Сперва Фефел убирал в кельях. Потом, когда к нему попривыкли сторожа, стал хаживать за ворота вместе с Чурилой — игуменовой печати ему не требовалось, — а если Чурила был пьян или занят работой или просто лень ему было, хаживал в Суздаль один, приносил из города в высоком ведерке мед да густую брагу.
Свел его однажды Чурила с веселой бабой — Вольгой. Бражничали они у Вольги, ели белые хлебы, кислую капусту да пироги с рыбой. Была Вольга дородна, ростом повыше Чурилы, грудаста, сбита так, что и не ущипнешь, лицом кругла, румяна, черноброва, с бесинкой в серых глазах. Одно слово — огонь-баба. Слух был, помер у Вольги муж на другой день после свадьбы, и все хозяйство подняла она своими руками. Ими она и избу рубила, и пироги стряпала, и корову доила. А раз, когда мужики из пригорода задумали сделать с ней недоброе, так погуляла теми же руками по их загривкам, что они долго еще потом вспоминали Вольгу, почесывая ушибленные места.
С Чурилой была Вольга ласкова и податлива. Фефел ей не приглянулся.
— Это где же ты такого сморчка разыскал? — спросила она раз Чурилу при калике. — Мужик не мужик, рухлядь старая…
Фефел не обиделся на ее слова — ко всякому привык. Чурила сказал Вольге:
— Не гляди на лицо, а гляди на обычай. Ты, баба, не бранись. Фефелушка — человек божий. Не по мужескому делу к тебе привел — по веселому. Накрывай-ка ты на стол да угости чем придется… Только поскорей. А то ведь ведомо: бабе лишь бы язык почесать.
У Фефела сердце под рубищем любвеобильное — и старо, да не холощено. А выпьет — и вовсе как дурной. Пришлась ему Вольга по душе. Только куда там!.. Ходил он вокруг нее кочетом, потеха, да и только. Вольга звонким смехом заливалась:
— Что ты, Фефелушка? У кого на уме молитва да пост, а у тебя бабий хвост.
— Не кори его, Вольгушка, — добродушно говаривал Чурила. — Мужик весь век томился. Пожалела бы…
— Сгинь ты, пакостник, — набрасывалась на монаха Вольга.
И еще говорила Фефелу:
— Не коси глаз на чужой квас.
Но не только к Вольге наведывался Фефел в ту позднюю ночную пору, когда отпускал его из монастыря Чурила. Была у калики и другая забота.
Как-то повстречался ему в Суздале поджарый мужичонка с торбицей на спине, с палкой суковатой в скрюченной, как птичья лапка, руке. Столкнулся с ним Фефел, попятился, весь сошел с лица… Хотел бежать, да мужичонка лапкой его — хвать:
— Погоди-ка, постой, старче. Аль знаться не желаешь?
— Да ты-то кто таков? — закудахтал Фефел, а сам уж почуял: пропала его головушка. — Не томи, добрый человек, отпусти. По делу я, по монастырскому…
— В чернецы подался! — обнажил мужичонка хищные зубы в черной бороде, но руки не разжал. — Подь-ко за сруб, поговорить надобно.
Уперся Фефел — ох как заходилось сердчишко, ох как заходилось! — а от мужичонки не освободиться. Признал его, вспомнил: из одной ватаги, тоже калика, да и не калика вовсе — тать, атаман…
На мосточке через Каменку вырвался Фефел, убежал. Вернулся в монастырь без браги. Чурила подивился:
— Ровно бесы за тобой гнались, Фефел. Где же брага?
— Расплескал, батюшка, — повинился Фефел. — Шел по мосточку горбыльчатому, скользнула нога…
Но о встрече — ни слова. Долго потом боялся выходить, все отговаривался:
— Немочен я…
Седмица прошла. На вторую седмицу расхрабрился Фефел, да и по Вольге соскучился. Взял ведерко, выбрался из монастыря в овражек. В овражке тихо, по дну — ручеек да мягкая травка. Радовался Фефел, думал — всех умнее оказался. А в овражке том его и подстерегли. Накинулись сразу трое, свалили, прижали к земле, руки за спиной скрутили.
— Ай ты, коняга старая, своих не признаешь?!
Признал своих Фефел. И мужичонку с черной бородой признал:
— Винюсь, атаман, свет ты мой, Нерадец. Давеча темно было…
— То-то же, — пообмякнув, сказали калики. — А бежать будешь?
— Не.
Развязали калики Фефела, повели овражком к старой крепостной стене. В стене той — лаз, за лазом — землянка. В землянке дух спертый, по краям, на чурбаках, — неструганые доски, на них калики, мужики и бабы. Увидев Фефела, загалдели все разом:
— Попался, отступник!
Грязные руки потянулись к Фефелу, в волосы, в бороденку вцепились. Фефел только глаза прикрыл, не защищался, да и куда уж ему, старому?! Но атаман сверкнул на калик огненным взглядом:
— Не трожьте старца. Старец — мой!
Калики, ворча, расползлись по своим доскам. А Фефела атаман провел во вторую землянку, повыше и попросторнее первой. Лавки здесь были струганые, над входом повешена чистая холстина. В углу — божьи лики, под ликами — лампада, а на столе, врытом в землю, — бронзовый подсвечник с оплывшей свечой.
Не сводя с Фефела злых, настороженных глаз, Нерадец опустился на лавку. Калике сесть не предложил. Долго так разглядывал его в полной тишине. И Фефел разглядывал атамана — со страхом и тоской: боялся его, помнил — тяжела у атамана рука. Было раз — придушил атаман этой самой птичьей сухонькой лапкой такого же, как и Фефел, беглого калику.
«Чур, чур меня!» — мысленно перекрестился Фефел, избегая обволакивающего атаманова взгляда.
— Ты в глаза, в глаза гляди, — прошипел Нерадец.
И стал он потихоньку, исподволь пытать Фефела, как от ватаги отстал да как попал в монастырь. Вызнал и про Чурилу, и про Вольгу. Расспросил, кто стережет ворота в монастыре и много ли в кладовых добра. Надумал было Фефел хитрить, но Нерадец пригрозил:
— Девушка гуляй, а дельце помни!
Суровый закон в ватаге. И блюдет тот закон атаман. Вспомнил Фефел старикашку удушенного и сдался, все выложил Нерадцу: и про кладовые, и про сторожей.
Погладил атаман густую бороду, встал, похлопал Фефела по плечу:
— А теперь ступай, старче.
Думал Фефел — не отпустят. Сильно удивился. Но атаман ударил в ладоши, велел, чтобы нашли ведерко и шелепугу. Фефелу сказал:
— Ты человек нам нужный. Иди, живи как жил, а надо будет — сами позовем… — Он помолчал и добавил: — А ежели проболтаешься, от суда нашего на краю света тебе не скрыться. И в порубе сыщем, и в княжьих хоромах. Ступай.
Едва живой выбрался Фефел из землянки. Не поверил счастью, ощупал себя — цел. Бегом, трусцой засеменил в монастырь. Когда закрылись за ним ворота, вздохнул облегченно: слава тебе, господи!.. А браги Чуриле снова не принес.
— А ну, дыхни, пропойца, — напустился на него Чурила. — Не поверю, что вдругорядь скользнула нога на мосточке. Вылакал брагу?
— Не пил я, — побожился Фефел.
— Врешь!
Взял Чурила давно томившийся в углу тяжелый сосновый посох да и приложил его Фефелу к мягкому месту.
— Пьяное рыло — чертово бороздило, — приговаривал он, гоняя старика по келье. Признавайся, кому брагу снес?
Не позволил он Фефелу в тот вечер остаться в своей келье. Осерчал. Склонился над книгой, часто задышал, неслышно задвигал губами. Фефел постоял, жалостливо глядя на Чурилу, и побрел к себе.
Шел и думал: кончилась спокойная жизнь. Атаман шутить не любит. И уж догадывался, на какое лихое дело нацелил Нерадец ватагу. Не зря выпытывал про монастырские кладовые.
4
Вечер был золотой. Редкие, растянутые по горизонту облака на западе окрашивались в багрец. Тонкие нити солнца ткали на ветвях деревьев причудливую паутину. Церквушки стояли нарядные, как невесты. На причелинах драгоценными украшениями сверкали медные полосы. Но и они постепенно гасли.
Солнце красным щитом упало в Клязьму, закачало на глубинке золотоперые кораблики. Потом ушло наполовину в воду, встретившись со своим отражением, обожгло огнем крест на Успенском соборе и оставило после себя на небе только дымящийся розовый след.
В ремесленной слободе у Серебряных ворот густо брехали обеспокоенные наступлением ночи псы. Псов было много, за каждым забором по псу, они перекликались друг с другом — то неторопливо, деловито, то бойко, то испуганно. Улица затихала, ворота закрывались на засовы, в избах садились вечерять.
Никитка часто оглядывался: от самого Левонтьева дома брели за ними два мужика; шли, таились, пережидали, когда останавливались Никитка с Аленкой. Неспроста упреждал Левонтий. За избой следили.
Больше всего опасался парень за Аленку. Закон суров. Бросят Никитку в поруб, а Аленку отдадут боярину Захарии. Как ей тогда?
Нет, не отдаст он боярину Аленки.
Прошли еще немного — преследователи не отставали. А ночь все густела, наливалась тревожным сумраком.
Остановились. Никитка шепнул девушке на ухо:
— Беги к Радку-скомороху. Найдешь ли избу?
Аленка удивилась:
— С чего это ты?
— Беги, говорю, — поторопил Никитка.
Аленка еще ни о чем не догадывалась. Он подтолкнул ее, а сам спрятался за опору ворот. Притих. Аленка скоро скрылась в конце улицы; в другом ее конце закачались две длинные тени. Подбежав, остановились рядом с Никиткой.
— Упустили, — тяжело дыша, сказал один. — Прогневается боярин.
— Нагоним, — хрипло отозвался другой.
Никитка прикинул: «Ежели будут прытки и дале, не уйти Аленке». Подумав, выскочил на середину дороги, ударил ближнего мужика кулаком в живот. Живот был большой и мягкий, кулак ушел глубоко. Мужик икнул и осел. Второй замахал руками и, закричал. Никитка ударил и его — по лицу. Пока бил да прилаживался ударить еще, первый мужик очухался, схватил Никитку за ногу:
— Попался вор!..
Но не тут-то было. Никитка вырвался, пнул лежащего лаптем под ребро.
— Уби-ил!
На крики мужиков собаки под заборами неистово забились на цепях. Освободившись, Никитка побежал; пробежал немного, задел ногой за корягу, упал. Тут же сзади обрушились на него горячие тела; хрустнули кости в плечах — Никитка охнул и затих. Связав его, мужики долго рядились, кому нести пойманного. Наконец догадались развязать ноги.
— Не боярин, чтоб носить…
Повели Никитку: один впереди идет, тянет за веревку; другой, тот, которому Никитка угодил кулаком в брюхо, — сзади. Злой попался мужик, неотходчивый. Всю дорогу поддавал Никитке лаптем в зад.
Пленника передали ночным сторожам; те, гремя ключами, отвели его к стене и бросили в поруб. Падая в яму, Никитка застонал.
— Ни днем ни ночью нет покоя, — проворчал кто-то в темноте. — Эй ты, человече!
Большая ладонь коснулась Никиткиного плеча. Плечо было вывернуто и горело огнем. Закружилась у Никитки голова, зазвенело в ушах, рот свело судорогой.
— Больно?..
— Ох, как больно, — выдохнул Никитка.
В углу зашевелился третий. Старческий голос прошепелявил скороговоркой:
— Здорово, отеч, братеч, приятель, друг, скажи челобитье поклон: прости, отеч, мать, дедка; батюшка, братеч, сестрича, птича, курича…
— Будет, Ивор, дурить-то, — сказал молодой. — Парню тошно, а ты — скоморошины.
— Скоморошины боль врачуют, сердце радуют, — ответил старик. — Как звать тебя?
— Никиткой.
— Издалече ли?
— Городской я. Из ремесленных. Сподручный Левонтия. Слыхал, поди?
— Слыхал, как не слыхать.
Тихо сделалось в норе. Молодой спросил Никитку:
— Какой день-то седни?
— Четвертый в седмице…
— Вона как, — удивился парень.
По настилу проскрипели шаги, звякнул засов решетки, в поруб упала лестница.
— Который Давыдка из Заборья, выходи, — позвал голос.
Сосед зашевелился, неохотно подался к лестнице. У Никитки сердце забилось — вот-вот выпорхнет из груди: «Аленкин братец!»
А наверху гремели копьем о решетку, сердитый голос поторапливал:
— Выходи, выходи. Аль по сердцу пришлась пуховая перина, вставать неохота?!
Утренний свет ослепил Давыдку. Двор вздрогнул и перевернулся грязными лужами в ослепительно-синее небо. Закружилась у Давыдки голова, закачался он, вцепился рукою в дверной косяк. Покалывая копьями в спину, стражники приводили его в чувство:
— Чо уперся? Бреди знай…
Узкая тропка вела от стены к приземистой избе. У входа над низкой притолокой висели ржавые цепи и клещи. Из-за двери доносились стоны.
Слегка оробев, Давыдка вошел, поморщился. Прямо перед ним, наполняя избу едким дымом, топилась большая печь. Сутулый дядька в длинной холщовой рубахе, кряжистый и чернобородый, дул на рубиновые угольки. На лавке слева сидели дружинники, среди них — весь вишневый от пламени, игравшего в жемчужном и золотом шитье кафтана, — боярин Захария. Посреди избы на полу ворочалось что-то темное, ухающее, как большие кузнечные мехи.
Борода боярина запрыгала от неслышного смеха:
— А вот и еще привели. Хлеб-соль, садись, Давыдка, гостем будешь. Мы бражку пьем и тебе нальем…
Дружинники загоготали.
Давыдку толкнули в спину. Он не удержался и упал на лавку, скользкую от крови. Сопровождавшие его пешцы вышли.
— Жаркая у нас банька, Давыдка, — не унимался боярин. — Венички-то железные…
Он наклонился, вглядываясь в лежащую посреди избы темную кучу, дал знак дружинникам.
Те разом навалились на обреченного, руки вывернули, запрокинули мычащую голову. Голова металась, постукивала затылком о половицы. Давыдка увидел изуродованное лицо. В седой бороде алели сгустки крови.
Давешний дядька зажал в лохматой лапе длинное жи гало, коленом придавил старику грудь. Под коленом захлюпало, захрипело.
Давыдка рванулся, замычал; его тяжело ударили по голове. Он упал в черноту. А когда очнулся, увидел: старик стоял, пошатываясь, посреди избы. Дружинники еще висели у него на плечах, дядька медленно пятился, пряча за спину жигало. Все тяжело дышали. Боярин гнусаво сказал:
— Гляди, Давыдка, как платит князь за измену. Был Вышко верным воеводой — одаривали его гривнами кун, а нынче в руки ему посох и погонят прочь со двора… Надолго запомнит Вышко боярина Захарию.
— Век не забуду, — сказал, пошатываясь, Вышко. В голосе его проламывалась сквозь отчаяние открытая угроза.
Давыдка задрожал всем телом — представил, как и его валят на скользкие доски, за волосы запрокидывают голову.
Но Захария хлопнул себя ладонями по коленкам и поднялся с лавки.
— Ну и надымил ты, дядька, — сказал он сутулому. — Устал я. Да и время к обеду. Пойду — князь звал…
Давно бы уж расправился боярин со своим бывшим холопом, но боялся нарушить приказ Ярополка: держать покуда пленника в порубе. А что Ярополк задумал, ведомо лишь ему одному. Чего доброго, захочет взять Давыдку в дружину, — еще в Заборье приметил Захария, как заблестели у князя глаза, едва увидел Андреева любимца.
Когда бы и здесь угодить Ярополку, непременно быть боярину правой его рукой.
5
На Сидора еще сиверко. Прошли Сидоры, прошли и сиверы. Жаркое подступало лето. Знойными, сухими ветрами тянуло с Мещеры. Несли ветры полынные тревожные запахи, жухла трава по обочинам дорог. В текучем густом мареве неясно выплывали очертания крепостных валов, городницы и вежи словно приподнимались над землей и парили в воздухе. Почти белое солнце висело на безоблачном небе.
Телега Радка простучала по шаткому, выстланному размочаленными бревнами мостку и остановилась перед воротами Вольгиной избы. Заморенная лошаденка склонилась, поводя ушами, над зеленым кустиком травы у скрытой в тени завалинки; Аленка, задремавшая уже перед самым Суздалем, проснулась, растолкала Карпушу:
— Приехали.
На шум из ворот вышла Вольга, приглядевшись, побледнела, радостно приветствовала скомороха:
— Кого вижу! То-то думаю: куры разодрались — к гостям либо к вестям. Прошу в избу: красному гостю красное место.
— Благодарствуем, — с поклоном, сдержанно отвечал ей Радко.
Не впервой скоморох у суздальской вдовицы. Года три, почитай, останавливается у нее на ночлег. По сердцу ему Вольгино гостеприимство, по сердцу и сама Вольга. Да и вдовица не равнодушна к Радку. Нравится ей веселый да ловкий мужик с жгучими глазами, нравится его смелое лицо, его сильные белые руки, шутки да прибаутки, безбоязненные меткие скоморошины.
— Ох, не сносить тебе, Радко, головы, — говаривала она не раз вечерами, сидя после трапезы за столом супротив скомороха и подперев голову по-бабьи обеими ладошками.
— Буде каркать-то, — со смехом отзывался Радко. — Волков бояться — в лес не ходить…
В избе у Вольги было чисто: столы выскоблены, на полу — полосатые дорожки.
Аленка опустилась на лавку, вяло стянула с головы пропыленный плат. Светлые волосы золотым дождем рассыпались по ее плечам. Глянув на нее, Вольга пробормотала с восхищением и завистью:
— Вот так Радко!
— Не про то баешь, Вольга, — сказал скоморох, угадав ее невысказанные мысли. — Горе у Аленки. Мать прибили княжеские слуги, избу пожгли, нареченного в поруб упрятали.
— Ой, сиротиночка, — вздрогнула Вольга, кинулась к Аленке, захлопотала: — Ты уж прости меня, грешницу, худое про тебя подумала. Ты уж прости. Пока умывались гости да пока обедали, солнце склонилось за валы. Радко вышел во двор покормить коня и медведя, Вольга в избе устраивала гостей на ночлег: мужикам постелила в горнице, себе и Аленке — в повети, разделенной на две половины тонкой дощатой перегородкой.
Аленка уснула не сразу — мерещилось всякое перед сном. В тяжелой дреме быль переплеталась с полубредом. То ясно видела Никитку в тот последний вечер, когда за ним гнались боярские служки, то вдруг владимирские улицы превращались в поле, по которому от темного раменья скакали гикающие всадники. Потом, вздрогнув, снова возвращалась к недавнему.
Тогда, спрятавшись в конце порядка, видела она, как набросились на Никитку мужики, слышала глухие удары, неясные озлобленные голоса. Хотелось кричать, но заколыхнуло, перехватило дыхание — только привалилась она спиной к частоколу, замерла, окаменела от страха. Когда стихли голоса, побежала по улице, закружила в узких темных переулках… Очнулась на просторной площади. Все здесь было теперь для нее ново: пузатые избы, насупленные терема, зубастые частоколы… Ветер упал с облачного серого неба, рванул сарафан, сорвал с головы повой — она и не заметила. Обмякшая, простоволосая, побрела к Медным воротам, слабой рукой постучалась в знакомые ворота. Потом все мешалось и путалось у нее в голове. Помнила только чье-то лицо, слышала чей-то шепот. Когда пришла в себя, под утро уже, увидела Карпушу — мальчик, покачиваясь, сидел у ее изголовья, напевал что-то надтреснутым, слабеньким голоском. Рядом, у печи, возился Маркел. Увидев, что Аленка очнулась, он улыбнулся ей, почерпнул поварешкой дымящегося варева из горшка, поднес ей полную миску:
— Похлебай покуда. Легче станет.
У горбуна были добрые зеленоватые глаза. Тонкое и бледное лицо его выражало сострадание. Есть Аленке не хотелось, но, чтобы не обижать заботливого Маркела, она все же проглотила несколько ложек безвкусного варева.
Пришел Радко. С немалым трудом выпытал он у Аленки обо всем, что случилось с Никиткой. Выслушав ее, насупился, помрачнел. Знать, почуял скоморох недоброе, потому как сразу отправился запрягать телегу.
Всю дорогу, до самого Суздаля, Аленка была будто каменная. Радко поглядывал на нее с тревогой. Но мыслей ее не нарушал. Молчали и Маркел с Карпушей. Одна только Вольга и расшевелила Аленку. Быстрая и говорливая, она без труда расположила к себе девушку. Когда укладывались в повети, доверительно рассказала ей про Радко, про то, как познакомилась с отчаянным скоморохом.
— Выручил меня Радко, от сраму уберег.
— Да как же это? — заинтересовалась Аленка.
— Повадился тут ко мне черт лысой, сотник из боголюбовских полчан. Плюгавенький такой, слюнявый. Все подарками умасливал, похотливый козел. То сам придет, а то служек засылает. Встренется — ухмыляется, что кобыла, на овес глядя. Оно и ведомо: седина в бороду, бес в ребро. И так со мной, и эдак. А раз едет хмельной на коне, увидел меня у вала — с коромыслом по воду шла — да и приказывает своим борзым, боголюбовским полчанам: возьмите, говорит, девку, ко мне в избу волоките… Полчане — что: полчане, известно, народ подневольный. Подступились ко мне. А я их — коромыслом. Не пойду, отвечаю, потому как сотник ваш не мужик, а вонючий козел. Ну, полчане напервой все смехом да смехом, а после осерчали, видать, повалили меня наземь и — руки ломать… Сотник тут же сидит на коне, глядит на весь этот срам, смехом захлебывается. Я — в крик. Сотник им и советует: «Мужланы, говорит, непутевые, вы ей тряпицу-то в рот суньте». Послушались сотника, сунули тряпицу, бросили на коня. Поехали. Едучи, потешаются: «Ай да бабенка! Ай лал, бел алмаз, зелен изумруд». А мне каково? До шуток ли, коли крючком под жабру хватают!.. Да, видать, на зачинщика бог, хоть я и не мастерица судибоги класть. Радко тут случаем оказался. Хватил одного полчанина кулаком по голове, другой уж сам побег. А сотника отпустил с миром: ты, говорит, езжай-ка, старикашка, покуда кости целы…
Заметила Аленка — гордится Вольга Радком. Рассказывает, а у самой глаза блестят, румянец розовит щеки.
Ночью услышала Аленка шепот за перегородкой. Жарко забилось сердце; приподнялась на рогоже, вслушалась в темноту.
— Ой, люб ты мне, Радко. Останься в Суждале, — шептала Вольга. — Хозяевать будешь. Двор, погляди, какой…
— Не по нутру мне это, — отвечал скоморох. — Все равно затоскую, сбегу…
— Останься, — просила Вольга.
В оконце луна проливала серебряный свет; легкий ветерок задувал в поветь ночные лесные запахи.
— Останься, останься, Радко.
— Да не один я, Вольга.
— И Карпуша пусть остается, и Маркел. Не обижу, привечу, как родных…
— Знаю, добрая ты.
— Останься…
Вольга надсадно заплакала. И слезы ее упали на Аленкино раненое сердце. Застонала Аленка, прижалась лицом к пропахшей мышами рогоже. Снова вспомнился ей Никитка. И она разрыдалась — впервые с того дня, как рассталась с родным Заборьем.
6
С утра атаман прогонял калик на работу. Шли калики по городу, шли по деревням, что вокруг Суздаля, пели священные песни, показывали струпья, трясли лохмотьями — просили милостыньку. Калики — люди убогие, никто им не отказывал, подавали кто что мог. А вечером атаман сам делил добычу.
Но в тот день немало дивились горожане. Не было калик ни у собора, ни на площади, ни в слободе. Лишь несколько тощих оборванцев с давно немытыми лицами, с нечесаными бородами сидело перед монастырскими красными и перед банными воротами. Долго сидели калики — ждали, пока не выйдет трапезарь и не оделит их, по обычаю, хлебными укругами с монастырского стола. А получив укруги, побрели прочь. Вратарь посмотрел им вслед, зевнул, перекрестил рот и прикрыл дубовые створы. Едва пристроился вздремнуть, откуда ни возьмись — вынырнул Фефел. Не по душе был вратарю пригретый Чурилой старикашка — сам тощий, в чем душа держится, а глазки твердые, злые. Прикинулся вратарь, будто спит, но Фефел растолкал его:
— Отворяй.
— И где тебя носит… — проворчал вратарь, по засов отодвинул и Фефела выпустил.
А Фефел, выйдя за ворота, побрел, по обычаю, в слободу — знакомой дороженькой прямехонько к вдовице Вольге. Постучал в ворота — никого; поглядел в щель и присел от испуга и изумления. Посреди Вольгиного двора — медведь: стоит на задних лапах и смотрит прямо на Фефела, хоть и не видит, а чует чужого человека, мордой поводит, скалит зубы. У Фефела так и помертвело все внутри. Не подумал, что к чему, попятился от ворот и пустился наутек.
У деревянной церквушки в Гончарной слободе толпился народ. Из-за спин доносился знакомый голос:
— Братия во Христе!..
Работая направо и налево острыми локотками, Фефел протиснулся вперед.
В пыли и навозе перед самыми церковными ступенями сидел безногий калика в рубище. Грязное тело его было обнажено, перекручено натуго толстой кованой цепью. Калика трясся в падучей, скреб грудь скрюченными ногтями и, запуская пальцы к животу под цепь, извлекал оттуда что-то красное, смрадное, падавшее на землю тяжелыми сгустками.
— Кровь, кровь, — шептали мужики со страхом.
— Плоть умертвляет, — пояснила баба. — Ишь, отваливается кусками…
Все боязливо крестились. Фефел узнал в калике Порея из нерадецкой ватаги, любимца атамана. Хитрый мужик. И никакую плоть он не убивал. А просто перед тем, как отправиться за подаянием, мелко изрубил коровью печень, дал ей выстояться до смрада, а после облепил себя той печенью и поверх намотал цепь.
Порей тоже узнал Фефела, — понял это Фефел по его взгляду. Но тут же калика изогнулся весь, хрипя, повалился на бок, забился в пыли. Мужики отпрянули от крыльца.
Накувыркавшись, Порей затих, прислушиваясь к звону падающих в шапку монет. Люди расходились. Скоро у церкви остался один Фефел. Только тогда Порей поднялся, вытряхнув из шапки, быстро распихал в лохмотьях добычу. Гремя цепями и все еще судорожно подергиваясь, побрел к городскому валу. Фефел потащился за ним.
Оглядевшись на валу, Порей нырнул в лаз. Нырнул в лаз и Фефел.
Нерадец встретил калику ласково, предложил сесть, налил меду:
— Пей, не монастырский — без укропу.
Фефел выпил мед, Нерадец сел напротив:
— Чем порадуешь?
— Нонче в самый раз будет, — сказал Фефел, слабея под взглядом атамана. — Отворю вам банные ворота, а там — бог в помощь.
— Хитрой, — сдвинул густые брови Нерадец. — Ворота отомкнешь и проведешь до бретьяницы.
— Все исполню, атаман, — покорно пробормотал Фефел.
Нерадец велел кликнуть Порея. На клич его явился калика, уже без цепей, но все еще грязный и смрадный, насмешливо окинул Фефела быстрым взглядом. Склонился перед атаманом. Нерадец сказал:
— Потряси лохмотья-то.
Порей потряс лохмотья. На землю посыпались монеты. Атаман сгреб их, несколько монет кинул Порею.
— Вот тебе и помощник, — обратился Нерадец к Фефелу. — Сам видишь, человечек надежный.
Вернулся Фефел в монастырь после обедни. Монахи сидели в трапезной за длинным дощатым столом. За отдельным столом восседал игумен и с ним еще восемь монахов, по правую руку от игумена — Чурила. Через щель в двери, что вела в пекарню, было видно все, что творилось в трапезной.
— Благослови, бог наш, ныне и присно, — проговорил служивший за трапезой священник.
Послышалось монотонное чтение молитвы. Уставив нетерпеливые взгляды на стол, монахи скрипели лавками. Все оживились, когда в проходе появились трапезари с глубокими дымящимися мисками в руках. Трапезари ставили миски на столы, в то время как чтец, склонившись над книгой, продолжал неторопливую молитву. Монахи блаженно жмурились, вдыхая вьющийся над мисками пар, но к еде не притрагивались.
Наконец старший трапезарь торжественно возгласил:
— Господи, благослови, помолимся.
— Христе боже, молитвами отец наших благослови брашно и питие наше, ныне и присно-о, — пропел священник.
Старший трапезарь ударил в блюдо. Тотчас же к игумену приблизился кутник и, приняв от него благословение, стал обходить братию с большой двуухой чашей. За кутником в некотором отдалении следовали подкутники со жбанами. Кутник наливал каждому монаху вина, а подкутник тут же разводил его укропом. Когда вино было налито всем, монахи встали и вразнобой потянулись со своими посудинами к игумену. Игумен осенил их крестным знамением — монахи выпили вино и, стуча ложками, принялись за еду.
Фефелу тоже захотелось есть, но за общий стол его не пускали. Поэтому он спустился в поварню, наполненную чадом и дымом. Монах, стоявший у котла, плеснул ему варева, положил сверху на миску толстый ломоть хлеба. Быстро перекрестив варево и хлеб, Фефел пристроился на пороге и стал есть. Ел он торопливо, приложив губы к краю миски и выгребая содержимое в рот хлебной корочкой и пальцами. Варево текло по бороде и рубахе, но Фефел не замечал этого. Так же быстро расправился он и с сочивом. Наевшись, похлопал себя по животу и поклонился монаху.
— Бог напитал, бог, — проворчал монах.
Фефел снова вернулся к трапезной. Монахи уже сложили на столы пустые миски с укругами — остатками хлеба.
— Господи, благослови, — проговорил игумен.
— Благослови бог, питаяй нас, — проговорили вслед за ним монахи.
Игумен, воздев очи горе, сотворил над мискою крест:
— Христе боже наш, исполни избытки раб своих и нас помилуй, яко свет еси, и ныне и присно-о…
— Аминь, — подхватила вся трапезная.
Старший трапезарь, получив благословение игумена, поднял свою миску и сотворил ею крест, говоря при этом:
— Велико имя…
— Святыя единосущныя троицы, — протянули монахи.
— И сохранит всех нас…
— Аминь!
— Над всем благодарим отца и сына и святого духа, и ныне и присно…
— Аминь!
Сотворили молитву. Монахи, подбирая рясы, выбрались из-за столов и направились к церкви. Фефел, еще немного покрутившись возле трапезной, выбежал во двор. Монахи уже расходились по своим кельям — иные читать требники, иные учиться грамоте, а те, что обучены были ремеслу, спешили вернуться к работе.
Фефел постучался к Чуриле.
— А, заселшина, — приветствовал его монах, лежа прямо в рясе на серой, продранной во многих местах сук мянице. — Что-то не видно было тебя с утра. Аль повадился в посад?
Вздумал было Фефел упасть перед Чурилой на колени, вздумал сказать о замыслах Нерадца. Страх замучил. Смекал: коли схватят атамана с каликами, никто не пронюхает, что это его донос. Но насмешливый тон Чурилы остановил его.
А Чурила был сыт, три чаши выпитого за трапезой вина с укропом бродили у него в животе, хмель ударял в голову.
— Готовя тебя, заселшина, к жизни праведной, вот что скажу тебе из преподобного митрополита Георгия, — не глядя на Фефела, лениво поучал его Чурила. — Яко законная женитва богом законна, пища и питие в меру не осудит человека, аще бо речет: ясте и пийте, все во славу богу творите…
— Не монах я, — жалостливо пропищал Фефел, все еще соображая, как объясниться с Чурилой. Камнем лежало на душе задуманное. Виделось страшное — огонь и кровь. И в огне этом, как подстреленная птица, — размахивающий рукавами рясы, объятый пламенем Чурила. Почто встретил Фефел Нерадца, почто согнулся под его суровым взглядом?! Жить бы ему при монастыре — тихо, спокойно жить. Носить Чуриле мед, наведываться к Вольге в посад… А нет же, попутала нечистая. Навела на грех…
— Ты, заселшина, мне не мешай-ка, — сонно пробормотал Чурила, — Гляди, поклонило ко сну. Вздремну-ка малость.
Фефел снова вышел на монастырский двор. Побродил без цели. Покрутился перед пекарней. Возле пекарни стоял воз. Двое монахов сгружали с воза высокие кадки с мукой.
— Подсоби, — попросили Фефела.
Фефел покорно подставил спину. Кадка была не очень тяжелой, но неудобной — он покачнулся и на полусогнутых ногах спустился по каменным ступеням вниз. Вторая кадка показалась тяжелее. Сгрузив ее, Фефел долго не мог отдышаться. В глазах круги поплыли, ударили в затылок звонкие молоточки. Рукою, влажной и холодной, как лягушка, коснулся лба. В полумраке кладовой померещились атамановы немигающие глаза.
— Ослаб, старче, — посмеивались монахи, прытко пробегая мимо него с кадушками на спинах. — Ступай уж, тебе ли с нами тягаться?! Подмога от тебя не велика.
Послушался Фефел монахов, выбрался на солнышко, глотнул живого весеннего воздуха. Время текло медленно.
Разгрузив телегу, монахи отпустили возницу. Неторопливо ворочая колесами, телега выехала за ворота.
Фефел постоял немного на дворе, поскреб под мышками. До захода солнца еще далеко, можно и вздремнуть. Он пробрался в свою конуру под лестницей, что вела в монастырскую трапезную, забился там на рогоже в лохмотьях, но, как ни старался, заснуть не смог: тревожили давешние видения, пугала приближающаяся ночь.
7
Как сговорились с Нерадцем, так Фефел и сделал. Едва отстучало било, едва отпели монахи вечерню и отправились ужинать, он пробрался к банным воротам, отпер их и два раза прокрякал в темноту.
Тотчас же за оврагом ожили смутные тени. Подкрались к монастырской стене, замерли в отдалении. Порей, с топором в левой руке, схватил Фефела за локоть, сдавил до боли, прошипел в самое ухо:
— Веди.
Услышав это, ослаб Фефел, сполз на землю, обхватил Порея за коленки:
— Не губи, родименький, отпусти душу на покаяние…
— Старый ты греховодник, — отпихнул Фефела атаманов сподручный. — Веди, ну!
— Боязно…
— Веди.
У Порея душа суше сухого дерева. Знал это Фефел. Знал и боялся сподручного пуще самого атамана. Много, ох много крови было на Пореевых руках. Там, где атаман брезговал, Порей делал мокрую работу. И все ножичком, ножичком… Ножичек у него длинный, жало острое. А топориком он только баловался, с топориком шел на большое дело.
Тихонько подвывая, Фефел отступил к воротам. Порей двинулся за ним, сзади потянулись обросшие волосами, нечесаные мужики.
Калики пересекли двор, Фефел указал им на двери под трапезной. Порей оттолкнул его, сам первым сошел, ударил в полотно топором. Фефел ахнул, задрожал весь, на коленках отполз к стене, торопливо крестя лоб.
Вдруг удары смолкли, в двери показалась лохматая голова Порея.
— А добра-то, добра-а…
Из трапезной доносилось разноголосое пение монахов. По молитвам Фефел знал, что трапеза близится к концу. А люди Порея медлили, набивая монастырским добром свои дорожные сумы, боялись, что мало возьмут, что другим достанется.
Вот и последнее «аминь» донеслось из узкого оконца, и на лестнице послышались шаги. Впереди, как всегда, шел игумен, за ним — иеромонахи и дьяконы…
Прижавшись к стенам, мужики изготовили топоры.
Не замечая их, игумен вышел на крыльцо. Чтец бормотал молитвы, монахи смиренно следовали за пастырем. Так бы они ничего и не заметили, если бы одного из калик не разобрала перхота, — игумен вскрикнул, молитва оборвалась, монахи, прыгая через перила, побежали в кельи за оружием.
Хватая награбленное и толкая друг друга, мужики повалили к банным воротам. Кто-то в сутолоке ударил Фефела. Пискнув по-крысиному, Фефел ткнулся носом в землю, а когда поднял голову, увидел Чурилу.
Скинув рясу, с топором в руке, монах нагонял тех, что были нерасторопнее. Вот мужичонка с большим мешком на спине подкатился к нему под ноги. Сверкнул топор — мужичонка упал, из мешка посыпались серебряные подсвечники. На самого Чурилу навалились двое, пробивая себе дорогу к воротам. А от келий уже поспешали монахи — кто с палицей, кто с копьем. Скоро во дворе стало тесно. Белая исподняя рубаха Чурилы замелькала в толпе. Игумен, стоя на высоком крыльце, благословлял монахов.
Фефел, едва жив, выполз за ворота, скатился в овраг. Крапива обожгла ему лицо и руки. Часто бормоча, Фефел подгреб на четвереньках к стене, приподнялся, вглядываясь в темноту. От монастыря еще доносились крики; далеко были слышны торопливые удары била. В посаде нарастал неясный гул. Приближаясь, гул распадался на многие голоса — к монастырю двигалась большая толпа.
Фефел снова скатился в овраг и по дну его стал продираться к Вольгиной избе. Сколько раз уже хаживал он этим путем, а теперь не узнавал, не мог отыскать знакомой тропинки.
Возле самой Вольгиной избы его окликнул незнакомый мужик. Фефел испуганно остановился.
— Что в монастыре, старче? — спросил мужик.
— Беда, — сказал Фефел. — Темные люди монахов избивают, взламывают бретьяницы…
Мужик хмыкнул в бороду, рванулся во двор, выскочил с дубиной.
— Куда ты, Радко?! — вслед ему крикнула баба. В бабе Фефел сразу признал Вольгу, упал на колени, сунулся головой в траву.
Аленка тоже выскочила на улицу, помогла Вольге поднять старика. Вдвоем они едва заволокли его во двор.
— Напился, старче? — брезгливо спросила Вольга.
Фефел повел мутным взором. Внеся в избу и бросив его на лавку, бабы перевели дух.
— Сразу видать: куда конь с копытом, туда и рак с клешней, — сказала Вольга, подозрительно разглядывая калику.
Очнувшись, Фефел повалился на пол. Поведя жухлой бороденкой по доскам, завопил не своим голосом:
— Винюсь!
Подивились бабы.
— Да в чем винишься-то, батюшка?
— Винюсь! Я один во всем виноват… Ой, тошно мне. Надену схиму, уйду в леса грехи замаливать. Простите и вы старика.
Не успел кончить — на дворе зарычал медведь. Заухали половицы под тяжелыми шагами многих людей. Дверь распахнулась, и в избу ворвалось трое мужиков при топорах.
— Атаман! — закричал Фефел неистово, хотел привстать с пола, но тут же рухнул, обливаясь кровью, хлынувшей из рассеченного наискось черепа.
— Баб вязать! — приказал Нерадец.
…Радко вернулся из монастыря под утро. Удивило его, что ворота во двор распахнуты настежь. Встревожился скоморох, почуял неладное. Вбежал в избу, а там в полутемном углу — давешний старик…
Обмер Радко, бросился на поветь, откуда, как ему показалось, послышался не то плач, не то стон. Отворив одним махом дверь, разглядел Маркела и маленького Кар пушу. Перед ними на рогоже, брошенной на пол, лежала Вольга — бледная, в продранном, помятом сарафане. Когда она увидела Радко, лицо ее, покрытое синяками, передернулось. Отвела Вольга глаза, закусила губу, тихонько заскулила.
Маркел рассказал скомороху обо всем, что случилось в ночь. Он и Карпуша спаслись потому только, что были во дворе и, завидев незнакомых мужиков с топорами, спрятались за телегой.
— А где же Аленка?
— Увели Аленку, — простонала Вольга. — Увели красавицу нашу. Не уберегла я ее, Радко, сокол мой ясный…
Сказав, снова закусила губу, отвернулась к стене. Сколько ни старался Радко, так и не смог больше добиться от нее ни слова. Больно было ему за Вольгу, обидно: такую бабу испортили. Так оно, значит, получается — монахов побег выручать, а своих не защитил от ворога.
Днем Радко сходил в монастырь, привел Чурилу. Чурила сразу признал в убитом своего заселшину. Фефела отнесли, чтобы спеленать и схоронить по всем правилам.
— Хоть и хлипкой, а — человек, — сказал Чурила.
Вечеряли впятером — монах остался у Вольги. Грустно и пусто было в ее когда-то веселом доме.
Утром Радко посадил на телегу Карпушу, помог удобнее устроиться Маркелу и выехал со двора. Вольга провожала его от ворот долгим потерянным взглядом.
8
Шел май. С севера, с суздальской стороны, тянулись пузатые тучи, мели хвостами по размокшей земле. Дороги раскисли, возы с трудом выбирались из вязкой грязи.
Серо и тихо было на владимирских узких улочках. Люди попрятались в избы, сидели при заволоченных оконцах в свете лампад и чадно дымящихся лучин.
В такую погоду хороший хозяин и собаку-то не выгонит во двор, а Левонтий целыми днями пропадал у кожемяки Володаря, возвращался домой продрогший и хмурый; лежа на печи по ночам, не спал, сопел под кислой овчиной. Утром, похлебав горячего, уходил снова — до сумерек.
Володарева изба у Серебряных ворот полна была народу. Люди сидели вокруг стола и вдоль стен — по лавкам.
Вздыхая, говорили о трудном житье-бытье, о безвременье, о засилье пришлых ростовских и рязанских бояр. Уже не первой ендовой обносил гостей хлебосольный хозяин, а они так ни до чего и не договорились, так и остались каждый при своем. Одни предлагали идти к князю просить защиты от своевольной дружины; другие — слать послов в Великий Ростов; третьи, самые молодые и самые горячие, доказывали до хрипоты, что надо идти на поклон к Михалке и Всеволоду: «Михалка клялся владимирцам. А раз так, пусть возвращается. Владимирский стол принадлежит ему по праву». Последних подстрекал Володарь. Володареву сторону держал и Левонтий.
В тот вечер должны уж были решить все окончательно. Ждали протопопа Микулицу.
По крыше избы стучал дождь, холодные брызги задувало на порог. Ветер, врывавшийся в щели плохо заволоченного оконца, трепал жидкое пламя лучин.
Володарь, высокий, узкий в талии, слегка сутуловатый, оглядывал гостей косящим взглядом, одним ухом прислушиваясь к застольной беседе, другим — к звукам, долетавшим со двора. Уже не раз выбегала на крыльцо жена Володаря, Лея, низенькая толстушка с розовыми, натертыми свеклой щеками и пышной косой, скрученной на затылке в тяжелый венец. Но протопоп запаздывал, и скоро все за столом замолчали. Не шел больше и мед — не пил хозяин, воздерживались гости.
Совсем поздно — уж к полуночи было — в ворота постучали. Услышав стук, гости оживились, задвигались на лавках. Володарь, накинув на плечи женину шубейку, выскочил за порог. На крыльце раздался топот ног, дверь распахнулась.
Микулица вошел первым — в черной рясе и Вымазанных глиной высоких сапогах. В холеной бороде протопопа блестели капли дождя. Из-за спины его выглядывало чернявое подвижное лицо Володаря, за Володарем в сенях стояли протопоповы служки.
— Мир дому сему, — громко провозгласил Микулица и, взмахивая широкими рукавами рясы, перекрестил собравшихся.
Все, кто был в избе, с почтением поклонились протопопу. Вразнобой заговорили:
— Благослови, отче.
— Пожалуй, отец наш, к столу, — пригласила хозяйка.
Опередив ее, Володарь почтительно, но с достоинством проводил Микулицу в красный угол, под образа. По знаку протопопа служки сели с другого конца стола, поближе к двери. По тому, как топорщились на них рясы, Левонтий догадался, что под легкими рясами у служек надеты кольчуги.
Сначала, по обычаю, о серьезном не говорили. Лея, сияя от гордости, приносила и ставила на стол блюда с жареными гусями. Володарь, сев рядом с кадушкой, палил гостям по большой чаше меду, протопопу первому. Микулица прочел молитву, перекрестил свою чашу и выпил ее разом до дна. Потом все приступили к еде. Поев, выпили еще по чаше. Володарь зорко следил за тем, чтобы гости не хмелели.
Покончив с трапезой, вымыли руки в глиняном тазу, которым обнесла всех Лея. Серьезный разговор начал Володарь. Перво-наперво он осведомил протопопа обо всем, что предлагали мужики. Никому не отдал предпочтения, никого не обидел.
— Теперь, отче, слово твое. Как скажешь, так и поступим.
Микулица не спешил. Прищурив припухшие глаза, он долго смотрел на собравшихся, потом медленно, нараспев стал жаловаться — бояре-де притесняют, житья от них никакого. Не поминая имени князя, назвал дружинников его «псами алчными», проклял тех, кто поднял руку на святыню — икону Владимирской божьей матери, кто посягнул на церковные и монастырские угодья.
— Да покарает их перст божий, — проговорил он. — А вам, люди, вот совет мой: смирите гордыню свою, поклонитесь князю Михалке. Скажите ему так: понеже ты есть старейший ныне во братии и сыновцах твоих и тебе по праву владеть русской землею, просим, чтоб ты с братом Всеволодом пришли с войском своим, а мы готовы вам все по крайней возможности помогать. Ежели же ростовцы и суздальцы с нами не будут согласны и пойдут на нас, то мы, уповая на нашу правду и милость божию, не утаяся, против них встанем и за вас головы свои положим…
Тихо сделалось в горнице. Так тихо, что слышно было, как потрескивали лучины, а за окном шумел по лужам порывами налетавший дождь. Володарь первым нарушил молчание:
— Что думаете, горожане? Согласны ли с протопопом вашим?
— Мудро сказал протопоп, — послышались сначала робкие, а после совсем уж окрепшие голоса. — Чего там, пора снаряжать послов.
— Пойдут ли людишки с нами?
— Людишки пойдут. Только слово скажи. Намаялись…
— Михалку знаем — справедливый князь.
— Убийцам Андреевым спуску не даст…
Довольный Володарь погладил бороду, улыбнулся умными глазами, обвел взглядом сидящих, остановился на Левонтии.
— А что скажут ремесленники?
— Ремесленники с Андреевыми братьями. Который месяц уж сидим без дела — как бы руки не отсохли.
За столом добродушно засмеялись. Кто-то сказал:
— Дело решенное. Налей еще по чаше, Володарь.
— Налить-то можно. Да мед от нас не уйдет. Выберем наперед гонцов — кому скакать в Чернигов.
— Кому скакать, известно — тебе, Володарь, и скакать.
— А сподручных сам себе подберешь…
— За сподручными дело не станет.
— Лей меду!
— Лей!..
— Ну, вы тут маленько попируйте, а мне на покой пора, — сказал Микулица.
— Что так, отче? — обиделись мужики. Потянулись к нему с чашами.
Протопоп улыбнулся:
— Не могу — не молод я, чай, а заутра соборный молебен. Вечеряйте без меня.
Служки поднялись, Микулица благословил оставшихся. Володарь проводил протопопа за ворота, спросил:
— Неспокойно в городе. Может, дать кого из молодцов?
— Э, да мои служки десяти твоих молодцов стоят, — отмахнулся Микулица.
Хорошо знали во Владимире протопопа. Пришел он из Киева вместе с князем Андреем Боголюбским. Женат был на простой девке. Взял ее себе еще по старому обычаю, а когда постригся в попы, крестил и жену, венчался с нею по-православному. Пить зело крепок был, а как приметил его епископ Феодорец, к меду стал прикладываться только по праздникам, да и то выпивал не более трех чаш зараз. Феодорец и нашептал Андрею Боголюбскому поставить Микулицу протопопом во вновь отстроенную церковь Успения божьей матери, уже после того, как патриарх константинопольский Лука Хризоверг отказал князю в его попытке учредить у себя на севере собственную митрополию.
В миру Микулица был так же прост, как и до посвящения в протопопы. Любой, нуждающийся в духовном утешении, мог найти у него и мудрое слово, и добрый совет. Запросто бывал у него и князь Андрей. Случалось, допоздна засиживались они за шахматами, хитрой игрой, привезенной в подарок князю заморскими купцами.
Вот почему так скорбел Микулица о кончине Андрея. И еще скорбел потому, что видел в нем не просто человека, но мужа, стремившегося к возвеличению милого сердцу Микулицы Владимира. На глазах у протопопа преображался город; на глазах его оброс высокими валами с щетиной дубового частокола, опоясался глубокими рвами, украсился дивными соборами и церквами. Мечтал князь собрать вокруг Владимира и Мономаховичей и Ольговичей — встать неприступной крепостью на пути кочевников.
Внутренне чувствовал Микулица, простым умом своим понимал — без единения рухнет вся эта красота, осквернят, растопчут ее поганые. И если не Андрею, то, может быть, Михалке или Всеволоду удастся осуществить задуманное старшим братом?..
Постарел Микулица, одряхлел телом. Не удержат руки меча. Слабеет и память. Доживет ли он до светлого дня? Увидит ли землю свою возвысившеюся и могучей или на склоне дней суждено ему брести по полю, усеянному телами сородичей, — на вороньем черном пиру?..
9
Вернувшись от Володаря и отходя ко сну, вдруг ни с того ни с сего вспомнил Левонтий чернеца Евлампия. Увидел все как было: и келью с птицами в клетках, и старые книги, и высокий лук с кожаной тулой, торчащий из-за божницы. Даже уловил запах горелого деревянного масла, исходивший от спокойно чадящей под образами лампадки…
«Чудно, — подумал он не без страха. — С чего бы это вдруг вспомнился Евлампий? Уж не знак ли какой? Уж не зовет ли чернец к себе?»
Откуда было знать Левонтию, что еще с вечера следили подосланные Ярополком люди за его избой?! Вышел он на следующее утро как ни в чем не бывало, отправился в Гончарную слободу. Не прошел и сотни шагов, как окружили его княжеские дружинники, оттеснили к обочине.
— Вяжите, да побыстрее! — приказал им сотский.
Подался Левонтий в одну сторону, подался в другую.
Дружинники незлобиво посмеивались:
— Попалась птичка в перевесище…
— Будя вам рты разевать-то, — рассердился сотский, с опаской поглядывая по сторонам. — Сказано: вяжите!
«Вот оно, знамение-то», — вспомнил Левонтий. Дружинники долго не возились, ловко скрутили его — дело для них привычное.
Вокруг собрался народ. Мужики, нахохлившись, с любопытством глядели на Левонтия. Сзади слышались голоса:
— Почто старика вяжете?
— С молодыми не сладили, за стариков взялись?!
— Отпустите камнесечца!
Голоса становились все громче, теперь уж роптали все. Побледнев, сотский ударил по лицу плетью молодого горшечника:
— В поруб захотел?! А ну, вяжите и ентово. Там разберемся.
У мужика красная полоса набухла поперек щеки. Сверкнули потемневшие глаза. Не успел сотский и шага к нему сделать, как повисли на нем две тяжелых руки. Рванулся он — не вырваться, посмотрел по сторонам — две бороды, на головах малахаи. Мужики улыбчивые, но держат крепко.
— А вы что глядите?! — обернулся сотский к смущенно топтавшимся в стороне дружинникам.
Те и глазом не повели: самим быть бы вживе. Толпа становилась плотнее. Дружинники отступили, потянули из ножен мечи.
— Не балуй, ребята. Сто-опче-ем! — покатилось из толпы.
Сотский изловчился, взмахнул коротким ножом. Тот, что стоял рядом с ним, курчавый, в потертой однорядке, схватился за грудь — посыпались на дорогу деревянные застежки.
— Убили-и!
— Степана убили-и!
Толпа заволновалась. Кто-то оттолкнул Левонтия. Из-за беспорядочно двигавшихся спин мужиков камнесечец видел, как подымались и опускались кулаки. Потом толпа замерла и расступилась. В образовавшейся пустоте на дороге, упершись затылком в венец сруба, лежал, будто пьяный, сотский. Был он мертв; меховая шапка с алым верхом валялась рядом.
— Кончай и ентих! — истошно завопил надрывный голос. — Айда в поруб, братьев ослобонять!
Толпа мстительно гудела. Расправившись с дружинниками, оставив на дороге еще четыре трупа, мужики двинулись к княжеской усадьбе. Издалека увидев их, воротник засуетился, хотел задвинуть полотна, но не успел. Его смяли, вскинули над головами, швырнули наземь. Люди ворвались в усадьбу, кинулись к палатам, однако там их встретили боголюбовские пешцы с вытянутыми на полусогнутых руках копьями, загородили дорогу щитами.
— Братьев, братьев ослобонять! — кричал все тот же надрывный голос.
Пешцы не мешали мужикам сбивать с порубов замки и засовы. Стояли у палат, безучастно глядели, как выводили на свободу узников. У них был свой наказ — стеречь княжеское добро.
Народ все прибывал. Левонтию всюду мерещились знакомые лица. В руках у мужиков появились колья, серпы, железные прутья. Люди расступались, пропуская на волю узников.
Левонтий жадно разглядывал их, искал Никитку. Искал, а сам тревожился: время смутное, беззаконное — неужто кончили, неужто?..
В толпе, опьяненной победой, кто-то уже кричал, что не худо бы пустить красного петуха боярам под охлуп.
— Весело поглядеть!
— У огонька погреться!..
Кого-то знакомого потащили с толпой, подхватили на руки.
— Никитка-а! — крикнул Левонтий, но и сам не ус лышал своего голоса. Никитку пронесли мимо, опустили за воротами.
Мужики дразнили пешцов:
— Ровно псы над чужой костью.
— Ан подавитесь.
Пешцы стояли молча, копьями держали толпу на расстоянии.
Постепенно площадь опустела. Люди двинулись зорить боярские усадьбы. Первый по пути — резной терем Трувора с высокими вежами и голубятнями. Мужики застучали кольями в наглухо закрытые ворота.
— Эй, хозяин, принимай гостей! Готовь пирогов, да поболе!..
— Аль гости не по нраву?!
За воротами брехали, захлебываясь злобой, псы, рвали железные цепи. Юркий мужичонка в белой рубахе, в продранных на заду портах вскарабкался на забор, по перекладине перескочил на крышу.
— Отворяй, Тишка! — подзадоривали снизу.
— А тамо псы…
— Отворяй, уды не оторвут! — смеялись мужики.
— А ежели оторвут, что баба скажет?
Ворота ухали, удары сыпались в полотна беспрерывно. Тишка, скользя лаптями по тесу, выбрался на конек, сел верхом, держась обеими руками за охлуп.
— Ишь, ровно коня оседлал, — говорили внизу.
— Отворяй, леший.
Тут Тишка перегнулся, будто увидел что-то во дворе, дернул головой да камнем — вниз. Свалился под ноги мужикам, мужики нагнулись, а у него в груди — оперенный конец стрелы.
Толпа взорвалась криками, разом навалилась на ворота. Полотна закачались, затрещали. В светелке под самой крышей распахнулось оконце, высунулось обросшее до глаз волосами, свирепое, нечеловечье лицо. Еще одна стрела исчезла в толпе, отозвавшись подраненным стоном. Ворота поддались, упали с петель, повисли наискосок. Многоголосая толпа втянулась во двор, растеклась по закуткам и одринам. Из раскрытых окон полетели шелковые и парчовые платья, золотая и серебряная утварь. Потные мужики тащили из кладовых мешки с зерном. Зерно сыпалось из дыр, устилало двор золотистым ковром. Здесь же, у медуш, нетерпеливые квасники откупоривали бочки с медом, пили, подставляя рты к упруго бьющей струе.
Из светелки стрелял по осаждавшим боярский прихвостень Кут. Был он мужик здоровый, отчаянный, но в светелке не очень-то помашешь тяжелым мечом. Его схватили, связали, вытолкали на крыльцо. Лицо у Кута синее, глаза страшные, выкатились из орбит.
— Куда тебе супротив нас! — торжествовали мужики. — Чем бы у боярина покорыстовался, а то ведь просто пес.
Тут же приспособили петлю на перекладине, всунули в нее Кута да и с крыльца — ногами вперед…
Домочадцев в усадьбе не оказалось. Сам Трувор уехал с князем на охоту.
Пустили красного петуха. Терем занялся сразу весь — от просторных подклетей до самого конька. Весело запрыгал по бревнышкам огонь, приплясывая, пробежал по крыше, потянулся к небу, жаром дыхнуло, как из печи, — хоть сейчас пироги сажай.
Люди отступили, заслонились от огня руками, полами длинных рубах. Страшное сотворили они дело, дивились сами себе, но пути обратного им не было.
— К Захарии, к Захарии! — сквозь треск горящих бревен прорвался отчаянный голос.
Бросив догорать Труворовы хоромы, толпа устремилась в переулок. Давыдка — впереди с отнятым у Кута мечом.
Захария жил неподалеку от Трувора. По дороге разгромили усадьбу Агапия. Но жечь не стали: догадался кто-то — еще весь город спалишь. Толпа редела. Те, кто нахватал боярского добра, разбегались по домам. Иные просто отрезвели — испугались. Но оставшиеся подстрекали друг друга:
— У Захарии воск да соболя, в скотницах — видимо-невидимо золота и каменьев!
Боярские ворота с железными накладными полосами выбили бревном. Прыгая через ступеньку впереди других, Давыдка толкнул двери, ворвался в сени — никого. В ложнице тоже было пусто. Он выглянул из окна — мужики грудились у медуши. Взбежал по лесенке с точеными деревянными столбиками наверх. В тесном проходе пахло ладаном. За проходом из-под низенькой двери цедился сумеречный голубоватый свет. Давыдка вошел и остановился на пороге.
Когда-то — в те поры Давыдка служил еще при князе Андрее — был он немало наслышан о красоте Захариевой дочери. Но боярин жил замкнуто, был он в великой немилости у Боголюбского и дочь свою редко выпускал из терема. Раз только довелось Давыдке увидеть ее, на масленицу. Возвращался тогда князь с дружиною от булгар, вез с собою много захваченного в походе добра, а над Клязьмою в ярком весеннем солнце купался город, сверкали купола церквей, пестрел на стенах праздничный люд. С горки у самого вала на санках катались девки, смеялись, пели озорные песни. Евпраксия тоже была среди них — в отороченной соболем душегрейке, в сафьяновых сапожках, в голубом, кумачовыми жар-птицами расписанном персевом плате. Народ кричал, радостно теснился вокруг дружинников; навстречу князю от ворот шел протопоп со служками, с большим золотым крестом и святыми дарами. Сверкала праздничная сбруя, алели стяги, корзна и коцы развевались на потеплевшем весеннем ветру, а Евпраксия с девками стояла на валу; и все они заливчато смеялись и бросали в дружинников комья рыхлого снега. И дружинники, посветлев лицами, не глядели на протопопа, а только на девок — соскучились на чужбине! — и Давыдка не отрывал взгляда от лица Евпраксии… Вот как оно было. Было, да прошло. С тех пор больше не встречал он боярышни. А минуло время — и образ ее заслонила тучная фигура Захарии, заслонил огонь родной избы в Заборье.
Если что и осталось в сердце Давыдки, то одна только ненависть. Предстань сейчас перед ним боярин — зарубил бы его, не раздумывая. С тем и ворвался он в боярский терем. И по лесенке шел — думал о том же.
Но не оказалось Захарии в тереме. Был он вместе с Трувором и Агапием на княжеской охоте. А перед Давыдкой в неясном свете лампад стояла девушка в домотканом сарафане.
Узнал Давыдка Евпраксию. Остановился, пригнувшись, в дверях. Робея, замер.
А Евпраксия — откуда ей было признать Давыдку?! — увидела человека с мечом, вскрикнула и упала на ковер. Кинулся к ней молодой дружинник, хотел поднять, перенести на лавку, но у светелки послышались чьи-то шаги.
Ловок был Давыдка, отчаянно смел: нырнул в темный закут, толкнул кого-то головой в мягкий живот. Падая, встречный мужик закричал. В полумраке гомозились еще двое. Пригнувшись, Давыдка ткнул в темноту мечом, кто-то выругался в ответ, а он уже был на лесенке. Мужики, ломая перила, посыпались в ложницу. Давыдка, настигая их, бил голоменем меча — по согнутым спинам, по топорщившимся на лесенке узким задам.
Скоро в терему и на дворе все стихло. С улицы в приоткрытое окно задувало лебяжий пух, выпущенный озорства ради из пышных боярских перин.
Когда Давыдка вернулся в светелку, Евпраксия была уже на ногах. Не страх прочитал теперь в ее глазах Давыдка — решимость. Повеяло вдруг от нее лихим разбойным ветерком.
— Не бойся, боярышня, — сказал Давыдка. — С отцом твоим у меня счеты особые. А тебе я худа не сделаю. По сердцу ты мне.
Сказав так, повернулся и тут же вышел из светелки.
Ночью разыскал Володаря — свои люди помогли. Понравился Володарю лихой дружинник — был он о нем наслышан и раньше. Быстро прикинул кожемяка: лучшего попутчика ему не найти. И предложил Давыдке скакать вместе с ним в Чернигов, послом к князю Михаилу Юрьевичу.
Другою ночью горячие кони унесли их в глухие леса, протянувшиеся на север до Дышучего моря, на закат — до Москвы.
10
Еще на охоте застал Ярополка гонец из Владимира. Упал с коня, бросился князю в ноги:
— Беда, князь. Холопы твои жгут бояр. Сбили замки с порубов, выпустили узников…
Побледнел Ярополк: опять эти каменщики!.. А доколе? Распустил их дядька Андрей, за то и поплатился. Хотел нарушить древний уклад — зачем? Искони держалась на боярах Русь. Боярской верностью крепит ее и Ярополк.
Знал молодой князь — не любили его во Владимире. Знал и терпел, ждал своего часа, мечтал поставить город на колени. А как?.. Тут и подумалось ему: не время ли?
И велел Ярополк сыскать свежего коня. Взял он с собой только дружину да двух бояр — Захария с Агапием. Суд вершить — не противу половцев собирать войско. Людишки свои, разговор с ними будет короток. И представилось юному Ярополку, будто въезжает он в Золотые ворота, а навстречу ему — мужики с повинной: «Несем тебе наши головы, радетель. Твори суд свой правый и скорый».
— С корнем вырывать, с корнем, — бормотал Ярополк.
В город он прискакал на закате. Вглядывался с тревогой — что там, за молчаливыми городницами? Ждут ли его?..
Не ждали князя. Не встречали. На улицах было пустынно. С выпаса гнали скот. Коровы теснились к заборам.
Ярополк выругался: ну, каменщики, князь я вам али ровня?! Всадники врезались в стадо. Коровы тоскливо замычали, напирая друг на друга, бестолково сунулись туда-сюда, оттерли к кузне Ярополкова коня. Испуганные пастухи щелкали бичами, метались в стаде, пытаясь вызволить князя — напрасно.
Кологривый красавец Орлик встревоженно ржал и бил ногами. Князь, захлебываясь пылью, натягивал удила.
На шум из изб стали выползать люди. Неторопливо давали пастухам и дружинникам советы:
— Буренку-то слева поддай. Да не гони ты ее, не гони…
Князя будто и не замечали. Ярополк побелел от обиды, сжал до хруста челюсти. А тут еще бык, — не сразу разглядел его князь, а когда заметил, поздно уж было — ринулся, рогатый, сердито тряся продетым сквозь ноздрю кольцом. Пожалел Ярополк кологривого, поднял его на дыбы, чтобы уберечь от удара, а конь возьми да и угоди копытом в бок пестрой нерасторопной яловки; корова рванулась в сторону, Орлик отпрянул, и князь, не удержавшись, вылетел из седла.
Как нарочно, упал он в самую пыль, откатилась в сторону украшенная жемчугами шапка; затоптало ее бестолковое стадо. А пуще всего досадило, когда расслышал он за плетнями громкий смех. Вот оно как — потешались каменщики над своим князем; спроси — придурятся, будто бы не узнали.
Подхватили дружинники Ярополка, поймали испуганного коня, всунули князя в седло. Быка отогнали, коров оттеснили в переулок.
Злой и мрачный въезжал Ярополк в усадьбу; бросил поводья услужливо подскочившему конюшему. Через сени, верхом, прошел в свою ложницу, скинул на пол корзно, отстегнул, швырнул на лавку меч.
Потухал за окном вишневый закат. Ярополк опустился в кресло, неподвижным взглядом уставился на образа. Сидел, не шевелясь, пока совсем не стемнело.
В ложнице неслышно появились слуги. Заволокли оконца, затеплили свечи. Князь очнулся, велел подавать ужин.
Испуганно промелькнуло в двери и тут же скрылось сморщенное личико хроменькой карлицы Яворихи. Всюду возил с собой Ярополк старуху. Был он подозрителен, опасался, как бы кто не подсыпал яду. Карлица давно уж была как своя, поварничала она и у отца, Ростислава. Доверял ей Ярополк. Ее одной не боялся.
Неуютно жилось ему во Владимире. Ночами, неожиданно просыпаясь, слышал он во дворцовых переходах воровские, сторожкие шаги, чуть что — хватался за меч. Потому и молодую жену, дочь витебского князя Всеслава, держал подальше от себя, в Боголюбове.
Впервые не позвал он гостей к своей вечерней трапезе. Сам почти ничего не пил и не ел. Засунув ладони за пояс, долго ходил по длинным, натертым воском половицам. Думал. Вспоминал. И думы и воспоминания его были безрадостны.
Словно бурлящее сусло в кадушке, поднималась в нем извечная нелюбовь к Михалке. Давно ли Ярополк праздновал свою победу? И года не минуло с той поры, как Михалка, опозоренный, проезжал из Золотых ворот мимо Ярополкова войска… Ярополковы дружинники, набранные князем на буйном юге Руси, кричали и свистели ему вслед. Но Михалка ехал гордо, головы не склонял, и тогда еще почудилась Ярополку угроза в его необычном бегстве. Да и не бежал он вовсе. Не побежденным покидал Владимир. И Ярополк понимал: все еще только начинается, еще пересекутся их дорожки, еще померяются они силушкой во чистом поле.
Не развеселила его и присланная карлицей красавица Яхонта, дочь плененного булгарского князька. У Яхонты влажные черные глаза, острые груди под тонким белым шелком прямого платья… Пела Яхонта грустные булгарские песни, играла на бубне, танцевала перед Ярополком босая на ворсистом бухарском ковре.
Ластилась к нему Яхонта. Щечки ее пылали румян цем, острые груди прижимались к широкому Ярополкову плечу. Быстрым серебряным ручейком струился тихий ее голосок.
Но Ярополк нетерпеливым движением руки велел булгарке удалиться. Зачем карлица прислала Яхонту? Разве она не видит, что ему хочется побыть одному?
Сморщенное лицо Яворихи снова мелькнуло и исчезло в проеме двери. Ярополк поманил ее пальцем. Старуха вошла, волоча за собой тоненькую, усохшую ножку. Маленькие глазки ее нежно оглядывали Ярополка.
— Может, кваску изопьешь, свет мой, князюшко? — проворковала она и прильнула к его руке. — Аль дума какая тебя извела? Хмур ты и неласков — вон и Яхонту прогнал. Чем она тебе не угодила?
— Спасибо, Явориха, на добром слове, — сказал Ярополк. — И Яхонту ты не вини. А черные думы мои оттого, что холопы бунтуют, жгут боярские усадьбы, князя не чтут…
— А холопов-то плеточкой, — проворковала она. — А холопов-то огоньком, князюшко. Очи ясные им повыклевать вели, чтобы невзвидели свету божьего, не зарились на чужое добро…
Говоря так, карлица улыбалась, но улыбка ее была не доброй — волчьей пастью показался Ярополку Яворихин перекосившийся рог. Ознобом прошибло его всего, а все-таки подумалось: «Должно, права старая. Князю князево. А каменщикам за отступничество — лютая казнь». Карлице сказал:
— Умны твои речи…
— Вот и хорошо. Вот и ладно, князюшко, — пробормотала Явориха и, пятясь, исчезла за тоненько скрипнувшей дверью.
К утру Ярополк и телом окреп, и в мыслях своих утвердился. Разбудил его ранний петушиный крик.
— Явориха! — позвал Ярополк.
Карлица явилась сразу, словно проросла сквозь щели половиц. Увидев посвежевшего князя, как дите малое, обрадовалась, залопотала:
— Будто заново народился, князюшко. Лицом-то бел да румян. Хорошо, знать, спалось?
— Хорошо. А вели-ка подавать мне одежду праздничную. Да поди узнай, пришли ли бояре.
— Пришли, князюшко, пришли, — елейным голосом сказала Явориха.
— Тогда кличь их в горницу, да поживей. Совет держать буду.
Твердо надумал Ярополк — виновных карать без пощады. Карать, дабы смуту вывести во Владимире навсегда.
11
Пока шли по городу биричи и, ударяя палкой в медную тарелку, повешенную на груди, сзывали горожан, на суд, в усадьбе спешно заканчивались последние приготовления.
Перед палатами расторопные плотники возвели помост, на котором должны были сидеть князь и бояре. Затянули его дорогими коврами, сверху, по коврам, расставили переметные скамьи с суконными полавочниками. Княжеское кресло, обшитое золотыми пластинами с вделанными в них дорогими каменьями, прямое, с массивными подлокотниками, установили в середине. Внизу, перед помостом, строились дружинники и пешцы — в боевом облачении, в бронях и при щитах.
Ярополк явился пред людьми в красном корзне, застегнутом на плече золотой запоной, в красных же сафьяновых сапогах с серебряными завитушками по голенищам, в пушистой собольей шапке с алым верхом.
Увидев князя, мужики поклонились ему, бабы торопливо перекрестили лбы — боялись матери да жены за своих непутевых сынов и мужей.
Ярополк опустился в кресло, бояре расселись на скамьях. Княжий тиун, стоя на приступке, чуть пониже помоста, утробным басом объявил:
— Яко князь повелит, тако и свершится. Милостию божьею начнем.
Князь кивнул. Тотчас же дружинники выхватили из группы мужиков, стоявших чуть поодаль, щуплого старикашку с грязной, в пролысинах, бородой, подвели к помосту. Старикашка крутил головой и шамкал что-то слюнявым мягким ртом. У помоста его бросили на колени. Ярополк спросил, и в голосе его не слышалось угрозы:
— Скажи, в чем вина твоя, старче?
Старик, зябко поводя плечами, молчал. Тогда за него сказал вынырнувший из-за помоста видок — шустрый, длиннолицый, с набухшими кошелями под стригущими маленькими глазками:
— Бронник Кропило, князь. Украл боярского сокола, спрятал в избе под лавкой. А как пришли люди, облаял их негожими словами, поносил боярина и служек его…
Ярополк наклонился к сидящему рядом с ним Захарии:
— Что сказано об этом в «Русской правде», боярин?
Захария важно расправил бороду и, поднявшись со скамьи, протяжно возгласил на всю площадь:
— Сказано в «Русской правде»: «А оже украдуть чуж пес, любо ястреб, любо сокол, то за обиду три гривны».
— Да будет так, — сказал Ярополк.
По толпе прокатился гул: задвигались мужики, заохали, запричитали бабы.
— А покуда, — продолжал Ярополк, — взять Кропилу под стражу и бросить в поруб. А не найдет денег, отдать боярину в холопы, дабы честным трудом добывал себе спасение…
— Благодари князя, — толкнул Кропилу под бок придерживавший его дружинник.
Старик осел, ни слова не вымолвил, только губами пошевелил, пролопотал невнятное. По знаку тиуна его отволокли в сторону и бросили наземь.
К помосту подвели крепкого парня в посконной, с темными мокрыми пятнами на спине, рубахе. У парня — синий шрам поперек лица, лицо улыбчивое, лукавое. Прищуренный глаз подмигивал толпе.
— Пади! — багровея, приказал тиун.
Парень неохотно опустился на колени. Почесывая пятерней затылок, снизу вверх уставился на Ярополка. Глаза его все еще продолжали улыбаться, хотя лицо уже было серьезно. Ярополк нетерпеливо подстегнул тиуна взглядом.
— В чем вина твоя, раб? — спросил тиун.
— Не раб я, человек вольной, — ответил парень, трогая пальцами шрам. — Гончар я, а по прозванью Лука.
— Все мы княжьи люди, — поправил его Захария.
— Княжьи, да не рабы, — спокойно сказал Лука.
Весь напрягся Ярополк: вот оно! Склонившись вперед, неприязненно спросил:
— А скажи-ка, Лука, в чем обвиняет тебя мой тиун?
— Куру украл, — буркнул парень. Врал. Толпа сочувственно молчала.
Тиун сказал:
— Грабил боярские скотницы.
— Куру украл, — прикидываясь дурнем, тупо повторил парень.
Боярин Захария, не утерпев, ударил посохом о помост.
— Пил мед из боярских медуш, — бесстрастно продолжал тиун, — бесчинствовал с иными холопами на боярском дворе — взламывал одрины и творил разбой.
— Куру украл, — снова проговорил гончар и повел на тиуна свирепым взглядом.
— Видок есть? — спросил князь.
В толпе молчали. Тогда Ярополк обратился к Захарии:
— А что сказано об этом в «Русской правде»?
Багровый от сдерживаемого гнева, боярин сказал:
— Ежели нет видка, то испытать железом.
Князь кивнул. Гончар, сильно побледнев, став почти белым, заметался в руках крепко державших его дружинников. В горнце неподалеку от помоста малиновым цветом светился на углях раскаленный железный брус.
— Куру украл, княже!.. Куру я украл! — взбадривал себя отчаянным криком парень.
Отроки сорвали с него кафтан, оголили по локоть правую руку. Притихшая толпа подалась вперед, и вдруг забился в перегретом воздухе истошный бабий крик:
— Люди добрые! Да какой же он гончар — без руки-то?!
— Отпустите Луку!..
— Цыц вы, — пригрозил тиун, — али сами погреться захотели?..
Стихло на площади. Из горнца выхватили клещами брус и сунули парню в руку. Сжав ладонь, Лука сделал несколько шагов и упал. Дружинники натянули ему на обожженную руку мешок, наложили восковую печать.
Тиун протяжно произнес:
— Сроку тебе, раб божий Лука, три дни. Ежели через три дни рука заживет, значит, ты не виновен — отпустим с миром. Ежели не заживет, то вина твоя доказана. А покуда, дабы не сбежал, взять того гончара Луку под стражу и бросить в поруб…
Следующим подвели к помосту тщедушного мужичка со сползающими с тощих бедер латаными портками. Он поддерживал их левой рукой, а правой поминутно крестился, кладя частые поклоны то князю с боярами, то согнанной перед теремом толпе.
Позади него шли трое мужиков со степенными, исполненными достоинства лицами. В руках у них были серебряные сосуды, чаши и зеленая бархатная скатерть.
— Кто есть такой? — спросил тиун.
— Гришка, кожемяка я, — неохотно ответил мужик и опять перекрестился.
— Вор?!
— Не, — мужик с тревогой поглядел на князя, перевел взгляд на Захарию. — Мы с боярином теперича квиты. Лонись сапоги я ему шил, яловые да сафьяновые, да дочери шубу на лисьем меху… Денег за то боярин мне не платил.
— Чего мелешь, дурак?! — рассердился тиун. — А видки что говорят? А это что?!
Он ткнул рукой в сторону переминавшихся с ноги на ногу мужиков.
— Так то, батюшка, лишь половина долгу боярского будет, — растерянно проговорил кожемяка. — Я ведь без умыслу… А ежели и взял, то самую малость…
— Какую же малость?! — позеленел Захария. Вскочив с лавки, затопал ногами. — Аль управы нету на татей?..
— Не тать я, — с обидой возразил кожемяка.
— Садись, боярин, — приказал Захарии Ярополк. — Дело для меня ясное.
— Наказуй, князь по справедливости, — упавшим голосом попросил Гришка.
Князь кивнул ему, усмехнувшись.
— Княж суд всегда справедлив, — ударил тиун кожемяку по загривку.
— Зачти-ко, боярин, — молвил Ярополк.
Захария встал, неторопливо разгладил бороду и громко зачитал:
— А оже крадеть любо конь, любо волы, то гривну… Оже убьють огнищанина у клети, то убити в пса место…
— Да я же не убивал, боярин… Я же долг свой… — растерянно забормотал кожемяка, выслушав приговор. — Не я твово огнищанина порешил, не я…
— Он убил, боярин, он, — подтвердил один из мужиков, тот, что держал зеленую скатерть.
— Вот и видок показывает, — сказал Ярополк. — В поруб его да под замок.
Пока суд да расправа, время шло быстро. Солнце поднялось высоко, стало припекать. Жарко сделалось на помосте. Князь вытирал платком вспотевшее лицо, рассеянно прислушивался к выкрикиваемым тиуном приговорам. В полдень, когда у собора ударили в било, Ярополк встал, широко перекрестился на золотой купол Успения божьей матери и поднялся в терем. Бояре последовали за ним.
В сенях были накрыты столы, расторопные чашники обносили разомлевших гостей клубничным квасом и медом. До утра долетали из терема пьяные крики. А князь все был ненасытен. Хоть и пил больше всех, но не пьянел. Сроду с ним такого не бывало.
Потом карлица привела к Ярополку Яхонту. Он жарко ласкал ее, слушал заунывные песни, дарил ей перстни с драгоценными камнями и золотые колты. А когда рассвело, выгнал и повелел привести свою любимую волчицу — серую, с дымчатым густым загривком. Он гладил ее, кормил сырым мясом и шептал ей, как наложнице, ласковые слова.
Все-таки одолели Ярополка в ту ночь коварные фряжские вина. Охмелев, он рубил мечом столы и топтал шелковые покрывала. Прислушиваясь к его неистовому буйству, трепетно крестилась Явориха. Сердце замирало у карлицы, беспокоилась она за своего любимца. Совсем помутился у молодого князя рассудок…
12
А Давыдка с Володарем второй уже день скакали с письмом от владимирских ремесленников к Михалке и Всеволоду. Загнали коней, сами валились с ног от усталости. Только к вечеру добрались до Москвы. Деревянные рубленые стены, ров, заросший травой, в золотистой смоле новые дубовые ворота. Вот оно — Кучково осиное гнездо.
Давыдка рукоятью меча постучался в гулкие полотна:
— Эй, кто там живой!
В оконце башенки показалось хмурое лицо воротника:
— Кого леший принес?
— Отворяй… Аль ослеп — боголюбовские мы. От самого князя гонцы.
Впустив их, воротник объяснил, как найти огнищанина:
— Вторая изба по правую руку от церкви его и будет…
— Сыщем.
Огнищанина подняли с постели. Он вышел на крыльцо в сорочке и нижних — холодных — штанах, близоруко вглядываясь в темноту, поинтересовался, кто такие.
— Не узнаешь, Петрята, — сказал Давыдка. — Лонись у тебя с покойным князем Андреем бывали. Пировали в твоей избе… Лося тебе в подарок оставили, обещали еще наведаться.
Огнищанин засуетился, спустившись с крылечка, взял Давыдкова жеребца под уздцы.
— Да что же ты, батюшка, сразу-то не назвался? Милости просим. Дорогому гостю мы завсегда рады, — забормотал Петрята. — Милости просим…
Забегая вперед, провел гостей в горницу, истошным криком всполошил всю избу:
— Меланья!.. Параська!..
Из светелки спустились две пышнотелые девки в длинных, до пят, рубахах, с заспанными, отекшими лицами, уставились на незнакомых мужиков. Огнищанин велел им разжигать печь, а сам стал одеваться, натянул поверх исподнего кафтан с длинными сбористыми рукавами, на кафтан — парчовую ферязь.
Изба у огнищанина, хоть и жил не бедно, была небольшая; в углу стоял ткацкий станок — две рагули с поперечиной; ремизки и бедро подвешены к широкой балке. На лавке рядом со станком лежала льняная пряжа, здесь же — кусок уже готовой усцинки.
Володарь сел на лавку, с облегчением вытянул уставшие от длительной езды ноги. Давыдка, разминаясь, прохаживался по избе.
Не ежедень заглядывали в Москву именитые гости: это в последнее время зачастили, а раньше по году и по два — ни души. Разве забредут только страннички да скоморохи с медведем… Сонно жили в Москве, глухо. Потому и радовались любому заезжему человеку.
За ужином Петрята повел осторожный разговор. Осведомился о князьях, о знакомых боярах. Вкрадчивым голосом поддакивал, выведывал, что было нужно, мотал на ус. Захмелев, Володарь перестал таиться, сказал, что путь у них долгий — едут они в Чернигов к Михалке и Всеволоду.
Услышав это, огнищанин осунулся, закивал продолговатым голым черепом, заохал, кликнул Меланью — велел нести еще меду. Похвалился:
— Медок-то у меня на перце.
Меланья вернулась из погреба с большим пузатым жбаном в руках. Поставила жбан посреди стола. Ушла не сразу, замешкалась, мягким боком коснувшись Давыдки.
Пригляделся Давыдка к Меланье — и кругла, и румяна, и глаза озорные, зовущие. Петрята заметил это, сердито цыкнул на дочь. Меланья зарделась. Давыдка, ничуть не смущаясь, сказал:
— Коли хозяйка за столом, и меды слаще.
— Девка она, не хозяйка, — пробурчал огнищанин. — Ступай, ступай! — прикрикнул он и замахнулся широкой ладонью, чтобы ударить Меланью по мягкому месту.
Давыдка перехватил его руку, пригнул к столу.
— Девку не тронь, — пригрозил он, — Коли по сердцу она мне, не ее вина.
Уходя, Меланья посмотрела на него благодарным взглядом.
Уставшие с дороги Давыдка и Володарь скоро захмелели и задремали, прикорнув на лавке. Петрята тихонько, на цыпочках, вышел во двор, прокрался к соседней избе, стукнул в оконце. Выглянувшей на стук бородатой харе прошептал:
— Батюшко боярин, они!..
В избе загремели засовы, из открытой двери дохнуло теплым запахом свежего хлеба. Огнищанин нырнул в темноту, ощупью пробрался через сени, ввалился в горенку, слабо освещенную двумя свечами, воткнутыми прямо в столешницу, в расплавленную лужицу желтого воска. Боярин Городец, длинный, тощий, без штанов, в распахнутой однорядке, наброшенной на голое волосатое тело, спросил огнищанина:
— Спят ли?
— Спят, — заверил Петрята. Не сдерживая ликованья, добавил: — Я сразу смекнул… В Чернигов, говорят… Говорят, ко князю Михалке… Хе-хе.
— Они, — кивнул Городец.
Огнищанин закудахтал как курица, взмахивая просторными полами ферязи.
Боярин разбудил дремавших на полу дружинников. Сам натянул на себя подбронник, поверх подбронника — кольчугу, а уж на кольчугу однорядку, схваченную в запястье шерстяными браслетами. Перепоясался мечом.
— Веди!
Давыдка и Володарь, вконец разморившись, не слышали шума. Дружинники набросились на них, повалили, сонных, на пол, стали вязать. И пяти минут не прошло, как оба гонца, крепко скрученные веревками, были снова усажены на лавку. Давыдка ругался, Володарь зловеще молчал.
— Ну, погоди, — мрачно пообещал Давыдка огнищанину. — Ужо доберусь до тебя, поблагодарствую за меды.
— Не пужай, сокол, коль крылья подрезаны, — оборвал его Городец, — И ты, старче, не боись. Заутра отволокем молодцев во Владимир. Обидчиков да татей князь наш Ярополк не медом, чай, жалует.
— Горек и твой мед, Петрята, — сказал Володарь.
— С перчиком, с перчиком, — закудахтал огнищанин, захлебываясь смехом.
Городец деловито приказал:
— Ведите их в подпол. Да сторожите крепко.
Давыдку и Володаря подняли с лавки; подталкивая рукоятями мечей, вывели в сени, открыли яму, столкнули вниз.
В подполе было пыльно и зябко. В темноте скреблись мыши, пахло дрожжами и солодом. Дружинники посмеивались, стоя наверху:
— Мед-от весь не выпейте, нам оставьте.
— Оставим, — пообещал Давыдка. — Ишшо похмелитесь.
Подпол был заставлен кадями и бочками. В углу была свалена репа.
Володарь спросил:
— Нешто и впрямь заворотят?
— Заворотят, — сказал Давыдка. — Вдругорядь из княжеского поруба не уйти. Нынче уж как зол на меня Захария…
Ночь тянулась долго. Ни Давыдка, ни Володарь не сомкнули глаз. Выпитый с вечера мед перебродил, под сердцем, будто кол, стояла тревога. Эк оно! Беда что вода: нечаянно во двор приходит.
— Ты моей оплошки во грех не вмени, — сказал Володарь. — Достается сычке от своего язычка.
— Не язык тому виной, а лихие люди, — ответил Давыдка. — Лапти-то мы сплели, а концы не схоронили…
Стали они думать, как выбраться из подпола. Пробовали веревки перетереть о железные ободья кадушек. Перетереть не перетерли, только измучались. Однако молоды они были, долго отчаиваться не могли. Сморил их предутренний крепкий сон.
Проснулся Давыдка от свежего ветерка, подувшего по низу подпола. За бочками в дальнем углу, где была свалена репа, забрезжила светлая полоска. Быстрый шепот согнал остатки сна:
— Дяденьки, где вы?..
— Меланьюшка, — угадав по голосу, позвал Давыдка.
Девушка, все в той же белой рубашке до пят, склонилась над Давыдкой. Володарь тоже проснулся, зашевелился возле кадушек.
— Ты как сюда попала? — спрашивал Давыдка, пока Меланья, встав на колени, зубами распутывала узлы.
— Оконце здесь на зиму было прикрыто. Бегите, дяденьки. Отец мой — зверь. За что же душу невинную губить? Ох, бегите, худо будет мне!
— Да как же ты? Да что же это… — обнял ее Давыдка. От Меланьи терпко попахивало теплой постелью и лесными травами.
— Бегите, бегите, дяденьки, — поддаваясь Давыдкиной ласке и отталкивая его, снова прошептала Меланья, — Люб ты мне, сокол, так ли люб!..
— Бежим вместе!
— Не могу… А вернешься ли?
— Вернусь, — он схватил ее за руку, прижал к груди..
— Беги, миленький, поспешай… — задохнулась Меланья.
Давыдка с трудом продрался через тесный лаз, помог выбраться Володарю. Темно еще было на воле, но за гребнем частокола занималась голубая полоска рассвета.
Беглецы перебрались через городницу и побежали к реке. Здесь, в затишке, у глухо ударявшей в пологий берег реки, стояли на приколе лодки. Володарь отвязал конец. Давыдка оттолкнул лодку и прыгнул на корму. Упали на воду, изогнулись весла. Володарь, подымая брызги, налегал на них что было сил.
Выбравшись на быстрину, лодка поплыла по течению. Скоро Москва скрылась из виду. Подул свежак… По левому берегу реки кудрявился низкорослый кустарник, прорезанный тихими заводями, по правую щетинился чужой, неприветливый лес.
Когда беглецы свернули к берегу, втащили лодку в кусты и забросали ее речным мусором, уже совсем рассвело. На огнищанском дворе, поди, хватились пленников. Скачут по дорогам всадники, останавливают мужиков, расспрашивают баб — не видали ли кого, не проезжал ли кто от Москвы к Чернигову.
Радовались Давыдка с Володарем, добром поминали Меланьюшку. Долго шли они по лесу, держась реки; за полдень почувствовали сильный голод.
Беглецы приуныли, глядя по сторонам: ни души вокруг, ни жилья. На исходе дня ветерок пригнал едва ощутимый запах дыма. Володарь поднялся на взлобок, поманил за собой Давыдку.
Внизу виднелась небольшая деревушка. Крайние избы стояли у воды, на плоту копошились бабы. За речной петлей курился голубоватый туманец. Солнце уже склонилось за лесок, на деревню быстро налетали сумерки.
Володарь с Давыдкой сошли с холма и по мягкой тропинке, протоптанной скотом, выбрались на дорогу. У крайней избы мужик в засученных по колено портах месил босыми ногами глину. Время от времени он нагибался, нащупывал в глине ссохшиеся куски или щепки и отбрасывал их на дорогу. Рубаха, мокрая от пота, лепилась к тощей спине мужика, крупные капли стекали по его лицу.
Давыдка сказал:
— Бог в помощь!
Мужик молча задержал на нем взгляд и, не ответив, все так же старательно продолжал месить глину.
Возле трухлявого, проросшего зеленью сруба жарко горел горн. На земле стояло несколько готовых горшков; за срубом слышалось постукиванье гончарного круга.
Мужик помял глину рукой, выбрался из ямы. Не спеша подошел к воде, обмыл ноги и, вернувшись, пошуровал в горне угли. Убедившись, что горн прокалился, позвал хрипловатым голосом:
— Антип!
Постукиванье гончарного круга прекратилось, и из-за сруба вышел второй мужик. Вычесывая из бороды пятерней катышки глины, он кивнул незнакомцам.
— Антип, — сказал гончар, словно они были одни, — давеча дружинники наведывались, с тобой говорили. Аль спрашивали кого?
Антип скосил взгляд на незнакомцев, шмыгнул и провел пальцем под носом.
— Да вот сказывали, два татя утекли. Ежели что, донести старосте…
— А ты?
— А я што? У меня своя назола…
Гончар, тот, что месил глину, поддернул порты, крякнул и побрел в избу. Антип тоже не стал ждать и неторопливо последовал за ним.
Темнело быстро. Противоположный берег сначала сумеречно засинел, потом скрылся во мгле. Давыдка поглядел-поглядел себе под ноги — и шагнул к избе. Дверь поддалась легко, в избе плавал сизый дымок. Лучина бросала скудный свет на пол, на стены, уставленные горшками. Горшки громоздились повсюду — пузатые, продолговатые; маленькие — для похлебки и большие — для хранения вина. На столе, за которым, сгорбившись, сидели мужики, лежали глиняные свистульки в виде птичек, затейливые игрушки: лошадки с изогнутыми, как у лебедушек, шеями, овцы с закрученными в колесо рогами.
Увидев Давыдку, мужики переглянулись, и гончар сказал:
— Что там, входи. Неча попусту таиться.
— Кличь дружка-то, — добавил Антип и снова провел пальцем под носом.
Когда вошел Володарь, мужики подвинулись, освобождая гостям место на переметной скамье. Рассевшись, помолчали; прислушивались, как потрескивает лучина, а в низкой печи гудит под ободами упругое пламя.
— Будем вечерять, — сказал наконец гончар, и Антип, словно обрадовавшись поданному знаку, засуетился, выскочил за дверь.
Вернулся он с ковригой хлеба и четырьмя глубокими мисками. Поставил миски на сбитый из толстых досок стол, взяв ухват, вытащил клокочущий под глиняной закопченной крышкой горшок. Смешливо сморщив нос, вдохнул в себя парок, пошутил:
— Ушица на славу!
Поставил горшок на стол среди свистулек и глиняных лошадок, сбросил крышку. Давыдка сглотнул слюну, заворочался на скамье. Гончар сказал:
— Не томи, Антип, гости проголодались…
Приглядевшись, Давыдка заметил, что у гончара не такое уж и хмурое лицо, да и не стар он совсем, хотя щеки его и лоб, коричневый от загара, избороздили тонкие морщинки. Под густыми выцветшими бровями поблескивали совсем еще молодые серые глаза.
Антип обхватил пышущий жаром горшок полами рубахи, разлил в миски хлебово, потом большой деревянной ложкой выскреб гущу. Ели, как работали, не торопясь, обстоятельно.
Когда управились с ухой, Антип достал из печи рыбу с репой. Напоследок налил всем в пузатые, с ногтевым узором кружки золотистого квасу.
Наевшись, мужики помолились на образа. Антип, почесывая затылок, поманил гостей из избы, подвел к темнеющей у воды житие. Указал место в углу:
— Спите.
Житня была собрана наскоро, сквозь щели в стенах и в крыше виднелось усыпанное звездами небо. Давыдка и Володарь на ощупь пробрались в указанное мужиком место. Под ногами похрустывала солома; в углу она была сметана в невысокую копешку. Беглецы легли, прислушались к шороху воды за стеной, к шелесту пробегающего по верхушкам деревьев ветра.
Тревожно было у них на душе. Думалось разное.
— Далеко ли уйдем без коней? — сказал Володарь, уминая солому.
— Где ни будет, а от наших рук не отбудет, — отозвался Давыдка. Но и он понимал, что путь до Чернигова и опасен и долог. Пешком добираться и думать нечего. А добыть коней не просто. Разве только отбить у кого. На дороге разный встречается люд. Можно и рискнуть.
13
Антонина скользила по избе неслышно, на отца поглядывала с беспокойством. Вот уже третий день Левонтий словно не в себе — огруз, ослаб, сидит на лавке, вздрагивает от каждого стука. Догадывалась Антонина об отцовой беде, знала — пошло это со дня Ярополкова судилища, как бояре стали кичиться, расправившись с мужиками. Нет-нет и теперь сведут кого на княжий двор, а там и концы в воду. Но Левонтия брать не решались — был у князя Микулица, пригрозил страшным судом. Не суда испугался Ярополк — испугался самого протопопа: ударит протопоп в било, соберет народ, далеко ли и до беды?! Зато многих других людишек побросали бояре в ямы, немало сирот пустили по белу свету. Вот и Левонтий взял к себе в дом востроглазого пострела Маркуху — сына осужденного Ярополком кожемяки Гришки. А еще знала Антонина: живет на задах в бане камнесечец Никитка. Носила она ему еду по утрам, любовалась, пока он ел, — красив и молод, в талии узок, глаза ясные, девичьи…
Иногда Никитка пел. Антонина любила слушать его песни. Сядет, бывало, на лавку, замрет.
А мы свою масленицу провожали, Тяжко, важко да по ней вздыхали: «А маслена, маслена, воротися, До самого велика дня протянися!» —пел Никитка.
Но случались дни, когда из него и слова не вытянешь. Нахмурится, нахохлится, глядит на Антонину и не видит — должно, вспоминает свою голубоглазую Аленку…
Завидовала Антонина подружке, по-девичьи мечтала: вот и ей бы сыскать такого жениха. Но против воли своей возвращалась мыслями к Никитке. Пугалась — неужто полюбился он ей, неужто позарилась она на чужое счастье?!
От верных людей узнал Левонтий обо всем, что стряслось в Суздале. Но Никитке не рассказывал — все берег его. Успокаивал: поутихнет во Владимире, можно будет и в Суздаль наведаться, поискать Аленку. А покуда — ни шагу с моего двора.
Чаще других бывал у Никитки маленький Маркуха, — нравилось мальчонке смотреть, как из обыкновенной баклушки получались под руками мастера всякие диковинные штуки — игрушечные долбленки и струги, украшенные резьбой, совсем как настоящие: с мачтами и ветрилами. Однажды Никитка вырезал из целого куска дерева Золотые ворота. Увидев их, Маркуха заплясал от удивления — такие хорошие получились ворота: с открывающимися створами, со зверушками на полотнах и продолговатыми бойницами. А еще Никитка вырезал маленького человечка с продолговатой головой и крючковатым носом. Он посадил человечка в проем ворот, и Маркуха сразу признал в нем воротника Кузьму — того самого Кузьму, которого так не любили посадские мальчишки. Кузьма не пропускал их в город, каждый раз норовил ударить копьем по заду. У него была толстая и такая же злая, как и сам воротник, жена Феклуша. Однажды, когда Кузьма подремывал у ворот, Маркуха запустил ему за шиворот ужа. Вот где была потеха!.. Перепуганный Кузьма кликнул жену. Пришла Феклуша, сунула руку мужику под зипун, да и осела без дыхания. Едва выходили бабу. А Кузьма с той поры пуще прежнего возненавидел посадских ребятишек…
Но больше всего из Никиткиных игрушек нравились Маркухе плотники с широкими топорами в руках. Плотники сидели верхом на бревне, а когда Маркуха дергал за планочки, размахивали топорами.
Кожемякин сын был пронырлив, поспевал всюду. Из города приносил разные слухи:
— Боярин Агапий новый терем строит…
— Седни в соборе гости подрались…
Левонтий строго-настрого наказывал Маркухе:
— То, что Никитку у меня видал, никому ни слова. Скажешь с уха на ухо — узнают с угла на угол. Ровно всему свету разблаговестил…
— Не все у меня скоки да голки, — по-взрослому важно отвечал Маркуха. — Не маленькой…
— Да ты не серчай, — обнимал его камнесечец.
Маркуха убегал на улицу, толкался среди пестрой толпы, заглядывал к гончарам и кожевникам. Бывал и у златокузнецов. Больше всех по душе ему пришелся старый мастер Фотей. Фотея хорошо знали не только во Владимире и Суздале, слава его доходила аж до самого Новгорода. Князь Андрей наградил умельца золотой ящеркой за искусную и тонкую работу: сделал Фотей ожерелье для княгини — такое ожерелье, что и у греков поискать.
В мастерской златокузнеца не горели жаркие горны, не кипело железо, не гремели тяжелые молоты на наковальне. Небольшой верстак Фотея стоял у самого окна: вместо огромного горна теплилась в хибарке маленькая печь; в тигле, напоминающем горшочек для ухи, плавилось серебро и золото. Сидел Фотей, сгорбившись, за верстаком, часто-часто постукивал молоточком по наковаленке, вкрапливал голубые глазки в драгоценные пластинки, узеньким долотом выбивал узоры по серебру — затейливых птиц и невиданных зверушек. Интересная была у Фотея работа. Жмурясь от восхищения, смотрел Маркуха на кольца, серьги, пряжки и кубки, расставленные по полочкам в мастерской. Смотрел и дивился — а все человек!
— Скучен день до вечера, коли делать нечего, — смеялся Фотей.
Маркуха ничего еще не умеет, разве только мастерить свистульки из ивовых прутиков. Но научиться хотелось всему — и кожу мять, и горшки лепить, и мечи ковать, и высекать из камня людей и птиц, как это делает дедушка Левонтий.
Чуя Маркухину тягу к мастерству, отыскал Никитка за баней надранные трубки липовой коры — Левонтий хотел сделать из них Антонине цевки для ткацкого станка, да так и не удосужился, — размочил трубки в воде, снял верхний слой, а луб нарезал неширокими лентами.
— Будем лапти плесть, — сказал он Маркухе, — вона твои-то как прохудились.
Из дубовой деревяшки выстругали два кочедыка. Никитка пояснил:
— Кочедыком лыковую ленту потянем промеж плетения…
Маркуха оказался способным учеником. Первые лапти сделали прямого плетения: такие долго не носятся — от силы две седмицы. Лаптям же косого плетения с подковыркой нет износу. Научил Никитка мальчонку плесть и новгородские бахилы — высокие лапти в виде сапог. Именно такие лапти сплел Маркуха для дедушки Левонтия. Старый камнесечец прослезился, получив подарок.
— Быть тебе, Маркуха, большим мастером. Ловкие у тебя руки, приметливый глаз, — похвалил он сироту.
Маркуха заулыбался, растаял от похвалы.
— Я тебе, дедушка, еще лапти сплету. И Антонине тоже, и Никитке, — пообещал он.
Антонина грустно улыбалась, гладила Маркуху по льняным волосам. Вечерами, после ужина, она садилась с ним рядом на лавку, ласковым речитативом рассказывала сказки:
— В стары годы, в старопрежние, в красну весну, в теплые лета сделалась такая соморота, в мире тягота: стали проявляться комары да мошки, людей кусать, горячую кровь сосать. Появился мизгирь, удалой добрый молодец, стал ножками трясти да мережки плести, ставить на пути на дорожки, куда летают комары да мошки.
Слушая Антонину, Маркуха засыпал, положив голову ей на колени. Когда дыхание мальчика становилось ровным, девушка брала его на руки и осторожно относила в ложницу.
Раз, уже на вторую неделю после суда, учиненного Ярополком, кто-то подкатил к воротам Левонтиевой избы.
— Поди узнай, кто такие, — сказал встревоженный Левонтий дочери, — да накажи Никитке, чтоб носу на дворо не показывал. Маркухе тоже накажи.
Антонина вышла. Во дворе послышались голоса, заскрипели жеравцы. Отволокнув оконце, Левонтий увидел возок, запряженный двумя рыжими лошаденками. Рядом с возком шел широкоплечий седобородый мужик в синем зипуне и заломленной на затылок шапке. Знакомого в мужике Левонтий не признал, потому и подивился доверчивости Антонины. Кто такой?.. Пошто сразу впустила?!
Пока Левонтий, немало обеспокоясь, гадал, кого бог принес в такую тревожную пору к нему на двор, в сенях послышались грузные шаги, и дверь распахнулась. Первой на пороге показалась сияющая Антонина, за ней — тот самый мужик в синем зипуне.
— Примай гостей, хозяин, — сказал мужик, снимая шапку и крестясь на образа. — Аль не признал?
Голос вроде знаком, а ликом — нет, неизвестен. Еще раз пригляделся Левонтий. Вспоминая, наморщил лоб.
— Никак, Ярун? — проговорил сперва неуверенно, но, видя, как засветилось лицо нежданного гостя, твердо сказал: — Ярун, вот те крест. Да отколь же ты?! Да как же?!
— Ишь, не забыл, — кивнул Ярун Антонине и, обняв Левонтия, троекратно, истово облобызал его, смахнул слезу.
— А постарел ты, Ярун.
— Да и ты, чай, не моложе стал.
— Был конь, да уездился…
— Годов двадцать, почитай, не виделись. Вона — и дочь вырастил, и молвой оброс. О твоих-то делах и у нас в Новгороде пошумливают, сказывают, палаты каменные выстроил всем на удивление. Наши-то на вече толковали, хотели тебя сманить…
— Куды уж мне, — живо отозвался Левонтий. Антонине сказал: — Привечай гостя, дочь. Да Никитку-то зови.
В избу вбежал Маркуха, уставился на незнакомого человека.
— А это чей? — спросил Ярун.
— Сирота он, — сказал Левонтий, — Батьку его на княжом дворе в яму бросили. Вот и обретается у меня.
— Иди-ко сюды, — ласково позвал купец Маркуху. — Я тебе пряник медовый дам.
И верно, пошарив в зипуне, он достал пряник, подул на него и протянул мальчонке. Маркуха взял пряник, тут же сунул его в рот и полез на печь.
Ярун оглядел почерневшие стены Левонтиевой избы, покачал головой.
— А не богато живешь, мастер…
— Деньги не голова: наживное дело, — отозвался Левонтий.
Пришел Никитка. Антонина уже рассказала ему о Яруне. Был молодой мастер и раньше наслышан о новгородском госте — Левонтий часто вспоминал, как шел на Яруновой лодие до самого Киева. Потому поклонился Никитка гостю с уважением, рукою коснувшись пола. Снятый с головы облезлый треух смущенно мял в руке.
— Из Чернигова иду, — сообщил Ярун хозяевам за угощеньем. — Слышно, у булгар меха подешевели.
— Много ли торговал? — спросил Левонтий.
— Да ведь как оно — много ли, мало ли: всю жизнь, почитай. И к германцам ходил, и к хорезмийцам.
О хождении в Хорезм говорил Ярун в охотку. Сам дивился — как на такое подвигнулся?! От булгар плыл он Волгой — путь знакомый Левонтию. Потом пробирался через пустыню — на верблюдах. Три седмицы шел, и ни живой души. Попал в песчаную бурю — едва жив остался. А еще есть там змея такая — серая с приплюснутой головой. Гюрзой ее зовут. Стоит укусить той змее человека — и припасай домовину. Нехорошие там места. Одно слово — чужбина. Гадов разных видимо-невидимо. В развалинах попадались желтые паучки с жалом на хвосте. От яда этих паучков образуется нарыв, и все тело горит как в огне. Баяли старики, что когда-то в тех краях, где легла караванная тропа, протекала большая река. У реки стояли цветущие города и крепости. Но река повернула в другую сторону, русло ее высохло, и города занесло горячим песком. Давно это было. Ярун собственными глазами видел развалины древних городов. А когда повернула река, никто не помнит, даже самые старые старики.
Зато в Ургенче, главном городе Хорезма, много воды и зелени, а на деревьях произрастают удивительные плоды. Некоторые из этих плодов Ярун встречал и в Царьграде, но о многих никогда не слышал. Люди там живут богато, но богаче всех живет хорезмшах. Узнав, что Ярун прибыл из далекого Новгорода, хорезмшах пожелал его видеть и прислал за ним своих воинов. Он подарил ему белого коня с богатым седлом и сбруей, шелковый халат и чалму с драгоценными каменьями.
Дивились хозяева рассказу Яруна, слушали новгородского гостя, не прерывая. Маркуха вздыхал на печи, Антонина охала, недоверчиво покачивала головой.
— А нонче по дороге из Чернигова, — продолжал Ярун, с доброй ухмылкой поглядывая на Левонтия, — встретились мне два молодца. Обоз ушел вперед, еду я на своей телеге, а к задку обротями привязаны еще два коня — про запас… Вечерело уже. Глядь, из лесочка-то и выходят двое с рогатинами. Один, тот, что повыше, коня схватил за узду, другой — покоренастее — рогатиной размахивает, велит с телеги слезть. Перетрусил я, «Не губите, говорю, мужички. Обоз мой вперед ушел, а при мне всего и добра, что зипун да драная шапка. Гость я, говорю, поспешаю ко Владимиру, а дальше к булгарам путь держу…» Мужики те, выслушав меня, переглянулись да ко мне с вопросом: кого-де я во Владимире знаю, у кого на постой встану. «У Тимофея, говорю, у моего побратима. А еще, говорю, знаю я камнесечца Левонтия». Услыхали они это и ну меж собой переругиваться. «А что, — спрашиваю я их, — какая у вас, мужики, печаль?» — «А та печаль, — отвечают, — что посланы мы ко князю Михалке, да Ярополковы людишки коней у нас увели, а пешком далеко ли утопаешь?»
— Володарь! — выдохнул напрягшийся в начале рассказа Левонтий.
— Он самый, — подтвердил Ярун и продолжал: — Другой же, тот, что с ним, — Давыдка, Андреев дружинник…
Антонина вскрикнула. Никитка привстал с лавки.
— Этак-то до Чернигова и к осени не добредут, — разочарованно протянул Левонтий.
— Добредут, — ответил Ярун. — Я им тех коней, что в запасе были, уступил. Упустя время, да ногой в стремя. Скачут-поскачут добрые молодцы в Чернигов, а тебе привет передают.
— Долг платежом красен, — заулыбался Левонтий. — Бери, Ярун, любую плату за тех коней — всем миром соберем.
— Люди свои, как не помочь, — с улыбкой пробормотал Ярун.
14
Рядом с прежним задумал боярин Захария срубить себе новый терем, красивый и богатый. Лучших плотников кликнул — рассказал, что и как. Стены будут у терема дубовые, наличники да причелипы резные, крыльцо высокое, красное, княжеское. Пусть все вокруг знают — в чести боярин у Ярополка. А уж впереди-то… Впереди-то мечталось о таком, что сердце выскакивало из груди.
Лиха беда начало. Приехал боярин в Заборье, поглядел вокруг, порадовался. Видать из Заборья округу верст на десять окрест: луга, да пашни, да густые леса. И решил Захария поставить на взлобке свой загородный терем — охота рядом и сердце отдыхает от забот. А перво-наперво приказал закладывать на месте будущей усадьбы новую деревянную церковь. Старосте Аверкию наказал:
— За церковь будешь в ответе.
— Только прикажи, боярин, — покорно отвечал Аверкий. — Будет тебе и церковь, будет и терем.
И еще попросил староста:
— Есть у меня, боярин, невеста. Приведу к тебе — благослови!
Ухмыльнулся Захария, милостиво пообещал:
— Покажешь невесту — благословлю.
Ошалел Аверкий от счастья, задом толкнулся в дверь, выкатился за порог.
Душно было в избе. Обмахивая распаренное лицо шитым убрусом, Захария кликнул дочь. Пришла Евпраксия — стройная, смуглая, неприступная. Села против отца на лавку, праздные руки с длинными пальцами сложила на коленях. Опустила ресницы.
— Скучно тебе, Евпраксиюшка?.. Ты бы в лесок сходила али вечерком на посиделки.
Бледная улыбка скользнула по ее губам. Уж кому-кому, как не Захарии, знать — отчаянная у него дочь, с другими девками не сравнить. На охоте, бывало, не отстанет от мужиков: нагонит зайца, стрелой пронзит летящего гуся. Меткий у нее глаз, твердая рука. А ловка-то, ловка — на коне сидит что твой добрый молодец. Любит Евпраксия натянуть на себя кольчугу, шлемом накрыть голову да и скакать так по полям, поигрывая гибкой плеточкой.
Не знала Евпраксия ни забот, ни тревог, а в последние дни загрустила. «Верно, напугали ее холопы, — думал Захария. — Ладно еще, не надругались».
Приютила Евпраксия вызволенного мужиками из поруба старого гусляра Ивора, часами слушала его песни. Недобрые были они, Иворовы песни, — смешливые да похабные. Недаром, знать, упрятал его в яму князь Андрей. Да и Захария, признав в Иворе давешнего узника, надумал гнать его со двора. Вступилась Евпраксия, а то бы погнал. Но ради любимой дочери на что не пойдет боярин Захария!.. Как поглядит она на него, ну ровно малое дите спеленывает — ни ногой не повести, ни рукой не шевельнуть. Остался Ивор при молодой боярышне. Ел боярские хлеба, а в песенках над боярами глумился. И еще чего вздумала Евпраксия. — сажать гусляра за боярский стол. Вскипел Захария, но и это снес. Евпраксия, видя, как сердится отец, нарочно медку гусляру подливала:
— Пей, старче, пей. Сладок мед-от. Небось и у князя такого не пивал.
— Пивал я, матушка, разные меды. И у князя Андрея, и у отца его князя Юрия, и у деда Андреева — князя Владимира Мономаха. И в Чернигове пивал, и в Рязани, и в Киеве, — отвечал старик.
— Ишь какой угодник, — язвил Захария, — Знать, милостивы были к тебе князья, богато одаривали!..
— Одаривали, боярин, одаривали, — кивал Ивор седой головой. — Всего было вдосталь. Кормили меня князья щедро — в порубах водицы подавали и мякины не жалели… Как же, одаривали!..
Слушая непотребные речи гусляра, наливался Захария гневом, кусал в кулаке конец своей бороды. Евпраксия заливисто смеялась. «Молода еще, зелена», — бормотал Захария.
Жил Ивор на боярском дворе две недели, на третью неделю ушел, не сказавшись. Хватилась Евпраксия, а гусляра и след простыл. Даром что стар. Захария вздохнул облегченно. А Евпраксия еще думчивее и молчаливее сделалась — беда!.. «Увезти ее, что ли», — размышлял боярин. Так и сделал.
Хорошо в Заборье. Все радует глаз. Выйдет Захария за околицу — бабы трудятся на боярском капустнике, пройдет к реке — мужики заколами ловят рыбу к боярскому столу, остановится на опушке леса, прислушается — стучат топоры, рубят лес для боярской усадьбы. Мальчонки пасут боярских коров на боярских лугах, боярские сокольничьи ловят для боярина белых лебедей. Понюхает боярин дымок, знает — девки варят меды. Наварят, зальют в корчаги, свезут в боярскую медушу. Гончары обжигают в печах посуду для боярского двора, кузнецы куют орала для боярской пашни.
Хорошо в Заборье. Не нарадуется Захария, отмякнет душой, добродушно покрикивает на работничков:
— Поболе рыбы ловите!.. Покрепче варите меды!.. Лес рубите — не уставайте!.. Капустку-то поливайте — не жалейте воды!..
К вечеру, как уговаривались, пришел староста Аверкий, привел упиравшуюся невесту. «У старосты губа не дура», — подумал Захария, разглядывая девушку. Степенно спросил:
— Чья будешь?
— Холопа твоего Пашуты дочь. А зовут меня Любашей.
Боярин густо покашлял в бороду, одобрил выбор старосты:
— Пойдешь за Аверкия — получишь вольную. Живите с миром.
В сваты старосте дал Захария своего меченошу, разбитного Склира, русого парня с веселыми, палючими глазами. А сам заутра отправился с Евпраксией поглядеть на обряд.
В избе у невесты вымыли и выскребли полы, разложили на видном месте дары: вытканные и вышитые Любашей холсты, убрусы, повои.
Вызвав Пашуту, Любашиного отца, в сени, Склир, по обычаю, стал расспрашивать его о невесте: бела ли лицом, не больна ли, послушна или строптива. Потом вошел в избу, низко кланяясь, объявил:
— Ехали мы лихо, въехали тихо, охотники-купцы, честные молодцы. Есть у нас барашек-бегун, а ищем мы ему ярочку. А баран да ярочка — вековая парочка.
Второй сват, старый Петрил, колесом выпячивая грудь, усмешливо добавил:
— Есть у нас соболь красной, а еще нужно ему куницу — красную девицу.
Любашин отец Пашута, перекошенный старичок с подергивающимся левым плечом, испуганно поглядывал на боярина и его дочь, заученно твердил:
— Милости просим дорогих гостей. Отведайте нашего угощенья.
На что Склир сухо ответил:
— Мы ведь приехали не пир пировать, не столы ставить, а в сватах…
Любаша, сидя за занавеской, со страхом прислушивалась к их речам. За нелюбимого шла, за старого. Сердцем льнула к Давыдке, но далеко занесло ясного сокола; может, и нет его давно в живых, может, выклевали вороны его ясные очи, дождями омыло его белые кости. Крупные слезы стекали по Любашиным губам. Глотала она их, обжигая рот соленой горечью.
Евпраксия отдернула занавеску, обдала Любашу запахом дорогих благовоний, села рядом с ней, обняла за плечи. Женским сердцем почуяла — не радость, беда вошла в избу Пашуты. Не по своей воле идет Любаша за Аверкия. Да и она, Евпраксия, будь даже среди холопок холопкой, даже самой обелью безродной, не пошла бы за этакого козла. Но дело было сделано, сваты уж просили показать невесту.
Любаша встала, и Евпраксия залюбовалась ее стройной фигурой. Да и лицом была она хороша — знать, не один парень сохнул по ней, думал — ему достанется. А вот на ж поди, приглянулась Аверкию; выдадут за него девку, нарожает она старосте сопливых ребятишек — мал мала меньше. Будет стирать мужу порты, стряпать да работать от зари до зари на огороде. К тридцати почернеет, превратится в старуху — обвиснут груди, пробороздят лицо, как орало поле, глубокие морщины.
Вышла Любаша к сватам бледная, прямая, по очереди поклонилась всем — отцу, боярину, дочери боярской, меченоше Склиру, своему и Аверкиеву отцу. Оглядел ее Склир бесстыдным блудливым взглядом:
— Ай да ярочка!
— Ай да куница, красная девица, — поддакнул ему Петрил.
Любаша покраснела, а Склир бил уж отца ее по руке. Все, кроме невесты, остались запивать сделку. Аверкиеву отцу Вашке принесли из телеги шубу, он надел ее и сел к столу; Любашин отец Пашута тоже надел шубу и тоже сел к столу. Потом они встали и ударили друг друга по рукам.
— Жить да богатеть, друг друга любить, — прошамкал Вашка.
После пили меды, ели рыбу и курятину, а Любаша голосила за занавеской:
Покатись, мой зычен голос, Ко всему роду-племени, Ко всей-то родне сердечной…Возле избы на лужайке толпилось полдеревни — бабы, мужики, малые ребятишки. Заглядывали в сени. Боярин распорядился выставить перед избой бочку меда — из своего запаса.
Пашута, охмелев, целовал Захарии руки, ерзал носом по мокрому столу:
— Век буду твоим должником, боярин…
— Ты и так мой должник, — отстранялся от него Захария. — Должок-то не забудь. К осени расчет. Помни…
Поздно вечером разошлись гости. Любаша уложила пьяного отца на лавку, вышла из избы — подышать ночным росным воздухом. Большая круглая луна выползала из-за леса. Прохладный ветерок тянул с Клязьмы. А за Клязьмой, в непроходимой чаще, утробно ухал филин.
Не Любаша первая шла замуж за нелюбимого, не она и последняя. Не в радость жить с Аверкием, а что делать?
У плетня выросла высокая тень — Любаша вскрикнула, хотела бежать в избу, но крепкая рука обняла ее, скользнула по плечам, по спине… Сразу узнала девушка боярского меченошу Склира. Горячие щеки его прижимались к ее лицу, жадные губы шептали ласковые бесстыдные слова. Не слыхивала еще Любаша таких слов, и, хоть противился разум, сердцем тянулась она к веселому меченоше.
— Люблю тебя, Любаша, — пьяно бормотал Склир. — Не ходи к Аверкию, стар он. Уедем во Владимир. Будешь жить в красном тереме, в шелках-бархате красоваться, есть будешь с золотого блюда…
— Не могу я, оставь, — хмелея от его слов, несильно отстранялась Любаша. Кружилась у нее голова, манила мягкая трава за плетнем. Думала, слабея: «Да что же это я?..»
Заутра, чуть заря, поп Кирша отправился в церковь приготовиться к венчанью. С вечера перепил меду, утром похмелился и теперь, идя по деревне, про себя бормотал обряд, как бы не позабыть. Был он неграмотен, псалтырь открывал только для виду, а службу всю помнил наизусть — выучил еще при старом попе, отрабатывая ему за науку в поле. Да еще платил попу зерном, да медом, да воском… Думал: помрет поп — оставит ему свой приход. Ан поп и помер, съев грибков на поминках. Отнесли его на погост, и за упокой души над ним вдохновенно пел Кирша, молодой и счастливый. Мужики и бабы приняли нового попа милостиво — как-никак свой, из Заборья, а старого попа им оставил Микулица. Микулица перевел попа в Заборье из Двориков, откуда его выгнали прихожане: говорили, ругается непотребно на клиросе, хоть уши затыкай.
Первый раз венчал Кирша в церкви, да и то не в срок. Обычно свадьбы играли перед самым снегом, когда урожай соберут в снопы и снопы смолотят. Но Аверкию, видать, невтерпеж — боится, как бы кто не опередил его: Любаша — девка приметная.
«Дорогонько обойдется ему свадебка, — рассуждал Кирша, отпирая церковь и с удовольствием втягивая в себя запахи елея и горелого воска. — Дорого да сладко. Обменялись сваты пряником и пивом».
Из-под горы тащился к церкви дьячок, тоже с похмелья. Заплетаясь ногами, подбрел к Кирше, встал поодаль, чтобы винным духом не разило. Выругался Кирша:
— Святые угодники на пьяниц угодливы: что ни день, то праздник.
— То не пьян еще, коли шапка на голове, — в тон ему сметливо ответил дьячок.
Кирша погрозил ему кулаком:
— Поиграй-кось…
Прислушался. С противоположного конца деревни донеслось нестройное пение. Сквозь девичьи голоса прорывались надтреснутые звуки гудков.
— Скоморохов нарядили?
— Как водится, — ответил дьячок. — Невестушку в баню повели, косу расплели, смыли волю вольную да красу девичью…
— Ну, я тебе! — цыкнул на него поп.
Свадебное шествие приближалось к церкви. В толпе плясали, стучали заслонками и колотушками. Скоморохи вертелись перед людьми, прыгали через головы, весело покрикивали:
— Золото с золотом свивалось, жемчужина с другою скаталась!
— Пей, чтобы курочки велись, а пирожки не расчинивались!
— Гусь с уткой идет, боярин вина несет!..
Шумели вволю. У церкви приутихли. Невеста склонилась, коснулась зубами церковного замка:
— Мне беременеть, тебе прихоти носить.
В полумраке, у налоя, покачивались тонкие языки лампадных огоньков — высвечивали серьезное лицо Кирши, покрывало, толстую книгу. С икон глядели глубокие глаза святых.
— Господи, господи…
Поплыли перед Любашей рубленые стены, холодом обдало сердце: грешна, грешна. Но Кирша уже читал молитву. Бабы позади невесты шептались:
— Аверкиева свеча дольше горит — быть вдовцом…
— Тьфу ты, нечистая сила.
Когда Любашу и Аверкия обводили вокруг налоя, сваха разодрала девичью повязку. К подножью налоя бросали деньги — сулили в дом молодым богатство.
Кирша раскраснелся от возбуждения — вдохновенный голос его взлетал под невысокие своды церкви, эхом докатывался до молодоженов. Аверкий счастливо улыбался. Через силу улыбалась и Любаша. Глаза же ее были прикованы к Склиру, стоявшему рядом с женихом. Меченоша держался прямо, бородка его топорщилась, губы были поджаты, левая рука до белоты сжимала крестовидную рукоять меча.
Венчальные свечи задули разом — чтобы жить и умереть вместе.
Едва живая вышла Любаша из церкви. А тут подружки окружили молодых.
Отставала лебедушка Что от стада лебединого, Приставала лебедушка Как ко стаду ко серым гусям,—пели они. Скоморохи снова вырвались вперед, забренчали в гудки.
«Да как же это? — думала Любаша. — Почему?!» И опять, и опять вспоминала вчерашний вечер, красную луну над лесом, летящий с Клязьмы ветерок, сильные руки Склира и пылкий шепот его: «Люблю тебя, Любаша… Будешь жить в красном тереме, в шелках-бархате красоваться, есть будешь с золотого блюда…»
Подружки, набегая с боков, осыпали Любашу и прямого как жердь молчаливого Аверкия пшеном и просом.
— Дай бог вам любовь да совет, — наставляли старухи, утирая рты вышивными убрусами…
Вечером Склир упал боярину в ноги:
— Батюшка боярин, казни али милуй. Но без Любаши жить я не могу. Думал, пройдет. А не прошло — как дальше быть?..
Надолго, ох надолго запомнилась мужикам эта свадебка! Чего только не съедено было, а уж выпито-выпито-о…
15
Утром Захария отослал Склира во Владимир.
— Дурь-то из головы выбрось, — строго наказал он. — Перепугал ты меня давеча. Не твоя Любаша жена, богом со старостой моим венчана. Или нет на тебе креста?
Молча подчинился Склир боярину. Плетью обуха не перешибешь. А от самоуправства добра не жди. Не бывать с ним Любаше. Уж омыла, поди, ноги своему старику, управляется по хозяйству на мужнином дворе.
Ускакал Склир во Владимир; проезжая мимо старостовой избы, попридержал коня. Показалось ему, что мелькнули в отволоченном оконце Любашины жаркие глаза. Эх, Любаша, Любаша, когда-то теперь свидимся?.. Да и свидимся ли?..
А у старосты с утра переполох. Проснулся Аверкий на лавке, пошарил рядом рукой — нет молодой жены. Охая от головной боли, прошелся по ложнице, вспомнил: с вечера пил и пил меды. Вспомнил еще, что в ложнице плясали, и в горнице плясали, и на улице перед избой. Потом все заволокло хмельным дымом. Не ладно получилось — поморщился Аверкий. Позвал Любашу — ни слова в ответ. Вышел, почесывая поясницу, во двор, а во дворе свекор, а перед свекром — Любаша, вся пунцовая от смущения. Вашка топал ногами и матерился.
— Увели бельишко супостаты, все как есть увели. И лари очистили.
Аверкий спросил отца:
— Чего бормочешь, старый?
— А то бормочу, что пригласили скоморохов, да на свою головушку. Очистили они нас, как есть очистили. Одни порты тебе оставили, да и те с дырами…
— Ах, чтоб те их! — выругался Аверкий. — Ну а жена моя при чем?
— А при том, что Любашины подруги скоморохов и пригласили, — ответил Вашка.
Тут от болоньи проезжал верхом на коне боярин. Услышав крик, остановился. Громко приветствовал с седла:
— Мир да любовь молодоженам!
Увидев Захарию, Аверкий с Вашкой упали на колени. Только Любаша как стояла, так и осталась стоять, будто и не видела боярина. Не понравилось это Захарии. Вспомнил он Склира, нахмурил брови, повел в сторону Любаши черенком плети:
— Молода жена, да спесива.
Не подымаясь с колен, Аверкий зашикал на жену. Прикрикнул на сноху и Вашка:
— Пади, пади!..
Любашка поглядела на них с усмешкой, опустилась на колени — будто милостыньку подала. Хоть и осерчал, а залюбовался на нее Захария. Стала Любаша после супружеской ночи еще краше прежнего. Русые косы, округлые плечи, под сарафаном угадывается крепкое тело, щеки подкрасил стыдливый румянец.
— Ты вот что, — сказал боярин. — Ты жену-то свою пришлешь ко мне ввечеру. Погляжу, хороша ли стряпуха.
Захария хохотнул, а муж Любашин, услышав это, побледнел, склонился еще ниже, чтобы, чего доброго, не заметил боярин тревожного блеска, окатившего сузившиеся глаза.
— Все исполню, благодетель.
Ехать бы боярину своей дорогой, а он еще помешкал, разрывая Аверкию сердце. Сидя на коне, грузный, обрюзгший, постукивал комельком плети по голенищу шитых золотой нитью сафьяновых сапог. Попросил Любашу ласково:
— Ты бы, красная девица, водицы принесла испить.
Разом вскочили с колен Аверкий и Вашка.
— Медку, боярин, — перебивая друг друга, стали предлагать они, — медку отведай.
— Кшыть! — замахнулся на них Захария, — Водицы мне!
Любаша вынесла из избы ковш колодезной воды, с улыбкой протянула боярину. Захария принял его, неторопливо выпил до дна, крякнул, промокнул рукавом усы.
— Всяк кулик на своей кочке велик. Спасибо, хозяйка, за водицу.
Отъехал боярин, оглянулся — стоит Любаша с ковшом в руке, грудастая, ладная, глядит ему вслед. Как тут не вспомнить Склира.
С утра Захария — так-то каждый день — объезжал вотчину, посматривал с коня на работающих в поле мужиков. В лесу, на повале, задержался подольше. Нравилось ему глядеть, как падают с треском под ударами топоров кряжистые лесины, как очищают их от сучков, сдирают кору, а после волочат уроненные деревья к дороге. В лесу едко пахло сосновой смолой. От костров, разложенных неподалеку, курился дым. Сучья бойко трещали, разбрасывая белые искры, дым низко стлался по траве, стекал в ложбины, завивался в кудри между золотистыми стволами еще не тронутого леса. Там, в глубине, оседали голубоватые тени, вытягивались тонкими былиночками заблудившиеся в сосняке березки.
Завидев боярина, мужики втыкали в кокоры топоры, стягивали с потных голов шапки.
— Не ленитесь, поспевайте! — покрикивал Захария и проезжал мимо.
Соснячком да мелким березнячком путь его лежал к реке. Почуяв воду, конь заволновался, тихонько заржал… У самой реки березняк сменила ольха. В конце тропки, под горой, засеребрилась вода. В мелкой ряби дрожали, вспыхивали и гасли солнечные чешуйки. А комарья, комарья — видимо-невидимо!.. Едва отбивался от него боярин.
На самом берегу, на колышках, сушился бредень. Второй бредень мужики завели в заводь. Двое шли по берегу, двое — по горло в воде. Край бредня, сильно натягивая, вели к мыску, возле которого кончалась заводь. Отфыркиваясь, мужики выбирались на отмель. Рыба резвилась и прыгала через край бредня, в сетях трепыхалась всякая рыбья моль.
Боярин не стал отрывать рыбаков от дела, — так и не доехав до поляны, повернул коня и снова выбрался на взлобок берега. Взмахнул плетью. Конь живо понес его вперед. Ветки щелкали по плечам, по шапке, по лицу. Боярин улыбался, хорошее было у него настроение. Да и почему бы не радоваться?!
Вдруг Захариев конь, захрапев, вскинулся, пошел боком. Большой черный человек, выскочив из кустов, ухватил его одной рукой за узду и без напряжения заломил на сторону голову. Забеспокоившийся было конь присмирел, Покорно переступая ногами. Из-под копыт его серой глухаркой вынырнул мальчонка лет пяти, без штанов, в изодранной до пупка рубахе.
— Кто таков? — крикнул боярин чернявому великану. Сам он тоже оробел — этакое страшилище; а кто скажет, что у него на уме?..
— Мокей, кузнец твой, боярин, — ответил великан.
— Ты что же, Мокей, — приосанился Захария, разглядывая кузнеца, — боярину поперек дороги встреваешь? Боярского коня, не спросясь, берешь под уздцы?.. Дерзишь!
— Да я… мальчонка вот, — смешался Мокей, указав пальцем на все еще стоявшего у тропы ребенка.
— Звереныш — чей? — спросил, совсем уже оправившись, Захария.
— Тетки Марфуши он… Совсем малец…
— Вижу, что малец, а — дерзок… — В холодных глазах боярина сверкнула бешинка. Выругавшись, он с сердцем стегнул коня плеткой, поднял его на дыбы и нырнул в прозрачный березняк.
Быстрая езда скоро успокоила его. Мысли устремились в привычное русло, хотя еще нет-нет да и вспоминалась нечаянная встреча. Ох-ох, послабленье пошло по Руси. А вот таких бы — да в яму, в яму… Встряхнул Захария головой — наважденье! — тяжелым взглядом скользнул по окрестным полям, мыслями перенесся во Владимир. И подумал он — за все время впервые: а верно ли поставил, не прогадал ли? Юриев корень крепок: Юрьевичи — прямые потомки Мономаха. Тяжела рука была у Андрея. А чем Михалка слабже, а Всеволод?.. Вчера каша вылезла из горшка в печи — недобрая примета. Захария перекрестился. Пощупал пальцами грудь: две иглы крест-накрест торчат на груди от порчи. Но хоть и верил боярин приметам, за собственную сметку крепче держался. Решил: как начал, так и вести до конца. Даст бог, Ростиславичи устоят.
16
Всю дорогу до самого Чернигова Давыдка и Володарь дивились давешнему купцу, подарившему им коней. Погадав, поняли: не из страха сделал купец, не по принуждению — этакого-то не испугаешь!.. Другое было у купца на уме. Добро, как и впрямь знает он Левонтия. Значит, дойдет до камнесечца слушок: живы они.
К Чернигову подъехали засветло. Ворота были отворены, никто приезжих не пытал: куда и откуда. Спокойно текла в городе жизнь, не волновала людей смута. Справно платили люди дань — князю, монастырям, собору; дань с избы, дань с огорода, дань на починку мостовой, на насыпку валов, на золочение крестов. Однако жили — не тужили, шапку перед соседями не ломали. Всего было вдоволь у черниговцев — и плодородной земли, и дичи, и рыбы. А то, что половцы торкались в накрепко запертые богатырскими заставами степи, то и к этому были уже привычны черниговцы: с кольчугой не расставались, спали, меч положив под голову. Старым князем своим Святославом были довольны. Не роптали, не звали других. Гостей хлебом-солью встречали.
Узнал князь о прибытии послов из Владимира, велел немедля звать их в гридницу.
Встретил Святослав Давыдку и Володаря, сидя в высоком кресле, приподнялся им навстречу, да тут же и снова опустился на мягкие подушки, захлебнувшись кашлем, — хоть и любил он прикидываться немощным, да явного не утаишь: бодрый дух гляделся в маленьких, широко расставленных глазках. Говорил князь тихо, лаская гостей, исподволь вызнавал у них владимирские новости, сопоставлял с теми, что доставляли гонцы Ярополковы, прикидывал, чью сторону выгоднее держать. Давно уже нацелил Святослав цепкое, как у коршуна, око на Киев, мечтал сесть на великий стол, но был рассудителен: воюя с князьями, глядел, как бы за смутой у самого не выхватили какого куска: вона как резвятся на Руси молодые соколы!..
Стряхивая с бороды крошки от сладких пряников, Святослав сказал посланцам, что Михалка немочен, вот уж с неделю, а то и боле не выходит из терема, а младший, Всеволод, должен быть с часу на час.
Смеркалось. Неслышно скользя по половицам, слуги внесли и поставили на столы большие подсвечники. Святослав помрачнел, велел кликнуть постельничего, одноглазого лысого дядьку, ведавшего и всем прочим хозяйством, ворчливо пожурил его за неугодное богу расточительство.
— Довольно будет и двух свечей, — сказал он.
Подсвечники тотчас же унесли.
Сидя так, при двух свечах, Давыдка и Володарь пили кислый мед, жевали перепревшую старую лосятину. Видать по всему — поскупился князь. Знатных гостей, поди, потчевал бы журавлями да лебедушками, а им велел принести остатки от вчерашнего ужина.
Заслышав на дворе стук копыт и громкие голоса, гости оживились. Святослав тоже забеспокоился. В широко расставленных глазках его заметалась тревога.
Дверь в гридницу распахнулась, и в низком проеме ее показался Всеволод.
С хитрой усмешечкой в уголках губ, торопливо, слишком торопливо поднявшись с кресла, Святослав подался навстречу молодому князю, суетливо припал бородой к его смуглой щеке. Освободившись от объятий, Всеволод повернулся к посыльным. Окинув их быстрым взглядом, спросил, откуда они, зачем прибыли в Чернигов.
Давыдка и Володарь не оробели.
— Поклон тебе, княже, от Владимира. Посланные мы. Денно и нощно скакали передать просьбу великую горожан наших тебе и брату твоему Михалке… Есть грамота при нас, не соизволишь ли взглянуть? — сказал Давыдка.
— Погоди, погоди, — поморщившись, остановил его Всеволод. — Что-то лицо мне твое знакомо. А не служил ли ты в дружине покойного брата моего Андрея?
Лицо Давыдки расплылось в улыбке.
— Истинно так, княже.
Тогда Всеволод сделал шаг вперед, обнял Давыдку; чуть помедлив, обнял и оробевшего Володаря. Спросил его:
— Ты кто таков?
— Кожемяка он, — сказал Давыдка. — Голова всему делу. И грамотка при нем. А я при посланном.
— Так-так, — пробормотал Всеволод и сбросил на лавку перекинутое через плечо мятое корзно. Давыдка взглянул на Всеволодовы руки — были они тонкие, сильные, жилистые. Одна рука покоилась на рукояти узкого меча, другая перебирала русую бородку.
Святослав, покряхтывая, вернулся в кресло, водрузился в нем, блаженно полуприкрыв глаза. Всеволод оглядел скудную трапезу на столе, усмехнулся.
— Славно, славно, — проговорил он. — Вижу, угощались без меня. Давно ли приехали?
— Ты бы, Всеволодушка, проводил послов-то к Михалке, — посоветовал Святослав. — Занемог он, отдыхает в ложнице…
— Трясуница у князя, — пояснил Всеволод, добавил коротко: — Оно и верно. Пойдем к брату. Там и поговорим толком.
Когда они ушли, Святослав вздохнул с облегчением, вызвал служку, велел задуть свечи. Одному-то ему и в полумраке хорошо, любил он сумерничать без гостей. Перед сном приходят разные мысли. А думать можно и совсем в темноте — ни к чему переводить дорогой воск. Святослав встал, охая и покряхтывая, задул последнюю свечу. Гридница погрузилась во мрак, только отволоченные оконца белели расплывающимися неровными пятнами. В каждом оконце — по звезде… Да, тяжело князю управляться с огромным своим хозяйством: чуть не доглядишь где — и пошло по ветру накопленное с таким трудом богатство.
Широко вышагивая впереди, Всеволод провел Давыдку с Володарем по низкому, пахнущему мышами переходу в небольшую пристройку. Один ход из пристройки вел в кладовые, другой, слегка повышаясь, — на полати дворцовой церкви. Чтобы помолиться, князю незачем было в непогодь, в дождь или в снег, выходить на волю: все во дворце было под единой крышей, все под рукой.
Всеволод толкнул обитую медью дверь, и они прошли в холодные сени. В конце сеней виднелась вторая дверь. Узенькая лесенка за ней вела в ложницу Юрьевичей.
Мерцающий свет лампады перед иконами освещал низкие стены, уставленные полками, на которых теснились друг возле друга одетые в коричневую кожу книги. Книги были новые и старые, с потускневшими надписями на корешках; раскрытые книги в беспорядке, одна на другой, были свалены посреди большого темного стола. Здесь же были разбросаны пергаментные мятые свитки; они валялись и под столом, и под лавками.
Перед образами в накинутом на исподнее темном зипуне стоял на коленях и часто кланялся, крестясь, невысокого роста человечек с лысеющим черепом. Услышав скрип отворяемой двери и шаги вступивших в ложницу людей, человечек обернулся через приподнятое плечо. Давыдка увидел большие, чуть косящие глаза на худом лице, мягкую бородку с просвечивающей сквозь нее бледной кожей, узкий хрящеватый нос, покрытый мелкими капельками пота. Понял: князь Михалка!
Спокойно оглядев вошедших, Михалка снова отвернулся к иконе и забормотал молитву. У него был тихий, словно шелест опадающей листвы, бессильный голос. Одышка часто прерывала молитву. Михалка кланялся, бубнил, вздыхал, поправлял слабыми пальцами сползающий с плеч зипун.
Всеволод терпеливо ждал конца молитвы. Но вот Михалка поднялся, отрешенно улыбаясь, повернулся к вошедшим.
Приблизившись к брату, Всеволод бережно обнял его и довел до лежанки. Михалка опустился на постланную поверх досок шубу, зябко передернулся хилым телом.
И сейчас, и потом, во время всего разговора, лицо его не выражало ничего, кроме глубокой скорби. Иногда он вздыхал, проводил рукой по волосатой впалой груди, обессиленно кашлял и закрывал глаза.
Всеволод, не торопясь, громко прочитал грамоту, посланную владимирцами; закончив, молча уставился на брата.
— Вот как сыновцы наши распорядились Андреевым наследством, — тихим голосом сказал Михалка и скривил рот в болезненной гримасе. — Церкви разграбили, закрыли мастерские. Сколь у народа терпенья?.. Псы кровожадные. Люди молотить, а они замки колотить… Андреевы убийцы по земле безнаказанно ходят, поганят ее своим смрадным дыханием. А князья клятву давали. Верно сказано: у кошки когти в рукавичках…
— Как, брате, ответим на грамоту? — спросил Всеволод, выждав, пока Михалка выскажется до конца. — Аль отпустим послов без ответа? Слабы-де мы, не сдюжим. За Андреево наследство не постоим.
— Весь Владимир за вас встанет, князья-братья, — сказал Володарь. — Суздальцы тоже подсобят.
Князья молчали. Всеволод размашисто ходил по ложнице — длинная тень его доставала до самой матицы; лампадка, потревоженная воздухом, колебала пламя, раскидывала светлые и темные пятна по лицам, по корешкам книг, по желтому, в натеках смолы, потолку.
Давно ждал Всеволод этого часа — не век же ему кормиться на чужих хлебах! Да и отцово, Юрьево, принадлежит им двоим по праву. Вон посмеиваются другие князья, слушок и в народе прошел: хоть и клали на косматый тулуп, а без денег; хоть и принимали в отцову рубаху, а не в отца пошли… Легко ли выслушивать такое?.. Натерпелся Всеволод от Андрея, изгнавшего его с матерью, византийской княжной, из пределов Суздальского княжества, жил у дядьки своего цезаря Мануила, кормился объедками с византийского стола, но на брата зла не держал: понимал — править надо единой, железной рукой.
Чего только не нагляделся Всеволод за годы своего изгнания. Нянчили его цезаревы паракимомены, вместо сказок рассказывали всамделишное. Думали: дитя малое, лишь бы уснул, лишь бы не плакал. А мальчонка умом был востер, глазами цепок, уши держал топориком. С греческим языком впитал в себя Всеволод потаенную мудрость идущих к власти. Иной и знатного рода, а жизнь кончает на плахе; другой червем выбирается из чернозема, ползет, извивается, глядишь — уже наверху. На самой что ни на есть вершине… Кровь текла по Палатию, омывала гранитные плиты, каменела в порах, скапливалась в них веками. И в древних книгах, которые глотал маленький Всеволод, запершись в сумеречном зале библиотеки, рассказывалось все о том же — о хитрости, о коварстве, о смерти ради власти…
Каменело сердце Всеволода, каменело, но противилось явному — жила в нем древняя русская раскованность, прямота его пращуров, гордо говоривших врагу: иду на вы. Долгие годы боролся мальчик с самим собой. И если бы не мать, если бы не ее трепетное сердце, целиком обращенное к сыну, как знать, может быть, и ожесточился бы он, может быть, и вернулся бы на Русь холодным чужестранцем?.. Не своею, чужой была ей далекая Суздальская земля. Не своими, чужими были ей и леса, и реки, и люди, окружавшие ее много лет. Но сына своего видела она наследником Юрьевым, продолжателем великого дела. Потому-то и не оборвалась тонкая нить, потому-то и крепла она день ото дня, связывая его с далекой родиной. На родном, на русском языке говорила с ним русская нянька, русские песни пели ему русские гусляры, русские сказки рассказывали взятые в плен русские мужики. И далекий Суздаль снился ему сказочной обителью — напоенной живительными дождями, овеянной теплыми ветрами, могучей — в шишкастом шеломе и прочной броне с красным щитом в одной руке и с острым мечом — в другой. А вернулся, увидел: брат на брата идет, сын на отца, внук на деда. И, пользуясь усобицей, ползут на русскую землю половецкие рати — на низкорослых конях, с кривыми саблями, с бесовским рыком, с огнем и кровью. Русской кровью умывается русская земля, русских баб и детей уводят в полон поганые, продают в дикое рабство за тридевять земель…
Михалка болен. Жалко брата, по праву ему сидеть на владимирском столе, да надолго ли его хватит? А потом?.. Не ему ли, Всеволоду, суждено оградить отцову вотчину и от булгар, и от соседей, алчных златолюбивых князей?
— Аль отпустим послов с миром? — повторил Всеволод свой вопрос. — Оставим сыновцам Владимир на позор и разграбление?..
Говоря это, знал юный князь: больные струны Михалкиного сердца затрагивают его слова. И еще знал: не отступится Михалка от своего давнишнего обещания, потаенно сжигающего сердце, — отомстить врагам за кровь убиенного брата.
Нет, не держал Всеволод зла на Андрея, внутренне льнул к Андрееву делу. Будь и он на месте старшего брата, и он беспощадно отсек бы все, что мешало задуманному.
Михалка пошевелился на шубе, снизу вверх глядя на Всеволода лихорадочно горящими глазами, твердо сказал:
— Ты, брате, собирай-ка дружину. Верю владимирцам, послам верю. Помолясь, решим дело бранью, ежели миром разрешить не можем. Поклялись они отдать нам Владимир да Ростов — сами же клятву нарушили. Здесь нашего коварства нет.
Всеволод сел на лавку, порывисто обнял брата.
— Иного ответа от тебя не ждал. Велю немедля собирать войско.
Давыдка с Володарем переглянулись.
— И мы с вами, князья, нешто останемся в стороне, — сказал Давыдка.
17
Коня загнал боярин Детилец, привез Ярополку во Владимир плохую весть: каменщиковы посланцы прошли через Москву, на том и след их пропал — должно, добрались до Чернигова. Быть беде.
Князь наградил боярина за усердие; оставшись один, приуныл. Сидел в гриднице, подперев голову кулаком, думал нелегкую думу. Но дума стройно не складывалась, приходили всякие темные мысли.
Не раз уже заглядывала в гридницу карлица Явориха, качала головой, вздыхала. Княжья немочь больно ранила ее. Наказав девкам в поварне, что и как стряпать, пробралась она к Ярополку, подползла к нему на коленях, стукнула лбом в половицу.
Услышав шорох, князь повернулся, грустной улыбкой приветил карлицу.
— Что пригорюнился, княже? — глядя ему в глаза, спросила Явориха. — Опять опечалили тебя вести?
— Худо мне, Явориха, — сказал Ярополк. — Не сносить мне головы: дядья собирают войско.
— И, миленький, — пропела карлица, кривя беззубый рот. — Взял топор — возьми и топорище. До поры не кручинься. Беда куны дарит.
— Да какая мне от того выгода?
— Была бы голова, будет и выгода, — отозвалась Явориха. Сидя на полу у ног Ярополка, она ласково погладила ему колено, потерлась о его опущенную ладонь щекой.
Плела старуха слова, будто кружево, пересыпала речь свою пословицами, а за пословицами вела одну тайную мысль:
— Ты порошочку-то Михалке подсыпь, порошочку. Пошли меня, старую, в лесок, соберу тебе травки. Подсушу, истолку в ступе… Хе-хе. Аль некому постоять за князя, неужто не сыщется верного человека?
Ярополк содрогнулся, отпихнул карлицу ногой:
— Чего бормочешь, старая?
Но сказал не зло, посерчал только для виду. Оттого и не уползла карлица. Поластилась, поохала, да и опять за свои кружева.
Ярополк спросил ее:
— А есть такая травка?
Поняла его старуха, засветилась всем лицом:
— Спасибо тебе, князюшко. За трапезу не волнуйся — девки стряпать мастерицы. А я покуда в лесочек, в лесочек…
Проворковала и скрылась. Встрепенулся Ярополк, хотел возвратить карлицу, а ее и след простыл. «Видать, судьба», — решил Ярополк и послал за Мстиславом в Суздаль.
С посланным Мстислав повелел передать, что будет во Владимире поутру.
С нетерпением ждал Ярополк брата. Отстоял службу в соборе, замаливая грех; но, выйдя из собора, снова будто окаменел — подсказанное карлицей запало глубоко в сердце. Еще бы: не малый соблазн это — покончить со всем без риска и разом.
Мстислав удивился мрачности брата. Был он хоть и старше Ярополка, но выглядел моложе: красивый, доступный, простой. Мстислава не мучили угрызения совести. Услышав от Ярополка о замыслах Михалки, он проговорил запальчиво:
— Вот и ладно. Пообмякло тело без рубки. А только скажу тебе, брате: зря ты отпустил Михалку из Владимира, на себя понадеялся.
— Не запирать же его было в поруб… Клятву мы дали — не он, — пробормотал Ярополк, все еще не решаясь посвящать брата в свои планы. Да и не знал, с чего начать непростой разговор. Только понимал: без Мстислава никак нельзя — связала их судьба единой веревочкой. А значит, виться той веревочке до конца.
Речь свою повел Ярополк издалека. Похвально, что Мстислав жаждет сразиться с Михалкой в честном бою. Но всегда ли сила на стороне правого?.. И кто сказал, что оружие — только меч или копье? Сходились богатыри и врукопашную, полагаясь на одного только бога. А божий суд и в небесах, и на земле. Где от него укроешься? Карает он и небесным огнем, и черным мором. А разве не погибали князья от наговоров и клеветы? И не подсылал ли бог к тому, кого хотел наказать за грехи превеликие, убийц с кинжалом или даже ядом?..
Ярополковы слова поколебали самоуверенность брата. Не умел Мстислав говорить, не поднаторел в учености и потому слушал Ярополка со вниманием. Все глубже и глубже проникали в него ползучие речи владимирского князя, и все бледнее становилась пугавшая его с детства тень Окаянного Святополка, порешившего братьев своих Бориса и Глеба…
Знал Ярополк, за какой конец взяться, — темное будущее нарисовал Мстиславу. Время ли раздумывать, ежели судьба стучится у ворот?! И не судьба, а бесчестье. Им же господь вложил в руки оружие — не они идут с бранью на дядьев своих, дядья идут на сыновцев. А ежели владимирский и суздальский стол останется за ними, значит, и правда на их стороне, — значит, простятся им все грехи. В случае же неудачи мыкаться молодым князьям по белу свету, просить подаяния, жить изгоями до конца дней своих. Второй раз Михалка на раздел не пойдет. Возьмет себе Владимир и Суздаль, а Переяславль и Ростов отдаст Всеволоду.
Проглотив ком, Мстислав сказал:
— Быть по-твоему, брате.
И снова призвал к себе Ярополк послушную карлицу. Старуха тут же явилась на зов, преданными глазами впилась в лица молодых князей.
— Все ли сделала, старая? — спросил ее Ярополк. — Ходила ли в лес, собрала ли зелья?
— И в лес ходила, и зельюшка собрала, — проквакала мамка. — Зелье в печурке сушится, набирается тайной силы.
— Пусть набирается, — сказал Ярополк. — А мы с братом покуда медку изопьем. Прикажи-ка своим девкам нацедить самого сладкого.
— Нацедим, князь, как велишь.
Старуха улыбнулась, открыв полый рот с единственным зубом-резцом, и, пятясь, скрылась за дверью. Мстислава передернуло.
— Ведьма твоя мамка, — сказал он. — Креста на ней нет.
— Зато крепкой веры. Горло за меня перегрызет. Подыхать будет, а рот разинет, чтобы недруга укусить. Сыщи-ка такого среди любимых гридней. Не сыщешь. Глазами алчными ждут посул. А коли золото в суме не позвякивает, глядят по сторонам: к кому бы переметнуться.
— Что верно, то верно, — согласился Мстислав.
Девки принесли мед, расставили жбаны на льняной скатерти, к меду подали блюда с ромейскими сладостями.
Князья выпили по чаре — полегчало. Налили по второй — совсем осмелели. Стали говорить о задумке своей, не таясь. Да и кого таиться? Себя таиться? Зачем, коли уж на дело этакое решились?!
Думали-гадали: кому вручить свою кривду? Одно знали — человеку верному, но неприметному, чтобы у Михалки, упаси боже, не вызвать подозрений. Сидели, потели, наконец надумали: кому, как не Петряте, московскому огнищанину. Как ни поверни, по всему подходит Петрята, а главное — Кучковичам родня. Кучковичам от Михалки не ждать пощады. Сядет Михалка на стол, расправится с Андреевыми убийцами. А там доберется и до огнищанина.
Допоздна сидели князья, пили мед, а радости не было.
За окнами серело — кончалась ночь, под утро пошел дождь…
Глава шестая
1
Понаторел Ярун в торговых делах. Знал, куда с каким являться товаром. Умел считать и рисковать. Без риску купцу лучше на печи кости паром мягчить, нянчить сопливых ребятишек.
Рубили Яруну на Клязьме крепкие лодии.
Раз явился он к Левонтию. Весел был. Весь вечер сыпал шуточками. А когда наговорились всласть, сказал напрямую:
— Парень мне твой приглянулся, Левонтий. Не отпустишь ли со мной к булгарам? Чем ему здесь в бане твоей прокисать, лучше поглядеть белый свет.
Читал Ярун чужие мысли, как открытую книгу: не по душе Никитке вынужденное безделье. Велик ли почет — лошадок да свистульки из деревяшек вырезать? Настоящий мастер тянется в мир. Не гордится: мы-де, владимирские, и не такое видывали, мы-де всех умнее и всех искуснее. Для мастера все сгодится — глаз у него востер, сердце доброй красоте настежь открыто. Чужое отринет, свое к делу приладит…
Отчего же не поехать? Никитка закивал головой — согласен, мол. Одно только смущало парня: Аленка.
Левонтий понял его, успокоил:
— Об Аленке не тужи. У добрых она людей, а ежели в беду попадет — вызволю. Езжай себе с богом.
Лодии отчалили от Владимира на рассвете. Чуть ниже Боголюбова, у самого устья Нерли, отстояли молебен в новой церкви Покрова, вспомнили возводившего ее Левонтия и поплыли вниз по Клязьме.
Под Боголюбовом были княжеские угодья, а дальше потянулись общинные земли. Народ здесь дышал вольно, исправно платил дань. Чтобы уберечь его от булгар, поставил князь Юрий в низовье Клязьмы Гороховец, небольшую, но неприступную крепость на высокой горе. Не раз уж разбивалась о ее крепкие стены булгарская конница.
На десятый день лодии вынесли их на широкий простор Оки. Ночевали на песчаной косе, защищенной от ветра грядой соснового леса. Развели костры, надели мясо на вертела, подвесили над огнем. Купцы рассказывали были и небылицы; вои, посланные охранять лодии до Булгара, слушали их, открыв рты. Чудно живут купцы, весь век в пути: где встали на привал, там и дом родной. Не страшатся идти на чужбину, с погаными — и с теми торгуют. А уж люда разного повидали — не счесть. Велика земля: на запад пойдешь — выйдешь к ромеям или германцам, на восток — к булгарам, на север — к веси, на юг — к аварам и косогам. И всюду говорят по-своему. Много языков знают бывалые гости, а ежели какого не знают, берут с собой переводчика. Ярунов переводчик Мамук, черноволосый, черноглазый, юркий, плыл на головной лодие.
Во Владимире все его знали. По утрам к усадьбе купца Канора, где жил Мамук, сбегались мальчишки со всего города — в щель поглядеть, как булгарин станет своему богу молиться: постелет коврик, проведет по лицу ладонями, будто умывается, и ну бить лбом в землю…
Привели его боголюбовские пешцы из последнего своего похода на булгар, отдали купцам — глядите, мол, вы люди хожалые. Купцы выучили Мамука русскому языку, А к хозяину своему Канору он, как собачонка, привязался: куда Канор, туда и Мамук. Придут на пир — хозяин за стол, а Мамук — возле лавки на пол, подожмет под себя ноги, сидит, молчит и ждет. Напьется Канор — он его на спине до дому тащит.
Три дня выпрашивал Ярун Мамука. Уперся Канор — не отдам, и все тут. Ходил к нему и Левонтий, совестил купца. Напрасно. На четвертый день с утра привез Ярун на Каноров двор подводу с воском. Вышел Канор на крыльцо, ухмыльнулся.
— Что ж, — говорит, — заходи. Товар на товар.
А когда выпили браги да закусили, велел звать в горницу Мамука.
— Упрямый ты мужик, — сказал он Яруну, — Переборол ты меня. Бери свово булгарина. А воска у меня и без того полны кладовые…
…Все дальше и дальше на восток продвигались лодии Яруна. Гребцы, напрягая сильные тела, с трудом поднимали и опускали весла. Тяжелы были лодии, ценный груз покоился на их днищах. Все круче вставало солнце, всё жарче припекало согнутые спины гребцов. Иногда с запада наплывал ветер, и тогда гребцы отдыхали. На мачты натягивали паруса. Ветер надувал их, как щеки, гнул мачты, и лодии, будто обретя крылья, не плыли — летели по окской мутной воде.
Волга показалась на рассвете. Люди с тревогой и любопытством вглядывались в синеющую даль. Две струи, смешавшись на середине, величаво катились вниз, к высоким холмам, затянутым колючей шерстью елового леса. Лес был и по ту сторону реки — он вставал плотной стеной, и поднимавшееся солнце вскидывало над ним высокие языки пламени. Казалось, в чаще бушевал огонь.
Паруса поникли, съежились, захлопали на ослабевшем ветру. Все стихло вокруг. Даже лес притих, стоял, не шелохнувшись. Лодии плавно покачивались на широкой волне.
Ярун очнулся первым, навалившись грудью на поручни, крикнул гребцам, чтобы не зевали, а приналегли на весла. В мутных водоворотах, бортом разворачивающих лодии, плескались большие белые рыбины.
Солнце поднималось все выше. Леса отодвинулись в глубь берегов. Ударил сильный порыв ветра; снова вздувшиеся паруса зашелестели, упруго загудели, запузырились под носами лодий пенистые волны. Иногда на берега выходили табуны низкорослых лошадей. Их сгоняли в круг юркие всадники в лохматых шапках.
Ярун заметил: едва вышли на Волгу — Мамука будто кто подменил. В глазах появился хищный блеск; подняв к небу лицо, он по-волчьи ловил далекие запахи — горьких трав, конского пота и кизяка.
Родина!.. Вот так же и Ярун, бывало, возвращался на Русь из дальней дали — от ромеев, от франков. Так же с тревогой ждал, когда покажутся родные берега.
Далеко Русь от Булгара — две недели пути вниз по течению, а вверх по течению вдвое больше.
День ото дня Волга становилась все оживленнее. На откосах теснились большие и малые села, по дорогам скакали всадники, у причалов грудились лодки. По всему чувствовалось: большой город где-то совсем рядом.
2
С Волги Булгар не заметить. Только если очень внимательно приглядеться, можно различить в редкой дымке что-то темное, высящееся на далеких холмах. Это крепостные валы города.
К Булгару вел неширокий канал Меленка, весь заставленный прилепившимися к берегам лодиями.
С причала, едва бросили якоря, на палубу поднялись ханские сборщики подати с березовыми дощечками в руках и с чернильницами за поясами. Они почтительно приветствовали Яруна со спутниками и попросили показать им товар. Лишь после того, как была уплачена пошлина, всем разрешили сойти на берег.
Мамука словно ветром сдуло, раза два мелькнула в толпе его конусообразная шапочка и тут же исчезла. Вернулся он через час, веселый и возбужденный. В торговом предместье возле Греческих палат есть свободные избы, сказал Мамук, в них разместятся и купцы, и вои.
Шагая вслед за Яруном и Мамуком, Никитка с любопытством смотрел по сторонам. Всюду на их пути попадались лавки торговцев с выставленными напоказ товарами. То, что не умещалось внутри, было разложено на земле или развешано на столбах. Предлагали бархат, сафьян, самшитовые и березовые гребни, затейливые замки в виде лошадиных и собачьих голов, белужий клей, рыбьи зубы, лисьи, куньи и собольи меха. Здесь же торговали кумысом, разливали его в деревянные чаши из тугих черных бурдюков. А рядом продавали крепкий медовый напиток сидшу и перебродивший березовый сок — березовицу.
Шумели, разноголосо кричали пестрые улицы Булгара. В предместье топили печи, призрачные дымки стлались над Меленкой, за рекой курились костры.
Изба, в которую пригласил русских гостей Мамук, Яруну приглянулась. Чисто, светло, стены и потолок обиты разноцветным войлоком, войлок на лавках и на полу.
Их уже ждали. В комнате суетился хозяин, высокий и худощавый булгарин с белыми зубами и большим улыбчивым ртом; ему помогала молодая жена в прямом темно-красном платье и акруфе — высокой конической шапке, украшенной павлиньими перьями.
Едва только Ярун с Никиткой сели на лавки, как перед каждым из них появились маленькие низкие столики. Точно такой же столик поставили и перед Мамуком. Отрезав большой кусок мяса, хозяин подал его с поклоном Яруну как старшему, затем отрезал и протянул по куску Никитке и Мамуку. Запивали мясо густым ячменным напитком, пили также кумыс и брагу. Пели русские и булгарские песни. Никитка не заметил, как задремал.
— Обмяк после дороги-то, — услышал он знакомый голос и открыл глаза.
Ярун, стоя над ним, добродушно посмеивался в седеющую бороду.
— Спи, спи. Завтра чуть свет подыму…
3
Давно это было. Вышли бродники на легких долбленках в море — налево поглядели, направо: вокруг ни души. Только поворачивать навострились, только опустили весла, а дозорный с носа голос подает: «Лодия!»
И верно — как только они ее сразу не заприметили: идет себе тихохонько под ветрилами, к берегу прижимается. По степенной осанке видно — важный гость.
Налегли бродники на весла, пустили в лодию стрелы. Стали приближаться, окружили гостя заморского, забросили крючья, полезли через борта. Воев на лодие было мало, с ними быстро управились, но самого купца долго достать не могли: прижался к мачте спиной, мечом размахивает, и что ни мах — то копье пополам, что ни другой — то голова с плеч. Кольчуги рубит, будто их и нет, мечи, как деревянные, рассекает.
Догадались бродники, что меч у купца не простой и в ближнем бою супротивника не одолеть, откатились на корму, стали метать в него сулицы. Сразили купца, поделили добычу, а меч взял себе атаман.
Верно ли, нет ли, но оставшиеся в живых гребцы сказывали, что привезен этот меч из страны, где восходит солнце. Только там такие и делают — с ветвистым узором якиба. Хороши аравийские клинки, закаленные в мускулах живых рабов, но этот лучше. Этому на торговище цены нет.
Как меч к Яруну попал — долгая история. В разных побывал он руках, а Яруну его подарил атаман, что за главного был у бродников: спас ему жизнь купец в жестокую бурю. Купцу, известное дело, меч руки не тянет. В пути всякое может приключиться. Не раз отбивался Ярун от лихих людей, не раз боронился от половцев. Многие про его меч прослышали. Стали торговать. И чего только не давали, но Ярун — ни в какую.
Как-то раз и такое было: схватили его люди боярина Вышаты, в лес отвезли, стали уговаривать: скажи, мол, где меч, отпустим тебя с миром, а не скажешь — лишим живота. «Хорошо, — говорит Ярун, — вы меня отпустите, меч я вам принесу сам». Но люди Вышаты ему не поверили и пошли в город вместе с Яруном. И все-таки он обманул их: был у него другой меч, тоже булатный, он его и отдал, а больше, говорит, у меня ничего нет. И слух распустил, что меч у боярина Вышаты, навел на него охочих до чужого добра людей. Те и спалили у Вышаты усадьбу, самого боярина топором посекли, а меч унесли с собой. Яруна с той поры больше не беспокоили. Знать, по иному следу пошли. Вот и ладно.
Но меч-то как был у Яруна, так и остался — лежал на дне потайного ларя, а зачем возил его с собой Ярун — тайна.
Никитке Ярун сказал:
— Узнал я от добрых людей, что живет в Булгаре старый купец, знающий дорогу в Страну Мрака. А как к нему подступиться, не ведаю. Вот и выпросил я у Канора Мамука, потому как еще в Новгороде слышал: знает Мамук того человека, который ходил к Океану.
У Никитки глаза округлились от восторга:
— Нешто правда есть Океан?
— Правда, — Ярун нахмурился, уставился черным глазом в красное пламя свечи. — Разного народу довелось мне повидать сам тоже немало плавал. Эх, Никитка, и где только мою лодию не носило!.. И сказывали люди, что и с юга, и с запада, и с востока, и с севера — со всех сторон вокруг нас Океан. И, сколь ни плыви, нет ему ни конца ни краю. Но ежели очень долго плыть, то есть-де и там земля, а за нею еще и еще. И опять вода, и опять земля. А где он, край-то? Краю-то и нет…
— Что ты такое сказываешь, дядько Ярун?! — замахал Никитка руками. — Как же краю-то нет?
— А вот так и нет, — улыбнулся Ярун. — Вроде бы и должон быть, а нет.
— Страшно, — сказал Никитка. — Это что же, дядько Ярун, получается. Это получается, будто мы все на большой лодие, да? Вокруг море-окиян, а мы в лодие плывем. Куды волны несут, туды и плывем?
— Должно, так, — напрягая мысли, согласился Ярун. — Да не печалуйся: в лодие ли, не в лодие ли — живи.
— Живи, — сказал Никитка. — А ежели волнами куда выбросит?
— Не выбросит, — успокоил его Ярун. — Земля велика — до одного Булгара сколько ден пути, а до Царьграда, до Хорезма? На такой лодие ни в какую бурю не страшно…
Никитка недоверчиво покачал головой:
— Ну и выдумщик ты, дядько Ярун, ну и хитрец.
Ярун засмеялся:
— А ты слушай да на ус мотай. А покуда мотаешь, меч погляди. Раз покажу, во второй не допросишься.
О чудесном Яруновом мече Никитка еще во Владимире от Левонтия наслышался, а теперь сам держал его в руках. Старые, захватанные кожаные ножны были почти без украшений, рукоять ребристая, ловкая, на крестовине — камень-лал. Но главное — клинок. Таких клинков Никитка сроду не видывал: золотистый, с волнистым темным узором в прозрачной, как лед, живой глубине…
Еще на лодие, когда плыли из Владимира, стал нетерпеливый Ярун выведывать у Мамука: верно ли сказывают люди, будто живет в Булгаре человек, ходивший на север, к Океану?
Когда еще Мамук учился в медресе, он кое-что слышал об этом. В медресе зубрили Коран, но Мамук не был прилежным учеником. Он любил бродить по городу, бывал и на пристани, и на торге. Разных людей встречал в Булгаре Мамук. Разве он вспомнит, кто ему рассказывал о Стране Мрака?
В узких глазах Мамука плясали хитрые бесы.
— Я дам тебе много золота, — сказал Ярун, — Найди человека, ходившего к Океану.
— Зачем мне золото? — ответил Мамук. — Послушай, купец: не ходи к Океану. Были охотники и до тебя, а кто из них вернулся? Страну Мрака населяют злые духи. Они наводят на людей снега, морозы и лютую болезнь, от которой выпадают зубы.
…Не спится Яруну, сидит купец на лавке, накинув на плечи зипун, зевает, крестит рот, а сна нет. Голубая лунная дорожка протянулась через избу, легла на Никиткино спокойное лицо.
4
Ахмед любил Ашу. Но родители Ашу просили калым — сорок лошадей, целый табун. А где взять их Ахмеду?
Амат дает за Ашу пятьдесят голов. И Ашу скоро станет женой Амата.
Рассказывая это Мамуку, Ахмед опускал наполненные отчаянием глаза. Мамук повидал мир, он учился в медресе, что бы он сделал на его месте?
— Мамук беден, но он бы пригнал на двор Ашу табун в пятьдесят лошадей.
— Ты смеешься надо мной! — вспыхнул Ахмед.
Мамук покачал головой: взгляни, разве я похож на человека, который пришел сюда, чтобы посмеяться?
— Твой отец Абубекр помог мне закончить медресе, — сказал Мамук. — Не его вина, что я не стал священником. Но ведь и Хаир Бюлюк не стал священником…
— Откуда тебе знакомо это имя? — насторожился Ахмед.
— Отчего разорился твой отец?
— Ты знал Хаир Бюлюка?
— Нет, но я слышал о нем от твоего отца.
— Этот человек сделал нас бедняками. Это из-за него я не могу взять в жены Ашу.
— Он ходил в Страну Мрака?
— Да, на лодиях моего отца… И вернулся один. Без лодий и без товара…
— Тебе повезло, — сказал Мамук.
— О чем ты говоришь? — удивился Ахмед.
Мамук прервал его:
— Не спеши. Доверься мне, и Ашу станет твоей женой… Скоро праздник, а ты ведь участвуешь в состязании? А кто лучший наездник в Булгаре? Ведь это твои стрелы никогда не проходят мимо цели?..
Зачем это Мамуку? И разве Ахмеду легче от того, что он скачет на самом быстром коне? У него нет табуна, и Ашу все равно станет женой Амата.
— Наберись терпения, Ахмед, и скоро все узнаешь, — сказал Мамук.
На следующий день с утра он пошел на Меленку искать Яруна. Здесь еще до света собирался бойкий торговый люд. Купцы толкались, приглядывались, принюхивались друг к другу. У каждого своя забота: искали товар, прикидывали, кому предложить свой.
На пристани горами грудились бочонки с медом, желтые круги воска, связки мехов. Тут же, среди приезжих гостей, мелькали горожане, пришедшие пораньше подобрать для себя заморские диковинные вещи. Платили булгары соболями, куницами и звонкими диргемами. Кунья шкурка шла за два диргема. Купцы охотно брали белые круглые монеты. За них у мери и мордвы можно было выменять бесценные черные лисьи шкурки.
Русский добротный товар был на Меленке в хорошей цене. Вот почему у Яруновых лодий толпилось больше всего народу. Ярун был доволен торгом. К полудню, когда муэдзин на Большой башне пропел правоверным свою молитву и лодии, полегчав, наполовину приподнялись из воды, Ярун с Мамуком и Никиткой отправились на противоположный берег Волги. Там их уже ждали оседланные кони.
Солнце стояло высоко и сильно пригревало. Но быстрая езда не утомила путников. На холмы и с холмов по обеим сторонам хорошо утоптанной дороги сбегали и карабкались вверх густые перелески; звонкие ручейки с прозрачной ключевой водой тут и там пересекали пыльную колею.
Скоро за просторной поляной показалось несколько приземистых юрт. Когда гости добрались до кочевья, пир был в разгаре.
Мамук, Ярун и Никитка спешились; два юрких булгарских отрока тут же расседлали коней и пустили их на луг. Гостей проводили в самую большую юрту.
К вечеру за войлочными стенами заухали тревожные барабаны, загудели пронзительные рожки — все кочевье, и стар и млад, перебралось на опушку леса, где должно было состояться состязание в ловкости и стрельбе из лука.
Молодые джигиты в праздничных одеждах заканчивали последние приготовления. Одному из них бросили поперек седла козью тушу; что-то неразборчиво прокричав, он ринулся вперед, за ним устремились другие.
Над местом состязания повисло густое облако пыли. В нем мелькали пригнувшиеся к лукам напряженные фигуры…
Вдруг все сгрудились — пыльный клубок покатился от реки к кочевью. Сперва ничего нельзя было разобрать, потом клубок распался, вытянулся, и все увидели впереди Ахмеда на белом коне. Победа близка, еще немного, и туша козла — у ног старейшины, распорядителя праздника.
Но это не все. Джигиты должны показать свое умение стрелять из лука. Каждому дадут три стрелы. Три стрелы предназначены для трех круглых кожаных щитов, расставленных в разных концах поля. В щиты нужно попасть на полном скаку.
Первым устремляется к цели джигит на караковом коне. Две стрелы у него в колчане, третья — на тугой тетиве лука. Вот он всем телом подался вперед, слегка привстал в седле, поворачиваясь лицом к щиту. Рывок — и стрела идет к цели. Меткий удар! Оперенный конец — в центре красного поля. Впереди еще два щита. Вторая стрела проходит мимо цели. Третья едва задела щит…
И снова победил Ахмед. Все три его стрелы поразили цель.
Ведя коня под уздцы, он почтительно приблизился к судье, возле которого два рослых булгарина едва сдерживали в поводу только что выловленного в степи жеребца — подарок победителю.
— Урусы тоже хотят наградить джигита. — сказал хитрый Мамук.
И Ярун, встав с ковра, преподнес Ахмеду на вытянутых руках свой меч. Когда Ахмед выдернул меч из ножен, старцы изумленно приподнялись со своих мест.
— За него ты получишь целый табун чистокровок. — шепнул Мамук на ухо Ахмеду. — Погляди на Амата: видишь, как засияли у него глаза?!
5
— Дорога в Страну Мрака лежит через земли угров и веси. По ней ходят только очень смелые люди. Три месяца плывут они на лодиях, скачут на конях, а потом идут пешком или едут на собаках, если выпадет снег, — сказал старый Абубекр и, улыбаясь, дружелюбно посмотрел на Яруна: он-то сразу понял, чего ждет от него купец.
Ахмед продал Амату Ярунов меч за табун чистокровок и в тот же день пригнал лошадей к родителям Ашу. Он был счастлив, Мамук радовался вместе с ним. И отец Ахмеда, Абубекр, сам попросил Яруна погостить в его кочевье.
— Я знаю, чего ты хочешь, урус, — сказал Абубекр, — но я давно не хожу в Страну Мрака, потому что для этого нужно иметь не только мужественное сердце, но и крепкое здоровье, а его у меня нет… Далеко, очень далеко лежит эта страна. Там, за лесами и за топкими болотами, кончается земля и начинается Океан. Летом солнце не заходит, а зимой не восходит над Океаном. Сам я добрался только до реки, по которой можно спуститься к Большой воде. Чтобы дойти до этой реки, мы долго плыли по Каме, потом тащили наши лодии волоком и еще плыли тридцать три дня и тридцать три ночи. Но мы так и не увидели Океана, о котором рассказывают старики. Они говорят, что в Океане водится удивительное животное — полурыба-полулошадь. А еще говорят, живет в Океане рыба таких размеров, что на ней может разместиться целое кочевье…
— Так знаешь ли ты дорогу в Страну Мрака? — снова спросил его нетерпеливый Ярун.
Прикрыв тяжелые веки, Абубекр молчал.
— Хорошо, урус, — сказал он наконец. — Я давно уже догадался, что привело тебя в мою юрту. Будь по-твоему. В Булгаре живет один человек. Этот человек — Хаир Бюлюк. Его имя ни о чем не говорит тебе, чужестранец, но мы, булгары, хорошо знаем и чтим его. Хаир Бюлюк был в Стране Мрака. Он возил туда клинки, за которые ему давали много белой Кости. Наши предки делали из этой кости наконечники для стрел, потому что они легки и тверды, как железо, даже крепче железа. А сейчас кость вывозят в Хорезм и получают за нее много золота. Тебе нужно много золота, чужестранец?..
— Мне совсем не нужно золота, — сказал Ярун, — Я хочу взглянуть на Океан.
— Ты нравишься мне, — кивнул Абубекр. — Я скажу своему сыну, и он проводит тебя к Хаир Бюлюку…
На пристани в Булгаре Ярун отправил Мамука приготовить остатки товара для утреннего торга. Он сказал ему:
— Придержи мечи и копья.
— Но, господин, у нас остались только меха, — вежливо возразил Мамук.
— Тогда меняй меха на мечи и копья.
— Мы только что меняли копья и мечи на меха, — удивился Мамук, — Зачем же нам возвращаться домой с тем же товаром, с которым мы прибыли в Булгар? К тому же придется понести немалые убытки…
— Делай, как тебе приказано, — рассердился Ярун.
Мамук помрачнел. Он по-своему любил своего нового хозяина и обиделся за него. Как же так — вернуться из Булгара с убытком! Если другие купцы узнают, что Ярун вернулся из Булгара с убытком, никто больше не захочет ехать в Булгар…
Никитке Ярун сказал:
— Ты же пойдешь со мной. Запоминай все, что увидишь и услышишь.
И Ахмед повел их в гору узенькими, круто поднимающимися улочками… Хаир Бюлюк был дома. Гости осторожно вошли во двор. За калиткой оказался просторный сад, в глубине сада прямо из-под земли била светлая водяная струя.
Навстречу им вышел широкоплечий мужчина. Маленькие карие глазки под густыми насупленными бровями ощупали сначала Яруна, потом Никитку.
— Пусть мой дом будет вашим домом, — обратился он к ним по-русски. — Как здоровье почтенного Абубекра?
С тех пор как Абубекр распродал лодии и удалился от торговли, прошло десять лет. Хорошо, что он не забыл своих старых друзей.
— Абубекр просил передать, что он здоров и желает того же тебе, досточтимый Хаир Бюлюк, — произнес Ярун.
Хаир Бюлюк улыбнулся, взгляд его потеплел. Сойдясь вместе, два купца всегда найдут, о чем им поговорить. Хаир Бюлюк тоже ходил с товарами в Константипополь и Хорезм. Был он и в Новгороде, и во Владимире.
— Русские умеют торговать, — польстил он гостю. — А с чем прибыл новгородский купец на этот раз? Хорош ли товар? Как идет? Не в убыток ли торг?..
Ярун терпеливо отвечал на его вопросы, все время думая, однако, как приступить к главному. Выручил его Ахмед. Склонившись в сторону Хаир Бюлюка, он вдруг горячо и быстро заговорил с ним по-булгарски. Лицо хозяина помрачнело.
— Так вот с чем прислал вас ко мне почтенный Абубекр.
Хаир Бюлюк долго молчал, задумавшись, потом сказал:
— Хорошо. Абубекру я обязан жизнью, и просьба его для меня священна.
Он попросил гостей подождать, а сам ушел. Отсутствовал он недолго. Когда вернулся, в руках его была небольшая шкатулка, украшенная узорами из белой кости. Хаир Бюлюк с торжественной медлительностью открыл шкатулку и извлек из нее темный пергаментный свиток, перевязанный шелковой ленточкой.
— Свиток этот, — пояснил он, — достался мне от моего отца, а отцу моему передал его старый Мамель Ювар. Мамель Ювар ходил к Океану, дошел до земли веси и перед смертью подробно описал свой путь. Вот это описание. Я пользовался им и тоже ходил к Океану. Но и я не дошел до Большой воды, потому что мои люди заболели и потребовали возвращения в Булгар. У них ослабели ноги и стали выпадать зубы. К тому же начинались сильные холода, и мы боялись, что реки замерзнут. А если замерзнут реки, придется зимовать в лесу среди диких зверей… Мы вернулись. Больше я не ходил к Океану.
Хаир Бюлюк замолк, медленно покачал головой.
— Я не могу отдать тебе этот свиток, — сказал он, — но если ты наберешься терпения, то переведу его тебе, и ты поймешь, какой длинный путь лежит к Большой воде.
Слегка покашляв, Хаир Бюлюк прочитал:
— «Это я, Мамель Ювар, купец, ходивший к ромеям, косогам и ясам посетивший Константинополь, Трапезунд, Хорезм и земли, лежащие на закат солнца от Новгорода, говорю вам, читающим этот свиток: не легок был мой путь к Океану, дурное расположение звезд и невзгоды вынудили меня вернуться назад, а вернувшись, я возблагодарил милосердного пророка, сохранившего мне жизнь.
Я отправился на трех больших лодиях с десятью верными моими слугами и товарищами, а вернулся один, схоронив всех в чужой холодной земле (да будут благословенны их имена!).
Путь на Океан лежит через земли булгар. Много дней плыл я по Каме, которая вытекает из реки Неми. Сначала в Каму пала река Вятка, а выше Вятки Ик-река. В сорока верстах от Ик-реки пала в Каму река Белая Воложка, а выше Белой Воложки — река Чусовая. А в Чусовую-реку пала Сылва-река. Так называли их старожилы. А еще выше, говорили они, в горах пала в Чусовую река Серебряная, а от реки Серебряной потекла река Талга в реку Туру. Долго плыл я по Каме от реки Серебряной до Моложеи, в которую пала река Березовая. А еще выше Березовой пала река Вишера, а Вишера вытекла из Каменки, из гор, недалёко от Печоры-реки. Говорят, река Печора вытекает из Большой горы, — этого я не знаю и утверждать не могу.
Продолжая свой путь, мы перетащили лодии свои волоком и поплыли вниз по Печоре, время от времени приставая к берегам в надежде встретить местных жителей. Но никто не выходил к нашим стоянкам. На пеньках в лесу мы оставляли товары для обмена, а наутро рядом с нашими товарами находили шкурки соболей и черных лисиц. Мы забирали меха, и тогда местные жители забирали наш товар. Так мы торговали с весью, не видя никого в лицо.
А потом пришла большая беда. Люди уходили на охоту и не возвращались. Исчезла дичь. Подули холодные ветры, лодии вмерзли в лед. У нас не было пищи, и тут началась страшная болезнь, которая поразила меня и всех моих спутников…
Однажды я впал в забытье, а когда очнулся, то увидел, что нахожусь в шатре один. У потухшего костра тоже не было ни души. Я долго кричал и звал своих друзей, хотя давно уже понял, что они далеко и мой голос не дойдет до них…
Так я остался один, а впереди еще была суровая зима.
В те дни, когда солнце лишь на миг показывается над землей, чтобы в следующий миг снова скрыться за белой стеной непролазного леса, я не раз проклинал себя за свое безрассудство…»
Долго еще читал Хаир Бюлюк пергаментный свиток. Потом в полной тишине свернул его, неторопливо перевязал шелковой лентой и положил в шкатулку.
— Так написал Мамель Ювар, — произнес он после долгого молчания, — человек, ходивший к Океану…
— Но он не достиг его! — воскликнул Ярун.
— На все воля аллаха, — потупил глаза Хаир Бюлюк.
Никитка в изумлении покачал головой, — он никогда не думал, что земля столь велика. Великим казался ему путь от Владимира до Булгара, еще больше был путь до Царьграда. Далеко от Руси лежит Хорезм. Но к Океану еще не ходил никто.
— Вот видишь, Никитка, сколь много чудес на земле, — говорил Ярун, когда они возвращались домой, — И прикинь-ко, неужто и русский человек не дойдет до Большой воды? Неужто я так и помру, не поглядев Океана?!
Тут только Никитка понял: так вот какая дума взяла в полон неугомонного Яруна, так вот почему велел он Мамуку закупать мечи!
— Аль и впрямь решил повидать Большой воды, дядько Ярун? — спросил он купца упавшим голосом.
— А что, булгар будем дожидаться? Мы-то, чай, и сами с усами, — удивился Ярун. — Не гляди на меня так. Тебе с Мамуком возвращаться во Владимир. Левонтию передай: моя задумка верная. — И, помолчав, добавил: — Попомни меня, Никитка: ляжет наша земля до самого Океана. А спросят, кто же первым этакую даль, прошел, — ответим: мы, русские…
Глава седьмая
1
Шли через Москву на Чернигов, на Киев и далее, к берегам Русского моря, длинные купеческие обозы. На разбитых колеях тряслись повозки, груженные всяким добром, сидели на мешках разморенные жарой возницы, лениво взмахивали кнутами, не давая задремать лошаденкам; по обочине в репейнике и уже потемневшей от знойных ветров траве скакали вои — стерегли дорогой товар. В дороге всякое может стрястись. Оттого и купцы, и их подручные тоже были в кольчугах и при топорах…
Воловик обогнал один такой обоз на Пекше, потом второй — на Киржаче. На Киржаче он попоил коня, сам искупался в прохладной воде. Пока конь пощипывал травку в густом прибрежном кустарнике, повалялся на горячем речном песке, погрел онемевшие от долгой езды бока.
Отдохнув и одевшись в еще не просохшую от густого пота однорядку, Воловик нащупал на груди тугую ладанку. Не потерять бы ненароком: в ладанке письмо Ярополка к московскому огнищанину Петряте.
— Ладанку храни пуще жизни, — напутствовал князь Воловика. — Передашь Петряте из рук в руки… Сделаешь все, как велено, — награжу, не сделаешь — сниму голову. Слово мое княжеское, верное…
«Трудно служить у молодою князя, — думал Воловик. — С утра не знаешь, что у него на уме. То сидит у оконца в гриднице, зевает, крестит рот, то сзывает бояр, пьет с ними и веселится. О дружине забыл; о своих, владимирских, не радеет, все больше вокруг ростовские да рязанские…»
Вздохнул Воловик, очнулся, стегнул замедлившего бег коня, зло прикрикнул:
— Н-ну у меня!
Конь покосился на хозяина добродушным глазом, фыркнул, тряхнув головой, застучал копытами по бревенчатому настилу моста.
Воловик прикинул: до Москвы неблизко, засветло не добраться. А вокруг все леса да леса — черной стеной встали по краям дороги. За высокими соснами — лешачий сизый полумрак. Самое место для татей. Выползут так-то на дорогу с кольем да шелепугами — на помощь не позовешь, а позовешь — все равно никто не отзовется: объедут опасное место за две версты…
Только подумал так Воловик, только посмотрел с опаской по сторонам — а они тут как тут. Высыпали из-за поворота, в бороды ухмыляются, ножичками поигрывают.
— Далеко ли путь наладил, сердешный?
— Посланный я, великого князя Ярополка Ростиславича человек, — сказал Воловик, со страхом глядя, как осаживают его коня: с одной стороны безносый, с гривной в ухе, с другой стороны безлобый, весь в густой бороде, с гривной на шее. А тот, что спрашивал, свирепее всех с лица: губы тонкие, злые, улыбка как у змеи.
— Добрый конь у посланного великого князя!
— Добрый конь! — отозвались бродяги.
А Воловик будто окаменел в седле — сидит, слова не вымолвит. Уж когда потащили с ног сапоги, очнулся, выпрямился, завопил:
— Ратуйте!
— И, миленький, вопи не вопи, а от нас не уйдешь, — сказал атаман.
— Нерадец, — позвали из кустов.
Атаман недовольно оглянулся, шагнул в лесную чащу. Бродяги сдернули Воловика с седла, стали ловко облегчать его: сняли однорядку, сапоги сафьяновые, шитые серебром, шапку, отороченную соболями, бархатные порты и шелковую рубаху. Разглядывая вещи, ухмылялись, потряхивали их — нет ли золота. Золота при Воловике не было, и это разозлило бродяг. Один из них дал Воловику затрещину, другой пнул его.
Из лесу вышел Нерадец, посмеялся над мужиками:
— Калики вы безродные… Кого бьете? Княжеского милостника… Глянь-ко, раздели — в чем мать родила. Негоже вою ходить с открытым срамом. Дайте ему порты, дайте и рубаху.
Мужики, поняв атамана, переглянулись, бросили Воловику одежу — грязную да драную, с бродяжьего удалого плеча. Поморщился Воловик, но принесенное надел, потоптался босыми ногами в дорожной пыли.
— Чудно, — сказал Нерадец. — Глядел я на тебя, как ехал ты по дороге на высоком коне, красивый да важный: вот это княж муж. Оробел дюже. А сейчас погляжу — ну ровно ощипанная курица. И отколь таких князь набирает?! Нешто у него добры молодцы перевелись?
Воловик молча проглотил обиду. Подумал: пущай потешатся, лишь бы живота не лишили.
Не лишил его живота Нерадец, даже накормить велел, но после уж Воловик понял: привели его к костру, чтобы еще раз потешиться. В темной глубине леса собралась вся ватага. Такого сборища бродяг еще нигде не встречал Воловик. «Экие хари!» — подумал он. А пригляделся — вроде народ знакомый. Не тот ли, с козьей бородой, глаза навыкате, стучал деревяшкой вместо ноги на паперти Успенского собора?! А здесь, глянь-ко: прыгает здоровехонек у костра, тычет клюкой в красные уголья, шевелит их, чтобы поддали побольше жару. Над костром — баранья туша. «Тоже боярская — не из своего же стада», — определил Воловик.
— Примай гостя! — крикнул атаман, подталкивая к костру еще больше оробевшего Воловика. — Скакал к нам с грамотой от самого Ярополка. А князь наш милостив, прислал нам поклон да подарок: порты, однорядочку, сапоги сафьяновые да соболью шапку…
Толпа придвинулась к Воловику, смрадно дыша, уставилась на него десятками смешливых, алчных и злобных глаз.
— Га-а-а! Гы-ы-ы! — понеслось со всех сторон.
— Да нешто князь этакого заселшину — к нам послом?!
— Смеешься, атаман!
Нерадец прикрикнул на своих людей:
— Княж муж — мой гость. А ну, расступись! Лучшее место для милостника великого князя Ярополка Ростиславича!..
Воловика подхватили под руки, усадили у костра. Из чащи прикатили бочку меду. Нерадец поплевал на ладони и несколькими ударами легкого булгарского топорика выбил у бочки днище, зачерпнул большой ковш, протянул Воловику:
— Что было, то быльем поросло. Не держи зла у сердца — пей.
Воловик перекрестился, взял дрожащей рукой ковш и выпил его до дна. Нерадец зачерпнул еще — выпил Воловик и второй ковш. Здоров был Воловик пить, на княжьих пирах всех дружинников перепивал, не хмелел и с ног не валился. Подал Нерадец третий ковш Воловику. Много меду выпил Воловик, захмелел и заснул у костра. Долго ли, мало ли спал, а когда проснулся, увидел: темь вокруг, ни души…
«Что за чертовщина?! — подивился Воловик. Подивившись, перекрестился на всякий случай. — Иль привиделось все?» Но, ощупав себя, понял: не привиделось. Ни однорядки, ни дорогих сапог, ни шапки собольей на нем не было. А в голове от выпитого меда надувались и лопались красные пузыри. Со страхом разгреб Воловик на груди лохмотья, схватился за ладанку, вздохнул с облегченьем — цела. Видать, за крест нательный приняли ее тати.
Передохнув, стал Воловик выбираться из чащи. Кружил, кружил, а дороги так и не смог найти. Ведь помнит — вот тут, недалече, она была. А нет дороги, будто нечистая в сторону увела. Сказывали, случалось такое с мужиками.
Подумав о нечистой, Воловик задрожал и сел на траву. Сел, прижался спиной к шершавому сосновому стволу, вытаращил во тьму глаза. А как вытаращил глаза, началось чудное. Перво-наперво прокричал филин. Потом прямо над Воловиком закряхтело и замяукало. Вскочил Воловик; только вскочил — на голову ему упало что-то мягкое. Стряхнул — глядь: а это лошадиная нога с копытом. Скользнула нога в траву и ускакала в чащу. А из чащи раздался громкий хохот. Воловик замахал руками, закричал, побежал по лесу, застревая в буреломе и оставляя на сухих сучьях клочья прелой одежды. Долго бежал Воловик, потом упал в траву и забылся.
Когда очнулся, уже светало. Он сел и опасливо огляделся. Вокруг был лес, но сквозь деревья просвечивала прямо перед ним широкая поляна, залитая изумрудным сиянием. На поляне слышалось фырканье лошадей, позвякивание снаряжения и неясные голоса.
Обрадовавшись, Воловик выбежал на поляну и увидел множество людей в кольчугах и остроконечных шлемах. Чуть в стороне, возле конной группы, развевался стяг. Воловик обомлел: под стягом на коне с подпалинами восседал юный князь Юрий Андреевич, сын убиенного Андрея Боголюбского.
Увидев его, испуганный Воловик хотел снова нырнуть в чащу, но услышал властный оклик. Один из дружинников подскакал к нему почти вплотную.
— Кто таков? Почему бродишь по лесам?
Подъехал к Воловику и князь Юрий, подъехали и другие вои. Плотным кольцом окружили Ярополкова посла.
Воловик упал на колени.
— Не губите, братушки! — взмолился он. — Ваш я, ей-богу, ваш. Раздели меня тати, увели коня. Не бросайте в лесу, возьмите с собой.
Тут один из воев протиснулся вперед, уставился на Воловика.
— Э, да рожа твоя мне припоминается, — сказал он. — Точно, не ошибся я, — обернулся вой к Юрию Андреевичу. — Ярополков прихвостень это, князь.
Вскинулись брови у князя, тронул он коня и наехал на Воловика:
— Ярополков прихвостень, а таишься в рубище по лесам.
Так и оборвалось все внутри у Воловика. «Не зря черти привиделись», — подумал он, сжался, пригнул голову.
— С чем на Москву жаловал? — насупился Юрий Андреевич, и в глазах его шевельнулась бешинка. Так поводил глазами и князь Андрей, если, случалось, гневался.
Заюлил Воловик, упал на колени.
— Не губи, князь.
— А ты правду скажи.
— Все скажу, все, — глотая слова, торопливо бормотал Воловик, будто боялся: срубят голову — не успеет досказать до конца. — Спешил я в Москву, вез грамотку от Ярополка к огнищанину тамошнему Петряте. Дело важное и срочное — так наказывал князь.
— Ну так давай грамотку, — приказал Юрий Андреевич.
Еще пуще прежнего задрожал Воловик:
— Не могу я. Ярополк Ростиславич разгневается…
— Ярополк разгневается?! — весело блеснул белыми зубами князь Юрий и обернулся к дружине: — Слышали, брате: Ярополк на нас разгневается!
— А мы его дюже боимся! — снова загоготали вои.
— Не отдашь, — насупился князь, — вздернем тебя, яко пса, на осине.
Застонал Воловик, вытащил ладанку, хотел оборвать шнурок — не смог, шнурок оборвал один из воев, протянул ладанку князю.
Молча прочитал Юрий Андреевич грамотку, помрачнел лицом, повертел в руках ладанку, хотел выбросить, по не выбросил. Подозвал гридня в красном кафтане. Ехидно ухмыляясь, сказал:
— Налей чару доброго меда, дай испить княжьему мужу. Зело устал он и страху понабрался…
Гридень быстро вернулся, хотел протянуть чару Воловику, но князь задержал его руку. Сам взял чару, высыпал в нее зеленый порошок из ладанки.
— Вот теперь ладно. Выпей-ко княж подарок, — сказал он Воловику. — Послал его моему дяде Михалке хозяин твой Ярополк. Здесь же я хозяин, потому и одаряю своею милостью кого захочу. Не Михалке — тебе, пес, сей подарок. Пей!..
Отступил Воловик, посерел, замотал головой.
— Пей! — сурово повторил князь.
2
Накануне выступления из Чернигова посланный от Андреева сына Юрия сообщил Михалке и Всеволоду, что владимирцы, скрывавшиеся в лесах и по деревням, объединились с небольшой княжеской дружиной и сейчас движутся к Москве. В Москве они будут ждать подхода основного войска, чтобы потом всем вместе идти на Владимир. Князь Юрий еще раз заверил Михалку и Всеволода в своей верности. Несдобровать Ростиславичам. Если даже им и помогут ростовцы, то и суздальцы не оставят Владимир без своей подмоги…
Получив такую весть, Михалка приободрился. Перед самым выходом из Чернигова порадовал его и Святослав. Призвав Михалку, он сказал, что сердце его обливается кровью от неправды, творимой Ростиславичами, ибо Ростиславичи обманули и его, Святослава, давши ему год назад клятву и не выполнив ее. Пусть же рассудит их бог. А Юрьевичам он поможет дружиною, с которой пойдет сын его Владимир.
Утром князья отслужили молебен в Спасо-Преображенском соборе, после чего Михалка велел выдать каждому вою по гривне, и вся рать с далеко растянувшимся обозом двинулась на север — вдоль больших и малых рек, к истокам их, туда, где стояла на холме над Неглинной деревянная Москва. Путем этим когда-то впервые прошел Владимир Мономах. До Мономаха на Суздаль и Ростов ходили кружным путем — через Смоленск и верховья Волги. Опасались диких вятичей, отличавшихся большой воинственностью. Теперь дороги стали безопасны, вятичи ушли глубже в леса, где продолжали, как и прежде, поклоняться своим деревянным идолам.
Молодой и нетерпеливый князь Всеволод, оторвавшись от основного войска, ускакал с небольшим отрядом вперед, пообещав ждать Михалку на волоке…
День был солнечный, ясный. От земли подымалась прозрачная дымка. Дорога с едва видимыми колеями извивалась в лесу, наполненном пением птиц и праздничным шорохом омытой недавним дождем зелени. Под князем был чубарый жеребец; Давыдка и Володарь скакали по правую и левую сторону от Всеволода, зорко глядели вокруг, выполняя строгий Михалков наказ: беречь молодого князя как зеницу ока.
Плох был Михалка — на молебне перед выходом из Чернигова стоял бледный, осунувшийся, с глубокими впадинами на щеках. На свежем воздухе он немного повеселел, но на коня не садился — ехал в повозке, запряженной парой высоких и сильных лошадей. Обочь скакали дружинники — по трое с каждой стороны. Князь выглядывал из повозки, откидывался на подушки, устало закрывал глаза и часто крестился. Пугал его не только дальний путь, пугали его и недобрые воспоминания — не десять лет назад, а прошлым годом, о ту же летнюю пору, спешил он во Владимир с Ростиславичами. Не подозревал Михалка тогда о темных замыслах своих племянников. Не знал, что по ночам в просторном шатре князя Ярополка собирались ростовские да рязанские бояре — безжалостно рассекали с таким трудом собранную воедино землю, алчно расхватывали еще не обретенную добычу: это твое, а это мое…
Чуял Михалка — немного ему оставалось жить. Просыпаясь по ночам от нестерпимого кашля, он видел на подушке красные кровяные разводья. Однажды на вечерней молитве кровь пошла горлом, едва отдышался к утру. Да и сейчас, на воле, все время не хватает ему воздуха; он глотает его широко разинутым ртом, а внутри что-то храпит и надрывается. Знал все о себе Михалка — ждут не дождутся его в райских кущах и дед его Мономах, и отец Юрий, и брат убиенный Андрей. И верил он только в одного человека, который сможет принять Андреево наследство, после его, Михалковой, смерти, — верил в брата своего младшего Всеволода. Верил, потому что знал его — видел и на пиру, и на совете. Знал и о храбрости Всеволодовой. Помнил, как ходил Всеволод на Киев, когда он, Михалка, отказывался от киевского стола. Уже тогда чувствовал Михалка, что слабеет телом, уже тогда мелькала мысль — уйти на покой в обитель… Ушел бы и сейчас Михалка в монастырь, но не мог не сдержать данную пресвятой богородице клятву: казнить убийцу брата, не дать растащить Владимиро-Суздальскую Русь по мелким кускам. Верил — Киеву уже не встать, не быть матерью городов русских. Иная, великая Русь подымается в междуречье Оки и Волги… Все пути — и с востока, и с запада — сходятся во Владимире, вся Русь по истокам рек растет отсюда, как от единого корня…
— Береги Всеволода, — напутствовал князь Давыдку. — Помни, ты мне за него головой в ответе.
— Не печалуйся, все исполню, как велено, — обещал Михалке Давыдка.
Две недели, еще до похода, приглядывался он к Всеволоду в Чернигове. Дивился: странным показался ему князь. Учен, как монах: и по-ромейски читал, и по-германски, и с заезжими франками говорил на их языке. Ночами сидел над книгами, радовался прочитанному, как дите малое. Случалось, зайдешь к нему, а он в черной рясе до пят, с пером в руке, отмахнется — после, после. А то и другое бывало: приоденется в шелковый кафтан, перепояшется мечом, вскочит на коня — и будто разом преобразится весь. Как-то на охоте насел на него медведь, вот-вот изломает; Давыдка помог, ткнул медведя под ребро рогатиной — осерчал Всеволод. «Ты что же, — говорит, — моего медведя запорол? Аль мало тебе других в лесу? Со своим-то я и сам бы справился…» Вот он каков, молодой князь. Лицом тонок, глаза черные, горячие. Сказывали: Ростислав, Иван, Андрей, Василько, Михалка — те были от первой Юрьевой жены, половецкой княжны, а Всеволод — от дочери византийского императора, второй жены князя Юрия.
Полюбил Давыдка Всеволода, да и Всеволод скоро привязался к дружиннику: выделил Давыдку среди прочих своих воев, держал всегда при себе — не великая ли честь?
Володарь посмеивался над другом:
— Гляди, в бояре выйдешь.
Давыдка хмурился. Не нравились ему простоватые шуточки Володаря. Здесь, в Чернигове, он снова почувствовал себя княжьим мужем — приосанился, купил у бронника дорогую кольчугу. Всеволод подарил Давыдке меч. И хотя точно такой же меч князь подарил и Володарю, Давыдка старался не замечать этого. Про себя думал так: конечно, Володарь — верный товарищ, но во Владимире его ждут невыделанные кожи, квасятся в чанах бараньи и бычьи шкуры. Вернется Володарь к своему ремеслу, и пути их разойдутся. Повесит Володарь княжий меч на стене над лавкою, бросит в подклеть броню. У Давыдки же другое: у Давыдки вся жизнь на острие меча. И никак он не может допустить такое, чтобы расстаться с мечом и согнуться над оралом. Не выйдет — забыл Давыдка крестьянский труд. Забыл и родное Заборье, только нет-нет да и шевельнется память по невинно загубленной матери.
Вот о чем думал Давыдка, поспешая за чубарым Всеволодовым жеребцом. Угадал он в своих мыслях: рядом с ним скакавший Володарь помышлял в то время совсем о другом.
Был Володарь доверчив и прост. Белое называл белым, черное — черным. И не мечтал ни о чем ином, как только о том, чтобы люди были лучше и чтобы каждый занимался любимым своим делом: оратай орал пашню, кузнец ковал орала, гончар обжигал горшки, мостник прокладывал дороги, а серебряник лил для женщин красивые украшения. Он же, Володарь, будет мять кожи, дубить их и выделывать юфть для сапог и седел и дорогой разноцветный сафьян. Заждалась Володаря дома жена, дети ждут его с гостинцами. А пуще всего соскучились свои же руки по настоящей работе. Не о ратных подвигах мечтал Володарь, и отец его, старый кожемяка, не мечтал о ратных подвигах. Однако, ежели случалось, не хуже других и он рубился с погаными, и не для-ради княжьей милости, и не за гривны, а потому, что зпал: придут половцы из степи, пронесутся по русским городам и весям, дымом окутают русскую землю, жену и детей уведут в полон. О земле своей думал отец Володаря, и Володарь думал о земле. Что же до князя, то и он, как и многие друзья его, владимирские ремесленники, помышлял лишь об одном: не ворогом, не половецким ханом принят князь на Руси, не грабить, а правый суд вершить, не лиходействовать, а беречь отцово и дедово. А ежели в собственной своей вотчине правит, как поганый, ежели свой народ обирает да награбленное раздает подручным, то принять такого князя — все равно что волка пустить в овчарню…
За мыслями своими поотстал Володарь от Всеволода с Давыдкой, стегнул плеточкой коня.
В сосновой роще солнце было милосерднее. Лес встречал их теплым запахом хвои и сырым грибным духом. Нагнувшись с седла, Володарь заглянул под кусток: вот они где попрятались! Десятка два маслят, мокрых да упругих, будто желтые собачьи носы, блеснули под молоденькой елочкой в пожухлой траве. Хорошо бы их сейчас в лукошко, чтобы на привале поджарить на костерке. Вкусно пахнут молодые маслята, приятно похрустывают на зубах.
Давыдкин желтый кафтан просвечивал сквозь деревья далеко впереди. Володарь нагнал своего товарища. Теперь они скакали рядом, остальные дружинники — чуть позади.
Светлая полоска заката, расстелившаяся по краю неба, быстро сужалась. В лесу густо клубилась ночная тьма. Кони тревожно фыркали, мотали головами. Дружинники переговаривались между собой вполголоса.
Всеволод подъехал к возку, в котором дремал Михалка, склонился, заглянул под полог. Михалка пошевелился, чужим, ослабевшим голосом сказал:
— Совсем худо мне, брате. Грудь горит — не дотяну…
На севере ворочались тучи, полыхали беззвучные зарницы. Всеволод спрыгнул с седла, передал коня доезжачему. Весь остаток ночи он протрясся в повозке, бережно придерживая голову заходившегося от жестокого кашля брата.
К утру Михалке полегчало.
3
Трудно, ох как трудно было Аленке в разбойной ватаге Нерадца. Не привыкла она к кочевой жизни; тошнило ее от атамановых грубых объятий. Никак не могла изгладиться из ее памяти та страшная ночь в Суздале, когда люди Нерадца вломились в Вольгину избу, изрубили Фефела, надругались над хозяйкой. Если бы не атаман, то и с Аленкой бы сделали то же самое, но Нерадец сказал каликам, что девушка эта — его добыча, и те покорно отступили.
Но лучше ли было ей в милости у атамана?! Нерадец пугал ее своей жестокостью. Привык атаман повелевать в ватаге. И когда Аленка не подчинилась ему, взял ее силой…
Все дальше и дальше уходила ватага от Владимира — шла по лесам, сторонясь больших дорог. Нерадец хорошо знал места — уже не впервой ему было ходить по земле вятичей. А теперь была у него думка податься к северу — сначала на Москву и Ростов, а из Ростова — в Новгород.
После нечаянной встречи с Воловиком увел Нерадец ватагу свою в леса, и вовремя: по дороге на Москву прошла дружина князя Юрия Андреевича. О Юрии Нерадец был наслышан, знал: хоть и набожен князь и нравом не жесток, но к бродягам не питает почтения. Попадись ему Нерадец с ватагой — худо бы пришлось.
Однако долго в лесах тоже не протянешь: припасы подходили к концу. Дичью калик не прокормишь, и тогда решил Нерадец заглянуть в селение, что на излуке Клязьмы, верстах в пятидесяти от Москвы. Из лесу деревеньку хорошо было видать — вся как на ладошке: пяток изб, церковка, огороды. Наезд калик на такую деревеньку — сущее бедствие.
Едва потянулся народ к заутрене, как невесть откуда навалились нищие — безногие, безрукие, в струпьях и грязном рубище.
— Пода-айте милостыньку!
— Христа-а ради!..
На самой паперти сидел Порей, рвал на груди рубаху, показывал натертые цепями раны, колупал грязными пальцами гноящиеся струпья на груди и на животе. Бабы охали, бросали в шапку кто что мог: одни — куски хлеба, другие — репу, кто сыпал пшено, кто — рожь. Атаман тут же забирал все собранное каликами себе, у тех же селян выменивал на брагу.
Ночью, оставшись на сеновале старостовой избы, Нерадец говорил Аленке о своем житье. Разнежась, рассказывал с подробностями, пугал ее, и без того едва живую от страха.
Отец Нерадца был мостником в Чернигове. Хорошим был мастером, всеми уважаемым человеком. Справно работал. С детства приучал он и Нерадца к своему нелегкому ремеслу, брал с собой на починку дорог, на строительство мостов. Но раз случилось так — чего-то не доглядел старый мастер. Подгнила у моста слега, а проезжал по нему княжий тиун. Ступил конь на подгнившую слегу — мост и провалился. Конь сломал себе ногу, а сам тиун повредил ребро. Избили Нерадцева отца за недосмотр. Три дня пролежал он, на четвертый преставился. А перед смертью клял свою судьбу, и князя клял, и мостникова старосту. Помирая, сказал Нерадцу:
— Видишь, сыне, отца своего? Гляди получше да запоминай. Не за татьбу, не за воровство страдаю — за честный труд. Лучше бы уйти мне в леса, гулять вольно, есть, пить, горя не знать… Не делайся мостником, брось пилу, молоток. Топор за пояс — и поминай как звали!..
Испугался Нерадец отцовых страшных слов. Про себя решил — это он от обиды. Пойду-ка я к мостникову старосте. Может, пожалеет, приглядит какую работу, не помирать же с голоду. Но тот гулял на свадьбе и не пожелал говорить с Нерадцем. Пошел Нерадец к нему во второй раз — поглядел, поглядел на него староста и велел гнать со двора: мал еще. Обозлился Нерадец и поджег старостову избу. Ярко горела изба, много добра в ней пропало. А Нерадец радовался: вот и сквитались.
Той же ночью ушел он из Чернигова. В Киев подался; тогда все говорили: в Киеве жизнь привольная. Может, там нужны мостники? — думал Нерадец. День шел, два шел, прибрел в деревню. А в деревне стояли калики. Заманили мальца, привели к атаману. Приласкал его атаман, напоил, накормил.
— Ты куда, отрок, путь наладил?
— Иду в Киев, — отвечал Нерадец. — Говорят, в Киеве жизнь легкая. Отец у меня был мостником, наймусь мостником и я.
Услышав такие слова, стал атаман над ним потешаться:
— Это куда же ты легкой жизни идешь искать?.. Легкая жизнь у калик. Оставайся у нас, мы тебя разным веселым штукам научим.
— А каким же ты научишь меня штукам? — спросил атамана недоверчивый Нерадец.
— Да разным, — снова уклончиво ответил атаман.
Подумал-подумал и остался Нерадец в ватаге. Выучили его калики пролезать через оконца в избы, шарить по медушам да бретьяницам.
Понравилось такое житье Нерадцу. Плохо ли? Нет над тобой ни князя, ни тиуна, ни старосты. Сам себе хозяин.
Скоро понял Нерадец, что атаман — тот же князь. Атаман всей ватаге и голова, и судья. Все, что ни натаскают калики, атаман себе забирает. На дело атаман не ходит, пьет мед, с милостниками из калик играет в кости. Хорошо атаману!..
Вот тут-то и подумал Нерадец: а чем он хуже?.. Только рано еще было Нерадцу в атаманы: ни годами, ни силенкой не вышел. «Ладно, — решил он, — подожду, коли так». И год ждал, и два. Шла ватага из Киева в Холм, из Холма в Полоцк. Что ни пройдут калики — крадут, бражничают. А атаман радуется — есть питье, есть золото.
В те поры и повстречайся Нерадцу монах по имени Минсифей. Вольный монах, бражник и сквернослов. Из тех, что в ватагу не идут, в монастырях не живут, а бродят по белу свету, глядят, где что плохо положено. И сказал Минсифей Нерадцу:
— Дурак ты, Нерадец! Взгляни-тко на себя: молод, косая сажень в плечах. А у атамана твово в поясе — золото.
— Ну и что? — вытаращился Нерадец.
— А то что умный поймет, зато дурак не разумеет, — терпеливо пояснял Минсифей. — В золоте — сила. А у кого сила, тот и князь.
Хорошо сказал Минсифей, слова его, что зерна, упали на добрую почву. И взросли они в сердце Нерадца богатой жатвой. А ежели хлеба созрели, тут уж гляди, как бы не передержать — не то осыплются семена, пересохнут стебли, падут под напором ветра.
Давно не брал Нерадец в руки топора, думал — отвык уж. А тут достал его из мешка, примерился к рукоятке — в самый раз. И отправился к атаману. Атаман спал, и Нерадец подумал, что нехорошо рубить спящего. Но потом прикинул: а ежели разбудить, как еще обернется? И не стал будить — ударил спящего. А после раздел его, пошарил и — впрямь: в поясе колечко к колечку, сережка к сережке. Помог ему Минсифей!
— А из той ватаги я ушел, — сказал Нерадец. — Свою-то уж после собирал…
Слушая атамана, Аленка зарывалась в сено, от рассказов его немела. А Нерадец придвигался к ней ближе, обжигал губы хмельным дыханием.
— Пусти, пусти! — отбивалась от него Аленка.
4
На мосту через Неглинную застрял воз — попало колесо меж досок, провалилось по самую ступицу. Хозяин неистово стегал лошадь кнутом по тощему крупу. Лошадь напрягалась изо всех сил, но, хоть и помогали случившиеся поблизости мужики, воза вытащить не могла.
В ту пору подъехал к мосту Радко-скоморох.
— Что за беда? — спросил он у собравшихся.
— Телега застряла. Хотели вытащить — силенок не хватает.
— Дайте-ка я попробую.
Радко подошел к телеге, постучал лаптем по оси, похлопал лошадь по холке — она так и потянулась к нему теплыми губами («Ну-ну!»), — тут посмотрел, там. Подлез под задок, привстал, согнувшись. Ступицы приподнялись над настилом, колесо само пошло.
Мужики хлопали руками по бокам, дивились скомороху:
— Ровно твой ведмедь!
— Вот силища-то-о! — протянул хозяин воза. — Да кто ж ты такой будешь? В городе не встречал, окрест тоже видеть не доводилось.
— Скоморох я, — ответил Радко. — А зовут меня Радко, вон моя повозка с медведем. А в повозке сын Карпуша да горбун Маркел. Секретов у меня от честного народу нету — весь на виду.
— А меня зовут Овчух. Говядарь я и живу под горой, у самой стены, во-он там. Двор мой не велик, ни бретьяницы, ни чашницы, но для тебя, добрый человек, место найдется.
— Не дом хозяина красит, а хозяин дом, — ответил Радко. — Спасибо тебе, Овчух, за гостеприимство. Эй, Карпуша! — кликнул он сына. — Правь сюды кобылу.
Народ расступился, первым пропуская скоморохов возок. На медведя поглядывали с опаской и любопытством. Маркел, свесив кривые короткие ноги с задка, строил прохожим смешные рожи.
— Скоморохи приехали! — бежали впереди возка ребятишки.
На берегу Неглинной вкривь и вкось, словно грибы на лесной поляне, проросли темные от дождей избы посада. Овчух жил с самого краю; во время половодья вода подступала под венцы его избы, иногда вползала во двор. К самой реке спускался ветхий плетень. За плетнем был огород. В огороде светло зеленела капуста, хлюпала на редкой волне привязанная к столбику однодеревка. В однодеревку были брошены весла и сеть.
Ворота подались с тяжелым, раздирающим душу скрипом. Радко въехал вслед за хозяином во двор, привязал лошадь к балясине покосившегося крыльца.
Овчух, как бы извиняясь, сказал:
— Избу еще мой тятька рубил.
— Да, — по-хозяйски оглядел Радко. — Венцы-то покрошились. Новую ставить пора.
— А где он, лес-то? — отозвался Овчух. — Ране лес общий был — руби где хошь и сколь хошь. А ноне все, что ближе, — князево, что подале — княжих милостников, огнищан да тиунов. Ни леса, ни бортей — знамена повсюду расставлены. Как жить-то?
— Трудно, — согласился Радко.
Много земель исходил на своем веку скоморох, и везде одно и то же: нет житья мужику, давят на него и князь, и бояре, и церковь, и монастыри. Да и то ладно бы, но ведь еще и усобица. Порядок был на Руси при Мономахе, князья сидели в своих вотчинах тихо. Разве только половцы нагрянут. Но до северных земель они не доходили… А нынче и русские князья что твои половецкие: жгут посады, людей в рабство продают — своих же мужиков.
Овчух жил в избе один как перст: ни жены, ни детей. Оттого, знать, и не прибрано, лавки покосились, потолки покрылись толстым слоем копоти. В окна, затянутые пожелтевшим бычьим пузырем, едва сочился скупой свет.
Одному Овчуху скучно — вот и радовался он любому заезжему человеку: как-никак живая душа.
— А два дни назад заходили к нам калики, — рассказывал он, старательно сметая с лавок присохшую грязь. — Много было божьих людей. Тоже жаловались. Тяжко, сказывали, жить стало в Суждале да во Владимире — не прокормиться подаянием. Церкви, слышь-ко, пограбили, попов побили, веру забывать стали. Разбой среди бела дня…
Перейдя на шепот, добавил:
— Князья, сказывают, тоже балуются. Людей в железа заковывают, бросают в порубы. Так ли это? Из Суждаля ты…
— Погоди, погоди, — остановил говядаря Радко. — Это про каких же ты таких калик баешь?
— Как про каких? — удивился Овчух. — Про тех самых…
— Из Суждаля?
— Оттудова…
— А про монастырь они тебе не сказывали?
— Сказывали про монастырь. Князь, говорили, татям грамоту дал. А чернецы не пустили. Много шуму наделали в Суждале.
— Они! — разом выдохнул Радко.
Удивился Овчух:
— Да что с тобой, скоморох? Аж с лица сошел… Нешто знакомые?
— Знакомые, — кивнул Радко. — Дорожки-то наши вот как переплелись. Скажи, Овчух, а не было ли среди них девицы?
— Как же, была девица. Станом стройна, лицом бела. Грустная такая. Я еще подумал: и с чего бы ей, красавице, путаться с каликами? Или добрые молодцы перевелись?..
Услышав это, приподнялся на лавке Маркел, вцепился острыми, как крючья, пальцами в локоть Радка. Оттолкнул его Радко. Маркел замычал, придвинулся к Карпуше, обнял мальчика и затих.
— Хорошую весть подал ты мне, Овчух, — сказал Радко говядарю. — Не калики это, а тати. И девку, про которую ты мне говорил, атаман ихний силой увел из Суждаля. Пымать их надо.
Хмыкнув, Овчух почесал пятерней в волосах.
— «Пымать»! Кабы сила была…
— Мужиков в посаде нет?.. За бабьими спинами скисли? — упрекнул Радко и встал. — А ежели мужики не подсобят, один управлюсь. Сказывай, куды подались твои божьи люди?
— Слышал я одним ухом, как они промеж собой говорили: надо-де податься к Новугороду… Да ты не серчай, скоморох. То, что я тут баял, то верно. Но и тебя в беде не бросим, подсобим. Вот только настигнем ли?.. У нас ведь, чай, коней нет.
— Не на половцев идем, — оборвал его Радко. — Не рать собирать. Три лошаденки в посаде сыщутся. А боле и не надо.
— Ишь ты, храброй, — улыбнулся Овчух.
— Храброй не храброй, а уж какой есть.
— Ну, коли так…
Нахлобучив на растрепанные волосы шапку, говядарь вышел из избы. Долго его не было. Потом за стеной послышались голоса. И сразу же в избу набились мужики. Присев на лавки вокруг стола, с любопытством уставились на Радка. Смотринами, видать, остались довольны.
— Ну, сказывай, почто звал, — пробасил тот, что показался скомороху постарше. — Подсобить, слышь, надо? — Серые глаза мужика озорно шарили по скоморохову лицу.
Радку понравились мужики. Взгляды открытые, с тела крепки.
— Вот этот — Карп, кузнец, — назвал мужика Овчух. — А эти двое — Алеха да Сидор, гончары.
— А меня зовут Радко. Скоморох я.
— Ладно. Слыхали уж, — отмахнулся Карп. — Опосля за медком о себе поговорим. А ноне как бы времечко не упустить… Кони у нас хоть и не то чтобы сытые, а — ходкие. Поскачем-ка, скоморох.
Маркел с Карпушей, суетясь, выпрягли из возка лошадь, накинули на ее тощий хребет седло. Радко сунул за голенище нож. У Алехи был лук, а Карп и Сидор выломали у Овчуха на огороде по крепкой шелепуге.
— С богом! — напутствовал их Овчух.
Карп усмехнулся:
— На бога-то надейся, да сам не плошай. Так ли?
На дороге, что вела в Ростов, много попадалось встречных. Шли мужики и бабы, несли на спинах корзины с первыми грибами, с ягодами.
— Не видали калик? — спрашивал их Радко.
— Нет, не видали.
Проехав немного, спрашивал снова. Мужики и бабы отвечали то же: калик не видали. Приуныл Радко. Карп сказал:
— Есть тут тропка через речную излуку — не по ней ли подались тати? Тропка потаенная, народу ходит по ней немного.
Свернули в лес. Из лесу вымахали на пригорок. За пригорком слева тянулось болото, справа, за черными ольховыми стволами, серебрилась река. Тропка выбежала к реке. С излуки, на которой она делала петлю, хорошо было видно Москву, — высоко она поднялась, отгородилась от лесов земляным валом, в реку гляделся дубовый частокол. К башне, повернутой на Неглинную, тянулась через весь посад извилистая лента дороги… За вторым поворотом город исчез, ушла в сторону и река. Лес стал еще гуще. Перепутались, переплелись в чащобе деревья и кусты. У Сидора, зацепившись за сук, свалилась шапка. Спрыгнул Сидор с коня, чтобы подобрать ее, нагнулся — и замер над тропой, будто кольнуло в поясницу: на траве, что вокруг тропы, белой солью лежит роса; на тропке же росы нет. Еще ниже нагнулся Сидор — глядь: в лужице отпечатался след лаптей.
— Никак, здесь и прошли, — сказал он, садясь на коня. — Потише бы надо…
Дальше ехали молча. Скоро сквозь неразборчивый шорох листвы долетели нанесенные порывом ветра голоса…
Калики отдыхали на краю небольшого озерца. Хорошо их было видно с другого берега: мужики таскали из лесу хворост для костра, бабы полоскали белье. Радку показалось, что он узнал в толпе Аленку.
Рядом с ним, таясь в густом орешнике, Карп нетерпеливо поигрывал шелепугой.
— Скоро ли?
— Скоро…
Осторожно, не горяча коней, обошли озерцо с надветренной стороны, остановились в березнячке рядом с разбойным привалом. Калики уже разложили костер, запалили его, столпились у молодого огня. По тому, как подобострастно обращались мужики к одному из своих, Радко понял: это и есть атаман. Запомнил в лицо и, отвернувшись, стал шарить глазами среди баб. С атаманом у Радка были свои счеты — за Вольгу. Но с этим потом. Перво-наперво нужно вызволять Аленку.
Среди баб Аленки не было. Разглядел ее Радко на другом конце привала, где возле дуба в единой куче был свален всякий хлам: сумы, лапти, сермяги. Больно кольнуло скомороха в сердце: да что же это сделал с нею тать?..
Хрустнула ветка под копытом нетерпеливого Сидорова коня. Насторожились калики. Тут уж не зевай — ударил Радко пятками в худые бока своей лошаденки, выскочил на поляну.
— Э-ге-ей! — зашелся криком Карп, размахивая шелепугой.
Испугались калики, рассыпались кто куда. Только атаман, Нерадец, не сбежал — выхватил из костра горящую головню, ткнул ее в морду скакавшего прямо на него Карпова коня. Заржал Карпов конь, вскинулся, чуть не выбросил седока. Но Радко уже был рядом, ногой ударил атамана в грудь. Вскрикнул Нерадец, упав, покатился к озеру.
Пока мужики расправлялись с каликами, Аленка не сразу опомнилась. Потом словно свет пролился на ее лицо — вскочила, бросилась к скомороху:
— Радко!
А скоморох тут как тут, сильной рукой схватил девушку за талию, одним махом бросил впереди седла.
Тут, очухавшись, Нерадец выполз из-под глинистого берега, замахал руками, преграждая Радку дорогу к лесу.
— А, леший! — выругался Карп. Добрый был у него конь, а Нерадец подпалил ему морду. Вот и обрушил Карп шелепугу свою в сердцах на покатые плечи атамана. Взвыл атаман, присел. Лег на землю, забился в судорогах.
Передав Аленку Сидору, Радко спешился. Спешились и Карп с Алехой. Обступили лежащего на земле атамана.
— Вставай, — сказал Радко. — Ну, вставай давай, поворачивайся.
Злые глаза блеснули под ресницами Нерадца. Поднялся он, пошатываясь, стал гнусить:
— Почто бьете? Божьи люди мы — не воры…
— Молчи, божий человек! — остановил его Радко. — Монахов в Суждале сек — о боге думал?..
Отступился от него Нерадец, побелел:
— Чур, чур меня!
— А над Вольгой глумились — тоже о боге думали?
Сгреб Радко Нерадца за шиворот, другой рукой крепко ухватил за порты, приподнял над собой и бросил оземь.
Перекрестился скоморох, сплюнул, не стал даже глядеть: жив еще или кончился атаман.
Мужики устало сели на коней.
5
Огнищанина московского Петряту князь Юрий велел казнить, дочерей его вверил попу Пафнутию:
— Не обижай сирот, отче. Девки тут ни при чем.
Вечером в Москву вступило Михалково войско, Всеволод — впереди на горячем коне. Ослабевшего Михалку бережно внесли в избу, уложили на постланные в три ряда медвежьи шубы. Поскакали по окрестностям гонцы — искать князю лекаря. Привезли из лесов старушку. Нос крючком, глаза навыкате. Всеволод сказал:
— Не боись, худа тебе не учиним. А брата моего исцели.
Знахарка кланялась поясно Всеволоду, Юрию, дружинникам и боярам, стучала клюкой: ведьма, да и только. Привезла она с собою всю свою нечистую кухню: белокудренник черный, лягушечник, бруслину, змей-траву, могильник и горлюху, привезла и бесовские чаши и ступы толочь траву, готовить лекарственные навары. Вздула зелейница огонь в печи; поднося к носу пучки трав, скрипучим голосом приговаривала:
— А вот зубник, батюшка, от крови, а жабник от ран, и заячья капустка тож от ран хороша. А волчье лыко — от змеиных укусов…
Михалке намешала в чаше лихорадочника, мяты и дягиля, добавила кошачьего корня, высыпала крошево в горнец, залила горячей водой. Пока варево доходило в горнце, натерла князю грудь медвежьим салом.
— А теперь спи, батюшка, к вечеру полегчает, — сказала она, когда князь выпил горький настой.
Укутала его шубой, сложив руки на животе, наказала Всеволоду:
— Чтобы травка силу возымела, князя не будить.
Старухе принесли в светелку брашно и питье, но обратно в лес не повезли, наказали быть при Михалке до полного его выздоровления.
Запричитала было зелейница, но Всеволод так глянул на нее, что у старой сердце укатилось в пятки.
А Давыдке велел молодой князь собрать московлян перед крыльцом огнищаниновой избы.
— Не ладно живете, московляне, — сказал он с крыльца собравшимся. — Не в ту сторону глядите. Брат мой Андрей шел к вам с добром, а вы платите ему черной неблагодарностью. Врагов Андреевых привечаете… Не о том говорю, что Кучковичи перед нами в неоплатном долгу, а о том, что и ныне на князя руку заносите… Вот мое слово: идем мы на Владимир суд чинить. Ежели грехи свои искупить хотите, собирайте войско. Пойдем на Ростиславичей сообща.
Понуро слушали князя московляне, морщили лбы. Овчух сказал соседу:
— Оно, конечно, так. Да вот урожай-то…
— Совсем земля оскудела, — шептались мужики.
Всеволод будто подслушал их речи. Выждав, пока уляжется гул, пообещал:
— А за то даруем вам гривну на брата. Верьте мне, мужики.
— Дай, князь, подумать! — просили из толпы. — Мы ведь ничего. Мы супротив вас никогда не шли. Да вот ведь какое дело: а что, ежели и ноне, как в прошлом году, повернут вас Ростиславичи?.. Вы в Чернигов али там в Новугород убегнете, а нам каково?..
— Не повернут нас Ростиславичи, не бывать тому, — твердо сказал Всеволод.
Говорил он — будто совет держал с московлянами, а сам уж дружинникам наказал за мужиками в оба приглядывать. Речи речами — так уж повелось на Руси, так и отцы и деды поступали. Но Всеволоду порядок такой всегда был не по душе. Московлян он уговаривать не станет. Не пойдут с ним по доброй воле — заставит силой. «Свесив руки, снопа не обмолотишь, — неприязненно подумал он. — Разленились, хари отъели на окраине…»
Мужики, оно ясно, тоже не простаки. Упирались для виду, цену себе набивали. Но каждый знал: в лес от князевых тиунов не уйдешь, хозяйство не бросишь.
— Зря ты, стрый, с мужиками совет держишь, — шепнул Всеволоду Юрий, — Какие из них ратники? Не ровен час, дойдет до брани, разбегутся по избам.
Всеволод усмехнулся, положил руку на крестовину меча:
— Не разбегутся.
Мужикам ласково сказал:
— И еще дарую вам двадцать бочек меду, а к меду брашна. Вот задаток — остальное получите после похода.
В толпе одобрительно загудели, послышались голоса:
— Ай да князь!
— Так бы сразу и говорил. Пойдем на Ростиславичей!
Мед мужикам поставили из огнищаниновых погребов. Тиун добавил. Пять бочек Всеволод выделил из своих припасов. Народ на площади все прибывал. Вместе с посадскими пировала и княжеская дружина. Князья тоже не стали прятаться за частокол, пили на площади: перед избой огнищанина Петряты постлали ковер, принесли столы и лавки, составили вместе. Тут и там зачадили костры.
Поспел на пир и Радко с медведем, с Карпушей и Маркелом. Аленка тоже пришла посмотреть, как веселится народ. Глядя на пьяных мужиков, со слабой надеждой думала: а что, как и Давыдка здесь?
Накануне вечером за скудным ужином в избе Овчуха Радко предложил ей податься с ним вместе в Новгород.
— Одну тебя отпустить во Владимир не могу, — сказал он. — Много злых людей нынче бродит по дорогам да по лесам. Не дойдешь. А с нами тебе и тепло будет, и сытно. В беде подсоблю. Не брошу…
Разумно увещевал ее скоморох. Но у Аленки свое было на уме. Узнав, что прибыло войско, идущее на Ростиславичей, заупрямилась пуще прежнего:
— Упаду князьям в ноги, упрошу взять с собой.
— До тебя ли им? — усмехнулся Радко.
В толпе взопревших от тесноты баб, привалившихся к тыну, слышались голоса:
— Ишь как живут князья — лебедей пряженых подают…
— Сладко!
— Меды пьют, радуются.
— А наши-то мужики — дураки!.. Нынче пляшут, утром спохватятся…
— Уведут родименьких.
Овчух, страдавший болями в желудке и давно уже забывший вкус меда, тоже вертелся среди баб возле тына. Подливал маслица в огонь:
— Многие воротятся ли, бабоньки? Ваши мужики — вои, а я хоть и не вой, а тоже мужик. Со мной сподручнее. Хоть гривной и не наградят, зато голова на плечах… Ежели что, дорогу ко мне знаете.
— У, бесстыжий! — повизгивали бабы; иные игриво били его по плечам и по спине. — Седина в бороду, бес в ребро!
— А и то. Был бы уговор, — смеялся Овчух.
К тыну подошел, покачиваясь на помягчевших ногах, сокольничий князя Всеволода — в белой рубахе до колен, с княжеской гривной на шее. Поглядел на баб мутными глазами.
— А ну-ка, бабоньки, водицы мне!
— Аль меду мало?
— Ишшо не раздуло?..
— А вот я вам! — выругался сокольничий, сунул два пальца в рот да так свистнул, что мигом всех от тына отбросило. Одна только Аленка осталась. — А ты, молодица, пошто не побегла? — удивился сокольничий.
— Это со свисту-то?
Засмеялся сокольничий:
— Ну, коли так, принеси водицы.
— А к князю допустишь? — спросила Аленка.
— Принесешь водицы, допущу, — смеясь, пообещал сокольничий.
— Не обмани…
Закинув косу за спину, побежала Аленка к колодцу, зачерпнула полную бадью. Тяжелая бадья — едва принесла.
— Ну, полезай, коли так, — протянул сокольничий ей руку.
Хоть и пьян, а сильная рука у сокольничего. Подобрала Аленка подол, перепрыгнула через плетень. Перепрыгнула — да и прямехонько сокольничему на грудь. Обхватил он ее, прижал, крепко держит, не пускает.
— Поцелуй — отстану.
— А как уговор?
— Долг платежом красен.
Приподнялась Аленка на цыпочки — откуда и смелость взялась? — поцеловала сокольничего, да не как-нибудь, а в губы.
— Ой, девка-а, — зашатался сокольничий, на глазах трезвея, — да отколь ты такая?
— Где была, оттоль вся и вышла.
Все смеялись вокруг. Смеялись и за столом, где пировала дружина. Застыдилась Аленка, закрыла лицо руками. Ну как теперь подступиться к князю?
Но Всеволод уже заметил ее, привстав, поманил к себе. Сокольничий подтолкнул Аленку:
— Иди, тебя кличут.
Всеволод сидел во главе самого большого стола на скамье, укрытой полавочниками. По правую сторону от него — петушистый князь Юрий, по левую — старшие дружинники. Аленка подивилась, приглядевшись к Всеволоду: а молоденький-то!..
Большие ромейские глаза Всеволода оглядели Аленку всю, прильнули к свежему румянцу на ее щеках.
— Чья будешь?
— Володимирская я… — смело отвечала Аленка. — Боярина Захарии раба. Из Заборья… Чай, слыхал?
— Из Заборья, говоришь? — удивился Всеволод. — Постой, постой, уж не Давыдкина ли сестрица?
Екнуло у Аленки сердце!.. Ни слова не вымолвит от волнения. Погодя немного сказала, заикаясь:
— Давыдкина, князь… Я и есть Давыдкина… Сестра его я… Аленка…
— Аленка, говоришь?
Лукаво улыбнулся князь, шепнул что-то сидевшему рядом с ним молодому вою. Тот встал и скрылся в огнищаниновой избе.
— А вот поглядим, — сказал князь.
Что уж потом было, — будто сон, вспоминала Аленка. Видела только — вышел на крыльцо Давыдка, русоволосый, голубоглазый — такой, каким приехал тем росным вечером в Заборье. А потом уж ничего не видела — все застлали горячие слезы.
— Ну, князь, — сказал Давыдка, светлея лицом, — в долгу я перед тобой неоплатном. Что ни прикажи, все исполню…
— На то я и князь, — ответил с улыбкой Всеволод. — Ешь, пей. Но есть и дело для тебя, Давыдка. Бери самого наилучшего коня, скачи во Владимир. Передай людям нашим — пусть ждут. Скажи: идут князья к ним со всею силою. И ежели не брехали, а вправду хотят нас на стол, то пусть, соединясь с суждальцами, готовятся встретить как положено. Мы же будем драться с Ростиславичами, живота своего не щадя… А за сестрой, — повернулся князь к Аленке, — за сестрой твоей я сам пригляжу. Скачи!..
— Все сделаю, как велено, — сказал Давыдка, кланяясь Всеволоду. — Дозволь только побыть с сестрицей.
Всеволод кивнул, рукой подозвал чашечника. Велел всем нацедить меду. Встав, полный ковш протянул Давыдке. Давыдка принял его с поклоном, поднял высоко в руке:
— За здоровье князей наших!
— За здоровье князей! — подхватили дружинники.
Пир в Москве продолжался до глубокой ночи. А когда сильно захмелевших людей сморил крепкий сон, когда всплыла над Неглинной-рекой луна, Давыдка был уже в пути. Пригнувшись к седельной луке, скакал он сквозь дремучие леса — все на восток и на восток, туда, где мерещился над зеленой Клязьмой белоснежный город: за высокими крепостными валами, за частоколами и приземистыми крепкими башнями.
6
День и ночь съезжались к Ярополку гонцы; бросая отрокам взмыленных коней, взбегали на крыльцо.
— Князья вышли из Чернигова!
— Князья в Москве!
— Рать собралась неисчислимая!..
Бояре волновались, подолгу сидели в гриднице, говорили Ярополку:
— Кликни людей, князь. Останови супостатов!..
Ярополк молчал. Не крепко, будто на болоте, на зыбком кочажнике, стоял он на Владимирской земле. Сидел в кресле на возвышении — не в своем, в Андреевом, смотрел на боярские хари, дивился — трусливы, как псы. А ведь давно ли похвалялись: положись на нас; мы с тобой — и ты спокоен, отшатнемся — втопчут в землю мужики. Им ведь только подморгни — за вилы возьмутся, за топоры, пустят красного, петуха. Давно ли жгли усадьбы — еще и доныне гарью доносит: не смирились холопы, нет, не смирились. И зря тогда Ярополк послушался бояр, своим умом надо было жить. У них ведь чрева бездонные — никакого богатства не хватит, чтобы накормить. А накормишь — отойдут и снова вернутся, яко псы на блевотину. Все княжество растащат по своим теремам, а после его же, Ярополка, притянут к ответу…
Зло подступает к Ярополкову горлу, гнев перехватывает дыхание. А что делать? Знает князь — все это пустое: никуда ему от них не уйти, связан он с боярами крепко-накрепко. Теперь опереться не на кого — только на них.
Но думу такую втайне берег Ярополк: вот управлюсь с Юрьевичами, тогда поглядим. Налажу дружину, боярам спуску не дам…
Не дам ли? Ой ли, хватит ли силенок?.. Горько улыбнулся про себя молодой князь: ни ему, ни Мстиславу бояр не сломить. Боярский корень глубоко сидит. Чтобы ловчее за него ухватиться да вырвать, надо головы кой-кому порубить. А Ярополку страшно. Не то молод еще, не то материна проклятущая смиренность в крови. Отец — тот был человеком смелым: на новгородцев ходил, на половцев — всегда впереди, под стягом, на боевом коне. Рано помер, а то сидел бы сейчас на владимирском столе. Владимирский стол ныне самый высокий стол на Руси. Киев одряхлел. Андрей Боголюбский правил им из своего далека, будто вотчиной, — смещал и ставил князей…
Об Андреевой славе мечтал Ярополк. А многого ли достиг? Зря послушался бояр, зря давал дядьям клятву… Теперь проклянут его в летописях и былинах. Понесут песенники по Руси худую славу. Не ту, о которой мечтал. С такой-то славой ни один город к себе не примет. Как же тогда?..
Ярополк снова взглянул на бояр — аж рот перекосило ненавистью. Представил себе, как идут они с ключами на золотом блюде навстречу Михалке, как сызнова клянутся ему в верности, а то, что было, валят на него, Ярополка, да на брата его Мстислава. И снова течет в их бретьяницы душистый мед, в скотницы — золото и серебро. Князья приходят и уходят — бояре остаются…
Захария в отделанной горностаями теплой шубе — несмотря на жару, — в теплой же высокой меховой шапке восседал на лавке как раз против князя: борода в бороду. На лицо Ярополка падал свет из оконца, и Захария видел его печальные глаза. Смятенно было на душе у боярина. Крупный пот стекал по его щекам, холодными струйками сбегал за воротник.
Уж кто-кто, а Захария за Ярополка горой. Не ему обиду держать на князя. Да и князь это знает, понимает боярина. Ежели сбросят Ярополка со стола, то и Захарии не усидеть в своем тереме. Знал боярин Михалку, знал и Всеволода — эти за ценой не постоят. Щедро одарят всех, кто восставал против Андрея. И уж ему, Захарии, кре-епко несдобровать. Никак нельзя боярину даже в мыслях допустить, чтобы сел Михалка на владимирский стол.
Будто что легло от него к князю, притянуло к боярскому лицу Ярополковы бесцветные глаза.
— А что скажет Захария? — спросил князь.
Все, кто был в гриднице, повернулись к боярину. Затаили дыхание.
Согнав следы раздумий, Захария неторопливо огладил бороду. Никто не должен заметить его смятения. Пусть верят — боярин не сомневается в успехе. И еще пусть не думают, что мучит его тяжесть вины. Чист боярин перед князем, чист и перед богом.
Встал Захария, поклонился Ярополку, поклонился боярам.
— Дозволь, князь, правду молвить, — сохраняя осанку, нараспев, спокойно произнес он. — Слушал я думцов твоих и дивился. Отколь и к кому бояре пришли? Чего ищут в княжеском тереме?..
Он, прищурясь, оглядел сидящих. Вона как попали его слова: в самую сердцевину, — задвигались бояре, зашушукались, недоуменно вскидывая на него глаза. Захария улыбнулся и продолжал:
— Иль не одарял князь бояр наших землей? А угодьями?.. И сколько золота положил в наши, боярские, скотницы? Кто счел?! А теперь прикиньте, бояре, как все повернется, ежели Андреевы братья придут во Владимир и начнут свои порядки наводить…
Он снова помолчал, утер меховой опушкой рукава застилающий глаза липкий пот.
— Князь — он всему голова, это верно, — продолжал Захария. — Князь за все в ответе. На то он и князь. Так уж исстари повелось на Руси. Ну, ладно… А мы кто? Мы князевы советчики. С нас ведь тоже спрос немалый. Кто знает, сколь обиженных нами в Михалковом войске? А?.. Так что давайте думать вместе, бояре. Давайте думать, что присоветовать нам князю нашему? Прикинем так — на володимирских каменщиков надежда слабая. Они в сече переметнутся к Юрьевичам. Это все мы знаем. Дружина у князя пришлая… Еще боголюбовские пешцы. Не вои. Да и мало их. Вот я и думаю — не пришла ли пора нам, бояре, отплатить князю нашему старый долг. Пошлем по вотчинам своим тиунов, наберем войско из смердов. Смерды — не каменщики, они у нас вот тут…
Он выразительно сжал кулак и потряс им над головой.
Устал Захария от длинной речи, но остался собою доволен. Снова разгладил обеими руками бороду, в тишине обратился к Ярополку:
— Дозволь сесть, княже.
— Садись, боярин, — наградил его Ярополк признательным взглядом. Вопросительно поглядел на бояр.
Бояре неодобрительно молчали. «Эко солнышко приоткрыл Захария! — размышляли они. — Князю радость, а нам пошто забота? Плохо ли жилось за Ярополковой спиной!..» Смердов ни в Ростове, ни в Суздале доселе не подымали в походы. Половцы их не беспокоили, а свои счеты князья сводили и малой дружиной. Взять мужиков от земли, да еще в такую пору, — прямой убыток.
— Что молчите, бояре? — спросил князь. — За свою калиту хватаетесь, а о том не мыслите, что придет Михалка — все едино потеснит вас в вотчинах. А еще соберет людишек ваших на булгар — довершать начатое Андреем… Каково?
— То ведомо нам, князь, — растерянно забубнили бояре. — Да ведь пора-то какая: дел на земле невпроворот. Без хлебушка останемся.
— Будет плакаться-то! — вдруг рассердился Ярополк. Ударил ладонью по подлокотнику кресла, встал. Бояре тоже встали. — Мое слово — последнее, — сказал князь, — Соберете рать — жалеть не будете, не соберете…
Он не докончил и нахмурился. Бояре испуганно закивали:
— Спасибо, батюшка. Спасибо на добром слове. Милости твоей благодарны. Жить будем, вовек не забудем.
Говорили бояре, а сами глазами, будто угольями, жгли стоящего в стороне Захарию. Понимал Захария: наживет он себе нынче немало врагов. Но на риск шел, знал: одолеет Ярополк Юрьевичей — сделает его при себе самым первым человеком.
А Ярополк свою видел в этом выгоду. Время еще есть, — пока Михалка болен, пока сидят князья в Москве, можно сколотить немалую рать. А чтобы маленько придержать Юрьевичей, надумал Ярополк уговорить Мстислава — послать его с суздальцами к Москве навстречу Михалке и Всеволоду.
Разговор с братом предстоял трудный. Помедлив, Ярополк решил ехать к нему сам.
Мстислава он застал на псарне. Брат сидел на корточках перед соломенной подстилкой, на которой лежала любимая его гончая сука Рогнеда, и держал в руках слепого еще, влажного кутенка. Щенок извивался, тыкался мордой в его ладонь. Рогнеда, глядя то на щенка, то на князя любящими глазами, счастливо поскуливала.
— Рад видеть тебя в добром здравии, — сказал Мстислав, торопливо обнимая Ярополка за плечи.
Когда они стояли рядом, то были одинакового роста; оба юные, статные, с глазами, обведенными четкими дугами черных бровей. Только если очень пристально приглядеться, можно было заметить, что Мстислав чуть постарше Ярополка, а издали он даже казался моложе, был попроще.
— С чем ты, брате? — спросил Мстислав, догадываясь, что дело важное.
— Травка наша в пути проросла, — сказал Ярополк. — Михалка в Москве собирает войско.
Мстислав кивнул — не дошел Воловик, сгинул. У Мстислава тоже есть свои глаза и уши, и не только здесь, в Суздале и Владимире, но и там, в стане у Юрьевичей. Однако стоит ли беспокоиться? С ними великий Ростов, не кучка московских ремесленников.
— Устоим…
— А коли нет? — раздраженно сказал Ярополк. Он оторвал брата от любимого занятия. Гончая, оставшись одна, ерзала на подстилке и поскуливала. Не вовремя прибыл Ярополк. Мстислав досадливо поморщился.
— Четырех кобельков принесла, — похвалился он. Ярополк испугался: и в такое время Мстислав думает о щенках!.. Или суздальский князь и вправду надеется отсидеться за стенами своей крепости? У Владимира тоже крепкие стены, а что толку? Кто встанет к заборолам?.. Лицо молодого князя побледнело. Ресницы гневно дрогнули, под ними жарко вспыхнули глаза.
Мстислав не заметил его взгляда. Мысли его уже были далеко.
— Ты не гневайся, ты мне верь, — невнятно забормотал он. — Это здесь, рядом, за Кидекшей. Кудесник — он и в тот раз не обманул меня…
Ярополк смотрел на брата как на больного. О каком кудеснике говорит Мстислав? Куда они должны ехать?.. Зачем?
Мстислав позвал конюшего. Улыбчивый парень с курносым, как седло, широким носом подвел коня.
— Не захромает? — спросил князь.
— Только что подковали.
Ярополк злился, нервно кусал губы. Зря он скакал сюда. Зря торопился. Мстислав не поможет. А почему?! Разве они так слабы, чтобы ползти к Михалке и клянчить у него хоть самый захудалый удел?! А может быть, Мстислав уже столковался с Юрьевичами?..
Мысль эта была нелепа, но он никак не мог от нее избавиться. Они скакали рядом по ровному полю вдоль Нерли, и Ярополк нет-нет да и поглядывал раздраженно в сторону брата.
Кидекша выросла среди зелени, обнесенная новым частоколом, за которым виднелись белые стены придворной церкви и княжеского терема. Мудр был дед их, князь Юрий, прозванный Долгоруким. И не только к соседним княжествам протягивались его длинные руки, — крепкой хваткой держал он и бояр, сторожил их на подходе к Суздалю, Кидекшей затворив глубокую протоку Нерли.
В Кидекше не остановились, поскакали дальше. За Нерлью заволновалась, захолмилась земля, разбросала по низинкам рощицы да перелески. В одном из перелесков встретил их возле тына с голым лошадиным черепом на шесте сухой и черный, будто головешка, старик.
Мстислав спрыгнул с коня.
— Мир очагу твоему, старче, — почтительно проговорил он и остановился в отдалении.
— Мир и тебе, князюшко, — прошамкал старик. — Заходи, ежели не брезгуешь…
— Поспешаю я, старче. А к тебе у меня дело.
— Кому же без дела сюда скакать охота?!
— Оно и верно.
Мстислав покосился на Ярополка. Хмурится брат, не одобряет, сердито поджимает губы. Ничего — стерпится…
Подождав немного, Ярополк тоже слез с коня. Похлопывая его по холке, внимательно рассмотрел волхва. Старик был кряжист, у него красивая крупная голова с торчащими, непокорными волосами, длинная седая борода ниспадала почти до пояса; острые глаза прожигали дремучую поросль бровей.
Мстислав достал из сумы большого белого петуха. Старик принял его, одобрительно подержал в руке — петух был увесистый, бойцовый; воинственно, как секира, топорщился над его головой мясистый красный гребень. Привязав петуха бечевкой за лапу к стволу березы, старик ушел в избу. Скоро он вернулся с охапкой душистого сена.
Мстислав с Ярополком сели под плетнем, старик достал из нанизанного на тело разноцветного тряпья кремень и, бормоча заклинания, принялся высекать огонь;
— Принесем богам-спасам жертву и возгласим им честь и славу!
Трут задымился, волхв раздул его и сунул в траву, пригласив князей придвинуться поближе.
Трава занялась оранжевым пламенем, синий дымок потянулся в сторону сидящих. Старик отвязал петуха, приподнял его над костром и одним ударом острого ножа отсек ему голову. Упругое тело заплескалось, рванулось из его рук, но старик крепко держал судорожно дергающиеся крылья. Из обрубка шеи в костер толстой струей ударила кровь. Огонь злорадно зашипел, принимая жертву. Пламя опустилось, по всей поляне растекся густой ароматный дым.
В дыму возникли видения. Казалось, поляне нет конца, и на всем ее необозримом пространстве над дымом — конские и человеческие головы. А над их головами топорщились копья и мечи. Люди и кони текли вместе, с дымом.
Потом над поляной поплыл неясный гул. Гул нарастал, и скоро в нем стали различаться отдельные голоса и крики. Ярополку даже показалось, что он расслышал звон оружия… Но стоило ему отвернуться от огня — видения исчезали.
Однако волхв, стоявший напротив — сам словно сотканный из огненной плоти, — притягивал к себе взоры молодого князя. И душистый дым проникал Ярополку в рот и в ноздри; он вдыхал его, блаженно закатывая глаза.
Огонь погас. Пешее и конное воинство рассеялось по лугу вместе с остатками дыма. Волхв опустил в остывший пепел тушку петуха и вскрыл живот. Сейчас там, в утробе жертвенной птицы, свершалось великое таинство. Увидеть его было доступно только избранным — ни Мстислав, ни Ярополк не разглядели бы ничего, но волхв читал по внутренностям будущее, и братья прислушивались к нему с почтительным вниманием.
Пальцем, измазанным петушиной кровью, старик провел себя по носу и по щекам. Тихий голос становился все громче, волхв мелко вздрагивал спиной и грудью. Потом, вдруг сразу покрывшись мелкими бусинками пота, замолк и уставился на князей.
Он никак не мог отдышаться и долго молчал. Заметно было, как притекала кровь к его побледневшим щекам, как в остекленевших глазах заструилось тепло, растапливая холодные ледяшки расширившихся зрачков.
— Праведный меч покарает врагов, — наконец глухо произнес он.
Мстислав вскочил на ноги.
— Покарает врагов! — повторил он как эхо. — А что еще шепнули тебе твои боги?
— Правота всегда наружу выйдет, — сказал старик.
Мстислав бросил в раскрытую ладонь волхва нитку крупного жемчуга.
Ярополк пожал плечами.
— Али наша победа не стоит такого подарка? — заметив его жест, сказал Мстислав с раздражением.
Ярополк промолчал. Да и что ему было сказать?! Разве он не видел огромного войска и не слышал гула битвы? Откуда это?.. Не бесовская ли шутка?.. А что, как прознает суровый христианский бог? Что, как накажет?.. Нет, не нужно было ехать на требище, не нужно было приносить в жертву белого петуха…
Он возвратился во Владимир, исполненный еще большей тревоги. Мстислав не понравился ему — горяч, но жидок. Нужно действовать самому, спешно снаряжать дружину, идти на Москву. А Мстислав пусть готовит Юрьевичам встречу под Владимиром. Бояре, как было обещано, соберут людей и оружие.
7
Ночью скрипели возы, через Медные и Серебряные ворота выезжали из города. Утром, когда княжеские тиуны поскакали по оружейникам, по бронникам, те, ухмыляясь в прокопченные бороды, говорили:
— Был товар, да весь вышел — нет мечей, кольчуг нет, нет шеломов. Купцам продали, а те давно в пути.
Тиуны обыскивали кладовые — верно, не врали ремесленники: не было у них товару.
Догадываясь о сговоре, Ярополк снова и снова рассылал тиунов. Но мастера стояли на своем. Иные обещали:
— Через неделю изготовим все, что требует князь. Да и то, ежели подвезут кузни. А без кузни мечей из воздуха не накуешь.
Тиуны скакали к кузнецам:
— Варите кузнь.
— Кузнь сварим, — отвечали кузнецы. — Да вот руды нет. Будет руда, будет и кузнь.
Много людей согнал князь в болота. Задули вокруг города новые домницы. Железо варили и стар и млад. Но дело продвигалось плохо. Тем, кто выварит больше руды, князь обещал выдать по две гривны. Кузнецы от денег не отказывались, но железа все равно было мало.
Вяло постукивали в кузницах молотки, а к городу уж собирались крестьяне. Ни одеть, ни обуть их было не во что. Нечем было кормить. Не мог Ярополк и вооружить своей многочисленной рати.
А гонцы тем временем доносили: Юрьевичи вышли из Москвы. Войско их лесами движется на Владимир.
Ярополк собрал бояр.
— Худо дело, бояре, — сказал он им. — Не сегодня завтра Юрьевичи будут здесь, а у нас нет мечей. Драться нечем. Одна надежда на бога. Ежели подсобит — возьмет наша сторона, а ежели нет — не миновать вам жить под новым князем. Мое решение такое: соберу всех, кто есть, и пойду дядьям своим навстречу. С вами же останется Мстислав… Ежели не одолею Михалку в поле, крепко держите город. Да за каменщиками зорче приглядывайте. Нет у меня им веры…
На проводы Ярополковой дружины прискакал взволнованный Мстислав.
— Худые нынче приметы, брате, — сказал он. — Проходили мужики, говорили, будто яровой и озимой хлеб играет от межи до межи. Сам поглядел — верно. А еще говорили, что под Кидекшей голодные волки все утро бродили стаями…
— Тебе волхв правду сказал, — оборвал его Ярополк. — Ты волхву верь.
Нарочито пышно выехал Ярополк со своей дружиной за Золотые ворота: пусть видят каменщики — не испугался он Михалковой рати. Кологривый конь под князем сверкал дорогой сбруей, высокое седло с подпругами было из тисненого сафьяна, стремена украшены затейливой насечкой, поперек крупа подвязан алый бархатный плат, обшитый шелковой тесьмой и кистями из пряденого золота.
Ремесленники бросали работу, выходили из мастерских полюбоваться дружиной. Вои у Ярополка были один к одному — высокие, широкоплечие, закованные в брони. Впереди скакали музыканты, били вощагами в привязанные к седлам небольшие медные чаши с натянутою поверх кожей, играли в трубы и в сопели…
Проводив князя с дружиною до Гончарной слободы, Захария отправился в свой терем. Постучал посохом в ворота. За воротами в глубине двора курилась банька. Еще с утра велел боярин истопить ее, напасти лютых кореньев, а вместо соломы на доски бросить крапивы. Хорошо пахнет лютый корень, крапива приятно обжигает тело. А после пару нет ничего лучше, как испить настоя из купальницы, собранной на утренней росе…
В бане, поохивая, бил себя боярин веником по животу и по жирным ляжкам. Верил в примету: от лютого корня приходит молодость. И впрямь — из бани Захария вышел, будто сорок лет сбросил с плеч. Черных дум как не бывало, а ведь с утра маялся: всему, мол, конец.
В горнице на столе дымилась в высоком блюде обетная каша. Знал боярин: ячмень для каши девки толокли в ступах еще с вечера.
Захария нетерпеливо постучал ложкой по столу — в горницу из светелки спустилась Евпраксия. Была она в прямом темном платье, в высоком кокошнике. Подведенные брови — вразлет, на губах — приветливая улыбка.
Поглядев на дочь, боярин еще больше размягчился. А испив чару меду, совсем обмяк. Забылись и вчерашние заботы, и тревожная речь Ярополка. В ушах все еще звучали сопели, перед взором проходила дружина, поблескивая новенькими доспехами на жарком июньском солнце, а пахучее банное тепло растекалось по всему жирному боярскому телу и клонило, клонило ко сну.
Но Захария не стал спать. Поев, он накинул на плечи кафтан и пошел смотреть, как мужики роют во дворе колодезь. Старый колодезь подгнил, вода в нем пожелтела, и боярин распорядился засыпать его. С неделю назад пришли к нему в усадьбу колодезники — старик и два молодых мужика. С вечера старик положил в разных местах двора сковороды. На другое утро при солнечном восходе по отпотевшей сковороде стал гадать, где рыть колодезь. Одна, лишь слегка отпотевшая, сковорода указывала, что воды в этом месте мало; зато другая вся была покрыта серебристым инеем. Здесь-то старик и велел забить колышек — добрый будет колодезь, с обильной водяной жилой.
Один из мужиков работал внизу, другой наверху крутил ворот — поднимал на волосяной веревке бадью с влажным песком.
Захария любил смотреть, как трудятся люди. Работающий человек — мирный, худые мысли от него далеки, голова занята делом: как ловчее подтянуть бадью, куда ссыпать песок. Пот стекал у парня с загорелого бронзового лба. Рубашка промокла насквозь, прилипла к мускулистой, в больших крепких буграх спине. На груди сквозь мокрую ткань прорисовывались тугие ребра.
— Не уставать тебе, — сказал боярин, запахивая кафтан на голом животе.
Мужик кивнул ему, подхватил очередную бадью и, придерживая грязной от глины ладонью ворот, стал быстро спускать ее вниз, в черную дыру, со дна которой доносились удары лопаты.
Покрутившись во дворе, боярин, позевывая, подался в другой конец, к низкой пристройке, в которой молодые бабы и девки сучили леи. В избе было душно, полутемно, в воздухе кружилась пыль. Боярин поперхнулся и громко чихнул. Бабы, подняв головы от прялок, встали, поклонились хозяину.
— Работайте, работайте, — махнул боярин пухлой рукой и сел на лавку.
Бабы сучили лен, а Захария, дремотно сомкнув веки, поглядывал на них. Любил боярин поглядывать на девок — пряхи у него все как на подбор, крупные, ядреные.
Кафтан на задремавшем боярине распахнулся — девки захихикали, спрятавши раскрасневшиеся лица в прялки. Боярин проснулся от смеха, вздрогнул, строго насупился. Эка невидаль — запахнул кафтан. Одна из прях затянула песню:
Уж и так ли я коститься могу, могу, Уж и так ли я пройтиться могу. Я могу, могу по горенке пройти, Я могу, могу пивца, медку испить. Вот из винного ковшичка, Из чарочки позолоченной. Да к кому я, добрый молодец, приду? К кому костыль прислоню? Приставлю я свой костыль Ко золоту, ко серебру, Ко девичью ко терему…Захария нахмурился. Не понравилась ему песенка, хоть и знал он, что поется она без всякого злого умысла. Не раз он и сам долгими зимними вечерами игрывал в костыль; выходил в круг, отдавал костыль полюбившейся девке, девка целовала его, а после сама уж ходила по горенке, приглядывая, кому бы передать костыль, чтобы поцеловаться… Разыгрывали костыль и в сговорах молодых. Но не по душе была боярину игривая песенка — и с годами все больше не нравилась. А что, как девки неспроста; что, как намекают на его старость?!
Ох, старость-старость, не в радость. И спину гнет, и в коленках ноет. Нет уж у боярина былой хватки. Стал примечать — все реже тянет его заглянуть к пряхам. А заглянет — сидит на лавке, с девками почти не заговаривает.
Постонал Захария, покряхтел — и вышел. После душной горенки на свежем воздухе закружилась голова. Постоял, подождал, пока полегчало, побрел в терем. По дороге снова задержался подле колодезников.
Мужики сидели на высокой куче песка и глины. Старик — мастер держал в руке жбан. Увидев боярина, сказал:
— Отведал бы, батюшка, свежей водицы. Не водица — божья роса. Добрый получился колодезь.
Захария отпил из жбана. И впрямь — сладкую воду добыли для него мужики. Молодцы колодезники, на славную напали жилу.
Солнце стояло высоко, припекало нещадно. Остатки воды из жбана Захария вылил себе на голову.
— Срубец-то, срубец-то, — напомнил он, хмурясь. — Да чтобы самый что ни на есть крепкий.
— Срубим, батюшка, — заверил старшой. — Мы свое дело знаем.
Совсем осовев, Захария поднялся к себе в ложницу, лег на лавку, смежил глаза. Но сон, который только что нещадно морил его, никак не шел. Спать хотелось, а сна не было. Боярин сел, почесал живот, уставился на образа.
И тут его осенило: не старость, а все те же думы изломали ему тело. От дум и душа ноет, от дум и не спится.
Вот все вокруг него хорошо и добротно. И терем, пахнущий смолистой сосной, весь в янтарных капельках росы; и службы, и медуши, полные ядреного меда, и бретьяницы, ломящиеся от всякого добра, — а радости нет. Только еще сильнее тревога. За старое душа ноет, а за новое — вдвойне. Кому строил, для кого старался?.. А ну как придут Юрьевичи, как начнут чинить суд? Не проглядят, поди, призовут и Захарию. Спросят его так: «Был у Ярополка правой рукой?» — «Был», — ответит боярин. «Добро нашего брата Андрея сносил ли в свой терем?» — «Сносил», — скажет боярин. «А церкви святые грабил?» — «Грабил», — не утаит боярин. «А рать на нас собирал?» — «Собирал и рать». Да и как бы иначе стал отвечать Захария? Все, что делал, — все на виду. Ничего не таил. Думал, навсегда… Ан тут, видать, и ошибся. Не туда глядел, не с теми дружбу водил. А раз не с теми дружбу водил, то и ответить должен сполна.
— Тяжко, — вздохнул боярин. — Но с чего бы вдруг? Чай, и у Юрьевичей не велика рать, — как еще все обернется?..
«Вот оно! — поймал себя Захария на тревожившей мысли. — Знаешь, чуешь, старый пес, что Ростиславичи закачались. Не устоять им. Нет, не устоять».
8
Не любила еще Евпраксия, не мучилась, от любви. Слышала от девок про парней, но чтобы такое и с ней приключилось, не думала. Казалось ей — это где-то стороной идет. Девки сходятся на кругу, ластятся к парням, парни ластятся к девкам, а после ведут их в церковь, а после рожают девки детей, и их уже все называют бабами. Много девок было и на усадьбе ее отца, боярина Захарии, но если выходили они замуж, боярин отправлял их из города в деревни. Замужних баб у себя не держал.
Сватались к Евпраксии из древних боярских домов. Красавцы были женихи, но ни один из них не полюбился. Приходят, бывало, к ней, пряниками угощают, побасенками услаждают, улещивают, а к венцу позовут — ни-ни. Так и жила она в девках, терпеливо ждала суженого.
«Долго ль еще будет строптивость свою показывать? — тревожился Захария. — Ведь так и засидится, а лежалый товар кому по душе? Попробуй тогда сыскать жениха».
Не ведал Захария ничего о том, что было в его отлучку, когда пришли мужики грабить терем. За дочь только боялся — не повредили ли чем? А когда увидел ее здоровой и веселой, совсем успокоился.
Зато Евпраксии день тот запомнился навсегда. Не потому, что испугалась, не потому, что кровь стояла в глазах. Видела она другое — от этих-то видений и не могла сомкнуть глаз.
Что это было? Или не было ничего, а только померещилось? Отчего так ударила ей в лицо горячая половецкая кровь?.. Не знала она ни имени того молодца, ни прозвания. Видела его гордые глаза, слышала, смежив веки, его пылкие речи. В душу они запали, обожгли, разбередили заледеневшее было сердце.
Дошли до Евпраксии слухи о жестокой расправе, учиненной Ярополком над мужиками. Сам отец ей об этом рассказывал. Она выспрашивала его; радовалась, узнавая по приметам, что парня того не судили, рук и ног ему не вредили, в яму не бросали. Где он?
Раньше редко выходила Евпраксия из терема; теперь же не пропускала ни одного хоровода. На Лыбеди играла с девками и в ужище, и в колючки, и в жгут. Выходя, надевала простой сарафан, чтобы в ней не признали боярскую дочь. Из всех игр больше всего нравился Евпраксии дергач. В дергаче люди разные, народу собирается много. Бывало, сделают из нее водыря, завяжут глаза, начнут дергать со всех сторон, а ей кажется — он это, он…
Вечером возвращалась она домой грустная. Но утром снова пробуждалась с надеждой. Солнышко смотрит в терем, тоненькие березки покачиваются под окном… «А вдруг и он ищет тебя?» — радовало сердце.
Два дня назад была Евпраксия в посаде, справлялась у златокузнеца, готовы ли бирюзовые сережки. В полутемной лавке рассматривала безделушки. Мастер стоял за ее спиной, показывал то одну, то другую вещицу: колечки с рубинами, золотые ожерелья с жемчужными матовыми бусинками, украшенные алмазами гребни и прозрачные, словно из шелка сотканные, серебряные браслеты.
Нравились Евпраксии украшения, часами могла она на них любоваться. От ярких камушков празднично становилось на душе. Да и мастер был не простой, любил он рассказывать, откуда и кто везет камни, и сколько каждый весит, и как дорого стоит. Нелегко искать их, а иных так мало на земле, что по пальцам пересчитаешь. У каждого камня своя душа. Один приносит радость, другой несчастье. Есть даже камни, вылечивающие тяжелые недуги. Вот этот, например, желтенький, прозрачный, с букашкой внутри. Попал он в человечьи руки из подводной сокровищницы. Люди ходят по берегу моря и не догадываются, что камешки им выкатывает под ноги не волна, а морской царь. Щедр он, но дарует свои богатства не каждому, а тому только, кто чист и бескорыстен в помыслах!
Зачарованно слушая разговорчивого златокузнеца, Ев праксия пересыпала из ладони в ладонь блестящие янтарные бусы. А откуда в камне букашка? Как она туда попала?
Златокузнец загадочно улыбнулся.
— Никто не ведает этого. Но свейские купцы говорят, будто это души тех, кто осквернил бесценный подарок. Морской царь превратил их в букашек и обрек на бессмертие во плоти драгоценных камней. Много крови пролито из-за этих камней, много загублено жизней…
Туманцем заволокло боярышне взор, перелила она бусы в ларец и захлопнула крышку. Красивы камушки — то пламенем разгораются, то отсвечивают небесной голубизной; но лучше на воле — там, где гудит едва уловимый ветерок, наносит терпкие запахи лета.
Из посада к Золотым воротам Евпраксия подымалась не спеша, прислушиваясь в толпе к неторопливым разговорам мужиков, к частой перебранке баб. Плотно шел к площади народ — скрипели возы, покрикивали возницы, пешие затирали всадников. Люди терялись среди мешков и кадушек. В мешках везли жито, в кадушках — мед. Лоснящиеся круги воска горами высились на телегах.
Вдруг среди разноголосой толчеи к самому горлу подпрыгнуло у Евпраксии сердце: прижали ее нерасторопные возы к забору, а на дороге, за возами, закачалась лисья шапка, под ярым мехом глянули знакомые глаза. Он! Так и обмерла боярышня. Хорошо еще, что люди теснились со всех сторон, а то бы упала. Ослабли ноги, помутился белый свет. А когда очнулась, ни возов, ни парня уже нигде не было.
Отпрянула Евпраксия от забора, бросилась на улицу, расталкивая людей, но лисья шапка словно сквозь землю провалилась. Да как же это? Ведь не во сне приснилось. Видела она его наяву. И ошибиться не могла — сердцем узнала. А вот пропал же…
Бледная и растерянная вернулась Евпраксия домой. Боярин забеспокоился — аль занемогла дочь? Призвал знахарку. Подула знахарка у постели боярышни на кашу, почитала молитвы.
— От жары это, — сказала старушка. — Пройдет.
И вправду — на следующий день Евпраксия почувствовала себя лучше, спустилась из светелки, испила березовицы. Вечером нянька рассказывала молодой боярышне волшебные сказки. Но ее тихий, вкрадчивый голос не принес Евпраксии былого покоя. Вечером снова наведалась знахарка, дала выпить настоя сердечной травы. Сморил молодую боярышню тяжелый сон.
С утра, чуть свет, отправился Захария в княжеский терем. Вернулся чернее тучи. От няньки Евпраксия узнала, что Юрьевичи с дружиной вышли из Москвы.
В усадьбе шептались, ждали перемен. Но Евпраксия словно оглохла — ходила, бесшумно ступая по коврам, пристально вглядывалась в блеклые пятна окон. Прислушивалась, не раздастся ли стук колотушки у резных дубовых ворот.
9
В тот день Давыдка тоже увидел Евпраксию в толпе, поднимавшейся от Гончарной слободы к Золотым воротам, но поспешил скрыться. Ехал он с важным поручением от Всеволода и не мог рисковать. Наказал ему князь связаться с людьми, сохранившими верность Юрьевичам. Перво-наперво наведался Давыдка к Левонтию.
В избе камнесечца было жарко и душно, к окнам лениво лепились мухи. Разомлевший Левонтий, прямо держа спину, сидел за столом в исподнем. Проводя время от времени по вспотевшей шее пестротканым убрусом, он терпеливо и внимательно слушал Давыдку.
Антонина обрадовалась, узнав, как нашлась в Москве Аленка, всплакнула, когда Давыдка рассказал о ее мытарствах, о каликах, об атамане их, жестоком и хитром Нерадце, которого прибил на берегу лесного озера скоморох Радко.
— Знаю его, доводилось встречаться, — сказал Левонтий. — Умом изворотлив и зело силен.
Давыдка поморщился, не одобряя слова-камнесечца, по в избе, приютившей его, в спор вступать не стал. Левонтий же еще и раньше заприметил в нем перемену: изменился, шибко изменился Давыдка. Поубавилось в нем простоты, поприбавилось холода. Разговаривая с камнесечцем, избегал его глаз; прежде чем слово вымолвить, долго думал. Задушевной беседы не получалось.
Маленький Маркуха, все еще живший у Левонтия, сперва потянулся к широкоплечему вою, за обедом даже вскарабкался к нему на колени, но, не получив ответной ласки, забрался на печь, издалека прислушиваясь к разговорам взрослых.
Разговоры были трудные. Не все понимал в них Маркуха. А то и вовсе ничего не понимал. Иной раз ему казалось, прав Давыдка, иной — дядька Левонтий, но неторопливая речь дядьки Левонтия была ему больше по душе. Иногда Левонтий замолкал посреди беседы и подолгу задерживал свой взгляд на свесившейся с печи белобрысой Маркухиной голове. Тогда Маркухе казалось, что дядька хочет его о чем-то спросить, может быть, даже посоветоваться. Он вытягивал шею и подавался вперед, но Левонтий ни о чем не спрашивал, и мальчонка смущенно отползал подальше, к дымоходу. Оттуда время от времени раздавалось нетерпеливое посапыванье.
Два дня пробыл Давыдка у Левонтия, встречаясь у него ночью с мастерами, ходил к протопопу Микулице. Узнав, что князья твердо намерены войти во Владимир, протопоп перекрестился:
— Слава тебе, господи, есть на земле правда. Рад я, услышал господь мои молитвы.
— Не молитвами едиными, отче, держится стол владимирский, — отозвался Давыдка. — Князья полагаются на владимирцев, как на детей своих. Встанут ли за их законное право али поворотятся спиной да в Ростиславовой рати бить их пойдут, проливать невинную кровь братьев своих — русичей?..
— Не бывать тому, — горячо возразил Микулица.
Под протопоповыми всевидящими глазами Давыдке сделалось неуютно. Пытаясь смягчить сказанное, он добавил:
— Князья верят тебе…
— Верою держится мир, — прогудел Микулица, продолжая разглядывать его своим диковатым взглядом. — Скажи Юрьевичам: идет супротив них Ярополк с дружиною, у Владимира встречу готовит Мстислав. Но кольчуг и мечей у Мстислава нет, потому как владимирцы, давшие Михалке клятву, отказались ковать их.
— Слышал я об этом, отче, — улыбнулся Давыдка. — Передам князьям все, как есть.
— Не посрамят себя владимирцы. И суждальцы с нами. Одной дружиною Ростиславичи стола не удержат.
Разумно говорил Микулица, облегчил Давыдке сердце; не с пустыми руками возвратится он к Всеволоду.
Перед тем как покинуть протопопа, Давыдка принял благословение. Путь предстоял ему нелегкий. По доносам лазутчиков, Ярополк поставил людей своих по всей дороге от Владимира до Москвы.
Антонина испекла Давыдке пирогов, сложила в седельную суму. На зорьке попрощался княжеский дружинник с гостеприимными хозяевами. Маленький Маркуха держал за стремя Давыдкиного коня, смотрел на воя влажными восторженными глазами. И опять озабоченный Давыдка не заметил мальца; не взглянув на него, не приветив ни словом, вонзил в бока коню шпоры.
Проехав Волжские ворота, он спустился к перевозу, перебрался на ту сторону Клязьмы и тропками, известными только ему одному, поскакал к Москве. Солнце всходило за его спиной, лес глушил в своей неприступной голубине торопливый перестук копыт.
10
В лесах Ярополкова дружина разошлась с войском Юрьевичей и сейчас двигалась к Москве. Узнав об этом, московляне, опасавшиеся за свои дома и семьи, стали требовать немедленного возвращения.
— Повороти войско, князь, — говорили они Михалке, — не то пожгут супостаты наши избы, оставят без крова!
— Надругаются над женами!
— По ветру пустят хозяйство!.. Повороти, князь!
Михалка молчал. По совести да по правде — правы московляне. Но всей рати поворотить он не мог. Понимал: если пойдет Ярополк к Москве, одному Мстиславу Владимира не отстоять. Другого такого случая не объявится. Однако без московлян и его войско ослабнет… Как быть?
Сидя на лавке перед шатром, лихорадочно блестя воспаленными от бессонницы глазами, он всматривался в лица толпящихся у изголовья холма людей. Нет, не удержать ему московлян. Уйдут — своя рубаха ближе к телу. Да и то: кто защитит их от разора?
— Ваша болячка, вам и решать, — сказал он без гнева. — Неволить не стану. Но войско поворотить не могу.
И удалился в шатер. Долго еще гудел лагерь, как потревоженная пчелиная колода, долго ругались и спорили промеж собой люди. А к полудню снялись и ушли. Оставшиеся хмуро провожали их, издевались вдогонку;
— Деревенщина! Вам бы только с бабами на печи…
— Поспешайте, пироги остыли.
Чувствуя себя виноватыми, московляне не огрызались. Когда последний из них скрылся в чаще, Всеволод велел трубить сбор. Лес огласился бряцаньем оружия, ржаньем, криками, скрипом колес.
Разобравшись по сотням, войско двинулось к Владимиру. На поляне остались дымить притоптанные костры.
Давыдка все время был при Всеволоде в головном отряде. Только раз отпросился у князя взглянуть на Аленку.
В обозе, далеко растянувшемся за войском, везли кольчуги, шлемы, мечи и копья. За каждой подводой на привязи брело несколько коровенок. Позади обоза пастухи гнали стадо овец. Не простое дело — прокормить столько ртов. А на свежем воздухе да в безделье всего и забот что о брюхе. Сокалчие — повара походные — едва успевали заправлять на привале огромные котлы.
Аленка ехала на уемистой телеге, кое-как задернутой, драной холстиной. Увидев Давыдку, обрадовалась, повисла у него на шее.
— Жив-здоров, брате? Как во Владимире? Был ли у дядьки Левонтия? А Антонину видел ли?
— Был у дядьки Левонтия, — отвечал Давыдка сдержанно, хотя сам, как мальчишка, радовался встрече с сестрой, — И Антонину видел. Все тебе кланялись, наказывали, чтобы берегла себя. А то не ровен час…
— Спасибо дядьке Левонтию, не забыл меня, — смиренно склонила голову Аленка. И вдруг зарделась вся. — А Никитка, Никитка? — спросила смущенно.
— О Никитке одно только знаю, — делая вид, что не заметил ее смущения, сказал Давыдка, — подался он с новгородским купцом Яруном по торговым делам к булгарам…
— Зачем же к булгарам? — побледнела Аленка. Снова защемило у нее сердце: «Как же это? Значит, нет Никитки во Владимире?» — Далеко к булгарам, да и не купец он, — растерянно говорила она.
Давыдка промолчал. Что ему сказать Аленке?.. Не в гости ездил он во Владимир, не меды распивать. Дело ему доверили срочное, князево. Было ли время выспрашивать о Никитке?
Поняла Аленка, что вопросы ее Давыдке докучили. А расставаться с братом не хочется. Стала говорить о другом. Заметила — в лесу дозревает черника: значит, вот-вот поспеет и озимый хлеб. Подошла пора и большим росам. Скоро старушки выйдут в поле, чтобы собрать их для врачевания глаз. А парни и девки отправятся искать червец. Сказывают, будто свивается он в клубок и подкатывается под ноги к самому удачливому…
— Моя удача — на острие меча, — возразил Давыдка. Поговорили — хватит. Скучно ему стало с Аленкой. — Прощай, сестрица, — обнял ее, перегнувшись с седла, — спешу я, князь ненадолго отпустил.
Изменился брат, совсем другим стал. То ли хворь в глазах, то ли залетная дума. Все время спешит куда-то, важные у него дела. А теперь только и разговоров что о князе.
Давыдка ускакал. Аленка посмотрела ему вслед и снова спряталась под полог возка. На дороге крутилась ржавая пыль, забивалась в нос и в уши. Лето обещало быть теплым. Еще в Москве перед отъездом выходила Аленка вечером с девчатами смотреть на играние месяца. Ночь была ясная. Они стояли на берегу Неглинной и видели, как месяц перебегает с места на место, меняет свой цвет и прячется за облака. В эту ночь у месяца свой праздник, на который варят ему звезды крепкую брагу. А уж коли выпил он браги, то и поплясать не грех. «Хороши будут урожаи», — примечали бывалые люди.
Урожаи, знать, и впрямь будут хорошими. Озимый хлеб уже налился, высоко поднялись и овсы.
Аленка вспомнила, как праздновали начало жатвы в Заборье.
К вечеру выходили бабы в поле с серпами, вязали первый, именинный сноп, а после с песнями и плясками несли его на гумно. Впереди шел староста со снопом, за ним — мужики и бабы. На гумне сноп встречали, на траве были настелены холсты, на холстах лежало угощенье. Все ели и пили и рассказывали про именинный сноп много чудесного: говорили, что если его соломой накормить больную скотину, то она выздоровеет, а зерна целебны для людей и птиц. У матери за образами всегда хранился мешочек с зернами от именинного снопа.
Матери теперь не было, не было и избы в Заборье — той избы, в которой родилась Аленка. И все-таки Аленку тянуло в родные места, хотелось еще разок взглянуть на знакомую с детства излуку Клязьмы, на лес, полный леших и кикимор, на огороды, протянувшиеся за околицей к самой реке, на кузню нелюдимого и доброго Мокея, в которую она так любила захаживать и которая стала для нее последним пристанищем в родной деревне.
Но войско пройдет стороной. Чтобы попасть в Заборье, нужно переправиться через Клязьму, тащить обозы по глухим болотам. Князья спешили к Владимиру, пешцы шли быстрым шагом, в знойном воздухе тягуче скрипели возы…
Князь Всеволод снова оторвался от войска, с небольшим отрядом скакал далеко впереди. Был он молод и нетерпелив. Конь играл под ним и тихонько ржал, Всеволод горячил его легкими ударами тонкой сыромятной плети.
Дружинники с опаской вглядывались в окружавшую их лесную чащу. Лес не был их другом: всюду могла затаиться смерть — хотя бы вот здесь, за этим можжевеловым кустом. Долго ли натянуть тетиву, долго ли выпустить на волю вздрагивающую в напряженной руке стрелу с каленым наконечником?.. Пропоет стрела, войдет в горло — выйдет с другой стороны, и все оборвется мигом: и эти лесные пьянящие запахи, и шорохи, и веселое щебетанье птиц, и жданное и нежданное, то, что могло быть завтра, послезавтра, когда-нибудь, а теперь не будет уже никогда…
Но Всеволод не думал о смерти. Уверен был в том, что жизнь его бесконечна, как эта дорога: ведь не кончается же она во Владимире!.. Если встанет перед ним бурелом, продерется сквозь бурелом; если путь пересечет река, перейдет ее вброд или вплавь. Не унесет его быстрое течение, не завалит лесиной, не сожжет ослепительной молнией.
Михалка нагнал брата уже под самым Владимиром на реке Кужляке, за которой широко расстилалось Болохово поле.
11
Совсем приуныл Чурила после смерти калики. Подвел его заселшина. Да еще бы одна беда, а тут со всех сторон навалилось. После тех калик так и не смогла оправиться Вольга. Захирел ее двор, захламилась изба, грядки проросли травой, скотина околела. Не узнавала Вольга ни Чурилу, ни добрых соседей, наведывавшихся к ней с лаской да советом. Сидела в углу на лавке, глядела на людей чужими глазами, невнятно рассказывала чудное — будто летает к ней огненный змей. Старушки, слушая ее, крестились, ойкали и с опаской поглядывали на небо: огненный змей коварен, ежели что — бьет до смерти одним ударом…
Пробовали соседки перед часом, как быть змею, сыпать на загнетку снегу, собранного в крещенский вечер и сохраненного под соломой в глубоком погребе. Но змей был хитер: вечером, когда сыпали снег, не спускался в трубу.
Ничто уже не могло помочь Вольге. Совсем затосковал Чурила. Неделю тосковал, другую, а после явился к игумену и сказал, что надумал уйти в мир.
Любил игумен книжника, не хотел с ним расставаться, но упрям был Чурила, стоял на своем.
— Ладно, — сказал игумен. — Ступай. Только как полегчает, возвращайся в обитель. По душе пришелся ты нам. Примем тебя как родного.
Помолился Чурила на соборный крест, постоял у святых врат и, закинув за плечи котомку, пошел топтать новую тропу, не зная, куда приведет она. Но было у него свое заветное, а удастся ли исполнить, нет ли: найти калик, испортивших Вольгу, рассчитаться с их атаманом. А еще хотел Чурила навестить Печерскую лавру, очистить душу свою постом и молитвами.
Брел Чурила вдоль Нерли, заткнув за пояс полы рясы, перебирался через болотца. К вечеру дошел до перевоза, что под самым под Боголюбовом. У перевоза на отлогом берегу горел костер. У костра сидели двое: молодой розовощекий и улыбчивый парень-перевозчик и старик с длинной, до пупа, бородой. Рядом со стариком в траве лежала холстяная сума. Расставив ноги, старик помешивал обгорелым концом палки угли в костре. На Чурилу он даже не взглянул, на приветствие его не ответил.
У костра, на едком дыму, поменьше одолевала комариная сила.
Чурила присел на корточки, неторопливо развязал котомку, выставил на траву еще в монастыре припасенную снедь: круглый хлеб, несколько кусков мяса, перевязанный власяной веревочкой жбан с пивом. Потом отломил по куску хлеба, прикрыв ломтем мяса, положил перед перевозчиком и перед старцем. Откупорив жбан, сделал несколько глотков, протянул старику:
— Угощайтесь, добрые люди.
Старик принял жбан, молча выпил и так же молча принялся за хлеб с мясом. Парень допил пиво, постучал ладошкой по дну, улыбнулся. Завязалась неторопливая беседа.
Из разговора Чурила признал в старике гусляра Ивора. Одно только смущало его. Помнил он Ивора совсем другим человеком — без горба, с черной, ладной бородкой, с длинными сильными пальцами, которые так легко бегали по звончатым струнам. И голос был у Ивора звонкий и молодой. Всеобщим любимцем был Ивор в Киеве… Что же случилось с ним теперь? Почему поседела борода, почему безобразный горб вырос на спине?..
Ивор с жадностью ел хлеб и мясо. Видно было, что он голоден, но догадывался Чурила: не только голод иссушил сильное тело певца. Разве не сумел бы он прокормить себя своими песнями?..
— Неладно, злобиво живут князья на Руси — во вражде да в ссоре, — говорил Ивор, облокотившись на пустую суму. — А того и не ведают, что глядят на них из-за застав рати несметные, ждут своего часа… Не соберутся князья — потопчут поганые землю нашу, пожгут пажити, вырубят леса, вычерпают реки…
Не говорил Ивор, а пел. И не сразу понял песню его Чурила. Иной раз безумный взгляд гусляра повергал монаха в сомнение: а в своем ли уме Ивор, не свихнулся ли?.. Но сказанное певцом волновало и его: и он, случалось, сидя над летописью, задумывался — а ладно ли мы живем, а так ли? Бывало, крамольная строчка сама текла из-под писала, и игумен, прочитав лист, с немым упреком смотрел на Чурилу.
Так было. А сейчас? Не то же ли самое? Давно ли ходила Андреева рать на Киев, давно ли рубились русские с русскими, девять недель проливали кровь свою под Вышгородом? Потерял Киев старшинство, зарезали Андрея, и не успело еще остыть тело князя — ринулись Ростиславичи на Владимир. Сгоняют смердов с полей, вытаптывают хлеба, кузнецов снаряжают ковать мечи, а земле нужны орала… Чья возьмет, кто сядет на владимирский стол?.. А потом снова пойдут друг на друга ратью?
Паренек-перевозчик с испуганно распахнутыми зелеными глазами слушал чернеца и старца, суетливо крестил лоб. Да за такие речи дорога одна — в поруб. На веки вечные. Без небушка. Без солнца.
— Всю Русь прошел я, чернец, искал правду. Говорил правду, ждал — отзовется, откликнется. Ан нет. За правду меня батогами били, плетьми секли, ногами топтали, вырывали мне бороду, жгли лютым огнем. Только за байки и кормили. А за правду не миловали, нет…
Прошуршали над водой весла, скрипнули уключины. Ивор привстал, поглядел вниз, на реку.
— Купцы плывут. Редкие стали гости на Руси…
— Боятся, — отозвался парень-перевозчик, округляя «о». — Много, слышь-ко, развелось лихих людей. Купцов грабят, лодии жгут… Вот давеча возле моего перевоза подстерегали. Чепь опустили в реку, три дня сидели, а гостей не дождались.
— У нас в Суждале тож озоровали, — подхватил Чурила. — Вот, ушел из обители, думаю кой с кем повидаться — должок у меня.
— Держишь зло у сердца, чернец, — сказал Ивор. — Зло обернется злом. Статочное ли это дело?..
— А оно уж обернулось, — нахмурился Чурила. — Дальше оборачиваться некуды.
Костер догорал. В осоке вскрикнул дергач, затюкали в озимых перепела. Комары с новой силой накинулись на сидящих. Парень-перевозчик встал и отправился в кустарник. Слышно было, как он ломал хворост. Угольки в костре подернулись белым пеплом.
Темная закраина неба порозовела. Приглядевшись, Чурила увидел над холмом остроконечную крышу церквушки. Справа и слева от нее, торопясь и спотыкаясь, сбегали с холма избы и баньки, обросшие по завалинкам пушистым мхом.
Светало быстро. В деревне заскрипели ворота, послышались голоса. Парень, вернувшись, подбросил в костер хвороста.
Ивор, который, казалось, все это время мирно дремал, пошевелился и натужно закашлял.
Совсем обутрело. От деревни к реке двинулось, позванивая боталами, стадо коров. Его сопровождали двое ребятишек с длинными веревочными кнутами. Они забегали то с одного боку, то с другого, щелкали и смеялись. Наконец коровы приткнулись к реке неподалеку от перевоза и расползлись по лужайке. Мальчишки, стоя в стороне, с любопытством и без страха смотрели на незнакомцев. Привыкли уже: много людей бродит сейчас по Руси.
— Ступайте сюды, — позвал их Чурила.
Мальчишки подошли к костру. Чурила открыл котомку, достал из нее два медовых пряника, протянул им:
— Ешьте.
Первые лучи солнца упали на реку, на противоположный берег Нерли. В кустах проверила свой голосок дневная пичуга, ей тотчас же отозвалась другая — чуть подальше.
За крутой излукой Нерли показались всадники. Парень обеспокоенно пригляделся к ним.
Чурила сказал:
— С князевыми людьми мне не по пути.
Забросив за спину полегчавшую котомку, он стал торопливо подниматься в гору. Сзади послышались окрики. Чурила обернулся. Дружинники уже наехали на костер, склонившись с седел, что-то выспрашивали у перевозчика. Двое других, размахивая руками, скакали к Чуриле.
Монах побежал с горы. Да разве уйдешь на безлесье от сытых коней?!
Поигрывая плеточками, всадники подогнали его обратно к перевозу.
У костра на корточках сидел сотник с красными глазами и заячьей губой, над которой едва пробивался реденький пух. Он пошевеливал плетью в костре обгоревшие прутья и будто не глядел на монаха, но видел все. Не понравился Чуриле его незрячий взгляд.
— Чей будешь, чернец? Куда держишь путь?
Шепелявый, едва слышный голос разозлил Чурилу еще больше. Но, стараясь остаться во образе смирения, он ответил спокойно:
— Отпущенный я. Иду из Суждаля. А путь держу в Печерскую лавру.
Сотник приподнял заячью губу, ощерил усыпанный мелкими крысиными зубками рот. Дружинники загоготали.
— Чему смеетесь, окаянные? — крикнул монах. — Не беглый я. Ежели что, спросите у игумена.
Сотник встал, и Чурила увидел, что он низок ростом, кривоног и сутул, но еще увидел монах, какая у него крупная и сильная рука. Такие руки запросто гнут подковы.
— Берите этого и этого, — показал сотник черенком плети на перевозчика и Чурилу. Подумав, добавил: — Старца тож берите. Поглядим, кто такой…
Парень опал с лица, заметался, как петух на чужом дворе. Ивор пошел впереди всех спокойно.
Схваченных привели в Боголюбово. За частоколом на княжьем дворе согнанным из окрестных деревень мужикам выдавали из общей кучи оружие — кому меч, кому топор, кому копье.
Так Чурила оказался во Мстиславовой рати, которая на следующее утро двинулась через Владимир к Москве — навстречу Юрьевичам.
12
В ночь перед походом попритих, погрустнел Мстислав. Жил он раньше легко и просто, а нынче — бес, что ли, попутал? Или волхв гордыню накликал. Но открылось вдруг ему: белым пламенем горят купола Успения божьей матери, сам он, Мстислав, — верхом на коне в стальных оплечьях и переливающейся светлой кольчуге. На голове — золоченый шлем, на плечах — шелковое корзно. Вокруг — бояре, тиуны, конюшие, сокольничьи.
Что ему, Мстиславу, ростовский стол? Не за него бьются князья — бьются за Владимир. Кто сел во Владимире, тот и старший среди всех. Владимирский, а не ростовский, захиревший, — самый высокий стол… Ярополк молод, по молодости принял на себя непосильную ношу. Красе своей не нарадуется, любуется собой, не налюбуется. Шлет гонцов ко Мстиславу: «Поворотил от Москвы. Михалка болен, Всеволод неразумен. А я иду следом, вяжу отставших от Михалкова войска. Ступай, брате, поскорее Юрьевичам навстречу. Не ровен час, войдут они во Владимир».
Усмехнулся Мстислав, задержавшись у посветлевшего оконца. Хорошо ему во Владимире, в Андреевом тереме, обшитом натертыми воском дубовыми плахами, дышится легко. Не хочется возвращаться в Суздаль или еще дальше — в Ростов. Дико в Ростове, шатко. Здесь крепче стоишь на земле. По Клязьме пути-дороги легли во все концы необъятной Руси: хочешь — на север к новгородцам ступай, хочешь — на юг, к черниговцам, рязанцам и еще дальше, в Черную Куманию, к Сурожскому теплому морю. На запад — к ляхам и уграм открыты пути, на восток — к булгарам. А вокруг луга да леса, в лесах зверя видимо-невидимо… Нравится Мстиславу Владимир, все здесь ласкает его глаз, а ведь всего одну только ночь переспал. Ходил по горнице хозяином, степенно садился в княжеское кресло.
Еще с вечера позвал Мстислав Явориху, Ярополкову кормилицу, велел к утру нажарить лебедей, да чтобы под пряным соусом, да чтобы меду было в достатке.
Едва забрезжило, созвал бояр; обнесли слуги столы рыбными пирогами, жареной дичью с большим количеством чеснока, в конце трапезы подали похлебку. Мстислав сидел на торце, подбоченясь, ухмылялся, разглядывал красные от вина и подобострастного усердия лица гостей. Явориха была тут же, присматривала за слугами, следила, чтобы за столами не скучали, подавала знак наливать меды и вина. А когда огрузли бояре, когда стали хвастаться и говорить непотребное, тихонько вышла из сеней, но дверь не притворила: нет-нет да и посмотрит — все ли как надо, не обижают ли молодого князя.
Отяжелев от выпитого, — неловко вскарабкался Мстислав на коня. С двух сторон поддерживали его заботливые отроки: один ногу подымал, вставлял в стремя, другой в зад упирался плечом. Утвердившись в седле, князь оттолкнул их; гордо вздернув плечо, оглядел сквозь пьяный прищур затопившее площадь войско. Народу было много, да не шибко грозная сила. Впереди стояли дружинники в добротных кольчугах и шлемах, в яловых сапогах, с мечами, сулицами, луками и стрелами — ловкие рубаки, меткие стрелки, храбрые вои. Но за их реденькими рядами виднелись с высоты Мстиславова коня наспех собранные мужики — в лаптях, в драных сермягах, с дубьем да самодельными рогатинами. Им ли сокрушить Михалкову крепкую рать?!
Поежился Мстислав, но хмель бодрил и успокаивал — не беда, что у Михалки рать. Вспомнил предсказание волхва, выпрямился в седле: смелый там найдет, где робкий потеряет. Еще утром в гриднице объявил он боярам: Ярополка не ждать, выйти в поле и до прихода брата обратить Юрьевичей в бегство. А там Мстислав исполнит задуманное. Ярополку выделит Переяславль Залесский. Ни Суздаля, ни Ростова ему не отдаст — на севере править будет единой, властной рукой.
За спиной, у красного крыльца, загремели барабаны, засопели дудки. Показался стяг лазоревого киндяка с изображением спасителя и херувимов. В маленьком копейце жарко горело солнце. Стяг покачнулся, выплыл на площадь перед собором, и все войско, вытянувшись, двинулось к Золотым воротам, где на частоколе, обрамляющем вал, уже висели шумливые стаи ребятишек.
Провожали Мстиславово воинство старики, калеки да бабы. Бабы причитали, бросались в походный порядок, висли на шеях у мужиков. Мужики воровато поглядывали по сторонам, прикидывали, в какой бы свернуть переулок. Но Мстиславовы дружинники, зоркие бородатые дядьки, неусыпно стерегли их. Ехали они верхами по бокам и сзади воинства, позванивали уздечками: не удрать мужикам, связала их с князем поневольщина до самого смертного часа.
Загребая густую пыль потрескавшимися чеботами, Чурила переговаривался с соседом, могучим мужиком с раскосыми половецкими глазами:
— Тяжело ждать, как ничего не видать.
— Вольно черту в своем болоте, а боярину над своим холопом, — откликался мужик. — А ты, чернец, как сюды угодил?
— Не всем чернецам в игумнах быть, — усмехался Чурила. — Поймали княжие люди, приволокли в Боголюбово. А путь я держал в Печерскую лавру — прошлое забывать, грехи великие замаливать. Вот как. Чурилой меня зовут.
— А меня Мокеем. Кузнец я.
— То-то и черный…
— Корова черна, да молоко у ней бело.
Приглянулся Чуриле могучий и простоватый Мокей: лишнего слова не скажет, а скажет — весь на виду. «От чистого сердца очи чисто зрят», — подумал чернец и пристал к кузнецу. Еще ночью перед походом развели они свой костерок, чтобы отбиться от докучливых комаров. Чурила не сразу доверился новому знакомцу, а Мокей и не думал таиться: сперва обругал старосту, потом пьяницу-попа, потом княжьего тиуна и под конец самого боярина Захарию.
— Забрали от кузни, от живого огня, — ворчал он.
Чурила подогревал кузнеца:
— Покорному дитяти все кстати.
Кузнец сердился:
— Я ему влеплю в бороду репей.
— Кому же это?
— Боярину нашему, кому же еще?
Тут уж на что Чурила не трусливого десятка, но и он с опаской поглядел по сторонам: не подслушивает ли кто кузнецову бунтарскую речь? Ведь ежели донесут послухи — и его с Мокеем вместе сунут в поруб.
А забавляло играть с огнем. Иногда дух захватывало у Чурилы от бешеного взгляда Мокея. Зрачки круглые, дикие; верно говорят: резвого жеребца волк не берет. И кузнецовы угрозы не были пустыми словами…
В пешем строю, толкаясь и наступая друг другу на лапти, вышли за ворота. Отсюда, с пригорка, видно было: передовой отряд с Мстиславом взбирался, резвя коней, на холм за Гончарной слободой. Дружинники зло покрикивали на разморенных мужиков:
— Шевелись, деревенщина! По сторонам не гляди — все равно от свово хвоста не уйдешь.
Наставляли:
— Как сойдемся с ворогом, орите, мужики, пуще.
— Горло-то свое, не князево, — отвечали мужики.
Иные даже говорили так:
— Вы — не наши, вы — пришлые. Вот и орите. Юрьевичи нам не вороги.
Пыль клубилась над дорогой. Повисев, в воздухе, опадала на зеленя. Мужики кашляли, отплевываясь, вытирали ладонями вспотевшие лица, размазывали по щекам липкую грязь. Солнце выкатилось на самую макушку неба и, казалось, потрескивало там, как большая куча зажженного хвороста.
— Отдохнуть бы, — слышались голоса, — водицы испить…
— Пошевеливайся, мужики. Иди шибче! — торопили дружинники. Но и их помаленьку размаривал полуденный зной. Крики становились тише и реже, а скоро и совсем смолкли. Слышно было только, как хлопают сотни обутых в лапти и босых ног, как всхрапывают кони да позвякивает снаряженье. Тяжелые кольчуги стянули распаренные в сугреве тела; рогатины и топоры натрудили обмякшие плечи.
Притих и Мстислав; выветрилось из головы коварное фряжское вино, осталась непроходящая боль в затылке да липкая горечь во рту. Налилось дурной кровью тело, обвисли руки, грязный пот, сбегая из-под украшенного золотой насечкой шлема, прочертил на лице глубокие борозды. Сколько уж его рать в пути, а Михалкова войска все не видать. Не разминулись ли, не стоит ли оно у Золотых ворот, не спешат ли каменщиковы жены пошире да погостеприимнее распахнуть дубовые, золоченой медью окованные створы?..
Впереди, у березовой рощицы, показались всадники. Мстислав придержал коня.
— Эй, кто такие будете? — окликнул их сотник.
— Боярина Захарии люди.
Сидя на брюхатой коротконогой кобыле и подслеповато вглядываясь в приближающихся воинов, Захария облегченно выдохнул:
— То мой меченоша Склир.
Один из всадников, с русой вьющейся бородкой на темном от загара лице, в легкой кольчуге с короткими рукавами и шишкастом шлеме, приблизился к Мстиславу:
— Рубились мы с ворогом, князь… Идет на нас Михалка великой силой, а Всеволод Юрьевич впереди с небольшим отрядом. Смекаю я, встанут они своих дожидаться не иначе, как на Кужляке…
Дерзко говорил с Мстиславом боярский выкормыш — глаз не опускал, улыбки от князя не прятал. В другое время примерно наказал бы его за дерзость Мстислав, но теперь только небрежным жестом отстранил с дороги; полуобернувшись в седле, сказал боярам:
— По дважды не мрут, бояре, а однова не миновать.
— Веди нас, князь, — трусливо потупясь, ответили бояре.
Только Захария промолчал. Задумался он, глядя на Склира.
— А ты почто молчишь? — спросил его Мстислав. Не приглянулся ему Ярополков милостник: хитер и коварен, а еще своенравен боярин.
В самый раз сбить с него спесь.
Понял тайные мысли Мстислава Захария, растерявшись под его взглядом, смиренно ответил:
— Дивлюсь храбрости твоей, князь. Но думаю так: не хвали ветра, не извеяв жита. А не подождать ли брата твоего Ярополка? Вот кабы ты в лоб, а он по загривку…
— Молчи! — осадил его Мстислав.
Обмерев от страха, Захария поперхнулся, закашлял и резво отпугнул коня в сторону. Князь проводил его гневным взглядом. Подумал: «У всех одно на уме». Осторожничают бояре, понимают: ежели что не так — недосчитаться многих голов. Да и он сам уж прикидывал: «Не поможет господь, уйду к новгородцам. Повинюсь — примут. Зла я им не сотворил, на вольницу их руки не подымал. А то, что делить ушел Андреево наследство, не их забота. Испокон так повелось на Руси…»
— Вот у Кужляка и встанем, — распорядился Мстислав.
Расторопные отроки разбили на холме шатер. Уставшее войско разбрелось по Болохову полю. А когда стемнело, весь берег усыпали красные огни походных костров.
13
Нет, не простил Склир боярину Захарии Любашину свадьбу в Заборье. Не простил, затаил тяжелую обиду. Вскипело б железо, а молоток сыщется. Не все рассказал Склир князю, главное утаил. Не бился он с Всеволодовыми воями, а сошелся с ними полюбовно. Узнал его Давыдка, пришпорил коня. Съехались они на полянке, но мечей из ножен не выдернули — съехались, поговорили и тут же поворотили к своим.
Давыдка сказал Всеволоду:
— Мужики за тебя, князь. Да и дружинники себе на уме, головы за Ростиславичей класть не станут…
Утром следующего дня с зарей началось. Воев у Юрьевичей было поменьше, чем у Мстислава, — шли они плотным строем, выставив перед собой копья и узкие щиты, шли молча. Мстиславова же рать катилась с горы со страшным криком, вразброд. Памятуя наставления дружинников, мужики не жалели глоток. Глотка что, глоткой поработать можно, не кровь мечом проливать…
Перед самой битвой Михалка попросил, чтобы его усадили на коня. Огненные мухи кружились перед его глазами, жаркое пламя жгло грудь. Не удержали бы меча Михалковы слабые руки, но дедовский древний обычай требовал, чтобы князь был впереди.
Выехал он перед войском под алую хоругвь, по одну сторону от него — Всеволод, по другую — Юрий Андреевич с Владимиром Святославичем. Все трое — молодые, ловкие: они и поведут воев в бой, они и принесут на конце своего меча победу или вечный позор. Знал Михалка, умом понимал и сердцем чувствовал — на новое его по хватит. Ежели нынче не войдет в Золотые ворота, то не войдет уже никогда. Смерть давно подстерегает его, но разве жизнь измеряется лишь прожитыми годами? И не о спокойной жизни думал Михалка — до того ли? Думал он о том, как возьмет на щит вольный Новгород, как наступит твердой ногой на выю непокорной Рязани, а там — как бог даст…
Так думал Михалка, покачиваясь в высоком седле, а Всеволод недоумевал: отчего медлит брат? Или испугался холопьего крика?..
Широко, раздольно Болохово поле. С одной стороны его река, за рекой — деревня, с другой стороны — березовый лес, прямо — холм, за холмом — ровнехонькая дорожка на Владимир. Но не ступить на нее, не одолев Мстислава…
Горделиво пританцовывая рядом со Всеволодом на игреневом жеребце, Давыдка то и дело взглядывал на холм с алым пятном Мстиславова шатра: не там ли Захария, возле самого князя?.. Не скачет же толстый боярин впереди дружинников, не ведет их в бой, размахивая тяжелым крыжатым мечом!.. Ждет боярин окончания битвы, гадает — чья возьмет? И уж не за Михалку молится, не за Всеволода. Запродал боярин душу нечистой силе… Скоро, скоро сведет с ним Давыдка давние счеты. И за мать рассчитается, и за сестру, и за себя: потребует с боярина не гривну — гривной не откупится от него Захария.
Добрый сговор у Давыдки со Склиром. Чья бы ни взяла, привезет меченоша своего хозяина к березовому леску, дождется Давыдку у ручья. А Давыдка за то попечется о Склире — поможет добыть ему из Заборья Любашу… Добрый, добрый сговор у Давыдки.
Стоя под стягом и сняв шлем, Михалка перекрестился. Надвинув по локоть жесткую перщатую рукавицу, Всеволод вынул из ножен голубо сверкнувший меч и повел дружину свою прямо в сердцевину Мстиславова войска. А Юрий с Владимиром Святославичем стали обходить его с левого края, от Кужляка, прикрываясь тесно разросшимся по берегам реки черным ольховником. Так задумал Михалка: когда врубится Всеволод в княжеские порядки, ударить по Мстиславу с тыла.
Быстрым косяком стрел встретили Всеволода Мстиславовы лучники. Но стрелы пропели, никого не задев, ушли в голубое небо над головами пригнувшихся к лошадиным гривам дружинников. Тогда еще по стреле пустили лучники и загородились щитами. А из-под щитов, словно из мышиных нор, повылазили босые мужики с топорами, остановились, заслоняя глаза от слепящего солнца.
— Эй вы, ратники, своих не перебейте! — кричали они и бросали топоры наземь. — Мы к вам с миром.
Раздвинулись мужики, и сквозь их ряды прорвалась Всеволодова дружина к лучникам. Растерялись лучники, заметались по полю, покатились в траву кожаные щиты.
Весело летал по полю Всеволодов белый конь, и ни на шаг не отставал от него Давыдкин игреневый жеребец.
Разогнав лучников, врезался Всеволод сгоряча в железные сети боголюбовских пешцов-копейщиков. Не побежали пешцы, выставили впереди себя острые копья, ощерились сотнями хищных жал. Обожгло Всеволоду колено, опалило бок; горячая кровь толчками пробилась сквозь железные кольца брони. И раз и два спас князя Давыдка от смерти: сначала щитом отбил направленный в грудь Всеволоду топор, потом ударил голоменем меча подкравшегося к князю сзади молоденького пешца. Ишь ты, малой да шустрой — сидел бы на печи, плел свои лапти, а то — гляди. Будто понял Давыдку парнишка, пригнулся и покатился с горки к реке — подальше от греха. А Давыдка вслед за Всеволодовым конем повернул и своего жеребца вспять. Вырвались они из битвы, оглядели друг друга, удивились — целы. И снова устремились в сечу.
Прорываясь к княжескому лазоревому стягу, Всеволод кричал:
— Не прячься, Мстислав, дай подойти!
Гудело поле от бранных криков, скрежетало железо о железо, с сухим треском расползались щиты. Дружина сошлась с дружиной. А мужики из Мстиславовой рати разбежались — кто в лес утек, кто перебрался вплавь через Кужляк и теперь смотрел на битву с безопасного берега.
Переплыли через Кужляк и Чурила с Мокеем. Разложили одежку на траве, сами сидели голые, грелись на солнышке. Растирая лохматую грудь, Мокей говорил:
— Пущай князья друг у друга кишки выпускают.
Все дальше и дальше к холму теснил Всеволод Мстислава, а тут еще ударили Юрий с Владимиром Святославичем. И побежали боголюбовские пешцы, а за пешцами повернула дружина. А в дружине своей всех проворней оказался сам князь. Помахал он зеленому полю алым плащом и стал уходить к лесу.
Не сразу увидел убегающего Мстислава Давыдка, а когда увидел, поднял жеребца своего на дыбы и хотел уж рвануться вслед за князем, да вовремя спохватился: неужто бросит Всеволода?..
— Будет драться-то! — крикнул Давыдка оставшимся Мстиславовым дружинникам. — Аль вовсе ослепли?.. Князь-то ваш где?
Оглянулись дружинники — нет князя. Постояли и стали облегченно бросать в кучу мечи и копья. Всеволодовы ратники, разглядывая на себе раны, добродушно посмеивались:
— Горе да беда с кем не была.
Отдохнув, стали вязать молчаливо ожидавших пленников. Но тут подъехал Михалка и удивленно спросил:
— Кого, вои, вяжете?
Те отвечали:
— Известно кого — супостатов.
— Да разве это супостаты?
— А кто же?
— Это мои люди, владимирцы. И вязать их нам не пристало. А ступайте-ка вы вместе ко Владимиру и велите скорее отпирать нам ворота.
Слова князя и побежденные и победители встретили громкими криками. Мудро рассудил князь, по-отечески.
Воспользовавшись суматохой, Давыдка оставил Всеволода и поскакал к роще, где еще накануне условился встретиться со Склиром.
Меченоша ждал Давыдку.
— Все ли исполнил по уговору? — спросил Давыдка, не видя Захарии. Уж не хитрит ли Склир? Не зло ли замыслил? Не выедут ли сейчас из белой чащи боярские слуги да не отвезут ли его в боярскую усадьбу?..
Разгоряченный битвой Давыдка потянулся к рукояти своего меча, но Склир остановил его:
— Не спеши, Давыдка, за меч не берись. Или мало нынче на Болоховом поле пролито нашей крови?..
И, повернув коня, не оглядываясь, поехал в лес. Дружинник последовал за ним.
Когда спустились в ложбинку, на влажном дне ее Да выдка увидел стреноженную лошадь под седлом. А чуть подальше, под раскоряченным стволом двух сросшихся у корня берез, сидел боярин со стянутыми за спиной руками, сидел и, расставив толстые и короткие, как обрубки, ноги, налитыми кровью глазами глядел на приближающихся всадников.
Захария узнал Давыдку, зашевелился, замычал утробным голосом. Почувствовал Давыдка, что и у него поднялись на затылке волосы. Вспомнилось ему Заборье, мать в горящей избе — и побелели от гнева скуластые щеки.
Он соскочил с коня, сдерживая себя, вразвалку подошел к Захарии, опершись рукой о колено, склонился над ним:
— Ладно ли, боярин, отдыхается? Мягка ли перинка?
Захария повел красными зрачками, ничего не сказал Давыдке; помедлив, поглядел на Склира, разлепил спекшиеся губы:
— Пес!
Меченоша подпрыгнул, как от удара, взмахнул плетью. Давыдка задержал его руку:
— Боярина бить — такого уговора не было…
Разом выдохнув, Склир со свистом стегнул плетью воздух. Захария не вздрогнул, смотрел на него незряче. «Неуж и вправду не боится? — удивился Давыдка. — Или злоба ослепила?»
Но глаза боярина потухли, лицо безвольно опало; вдруг поежившись, прижался Захария к березовому комлю, будто ища у него спасения.
— Чур, чур меня, — забормотал он и опустил обреченную голову.
— Бога али черта поминаешь, боярин? — усмешливо спросил его Давыдка. — Черта тебе вспоминать с руки, но нынче только бог тебе поможет. Не просвети меня бог, порубил бы я тебя, боярин, на Болоховом поле, а куски разбросал бы по оврагам в раменье…
Хотя и ласковым голосом говорил Давыдка, а старого боярина не обмануть. И под прямым уверенным взглядом дружинника совсем притих Захария. Только набрякшее веко подергалось без нужды, а сам он сидел неживой. Давно уж схоронил себя боярин, давно уж сам себе отходную пропел: что-то теперь станется с Евпраксией?..
И почему это вдруг подумал Захария о дочери? О своей бы жизни думать боярину, а жизнь его конченая. На позор, на страшное поругание притащил его в эту рощу Склир. Князь милостив, князь, глядишь и простил бы его, но Давыдка не простит. Родной избы не простит, матери, сгоревшей в Заборье, простить не сможет. Какую казнь придумал для него Давыдка? Бросит в Кужляк с камнем на груди или привяжет к березовому стволу да запалит у ног костер, чтобы полюбоваться его долгими муками?
Сладка Давыдкина месть — ох сладка! Хотелось бы боярину быть сейчас на Давыдкином месте. Уж он бы знал, что ему делать, он бы не оплошал… А Давыдке откуда знать? Давыдка привык работать мечом. А меч — дело простое: отрубил голову — и скачи дальше. Нет, не насладится Давыдка своей местью, повезло боярину…
Но что это вдруг обогрело боярина в Давыдкином пристальном взгляде? Что заставило его затрепетать от плеснувшейся в сердце надежды?
— Не губить я пришел тебя, боярин, — сказал Давыдка. — Особый у нас разговор.
— А пошто руки скрутил?
Давыдка вынул из-за голенища нож, разрезал веревки; боярин, облегченно вздохнув, выпростал затекшие ладони, подвигал посиневшими пальцами.
— Посечь ты меня мог, Давыдка, твоя воля…
— Посечь всегда успеется. О Евпраксии с тобой говорить буду, боярин…
С удивлением прислушивался Склир к странной беседе: о чем это они?
— Не видать тебе, холоп, Евпраксии, — нахмурился боярин. — Лучше руки мне наново вяжи…
— Так ведь и голову срубить недолго, — ответил Давыдка, твердо положив пальцы на рукоять меча. — Выбирай, боярин. Все в твоей воле. Как скажешь, так тому и быть.
Не шутил Давыдка. Да и какие могут быть шутки? Видел Захария: руки Давыдки в запекшейся крови, лицо в царапинах, кольчуга помята, шлем наискось надрублен мечом. Человек из сечи, сердце еще не остыло — что, как и впрямь исполнит угрозу?
Быстро прикинул боярин: дочь пока при нем, когда еще приспеет пора исполнять обещанное?! А по слухам, Давыдка в милости у молодого князя Всеволода. Милостник князя — сила немалая. Заступится Давыдка за боярина — быть боярину живу, не заступится — долго ли глядеть на солнышко?
Сколько времени уж прошло — тихо в березняке. Сидит Давыдка напротив, будто гончая у лисьей норы. Ждет. Нет, не уйти Захарии от ответа.
— Ладно, быть по-твоему, — нехотя, сквозь зубы пообещал боярин.
За леском, на Болоховом поле, звенели гудки и утробно грохотали барабаны.
Давыдка со Склиром догнали Всеволодов головной отряд у самого Владимира.
Из широко распахнутых Золотых ворот шли навстречу князьям празднично одетые горожане и весь клирос во главе с Микулицей…
14
И радость и тревогу принесла Михалке первая ночь во владимирском княжеском тереме. Бывал он уже в этих палатах — и тогда, год назад, был здесь не гостем, а хозяином, да пришлось уходить с позором. Как бы и нынче не повторилось старое: счастье переменчиво.
Но шум толпы за стенами дворца успокаивал его. Легко далась ему победа над Мстиславом, владимирцы подсобили. Без них не одолеть бы ему Ростиславичей, особенно после того, как подались назад московляне. Да и Ярополк заплутал в лесах. А если бы подоспел, как бы еще дело повернулось?!
Стрекотал по-домашнему сверчок под половицей, с кухни приносило духмяный запах только что испеченного хлеба. Но не своим, до сих пор чужим казался ему княжеский терем. Все здесь не его, все здесь еще Ярополково: чаши на столе, шуба на лавке, меч на стене, сапоги под лежанкой… Вон и слуги глядят на него со страхом, не его — Ярополковы слуги. Недосуг было сменить, да и к спеху ли? Старая горбатая ведьма, Ярополкова кормилица, который уж раз заглядывает в дверь, кривится, подмигивает, щерит пустой, беззубый рот. Поди, она собирала для него ту травку, что вез московскому огнищанину Воловик?..
Не по себе стало Михалке, так и передернуло всего колким ознобом. Нет, не заснуть ему в тереме: давят стены, кикиморы и лешие ползут из темных углов. А за отволоченным оконцем живыми звездами приманивает темное небо.
Кликнул князь отрока, велел взять в обозе две шубы, стелить ему на воле.
Расторопный парень отыскал на задах копешку свежего сена, вырыл гнездышко, заботливо поддерживая Михалку под локоть, помог спуститься с крыльца. Возле копешки стояли кони, хрумкали траву. Рядом с ними было тепло и спокойно.
Опустившись на шубы, Михалка ненадолго задремал. Сон был легким, как утренний ветерок; зудели комары, и князь поминутно открывал глаза.
Сквозь полуприкрытые веки он видел угол терема, слабо освещенное факелом крыльцо и сидящего на приступке недреманного отрока.
Верные люди, всюду окружали князя — дома, в походе и на пиру. Многие из них погибли и готовы были погибнуть за Михалку. Так было… Так будет всегда. Князь ценил верных людей, не был жаден — щедро раздаривал им военную добычу. Сейчас, когда осуществлялось задуманное, были они ему еще нужнее. Полдела — войти в Золотые ворота. Ярополк еще не разбит, а за Ярополком — зять его, Глеб Рязанский, да и на Святослава Черниговского положившись, гляди, не зевай: ему — что Юрьевичи, что Ростиславичи. Сегодня помог одним, завтра поможет другим. Ослабнут те и другие — тверже станет его, Святославова, рука. А рука у него длинная — давно уже протянулась к Киеву. Сидит Святослав в Чернигове, кряхтит, будто век доживает, а сам глядит коршуном, взорами уперся в Приднепровье.
Плавно текущие мысли оборвал быстрый шепот: кто-то требовал допустить его к князю. В позднем госте Михалка признал протопопа Микулицу, слабым голосом окликнул его. Протопоп подошел к копне, низким поклоном приветствовал лежащего на сене князя.
— Не спится, княже?
— До сна ли, — откликнулся Михалка. — А ты почто не на пиру? Никак, и тебя, Микулица, точат недобрые мысли?
— Дуб крепок множеством корней, князь, — загадочно ответил протопоп, — так и град наш крепок твоею державою.
— Не пойму я тебя что-то, — сказал Михалка.
— А и понимать тут нечего. Женам главы мужи, а мужам — князь, а князьям — бог…
— Уж не ты ли, Микулица? — спросил Михалка.
— Я не бог, — усмехнулся протопоп. — Добросердечен ты очень и мягок, князь… А чем укреплять будешь власть свою? Медами бояр потчевать? Сладкими речами слух боярский услаждать?.!
— Прикажешь головы рубить? — сухо проговорил князь.
Голос Микулицы взволнованно задрожал:
— Ты о чем?.. Почто гневишься? Запомни, князь: никто не может, не оперив стрелы, прямо стрелять, а леностью добыть себе чести. Зла бегаючи, добра не постигнуть; горести дымные не терпев, тепла не видати. Злато бо искушается огнем, а человек напастями…
— Знаю, — оборвал его Михалка. Верил он протопопу. Понимал, правду говорит Микулица. Далеко глядит, широко видит, даже страшно становится: будто по книге читает его, Михалковы, мысли. Верой и правдой будет служить ему Микулица. Да и только ли служить? Не мудрого ли советчика обретет Михалка в протопопе вместе с его нелегкой дружбой?
— Конь тучен, яко враг, сапает на господина своего, — шептал Микулица. — Тако и боярин, богат и силен, замышляет на князя зло. Уйми бояр, князь.
— Чудно говоришь ты, Микулица, — оборвал его Михалка. — Бояр слушаться не велишь, а сам даешь советы. Тебя ли мне слушаться, протопоп?..
Микулица осекся и замолчал. Михалка жевал терпкую травинку. «А ведь прав протопоп, — думал он, — Того и гляди, бояре снова окажутся наверху…» Тревожная мысль мелькнула и погасла. Погасила ее тягучая боль, внезапно пронзившая грудь.
«Теперь недолго уж», — почему-то с успокоением подумал Михалка.
Очнувшись, он увидел над собой бледное лицо, встревоженные глаза протопопа.
— Что с тобой, князь?
— Нутро горит, — спекшимися губами прошелестел Михалка. Приступ сухого зловещего кашля скрутил его на копне.
— Эй, слуги! — закричал Микулица.
Лицо князя даже в свете факелов было исчерна-синим.
Слуги приподняли его вместе с шубой, осторожно внесли по лестнице в ложницу. С кухни прибежали девки с холодным квасом. От кваса князю стало еще хуже. Он потерял сознание, в бреду звал Всеволода…
В тереме всюду горели свечи, по переходам двигались люди, шепотом переговаривались друг с другом. Перед рассветом Михалке полегчало.
С неспокойным сердцем возвращался Микулица от князя; шел, время от времени останавливаясь возле костров, вокруг которых лежали подвыпившие вои. «Не сожгли бы города», — с тревогой подумал протопоп. На его веку пожары три раза уносили по ветру владимирские посады…
Смутно было на душе у Микулицы. Всякое приходило на ум. Но ничто не могло заслонить немощного, корчащегося на копне Михалки. Болью ударяло в сердце: «Устоит ли князь? Удержит ли владимирский стол? Справится ли?..»
15
— Раз, два — взяли! Взяли! Е-еще взяли!..
Напружинив смуглые спины, гребцы дружно опускали весла в золотистую быструю воду. Лодии шли по Клязьме против течения — от Боголюбова к Владимиру. Далеко позади — белой лебедью на зеленом пойменном лугу — осталась церковь Покрова на Нерли, справа уходили за поворот вставшие над высоким валом стены княжеского замка, черные избы посада, и вот засиял Никитке в глаза золотой купол Успения божьей матери. Встали гости, встали гребцы, скинув шапки, перекрестились.
Посветлели у мужиков лица, синим светом налились глаза: большой путь позади, а впереди — заслуженный отдых, жаркая баня, сытное угощенье. Хорошо из гостьбы возвращаться домой, труднее из дому уходить в гостьбу. Всякое случается в пути, иной гость так и не донесет ног до родного порога. Ну, а уж коли вернулся, тут и пир горой. Жди, женка!..
Через два-три поворота широко раздалась клязьменская пойма: слева — зелень лугов, лес вдали; справа — крутой берег с белыми, будто подтаявший снег, глыбами церквей. А с холма к воде, вкривь и вкось, протянулись утонувшие в садах улочки. На воде у крайних изб, нижними венцами упершихся в реку, будто быки на водопое, — тяжелые бревенчатые плоты; к плотам привязанные, покачиваются на редкой волне большие и малые суда — с парусами и без парусов.
Лодия тут и там поклевала плот, прибилась кое-как в самом конце пристани. Гребцы и гости шумной толпой высыпали на берег. На берегу гуляли хмельные мужики, черпали мед из бочки.
— Чему радуетесь? — спрашивали удивленные гости. — И не праздник ноне. Аль князьям чем угодили, получили по гривне?
— Ростиславичей прогнали, — говорили мужики. — Оттого и праздник.
Локтем прижимая к боку суму с булгарскими гостинцами, Никитка ходко зашагал в гору. Мамук едва поспевал за ним. Пересекли черемуховый лог, поднялись к стене поодаль от Серебряных ворот. В стене зубчато щерился крутой лаз, прикрытый кое-где кустистыми сочными лопухами.
— Полезай за мной, — позвал Никитка спутника.
По ту сторону стены бежала в глубь посада тихая улочка, поросшая мягкой гусиной травой. Отсюда рукой подать до Медных. Распрощавшись с Никиткой, Мамук поспешил к Канору.
Во дворе Левонтия под забором часто почмокивал топор. У Никитки сердце заходилось под рубахой; он даже руку приложил к груди, пытаясь унять его: не тут-то было.
— Кого господь принес? — откликнулся на стук знакомый голос Левонтия. Дверца в воротах откинулась. — Ники-итка! — радостно взмахнул длинными руками камнесечец. — Антонина, Никитка вернулся! — крикнул он осевшим голосом, поворачиваясь к крыльцу, на котором стояла дочь с полосатым домотканым половичком в руке. — А похудел-то как, — говорил Левонтий, прижимаясь щекой к Никиткиному плечу.
Дрожащими руками Антонина повесила половичок на перильца, подошла степенно, сдерживая так и прущую из нее радость, поклонилась Никитке в пояс. Никитка тоже поклонился Антонине. На щеках у Левонтиевой дочери растекался румянец.
Тут с лестницы кувырком скатился радостно взвизгивающий ком, подпрыгнул и повис у Никитки на шее.
— Никак, Маркуха? — обрадованно прижал Никитка к груди повзрослевшего мальчонку. — Маркуха, а я тебе гостинцы привез…
Маркуха вздрагивал всем телом и еще крепче, прижимался к Никитке, будто боялся, что вот отпустит его от себя — и уедет Никитка снова за тридевять земель.
— А я что знаю, а я что знаю! — вдруг закричал Маркуха, спрыгивая с Никитки и приплясывая вокруг него то на одной, то на другой ноге.
Переглянувшись с дочерью, Левонтий цыкнул на мальчонку:
— Кшыть ты, оглашенный!
Но Маркуха, отскочив от Левонтия, не унимался.
— А я что знаю, а я что знаю… — вертясь юлой, повторял он.
— Вот я тебя! — уже серчая, пригрозил ему пальцем Левонтий.
Маркуха засмеялся, мигом взлетел на крыльцо и скрылся в избе.
— Милому гостю первому на порог, — отступил в сторону камнесечец, и Никитка вошел в сени.
Когда глаза его попривыкли к полумраку, он увидел знакомую перекидную скамью, чисто выскобленный стол, темные лавки вдоль стен, образа в углу, беленую печь, у печи — женщину в шитом по подолу сарафане. Еще и лица женщины не разглядел Никитка, как словно толкнул его кто в грудь.
— Аленушка, — прошептал он немеющим языком.
— Никитка!
Кинулись они навстречу друг другу, но замерли на полпути, остановились, потупившись: стыдно — люди глядят. Маркуха стоял рядом и, счастливый, ковырял пальцем в носу.
— А я вот гостинцы… — засуетился Никитка, не спуская с Аленки растерянного взгляда. — От меня и от дядьки Яруна…
Все так же глядя на Аленку, он присел на корточки и стал непослушными пальцами открывать холщовую суму. Вынул из сумы булгарскую круглую шапку с синим верхом, отороченную черной лисой; встав, с поклоном передал Левонтию:
— Эхо тебе, дядька Левонтий.
Камнесечец, тоже поклонившись, принял шапку, подул на шелковистый мех:
— Добрых лисиц добывают булгары.
Антонине Никитка подарил повой, золотистый, рисунчатый: по цветастому полю — веселые красные петухи.
— Сроду не нашивала такого платка, — похвалила Антонина, тут же примеряя подарок.
Маркухе подарок тоже пришелся по душе: булгарский плотницкий топорик с чернью по смуглым щечкам, с затейливой вязью на узеньком обушке.
Взглянув на Аленку, Никитка снова оробел. Со смущенной, улыбкой вытащил из сумы обернутое в холстину, откинул уголок тряпицы — сафьяновые сапожки с серебряными завитушками на голенищах.
Антонина, будто пробудившись от сна, всплеснула руками:
— Да что же я стою? Гости, наверное, проголодались…
И тут заговорили разом и Левонтий, и Аленка, и Никитка. Маркуха бегал по комнате, размахивая топориком.
— Топориком-то не махай, — добродушно наставлял его Никитка. — Топорик нам для дела сгодится. Плотпицкий это топорик. Мы с тобой добрую церковь срубим: венец к венцу, лемех к лемеху…
— Не забыл? — ревниво спрашивал его Левонтий, — Я тебе такое ноне покажу… Есть у меня задумка.
Потом все вместе сидели за столом, ели похлебку и мясо. И хоть не было меду в погребе у Левонтия, у Никитки приятно кружилась голова. «Счастье, счастье-то какое!» — думал он. Аленкино лицо расплывалось в полумраке. Левонтий говорил ровным, неторопливым голосом, от него Никитка узнал обо всем, что случилось после того, как его схватили и бросили в поруб. В порубе было не сладко, не слаще было и Аленке в ватаге у Нерадца.
— А Радко-то, Радко… — сказала Антонина. — Если бы не Радко, не видать бы нам нашей Аленки…
— Ой, да что ты, — покраснела Аленка, пугливо взглядывая на Никитку, — и что бы такое со мной было?
— А вот то, — страшно выкатив глаза, объяснила Антонина. — Наигрался бы с тобой атаман, да и в омут — поминай как звали…
И тут впервые будто водой из проруби окатило Никитку, смыло недавнюю радость: «С Нерадцем жила… Небось миловалась…»
Потухли и Аленкины глаза, защемила сердце тягучая боль. Антонина спохватилась, поняв, что сказала лишнее, да того, что сказано, не вернешь. Все замолчали, глядя на Левонтия.
Камнесечец встал.
— Вы тут, девки, пока посумерничайте. А у нас с Никиткой свой разговор…
Закутавшись в шаль, Аленка ежилась и смотрела на мужиков подраненной птицей. И снова обожгла Никитку свирепая тоска: ведь знал же, знал, что Аленка не виновата, а вот поди ж ты, вырви такое из памяти.
Угадал его тоску Левонтий, мудрым стариковским сердцем понял, оттого и перевел разговор, оттого и потянул в мастерскую. Много раз уж проверено: за любимым делом притупится печаль.
По крутой, выщербленной лестнице Левонтий провел Никитку в светелку, где всюду были разбросаны обрубки камня, куски глины и дерева.
И раньше, случалось, захаживал Никитка в мастерскую своего учителя, и раньше испытывал волнение при виде всех этих простых вещей, с которыми и сам имел дело чуть ли не каждый день, но здесь глядел на них с восторгом — ведь и камней, и дерева, и глины касались в этой светелке руки мастера, творившего чудо в Боголюбове, Нерли и в самом Владимире.
«Возможно ли такое?» — спрашивал себя не раз Никитка, благоговейно глядя на учителя.
Но теперь, после долгого отсутствия, отвыкший от ремесла, огрубевший, взволнованный встречей с Аленкой и таинственными словами Левонтия, он остановился на пороге мастерской робко, как в храме перед иконой исцеляющей божьей матери.
— Иди, иди сюда, — позвал его Левонтий из дальнего угла.
Никитка приблизился к учителю.
— Под холстиной оно, под холстиной, — указал Левонтий, сам словно боясь прикоснуться к тому, на что указывал Никитке. Голос его заметно дрожал.
Никитка приподнял и сдернул холстину. То, что он увидел под ней, поначалу ничуть не удивило его — обычная одноглавая церковь, каких много строилось на Руси. Но Левонтий отстранился от света — и тут церковь заискрилась, заиграла волшебной неровностью белоснежных стен. Будто давнишний свой сон увидел Никитка — кружевную роспись по закомарам, витые колонки, диковинных птиц и зверушек в затейливой вязи сказочно перепутавшегося ветвями своими дремучего леса. Видывал он такие чудеса в дереве, сам выстругивал и выпиливал хитрые узоры, но чтобы красу такую в камне!..
Затуманенными глазами долго смотрел Никитка на учителя; Левонтий тоже молчал. Да и что мог он добавить? Мысли камнесечца текли в будущее: не в светелке — на зеленом взлобке клязьминского берега разглядел он свою белокаменную церковь. Голубые ветры овевают ее со всех сторон, волны буйно зацветающих садов пенисто разбиваются у стен. С садами, с рекой и с лесами за Клязьмой слились ее стены. Они словно выросли из этой земли и продолжают ее — такие же могучие и прекрасные. Пусть останавливаются перед церковью люди и дивятся: откуда этакая красота? А она, вот она — рядом: в природе твоей, в песнях твоих и сказках. Не богу храм, а земле русской. Народу русскому, душе его бессмертной памятник…
— Гляди, Никитка, — шепотом проговорил Левоитий. — Стар я стал. Гляди — тебе в камне творить, тебе — строить…
Левонтий ушел, а Никитка еще долго сидел в мастерской. Смутно, неуютно было у него на душе. Вроде бы и дома, а тепла домашнего он не чувствовал: Снова и снова вспоминал встречу с Аленкой, видел ее смущенное, зардевшееся лицо, вглядывался в ее испуганные, глубокие, как омуты, глаза…
Ведь и он тогда поддался первому чувству, и он потянулся к Аленке. Влекло его к ней и поныне… А если бы — чудо? Если бы вошла она к нему сейчас в мастерскую — что бы он ей сказал?
Ничего бы не сказал Аленке Никитка, потому как нужных слов у него сейчас не было, потому как и сам еще толком не знал, что с ним творится…
Сумерки вползли в мастерскую, вычернили углы и потушили белые глыбы камня. А Никитка, словно не замечая наступившей темноты, все сидел и глядел перед собой пустыми глазами. Потом вздрогнул, встал, походил от стены к стене и спустился в горницу. В горнице к нему подбежал Маркуха, повис у него на руке, но и для Маркухи не нашлось у Никитки ласковых слов.
Вошла со двора Аленка, полуприкрыв лицо повоем, невидяще проскользнула в ложницу. За пологом сопел Левонтий, возился на лавке, бормотал во сне что-то невнятное.
К ночи все затихло в избе. Никитка забрался на печь, притих рядом с теплым, пахнущим парным молоком Маркухой. Нащупал под боком у Маркухи что-то твердое, провел ладонью, догадался: булгарский топорик. Вспомнил поездку в Булгар, вспомнил Яруна, и снова сжалось сердце. Как он рвался тогда из чужбины во Владимир, все об Аленке грезил: вот приеду, а она на крыльце — руки тянет, радостным блеском глаз приманивает из-под опущенных ресниц; щечки с ямочками румянятся, грудь вздымается под цветастым сарафаном…
Где уж тут уснуть Никитке! Разомлев на горячей печи, размякнув от скорбных дум, проворочался он до петухов. Зорю встречать ушел на Клязьму, да так весь день до вечера и просидел у реки.
В избе у Левонтия все переполошились, думали — не вернется, думали — беда какая стряслась: водовороты-то на Клязьме скольких унесли!..
Пошел Левонтий на реку, стал расспрашивать перевозчиков да рыбаков: не видали ли парнишку? Не видали, отвечали перевозчики и рыбаки.
Тут у Волжских ворот на косе — толпа. Левонтий сунулся, как слепой, растолкал локтями мужиков да баб и ко всем — с одним вопросом:
— Аль утоп кто?.. Аль утопленничка выловили?..
Долго искал Левонтий Никитку. А когда вернулся домой, услышал его голос в баньке и сразу осел от знобкой слабости в коленях.
— Деда Левонтий пришел! — крикнул, выскакивая из баньки, Маркуха, — Деда Левонтий, а мы лодию срубили. Гляди-ко, какую срубили лодию…
Никитка, уперев ладонь в притолоку, стоял в дверном проеме с виноватой улыбкой на поджатых губах.
Левонтий вздохнул и удалился в избу.
16
Дня через два, как вошли во Владимир, призвал Давыдку Всеволод и велел немедля скакать с воями в Боголюбово. Наказ был таков: привезти мать Ростиславичей да Ярополкову жену, а заодно оглядеть Андреев терем — что там, как?
С Давыдкой напросился Левонтий. Давно уже старый камнесечец не бывал в Боголюбове — истомилось сердце, хотелось Левонтию взглянуть на создания рук своих. За смутой все как-то не до того было, а теперь — почему бы не взглянуть?!
Выехали на заре через Серебряные ворота. По дороге задержались возле избы Володаря. Не слезая с коня, Давыдка послал воя кликнуть кожемяку. Володарь вышел за ворота в жестком переднике, в грязной рубахе с засученными по локоть рукавами; волосы на голове перехватывал сыромятный ремешок.
— Милости просим, гостями будете, — пригласил он Давыдку с Левонтием.
Левонтий наладился уж было слезать со своей кобылы, но Давыдка остановил его:
— Не время нам гостить — спешим в Боголюбово. А вот медку испили бы, не отказались…
Володарь скрылся в воротах; скоро он вернулся с большим жбаном меда. Поставил жбан на землю, помахал черпаком:
— Налетай кто удал.
Мед пили, похваливали:
— Добрая у тебя хозяйка, Володарь.
— Хозяйкой дом держится, — довольно жмурясь и бойко разливая мед по деревянным расписным чарам, отвечал Володарь.
— По твоим-то делам тебе из серебряных чар меды распивать, — сказал Левонтий.
— Серебро ли, дерево ли, — нараспев отвечал Володарь. — Мое богатство — мое ремесло! А то, что чара деревянна, — так из деревянных и деды, и прадеды наши пивали, попьем и мы. Чай, не гордые.
За Серебряными воротами в лица ударил с реки ветер, взлохматил гривы коням, вскинул над головами красные и синие плащи.
Ехали вдоль Клязьмы, по песчаному берегу. Переговаривались меж собой:
— А жаркое нынче лето.
— Как бы хлеба не погорели.
По Клязьме плыли лодии, — подымая брызги, взблескивали весла; сквозь скрип уключин доносилась песня гребцов.
— Новгородские гости.
— Резвые головушки…
Левонтий слушал сквозь дрему разговоры воев; думая о своем, тихо улыбался. Который раз уж ехал он этим путем, а вон там, где пушистый ивовый куст склонил над крутящимся водоворотом свою чубатую голову, всегда останавливался и, прежде чём взглянуть на привольно раскинувшийся вправо от Боголюбова зеленый пойменный луг, смотрел в сторону, вздыхал и долго крестился.
Вот и теперь перекрестился Левонтий у своего куста и уж после этого боязливо посмотрел на храм — стоит!.. И нынешние полые воды не смыли его, не снесли тяжелые льдины. Эка врос между двух стремительных струй, стоит гордо, полыхает золотым шлемом так, что больно глазам.
Придирчивый взгляд Левонтия всякий раз примечал в постройке недостатки: и лестницу взял бы пошире, и вход на полати, облегчил… Но людям храм нравился, нравился он и покойному князю Андрею — угодил ему Левонтий.
— Будто в сердце ты мне глядел, — говорил князь.
Часто, бывало, наезжал он в храм — один, без дружины, — подолгу стоял на полатях, молился за упокой души любимого сына своего Изяслава. А в иные дни справляли в храме благодарственные молитвы проезжие гости из Суздаля и Ростова, с Волги и Оки. После долгого пути по диким лесам и своенравным рекам поражала гостей трепетная красота храма. С волнением вглядывались они в голубую дымку, из которой вырастали, словно из-под земли, белоснежные терема и церкви Боголюбова, думали-гадали: уж ежели здесь такая красота, то что же ждет их в самом Владимире?!
Много лет прошло с тех пор, а хорошо помнил Левонтий, как строили этот храм: как рыли глубокую яму, как забивали ее каменными глыбами, как насыпали холм и укрепляли его, а после — плита к плите — вели ввысь стены. Помнил, с какой тревогой ждали первого половодья, гадали — устоит ли холм?.. Ночью, крестясь и обливаясь потом, прислушивался Левонтий к шорохам на реке и гулким выстрелам: ломался лед. Потом каждое утро и каждый вечер камнесечец замерял уровень воды, на свае у пристани делал зарубки. Вода, в том году случилась буйная, льдины, поднятые с промерзших до дна стариц, ударяли в зеленый островок, словно живые, наползали друг на друга, но, не добравшись до храма, обессиленно опадали обратно в реку. А после вода установилась, тучи разошлись, и выглянуло солнце. И тогда столпился народ на высоких валах Боголюбова — столпился и замер от удивления. Всякое случалось видеть боголюбовцам, но такого чуда они еще не видывали никогда: широко, насколько хватает глаз, раскинулась вода, и среди этой воды, в сини неба и в сини волн, белый, словно только что опустившийся на реку лебедь, стоял Левонтиев храм Покрова…
Тишиной и запустением встречало княжеских посланников Боголюбово. Даже у ворот никого не было — оба полотна раскрыты настежь.
Шелудивый пес, испуганно взвизгнув, шарахнулся из-под копыт ворвавшихся во двор усадьбы коней.
— Эй, кто тут есть живой? — крикнул Давыдка. Краем глаза он уже приметил: люди есть, но таятся, поглядывают в щелочки приотволоченных окон.
Из притвора церкви, припадая на несгибающуюся ногу, вышел старик, взял Давыдкиного коня под уздцы.
— Кто таков будешь? — строго спросил Давыдка.
— Воротник я…
— А почто не у ворот?
— За нуждою…
— Придержи-ка, — Давыдка спрыгнул с копя. — Ну, воротник, показывай, где у тебя тут Ярополкова баба, почто от нас таится? Веди — посланные мы от князя…
— А князь-то кто?
— Аль ошалел?! Михаил Юрьевич.
— Вот те квас, — удивился воротник и повел Давыдку с воями в терем.
Левонтий остался во дворе. Все здесь напоминало ему о былом. Не год и не два провел он в Боголюбове, строя и этот храм, и этот дворец. Вот здесь, на этом месте, тесали каменные глыбы, рядом замешивали раствор, отсюда Левонтий следил за стройкой. Был он тогда моложе и крепче, сам взбегал на леса, сам работал зубилом — не терпелось ему везде приложить свою руку. Теперь силы ушли, ноги ослабли, скрючило пальцы на руках, потухли глаза, — вона как застлало их, не разглядеть креста на церковной маковке. Или это слезы, а не туман?.. Слаб, слаб стал Левонтий. Ему бы не плакать, а гордиться: сделано многое из того, что задумано, а то, что задумано на две жизни, — разве его вина? Пусть Никитка завершает начатое — не век ходить в подмастерьях.
Чтобы успокоить себя, Левонтий стегнул плетью по ушастому лопуху. Хотел стегнуть еще раз, но рука с плетью замерла на взмахе: за лопухом в забранном железными прутьями оконце вровень с землей белела чья-то борода…
Левонтий присел перед оконцем на корточки, заглянул в поруб.
— Кто ты?
— Ивор, — сказала борода.
— Иворушка? — удивился Левонтий. — Да почто же тебя в поруб-то?
— За песню. Песню такую пел мужикам, чтоб не ходили с Ростиславичами… Вот и сунули в яму.
Давно не встречал Левонтий Ивора, хотя и доходили о нем слухи, — о певце разное рассказывали и в народе, и в княжеском терему. Смел был Ивор, неосторожен; за соболиные шкурки песни своей не продавал… Только бы суметь, ничего не пожалел бы Левонтий, чтобы вызволить Ивора из поруба.
— Ты погоди-ка, я сейчас, — засуетился он и, частя ногами, побежал к терему, из которого уже выходили Давыдка с воями, за воями шли — все в черном — мать и жена Ярополка с подружками. Подружки голосили и припадали губами к их одеждам.
Старая княгиня шла гордо, не глядя по сторонам. Казалось, ее не трогали ни хмурые взгляды воев, ни крики прощающихся женщин.
По знаку Давыдки княгинь оттеснили от провожающих, усадили в возок…
Все уже были верхом, только Левонтиева кобыла поводила ушами, укоризненно косясь на своего нерасторопного хозяина.
— Ты бы, Давыдка, Ивора-то пожалел, — сказал Левонтий, гладя дрожащей рукой холку Давыдкиного жеребца. — В порубе он, по Мстиславовой милости. Заступись…
Темная зыбь всколыхнулась в Давыдкиных глазах.
— Ай неймется старому, — сказал он, словно сквозь зубы выплюнул. — Знамо, за дело брошен.
Левонтий отшатнулся. Казалось, Давыдка только и ждал этого. Подняв коня, он взмахнул рукой, и весь отряд с криками и улюлюканьем устремился за крепостные ворота…
Часть 2 ВСЕВОЛОД
Пролог
1
В лето 6668 (1160 г.), когда завершили строительство владимирского Успенского собора, в Ростове была истреблена страшным пожаром дубовая кафедральная церковь. Вместе с ней сгорело множество боярских теремов; ходили слухи, будто изловили на пожарище подозрительных людей, и те на допросе признались, что наущены были на сие злодейство самим князем Андреем Юрьевичем. Так ли это или нет, но вскоре боголюбивый князь приказал ставить на берегу Неро-озера новый белокаменный собор, для чего немедля отрядил в Ростов камнесечца Левонтия с каменщиками, плотниками и иными зело искусными мастерами.
Прошло два года. Отозванный на закладку Золотых ворот, Левонтий возвращался во Владимир.
В ночном лесу выл ветер. Снег завалил едва видимую дорожную колею, насыпал вокруг возов высокие сугробы. Берестяные факелы бросали красные отблески на заросшие инеем бородатые лица мужиков. Лошади оседали в снегу, фыркали и рвали постромки.
Накрывшись шубой, Левонтий вспоминал, как в такую же суровую и раннюю зиму он, прибившись к соляникам, впервые прибыл во Владимир.
Уже тогда его покорило величие насыпных валов, окруживших молодой город. Всюду стучали топоры, белели свежими срубами избы, в морозном воздухе стоял терпкий запах сосновой смолы. Через раскрытые настежь Торговые ворота шли возы с лесом и камнем, на площади перед княжеским дворцом горели костры…
Длинный путь лежал за спиной Левонтия. Денег Галаты ему хватило ненадолго. Уже в Киеве он подрядился строить боярскую усадьбу. Хоть и невелика была усадьба у боярина Путяты, хоть и платил он гроши, а взговорила в Левонтии неспокойная душа, вдунул он немыслимую красоту в покорливое дерево — и засветилась усадьба, как маков цвет на лугу; приходили к Путяте дивиться его терему и друзья и недруги; друзья — радовались, недруги — завидовали. И задумал Путята удержать при себе молодого мастера, стал сватать племянницу свою красавицу Аннушку, стал Левонтию на ухо нашептывать: зачем, мол, тебе в Суздаль, в деревню, в глушь, ежели сделаю большим человеком в Киеве, сведу на княжий двор, осыплю милостями?! Полюбился Левонтию боярин, да и Аннушка была ему по душе, и уж совсем было сдался — о чем еще и мечтать после многолетней неволи?! — уж и боярин потешался среди своих над простодушным камнесечцем: ему-то в жены боярскую дочь?! Ха-ха, аль и терем записать на смерда?! Вот только останется, ужо покажу!.. Но Левонтий возьми да в самый последний день и передумай: это как же так получается — и милого Суздаля не поглядеть? Не окунуться в воды Каменки, не испить из далекой Нерли?!
— Ты на меня, боярин, не серчай-ко, — сказал Левонтий Путяте, закинул за спину суму, помахал рукой взревевшей Аннушке и пошагал на север, где у далекого окоема синели леса.
У Чернигова пристал к соляникам. Шел обоз из Галича, путь держал во Владимир. Ехал с галичскими хмурыми соляниками веселый Ивор. За еду, за подвоз, за место у костра платил Ивор соляникам веселыми песнями. А еще пристали к обозу в Чернигове трое зодчих-немчин. Были зодчие зело надменны, сами себя расхваливали, над Иворовыми песнями потешались: русский-де мужик и песни-то сложить не умеет, где уж ему сложить собор?!
Интересно стало Левонтию, что это за мастера такие знаменитые и почему из дальней дали, из нерусской, чужой земли, едут во Владимир.
— А едем мы потому, что пригласил нас князь Андрей украшать его стольный град на Клязьме: своих-то мастеров у него нет и взять их неоткуда…
— Это как же так — неоткуда?! — осерчал Левонтий. — Нешто русский человек будет богу молиться в немчинском храме?!
Немчины же слова его встречали смехом и продолжали расхваливать друг друга: лучших-то мастеров, чем при дворе нашего цесаря, на всем белом свете не сыскать.
«Ну, погодите», — сказал себе Левонтий и тем же днем, едва прибыли во Владимир, пошел на княжий двор: так, мол, и так, приехал из Царьграда от каменных дел мастера знаменитого Галаты.
Князь давно уж поджидал камнесечцев, все глаза проглядел, и Левонтию обрадовался как родному. Немедля допустил его к себе, велел принести меду, потчевал гостя, сам попивал да обо всем помаленьку расспрашивал. И Левонтий не стал таиться, открылся перед ним как на духу, а как дошел в рассказе до немчин и до того, как они поносили русских людей и похвалялись друг перед другом, князь рассмеялся, да так громко, что со двора в сени потянулась стража.
— Вот что, любезный Левонтий, — сказал, хитро щурясь, Андрей, — баять ты, чай, мастер. А как до дела, то и в кусты?..
— Только прикажи, князь, — ответил Левонтий. — Все исполню.
И тогда Андрей Юрьевич кликнул дворского и велел звать немчинов. А когда вошли немчины да увидели в княжеских сенях Левонтия, то тем же часом и онемели. И князь сказал им так:
— Зело понаслышан я о вашем хитром мастерстве, оттого и позвал на Русь. Но настало время обзаводиться нам и своими мастерами. А посему вот вам мой приказ: хитростей своих не таить, мастерам и подмастерьям, что из русских, все рассказывать. А ежели будут на вас какие обиды, то велю нещадно бить и гнать за пределы земли Владимирской… Присматривать же за вами повелеваю Левонтию, он у ромеев зело многому научился да и в ваших мудреных землях тоже бывал… И первый мой наказ таков: смастерить всем по маленькому собору, но чтобы все в нем было как в натуре, и показать мне. Чей лучше будет, тот и станете возводить.
Немчины заулыбались, залопотали что-то по-своему. Левонтий, знавший их язык, перевел князю:
— Благодарят тебя за милость и сказывают, что, мол, сам увидишь, какие они мастера…
На другой же день выделили немчинам и Левонтию просторную избу неподалеку от церкви, что у Ирининых ворот. Окна горницы, где работали немчины, выходили к воротной башне, Левонтиевы — к Лыбеди. И приступили мастера, таясь друг от друга, к работе — лепить свою церковку, чтобы после воздвигнуть по ней собор. Место, где стоять собору, указал княжий воевода Борис Жидиславич, — на высоком холме, чтоб отовсюду было видать его златоверхий купол. Сроку дал мастерам седмицу. И ровно через седмицу явились немчины и Левонтий на суд в Андреев деревянный терем с высоким резным крыльцом.
В сенях было людно, вокруг столов по стенам сидели на лавках именитые бояре, воеводы и дружинники — все в праздничных одеждах, князь — в красных сафьяновых сапогах, в шелковом корзне с золотой брошью на груди, в украшенной жемчугом, черным лисьим мехом подбитой шапке. Был Андрей молчалив и с виду суров, а когда скинули немчины со своей церкви холстину, чуть наклонился вперед, но взглядом себя не выдал — никак не понять: не то любуется, не то осуждает. Однако менее сдержанные бояре не смогли обойтись без восхищенных возгласов.
Да и было чему дивиться: точь-в-точь святая София, не храм, а сказка.
Всем хороша была церковь, но не мог ее себе представить Андрей Юрьевич над клязьминской излукой в виду мещерских бескрайних лесов. Ничего не скажешь, красива София киевская, и София новгородская ничем не хуже, но здесь, по задумке, все должно быть иное, свое, неповторимое. Свои святые, свои праздники, свой епископ, своя церковь… Все свое… А это?
Князь уж глядел с недоверием и на Левонтия: ему-то, мол, откуда знать мои потаенные мысли? Тоже пришел из Царьграда. Тоже чужой. Да и справится ли кто? Вложишь ли в кого свою душу?..
Так и промолчал князь, ни слова не сказал немчинам, махнул рукой Левонтию — теперь-де твой черед, и Левонтий, побледнев, скинул свое покрывало.
Вот оно!..
Андрей Юрьевич привстал, и все, кто были в сенях, тоже привстали, и по лавкам прокатился одобрительный шепот. Князь обласкал Левонтия долгим взглядом…
«А ведь угадал, а ведь схватил главное!» — радостно ликовало в Андрее. Вона как, даже страшно стало: неужто обо всем догадался?!
И повелел князь строить церковь Успения божьей матери из белого булгарского камня.
А немчинов, высокомерно отказавшихся работать под началом Левонтия, с позором прогнал со двора.
2
К утру метель стихла. В морозном застывшем воздухе далеко разносилось похрустывание снега под полозьями. Лошади, напрягаясь из последних сил, вытянули возки на твердую дорогу.
Левонтий то дремал, то вдруг просыпался. В разгоряченной голове теснились воспоминания.
Ивор… Что всегда влекло к нему Левонтия?.. Еще когда они добирались до Владимира с соляниками, молодой гусляр понравился камнесечцу.
— Где ты научился слагать свои песни? — спросил его Левонтий.
— На земле.
— Но даже птицу, рожденную с крыльями, учат летать.
— Отец мой тоже был гусляром, — сказал Ивор.
— И он передал тебе свои песни?
— Да. Но я знаю много новых…
— Ты придумал их сам?
— И сам, и не сам. Ведь я ничего не придумываю. Я только собираю то, что знают другие. Другие не умеют собирать, а я умею.
— Ты даешь словам крылья?
Ивор задумался.
— Наверное, ты прав, — улыбнулся он. — Ведь песня без крыльев — не песня?..
— Хорошо иметь такие крылья, — сказал Левонтий.
Но Ивор завидовал камнесечцам.
— Ваши церкви стоят века. Вы их высекаете из камня.
— Слова живут дольше, — возразил Левонтий. — Я слышал рассказы о дворцах, которые погребены землей. Если бы слово не сохранило память, кто бы узнал о них?! Любят твои песни, Ивор…
Хоть и недавно Левонтий на Руси, но и до него докатилась молва о гусляре. Говорили о нём почтительно, как о сказочном богатыре. Не даст он в обиду ни старого, ни малого, защитит, веселой шуткой обогреет. Вон Илья Муромец — богатырь, а тоже гусляр…
— Слова, — задумчиво говорил Левонтий, — в них тепло человеческого дыхания.
А камень? Камень неподатлив и холоден. Зато как он сверкает на солнце, какая в нем непознанная глубина!..
Что в этой глубине? В силах ли выявить ее Левонтий, в силах ли вдохнуть в нее жизнь? Чтобы стояла твоя церковь и десять, и сто, и двести лет, а после пришли к ней вгляделись и не прочли — почувствовали: жили люди, и не только ратали, ковали мечи и дрались на поле брани, было в них и другое — было удивление перед красотой, была вера в добро, потому что как же без добра? Разве какой злой и кровожадный изувер в силах изваять этакую неслыханную красоту?!
3
В полдень тучи рассеялись, выглянуло солнце, и снега вокруг засверкали, заискрились — будто и не было ночной метели, будто все это привиделось в смутном сне. Голубые прозрачные тени осин пересекли дорогу, тонконогие кони бежали быстро, снег похрустывал под полозьями, и Левонтий, приоткрыв меховую полсть, во все глаза глядел и радовался: ах ты, господи, а погода, погода-то какая!..
Едва взобрались на Поклонную гору, едва вспыхнул на крутом берегу Клязьмы золотой шлем Успенского собора, мужики закричали, заулюлюкали — и полетели сани под уклон, встречный ветер ожег раскрасневшиеся лица горячим морозцем.
Вот такой же, а то и покрепче был мороз, припомнил Левонтий, когда освящали собор, князь стоял с Микулицей, а в толпе бояр сверкнули и скрылись чужие неприязненные глаза. Левонтий видел их еще раз, на охоте, — у самой головы Андрея просвистела стрела и вонзилась в упругую мякоть молодой березы…
Тогда-то и запала тревога в сердце Левонтия, а укрепилась она в Ростове. Бывало, к князю камнесечец хаживал в полдень, за полдень, — ростовские же бояре его к себе не допустили. Держались с ним как с холопом, поселили в посаде, в гнилой избе, на прокорм положили самую малость — хоть на паперть иди побираться. Понимал Левонтий — оскорбляли не его, князя хотели унизить. И пуще всех старался Добрыня. С его двора и потекли слухи, будто прежнюю, дубовую, церковь спалили подосланные Андреем люди. И спалили неспроста, а с умыслом: не будет-де в Ростове собора, епископ сядет во Владимире, а сядет епископ во Владимире — конец боярской воле. Все заберет в свои руки князь, начнет озоровать — всем достанется по серьгам. Ежели-де не ковырнуть разом, то пустит Юрьево злое семя длинные корни; попробуй-ка после сладить!
Пока Левонтий жил в Ростове, всякого нагляделся. Часто наезжали сюда суздальские бояре, но чаще других бывали Кучковичи. Известное дело — Кучковичи в почете, место их самое близкое к князю: сестра замужем за Андреем. Уж кому бы, как не им, встать за него горой. Ан нет, и их оплел, опутал боярин Добрыня.
Подбирался он и к Левонтию. Раз как-то зазвал к себе в усадьбу, стал показывать иконы греческого письма, греческие книги в обтянутых кожей досках, вздыхал и ахал, вот-де завидует Левонтию, что довелось ему повидать и Царьград, и святую Софию, — все к тому, что, мол, от Царьграда и пошли святость и красота. «Да как же это?!» — удивился Левонтий. Аль глаза у боярина ослепли, что не видит он ничего вокруг, аль свое рядом, — оттого, мол, сразу не разглядишь, не разгадаешь?
— Свое-то бесовское, — сказал Добрыня, — свое-то огоньком, огоньком.
Ох, и хитер ты, боярин, подумал Левонтий и возражать на боярские запальчивые речи не стал.
А ночью вспоминал: к чему клонит боярин? И вдруг словно прозрел от яркого света: вся Андреева правота предстала перед ним как на ладони. Так вот оно что. Так вот он куда замахнулся — на самого византийского патриарха замахнулся Андрей. А призадуматься, так и верно: доколе нам, русским, пускать на свою землю жировать ромейских послухов?! Не оттого ли и бедствует русская земля, не оттого ли и стонет, разрываемая усобицами, что распинаем свое, кровное, а и пред чужим дерьмом готовы пасть на колени?!
…Блестит себе, поблескивает золотым шлемом Успенский собор. Вроде бы и не то что святая София — и ростом помене, и убранством победнее, а тревожит, подымает изнатра вольные мысли, зовет, кличет русского человека: погляди, мол, вокруг, распрямись на своей земле, — велик ты, еще как велик, и еще не такое сможешь, вся земля в ее бескрайних пределах ахнет от изумления…
Вздрогнул Левонтий, улыбнулся: не о том ли тоскуют Иворовы гусли?
Но не дано еще камнесечцу понять его грустные песни. Да и поймет ли он их когда? У Ивора своя дорога, у Левонтия — своя, где-то они сходятся вместе, а где?
На Клязьме курились дымки над прорубями, сверкал, поднимаясь в гору, укатанный санный путь.
Ну вот. Левонтий откинулся на шкуры, закрыл глаза. Наконец-то он дома.
Проснулся Левонтий от шума и лая собак. Он приоткрыл полог и увидел, что обоз уже переехал по льду через реку и теперь полз по одной из улочек ремесленного посада.
У Ирининых ворот чернела большая толпа. Оттуда и неслись разбудившие Левонтия крики; над толпой высилось несколько всадников, один из них замахал руками и стал спускаться к реке. Камнесечец узнал в нем Андреева любимца боярина Бориса Жидиславича.
— Посторонись! — зычно командовал боярин возчикам. Возы стали сворачивать на обочину.
Левонтий вышел из саней — поразмять затекшие ноги. Боярин узнал его, заулыбался живыми глазами.
— С приездом, Левонтий! Давно не встречались, — сказал он, сдерживая играющего коня.
— Здравствуй, боярин, — ответил Левонтий, снимая треух и кланяясь. — Что это за шум у ворот случился, не скажешь ли?
— Отчего не сказать? Тпру ты! — прикрикнул боярин на коня. — Отъезжает из Владимира до Суждаля мать-княгинюшка со чадами, а с ними грек Леон.
— Епископ? Неуж?! — удивился Левонтий.
Борис Жидиславич подмигнул ему.
— Доколь уж можно? Пришел конец Андрееву терпению. А у матери-гречанки корень где?
— Знамо, — кивнул Левонтий, — да только чад молодших жаль. Нешто Михалка да Всеволод тож не Юрьева корня?
— Молчи, кому голова дорога, — неожиданно оборвал его боярин и стегнул коня.
Левонтий обомлел от страха.
Толпа у ворот расступилась, и из-под темных сводов вылетел крытый возок, за ним другой, третий. Левонтия обдало колючей снежной пылью. Возки скатились к реке и заскользили по светлому льду — все дальше и дальше. Вскоре они превратились в маленькие черные точки и скрылись из глаз.
Левонтий снова забрался под теплую шкуру, подышал в покрывшийся белым инеем воротник.
«Круто берет Андрей, — подумал он с тревогой. — Что до бояр и княгини, то здесь он сам себе голова, а вот епископа… без суда и без веча. Не допустит сего патриарх, посеет новую смуту на Руси. Святослав Всеволодич Черниговский только и ждет, на чем бы поймать Андрея. Да и великий князь Ростислав Киевский с тревогой поглядывает на север…»
Но смелость князя не могла не восхитить Левонтия. И к тревоге примешивалось чувство гордости за Андрея, не убоявшегося ни передних мужей, ни ромеев, ни патриарха.
— Не сносить князю головы, — вздохнул камнесечец и перекрестился. И тут же со страхом оглянулся — не подслушал ли кто? Но в возке он был один, сани мирно скрипели и покачивались.
«Приеду, велю истопить баньку», — блаженно улыбнулся Левонтий.
Обоз медленно втягивался под гулкие перекрытия деревянных ворот.
Глава первая
1
За лесистой Мещерой, за Бужей и за Прой стоит на правом возвышенном берегу Оки Глебов стольный город Рязань. Обнесла себя Рязань земляными валами, окружила высокими деревянными стенами, ощерилась бойницами на юг, на север, на запад и на восток. Хоть и молода еще, а богата Рязань, расстроилась при князе Глебе, обросла ремесленными посадами. Всего у Рязани в достатке — и хлеба, и мяса, и пушнины. Не завозить ей ни орала, ни ткани, ни оружие. Свои, рязанские мастера куют железо, ткут холст, обжигают горшки. Богато изукрашен княжеский терем, все есть в тереме: и серебро, и золото, и драгоценные камни.
Кабы не меды да вина, высоко взлетел бы князь Глеб, сел бы и на киевский старший стол, но не взлетает он высоко, лень взмахнуть крыльями; сидит в Рязани, казнит и милует, загоняет оленей и зайцев в лесах, рассылает тиунов за данью, пьет со своею дружиной.
С больной головой проснулся князь после вчерашней охоты, спустил с ложа босые ноги с желтыми скрюченными ногтями, заохал, потирая ушибленный бок. Это не на охоте на лося ушиб его князь, это уж после охоты, когда свежевали коровью тушу, а на высокий всход старостовой избы выкатили бочонок вина. Как тут было не отведать?! Выпил князь чашу, выпил и другую, не стал отказываться и от третьей. А после, усевшись на траве у костра, пили все: и дружинники, и огнищане, и кочетники, и псари, и ездовые. На всех хватило вина, все пили, ели да похваливали князя. Много, ох много выпили… А сколько беличьих шкур отдает князь за каждый бочонок, того никто не считал — ни ключарь, ни ловчий.
Воткнув, будто вилы в копну, в густые волосы растопыренные пальцы, Глеб застонал и перевернулся на другой бок. Когда пил, не думал, а теперь жаль стало на бездонные глотки зря переведенного добра.
— Дядька! — закричал он в серый полумрак ложницы. — Дядька-а!
На зов князя в двери появился мясистый безбородый мужик с красным, будто окровавленным, но улыбчивым и добрым лицом, приблизившись к ложу, встал перед Глебом на колени.
— Что, князюшко, тяжко?
— Тяжко, дядька, — всхлипывая, словно ребенок, пожаловался Глеб.
— А ты медку испей, — посоветовал дядька, — оно, глядишь, и сымет…
Зная наперед, что скажет князь, дядька встал с колен, подошел к двери и, распахнув ее, впустил в ложницу медовара Прокшу с двумя мужиками, которые, боязливо выглядывая из-за его спины, внесли бочонок с медом, поставили его у княжеского ложа и тут же неслышно удалились.
Князь Глеб любил простоватого, всегда слегка пьяного Прокшу, держал его в почете и достатке за великое умение варить душистые хмельные меды. Много медоваров было у Глеба до Прокши, да все пришлись не ко двору. Один Прокша удержался при Глебе, и не за то только, что знал более сотни способов приготовления медов. Умел Прокша приладиться к князю, успокоить его, уговорить, что не всегда удавалось даже самым близким боярам.
Вот и сейчас, едва только явился Прокша, едва заговорил с Глебом, дядька вышел.
Часто, с придыхами кряхтя и причитая осипшим с перепоя голосом, князь сел на ложе, провел ладонью по распухшему лицу с синими подтеками под глазами.
— А вот и умыться князюшке, — ласково ворковал над ним Прокша. Он уже стоял перед ложем с большой глиняной чашей в руках и перекинутым через плечо убрусом.
Прокша мурлыкал, пока князь мылся, мурлыкал, пока князь пил, мурлыкал и после, когда лицо князя порозовело от выпитого и в глазах появился живой блеск.
Это было обычное утреннее занятие. Выпив меду, Глеб расправлял плечи и, накинув, несмотря на летний зной, на себя шубу, перебирался с ложа на столец. Здесь он устраивался поудобнее, сморкался и кашлял, выпивал еще чашу и велел подавать яства.
Тотчас же на кухне подымалась возня, и вслед за этим в гридницу торжественно, друг за другом, входили девки и вносили серебряные блюда с деревянными и глиняными мисами и горшками разных размеров. Мисы и горшки выстраивались на столе перед князем, он пододвигал их к себе, поводил над ними носом, блаженно вдыхал пары и наконец запускал в одну из мис растопыренную ладонь, извлекая из самой середины то кусок говядины, то лебединое крылышко, то куриную ножку.
Все это время Прокша стоял рядом и ревниво следил за тем, чтобы чаша перед князем всегда была наполнена до краев. Князь громко чавкал, вытирал руки о скатерть и блаженно закатывал белки больших, будто закрытых бельмами выпуклых глаз.
За дверью уже толпились бояре, то одна, то другая борода изредка просовывалась в дверной проем, но тут же испуганно исчезала. Выпив еще чашу меда, Глеб потянулся и небрежным взмахом руки будто оттолкнул от себя Прокшу. Понимая князя с полувзгляда, медовар тут же исчез.
Бояре входили чинно, один за одним, рассаживались по отполированным задами лавкам вдоль стен. У каждого было свое место — определялось оно и по старшинству и по той доле внимания, которую уделял боярину князь.
Глеб улыбался, но сам распалялся гневом: по лицам многих бояр он замечал, что прибыли они в терем не столько по делу, сколько из желания попользоваться у княжеского стола. Или мало было выпито вчера меду? У самих, поди, медуши ломятся, в скотницах не счесть золота, а княжеское для них вроде общего: пей, ешь — не хочу…
Бояре расселись, покашливая и поглаживая бороды, глядели кто в стол, кто в потолок, поверх Глебовой головы. Князь неторопливо пошевелился на стольце: бояре раздражали его, но от выпитого меду мысли снова стали игриво путаться. Вот и думал он, как бы выехать снова за Оку, поразмять тело на резвом скакуне. Бояре понимали князя, им тоже не сиделось в тереме, взоры невольно обращались к отволоченным оконцам, но положение требовало степенности, и каждый делал вид, будто занят важной думой.
Вдруг во дворе послышался неясный шум, кто-то легко взбежал на крыльцо. Бояре ожили, зашевелились, переглядываясь; ожил и князь: никак, снова выжлятники выследили лося?..
В дверь просунулось лицо дворского Евсея. Поводя большими, как у летучей мыши, мохнатыми ушами, Евсей строил князю страшные гримасы. Глеб поморщился и велел дворскому войти. Бояре недовольно переглянулись.
Почтительно покашляв в сторону, Евсей склонился к князю и что-то долго говорил ему. Князь кивал головой, улыбка медленно сползала с его лица и скоро сменилась слезливым выражением: уголки губ опустились, усы повисли, борода обмякла, как полежавший на солнце только что связанный березовый веник.
— Ступай, ступай, — оттолкнул Глеб Евсея.
Дворский вышел.
Подперев голову кулаком, князь долго сидел в неподвижности, словно не замечая подавшихся к нему, тяжело дышащих от нетерпения бояр.
Давно, давно уж висела над Глебом неотвратимость расплаты за содеянное во Владимире. Ясно было: ежели Михалка сядет на стол, ни за что не простит ему похищения иконы Владимирской божьей матери и Борисова священного меча, хранившихся в Успенском соборе и вывезенных в Рязань при содействии Ярополка Глебовыми боярами. «Грядет, грядет!» — думал со страхом Глеб.
И вот свершилось. Дворский сообщил ему о прибытии гонца из Москвы. Гонец привез известие о том, что Михалка со Всеволодом, собрав большое войско, идут через Москву на юг, чтобы сразиться с Рязанью…
2
Отроки купали в Оке коней. Скинув в кустах одежду, парни с веселыми криками и озорным смехом въезжали верхом в воду, подымая вокруг себя серебристые кусты брызг. Лошади довольно фыркали. Вскидывая морды с прижатыми ушами, они заплывали на самую середину реки. Там поток был сильней, животных сносило течением к песчаному мыску, они выбирались на длинную отмель и скакали по берегу, высушивая на теплом ветру промытые мягкой водой пушистые длинные гривы. Нетерпеливо ударяя в бока лошадей босыми пятками, отроки гнали их к студенцу. Зачерпнув из глубины колодца ведро холодной прозрачной воды, они бросали в шапку серебряное кольцо или серьгу и, налив воды, поили из шапок лошадей. Давнее это было поверье — от дедов и прадедов шло: ежели напоить коня через серебро, добрый будет конь, в милости будет у домового, не испортить его дурному человеку, не сглазить.
Лежа на вершине холма над рекой, Ярополк следил за отроками завистливым взглядом: давно уж не купал он своего коня, не поил из шапки через серебро — иссушили его заботы, отравила горькая зависть. Не радовался Ярополк последним яростно-жарким дням уходящего лета, шелесту тучных хлебов, обжигающей прохладе реки, только хмель, один только хмель мог еще ненадолго заглушить его тоску. А после зверел он, выхватывал меч, рубил столы и лавки и падал наземь, катаясь в припадке дикого смеха.
Не верил Ярополк Глебу, хоть и жил у него, хоть и отдался под его защиту. Михалка набрался сил, войско у него большое, — ежели надумает пойти на Рязань, ни за что не устоять Рязани. Ярополком только и сможет тогда откупиться хитрый Глеб.
Лежал Ярополк на холме, сквозь хмельную дрему глядел на реку и вспоминал былое. Молод он еще, а порою кажется — вся жизнь уж прошла, осталась позади в сером вязком тумане. А ведь было, было такое время, когда не думал он ни о Суздале, ни о Владимире, ни о Рязани, когда еще здоров и силен был князь Андрей, прозванный Боголюбским, когда посылал сказать он недругам, повинным в смерти брата его Глеба, великого князя киевского: «Выдайте мне убийц — Григория Хотовича, Степанца и Олексу Святославича — это враги всем нам, они уморили брата моего Глеба». Было такое время. И когда те отказали Андрею, когда не выдали ему своих бояр, повелел он Роману ступать вон из Киева, Давыдку — из Вышгорода, Мстиславу — из Белгорода и отдал киевский высокий стол брату своему Михалке. Михалка сидел в Торческе и послал вместо себя в Киев Всеволода с Ярополком Ростилавичем. С хлебом-солью, хоругвями и церковным пеньем встречали их киевляне, целовали Юрьевичу крест, открывали погреба и медуши, поили Всеволодовых и Ярополковых дружинников брагой. Хоть и приходился Ярополк Всеволоду племянником, а были они почти одногодки — оба молодые, красивые, смелые. Но не тогда ли уже позавидовал юному киевскому князю Ярополк? Не тогда ли?..
Длинными вечерами сиживали они в княжеском терему, и Всеволод, покачиваясь на лавке, рассказывал Ярополку о Царьграде, о дворе императора Мануила, дяди его матери, о византийских обычаях, о путешествии своем на север, в земли, принадлежащие могущественному императору германцев Фридриху Барбароссе. Многое понял в изгнании Всеволод и мыслей своих от Ярополка не таил:
— У князей да бояр воли хоть отбавляй. Свое же друг у друга рвут, зазывают половцев на русскую землю.
Завидовал Ярополк молодому князю, люто завидовал, потому и промолчал, зная о заговоре: впустили ночью изменники в Киев Рюрика, схватили Всеволода, Ярополка, всех бояр и бросили в поруб…
Или кто сказал, или Всеволод сам догадался, но поставила их друг против друга ненависть, как двух смертельных врагов. Много воды утекло в медленных русских реках с тех пор, а все так и стоят по две стороны невидимого рубежа два молодых князя — Всеволод и Ярополк.
Неуютно стало Ярополку от известия, доставленного гонцом из Москвы.
А ведь все могло бы быть совсем иначе. Во многом виноват Мстислав. Если бы он не спешил, если бы дождался Ярополка, шедшего от самой Москвы по пятам за Михалковой ратью, если бы они объединились, не они, а Юрьевичи бежали бы с Болохова поля. И Мстислава, и его, Ярополка, сгубило Мстиславово честолюбие. Захотелось Мстиславу владимирского стола, думал уютно устроиться в Ростове, а теперь клянчит милостыньку у новгородцев. Ежели хорошо поклянчит, сжалятся — примут к себе князем. Да только в Новгороде княжить честь невелика. Не князь — Боярский совет правит городом. Как решит Боярский совет, так поступит и князь. Без дозволения — ни казнить, ни миловать, ни меду испить…
Горько думал Ярополк, зло думал не только о врагах, но и о брате своем Мстиславе. Однако втайне завидовал ему: худо ли, бедно ли, а Мстислав при месте. Ярополк же у зятя своего, князя Глеба, хуже приблудной собачонки: захотят — пнут, захотят — приласкают. Даже сестру Ярополкову, жену свою Радиславу, отослал Глеб в загородную усадьбу, чтобы не допустить встречи с братом. Обложил Глеб Ярополка в Рязани, как выжлятники на охоте обкладывают медведя в берлоге злыми собаками. Один у Ярополка путь стряхнуть с плеч своих волкодавов: не нынче завтра, а возвращать себе владимирский стол. Без владимирского стола не жить Ярополку, без Владимира — хоть в монастырь…
От рязанского посада к перевозу спускались тяжело груженные возы. Зарев — последний летний месяц. В селах уже защипывают горох, пашут под озими, заламывают в ульях соты, отделывают овины.
Ехали мужики за Оку по своему, по мужицкому делу. Сонные лошади понуро тащили возы. И снова Ярополку защемило сердце: доколе же праздно сидеть ему, ждать приглашения от строптивого Глеба?! Или сам он не княжеского семени? Или не знатного рода?.. И со злорадством припомнил: недавно, совсем недавно Глеб слал к нему во Владимир посла за послом, все выспрашивал, выведывал: не прогневил ли чем дорогого шурина?
Видел в нем Глеб в ту пору не удельного — старшего князя. Боялся силы, понимал: Рязань с Владимиром не потягается, Рязани за Владимир крепко держаться надо. А он-то, он-то — Ярополк!.. Несмышлен еще тогда был, доверчив, поддался Глебовым уговорам. Нашептывал Глеб устами любимой Ярополковой сестры Радиславы: схорони у меня икону Владимирской божьей матери, спрячь у меня и Борисов чудесный меч. В смуте-то да неразберихе как бы не растащили холопы. А сядешь прочно на владимирском столе — вернешь в свою церковь Успения. Так и послушался Ярополк Радиславу: свезли дружинники в Рязань икону, украшенную золотом и дорогими каменьями, свезли Борисов меч, вернулись хмурые. А следующим же утром поползли по городу недобрые слухи. Горожане говорили: жаден наш князь, чужой он нам; ныне отвез в Рязань икону, завтра править будет из Рязани, а зять его, Глеб, обдерет Владимир как липку…
Ярополк встал с земли, свистом подозвал пасшегося неподалеку коня. Опершись о луку, вскочил в седло и поскакал в Рязань. Был Ярополк в простой посконной рубахе — без кольчуги и без плаща, поэтому мало кто признавал в нем князя. Даже стражник у княжеского города — и тот остановил Ярополка, стал выспрашивать, кто таков и почему, не спросясь, ломится в ворота. Князь в сердцах ожег его плетью…
Распустив на толстом животе пояс, Глеб сидел в сенях на лавке и, часто дыша, отмахивался от мух пестротканым убрусом. Возле него суетился Прокша, подставлял князю под босые ноги лохань с холодной водой, в которой плавали кусочки наколотого в погребе под соломкой серого льда. Глеб вздрагивал и, держа ноги на весу, не решался опустить их в лохань; Прокша по-матерински нежно уговаривал его:
— Не обомрешь, князюшко, опусти ноженьки-то. Верно, водица холодная, зато после нее хошь к княгинюшке в терем, хошь на охоту… Сунь ножку-то, батюшка, сунь. А чтобы черти тебе во сне не чудились, нат-ко, выпей настоя лягушечника…
— Не хочу, не надо, — отстранял Прокшу князь и продолжал, держа ноги на весу, обмахиваться убрусом. — Мне бы медку…
— От меду в голове дурная кровушка заведется, — уговаривал Прокша, стоя перед Глебом на коленях. — А то белокудренника испей. Тож помогает…
Ярополк вошел в сени шумно, но Глеб даже не поглядел в его сторону — сделал вид, что не заметил, продолжал изводить Прокшу:
— Медок-от, он от любой хворости…
— Да долго ль, князюшко, будешь ноги-то на весу держать? Устанешь ведь, — не слушая князя, говорил свое Прокша.
— Экий же ты, право, — рассердился Глеб. — Да на ж, гляди! — и сунул ноги в лохань.
— А теперь лягушечника испей…
— Давай лягушечника.
Глеб, морщась, выпил настой, сплюнул в сторону, рукавом обтер усы и бороду. Только тут он изобразил на лице удивление, будто только что увидел Ярополка.
— Ну, ну, ты — ступай, — отослал он Прокшу, а Ярополку приветливо предложил сесть с собою рядом на лавку.
Ярополк не сел, продолжал молча стоять у порога.
— Постой, постой, коли охота, — медленно прикрыв тонким и белым, как у воробья, веком один глаз, проговорил Глеб.
Ярополк спросил:
— Слыхал я, гонец был из Москвы?
— Был гонец, — кивнул Глеб. — А что гонец?.. Гонцы, что ни день, в терему. На то они и гонцы…
— Молчи! — налившись кровью, неожиданно выкрикнул Ярополк. Но тут же и сам почувствовал, что в голосе его нет достаточной твердости.
Глеб заметил это. Он вскочил с лавки, босыми ногами прошелся по половицам, оставляя за собой разлапистые мокрые следы. Остановившись перед Ярополком, плотно придвинул к нему свое лицо.
— Молод ты покрикивать-то, — проговорил он, тяжело, с надрывом выталкивая слова, сухие, как семечная шелуха. — Ежели и гонец… не к тебе он… Мой гонец.
— Ты у себя владыка, — сжав челюсти, сказал внезапно побледневший Ярополк.
Глеб поостыл. Он стоял перед Ярополком, опустив голову, и думал: «Волчонок. У волчонка еще острые зубы. Пусть живет. Хлебов, чай, хватит — брюхо не бездонное. Ну, а ежели что…»
«Лиса, — думал Ярополк, глядя на Глеба. — Боишься. Ждешь не дождешься, когда сам попаду в капкан…»
— Знать, дядья соскучились по тебе, — вдруг затвердев всем телом, хищно оскалился Глеб.
Ярополк вздрогнул. Что это? Или Глеб читает его мысли?!
В сенях надсадно гудели большие мухи. Глеб вернулся к лавке, сел, опустил ноги в лохань.
— Ты нынче зря отказался от охоты, — не подымая глаз, сказал он Ярополку, — загнали лося…
— Обойдется, — через силу выдавил Ярополк жалкую улыбку.
Они долго молчали. Потом Глеб стал рассказывать об охоте, но слова убегали от него, в прикрытых глазах наливалась истома. Это действовал настой лягушечника. Речь князя становилась все бессвязнее и вскоре сменилась спокойным посапыванием…
3
Течет на юг, извивается среди лесов река Москва. Берега ее поросли серебристыми ивами, на пригорках, будто церковные свечи, вскинулись красноватые сосны, по заболоченным низинам разрослась ольха.
Яким Кучкович оттолкнулся веслом от берега, не удержал равновесия и плюхнулся на дно долбленки. Долбленку замотало из стороны в сторону, вода захлюпала, наливаясь через края, но Яким встал на колено, махнул веслом раз, махнул другой и выровнял лодку. Выскользнув из заводи, она угодила в крутое течение и понеслась вниз, вслед за своей рассеченной волнами тенью.
Вот уже больше года живут Яким с сестрой Улитой да с зятем своим Петром в небольшой усадьбе на берегу Москвы-реки, живут, выжидают. Первое время и глаз в Москву не показывали, а теперь понемногу осмелели: время прошло, следы-дорожки поросли травой, забылось содеянное. Раньше, бывало, Улиту не то что в город — на пасеку не упросишь сходить; теперь же прихорашивается, часами просиживает перед зеркалом, томно вздыхает. Жениха бы жене бывшей Андреевой, княгине Кучковне, доброго малого. А в лесу какой жених?
— Не о том ты, сестрица, думаешь, не туда мысли свои поворотила, — упрекал ее Яким. — Скоро забыла наше кровавое дело. Аль все грехи замолила?..
— Век мне грехи-то замаливать? — передергивала Улита плечиком. — Люди о нас позабыли, пора и нам про свое забыть…
— Погоди, забыли ли? — зловещим шепотом останавливал ее Яким. — А Михалка? А Всеволод? Вот сядут на стол — тогда уж нам петля…
— Когда-то сядут, — отмахивалась сестра.
Над ее лежанкой на полке — приготовленные старухами снадобья: настой из корней лопуха с ноготками и шишками хмеля — от выпадания волос; для чистоты лица — отвар будры со змеиной травой.
Глядя на Улиту, дивился Яким — короток у сестрицы ум. Давно ли рвалась она из возка, кричала и плакала, как в спешке увозили ее из Боголюбова от всеобщего гнева, от справедливого возмездия?..
Страшная была накануне ночь. Вовек ее не позабыть. Перед тем как свершить задуманное, заговорщики собрались у ключника Андреева Анбала, пили меды, разжигали в себе ненависть пылкими разговорами. Пуще всех старался чернявый да верткий, как таракан, иудей Ефрем Моизич. Завидовал Ефрем Прокопию, Андрееву любимцу; ненависть свою к Прокопию перенес на князя; забыл, как пригрел и обласкал его Андрей, когда появился он в Боголюбове, после того как ограбили его на Волге новгородские зипунники.
У бояр были с князем свои счеты. Строг был князь. Многое простилось ему, но не простилась смерть старшего Кучковича, брата Андреевой жены.
— Нынче казнил он Кучковича, а завтра казнит и нас, — говорили, бояре, — так поразмыслим об этом князе!
Пили бояре меды, стучали кулаками в столешницу, а, как ни уговаривал их Анбал, в Андрееву ложницу идти не решались.
— Да без меча он, — говорил Анбал, — Меч-то я у него выкрал. И Прокопия нет. Спит он с дитем малым, служкой своим. Самое время кончать…
Петр был трезвее Якима. Он встал, перепоясался мечом и, подняв с лавки совсем ослабевшего Якима, велел Анбалу вести их к князю. Ефрем Моизич, вздрагивая от страха, пошел за ними.
Поднявшись по крутой лестнице на сени, Анбал толкнул дверь в княжескую ложницу. Но она была заперта изнутри. Ефрем постучал.
— Кто там? — сонным голосом спросил князь.
— Прокопий, — ответил Анбал.
За дверью шептались. Анбал чуть помешкал и нажал плечом. Дверь затрещала, но не поддалась. Тогда навалились все четверо. Сорвали петли. С факелом в одной руке и мечом в другой Петр бросился к князю. Андрей увернулся от удара, но его стерегло Анбалово копье. Раненый князь упал на ковер, увлекая за собой Якима.
— Бей его, бей! — кричал Яким.
Петр прыгал вокруг них, размахивая мечом, но не решался ударить, боясь попасть в своего. Наконец Яким вырвался из объятий князя и откатился в сторону; Андрей приподнялся на колени, и Петр опустил меч ему на плечо. Плечо хрустнуло, меч ушел в мягкое. Князь вскрикнул и упал.
Толкая друг друга, убийцы попятились к порогу. В ложнице закричал мальчик. Взяв у ключника копье, Ефрем вернулся в ложницу, и скоро крик оборвался. Толкая друг друга, заговорщики бросились в переход. Но, вместо того чтобы спуститься во двор, они вышли на полати собора. В соборе было тихо, пахло теплым ладаном, пред сумеречными ликами святых теплились негасимые лампады…
Все это Яким помнил хорошо. Помнил он и то, как они снова заглянули в ложницу. У самого порога лежало бездыханное тело мальчика, но князя не было, князь исчез!.. Они переглянулись: неужто жив?..
Но отчего тогда на полу, на каменных плитах черные сгустки крови?..
Следы привели их под лестницу. Там кто-то ворочался и храпел. Подняв над собой факел, Яким увидел князя. Придерживая повисшую руку, Андрей сидел на камне и смотрел на него пронзительными глазами.
— Нечестивцы, — сухим ртом произнес князь, — какое зло я вам сделал? Или хотите повторить то же, что Горясер?.. Бог отомстит вам за мой хлеб.
Стоявший рядом Петр, зажмурившись, сунул меч во тьму. Анбал ударил князя копьем.
Потом они убили Прокопия, пошли на сени, из ларей вынули золото, дорогие камни, жемчуг и ткани, погрузили на лошадей и до света отослали к себе по домам.
Все, что было после этого, походило на сон. Приходили и уходили какие-то люди, кто-то кричал во дворе, ночью в свете факелов метались по стенам чьи-то чужие тени. Утром пришел Анбал в заляпанных грязью сапогах, сказал, что слышал на дороге неясный шум.
— Много людей идет в Боголюбово. Ой как много идет людей…
Яким приказал закладывать возок. Улита была одета.
По проселкам, по другой стороне Клязьмы, минуя Владимир, беглецы выбрались на московскую дорогу. Останавливаться в самой Москве они тоже побоялись, тем же днем отплыли на лодиях в свою усадьбу за болотами, за дремучими лесами. Чем дальше, тем спокойнее — не сразу хватятся, а хватятся — так не сразу разыщут…
Разные слухи доходили до Кучковичей: все пути-дороги в Ростово-Суздальские земли лежат через Москву. Знали Кучковичи о бегстве Михалки из Владимира, знали о победе молодых Ростиславичей, а вот о том, что Ярополк с Мстиславом разбиты на Болоховом поле, не слышали, потому что больше месяца уже не наезжали в Москву. Жили смутными надеждами: за Ростиславичей-де все ростовское боярство, ни за что Юрьевичам с ними не совладать. Так им хотелось, на то и уповали.
Потому-то и воспряла Улита, потому-то и расцвела, хоть солнышко и не к весне, а к снегу.
А зарев шел по лесу с грибами и ягодами. Все обильнее и обильнее становились росы по утрам: олень уж обмакнул копыто в воду. Рожь убрали мужики, пора и за озими приниматься, а Кучковичи, будто крысы, из норы своей носа не высунут. Ну что как подумают холопы, будто нет у них больше хозяев, да боярское-то добро — в свои сусеки?!
— Проедусь-ка я, погляжу, что да как, — сказал Яким и стал собираться в дорогу. Одежку взял ту, которая получше, не забыл и лук со стрелами, и меч, и сеть, — глядишь, пригодится ершиков к ужину наловить. В провожатые взял садовника Ерку, молчаливого, обросшего глухой шерстью мужика, не мужика — медведя. Да и сам-то Яким был не лучше Ерки — тоже лохматый да черный будто головешка.
Раненько поутру выбрались они из заводи, но на быстрину заплывать не стали, погребли поближе к бережку, тихо да мирно, так как спешить им было некуда. Яким, он самый осторожный был; Петр — тот горячка, а старшой всех задиристей оказался, оттого и сложил свою голову. А ежели бы вот так, неторопливо, с умом, то и до крови бы не дошло, а были бы Кучковичи самыми первыми боярами в Ростово-Суздальской земле. Вот и ладно бы, а на большее им ли замахиваться? Хоть и древен род Кучковичей, да не княжеских кровей…
К полудню река раздалась, на левом берегу показалась деревня Запольная — тоже Кучково гнездо. В Запольной дым стоял коромыслом. Из-под низкого берега было видно, как бабы со всех концов тянулись за околицу. Яким вспомнил: да ведь какое нынче число? Должно, на жнивы бабоньки собрались. Он приказал Ерке грести к мосткам, нетерпеливо выпрыгнул на скользкие доски, беглым шагом взобрался на пригорок. Здесь под расщепленным молнией корявым дубом сидел белоголовый старик. Не сразу признал в нем Яким церковного старосту Агапия. Да и Агапий не разглядел боярина, а разглядев, скользнул на колени, заелозил у Якимовых ног:
— Прости меня, боярин, совсем слепнуть стал. В псалтирь уже целый год не заглядывал…
— Ну-ну, — кивнул Яким, с удовлетворением отмечая, что люди покорны, как и прежде. — А где же мой староста?
— На жнивах, поди. Где же ему еще быть?!
— Поглядеть разве?
— Погляди, батюшка, погляди, — часто кланяясь боярину в спину, прошепелявил Агапий.
Яким с детства любил народные праздники, оттого и не спешил в село; по узкой тропочке, вьющейся через чертополох и репейник, свернул в поле. Присев под березами на корточки, стал наблюдать за бабами. Долго томился Яким в добровольном изгнании. И ощущение власти над людьми, вернувшееся к нему с новой силой после разговора с Агапием, доставляло особую радость. «Пусть себе поиграют, а я погляжу», — благодушно подумал он.
Жнивы в зарев заклинали в русских деревнях каждый год: бытовало поверье, будто это помогает изгнать поселившуюся на полях нечистую силу, которая может попортить скот. Бабы вразброд шли по полю, прижимая к груди горшки с льняным маслом. Время от времени они останавливались и, заклиная, лили на землю масло:
— Мать сыра-земля! Уйми ты всяку гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела…
Понравилось Якиму в Запольной, остался он ночевать у старосты. Не выбрался от него и на следующий день. Угощал его староста медами да сытой, а еще приглянулась Якиму старостова дочь Ульяна.
Только к концу недели приплыл он с Еркой в Москву, оставил лодку у причала и, прихватив суму, пошатываясь с похмелья и от приятной слабости в ногах, направился прямехонько к огнищанину Петряте. Не знал Яким, что Петряты давно уже нет в живых.
4
А у Петряты покойного в избе стоял в ту пору князь Всеволод. На перилах крыльца, поигрывая плеточкой, сидел молодой воин, лузгал орехи, жмурился, как кот, на солнышке.
— Откуда и куда путь держишь, дяденька? — миролюбиво спросил он Кучковича.
— Откуда путь держу, то богу известно, — спокойно отвечал Яким, — а куда — не твое дело.
Воин благодушно улыбнулся и не стал перечить Якиму, только напутствовал его:
— Ступай, ступай. Хозяин-то заждался, поди.
Перепрыгнул Яким через ступеньку и — к двери. Ерка тоже потащился за ним.
— А тебе, мил человек, какая в избе забота? — оттер его плечом воин.
Поглядев на его крепкую шею, на богато украшенную рукоять его меча, Ерка ссору затевать не стал, покорно сел под крыльцом на дубовую колоду.
Смутно тревожась, Яким ткнул носком сапога двери и вошел в темный переход. В переходе пахло нежилым, но из горницы доносились голоса. Что-то раньше редко случалось, чтобы собирались у Петряты гости. Так подумал Яким, но задерживаться не стал, а, низко пригнувшись, чтобы не задеть дверную притолоку, вступил в горницу.
В горнице было много народу — лица все молодые, веселые. Кольчуги и оружие брошены на лавки, на столе — куски мяса, сочиво, ковш с медом. Во главе стола, под образами, сидел очень знакомый обличьем, кучерявый светловолосый дружинник с пушистой бородкой, с сочными красными губами и голубым ясным взглядом. Судя по всему, на пиру он был за старшего, а огнищанина Петряты нигде не видать.
Все обернулись в сторону вошедшего Якима, но не удивились; тот, что был за старшего, пригласил его к столу.
— Дорогому гостю, боярину Якиму, почетное место, — сказал он нараспев и взглядом согнал с лавки сидевшего напротив парня. Тот тут же перебрался в угол; кто-то услужливо смахнул с лавки невидимые крошки хлеба.
«И с чего бы такая ласка от незнакомых людей?» — с удивлением подумал Яким, но от угощения не отказался, сняв шапку, перекрестил лоб и сел за стол. Тотчас же ему пододвинули глубокую мису и деревянную чару, расписанную красными и зелеными жар-птицами. Виночерпий, высокий, тонконогий, с длинным, как у журавля, носом, плеснув в кубок Якима густого меду, плеснул меду и в кубок старшого.
— Выпей, Яким, выпей и закуси с дороги, — сказал старшой, и все, как-то настороженно замолчавшие было после приглашения старшого, услышав эти слова, загадочно заулыбались.
Яким выпил свою чару до дна, закусил огурчиком. Похрумкал огурчиком и старшой. Низко склонившись над мисами, все ели мясо.
— Поешь и ты мяса, Яким, — повелительно сказал старшой и пододвинул к нему блюдо. — Выпей еще меду…
Якима передернуло. С чего это старшой приказывает? Кто он такой? Почему не называет себя, а на крыльцо посадил воина с нахальным взглядом?..
И тут Яким похолодел от неожиданно пришедшей на ум простой и ясной мысли: пронадеялись они в лесу, прокукарекали, а во Владимире на стол снова сели Юрьевичи.
Старшой, посмеиваясь, разговаривал с виночерпием:
— Ты налей ему, налей. И князю не скупись. Налей и князю. Вишь, какая птица к нам залетела. Пшеном не заманивали, силки не ставили. Сама, по своей воле…
— Всеволод Юрьевич, князь! — закричал, вдруг совсем прозрев, Яким и скатился с лавки под стол — на колени. — Не губи, князь, дай вину искупить.
По едва заметному знаку Всеволода один из воев вынул из кучи оружия на лавке меч и осторожно отошел к двери. Остальные встали за спиной боярина.
— Не губи, князь! — совсем одурев от страха, бормотал еще недавно такой неприступный и надменный Яким. — Я ведь не сам, я ведь как все… Смилуйся!
Он вцепился в полы Всеволодовой рубахи, но тот брезгливо отстранился от него, будто коснулся нечистого.
— Руки-то… Руки-то — в крови, — сказал он.
Яким вздрогнул, осел на пол грудой старого тряпья.
— Вяжите его, — приказал Всеволод.
На Якима тотчас же навалились вои, скрутили его, выволокли и сбросили с крыльца огнищаниновой избы.
— Батюшки, да что же это деется, а? — запричитал Ерка, суетясь вокруг связанного хозяина. — Аль тати в избе? Куды ж это мы с тобой попали, боярин?
Яким, сморщившись, разинул слипшийся рот.
— Пропали мы, Ерка, — только и вымолвил он.
Вечером Якима допросил Михалка. Ночь боярин провел в темнице, а утром его усадили в лодию и велели указывать путь к тому месту, где скрывались Кучковичи. Приставили к Якиму Давыдку с воями.
— Ежели сбежит али вернешься без убийц, в Москву путь тебе заказан, — предупредил дружинника Михалка.
— Не сбежит, — пообещал ему Давыдка, пятясь, вышел из избы.
Крепко запомнил он этот разговор, понимал: важное дело поручил ему князь, и от того, как выполнит он порученное, многое исполнится или прахом пойдет в его жизни… Потому и не спускал Давыдка с Якима глаз, потому и ходил за ним будто тень. Усмехался Яким:
— Стража у меня как у цесаря.
— По Сеньке и шапка, — отвечал Давыдка.
На юг плыть было труднее — приходилось грести против течения. Да и ветер утих, едва полоскал обвисшие паруса. Давыдка волновался, Яким же, казалось, радовался невольной задержке: что ни говори, а ему-то спешить некуда, разве что только к смерти. Но смерть подождет — ей и так, поди, хватает работы…
К вечеру прошел тихий дождь. Люди накрылись полотнищами парусов, кожаными круглыми щитами. Давыдка и Яким спрятались в лодейной избе. В избе было тесно, но все как в настоящей горнице: и волоковые оконца, и лавки по стенам, и стол, и образа в красном куту. Разве только печи не было и яства готовились прямо на палубе, на камнях, поверх которых раскидывался костер. Шла лодия, дымился костерок, в котле поспевала уха….
Дождь барабанил по крыше избы, фитилек в лампадке под образами вздрагивал и выхватывал из тьмы то грустные глаза, то бороду святого.
Глядя на святого, Яким перекрестился; вспомнил, как в ту роковую ночь, заплутав, зашли они на полати собора, как гулко раздавались под пустыми сводами их шаги и как потом, во мраке, повисли маленькие светящиеся точки и за ними выплыли темные лица, скорбные глаза, страдальчески поджатые губы святых.
Давыдка толкнул его в плечо.
— Никак, задремал, боярин?
— Да разве в такую непогодь уснешь?..
Они разговаривали так, будто случайно оказались на одной лодие и через час-другой или утром, на зорьке, расстанутся и больше никогда не увидят друг друга.
Давыдка открыл дверь, и в избу ворвалась струя посвежевшего от дождя резкого речного воздуха. Дождь ударял в палубу и пузырился на гладко выструганных досках, костер едко дымился, шипел и подбрасывал над головами сидящих вокруг него людей красные искры.
Быстро темнело. Берега, и так едва заметные из-за плотной пелены дождя, теперь отступили еще дальше. Скоро их совсем не стало видно. Нос лодии тоже завяз во тьме. Костер потух.
Удары в обрубок меча, подвешенного к мачте, возвестили об ужине. Один за другим вои потянулись на корму, откуда давно уже доносило вкусный запах еды.
На ночь Давыдка велел пристать к берегу. Яким заверил его, что до места недалеко и если тронуться с рассветом, то к полудню уже будут в Осиновке.
5
Петр нес дровишки для печи и увидел приставшую к берегу лодию. Вторая лодия разворачивалась на быстрине. Побледнев, Петр выронил дрова, хотел бежать, да ноги онемели. Так он и стоял на крыльце, будто вкопанный, и ждал, когда подойдут вои. Впереди воев вышагивал Яким, рядом с ним — Давыдка. Шли, разговаривали между собой, будто хорошо знакомые. У Якима, хоть и говорит спокойно, а лицо судорогой передернуло, глаз прыгает — не закрыть.
— Встречай, Петр, дорогих гостей.
— Встречай, привечай, блины на стол выставляй, — подхватил Давыдка.
— Гости-то несчитанные, — с трудом ворочая языком, отозвался Петр.
— Рад не рад, а говори: милости просим!
Услышав топот на крыльце и говор множества людей, из горницы выкрикнула Улита:
— Ой, кто там?
— Гости…
Вошли шумно, наследили на выскобленных половицах. Улита уж было набросилась на вошедших, да вовремя смекнула, что не мужики пожаловали в Осиновку. У Петра лицо белее мела, Яким совсем обмяк, как мешок. Посмотрела на Давыдку и по глазам его все поняла, без сил опустилась на лавку.
— Каково испечешь, таково и съешь, — сказал Давыдка. — Собирайся ответ держать, княгинюшка…
— Да как же это?.. Да отчего же так-то? — прошептала Улита серыми губами. — Ведь столько уж времени-то прошло. Думала — забыли…
— Доброе дело никогда не забудется, — ответил Давыдка.
Улита засуетилась, принесла из ложницы мешок, стала складывать в него сарафаны, да сапожки, да платки вышивные. Ничего этого брать с собой Давыдка не велел:
— Все равно не сгодится.
— Да ведь к осени, — робко возразил Петр.
Но Давыдка оборвал его:
— Долго не протомитесь. А ежели замерзнете, огоньку сыщем — горяченького, с угольками…
Догадался Петр, про какой огонек говорит Давыдка, покачал головой.
— Негоже над горем чужим смеяться…
— А ты сам посмейся.
Радовался князь Михалка, что Кучковичей изловил, Всеволод хвалил Давыдку, дружинникам велел выставить меду.
Вечером ждали князья послов от Глеба Рязанского. За полдень прискакал с дороги дозорный, крикнул, выскальзывая из седла:
— Вислобрюхие рязанцы обозами скрипят!
Михалка улыбнулся:
— Испугался Глебушка. Да оно и лучше так-то: ни к чему кровь проливать. Да и рязанцы не половцы. Тоже нашего, русского, корня…
Но только к вечеру показались рязанские возы у переправы за рекой. Солнышко склонялось за городницы, окунало на ночь лучи свои в студеную воду. А когда поднялся обоз к городским воротам, совсем стемнело. В город его Михалка не велел пускать, приказал ворота держать закрытыми, а выслал навстречу рязанцам конных воев, чтобы указать им место для ночлега — за посадом, на отлогом берегу Неглинной.
Вои в точности исполнили приказ своего князя: окружив обоз, с гиканьем и криками погнали его снова под гору. Рязанцы негодовали:
— Не тати мы, послы князя Глеба.
— А нам что Глеб, что не Глеб. Наш князь — Михалка. Он нам и указ, — отвечали владимирцы.
Ворча, рязанцы повернули коней. Не такого приема ждали они от владимирского князя.
Больше всех негодовал рязанский боярин Онисифор. Это его отрядил Глеб на переговоры с Михалкой. Не впервой выполнял Онисифор трудное князево поручение — бывал он и в Чернигове, и в Киеве, и в Холме, но нигде не гнали его взашей, всюду встречали с почетом…
— А ты, батюшка, шибко-то не серчай, — успокаивал приставленный к нему для разной надобности расстрига Вирик. — В какой народ попадешь — такую и шапку наденешь.
— Дурак, — обрывал его Онисифор. — Честь головою оберегают.
— Не суйся ижица наперед аза, — в тон ему откликался Вирик.
— Ах ты, чертова мельница! — схватился боярин за посох.
В тишине у реки хрумкали сеном кони, шепотом переговаривались вои. Боярин с беспокойством подумал об иконе и Борисове мече, покряхтывая, вылез из возка, размял ноги. Вечерами, особенно возле воды, было уже прохладно. Онисифор запахнул полы кафтана, осторожно двинулся в темноту. На взгорке, за кустами, маячили на светлом небе очертания всадников. «Стерегут, — подумал Онисифор. — Будто пленных, стерегут…»
Еще в Рязани икона Владимирской божьей матери и Борисов меч уложены были в лари, обернуты в козий мягкий пух. Везли их в самой середине обоза, в возке, крытом плотной рогожей. Князь Глеб предупреждал:
— Ты, Онисифор, держи ухо востро. Разные люди встречаются на дороге. Есть разбойные, а есть и такие, что хуже всякого татя. Икону довези в целости. Сам сгинь, а икону довези. В ней наша судьба. Вернем икону — не пойдет Михалка на Рязань, не вернем — худо будет. Нет у нас нынче такой силы, чтобы устоять супротив Владимира…
Онисифор ласково погладил лари: «Здесь она, здесь…»
Тут с горы, от крепостных ворот, вороновым крылом пронесся всадник. Исчез за пригорком, вынырнул снова и снова исчез. Рязанцы сгрудились у обоза, загремели мечами и копьями.
— Эй, не балуй! — раздался веселый голос.
— А ты отколь будешь? — спросил всадника Вирик. — Эка растоптался середь ночи…
— От князя я к вашему боярину, — бойко отвечал всадник. — Приглашает светлый князь боярина к себе в терем для беседы.
— Боярин! Боярин! — закричали вои.
— Вот я, — сказал Онисифор, выходя на поляну из-за возов. — Что расшумелись?
— Тебя князь Михалка кличет.
Вирик поймал пасшегося на луговине у реки боярского коня, оседлал его, подвел к Онисифору.
— Ну, — сказал Вирик, — счастливому и промеж пальцев вязнет.
Сопровождавший Онисифора вой был говорун и шутник. По дороге выспрашивал:
— А что, и впрямь рязанцы мешком солнышко ловят, блинами избу конопатят?..
Онисифор отмалчивался. Скоро въехали в город.
У огнищаниновой избы стояли люди с факелами, блестели глазами привязанные к частоколу кони. Онисифорова коня тоже услужливо отвели и привязали к частоколу. Вой проводил боярина до избы, пропустил вперед себя в сени. В сенях спали люди — на лавках и на полу. За пестротканой занавеской кто-то двигался, бормоча молитвы. Вой остановился у занавески, покашлял и громко сказал:
— Князь, боярин Онисифор ждет тебя.
За занавеской шаркнуло, кто-то заохал, и вслед за этим твердый голос сказал:
— Войди, боярин.
Онисифор раньше никогда не встречался с Михалкой. Отчужденное, по-неземному печальное выражение глаз князя поразило его. Лицом Михалка был худ, твердые, обтянутые кожей скулы угадывались даже под бородой, покатый лоб перерезали глубокие, почти старческие морщины. Князь сидел сгорбившись на лавке, застланной медвежьей шкурой; на столе перед ним догорала оплывшая свеча, под свечой в колеблющемся круге света лежала толстая книга в кожаном переплете с серебряными потускневшими застежками.
— Светлому князю, — низко поклонился Михалке боярин.
Губы князя изобразили подобие улыбки, сухая ладонь указала Онисифору на лавку под тесной лесенкой, ведущей наверх, в светелку. Под лесенкой воняло клопами; боярин поморщился и чихнул.
— Здоров ли, батюшка? — заботливо осведомился у него Михалка. — Как доехал? Не чинили ли тебе каких препятствий?
— Спасибо, светлый князь, за твою заботу, — ответил, почтительно склонившись, Онисифор. — Я здоров. А доехали мы хорошо. И препятствий нам твои люди никаких не чинили.
— А как здравствует брат наш, князь Глеб? Здоров ли?
— Князь Глеб здоров и шлет тебе поклон, — привычно ответил боярин.
Это были обычные слова, неписаные установления, соблюдаемые при приеме послов. Настоящего разговора еще не состоялось. Онисифор ждал. За пазухой у него было письмо от Глеба, но Михалка должен был сам спросить его о письме, и только после этого Онисифору надлежало передать пергамент князю.
Но князь не спешил, он неторопливо выспрашивал Онисифора о разных разностях, интересовался урожаем, рыбной ловлей и охотой.
— Богато, привольно живет Глеб, — говорил он со значением. — Не то что мы, богомазы да каменщики…
— Тебе ли жаловаться, князь, — вздохнул боярин.
Михалка встрепенулся, на миг его постное лицо осветилось озорной улыбкой.
— Аль не по нутру тебе с поклоном-то ездить, боярин?
— Не по нутру, батюшка, — согласился Онисифор.
Глаза Михалки снова посуровели. Он отодвинул локтем книгу и, не глядя на Онисифора, неожиданно резко произнес:
— Не моя в том вина, боярин. Мне чужого не надо. А у Глеба, ты уж слушай, боярин, — у Глеба кабы брюхо из семи овчин, все один бы съел…
Онисифор хотел было возразить — о бидно стало за князя! — даже рот открыл, да промолчал: вовремя вспомнил наставления Глеба: в спор с Михалкой не вступать, гневу волю не давать; пущай покуражится.
— Тебе виднее, князь, — переборов себя, проговорил Онисифор.
Михалка кивнул.
— Посильна беда со смехами, а невмочь беда со слезами. Давай-ка, боярин, составим с тобой такой уговор. Я не вор, чужого не брал. Икону и меч Борисов из-под полы не приму. Соберу заутра воев на площади перед собором, созову народ, сам сяду на красном крыльце, а ты мне тут со всем обрядом, да с лестными словами, да с князевой полюбовной грамоткой все и вернешь, положишь к ногам, а там гуляй в свою Рязань. Глебу передашь, что зла на него не держу, но творить что-либо супротив себя не позволю.
И чтоб шурьев не привечал, а приветит — он мой обычай знает…
Князь поперхнулся, закашлялся, пряча губы в пушистый воротник шубы, замолчал.
Хоть и коротко сказал Михалка, а яснее не скажешь. Понял Онисифор, что пришла пора прощаться. Встал, снова низко поклонился князю.
— Прощай, князь-батюшка.
Глядя через пламя свечи усталыми красными глазами, Михалка кивнул ему. Помолчав, еще раз напомнил:
— Всем обрядом чтобы — с лестными словами да с грамоткой…
На крыльце, на свежем воздухе, нанесенном с реки, у Онисифора закружилась голова. Долго стоял он, прижимаясь грудью к перильцам, думал, глядя в темноту: «Нет, этот орешек Глебу не по зубам».
Как ни изворачивался Онисифор, а княжью волю нарушить не посмел. Все исполнил, как наказал ему Михалка.
На горе, у избы огнищанина, шел пир. На столах высились пузатые жбаны; все пили из больших деревянных чаш, окованных серебром и медью. Михалка пил из позолоченного турьего рога. В стороне от столов над жаркими кострами, вокруг которых суетились сокалчие, клокотали высокие медяницы.
Онисифор сидел рядом с князем; позади боярина за лавкой вертелся расстрига Вирик, подсказывал боярину на ухо нужные слова, за то Онисифор не жалел для него ни вина, ни меда.
Пьяные владимирцы и рязанцы лобызали друг друга; иные, обнявшись, лежали тут же под столами…
— Мир! Мир! Мир! — скакали по дорогам расторопные биричи.
6
С чувством разлитой по всему телу легкости пробудился Михалка в своей ложнице, поглядел на оконце: в оконце пробивался тонкий лучик света, ровной полоской рассекал ложницу надвое. Пока Михалка лежал с открытыми глазами, лучик передвинулся к двери, коснулся порога и пополз к косяку.
Михалка зевнул, перевернулся на другой бок и попытался снова заснуть, но сон отгоняло все то же ощущение легкости во всем теле, которое еще прежде этого пробудило его ото сна.
Тихо было в сенях и палатах, только из клетей слабо доносились приглушенные расстоянием женские голоса. Кто-то громко закашлял в холодной горнице — повалуше.
Михалка снова повернулся лицом к двери и прислушался. С чего бы это?.. Будто только сегодня свалилось с него тяжкое бремя.
«Неладно, неладно, князь», — пожурил себя Михалка и через силу поднялся с лавки. Натягивая на исподнее алтабасные штаны, он снова задумался: как-то пробудились нынче бояре?
Ему захотелось тотчас же повидать протопопа Микулицу, и он кликнул постельничего. Постельничий позвал гридня и передал ему поручение князя, а сам помог Михалке одеться: застегнул пуговки на рубахе, накинул на рубаху кафтан с длинными обористыми рукавами, рукава перетянул тесмяными зарукавьями, украшенными жемчугом и каменьями.
Нелегкий выдался вчера у Михалки день. Долго боялся задуманного и откладывал князь, а решившись, шел, не отступая, до конца. Только Всеволод и знал, для чего собрал брат у себя в сенях именитых бояр. Велел привести и Кучковичей, усадил их среди прочих на лавку. Недоумевали бояре, переглядывались: за что же это Кучковичам, Андреевым убийцам, такая честь?..
Наблюдая недоуменных бояр, всматриваясь в засветившиеся надеждой глаза Якима и Петра, Михалка вспомнил сказанное Микулицей: «Конь тучен, яко враг, сапает на господина своего…» Ну, бояре!
Когда все расселись и в сенях установилась тишина, Михалка сказал:
— Хвалите вы меня, бояре, за то, что я волости и доходы, по смерти Андреевой отнятые, возвратил и обиженных оборонил. Но ведаете, что доходы те дал Андрей, брат мой, а не я, однако ему благодарности своей не изъявляете и почтить память его не хотите. Али милости его премногие вам не по душе?
Тут бояре обеспокоенно зашевелились, загудели, перебивая друг друга нестройными голосами. Захария пуще других старался. Сидя теперь в самом дальнем от княжеского стольца углу, он все норовил выскочить вперед, показать свою преданность новому князю. «Ишь как, — подумал Михалка, — А Ярополку тоже надувал в уши всякую блажь. Прыток».
— Уставить князю Андрею вечное поминовение, — пророкотал сидевший рядом с Михалкой Микулица. Во всем черном, строгий и прямой, он походил на ворона. Михалка посмотрел на протопопа с доброй улыбкой.
— Мы же полагаемся на тебя, князь, — сладко проворковал Захария.
— Что тебе угодно, того мы все желаем, — говорили бояре, — и готовы исполнить без отрицания, и знаем, что князь Андрей по его добрым делам достоин вечной памяти и хвалы…
— Верно, — ухмыльнулся Михалка. — Да вот одного я не уразумею. Коли неправильно он убит, то почто убийцам не мстите?..
При этих словах князя кровь отхлынула от лица Якима Кучковича, а Петр отшатнулся да и замер так, словно прилип к стенке, — бледный, негнущийся, чужой.
— А ежели правильно, — спокойно продолжал Михалка, — то он недостоин похвалы и благодарения…
Хоть и тихо были сказаны, а тяжко упали Михалковы слова. Бояре опустили головы, задумались. И Михалка решил так; «Коли не уступят бояре, велю кликнуть дружину…»
Но бояре уступили. То здесь, то там послышались робкие голоса:
— Да мы что…
— Мы ведь как по правде…
— Правый суд не остуда.
— Воистину убит неправо, — сказали бояре.
Тогда Михалка поглядел на Всеволода, и Всеволод, поняв его, отстранился и хлопнул в ладоши. Тотчас же в сени вошел Давыдка с дружинниками и стал при всех вязать обмякших Кучковичей.
После этого в сени ввели Улиту. Увидев лежащих на полу, она все поняла и стала ползать по сеням, прося у князя и у каждого из бояр прощения и милости. Но бояре, подбирая полы ферязей, отворачивались от нее, а Михалка оттолкнул от себя Улиту ногой. Она упала на пол и затихла.
Тут за дверью послышалась возня, крики и глухие удары. Кто-то упал, двери распахнулись, и в сени втолкнули сильно избитого Анбала. За Анбалом ввели на веревке, перекинутой через шею, трясущегося и дурно пахнущего Ефрема Моизича. Давыдка высасывал кровь из пальца:
— Кусаются, гады.
Сдерживая подступающую тошноту, Михалка сглотнул вставший в горле комок и спокойно спросил:
— Как будем судить Андреевых убийц, бояре?
— Всех разом, — сказали бояре.
— Смертью, — сказали бояре.
— Да будет так, — подтвердил Михалка.
— Да будет так, — сказали все.
Тогда, будто разом пробудившись ото сна, Улита оборотилась к ликам святых в красном углу и стала горячо молится. Пока она молилась, осужденных не трогали. Когда же молитва была дочитана до конца, князь встал, встали все бояре, и дружинники поволокли убийц во двор. Там, перед всходом, собрали еще многих людей, повинных в заговоре. Их окружали плотным кольцом боголюбовские пешцы. Михалка с Всеволодом сели на приготовленные для них места, бояре столпились за их спинами.
Вои подвели к столбам Петра, Якима и Анбала, прикрутили их веревками и отошли в сторону. Тотчас же вышли вперед лучники и пустили в осужденных по стреле. Ефрема Моизича повесили на перекладине крыльца, остальным рубили мечами головы.
Ожидая своей очереди, Улита смотрела на князя оледеневшими глазами. Когда со всеми заговорщиками было покончено, взоры присутствующих обратились в ее сторону. Во дворе установилась тишина; слышно было, как вздрагивают, позвякивая сбруей, кони.
Потом из-за терема вынесли большой черный гроб, выдолбленный из единой лесины; вынесли и поставили его перед Улитой. При виде его онемевшая от страха Улита перекрестилась, вои бросили ее на землю, связали и положили в гроб.
В толпе послышались стоны и приглушенные причитания баб. Бирич, ударив в медное блюдо, нараспев объявил, что княгиня за ее особое коварство и жестокость будет заживо погребена в озере в гробу, наполненном каменьями.
Вои подняли гроб с Улитой, поставили его на сани, как это и положено было на похоронах, и отправились со двора.
Михалка не присутствовал при исполнении приговора. Он чувствовал себя разбитым. Даже Микулицу не допустил к себе после суда. Удалившись в ложницу, он упал на лавку и тотчас же заснул — крепко, без сновидений.
И вот он снова на ногах. Луч света играет на вощеных половицах, постельничий помогает князю одеться, а внизу, на кухне, жарят на вертеле мясо только что убитого молодого лося.
Дверь тихо отворилась, вошел отрок и, смиренно потупив глаза, сказал, что в сенях ждет князя протопоп Микулица..
— Пусть поднимется в горенку, — приказал Михалка.
7
Горенка, находившаяся над сенями с левой стороны дворца, была небольшой — в три узких волоковых оконца. Оконца глядели через частокол на Клязьму. А дальше за Клязьмой сурово синели уходившие далеко на юг леса. Часто, оставшись один, Михалка подымался сюда из ложницы по лесенке, украшенной резными перилами, отволакивал оконце и подолгу глядел в голубеющую даль, в самом конце которой в степях у подпирающих небо гор кочевали половецкие буйные орды. Там кончалась Русь — и все-таки она была велика: много лесов нужно пройти, проплыть по многим рекам… К югу от Владимира Муром да Рязань — не ахти какие великие княжества. К северу, за Переяславлем да Ростовом и до самого Дышучего моря, не встретишь русского человека. А места, сказывают, там богаты: много дичи, много пушнины. На запад от Владимира утвердился в верховьях Днепра Смоленск — тоже не очень крепко стоит, тоже заглядывает в рот владимирскому князю. Да и Новгород, оставшись без опольского хлебушка, низко поклонится Владимиру в ножки…
Странные мысли приходили Михалке на ум. Кутался он в суконную ферязь, глядел в оконце часами, думал. И лишь заходясь отчаянным кашлем, падал на лавку и глухо стонал — не столько от боли, сколько от жалости.
Чуял, чуял Михалка свой близкий конец, а сдаваться не хотел, ласкал и выхаживал заветную думу…
Не ошибся Михалка — верно угадал в Микулице родственную душу: протопоп тревожился тем же.
Михалка был человеком книжным. Много книг прочитал на своем веку и Микулица. Но знания свои протопоп черпал не только из книг — он хорошо знал жизнь. Не в княжеских усобицах — в общении с простыми людьми провел он свои молодые годы. И потому чувства его были чисты, а мысли ясны.
— Гляди, Михалка, — говорит Микулица. — Князь думает, а народ ведает. Брат твой Андрей глядел далеко. Отрекся от Киева, и верно: на что он ему? В Киеве он — князь среди князей, старший по роду, а не по могуществу. Умрет — станут княжить другие. И так без конца. Кому завещать землю свою?.. Во Владимире же он стал сам по себе, думу такую держал — понемногу объединить малые княжества, копить силу единую, а смерть придет — отдать все своему князю, а не пришлому. Своему — чтобы о ней радел, приумножал ее богатства, а не глядел по сторонам: где какой кусок пожирнее. Един бог на небе, един князь на земле… А коли все княжества станут вместе — какая сломит их нечисть?
Поспешая в горенку, Михалка радовался встрече с Микулицей. Гридню он велел завтрак подавать наверх. Увидев князя, Микулица встал, сложил руки на животе.
— Садись, садись, — скороговоркой произнес Михалка. Глаза его улыбались. Улыбнулся и Микулица. Сев, стал молча перебирать кипарисовые четки.
В переходе скрипнули половицы, слуги внесли еду и питье. Встав возле стола, они хотели прислужить, но Михалка движением руки отпустил их.
Прежде чем сесть с князем за стол, Микулица перекрестил еду. Он был угрюм и молчалив. То и дело морщины собирались в глубокие складки на его лбу.
— Отчего молчишь, отче? — спросил его Михалка.
Микулица ответил не сразу. По-крестьянски заботливо собрав крошки со стола на ладонь, он бросил их в рот, прожевал и только тогда неторопливо сказал:
— Многие беды сотворили Ростиславичи во Владимире. Не пожалели, осквернили и святыню нашу — церковь Успения, расхитили ее сокровища…
— Икону я вернул, — перебил его князь. — Вернул я и Борисов меч. И книги церкви тоже вернул. Что еще?
— Будь тогда справедлив до конца. Почто не вернул ты церкви отобранные у нее Ростиславичами угодья? Почто пользуются ими бояре-изменники, а ты молчишь? — сверкнул укоризненным взглядом Микулица.
— Угодья, принадлежащие церкви Успения божьей матери, а также монастырям, я возвращаю, — помедлив, проговорил князь. — Хотя сам и не вижу, зачем чернецам, посвятившим себя богу, столько земли и холопов.?
— То воля богова…
— А воля князева?
Михалка торжествовал. Он поймал Микулицу на слове. Так кто же над кем? Или церковь возьмет на себя право вершить и дела мирские? Не густо ли?!
— На князево мы не замышляем, — уклончиво ответил Микулица. — Но ежели хочешь власть свою крепить, скажу тебе так: от церкви не отворачивайся. Служителей ее не обижай.
«А ведь прав Микулица, — подумал Михалка, — Киев похваляется своим старшинством еще и потому, что в Киеве, а не во Владимире посажен митрополит. Рука церкви из Киева простерлась над всею Русью…»
— Не сохранит господь града — не сохранит ни стража, ни ограда, — неторопливо говорил протопоп. — Укрепив церковь, укрепишь и свою власть. Брат твой, князь Андрей, это понимал…
— Знаю, — оборвал его Михалка. — Человек без опоры — все равно что дикий зверь.
И тут огнем полыхнуло в глаза ему давнее, совсем уж почти забытое. Вспомнилось, как прижимала его к груди мать, как плясали по стенам терема кроваво-красные пятна огня. За стенами стучали топоры — это мужики, возглавляемые волхвом, подрубали столбы, на которых держались сени. На всходе дружинники яростно рубились с нападавшими.
Застывшее лицо матери было таким же, как вчера у Кучковны, — отрешенным, с остановившимися сухими глазами. Похолодевшие руки ее стиснули Михалку до боли; он барахтался и никак не мог высвободиться из ее объятий. Потом против оконца что-то затрещало и большой тенью повалилось вниз — это обрушились сени. Искры закружились перед окном, как февральская снежная метель, ворвались в ложницу, наполнив ее кислым запахом гари. Мать метнулась в угол, под образа, — маленький Михалка выскользнул из ее рук и бросился в переход, где, наседая друг на друга, хрипели одичавшие люди. Бородатые, измазанные кровью мужики сверкали длинными топорами, дружинники отбивались от них мечами, но мужиков было больше, они теснили воев, наваливая тело на тело. Михалка поскользнулся на крови, закричал и откатился в сторону. Перешагивая через него, мужики пошли дальше.
— Строгостью держится власть, а не единой мудростью, — сказал протопоп.
Михалка посмотрел на Микулицу невидящим взглядом.
Иногда протопоп пугал его своей проницательностью.
«А в Ростове сидит дряхлый епископ Леон и поет под боярскую дудочку, — подумал он с неприязнью. — И почему Леон сидит в Ростове, ежели Владимир — место княжеского стола?..»
Мысли беспокоят, мысли не дают излиться в буйной радости Михалкиному торжеству.
— Господи, продли дни мои, — истово молился Михалка во дворцовой церкви, — Дай, о господи, свершить задуманное.
И, стоя на полатях, много раз уже мысленно обращался он к брату своему Всеволоду. Ему одному, а не Юрию, сыну Андрея, передаст он с неустроенной землею и свои мятежные мысли. Всеволод должен понять, должно хватить ему мудрости удержать отцово, не развеять по ветру, не отдать на растерзание алчным князьям.
Микулица, разделяя княжескую грусть, долгим взглядом окидывал открывающиеся за оконцем бескрайние просторы. Что виделось ему вдали, какие мерещились времена?..
Михалка тяжело поднялся со скамьи, поплотнее укутал плечи ферязью. Уйдя в себя неулыбчивым взглядом, глухо сказал:
— А еще дарую церкви нашей угодья и земли, отъятые у казненных Андреевых убийц…
Глава вторая
1
Отлежавшись, как медведь в берлоге, в лесной, покинутой отшельником избе, уже больше месяца Нерадец не мог сколотить новую ватагу. Калики разбежались кто куда: иные подались в Москву, иные в Чернигов, а иные в Новгород. Хорошенько поразмыслив, Нерадец решил, что и ему путь один — в вольный Новгород, а в других местах лучше не показываться. В Новгороде легче сыскать нужных людишек, в Новгороде и князь — не голова, а без головы тело — все равно что лодка без весла. Это уж Нерадец знал по себе. Какая ватага не развалится без атамана? А нынче Новгород и вовсе без князя…
Из-под Москвы в Новгород путь был не близок и не прост. Лежал он северными реками да речушками, озерами да волоками — и все с гостями из разных неблизких мест. Тому золотишко дашь, другому, а иному только посулишь — и то ладно. Наскучило Нерадцу вихлять среди людей. С этаким-то кладом в поясе — да вместе с другими оборванцами натягивать на лодке паруса?!
Пришел он как-то на верхнем волоке в шатер к новгородскому гостю Войку Елизаровичу, поклонился ему и повел разговор издалека о том, как выгодно заниматься гостьбой и куда лучше всего податься с товаром: на север ли — к германцам, или на юг — к булгарам или бухарцам.
— А это по товару, — разомлев от обильного ужина, добродушно ответил ему Войк Елизарович. — Мы гостьбу ведем так: с севера везем то, чего нет в Булгарах, а из Булгар — товар, ходкий у нас, на севере… На то она и гостьба.
И, помолчав, добавил:
— Хороший товар сам себя хвалит. Цена по товару, и товар по цене… Сразу видно, что человек ты не наш. Аль всерьез решил заняться гостьбой?
— Решил, Войк Елизарович, решил, — смиренно проговорил Нерадец. — Да вот беда, не знаю, с чего начать?
— А начни с малого. Купи у меня булгарский ковер. Купишь у меня — в Новгороде продашь.
Так сказал Войк Елизарович, забавляясь беседой, а сам про себя подумал: откуда у этакого оборванца золотишко?
— Беру у тебя ковер, — вроде бы тоже шутя, подыгрывал ему Нерадец.
Войк Елизарович совсем развеселился:
— А чем платить будешь?
— Это уж не твоя забота. Называй цену.
Удивился Войк Елизарович да с удивленья-то и продешевил: назвал ту же цену, за которую взял ковер в Булгаре. Думал — шутит мужик, просто так от безделья забавляется. А Нерадец — бух ему из ладони увесистую гривну.
— А теперь как?.. Золото — тебе, ковер — мне. Ну, получится из меня гость?
Войк Елизарович поначалу обиделся, а потом рассмеялся:
— Ну и ловок ты, бес. Хочешь ко мне в помощники?.. В то, что золота у тебя много, я не верю. Зато знаю точно — голова на месте. По рукам?
— По рукам, Войк Елизарович!
Так Нерадец обосновался в лодейной избе хозяина. Войк Елизарович спал на лавке, а Нерадец — под лавкой, на собственном ворсистом ковре. Теперь он уже не натягивал паруса и не натирал себе руки веслом до кровавых мозолей. Войк Елизарович покрикивал на гребцов, покрикивал на гребцов и Нерадец. Весело, ходко шли лодии — Нерадца боялись, старались ему угодить… Скоро и хозяин почувствовал крепкую руку своего помощника. Уж и не радовался этакому приобретению, да что поделаешь: на лодиях распоряжался Нерадец, от Войка Елизаровича все нос поворотили. Что ни прикажет Войк Елизарович, бегут переспрашивать у Нерадца. Одного его только и слушались.
Скоро Войк Елизарович вообще перестал появляться на людях, перепоручил Нерадцу все свои заботы. Сам целыми днями и ночами валялся на лавке, спал или сидел, свесив босые ноги, на борту лодии.
Как-то утром, когда Войк Елизарович уж очень долго не показывался из избы, заглянул к нему лодейный староста. Хозяина не было в избе. Стали искать и кликать его повсюду. Так и не нашли. Будто в воду канул.
— А что, как и впрямь свалился за борт? — сказал Нерадец. Уж он-то точно знал, что Войкушка кормит рыб у Вышнего волока: сам скинул его в воду.
Выслушав Нерадца, лодейный староста почесал за ухом и вызвал сотника из охраны. Сотник тоже почесал за ухом, но ничего придумать не смог.
Тут кто-то сказал:
— А не оставить ли Нерадца за хозяина? Человек он толковый, с жилкой. Доведет нас до Новгорода, а там поглядим.
Нерадец пообещал сбежавшимся со всех лодий на берег мужикам, что волю их исполнит и лодии до Новгорода доведет. В Новгороде же всяк себе хозяин: хошь — оставайся с Нерадцем, а не хошь — ступай на все четыре стороны.
Предложение Нерадца мужикам понравилось — никто и спорить с ним не стал. Вернулся он с берега на головную лодию хозяином. И стал приглядываться, примеряться — кто пойдет, кто не пойдет в ватагу. С каликами Нерадец решил больше не связываться. В Новгороде народ лихой, вольный, калик не жалует, оборванцам не верит.
На последнем волоке Нерадец сказал мужикам:
— Вот что, мужики, скоро будем мы с вами в Новгороде. Старого вашего хозяина бог прибрал, к иному какому вы не пристали. Ежели у кого есть охота, приставай ко мне…
— Это к кому же — к тебе? — сказал кормчий. — Будто в ватагу набираешь?
— А коли и в ватагу? — осмелел Нерадец. — Видали, сколь у меня золота?..
— Видали!
Мужики нерешительно переминались, прятали друг от друга глаза. Чудно как-то получается. Сколько годов верой и правдой служили своему хозяину, а тут вмиг ничего не стало. Стоит у кормовой избы лихой мужик со шрамом во все лицо и соблазняет воровским ремеслом.
— А ты видал, как воров на площади кнутами бьют? — спросил один из мужиков.
— С твоим умом только в горохе сидеть, — весело отозвался Нерадец.
Все засмеялись.
— Так как же порешим, мужики? — вконец смелея, спросил Нерадец.
Мужики молчали.
— А что, как мы тебя — да посаднику с рук на руки? — сказал с ехидцей кормчий.
— Оно можно, — закивали мужики, обрадовавшись неожиданно найденному решению. И придвинулись к Нерадцу.
Сзади уже лихо кричали:
— Чо глядите? Вяжите его!..
Нерадец побледнел, сунул руку за пазуху, в ладони сверкнул острой сталью испытанный нож.
— Не помутясь, и море не уставится…
— Не жди мира.
— Бей его!
По венцам Нерадец ловко вспрыгнул на верх лодейной избы. Мужики побежали за шестами.
— Это он нашего Войка порешил! — кричали мужики. — Душегуб!..
Гребцы бросили весла, все столпились на сильно осевшей корме. Другие три лодии, ушедшие вперед, тоже стали разворачиваться, оттуда слышались крики и брань. С лодии на лодию перекликались:
— Об чем шум?
— Почто стоите?
Нерадец понял, что пора уносить ноги: рано или поздно, а мужики снимут его с избы. Да вот куда податься? Со всех сторон скалятся на него озлобленные хари. Только у самой кормы никого не видать.
Вступив назад, он повернулся к мужикам спиной, вскинул руки — и прыгнул в темную воду. Течение тут же подхватило его, повертело и отнесло к берегу. У берега было глубоко, в затишке темнели страшные омуты. Но Нерадец воды не боялся — плавал он хорошо. Нырнув, задержал дыхание и, в несколько гребков перемахнув через омут, ткнулся лицом в прибрежный песок.
На берегу было тихо, в траве стрекотали кузнечики.
Нерадец вскарабкался на бугорок, огляделся — купецкие лодии все дальше относило крутым течением. Мужики расходились с кормы, гребцы садились за весла.
«Знать, по судьбе моей бороной прошли», — невесело подумал Нерадец. Было ему от чего приуныть. Как мужики-то его!.. Знать, не с того краю взялся.
Но долго грустить да казнить себя Нерадец не умел. Не повезло здесь, повезет в другом месте, решил он и развел костер. Обсушившись, поискал в лесу ягод, пожевал их, чтобы утолить голод, и двинулся вдоль берега, зная наперед, что места здесь людные: рано или поздно, а набредет на человеческое жилье. И верно — к вечеру тропинка раздвинулась, и на краю широкой заводи показалась приземистая изба с тесовой крышей и высокой завалинкой. На завалинке сидела баба и трясла на руке ребенка. Во рту у ребенка торчала тряпица с жеваным хлебом.
Скинув шапку, Нерадец приветливо поздоровался с бабой.
— Хозяин-то дома ли?
— А где ж ему быть? Вот и хозяин, — сказала баба и указала рукой на заводь. Там, на бережку, большой и грязный мужик смолил лодку.
— Челом да об руку, — приветствовал Нерадец мужика. — Бог на помочь с силой!
— Твоей молитвой, как клюкой, подпираюсь, — сердито пробормотал мужик, подымая на Нерадца мутные глаза.
— Чего серчаешь? — улыбнулся Нерадец. — Аль обидел кто?
— Меня обидишь, — зловеще протянул мужик.
— Да в чем беда?
— А в том, что с завтрева идти мне по миру с женой и ребенком… Украл кто-то у старосты кобылу, а староста пожаловался на меня да послухов подговорил…
— Худо, — сказал Нерадец. Помолчав, спросил: — А лодка тебе для какой же надобности?
— Ишь, въедливый, — выпрямился мужик и провел рукавом рубахи по вспотевшему лбу. — На лодке пойдем мы в Новугород к боярину, пожалуемся на тиуна. Пущай рассудит.
— Боярин тя рассудит, — ухмыльнулся Нерадец.
— За правду бог.
— Ха, суд прямой, да судья кривой, — поддразнил мужика Нерадец. — Зовут-то тебя как?
— Мошкой кличут.
— А меня Нерадцем. Не судись, Мошка, помяни мое слово: тяжба — петля, суд — виселица. Давно я по земле хожу, много истоптал лаптей, а правого суда еще не встречал…
— Да сам-то ты откуда?
— Сам я человек вольный, — не стал таиться Нерадец. — Нет надо мной ни князя, ни боярина. Куда хочу, туда иду. А где и ножичком поиграю…
— Смелый ты, однако, мужик, — покачал головой Мошка. — Тут давеча купцы проплывали, не про тебя ли сказывали?
— Может, и про меня.
— Смелый, — повторил Мошка и, склонившись над лодкой, стал широкими взмахами тряпицы размазывать по днищу смолу.
Нерадец присел рядом на корточки. Когда мужик выпрямился, попросил у него тряпицу:
— Давай помогу. Уморился, поди…
2
То ныряя в резвые чешуйчатые волны, то выныривая, лодка шла вдоль берега, в тени склонившихся над водой серебристых ив. Мошка сидел на корме и греб рулевым веслом, на носу устроилась Мошкина баба, Прося, с ребенком, укутанным в холстину. Нерадец сидел посередине; ему была главная забота — работать в два весла. Нелегкая досталась ему должность на Мошкиной долбленке, а все равно на душе стало посветлее: хорошо они с вечера управились с Мошкой, крепким мужиком оказался его новый знакомый. А дело-то было не пустяковое: тиун при мече да отрок с копьем…
Нагрянули боярские прихвостни сразу после обеда, едва успел Нерадец последний раз скребнуть ложкой по дну миски. Дверь распахнулась от сильного толчка; заслоняя низкий проем, в избу ввалился тиун, злой с перепоя, горластый и толстый. Плюхнувшись на лавку, вытянул жирные ноги в заляпанных грязью сапогах, ощупал стоявшую возле стола Просю поросячьими похотливыми глазками:
— Сымай, хозяйка, сапоги!
Прося засуетилась, заохала, сунула ребеночка в люльку, опустилась перед тиуном на колени.
— Сымай, сымай, — поторапливал ее тиун. — А ты, Мошка, неси мне меду.
Смиренно сложив руки на животе, Мошка повинился тиуну:
— Нет у меня меду, батюшка. Сам видишь — бедно живем.
— Ну а коль нет, все едино ступай, — рявкнул тиун. — И ты ступай, — обратился он к Нерадцу. — Чего глаза пялишь?..
— И мне уйти, батюшка? — робко спросила уже скинувшая с него сапоги Прося.
— А ты останься, — приказал тиун. — Ты мне по надобности… Кшыть, кшыть! — погнал он мужиков.
Мужики вышли. У Мошки лицо перекосило от бессильной злобы.
За дверью послышалась возня. Баба причитала:
— Да что же ты, батюшка, делаешь?.. Побойся бога — дите ведь в люльке…
— Молчи, дура, — рычал тиун.
Мошка вдруг побледнел, схватил топор и, плечом выбив дверь, ввалился в избу. Не замахиваясь, ткнул топором в жирный тиунов затылок, раскроил его надвое…
Отроком занялся Нерадец. Сбив ничего не подозревавшего мальчонку с коня, он связал ему за спиной руки, перекинул через застреху петлю. Глядя на его приготовления, мальчонка ляскал зубами и тонко скулил.
— Будя скулить-то, — по-отечески наставительно сказал Нерадец, прилаживая петлю на тонкой шее. — За мамку помолись.
Побелевшими губами отрок шептал молитвы.
Из избы вышел Мошка, хмуро поглядел на Нерадца.
— Ты бы мальчонку-то пожалел, — сказал он, глядя в сторону помутневшими глазами.
— Не мальчонок — волчонок он, — отозвался Нерадец и, натужившись, повис на веревке. Другой конец веревки дернулся, легкое тело отрока взвилось под застреху и закачалось там, будто на ветру. Нерадец закрепил веревку за сучок и нагнал Мошку. Садясь в лодку, сказал:
— Брат брату — головой в уплату. Теперь мы с тобой, Мошка, одного поля ягода.
— Сам нож точит, а говорит: не бойсь, — буркнул Мошка. — Мальца я тебе не прощу.
— Перемелется — мука будет.
— Мальца помни, — повторил Мошка.
На долгий путь запасаясь терпением, долго зла у сердца не удержишь. Не день и не два плыли они по светлой реке. От восхода до захода солнца два раза приставали к берегу: пообедать да переночевать. Обеды стряпала Прося. Была она славная мастерица: из ничего сварганит такое, что язык проглотишь. Нерадец с Мошкой ходили в лес по дичь; то уточку принесут, то глухаря. Мошка птицу бил стрелой с лету: глаз у него был наметан, тверда была рука.
Сидя вечером перед костерком, Мошка подбрасывал в огонь сухие валежины и рассказывал про свое житье-бытье:
— Здесь вот, в Озерках, я и родился. Здесь и отец, и дед мой жили. А прадед, сказывают, пришел из Пскова; он, слышь-ко, и срубил первую избу в Озерках, женился на бабе из чуди, ловил рыбу, бил в лесах зверя… Бояре-то после пришли. А то мало кто из чужих сквозь леса до Озерков доберется…
Ну а мне уж воли повидать не довелось. Отец мой стал холопом у боярина Жирослава, а я холопом родился. Пашню с шести лет орал, зверя бил — и все ему, Жирославу. А еще тиуну его Творимиру. И попу. И старосте… Жена моя тож роба. И сыну век свой на боярина спину гнуть…
— Тебе уж не гнуть, — зловеще пошутил Нерадец и подмигнул Мошке: — Тебе повороту в Озерки нет.
— Не скаль зубы-то, — оборвал его Мошка. — Век наш короток: заесть его недолго.
— Всякая болезнь к сердцу, — согласился Нерадец. — Только вот что я тебе скажу: горя много, а смерть одна. Живи!
— А я что ж, я — живу.
— Так ли живут?!
К Новгороду подплывали засветло. Солнышко висело над краем Ильмень-озера, золотило смоленые городни с нависшими над рвом стрельницами, купола на той стороне Волхова, бревенчатые стены детинца. У деревянных причалов, будто поросята вокруг маткиных сосков, ткнулись в доски большие и малые лодьи и струги. Всюду толпился народ, торговал, приценивался, менял.
Мошка подгреб свою лодчонку под борт высокого корабля, спрыгнул на хлюпающие живые бревнышки плота и набросил на колышек веревку. Помог сойти Просе, ребенка взял на руки сам, понес к берегу. Нерадец выбрался последним.
Еще в пути Мошка сказывал, что есть у него на Торговой стороне хороший знакомый — земляк из Озерков. Хоть и невысокого он званья, а все ж мужик проворный и на первых порах сможет помочь.
— Мостник он, — пояснил Мошка Нерадцу.
— Что ж, поглядим твоего мостника, — согласился Не радец, хотя и у него в Новгороде водились дружки. Но своих дружков он не спешил беспокоить. Еще сгодятся.
Мошка хоть и бывал в городе, а знал его плохо. Шел он неуверенно, останавливался и заглядывал в каждый проулок. Прося совсем уж сбилась с ног, да и Нерадцу надоела эта канитель.
Наконец, вроде и нашли нужную избу, а возле избы — сани с гробом. Вокруг саней — родные и близкие с заплаканными, скорбными лицами.
— Кого бог прибрал? — спросил Нерадец у старухи-плакальщицы в белой одежде, с закрытой покрывалом головой.
— Раба божьего Конопа.
— Да это ж мой знакомый и есть, мостник Коноп, — сказал Мошка и подошел к гробу. Все верно — Коноп. Лежит в гробу, у обвитой полотном головы — кружка меду и хлеб.
— Живем, пока мышь головы не отъела, — сказал Нерадец и потянул Мошку за собой. — Нагляделся, хватит. Пойдем, моих знакомцев проведаем.
Прося стала ругаться:
— И долго вы меня, кобели, этак-то таскать будете?!
— Ходи, баба, молчи, — стиснув скулы, проговорил Мошка. — Теперь нам все одно податься некуда. Ни прута, ни лесины, ни барабанной палки…
Еще часа два кружил их Нерадец по ремесленным слободам. Лишь когда совсем стемнело, привел к избе, мимо которой уже раза три проходили. Постучал в ворота. Тихо. Постучал еще раз. Из-за ворот ворчливо отозвалось:
— Чего грохочете, ошалелые?
— К тебе на постой, дядька Хома, — сказал Нерадец.
— А вы кто такие?
— Братцы-хватцы, сестрицы-подлизушки…
— Никак, Нерадец?! — удивился голос. Загремели засовы.
— Он самый. А ты жив еще, дядька Хома?
— Что бы мне сделалось?
Под навесом во тьме встрепенулся, захлопал крыльями петух. Из-за стожка выдвинулась лошадиная морда, обдала щеку Нерадца теплым дыханием.
— Тьфу ты, нечистая, — выругался Нерадец, отстраняясь от лошади.
На приступке перед входом в избу он споткнулся. Прося чуть не упала на него. Притихший Мошка шел позади всех, прижимая к груди ребенка. Недобрые мысли ворочались в Мошкиной черной башке. Все стоял перед глазами отрок, вздернутый Нерадцем на застрехе. Будто во сне шел, тяжело дышал и разговаривал сам с собой Мошка.
В избе на едва сколоченном столе в глиняном светильнике плавал по деревянному маслу слабенький огонек. В углах под лавками шуршали тараканы. Войдя в избу, Мошка хотел перекреститься, но недоуменно замер с поднятой ко лбу рукой — образов в углу не было. Нерадец с Хомой о чем-то шептались за занавеской.
Прося устало опустилась на лавку, смежила отяжелевшие веки. Мошка сел рядом, все еще держа ребенка на руках. Дремота валила и его. Расслабленное тело безвольно сопротивлялось, но сон был сильнее.
Когда Нерадец и жирный безбородый Хома вышли из-за занавески, Прося и Мошка уже крепко спали; ребенок на руках Мошки всхлипывал и чмокал розовыми губами.
Бросив под себя хозяйскую шубу, Нерадец лег на пол. Хома задул светильник.
3
Бежав с Болохова поля, Мстислав с малой дружиной кружным путем, не заходя в Ростов, подался на Волгу, поднялся до Торжка, а там на Мсту и скоро прибыл в Новгород, где его в ту пору совсем не ждали. Слухи до боярского совета доходили разные, но чтобы Мстислав снова объявился на Городище — такого и в мыслях не держали. Уверены были — в Ростове да Суздале сидит Мстислав прочно. И уж подыскивали себе нового князя.
Мстислав явился ночью; подняв полусонных собак, промчался через весь город и заперся в княжеском терему. Утром в смиренной одежде он посетил епископа Илью, принял из рук его благословение и долго советовался, как быть. Владыка серчал на князя, выговаривал ему за измену, строго спрашивал, почему Мстислав ушел в чужую землю, а Новгород, пригревший и вскормивший его, бросил без сожаления.
Мстислав вины с себя не снимал, поддакивал Илье, плакал и клялся исполнить все, что повелит ему боярский совет. Податливый на лесть Илья пообещал переговорить с боярами, а покуда велел не отлучаться.
Через три дня владыка объявил молодому князю, что совет решил поверить Мстиславу, но о его прибытии пронюхали купцы и ремесленники. А это значит, что на совет придется собирать и сотских, и кончанских старост, и старост ремесленных цехов, а также звать старосту Иваньковского братства заморских купцов.
Мстислав на все был согласен. Тогда Илья устроил ему встречу с влиятельным боярином, бывшим новгородским посадником Якуном Мирославичем.
Якун тоже корил князя за непостоянство, грозил не допустить в Новгород, хотя уже точно знал, что решил боярский совет. У совета везде свои люди, а чтобы не шумела голь, он позолотит главных крикунов. Не впервой.
Мстислав подходил новгородским боярам по всем статьям: не очень знатен, не спесив, да и не то чтобы твердого нрава. Ежели покрепче нажать — уступит. А то, что глаза пялит на Ростов, тоже не худо: меньше будет совать свой нос куда не следует. Посадник да владыка и без князя управятся в своем хозяйстве…
На совете Мстислав дал клятву. Не отступился от клятвы своей и на вече. Мужики было поартачились, да не очень — много было среди них верных совету, своих людишек. Они-то больше и кричали за князя, они-то и подбивали остальных:
— Хотим Мстислава!
— Мстислава хотим!..
Так Мстислав и утвердился снова на Новгородском столе. Событие это закрепили женитьбой. Взял Мстислав в жены некрасивую дочь Якуна Ходору. Свадьбу сыграли пышно.
Ни богато, ни бедно жилось молодому князю в Новгороде. Думал за него боярский совет, советом ворочал Якун, а Илья призывал спесивых мужиков к покорности и смирению. Князь пропадал на охоте, ночами пировал с дружками…
Так уходило время. Отблистал зарницами червень, прошли большие росы. Встретили и проводили поселяне мокриды. День на мокриды был солнечный — старики прочили сухую осень. На лугах сметали просохшее сено, кое-где начинали жать рожь.
Пошли холодные вечера — вязкие туманы стлались по лесам. Раз, возвращаясь ночью с охоты, Мстислав повстречал на дороге возок, крытый волчьими шкурами. Возле возка на дороге спокойно, как у себя дома, разминался бородатый мужик — длинный и худой. Князь уж было проскакал мимо, но мужик, отступая к обочине, окликнул его. Мстислав узнал в нем ростовского боярина Добрыню Долгого.
— Знать, господь бог послал мне тебя, князь, — сказал Добрыня, снимая высокую шапку.
— Да ты-то куда? — удивился князь, — К кому поспешаешь?
— Спешу к тебе с доброй вестью, — смиренно отвечал Добрыня. — Дозволь обратиться.
Заметив подозрительный взгляд, брошенный боярином на столпившихся вокруг возка дружинников, Мстислав сказал:
— Негоже тебе, Добрыня, разговаривать с князем посередь дороги. Поскачем на Городище, там и расскажешь мне о своих делах.
К городу, хоть и скакали быстро, прибыли уже в сумерки. Над высокими валами, над прочным деревянным забором горели костры. За Волховом бродили стреноженные кони.
По широкому бревенчатому мосту въехала княжеская охота в усадьбу. Въехал в усадьбу и Добрыня на своем возке.
— Ступай за мной, — приказал боярину князь и повел его в терем.
В тереме было сыро и гулко, как в пустой житнице. Низкие переходы вели в сени. В сенях Мстислав указал боярину на лавку, но сам не сел; бросая на Добрыню вопросительные взгляды, долго ходил по гладким половицам.
Старый боярин с недобрым чувством отметил про себя перемены, происшедшие с князем. Хоть и стал Мстислав повзрослее, по степенности не прибавилось: все так же несдержан князь, все так же порывист, как и прежде. Но в глазах стояла смутная тоска, и тоску эту разглядел Добрыня. Про себя вздохнул, а Мстиславу сказал:
— Хорошо устроился, князь. И град твой зело красив, и терем. А такого терема не строили плотники и в самом Владимире, на что хитрецы: досточка к досточке, брев нышко к бревнышку. А крыльцо-то резное — лепота-а!.. Хорошо, хорошо устроился ты, князь, — повторил он несколько раз, поводя тощей шеей так, словно намеревался вытянуть свое тело из просторного кафтана.
Долго снаряжало Добрыню в путь ростовское боярство. Не одну седмицу советовались, все прикидывали, как поступить умнее. Понимали бояре, что ненадолго хватит больного Михалки, что не зимой, так в следующую весну отдаст он богу душу. А как положат его после отпевания в Успенском соборе, так все и закрутится сызнова. Не могли смириться бояре с тем, что сделался ремесленный Владимир выше именитого Ростова. Ведь всем известно: от Ростова пошел Владимир, а не наоборот. Так кому же править своими пригородами?!
И так и сяк прикидывали бояре, а сошлись на одном: Мстислав клялся им, пусть клятвы своей и держится. Когда умрет Михалка, не Всеволода, а его, Мстислава, поставят княжить в Ростово-Суздальской земле…
Добрыне бояре сказали:
— Ярополк нам без надобности. Ему теперь начинать не с чем. Мстислав же князь новгородский. Как умрет Михалка, пусть собирает войско да идет через Ростов на Владимир. Мы в стороне не останемся…
Сомневался Добрыня, что слова эти взволнуют Мстислава. Ожидал отказа, готовился уговаривать, упрашивать да убеждать князя. А Мстислав даже не дал ему договорить — обнял Добрыню за плечи, жадно впился глазами в его побледневшее лицо.
— Вот видишь, видишь, — бормотал он и вонзал острые ногти в обмякшие плечи боярина.
Добрыня со страхом подумал: уж не помутился ли у него рассудок. Однако приступ прошел. Мстислав опустился на лавку и прикрыл ладонями глаза.
Добрыня ждал. Он выполнил поручение ростовского боярства. Мстислав согласился, но такой ли князь нужен сейчас Ростову? Добрыня долго жил на земле, многое видел и знал. И понял: Мстислав иссяк духом, нет в нем уже былой хватки… Может быть, это и на руку ростовскому боярству, но тогда пепонятно другое: как думает оно поднять большие и малые города под Мстиславово знамя? Или надеется совладать со Всеволодом малой дружиной?..
Пробеседовав с Добрыней допоздна, Мстислав не отпустил его, уложил спать в своем терему. Сам удалился в светелку к жене. Ходора ворочалась и всю ночь вздыхала. Утром у нее были красные припухшие глаза. Мстислав понял — плакала. Отвернувшись, стал торопливо одеваться.
Не юна и не красива была Ходора — не по любви, по неволе взял ее в жены Мстислав. И Ходора тоже знала это. Но молодой статный князь нравился ей, она с трепетом ждала первой брачной ночи. В ту ночь Мстислав был болен с перепоя. Не пришел он к ней и в последующие ночи, словно избегал ее.
Ходора с отчаянием разглядывала свое отражение в зеркале, умывалась настоями из змеиной травы и будры, волосы ополаскивала отварами дедовника и хмеля, кожу смазывала бурачком с медом. Но ничто не могло исправить ее короткого плоского носа, узких бесцветных глаз, широких угловатых скул…
Чуяла Ходора — ненадолго залетел погостить в Великий Новгород Мстислав. Залетел переждать смуту.
И предчувствие не обмануло ее. Проходя мимо сеней в свою светелку, она увидела Добрыню, услышала его речи.
— Улетит мой ясный сокол! — причитала княгиня, катаясь на горячих подушках. — Иль присушил его кто? Чем плох для него Новгород — и старше, и знатней Владимира!..
Надумала было Ходора с вечера пойти и рассказать о слышанном отцу своему Якуну Мирославичу, но задуманного не выполнила: впервые после свадьбы князь сам наведался в светелку, лег рядом с ней на супружеское ложе.
Хоть и не приласкал он ее в ту ночь, а размякла Ходора, женским умом прикинула: «Может, и удержу? Может, и не уедет?..»
Наблюдательный Мстислав понял, что Ходоре известно все.
— О чем слышала, молчи, — сказал он, — Не то худо будет. Сяду во Владимире или Ростове — тебя здесь не брошу. Помни. А донесешь отцу — вот тебе мое твердое слово: останешься горькой вдовой.
Ну что бы полюбить ему Ходору: вернее не сыщешь жены… Да сердцу не прикажешь.
4
Обласканный Мстиславом, наделенный богатыми подарками, возвращался Добрыня в Ростов.
Плыть водой он отказался. Водой и к скирдницам не доберешься до дома. А новости у Добрыни хорошие, то-то порадует он бояр.
Мстислав, узнав о желании Добрыни, перечить ему не стал, велел только мастерам своим осмотреть возок, смазать дегтем колеса, починить полсть — и с богом!
Первый день ехал Добрыня обжитыми местами: то и дело выныривали из лесов маленькие деревеньки, окруженные полями; мужики и бабы косили овсы, на постое угощали Добрыню деженем — толокном, замешанным на кислом молоке, да овсяными блинами… Погода стояла ясная, звонкая; на склонах, обращенных к солнцу, уже лупились льны; мальчишки несли из лесу полные короба брусники. Ночами мужики стерегли снопы: поразвяжет, раскидает снопы гуменник, перетаскает с места на место; поди-ка разбери тогда, где твое, где чужое. Надев навыворот тулупы, обвязав головы платками, обводили мужики кочергой вокруг гумна борозду и, сев внутри, сторожили. Говорят, заметив мужика в таком виде, гуменник ни за что не приблизится к загороди…
Скоро быстрые кони понесли Добрыню низким берегом Мсты — из леска в лесок, из ложбинки в ложбинку. От долгой качки и от плотного завтрака боярина разморило; поклевал, поклевал он носом да и заснул. Проснулся от криков и возни. Выглянул — и не узнал возницу. Обернулся назад — не увидел дружины. Зато вслед за возком скакали на пегих лошадках два растрепанных, свирепого вида мужика.
— Тпру-у! — натянул вожжи новый возница, обернул к Добрыне обветренное лицо и весело сказал: — Слезавай, боярин. Кажись, прибыли…
— А ты откуда взялся? — сурово спросил Добрыня прыткого мужика.
— Э, боярин, — вместо ответа махнул мужик рукой и полез под сиденье. Вынул топор, потрогал пальцем острое жало.
Боярин понял все без слов.
— Принимай, Нерадец, гостя, — сказали мужики.
Подскакали те двое, что были на конях. Один из них спрыгнул на землю, подошел к вознице:
— Молодец, Мошка! Ловко обвел дружинников. А ну, давай сюда твоего боярина.
— Почто моего? Я его на торгу не выменивал, — оскалил крепкие зубы мужик.
Добрыню тычками поворачивали из стороны в сторону, разглядывали, как диковинный заморский товар. Нерадец подергал его за воротник, велел вылезать из кафтана; посадив боярина на пенек, Хома снял с него сапоги, поглядел подковки, поцокал языком:
— Серебряные!
Мошке досталась шапка с малиновым верхом — носи без износу.
— А что у тебя в возке? — спросил Нерадец. Не дожидаясь ответа, залез под полсть, стал выбрасывать на поляну боярскую рухлядь. — И это нам сгодится. Ребеночку на подстилки, — приговаривал он.
Под соломой Нерадец наткнулся на Мстиславовы подарки — два золотых обруча, гривну на толстой цепи; не показывая товарищам, спрятал найденное за пазухой.
— Скуп ты, боярин, — сказал он Добрыне. — Аль нечего было взять с собой из Великого Новгорода?
— О тебе не подумал, холоп, — надменно ответил Добрыня. — Чай, дружинники уж по лесу кличут, ищут меня. Долг платежом красен, а займы отдачею…
— Молчи, — прошипел, бледнея, Нерадец. Мужикам сказал: — Что с боярином делать будем? Боле от него никакой пользы.
— А ты ему дай под ребра, — посоветовал Хома.
Мошка грустно заметил:
— Тощой-то какой. И на боярина не похож. Можа, отпустим его?
— Такого отпусти! — протянул Нерадец. — Башку-то ему на пенек и…
Добрыня побледнел, качнулся на подкосившихся ногах.
— Снова зазря кровь пущать, — упрекнул Нерадца Мошка.
— Зазря, говоришь? — накинулся на него Нерадец. — А кто с тебя три шкуры спустил? Не из тех ли, не из боярских?..
Мошка промолчал. Нерадец схватил боярина зашиво рот, Хома ударил его носком сапога под коленки, боярин упал.
— На пенек-то, на пенек, — командовал Нерадец.
Хома дернул Добрыню за бороду, вырвал клок, стал пригибать шею к пеньку. Нерадец занес уж над дергающейся боярской головой топор, но не опустил его: в лесу послышался шум, кто-то продирался сквозь кусты. На поляну выбежала полуголая, с мокрыми распущенными волосами Прося, надсадно заголосила:
— Вои, мужики!..
— А, черт, — выругался Нерадец.
Растерявшийся Хома выпустил боярскую бороду. Нерадец ударил топором по пеньку, но боярской головы на пеньке уже не было. Топор крепко засел в лесине. Пока Нерадец выдергивал его, лес наполнился топотом копыт.
Мошка кинулся в шалаш, выхватил вместе с пуком сырого сена ребенка, покатился по склону к Мсте, в ольховые заросли. По берегу над ним метались взбудораженные кони. Добрыня командовал воями:
— Берите того, что внизу. С дитем он — далеко не убежит.
С крутого берега на коне не спрыгнешь: и себе, и животине переломаешь ребра. Пока вои искали тропинку, Мошка скользнул с берега в воду, ушел по щиколотку в вязкую глину, окунулся, поплыл на середину. Ребеночка он держал одной рукой, другой греб, стараясь не шуметь.
Но днем на воде и щепку за версту видать. Вои спустились к реке, остановились у кустов, разглядывая лохматую голову Мошки. Боярин, стоя вверху, кричал:
— Копьем-то не достанете. Стрелой его, ребятушки, али сулицей.
— Сулиц нет у нас, боярин. Да и луков не прихватили, — отвечали снизу вои.
Мошка тем временем удалился от берега. Добрыня злился: посмеялись и ушли злодеи. Куда глядит боярский совет? Скоро совсем не станет честному народу житья. Купцы напуганы — только гуртом да с охраной пробиваются к большой воде.
Недовольно бормоча в бороду, боярин сел в возок, долго ворочался, удобнее устраиваясь на подушках, потом задремал. Но сон прерывался страшными видениями. Раз он увидел себя со стороны — голого на лавке. Мужик с лицом Нерадца бил его кнутом по дряблому телу. Потом Нерадец полез в мешок и стал вынимать оттуда за волосы большие и малые всклокоченные головы. Головы дергались в его пальцах и хмельно улыбались. Нерадец брезгливо разглядывал их и бросал в лопухи. Жалобно мяукая, головы вертелись и подпрыгивали на земле. Наконец мужик довольно усмехнулся — он нашел то, что искал. Подмигнув боярину, неторопливо извлек из мешка его, Добрыни, рыжебородую и продолговатую голову, повертел перед собой и щелкнул пальцем левой руки по носу. Голова поморщилась и чихнула…
Боярин проснулся в липком поту. Возок кряхтел на ухабах. Добрыня откинул дрожащей рукой краешек полсти — за полстью была ночь. Из ночи доносился храп коней и позванивание снаряжения — дружинники скакали сзади и по бокам возка. С воли доносило запах влажной хвои. Небо было чистое; впереди, над лошадиными, раздутыми ветром холками, блестела большая алмазная звезда.
«Скоро, скоро упадут холода», — подумал боярин, снова откидываясь на подушки и запахиваясь в крепко пахнущую овчиной лохматую шубу.
Через день безо всяких приключений Добрыня был в Торчине. Здесь меняли лошадей. Боярин отоспался в теплой, набитой клопами избе, плотно поел и двинулся дальше.
Ростов Великий встречал его дремотной тишиной. Час был поздний, но едва только кони остановились на боярском просторном дворе, едва возница сполз на землю, как со всех служб сбежались полусонные люди. Придерживая под руки, осторожно вынули боярина из возка и провели в терем. В тереме раздели, разули, растерли ноги и руки, принесли лохань с горячей водой. Боярин умылся, расчесал бороду и велел топить баню.
— Дома-а, — вздохнул он с облегчением, — Заутра не будить, отдыхать буду до полдника…
Но отдохнуть до полдника боярину не довелось. Чуть свет явились к нему посланные от епископа молчаливые чернецы с постными лицами. Леон звал к себе.
Боярина он принял не в соборе, а дома — в мирском платье, чисто вымытый и расчесанный. Сидел за столом, грыз орехи, смиренно слушал Добрыню.
Боярин подробно рассказал ему о встрече с Мстиславом, о согласии князя снова занять ростовский стол.
— Всеволод нам не в опаску, — добродушно кивал Леон. — Молод еще. Разумных бояр за ним нет. А Микулицу мы кликнем к себе…
— Ростовских иных бояр-то, — вставил словцо Добрыня, — иных бояр-то тоже бы не худо поучить.
— Это уж твоя, Добрынюшка, забота, — согласился с ним Леон. — Будешь у Мстислава советчиком — нашепчешь нужное… А меня ты завсегда держись. Со мной не пропадешь…
— Золотые слова молвишь, батюшка.
— Владимирской епархии не бывать, — жестко сказал Леон. — То Андреевы бредни.
Добрыня приложился к Леоновой руке и вышел. Разговоры с самоуверенным, спокойным человеком, каким был Леон, действовали на боярина благотворно. А ведь с плохими мыслями возвращался Добрыня в Ростов: не доверял Мстиславу. Но теперь окончательно утвердился в вере: «Не в Мстиславе дело. Нам бы только имя. И подымется Ростов еще выше. Выше всех прочих городов на Руси…»
5
Сначала в кустах кто-то осторожно шептался. Потом ветви раздвинулись, и Мошка увидел двух мужиков в зипунах, с короткими мечами на боку и тулами на перевязи, туго набитыми стрелами. Мужики дружелюбно улыбались.
— Давай руку-то, — сказал один из них с косящими голубыми глазами и глубоким шрамом над левой бровью.
Сильным рывком он вытащил Мошку из воды на сухое, оглядел смешливым оценивающим взглядом. Ткнул пальцем в сверток:
— А это цо?
— Сын, — сказал Мошка и откинул тряпицу.
— И вправду робенок, — загоготали мужики. Взоры их еще больше потеплели.
— Да как же ты с дитем церез реку-то?
— А вот так…
— Ну, силен. Пойдем к атаману, — позвали мужики.
— Мне бы робеночка обсушить, — сказал Мошка.
— Там и обсушишь. Ишь как намаялся, даже в воде не пробудился, — говорили мужики, шагая рядом с Мошкой и взглядывая через его плечо на ребенка.
— А как нарекли мальца?
— Офонасием.
Так, мирно беседуя, мужики провели Мошку по песчаной тропочке в небольшую рощицу, над которой свивался белый дым.
Пока шли, Мошка все прикидывал, куда он попал. Выходило так, будто на остров. И верно, у леска берег круто сворачивал, за откосом снова заблестела река. В длинной и узкой заводи, со всех сторон скрытой деревьями, стояла лодия с высокой мачтой. На палубе сидели и лежали люди. У кромки воды на песчаной косе горел костер.
По гибким сходням мужики провели Мошку на лодию. Атаман отдыхал. Мужики разбудили его, что-то долго шептали ему на ухо.
— А ты садись, — сказал атаман Мошке. — Эй, Феклуша! — позвал он.
— Феклуша-а! — отозвалось на лодии.
Откуда-то из глубины судна на зов вынырнула худенькая, востроносенькая, веснушчатая девочка в коротенькой кацавейке и в больших, не по ногам, лаптях.
— Ты вот что, Феклуша, — деловито, как к взрослой, обратился к ней атаман, — ты возьми-ко дите, умой да оберни во что сухое. Да накорми… Мать-то где? — обернулся он к Мошке.
— Мать вои порубили, — сказал Мошка и задвигал острыми скулами.
— О-о, о-о, — покачивала Феклуша ребенка.
— Ступай, ступай, — кивнул ей атаман. Мошку он успокоил: — Ты за дите не бойсь. Она все сделает как надо… Не мужичье это дело.
Мошка согласился с ним. Атаман спросил:
— Тебя как зовут?
— Мошка. А тебя?
— Меня Яволодом. — Атаман помолчал и вдруг, будто что-то вспомнив, поднял потемневшие глаза: — Ты не из Озерков ли будешь?
— Из Озерков…
— Так тиун с отроком твоя работа?
— Тиуна я порубил, то верно. А отрока не я. Отрока Нерадец вздернул.
Атаман облегченно кивнул:
— Много зла на земле. От него ни крестом, ни пестом не отделаешься. Живи покуда у нас. Приглянется — оставайся на нашей лодии, не приглянется — держать не стану…
Расставшись с Яволодом, Мошка поднялся на берег. Там у костра сидела Феклуша и, подоткнув под себя подол сарафана, укачивала Офоню. Мошка сел с ней рядом, подбросил в огонь сухую валежину. Глядя на девочку, подумал: «Тож ведь живая душа. А поди-ка ж, попала в ватагу? Легко ли ей среди мужиков-то?..»
— Ты что же в ватаге — без мамки? — спросил он.
Феклуша усмехнулась, отчего возле края рта обозначилась глубокая, как у старухи, складка. И сразу все лицо ее сделалось и старше и строже.
— Мамку мою в пролуби утопили, — сдавленным голосом сказала она.
— Это за что же?
— А так. Перед боярином провинилась, должно. Как ушла к нему с вечера, так и не вернулась. Бабы после пошли по воду — вот и нашли ее в пролуби…
— И батьки нет?
— Батьку свеи порубили.
— Как же ты к Яволоду попала?
— А так и попала… Мне бы тоже пролуби не миновать, да Яволод отбил меня у боярских тиунов. Вот и живу на лодии третий год — стираю мужикам, обедами кормлю. Мужики на меня не в обиде…
Солнце лениво скатывалось к закраине леса, из-за которого навстречу ему выползали пепельные облака. Задев обвислым боком солнечный луч, облака налились вишневым темным цветом, словно раскаленная до сердцевины головешка. От деревьев протянулись холодные тени. Тени упали в реку и перекинулись на противоположный берег. Понежившись там в белом песке, они замерли и стали бледнеть. Узенькая краюшка солнца ненадолго задержалась на верхушках сосен, позолотила прилепившиеся к веткам коричневые шишки и нырнула во тьму…
Феклуша еще немного покачала ребенка и попросила у Мошки разрешения снести его на лодию.
— Там у меня своя лавка есть. Для Офони тоже место отыщется.
— Ишь ты, нашла братика, — улыбнулся Мошка. Заботливая Феклуша нравилась ему.
Раньше думал Мошка, что один он на целом свете такой неудачливый. А тут понял — таких-то, как он, по всей земле тьма. И у каждого свое горе, у каждого своя беда. Одно только общее: ни кола у них, ни двора, ни близкой души — либо князь с дружиной порешил, либо боярин с тиунами пожег. В лесах люди не рождались. У каждого когда-то была изба, был свой очаг…
На опушке Мошка на ощупь наломал еще сухих веток, подбросил в костер. Остановившимися глазами смотрел, как пожирает сухое дерево ненасытный огонь.
Первая боль отошла, сердце поостыло; теперь Мошке спокойнее вспоминалось недавнее: засада в лесу, нападение на боярина, Нерадец с топором, Хома, пригибающий боярина за бороду к пеньку. Вспомнил истошный Проськин крик… Снова тяжело забухали над ушами конские копыта. Не вернется к нему больше Прося, убили ее дружинники, изрубили на куски мечами. Остался он один с маленьким Офоней.
Лежа у костра на спине, глядел Мошка в светлое небо, засеянное звездами, — глядел и тоскливо хлюпал носом. К мокрым щекам лепились комары, радужными каплями плясали на его зрачках отблески большого костра.
Давно уже следил за Мошкой Яволод со своей лодии. А когда мужики угомонились, когда затушили огни и полегли спать, накинул атаман на плечи теплый зипун, сбежал по сходням на берег.
— Не спишь, Мошка?
— Не спится, атаман.
— Думу думаешь?
— Раздумаешь умом, так волосы дыбом, — сказал Мошка, незаметно вытирая согнутым пальцем отсыревшие глаза.
— Думай, да чтоб без передумки, — подхватил Яволод. Мошка нравился ему. Разных приходилось ему набирать в ватагу мужиков. А с таким встретился впервые — в силу суров, а нутром ишь как податлив, ровно баба. — Голубиная ты душа, — потрепал он Мошку по всклокоченной голове.
— Голубина-ая? — протянул Мошка и отстранился от атамана. — У меня, Яволод, силенок хоть отбавляй. Меня тревожить не надо. А растревожишь — я ведь все могу. И не добрый я — злой… Вот ты баешь, душа голубиная, а может, того отрока и вправду я на застрехе вздернул?
— Не, — сказал атаман, — ты — не вздернул.
— Почему?
— Знаю.
Яволод помешал палкой в костре, поднял облако огненных комаров. Взгляд его остановился на Мошке. И Мошка глядел на Яволода, глядел и дивился ему. Нерадец — тот атаман. Нерадца Мошка понимал. А Яволод — ну какой он атаман? И что у него за ватага?…
«За своею думкою и сам не поспеешь», — сказал про себя Яволод. И ему стало грустно у ночного костра. И он притих, глядя на медленно движущуюся в сумеречном свете звезд реку.
С кем только не сводила судьба атамана Яволода! Но бедного человека всегда защищал, богатого же — не щадил. И убийство сголомя зипунам своим не позволял.
— Сгубить легко, да душе каково? — говаривал он им. — Взял у купца добро — пущай гребет к Новугороду. Жизнь его нам ни к чему. Богаче не станем.
Любили справедливого Яволода в ватаге: не боялись его, а почитали. И пошла о Яволоде слава далеко за Торжок и за Ярославль; спускалась его слава до самого Булгара, подымалась к Уралу по Каме.
Но теперь у Яволода о другом была дума: не век же разбоем жить. Пришло время и семьей обзаводиться. Избу ставить. Детишек нянькать… Вот и подымет он своих молодцов реками да волоками за Устюг, уведет в леса, выменяет отнятое у дармоедов добро на дорогие меха, а те меха продаст, разделит вырученное между всеми поровну и отпустит мужиков с миром…
Так думал атаман. О том и мечтал. Да не всегда и не все сходится в жизни. Глядел он на Мошку и понимал: всех обиженных да обездоленных мехами не оделишь, каждому избу не поставишь, не всякого вызволишь из боярской неволи… А что тогда?
«Что тогда?» — спрашивал себя Яволод, лежа рядом с Мошкой у затухающего костра и глядя в холодное небо.
6
Ярун вышел из Булгара на трех лодиях. В первой лодии плыли он сам, проводник Муса и молодой булгарский купец, посланный Хаир Бюлюком, — Шахим, крепкий, загорелый, черноволосый и улыбчивый. Во вторую и третью лодии загрузили товар — тюки с тканями, оружие, посуду и медные безделушки.
Полмесяца продвигались они вверх по Каме — то меж пологих лесистых берегов, то в теснинах, где река стонала и скрежетала по днищам лодий, будто живое существо… Селенья встречались редко, да и то небольшие, в две-три юрты, а потом и вовсе перестали попадаться. На пустынные утесы выходили лоси, вытянув шеи, с удивлением глядели вниз на проплывающих по реке людей…
В середине третьей недели обычно спокойный Муса стал волноваться, вглядывался в прилегающий к реке лес. Однажды вечером он велел пристать к берегу. Спустив паруса, вошли в затишек. Муса повел людей в чащу. Скоро Ярун увидел среди деревьев кое-как срубленную избенку.
— Здесь переночуем, — сказал Муса, — а утром переволочим лодии в Печору.
В избе печи не было; огонь развели на утоптанном, черном от золы полу. Рядом с избой на краю глубокого лога поставили два шатра. До поздней ночи доносилось из чащи резвое постукивание топоров: мужики готовили бревенчатые катки, расчищали заваленную буреломом тропу.
Тем временем в котлах поспела заготовленная еще в Булгаре солонина. Муса понимал толк в стряпне и сам готовил похлёбку. Когда принялись за еду, он достал из сумы выдолбленную из целого куска дерева бутыль и сказал, что это отвар целибухи. Целибуха хмелит, как вино, и здесь, на севере, заменяет мед и пиво.
Отвар обжигал губы и перехватывал дыхание. Но вскоре по телу растекалась приятная теплота. Довольный Муса сидел против Яруна, поджав под себя ноги. Он слегка покачивался и смотрел прищуренными глазами в огонь. По скуластому лицу его ползли отблески пламени. Муса рассказывал:
— Печора — большая река. Много в ней семги, нельмы, чира и сига. По берегам ее живут люди, называющие себя югра. А еще дальше живет народ, который мы зовем самоедами. У самоедов узкие, уже, чем у меня, глаза и широкие лица. А югра белокурые или рыжие и голубоглазые.
Долго рассказывал Муса. Много интересного знал он об удивительном народе югра, но Ярун устал, веки смежились, и он уснул под монотонное бормотание проводника.
Проснулся Ярун от сильного шума. В избе толпился народ. Люди выносили мешки и кадушки.
Потянувшись до хруста в костях, Ярун вскочил с лежанки и выбежал к реке. Покрытая серебристой росой трава обжигала босые ноги. Купец сбросил с себя кафтан, стянул исподнее и, поеживаясь, спустился в воду. Набрав к грудь побольше воздуха, он присел — вода накрыла его с головой. И сразу исчез озноб — стало легко и жарко. Вытянувшись, Ярун взмахнул руками и выплыл из заводи на быстрину. На быстрине вода была похолодней; почувствовав в ногах легкую судорогу, Ярун повернул к берегу. Стоя за кустами, он широкими взмахами растер грудь и спину, оделся и пошел к тому месту, откуда должны были перетаскивать лодии.
На волоке всем хватает работы. А на этом волоке работы было вдвое больше. Давно не хаживали камским путем купцы, да и раньше прошли только два раза — вот и зарос волок колючим подлеском.
Кустарник приминали, кусты покрупнее рубили, под лодии подбрасывали катки — к вечеру прошли полпути. Оставшиеся полпути прошли за следующий день. Печора завиднелась уже при луне. Внизу заплескалось маленькое озерцо. Лодии столкнули в воду и сразу же повалились на траву кто где стоял. Спали без ужина, даже не чувствовали облепивших потные лица и шеи крупных комаров…
Ярун торопил людей. По рассказам Хаир Бюлюка он знал, что зима в этих краях начинается рано, с сильными морозами и большими снегами. Он еще надеялся вернуться до холодов в Булгар, но, по мере того как лодии шли к северу, а река все ширилась, принимая в себя справа и слева многочисленные притоки, понял: либо нужно сейчас же повернуть назад, либо продолжать плавание, дойти до Большой воды и там переждать суровую зиму.
Ярун должен был увидеть Большую воду. И он не повернул свои лодии.
И еще неделю, еще две недели плыли они по Печоре. Леса отступали. Теперь уже по глинистым берегам реки редко встречалась ель — ее сменили черный зверобой, ольха да ива. На стоянках с высоты берега открывался скучный вид на безлесную болотистую равнину. Кое-где среди мхов торчали низкорослые деревца, прильнувшие к земле уродливо изогнутыми стволами. На склонах холмов, обращенных к северу, белел нестаявший прошлогодний снег. Сильный ветер срывал и гнал по тундре пучки ягеля, мелкие сухие листья ерника…
Много разных морей повидал Ярун на своем веку. Где-то в синюю гладь их обрывались серые, раскаленные нестерпимым зноем скалы, где-то у самого берега зеленели сады и виноградники, где-то песчаные дюны обрамляли его серебряной драгоценной подковой.
Здесь море будто продолжало тундру. Оно вливалось в тундру, и тундра вливалась в него. Льды и облака слились в единое целое. Льды отрывались от берега, словно куски матерой суши, — отрывались и плыли в рассеченную солнцем, рябую от мелких барашков волн даль. Даль эта не была бесконечной, она соединялась в конце видимого пространства с горизонтом, и потому это море не казалось таким же величественным, как другие моря, которые довелось повидать Яруну. Казалось, перед ним протекала большая река, на противоположном берегу которой все будет так же, как и здесь, — рыжая тундра, холмы и на них искривленные ветрами, чахлые деревца.
Ярун лежал на оленьей шкуре и глядел в осыпанную голубоватым блеском тундру. Болотистая равнина светилась, будто парила в воздухе, отрываясь от далекой кромки ровного горизонта. Такой ровный горизонт Ярун встречал еще только в кипчакских степях, но там воздух был настоян трепетным запахом трав; там была прочность во всем, здесь же думалось: шагни еще раз — и оборвется привычная суша, и под ногами разверзнется бездонная звездная пропасть…
И все-таки он дошел до Большой воды. Она вот здесь, рядом, — шипит и бьется за каменистой грядой, а завтра он умоет свое лицо в ее неумолчном прибое.
Глава третья
1
Худо стало в последние дни боярину Захарии. Закатилось его счастье, закрылись перед ним ворота на княжеский двор. Ни разу не призвал его в свой терем князь Михалка, да и на совете, когда судили Андреевых убийц, не выделил среди прочих, хоть и встревал Захария в разговор.
Что бы это значило? Уж не надумал ли князь расправиться и с ним, именитым боярином?.. Все может быть. Давеча слыл Михалка самым добрым среди братьев, а вона как распорядился: княжну бросил в озеро, покидал в него и трупы казненных. Мужики обходят озеро стороной, крестясь, толкуют о привидениях, бабы прозвали его Поганым.
Тих Михалка, а мстителен, — гляди, разузнав кой о чем, дотянется и до Захарии…
Страшно Захарии в терему: за стенами лошадиный топот мерещится. Вот-вот осадят дружинники коней у его ворот, требовательно загрохочут рукоятями мечей в дубовые доски: «Отворяй, боярин, по твою душу пришли. Душу — в рай, самого — в землю…»
Холодно. Зябким августовским ветром задувает болотную сырость в приотволоченное оконце. Ходит ветер по ложнице, надувает боярину в уши: «Шу-шшела, шш-шшу-шшела…» Будто смеется над ним.
Хоть бы Давыдка, что ли, заглянул, вспомнил про уговор.
Раз только после встречи на Болоховом поле видел Захария своего бывшего холопа. Ехала княжеская охота: впереди Всеволод на игреневом жеребце, Давыдка — рядом с ним, нарядный, гордый, веселый. На боярина никто и не взглянул. Проехала княжеская охота, подняла пыль, укутала Захарию в белое облако…
Боярин усмехнулся: по старым-то временам радоваться бы ему, что не за холопа отдает свою дочь — за знатного человека. Теперь же все наоборот. Не о знатности помышлял Захария — о своем спасении. Он и деревеньку отдаст Давыдке с дочерью, хотя бы то же Заборье: бери, пользуйся, только душу не томи, только дай глядеть на белый свет, а то ведь и небо со страху кажется с овчинку.
Не пускает солнышка боярин в свою ложницу, с дочерью не разговаривает, гонит от себя слуг.
Евпраксия догадывалась: худо с отцом. Но не отцовы, свои заботы занимали ее дни и ночи. Знала уж и она всё про Давыдку. И она встречала молодого дружинника возле князя… Он-то ее не видел, не догадывался, что глядит Евпраксия из оконца своей светелки и умывается горькой слезой. Сколько уж седмиц прошло, а не подал о себе ее сокол ни весточки. Значит, забыл. Значит, другая приворожила. И так ведь тоже бывает: у девки догадки, у парня свои.
Не до хороводов стало Евпраксии — одна ее гложет дума. Первый кусок от ужина клала она под подушку; приглашала суженого, приговаривала перед сном:
— Ряженый, суженый, приди ко мне ужинать.
Всякое снилось ей, а Давыдка почему-то не снился. Лишь однажды увидела его, догадалась, что он, но лица не разглядела. Увидела Евпраксия ровное поле, покрытое ковылем до самого окоема. А по ковылю из низинки подымались навстречу ей на конях два всадника — оба в алых корзнах, оба статные, русоволосые. Ехали они по степи, а позади них солнце выползало из-за холма, большое солнце с лучами, расходящимися в стороны, как сияния над ликами святых. Вот этот — Давыдка, сразу сказала себе Евпраксия, а того, что был рядом с ним, не признала.
В другой раз будто пробудилась она во сне от осторожного стука в оконце. Встала с лежанки, выглянула на улицу, и похолодело все внутри от страха: не было за оконцем привычной улицы с тесно стоящими друг возле друга теремами — была все та же степь, седая от густого инея. Тот же овражек темнел поодаль, только вместо солнца вставал над окоемом рогатый полумесяц. Да еще увидела Евпраксия на краю овражка разбитое молнией покосившееся дерево. Дерево было большое, а на вершине его, на тоненькой зеленой веточке, горела звезда. Во все глаза глядела Евпраксия на дерево и на звезду и дивилась: что бы это значило?.. А пока любовалась да дивилась, дерево будто в землю стало врастать, постепенно укорачивалось; звезда оторвалась от ветки и покатилась вниз, а там, где она упала в ковыль, показалась фигура воина на коне. Конь встряхивал гривой, позвякивал сбруей и, наклонясь, щипал траву, а воин сидел задумчиво, не глядя по сторонам, сидел и смотрел на ее оконце… Тут-то и разглядела Евпраксия лицо воина: сухое, с глубокими складками на лбу, обрамленное мягкой русой бородкой. Молодая боярышня встретилась с его взглядом и узнала в нем молодого князя Всеволода… А месяц подымался все выше и выше. Вот он остановился над Всеволодовой головой, и брызнули от него во все стороны лучи. Евпраксия вскрикнула, помертвевшими руками захлопнула оконце, опустилась на лежанку. Под тонкой сорочкой часто билось сердце… Тут-то она и проснулась. Услышала крик петухов и вздохнула с облегчением. Значит, и это тоже был сон?..
В тот раз впервые за много дней она вышла из терема. Вышла будто замороженная, но в уличной толчее постепенно оттаяла. Однако и тут нет-нет, а возвратится мыслями к чудному сну. И снова подумает: к чему бы он?
И еще раз встретила она Давыдку. Не в городе — за Лыбедью. Там, где на холмах собирались девки посумерничать под молодыми дубками. Ехали вои полевой дорогой, подымали пыль копытами резвых коней, громко разговаривали между собой. А девки выглянули из-за пригорка и ну потешаться над ними:
— Мужички-боровички, бороды-венички.
— Аль к женам своим поспешаете?
— Поглядите на нас: не сыщется ли краше?
Да еще запели озорную песню. Тут уж вои не стерпели, развернули коней и с веселым гиком да молодецким криком устремились к девкам. Те переполошились, бросились кто куда. Вои тоже рассыпались по полю, хватали девок на всем скаку, целовали их в губы…
И разглядела среди воев Евпраксия Давыдку, затихла под кустом, хоть и не терпелось вот так же схватиться и бежать по полю, слыша за спиной задорные крики и со сладким томленьем ожидая, когда подхватит тебя сильная рука, оторвет от земли, обдаст жарким дыханием улыбающийся рот.
Таилась Евпраксия под кустом, а сама звала Давыдку, заклинала его помертвевшими от волнения губами. Услышит — не услышит?.. Давыдка, глядя по сторонам, нерешительно перебирал в руках поводья. Будто доходили до него ее тихие слова, будто высматривал ее среди разбежавшихся по полю девок.
Ей бы в самую пору показаться из-за куста, а она сползла еще ниже, да так и пролежала, вдыхая прелый запах земли, будто окаменев от страха. Девчата, смеясь и одергивая помятые сарафаны, возвращались в рощицу.
Не повстречаться Евпраксии со своим счастьем, забыл ее Давыдка. До нее ли сейчас молодому да удачливому княжескому дружиннику?!
И тут вдруг вспомнила, вдруг ослепило ее, будто яркий свет ударил в глаза: по кому сохнет, по кому увядает ее красота? Чай, боярская дочь она, а не девка. Чай, и за боярского сына посватает ее отец. Вон сколько молодцов-удальцов заглядывается на свеженькую боярышню.
Али нет у нее девичьей гордости, аль присушил ее князев дружинник? Коль присушил, так сыщется и отворотное зелье. Попросит знахарку — чего не сделает старая за деньги?!
Дождавшись, когда стемнело, Евпраксия отправилась в посад, постучалась в знакомую избу.
Кого только не выручала из беды старая Мотя! Бывали у нее и добрые молодцы, и старцы. Заговаривала Мотя от разных недугов, лечила воям страшные раны, избавляла девок от сердечных болезней, а то и выкидывала преступный плод.
В избе у Моти было чисто, на веревочках у открытого очага сушились разные травы. От трав исходил полевой аромат, да такой сильный, что закроешь глаза — будто ты и не у знахарки в избе, а в поле за речкой: стоишь на берегу, и теплый ветер наносит тебе в ноздри дурманящий туманец, исходящий от буйно цветущих трав.
Мотя сидела на лавке, деревянным пестиком перетирала в ступе волшебные коренья. Дверь у нее всегда раскрыта настежь — кто хошь входи. Потому и не удивилась старуха внезапному появлению Евпраксии, только сморщилась вся, уставилась на вошедшую слезящимися глазами.
По тому, как, оробев, Евпраксия задержалась у порога, Мотя поняла: пришла к ней девка впервые. А уж что не радость ее привела, а горе, знала и без того: радость к Моте не несли. Радость берегли для себя, от чужих глаз прятали.
— Проходи, красавица, садись на лавку. Не таись, открой, какая кручинушка привела тебя в мою избу, — проговорила она неожиданно певучим голосом и вся просветлела сжатым в мелкие морщинки лицом.
Не обычная гостья, не из простого званья пожаловала к ней, догадалась Мотя. А когда прошлась Евпраксия по избе да села на лавку, утвердилась в своих догадках: не иначе как боярская дочь.
Отставив ступу, знахарка всполошилась:
— Сердечко знобит, боярышенька?..
И тут же, оглаживая плечо Евпраксии, заворковала:
— А ты не томись, не таись. Расскажи все старухе по порядочку, вот тебе и полегчает…
— Не полегчает, бабушка, — сказала Евпраксия, отстраняясь от старухиных прикосновений. — И не приворожить к себе суженого пришла я к тебе, а снять с себя наваждение… Помоги, бабушка, за все отплачу.
— Да что ж платить-то? — будто испугавшись, пролепетала Мотя. — Плати, как покажется. А я тебе завсегда помогу, сказывай, что случилось…
Стыдясь и краснея, Евпраксия рассказала знахарке о своей встрече с Давыдкой, об обещании, данном ей молодым воем. Но имен ничьих не назвала.
Старуха выслушала ее внимательно, почмокала беззубым ртом.
— Зря беспокоишься, боярышня, зря слезы льёшь, — сказала она с лукавой улыбкой и снова погладила ей плечо. — Никуда не денется твой суженый-ряженый. Помяни мое старушечье слово.
— А ты дай мне, бабушка, отворотного зелья, — слабым голосом настаивала Евпраксия.
— Да что ты?! — удивленно отпрянула от нее Мотя. — Нешто я тебе вражина какая?! Не дам я тебе отворотного зелья, и не проси. Ступай домой, ступай.
— Да как же это, бабушка?! — надменно выпрямила спину Евпраксия. — Это кого же ты от себя гонишь?!
— Тебя гоню, ступай, — вытолкала ее знахарка.
Так и ушла от нее Евпраксия ни с чем, растерянная и рассерженная.
А в тереме в тот вечер боярин Захария принимал гостя — постельничего Векшу, посланного от самого князя Всеволода. Хозяин и гость сидели за дубовым столом, под образами, беседовали дотемна. Евпраксия несколько раз спускалась в горницу, радовалась за отца: посветлели у боярина глаза, улыбчивее стали губы. Знать, хорошую весть принес ему Векша. Потчевал его боярин медами, велел принести из погреба драгоценного вина, к которому и сам уже не прикасался много лет: берег для особого случая.
Уехал Векша с боярского двора зело хмельной. Трое холопов едва затолкали его в седло. Боярин суетился вокруг кобылы.
— Да как же это? Да упадешь ишшо… Эй, вы! — кликнул он своих людей. — Проводите князева посланца, дорогого нашего гостя. Да сдайте его там с рук на руки воротнику — не зашибся бы, не то головы поснимаю.
Когда гость уехал со двора, когда затихло в конце улицы разудалое пение, боярин перекрестил лоб и возвратился в горницу.
Еще долго доносились до светелки, в которой не спала Евпраксия, отцовы беспокойные шаги; порой она слышала голос боярина: старея, Захария все чаще стал разговаривать сам с собой.
Под утро все стихло.
А на рассвете явились на Захариев двор сваты.
2
Долгие были сборы. И чего только не грузили на возы, но обоз был готов, а Евпраксия все не могла оторваться от зеркала. И так встанет, и этак: то сарафан поправит, то кокошник. Наконец Захария не вытерпел, сам поднялся в светелку. Увидев сердитое лицо отца, Евпраксия из-под руки его выпорхнула на лестницу, сбежала во двор.
Во дворе ее уже ждал Давыдка. Был он в синем атласном кафтане, в синей же поярковой шапке; на груди — золотая гривна (подарок князя), на бедре — широкий меч в простых ножнах, на ногах — мягкие сапоги из желтой кожи (подарок Володаря).
Смущенная, Евпраксия остановилась на крыльце. Давыдка поднялся ей навстречу…
Передний возок, в котором сидела Евпраксия, выехал с боярского двора и в сопровождении конных холопов спустился от Золотых ворот к Клязьме.
Давыдка, красивый, сияющий, ловкий, сидел на пританцовывающем жеребце. Жеребец довольно вскидывал длинную морду, гордо глядя на беснующихся в пыли, охрипших от лая собак…
А как испугалась Евпраксия давеча, когда отец объявил про сватов!
— Кшыть ты! — обругал боярин надрывно заголосившую дочь. — Не простых сватов привел к нам господь — самого князя Всеволода. Радуйся!
Тут уж у Евпраксии совсем подкосились ноги. Захария посмотрел на нее, покачал головой (все бабы одинаковы) и велел принарядиться.
В доме поднялась возня, на дворе суетились слуги: несли из медуш бочонки с вином и медом, раздували в печах огонь, свежевали только что заколотого телка. В просторной горнице накрывали столы бархатными скатертями, на лавки набрасывали пушистые ковры.
Захария, взопрев от волнения и от хлопот, погонял холопов: выбегал во двор, ругал нерасторопную челядь; возвращаясь в терем, улыбался и поясно кланялся князю Всеволоду и окружавшим его веселым дружинникам.
Стоя в светелке у слегка приотворенной двери, Евпраксия сдерживала дыхание, прислушивалась к разговорам в горнице. А когда услышала: «Гость здесь, а товара не видно. Надо красный товар налицо», — отшатнулась в глубину светелки, прижала ладошку к застучавшему сердцу: за кого-то отдает ее отец?! С чего это вдруг надумал?! И вот ведь все как сразу повернулось — не успела даже возразить, а сваты на дворе… Ударила половецкая кровь Евпраксии в виски, помутила рассудок. И уже потянулась рука сорвать с груди дорогое ожерелье, как дверь отворилась, и отец, потный и красный, с выкатившимися из глазниц блеклыми глазами, схватил ее за руку, зашипел перекошенным ртом:
— Ду-ура!.. Князь Всеволод Юрьевич к нам. Ду-ура!..
Вытащил ее, упирающуюся, на лестницу, подтолкнул в спину:
— Кланяйся, кланяйся…
А у Евпраксии спина одеревенела — стоит не шелохнется, глаз не может отвести от молодого князя. Вспомнился ей странный сон, виденный накануне: засвербило в носу, слезами наполнились глаза — к счастью, к счастью он!..
Всеволод, глядя снизу вверх, улыбнулся:
— Люди женятся, а у нас глаза светятся.
От улыбки его оттаяло на сердце у Евпраксии. Расслабилась она, низко поклонилась свату, коснувшись кончиками пальцев чисто выскобленных половиц.
— Выпьем за невесту, — сказал Всеволод и поднял чару с медом.
— А где твой жених, князь? — спросил осмелевший боярин. — Наше смотрите — и свое покажите.
— Батюшка, пей, да дочери не пропей, — шутливо отозвался Всеволод. — А жених наш с нами. Ну-ка, Склир, кликни жениха.
Склир вскочил и только хотел отворить дверь, как она сама распахнулась и через порог перешагнул Давыдка.
— А вот и наш сокол! — воскликнул Всеволод.
— Жениху да невесте сто лет, да вместе! — сказал Склир, беря Давыдку за руку и подводя к боярину.
Боярин скосил в сторону Склира гневный взгляд, но улыбка была уже заготовлена на его лице — для Давыдки. Давыдка усмехнулся и, проведя согнутым указательным пальцем по усам, поклонился боярину. Захария положил руку ему на голову и сиплым голосом проговорил, глядя на Всеволода:
— Коли сужено-ряжено, так наш товар надо продать, а ваш купить.
Всеволод кивал боярину, почти не слыша его: не отводил взгляда от Евпраксии. Глядел он на нее и после, когда переламывал пирог и когда все сидели за столом, пили мед и, уже забыв про молодых, говорили кто о чем. Всеволод мало пил, чару только подносил к губам и тут же отставлял.
Зато боярина Захарию слуги выволокли из-за стола едва жива. Да и было с чего напиться боярину: счастье-то какое привалило! Сам князь Всеволод у него в гостях. Теперь другие-то, чай, засохнут от зависти. Ну и везет Захарии!..
Тревожно спала в ту ночь Евпраксия. Не то от счастья, не то от смятенья. И странно, не о Давыдке думала она, глядя набрякшими от бессонницы глазами в темноту, — совсем другое лицо проступало из мрака. Всеволодова улыбка не давала ей заснуть, она струилась под его мягкими русыми усами, и сердце Евпраксии замирало, останавливалось от тревоги, а пуховая перина жгла бока.
Ночью снова снилось Евпраксии бесконечное поле, и дуб среди поля, и звезда на корявой ветке, и всадник, подымающийся навстречу ей из колеблющегося тумана: теперь она узнала его, теперь она не могла ошибиться…
Утром боярина едва добудились. Весь следующий день прошел в бестолковой сутолоке и в приготовлениях к отъезду. По сговору, заключенному накануне вечером, Заборье с прилежащими к нему лесами и угодьями отходило Давыдке. Так порешил Захария, на том били по рукам князь и боярин.
Вечером Евпраксию отвели в баньку. Положив на горячий полок, девки мыли и растирали ее смуглое тело, били веничками, смоченными в малиновом квасе, умащивали греческими благовониями…
И вот обоз тянется по лесной, тряской дороге. Метров на сто впереди, чтобы не пылить, скачут боярские холопы, в голове обоза — возок с Евпраксией, а рядом на нетерпеливом жеребце красуется в синем нарядном кафтане Давыдка.
Так и не остались они с Давыдкой наедине после сватовства, так и не перекинулись ни словечком. Только обменялись долгими взглядами, но от взглядов этих почему-то не смутились, не испытали волнения.
На подъезде к Заборью, перед холмом, Давыдка, понукнув коня, обогнал трясущихся на костлявых кобыленках мужиков.
Не терпелось ему въехать в родную деревню первым — и не рабом, и не простым дружинником, а хозяином…
3
Не сладко, ох как не сладко жилось Любаше за старостой Аверкием. Это он только перед свадьбой прикидывался ягненком, а как привел молодую жену в избу, тут и пошло: и то не так, и это не по нему. Чувствовал, что стар, оттого и злился. Пронюхал где-то про Склира, каждое утро стал допекать Любашу:
— Поди, посекли твово ясного сокола. Подрубили крылышки. Жди не жди — все одно не вернется. А ежели и жив, таких-то глупых баб у него в каждой деревне по дюжине.
Говорил, посасывая гнилые зубы мокрым ртом. Ночью щипал ее, всхлипывая от удовольствия. Щипал да приговаривал:
— Лукавой бабы и в ступе не истолчешь.
Сколько слез пролила Любаша за Аверкием! Даже с лица сошла. Потускнел румянец на ее щеках, посинели губы, потухли глаза. Бабы вздыхали, провожая ее на улице грустными взглядами, говорили:
— Засушил красавицу нашу старый козел. Как есть засушил.
Не пела больше Любаша, не наведывалась в девичий хоровод. Не заглядывались на нее, как бывало, парни. И то: заглядываться нынче стало не на что. Да и старосты побаивались. Лют был Аверкий. Ежели что заметит, донесет боярину, а боярину лишь бы потешиться — ни за что ни про что изведет холопа.
Только и жалел Любашу отец. Плакал, глядя на нее, а помочь и он ничем не мог. Гнал его Аверкий от своей избы, жене строго наказывал:
— Ежели увижу у себя твово старого лешего, ни тебе, ни ему несдобровать. Помни.
С отцом Любаша встречалась за плетнем, за тем самым плетнем, за которым разыскал ее в ночь после сватовства лихой меченоша Склир. Приносила ему украдкой мед. Пока отец пил, втягивая в беззубый рот худые щеки, стояла рядом, подперев подбородок рукой, и бесшумные слезы сыпались из ее глаз.
Была бы хоть Аленка рядом, облегчила бы душу у нее на плече, выплакалась бы по-бабьи громко, навзрыд.
Поп Демьян, выставив перед собой узловатый палец, говорил ей:
— За терпенье бог дает спасенье.
А пьяненький дьячок, стоя позади попа, кощунствовал:
— Авось да небось — хоть вовсе брось.
Кроме отца, была у Любаши в Заборье еще одна родная душа — неговорливый кузнец Мокей. Любашу он от себя не гнал, не чужался ее, старосту Аверкия не боялся.
— Веревка крепка с повивкой, а человек с помочью, — говорил он.
— Ты о чем это, дядя Мокей? — спрашивала Любаша.
Мокей глядел на нее долгим, терпеливым взглядом. Не понять Любаше Мокея.
И все-таки хорошо ей с кузнецом. У Мокея все просто в кузне, да и сам он, молчаливый, прост, как эта речка, как эти поля, и как лес за полями, знакомый Любаше с раннего детства, и как сама эта кузня, которую помнят все и которая стоит здесь с незапамятных времен. Сказывают, стояла она еще и тогда, когда не было никакого Заборья. Но никто ничего не знал наверное. Слушая деревенские байки, Мокей не подтверждал их и не отвергал. Улыбаясь добрыми глазами, он говорил:
— Пусти уши в люди — всего наслушаешься.
Федька, Мокеев юнота, раздувая огонь в горне, с черным, измазанным сажей носом, подмигивал Любаше, приседал на корточках:
— Рот не огород, не затворишь ворот! — кричал он, задыхаясь от смолистого дыма.
— А ты бы помолчал, — обрывал его Мокей.
Раз как-то, возвращаясь от реки со стираным бельем, Любаша услышала в кузне незнакомые голоса. Поставив под соснами на пригорке корзины с бельем, она заглянула в дверь. У горна, в дальнем углу, — один на орале, другой на бревне — сидели два густобородых мужика. Мокей показывал им мечи.
— Вот этот берите. Сам ковал, сам закаливал.
— Все равно как харалужный, — похвалил один из мужиков.
— А мы всякие куем.
— Да сам в отрепье, — упрекнул мужик.
— Добрый пастух не о себе печется — о скотине, — отчужденно сказал Мокей.
Смешным и непонятным показался Любаше разговор Мокея с мужиками.
И мужики были не такие, как все. Смелые речи говорили мужики:
— В болоте тихо, да жить там лихо.
— И смирен пень, да что в нем? Пойдем с нами, Мокей.
— А кузню на кого брошу?
— О том ли печалишься? О душе подумай.
— Душа, у меня одна, — сказал Мокей, вытаскивая из кучи тяжелый обоюдоострый меч, — Возьмите и этот.
— Цену даем хорошую.
— А я с добрых людей мзды не беру.
Вдруг один из мужиков, тот, что сидел на орале, насторожился, встал и проворно шагнул к двери.
— А это еще что за пташка? — с угрожающей хрипотцой в голосе сказал он и сунул лохматую руку к Любашиному плечу.
Мокей обернулся, лицо его было бледно и испуганно. Но тут же кровь снова ударила в щеки, и в бороде льдинками сверкнули белые зубы.
— Не трожь девку. Любаша это, — проговорил он.
Мужик крякнул, и протянутая к Любашиному плечу рука его замерла в воздухе.
— А хоть и Любаша! — буркнул он.
— Не трожь, — повторил Мокей, и мужик, неохотно повинуясь его басистому рыку, послушно попятился в кузню. — Заходи, Любаша, гостьей будешь, — ласково предложил ей кузнец. — Вот мужики тут ко мне заглянули по соседству. Просят сковать им орала. Сковать ли?
— Отчего ж не сковать, — сказала Любаша, но, опасаясь мужиков, в кузню все же не вошла. — Вот, с бельишком я… Темнеет уж. Аверкий, поди, заждался, потылицы припас.
Лицо Мокея помрачнело.
— Не мужик у тебя — зверь.
— Ох, и не говори, дядька Мокей…
Мужики в кузне о чем-то шептались друг с другом. Мокей вернулся к ним, ворчливо успокоил:
— На трусливого много собак. Говорю вам — своя девка.
— Сами с умом, — сказал один из мужиков. Другой добавил:
— Кому что гребтится, тот того и боится.
Подцепив коромыслом корзины с бельем, Любаша пошла в гору, к деревне. Встречный ветер рвал у нее с головы плат, лепил к стройному телу сарафан.
Мужики вышли из кузни, блестящими глазами следили, пока она не скрылась за поворотом. Мокей не сердился на них. Ему даже приятно было видеть, как им понравилась Любаша. А такой ли она еще до замужества была красавицей!..
Он вспомнил об Аверкии, и глаза его налились темной водой. Давно просятся у Мокея кулаки испытать крепость Аверкиева затылка, сдерживает себя Мокей с зубовным скрежетом. Помнил, хорошо помнил кузнец, как княжеские милостники били отца его, Михея, батогами по груди, как ударила у старика изо рта горячая черная кровь и как помер он вот здесь, возле этой самой кузни, без креста и без благословения. Своенравный был старик, правду любил, за правду и пострадал. Может, и ему, Мокею, написано на роду также пострадать за правду?!
А за какую правду-то?!
Разве легче кому станет, как хлынет и у него горячая кровь, разве перестанет тогда истязать Аверкий жену свою Любашу, а боярин Захария отзовет во Владимир тиунов и, скажет мужикам: «Живите, как живется, по собственной воле…»?
Или, как эти мужики, уйти скитаться по лесам, загнанным волком рыскать по тихим болотам?!
Хочется воли Мокею, да только как ее добыть?.. Слышал Мокей, о воле мечтал и Давыдка, и нынче, говорят, своего достиг: первый человек при молодом князе — над мужиками вершит суд да расправу.
Разве о такой воле тоскует Мокей?! Не привязан медведь — не пляшет. И в болота Мокей не пойдет, и службой у князя не прельстится. У него — свое. За свое Мокей крепко держится. И не уговорить его мужикам.
У Мокея — кузня, любимое дело. Здесь он волен. Здесь и староста, и тиун, и боярин, и сам князь ему в ножки поклонятся. Будут просить: «Большой ты мастер, Мокей. А не скуешь ли мне меч?..» Придет сотник, придет тысяцкий и снова — к Мокею с просьбой: «Сулиц бы нам, Мокеюшка!.. Копий каленых! Стремян звонких, кольчуг крепких!..» И всё это сделает Мокей, любого уважит…
Опасливые мужики не стали задерживаться в кузне: сославшись на поздний час, ушли. Мокей кликнул юноту.
— Ты, Федюша, о людях этих попусту не болтай, — присоветовал он.
— Аль слепой?
— Не то зрячий?.. Рано тебе в этакие дела встревать.
Солнце уже скатилось за ближний лес, когда Любаша вернулась домой. На огороде развесила белье, на вопрос Аверкия: «Где леший носил?» — спокойно ответила:
— С водяным в голяшки играла.
Тут изо всех изб, будто горох, посыпала ребятня, с криками побежала за околицу.
Аверкий, сонно тараща подслеповатые глаза, поднялся с завалинки. Возвращающийся из церкви дьячок, как всегда под хмельком, остановился возле старосты, ухмыльнулся:
— Спишь, Аверкий?
— Да, вздремнул малость, — зевая, сказал Аверкий.
— Спи, спи, — кивнул дьячок, — А боярин-то с боярыней в гости к нам. Чай, старосту разыскивают.
— Ври-ко.
— Да поп побег за деревню. Не зевай, Аверкий. Не то придешь в пир на ошурки!..
И, заплетая тонкими ногами, побрел дальше.
Не поверил дьячку Аверкий, но судьбу испытывать не стал. Быстро натянул свалившиеся порты, завязал их на тощем животе веревочкой и побежал за ребятишками в гору.
А обоз — вот он, уже на горе. Не соврал дьячок.
От быстрого бега, а еще пуще от страха у Аверкия случилась икота. Встал перед боярским возком на колени, головой дергает, ни слова вымолвить не может.
Евпраксия смеялась над незадачливым старостой, а рассерженный Давыдка наступал на Аверкия конем, перебирая в руке тугую плеть.
— Оставь его, Давыдка, — сказала боярыня. — Видишь, и так в чем только душа держится. После накажем.
А староста Давыдку не узнал. Догадался только, когда обратилась к нему Евпраксия. Поглядел на молодого дружинника, открыл рот, а закрыть уж не смог: смелости не хватило. Взопрел Аверкий спиной, похолодел сердцем. Слухи и до него доходили, а не верилось, теперь же увидел воочию: восседает Давыдка на холеном жеребце, кафтан на нем синий, на груди — золотая гривна, сам сытый, волосы расчесаны, борода в завитушках. А глаза — будто две острые льдинки. Как понять?
Спас его поп Демьян. Благословляя хозяйку широким распятием, он пригласил боярыню поглядеть новый терем.
— Уж не он ли вон там виднеется, за березками? — приставляя ладонь к глазам, спросила Евпраксия.
— Он, матушка, воистину он, — подхватил поп, отталкивая Аверкия ногой. — Как батюшка твой наказывал, так и поставили: всей земле на удивление.
Аверкий соглашался с попом и, хотя никто уж не обращал на него внимания, с колен встать не решился, мотал головой и ел боярыню преданным взглядом.
Давыдка дернул коня за уздцы и направил его рысью к березовой рощице, из-за которой выглядывала крыша с резным охлупом и деревянным петухом на высоком гребне. Проезжая мимо елозившего в пыли Аверкия, не утерпел, ожег его плетью по согнутой спине. Не утерпел и скакавший за ним следом Склир. Рука у Склира была тяжелая. От его удара Аверкий покачнулся и сел в пыль, тараща на меченошу неживые от страха глаза.
Обоз проехал мимо, люди разошлись по избам, а староста все сидел на дороге, икал и скалился, как бездомный пес: должно, приснилось ему все это. Быть того не может, чтобы правда…
4
В новом тереме было по-праздничному светло. Полы, стены, потолки и лавки, белые, недавно струганные, свежо пахли сосновой смолой. Все чисто — нигде ни пыли, ни паутинки. В отволоченные оконца ветром задувало запахи речной прохлады, настоянный на грибах и ягодах лесной дух. Внизу, под теремом, на просторной лужайке, затянутой плотной травой, мужики сочно постукивали топорами — ставили боярские службы.
Давыдка скинул с себя кафтан, сапоги, с удовольствием касаясь босыми ногами прохладных досок, прошелся по ложнице, подумал: «Надо наказать, чтобы натерли воском». В княжеском тереме полы были натерты воском. Это нравилось Давыдке. Здесь, в Заборье, везде должен быть порядок. И хоть он не князь и даже не боярин, но уже чувствовал себя хозяином. Бабы и мужики, встречаясь, кланяются ему в пояс, обласкивают заискивающим взглядом.
Вот оно — наконец-то сбылось.
А ведь давно ли он сам числился за Захарией обыкновенным холопом?.. Вон там, за холмом, стояла покосившаяся, с подгнившими углами родительская изба. Теперь на ее месте только черные головешки. Огонь вылизал все дотла. А то, что осталось от пожара, растаскали по своим дворам запасливые мужики…
На лестнице послышались легкие шаги. Давыдка догадался — Евпраксия.
Боярыня вошла, остановилась на пороге: простоволосая, прямая, чем-то схожая с той, какою увидел ее Давыдка в тот первый вечер. Рот ее был слегка приоткрыт, тонкие руки сминали концы накинутого на плечи пухового платка.
Он шагнул ей навстречу. Пугаясь его мутного взгляда, Евпраксия откинулась — платок скользнул с ее плеч, бесшумно опустился на пол.
— Сокол, сокол мой ясный, — шептала Евпраксия, прижимаясь к Давыдкиной груди…
Потом терем наполнился шумом, разговорами, шагами чужих людей. В просторной горнице сидели дружинники — ели и пили, заливали льняные скатерти густой брагой. Пили за здоровье князя, за жениха и невесту. Покачиваясь, пели протяжные, грустные песни. Проверяли полы в новом тереме — плясали под гудки и свирели привезенных из Владимира скоморохов.
Аверкия на праздник не пригласили, пригласили попа Демьяна. Рядом с попом сидел Склир. Следя, чтобы чара у попа всегда была полной, Склир хмельно приговаривал:
— Встарь люди бывали умней, а ныне веселей. Кто в радости живет, того и кручина неймет.
Голова у Демьяна была крепкая. Хоть и выпил он больше Склира, а был трезв. Зато Склир едва ворочал языком.
Под лестницей, ведущей в боярские хоромы, мужики обсуждали приезд боярыни:
— Лют был Захария, да и дочь в отца.
— Что дочь! Заборье нынче за Давыдкой. Свой человек…
— Держи суму шире.
— Он те покажет.
— А вот поглядим…
До поздней ночи пировали гости в боярском тереме. К вечеру, обмякнув от хмельного, Давыдка велел выкатить мужикам две бочки меда. Сам вышел угощать на крыльцо.
— Пей, деревенщина, — говорил он. — Ходи, изба, ходи, горница… Молитесь за меня, мужики.
Аверкий юлил возле него, расставив ослабевшие ноги, размахивал черпаком (Давыдка доверил старосте разливать мед). Мед из черпака лился Аверкию на рубаху.
Пробившись сквозь обступившую терем толпу, Давыдка подошел к плетню, где стоял, поводя ушами, жеребец. Тот сразу признал его, обрадованно заржал.
Давыдка вскочил в седло, погнал жеребца в гору. Свежий ветер остужал лицо, вздувал на спине горбом неподпоясанную рубаху.
За кочкарником у реки трепетал огонек.
Жеребец ткнулся мордой в сруб, стал рыть копытом землю.
Давыдка вздрогнул, погладил коня по холке, пригляделся — и сердце тяжелым молотом бухнуло ему в ребра.
— Эй, кто балует? — словно во сне, донесся до него знакомый голос Мокея.
Кузнец вышел из-за угла сруба, смело взял жеребца под уздцы, повел к пылающей домнице.
Давыдка молчал. Покорно позволил Мокею отвести жеребца, покорно выбрался из седла.
Кузнец насмешливо оглядел его, покачал головой. Юнота, пружиня хилое тельце под просторной рубахой, закладывал в домницу просушенную руду.
Давыдка огляделся. Все у Мокея по-прежнему, а ему казалось — прошло сто лет.
— Садись, гостем будешь, — сказал Мокей, возвращаясь к Давыдке, и сам сел на сложенные возле сруба бревна. Сел на бревна и Давыдка.
Мокей вытер о передник темные от копоти руки, поднял с земли и бросил в кучу лома ненужную железяку. Железяка звякнула, покатилась вниз по сваленным здесь же мечам и копьям.
Что это вдруг всколыхнулось в Давыдке? Он почувствовал, как к горлу подкатывает давно мучившая его злость. Злился он не на Мокея. Еще с вечера появилась эта злость, еще до того, как съехались гости на пир… Ходил Давыдка у князя Всеволода в милостниках, весело глядел на жизнь. И солнцу радовался, и утренней прохладе. Любовался своей удачливостью: не каждому подвалит в жизни такое счастье, а ему подвалило… Но в Заборье все полезло в стороны, как гнилая ветошь, если взять да потянуть ее за концы. Думал, шелк али бархат, а в кулаке-то одна труха. С чего бы это?.. Или сглазил кто?
Многие завидуют ему. Парни лезут на глаза, грудь выпячивают — а вдруг приметит их Давыдка, вдруг шепнет князю на ухо: возьми, мол, в дружину? В дружине жизнь легкая, ни в чем нет отказа, только чтобы ежели понадобится — в огонь и в воду и отца родного в поруб…
Нет, никто не сглазил Давыдку. А поднялась в нем эта злость сама по себе — от воспоминаний, оттого, что снова коснулся себя же самого — давнего Давыдки, о котором и думать-то уже перестал. И не того, который прятался в родительской избе от Ярополка, а того, босоногого да голодного, который орал когда-то боярские поля, косил траву на боярских лугах, рубил сосны в боярском лесу, рыбу ловил в Клязьме для боярского обильного стола… В трудные годы, когда не хватало хлеба, лебедой и молицей питался Давыдка, а гордости своей не продавал за боярские подачки…
Не Евпраксию — Заборье взял у Захарии Давыдка. А что дальше?.. Ну, проехался по деревне на украшенном богатой сбруей жеребце, обнимал боярыню, плетью ожег Аверкия за старые свои обиды… А что дальше?.. Гнать мужиков в поля? Собирать хлеб и мед? Пороть за провинности перед боярским теремом?
Из угрюмой задумчивости вывел его голос кузнеца. Скосив сбоку глаза на Давыдку, Мокей спрашивает:
— И надолго к нам? Али навсегда уж? Слышал я, отдал тебе за дочерью боярин Заборье. Так ли?
Из головы Давыдки еще не выветрился тяжелый хмель. Вместо того чтобы ответить на вопрос кузнеца, он сказал:
— Пойдем, Мокей, угощу ромейским вином.
Но Мокей отказался:
— Не место мне в боярском терему. А за вино спасибо.
— Не простое вино, — вяло уговаривал Давыдка, — Такого ты не пивал…
— Может, и не пивал, — безразлично согласился Мокей.
Не завязывался у них разговор. Да и говорить-то не о чем. Разные они теперь люди. У Мокея — кузница, у Давыдки — терем со службами. Все Заборье у Давыдки, а радости нет.
— Раков-то ловишь?
— На раков юнота мастер, а я по железу.
Оба луки, оба туги. Кость на кость, видать, наскочила. Давыдка встал, чтобы уйти. Мокей тоже встал.
— Зол ты на меня, Мокеюшка.
— На себя ты зол, Давыдка, — сказал кузнец.
Давыдка хрустнул зубами, глядя в сторону, холодно, с угрозой, проговорил:
— Смел, смел, Мокей.
— Смелым бог владеет, пьяным черт качает, — спокойно ответил Мокей.
Давыдка молча подошел к вздрогнувшему хребтом жеребцу, отвязал поводья, грузно сел в седло. Мокей не пошевелился — он все так же стоял у сложенных возле сруба бревен, смотрел в огонь домницы. Волосы его, перевязанные сыромятным ремешком, отливали медью.
Давыдка дернул поводья. Жеребец вскинулся, рванулся вперед.
Когда Давыдка возвратился в терем, рубаха на нем была мокрой от пота. Он молча прошел в горницу, переступая через спящих, налил себе в чашу меду и долго пил его, запрокинув большую кудлатую голову.
5
Всеволод прискакал на рассвете с малой дружиной, бросил отроку взмыленного коня.
И сразу же все ожило в боярском тереме.
Из закутов сбежалась челядь, засуетились в светелке сонные девушки, на шум стали выходить еще не отрезвевшие гости. Позевывая, глядели на князя с удивлением, кланялись ему, льстиво улыбались.
— А кто тут за хозяина? Хозяина не вижу, — весело говорил Всеволод, не обращая внимания на поднявшийся вокруг него переполох.
Он шел размашистым шагом по сумеречным переходам, посмеивался, радуясь тому, что вот в такую рань он уже на ногах, что проскакал тридцать верст от Владимира до Заборья, и не за зверем каким-нибудь, а за боярыней, которую невесть почему захотелось увидеть среди ночи…
Евпраксия, пробудившись от шума, кликнула девку, и та, перепуганная насмерть, сообщила, что-де приехал в Заборье князь Всеволод и требует хозяев.
— Давыдку разыщи, — приказала ей Евпраксия, а сама стала одеваться.
Давыдка на подъем был спор. Едва только девка коснулась его плеча, как он уже был на ногах, вмиг сбросил с себя сон и через минуту спешил навстречу Всеволоду — как всегда готовый выполнить любой наказ князя.
Всеволод обнял Давыдку и нетерпеливо поглядел вокруг — где же боярыня?
— Проходи, князь, проходи в сени, — певуче растягивая слова, приглашал его Давыдка. — Вот здесь садись, князь, на эту лавку. Здесь помягче будет…
— А я не красная девица, — улыбался Всеволод, разглядывая сени со следами вчерашней попойки (на столе — объедки, ендовы и братины на полу). — Хорош, хорош терем срубили Захариевы плотники.
— Да и то сказать, — согласился Давыдка.
Глядя на князя, он думал с тревогой: «А неспроста в гостях-то Всеволод, неспроста…» И мысль эта, пришедшая внезапно, крепко засела у него в голове. Не давала она ему покоя и после, когда уж набились в сени дружинники, когда выжлятники стали собирать псов на дворе перед теремом, а сокольничьи поскакали по огородам, держа на рукавицах ослепленных темными колпаками соколов.
Но тут среди общего шума вошла Евпраксия в алом сарафане, в шелками шитой расписной кацавеечке, в кокошнике, украшенном дорогими каменьями, насурмленная да нарумяненная, и все тревожные мысли вдруг выпорхнули из Давыдковой головы. Просиял и Всеволод, двинулся навстречу молодой боярыне, не дал ей низко кланяться, попридержал за острый локоток.
Не видел Давыдка, как вспыхнули молодым румянцем щеки князя, как заблестели под ресницами его глаза. А если б увидел, то догадался — вот оно. А с чего бы еще скакать Всеволоду всю ночь? Не ради же одного-двух забитых лосей или десятка тетеревов!
Но Всеволод уже оправился от смущения. Стоя среди своих дружинников, в простой, как и у всех, рубахе, перехваченной в талии крученым пояском, он говорил об охоте, о том, что выжлятники выследили двух коров и сейчас дружина разделится: часть поскачет на болота, часть — на Муромскую дорогу. Как бы между прочим Всеволод добавил: наслышан он о ловкости и смелости молодой дочери боярина Захарии — может быть, и она примет участие в охоте?
Евпраксия тут же согласилась.
И снова ни о чем не догадался Давыдка, а ведь как все просто: и понимать тут нечего — вот оно, вот! И Евпраксия ждала Всеволода, знала, что прискачет.
А может быть, Давыдка и догадывался об этом? Может быть, князь и сам сказал ему, не таясь? Князю таиться ни к чему — на то он и князь…
Нет, ничего не знал Давыдка, ни о чем не догадывался и потому спокойно ехал с частью дружины на болота, а Всеволод с другой частью и с Евпраксией отправился на Муромскую дорогу.
Хороши августовские, уже слегка подрумяненные солнцем поздние леса. Сгинуло нудливое комарье, высветились полянки, свежий ветер легко пробегает по мягким тропкам, срывает и бросает к ногам медленно кружащиеся желтые листья. Но роща еще свежа. Еще все зелено вокруг, еще распевают в болотах с прозрачной водой говорливые лягушки, а на гарях пробивается из-под серого пепла острыми стрелами молодая трава.
Лихая, лихая была охота — такой охоты не припомнит Евпраксия. Да и с руки ли сравнивать боярскую охоту с княжеской! Отец, бывало, вскарабкается в седло, трясясь от страха, вопьется руками в гриву коня и едва трусит по наезженной дороге. И Евпраксии не дает своевольничать: не приведи бог, упадешь, ушибешься…
Зато Всеволод покорил Евпраксию. И, наверное, почудилось им обоим, когда с гиком продирались сквозь лесок за уходящей коровой, что родились они друг для друга. И что-то еще, недосказанное, необговоренное, было между ними, о чем они оба думали, но не решались сказать…
Глава четвертая
1
Долго, не день, не два и не одну неделю, шел Чурила на юг, шел в Киев, в Печерскую лавру — поклониться святым мощам, освежить раскаянием уставшую душу. Думал так: может, и останусь в монастыре отмаливать грехи свои, просить за русскую землю. Но уверен не был: еще бродила в нем мужицкая кровь, еще поигрывала в жилах молодецкая силушка…
И вот что заприметил в пути Чурила: на севере русский человек живет спокойнее. На севере, за лесами, за болотами, не прячет он в ометах меч, не прислушивается с опаской к конскому топоту, уверен — не дотянуться до него острому половецкому мечу.
На юге жизнь была иной. То и дело в степи полыхали пожары. Горели деревни, горели на задах обугленных пламенем изб недавно сметанные хлебные зароды. Смуглые от солнца и копоти степняки гнали в неволю русских людей: мужиков, баб, детей и стариков. Гнали скот, везли награбленное добро, пировали на русской земле, как у себя дома…
Как-то под вечер забрел Чурила в разоренную деревню, сунулся к колодцу испить воды, но из черной дыры на него пахнуло трупным духом. Порубленные мечами люди лежали на задах изб, на пыльной дороге, в огородах…
Тут за околицей послышались крики, и Чурила присел за колодезный сруб. На горке появился конный отряд, а за тем отрядом скакал другой, числом помене. В первых всадниках по одежде Чурила сразу признал степняков, сполз еще ниже, перекрестился и стал бормотать молитву, чтобы пронесло нечистую. Но кони сошлись возле колодца, и, выглянув из-за сруба, любопытный Чурила увидел, как десятеро русских конников в ладных кольчугах с холщовыми подбронниками врезались в самую гущу половцев, остервенев, рубили их направо и налево, будто капусту. Степняки защищались слабо, легкие щиты плохо уберегали их от ударов тяжелых мечей.
Впервые за много дней встретился Чурила с подобным. Раньше такого не бывало. Раньше казалось ему, что уж перевелись на русской земле богатыри, что забросили они от греха подальше свои мечи и ушли сажать огурцы да с бабами полоть грядки. И, крепко выругавшись, он схватил валявшуюся неподалеку березовую жердь, стал бить ею половцев по спинам и по головам, и бил до тех пор, пока земля вокруг колодца не покрылась трупами, а оставшиеся в живых не обратились в бегство. Но бежать им было некуда. Их окружили, обезоружили, сбросили с коней и согнали на середину разоренной деревни.
Проскакавший мимо Чурилы воин в помятой кольчуге крикнул с седла, обдавая его огнем раскаленных от ярости глаз:
— Ай да чернец! Ходи к нашим!..
Бросив жердь, Чурила подошел к воинам, вязавшим пленных. Половцы стояли у бревенчатого обгорелого сруба часовни. Понурыми, обреченными взглядами следили они за окружившими их плотной толпой мужиками.
— Что будем делать, Калина? — сунулся к воину в помятой кольчуге низкорослый мужичок с потрепанным треухом на голове. Сермяга на нем топорщилась уродливым горбом, на тонких ногах — полуистлевшие лапти-шептуны.
— С пленными нам воевать не с руки, — сказал Калина, разглядывая с коня притихших половцев. — Может, отпустим, а? Как думаете, мужики?
— Это как же — отпустим? — закричал мужичонка в треухе. — Это как же — отпустим-то?
— Ты уж молчи, Миней, — мягко остановил его Калина. — Не половцы мы, чай, христиане.
— А кто людей в деревне порубил? Кто над мамкой моей надругался? — наскакивал на него Миней.
Калина думал, морща загорелый лоб.
— Решать будем, — сказал он наконец. — Нам тут рядить недосуг. Так что надумали делать с пленными, мужики?
— В реку их, в реку! — кричали одни.
Другие были спокойнее:
— Калина прав. Не каты мы. Пущай идут в свою степь да накажут, чтоб боле к нам ни ногой…
Калина был старшим в отряде. К сказанному им вои прислушивались. Пошумев, погалдев, все-таки решили пленных отпустить.
Калина довольно улыбнулся.
— Вот и добро, мужики. Вот и ладно. Негоже нам с безоружными воевать. Чай, русские мы, чай, мы не половцы, — повторял он.
К вечеру в деревню стали возвращаться попрятавшиеся по лесам да оврагам селяне. Мало набралось народу. Из десяти дворов всего двора три, почитай, и осталось. Женщины плакали на пепелищах своих изб, мужики молча долбили из липовых стволов гробы.
Попа половцы изрубили, отпевать мертвых было некому. Тогда вспомнили о Чуриле.
— Есть у нас, мужики, поп. Не поп, а кряж — косая сажень в плечах.
А Чурила в это время сидел за столом в уцелевшей избе с Калиной и ел лещей с мочеными ягодами и солеными грибами.
Мужики столпились возле избы; двое, скинув шапки, вошли в горницу, стали просить Чурилу отслужить панихиду.
После панихиды вои помогли снести короба с убиенными на погост, предали их там земле и собрались возле часовни.
— Ты, Чурила, в Киев свой завсегда поспеешь, — говорил монаху Калина. — Поезжай-ко лучше с нами. Бери любого коня под седлом. Будешь мне другом.
Не сразу согласился Чурила. Слыханное ли это дело: только что дал обет смирения — и снова проливать кровь! Но тут же самого себя и словил: а у колодца? Не одну душу, почитай, отправил на небеса. Эх, будь что будет. Полно поганым безвинно хозяйничать на русской земле.
— Уговорил, сотник. С вами так с вами, — согласился он. — Только вот что скажу я тебе — с десятком воев от степи все равно не отгородиться. Изрубят нас половцы, а велика ли польза?
— Не изрубят, — убежденно сказал Калина, — потому как с нами бог и правое дело.
Напоив и накормив коней, отряд снялся с привала и ускакал на юг. Больше всех торопил Калину Миней.
— Горе у него, — рассказывал Чуриле сотник. — Был Миней, как и ты, смиренником. Божьим человеком его мужики прозывали. Промеж себя даже по деревням судачили, что у Минея ума не палата. Может, оно и так, кто знает. Жил он тихо, никому не творил зла. А хозяйка в его срубе была мать — древняя старуха Хоря, о которой сказывали, будто она с ведьмами заодно, будто на помеле летает. Знала Хоря разные премудрые слова, умела лечить от недугов, а Миней охотился в лесу на белок. Немало висело у него беличьих шкур, но ни одной из них он так и не продал. Чудно!.. И зачем ему только нужно было так много беличьих шкур?! А потом на деревню напали половцы. Много людей порубили, много пролили крови. Развели костер и бросили в него старуху Хорю. Минея привязали к дереву, чтобы глядел, как корчится в огне его мать… Тогда-то, слышь-ко, он и тронулся умом. Чуешь?
В темноте над вздыбленной буграми степью полыхали бесшумные зарницы. В высокой траве кричали испуганные ночные птахи. Кони осторожно косились во мрак. Вои тихо переговаривались. Калина попридержал коня. Отряд остановился.
В стороне, за оврагом, по краю которого извивалась тропа, слышался неясный шум. Он приближался, нарастал, и скоро в нем уже можно было различить отдельные звуки. Большой конный отряд переправлялся через реку.
Привстав на стременах, сотник, словно борзая, вслушивался в ночь. Вблизи раздался всплеск, послышалось чмоканье копыт по мокрой глине, ветер донес гортанные крики.
Калина тронул коня и спустился с берега в кусты, прилепившиеся к кромке оврага. Все последовали за ним. Снизу, от воды, пахнуло болотной прелью, с кустов осыпались крупные гроздья росы, пронзительно кричали лягушки.
С того места, где прятались вои, хорошо был виден противоположный берег реки. Он горбился и плыл, словно живой, — темная масса людей, коней и повозок.
— Половцы, — прошептал Калина, и Чурила вспомнил о пленных, которых они только что отпустили из деревни.
Вои притаились в низинке. Кони под ними возбужденно вздрагивали и фыркали. Но в шуме переправы их не было слышно. Там, где только что разворачивался отряд, уже скакали чужие кони, раздавались чужие голоса, скрипели чужие повозки.
Половцы двигались берегом, поодаль сворачивали в степь, и впереди, где скакала головная сотня, уже занимались багровые зарева пожаров.
2
На следующий день с утра отряд наехал на место ночной битвы. В низинке на зыбком податливом кочкарнике лежали русские и половцы. Топорщились в небо мечи и копья, пестрели разбросанные по зеленой траве красные и черные щиты. Вороны с утробным карканьем припадали к телам, а когда приближались люди, лениво перелетали на новое место. Поодаль темнели потухшие костры.
— На сонных налегли, — сказал Калина. — Горами людей накосили поганые.
В кустах послышалось чавканье копыт по болотной воде, и на поляну легкой трусцой выбежал серый конь, пригнув морду к земле, поскреб копытом траву, фыркнул и уставился на людей доверчивым оком.
— Ярик, — удивленно позвал Калина. — Да это ж Ромилов конь…
Услышав свое имя, Ярик встрепенулся и поскакал в сторону, словно приглашая их за собой.
На краю оврага Калина остановился и указал рукой вниз. Там, примяв под собой куст репейника, навзничь лежал воин в синем корзне. Кольчуга на груди его была порублена в нескольких местах, обнажившая розовую кость рана наискось пересекала череп.
Проворный Миней опустился перед воином на колени и приложил ухо к его груди. Некоторое время он слушал, потом лицо его посветлело:
— Жив.
Калина зачерпнул в шлем воды из протекающего по дну оврага ручья и осторожно обмыл раненому голову.
— Вот и встретились мы с тобой, воевода Ромил, — сказал он, скорбно ломая бровь. — Только нерадостной вышла наша встреча.
Вои за спиной сотника давали советы:
— На коня бы его…
— На коне не выдюжит.
— Где уж выдюжить, помрет в дороге. Вишь ты, сколько крови вытекло…
Калина приказал нарубить в леске жердей покрепче. Из жердей соорудили носилки, перевязав их прутьями; на носилки положили Ромила и перекинули их через крупы лошадей.
Отряд снова двинулся в путь.
Медленно ехали вои, боялись потревожить раненого. Миней шел за носилками пешим и время от времени смачивал Ромилу пересохшие губы. Воевода тяжело дышал, вскрикивал и звал кого-то в бреду.
— Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит, — говорил Калина погрустневшему Чуриле. — Трудно стало нам, наседает степь на Русь, берет за горло. Мужики — ни до сохи, ни до жены; скоро спать будем ложиться — меч брать в постель вместо бабы.
К заходу солнца зной спал. Остыло налитое жаром небо, остыла пыльная дорога. А когда из-за туч выплыл двурогий месяц, вои спустились в овраг, развели костры, стали варить уху.
— Слышал я, в Суждале житье спокойное. Не с добра, знать, в Киев подался? — спрашивал Калина монаха. — Аль грехов много, пришла пора замаливать?..
— Всякое тому виной, — не сразу ответил Чурила. — И через золото слезы текут. Иду я в Киев, а сердце мое в Суждале. Хорошо у нас, это верно. Сейчас бы и повернул. А наперед так думал: «Киев — матерь городов русских. Где, как не в Киеве, русскому человеку воля?» Ан здесь и того горше. И всюду, куда ни глянь, одно: князья друг с другом дерутся, а кабы всем вместе да навалиться на степь?..
— Вместе-то? — встрепенулся Калина. — Вместе со степью справились бы… Я тебе правду скажу: нет в наших князьях согласья — в том и беда. Рубят нас по одному поганые. Сегодня изрубили Ромила, завтра порубят меня…
— А вы-то чьи будете? — поинтересовался Чурила. — Киевские али северские?
— Мы русские, — сказал Калина, — а служим князю Ярославу. Ходили с ним на Святослава черниговского, пожгли Лутаву и Моравск. А после, как Олег северский бежал из-под Стародуба, Роман смоленский подступил к Киеву…
— Выходит, Киев нынче под Романом? А куда же подался ваш князь?
— В Луцк. Чего было ждать? Наш-то князь — тоже не святой. Киевляне на него в обиде за прежнее, и хоть Роман послал за ним, чтобы ехал опять в Киев, он не послушался. Так Роман и сел на его место… А из Романа какой князь? Мягок он, боится Святослава… Давыд же завел ссору с братьями — вот и пришли на Русь половцы, пожгли города, пограбили божьи храмы, а сколько людей наших угнали в полон!..
Рвут на части князья родную землю, ссорятся меж собой. Стоит великий город на Днепре беззащитен и одинок. Дерутся из-за него князья, проливают русскую кровь, призывают черных клобуков и поганых — только чтобы выше всех сидеть, только чтобы в Киеве. А великая-то Русь подымается за Окой. Там русский человек сидит прочно, блюдет отцово и дедово, гордится своим укладом, пашет землю, возводит храмы не беднее киевских. Далеко смотрел Андрей.
А что, как и Владимир пошатнется, не устоит; что, как подточат и Ростово-Суздальскую землю княжеские усобицы?!
Невеселыми думами встречал Чурила малиновый рассвет над степью. В белесом небе кружили вороны, с юга ползли тучи, на горизонте ворочалась далекая гроза…
К полудню небольшой отряд Калины, таясь по балкам и мелколесью, добрался до небольшой крепости. На земляных валах, увенчанных частоколом, толпились вооруженные люди.
После недолгих переговоров отряд впустили в ворота. Тотчас же носилки с раненым воеводой окружили бабы и ребятишки. Бабы голосили, ребятишки пугливо жались к их подолам. Спустившийся с вала розоволицый подвижной мужик взял сотникова коня под уздцы.
— Слава те, господи, слава те, господи, — частил он заплетающимся языком, — Едва дождались. Слава те, господи!..
— Да в чем беда? — удивился Калина.
— Поганые, батюшка, поганые, — встряла в разговор молодуха с распухшими от слез глазами. — Всю ночь, почитай, мужики-то сторожили на валах…
— Было такое, — кивнул розоволицый. — Нынче ночью степь-то будто вызвездило. Уж причащались, думали — не устоять. Ан пронесло. Нажгли костров, но к городу не приступили.
— И много их было?
— Тьма…
— Врешь, Силуян, — не поверил ему Калина.
— Вот те крест, — поклялся розоволицый.
Калина задумался. Слова Силуяна обеспокоили его. Глядя на раненого воеводу, он думал: «Не миновать беды. Покружат поганые по степи — не сегодня завтра снова приступят к крепости». Но сотнику не хотелось преждевременно пугать людей. Он сказал Силуяну, но так, чтобы слышали и бабы:
— Теперь вам бояться нечего. Теперь мы с вами.
— С тобой, Калина, сам черт не страшен, — отозвались в толпе нестройные голоса. — Не оробеем.
— Выстоим. Чай, у себя дома…
Ромил жил одиноко, не было у него ни жены, ни детей. Пятистенка его стояла возле самой часовни, на покатом бугре. С бугра открывалась степь на много верст вокруг привольные ветры гуляли во дворе Ромиловой избы.
Воеводу уложили на лавку, для крепкого сна дали испить настоя душицы, укутали в теплую шубу. Ромил пропотел, и к вечеру ему полегчало.
За раненым ходил Миней, Чурила помогал ему.
— Мамка моя была знахарка, — говорил Миней Чуриле, сложив на животе большие, черные от родимых пятен руки, — Всякое про нее в деревне болтали, а как у кого какой недуг — так сейчас к Хоре. И я возле мамки уму-разуму научился.
Пока они так разговаривали, сидя возле раненого, Ромил очнулся и слабым голосом попросил квасу. Обрадованный Миней выскочил за дверь, вернулся с пузатым запотевшим жбаном.
— Пей, батюшка воевода, — приговаривал он ласковым голосом. — Испей еще, совсем хорошо станет.
Напившись квасу, Ромил снова заснул.
Миней и Чурила на цыпочках вышли из избы.
3
Половцы подступили к крепости на рассвете. Первыми их увидели дозорные на валах. Скоро тревожная весть разнеслась по всему городу. Люди столпились за частоколом, притихнув, всматривались в степь.
Там, окружая земляные валы, скакали всадники на низкорослых лошадях, у края поля клубилась желтая пыль.
Половцев было много, больше тысячи. Несколько стрел перелетело через частокол. Кто-то вскрикнул, в голос запричитали бабы.
Чурила выбежал к воротам, возле которых Калина уже расставлял воев. Полотна ворот гудели от тяжелых ударов. С валов спускались первые раненые.
—‘ Постоим, мужики, за семьи наши, не отдадим дома на разграбление, — подбадривал защитников Калина.
— Ты уж на нас положись, Калина, — отвечали мужики. — Ты не боись.
Стрелы густо падали на валы. Там уже слышался звон мечей и копий. Дело дошло до рукопашной.
Чурила подобрал с земли брошенный кем-то меч и, размахивая им, стал карабкаться наверх. Еще не добравшись до частокола, столкнулся с окровавленным мужиком. Вместо лица у него — безносая маска.
— Глазыньки мои, — бормотал мужик, сгребая ладонью с лица кровавую кашу. — Ой, глазыньки мои…
В тумане навстречу Чуриле перебирались через частокол двое в лохматых остроконечных шапках — смуглые лица, редкие зубы оскалены.
Перехватив двумя руками меч, Чурила ударил наотмашь и того, что был чуть впереди, с выпученными глазами на безбородом лице, рассек пополам. Второй отскочил, и меч угодил ему в бок. Светлая рубаха на половце сразу стала черной.
Чурила выдернул из трепещущего тела клинок, оглянулся. На валах уже не было слышно криков — мужики рубились молча, словно валили стволы в лесу. Бороды растрепаны, рубахи и лица в крови…
Внизу загрохотало. Чурила обернулся. С вала ему хорошо было видно, как по упавшим полотнам ворот ринулась в крепость орущая сотнями глоток толпа. В толпе Чурила различил Калину. Сотник стоял окруженный половцами, взъерошенный, словно затравленный собаками медведь, и размахивал тяжелой палицей. Толпа обтекала его, вливалась в город. Ощерясь безголосым ртом, Калина бил палицей по мягким половецким щитам…
Чурила побежал от частокола вправо — вниз: там начиналась улица с наезженной дорогой, упиравшаяся на пригорке в избу Ромила. До этой улочки половцы еще не добрались, и мужики, резво перепрыгивая через плетни, прятались на огородах.
От стены повалил дым — горела изба воротника, торопливые язычки пламени плясали на крытых соломой крышах соседних домов. Из ворот выбегали ребятишки, падали на землю под ударами половецких сабель. Калины уже не было видно. В ворота протискивались возы на высоких колесах, под колесами кричали и стонали раненые.
Чурила бежал, стараясь заглотнуть пересохшим ртом как можно больше воздуха. На зубах скрипела пыль, жаркий пот заливал глаза.
Затылком, словно зверь, он почувствовал приближающийся конский топот. Отступил к забору, обернулся, почти ничего не видя перед собой — только черную тень летящего на него половецкого всадника. Пружиня мускулистую грудь, конь откидывал в сторону морду с налитыми кровью глазами, из-за гривы его острым жалом сверкало нацеленное в грудь Чурилы копье.
Монах переметнулся через забор и упал в мягкую грядку. Половец промчался мимо, развернул коня и повел его на огороды. Но в рыхлой земле конь замешкался — Чурила снова увернулся от копья.
Однако силы оставляли его. Улицу, огороды перевернуло, заволокло, смешало с землей и небом.
Внезапная боль пронзила ему шею, и на какое-то мгновение все озарилось белым светом. Чурила увидел перед собой склонившегося к гриве половца. Он вскинул над головой меч и, упав всем телом вперед, опустил его на согнутую спину всадника…
Очнулся Чурила от холода. Поежился, сел, оглянулся. В темноте вспыхивали и гасли красные блики, что-то потрескивало вокруг, откуда-то наносило запах горелого дерева. Сначала ему почудилось, что он на привале у костра, что вокруг него спят вои, а за костром, где недоставало света, без конца и края раскинулось ковыльное, ветрами взъерошенное поле. Но в голове гудело, а в груди словно застрял наконечник стрелы. Чурила встал на непослушные одеревеневшие ноги.
Вокруг него догорали избы. Он сделал несколько шагов, запнулся и упал. Постепенно привыкшие к темноте глаза разглядели груду тряпья, запрокинутую голову со страдальчески открытым ртом. У плетня тихо стоял низкорослый половецкий конь.
Чурила встал, подошел к коню и положил руку ему на холку. Вскарабкавшись в седло, он вспомнил, что оставил на грядках меч. Снова сполз на землю, поднял меч, долго отдыхал, прижавшись грудью к теплому боку коня. С трудом перевалившись через круп, он положил меч перед собой поперек луки седла, качнулся и тронул удила. Конь покорно двинулся по огородам к реке, протекавшей за крепостным валом.
На валу лежали трупы, в степи за валом горели костры. В пламени костров суетились маленькие темные фигурки, слышались чужие гортанные крики…
Чурила спустился к чернеющему неровными краями, наполненному водой рву, переправился через него и погнал коня в противоположную от половецкого стана сторону. Звезды указывали ему путь.
Он ехал всю ночь, не встретив ни души. Наутро пыльная степная дорога вывела его к большой реке. По реке плыли лодии, на противоположном берегу виднелось несколько всадников.
Чурила догадался, что река эта — Днепр. Если ехать вдоль Днепра, где-то там в горячем мареве должен быть Киев.
Чурила спешил. Ему не хотелось еще на одну ночь оставаться во враждебной степи. Степь пугала его. Она возвращала к страшным воспоминаниям. Он отгонял их и старался думать о другом. О Суздале, о тихой жизни в монастыре. Но в нем уже не было прежнего смирения, и не к богу взывали его мысли, а к ненависти. Так что же теперь вело его в Киев?
Неужели Калина прав, думал Чурила, неужели киевский князь слеп? Где его сильная дружина, почему не слышно быстрого топота коней, не видно воев, спешащих на помощь охваченным огнем беззащитным селам? Или поганые будут и впредь топтать русскую землю — то по собственной воле, то по воле призвавших их алчных князей?..
Уже под самым Киевом (в туманце видать было Гору) Чурила наехал на отдыхающих купцов из Олешья. От них он узнал, что во Владимире на столе утвердился Михалка, что Всеволод получил Переяславль, а Глеб рязанский вернул Успенью божьей матери иконы, книги и золото. Узнал, что Ярополк бежал в Рязань, а Мстислав призван на новгородский стол.
Купцам Чурила поведал о своих странствиях. Его слушали внимательно, сочувствовали и, посоветовавшись меж собой, взяли на корабль вместе с конем.
— Трудно стало вести торг, — жаловались купцы, — по всем дорогам грабеж. Раньше киевский князь высылал дружину для охраны от половцев. Теперь ему не до нас. Слышно, Святослав черниговский спит и видит киевский стол. До нас ли князю Роману?..
Хоть и близок был Киев, а подплывали к нему на исходе дня. Солнце опускалось за Гору, а предградье с Подолом уже тонуло во мраке. На высокие валы, окружавшие город, выходила ночная стража. До пристани на Почайне доносились звуки бил… Но здесь, у Днепра, еще кипела жизнь: разгружались и загружались лодии, поднимались в гору возы с товаром.
Сзывая к вечерне, малиново пропели колокола на киевской Софии. Вот где чудо, — кроме Софии, колоколов в ту пору нигде еще не было на Руси. Вслушиваясь в перезвоны, люди бросали работу, задрав головы, глядели на Гору.
Очарован был колоколами и Чурила. Сердце его постепенно оттаяло. Он даже подумал: «Вот она, благодать. Нет, не зря шел я. Останусь в лавре, паду перед игуменом, молить буду, чтобы не гнал. Навсегда останусь в Киеве…»
Но колокола свое отзвонили, пристань опустела. Чурила стоял на берегу, держа коня под уздцы. «Нынче в лавру не пустят, — решил он. — Нужно подумать о ночлеге».
А где ночевать пришлому монаху? В любую избу стучаться не будешь. Народ нынче осторожный. Кто доверится незнакомому человеку?..
Так бы, верно, долго простоял он, если бы не приметил нескольких мужиков, топтавшихся возле одной из изб предградья. Мужики поглядывали неуверенно.
«Тоже небось не здешние», — догадался Чурила.
— Эй, мужики! — окликнул он их.
Те поглядели в его сторону.
— Кто таков будешь? — подозрительно проговорил один из них, с длинными усами и без бороды. — По обличью монах, а с мечом.
— Из Суждаля я, — сказал Чурила. — Приехал в лавру поклониться мощам убиенных Олега и Глеба, а ночевать негде.
— А меч пошто?
— Про меч сказ долгий…
—. А конь?
— Конь не мой — половецкий. С бою взял. Теперь, должно, мой, — объяснил Чурила.
— Ай да чернец, — отмяк усатый. — Пойдем к нам, коли так.
— Вот спасибо, добрые люди, — поблагодарил мужиков Чурила. — Я уж вас не потесню. Мне бы половицу да коню сенца. Хошь и не христианский, а, чай, тоже есть просит…
— Будет и тебе каша, — сказал все тот же с усами. — Мы ведь тоже не тутошные. Черниговские мы…
— Значит, соседи.
— Ваши-то князья в отрочестве у нашего уху хлебали.
— Родня!
В избе было жарко. Чурила так и не смог заснуть, вышел во двор, расстелив рясу, прилег на землю. Подложив руки под голову, глядел в ясное небо.
Еще только что, несколько минут назад, в избе, забитой храпящими и постанывающими во сне мужиками, ему казалось, будто он в степи, будто за стенами стоят дозорные, — вот и сейчас, вдруг, сразу, тишина разорвется, и в избу ввалятся чужие озлобленные люди, набросятся на мирно спящих, изрубят их мечами, выволокут во двор под копыта бешено скачущих, белых от пота лошадей… А тут, под звездастым, непривычно черным небом, в Чурилу по капельке вливалась благоговейная тишина, и крики лягушек в луже у забора, и стрекотанье кузнечиков в чертополохе за конюшней уносили его в прошлое — в Суздаль, в монастырскую тесную келью, где все было заучено и так просто: жесткая лежанка, колченогий стол, книга под оплывшей свечой… Попивая мед, Чурила царапал летопись: такого-то года, такого-то дня преставился светлый князь Андрей, прозванный Боголюбским… За решетчатым окошком плыли мирные облака, от церковной кухни подымался вкусный запах похлебки. Чтобы не опоздать на обед, Чурила спешил дописать строку. Кому нужна его работа? Игумену? Люди не читают Чурилину летопись. А вечером его ждала Вольга, у Вольги на столе дымятся зажаренные в сметане караси…
Чурила будто парил над землей. Вот она вся перед ним — великая Русь.
Еще вчера он жил собою и для себя. Крохотная пылинка среди необъятных просторов. А нынче все вдруг объединилось в нем — и своя, и чужая боль. Вспомнил он и калику Фефела, и скомороха Радко, и игумена, и певца Ивора (уж он-то знал, для чего слагает свои песни!), и Калину сотника, и Ромила. Всех вспомнил Чурила, никого не забыл, никого не обидел. И подумал: с хорошими людьми ниспослал ему господь встречаться на своем веку. А сколько еще таких-то людей на Руси — ого!.. Вот и эти черниговские мужики, что храпом сотрясают избу, — свои мужики. Одного корня с суздальскими, с новгородскими, с полоцкими… А соберут их князья в кучу, сунут им в руки копья, набьют стрелами их колчаны — и пошлют убивать друг друга. Вместе с половцами, вместе с черными клобуками — русский-то русского…
Застонал Чурила, закрыв глаза, пошевелился на рясе. Что это? То ли ночь такая, что приходит в голову чудное, то ли в нем самом все переворотилось? То ли раньше был слеп, да вдруг прозрел? Или все померещилось на знойном степном ветру?..
— Будя, — успокоил себя Чурила и перевернулся на другой бок. — Завтра же с утра — в монастырь…
4
Разбудил его тот самый усатый мужик, который с вечера пригласил в избу.
Во дворе товарищи его плескали друг другу на белые спины воду из кадушки. В кадушке на зеленой пленке прыгал маленький серый лягушонок. Черпая воду, мужики старались не беспокоить лягушонка.
— Какая-никакая, а божья тварь, — говорили они.
Чурила тоже скинул рясу и умылся до пояса. Глядя на обнаженного мускулистого монаха, мужики восхищались:
— Микула Селянинович. Богатырь!..
Ночные смутные мысли еще не покинули Чурилу, но светлое утро, веселые мужики, знобкое прикосновение воды и упругого воздуха изгоняли остатки сна, проясняли голову, освежали тело. Он уже улыбался мужикам, подмигивал им, крякал и играл мускулами, радуясь и тому, что здесь он сильнее всех, и тому, что путь окончен, и что занимающееся утро наполнено волнующим перезвоном колоколов…
Потом они все сидели за длинным дубовым столом, ели кашу, запивали ее квасом, и мужики рассказывали о себе, о своей работе. Были они плотниками, рубили избы, а за старшого у них был Фалей — тот самый усач с ясными, ласковыми глазами.
Вечером уставший Чурила не мог как следует разглядеть старшого. Теперь за столом Фалей сидел против него, и Чурила отметил его высокий лоб, насупленные черные брови, приплюснутый нос и полные красные губы, то и дело раздвигавшиеся в доброй усмешке. Фалей весь был округлый и добрый. Мягкий голос и неторопливые, спокойные движения еще больше подчеркивали его доброту.
Размякший Чурила тут же, за столом, подарил плотникам своего коня.
— Берите, мужики, добрый половецкий конь. Мне он ни к чему, а вам сгодится для дела, — сказал он.
Фалей, смутившись, стал отказываться от подарка.
— Берите, берите, — настаивал Чурила. — Вы мне помогли, я — вам. Мир — золотая гора. Ну, сами посудите: на что монаху конь? Вы не возьмете, отдам игумену. А у игумена и без моего коня целый табун… Берите!
Лицо Фалея расплылось в улыбке.
— Случится беда, ищи нас, монах, — сказал он.
— Найду, — пообещал Чурила. — Конь узнается при горе, а друг при беде.
Над Почайной, над сгрудившимися у пристани лодиями, с криками кружились чайки. Легкий утренний ветерок с Днепра потрепывал опущенные ветрила, посвистывал в туго натянутых канатах. Народ толпой валил на Подол, на торг: ремесленники из предградья, бояре с Горы, приезжие гости со всех концов земли. Но зоркий глаз Чурилы приметил: нет уж той живости на Подоле, да и гостей стало поменьше — редко встретишь грека, поубавилось аравийцев, совсем не видно приезжих из Хорезма.
Толпа раздалась — с Горы на конях спускались к торгу важные бояре. Скакавшие впереди дружинники плетьми разгоняли нерасторопных зевак.
Чурила пробился вперед, чтобы получше разглядеть князя Романа.
Окруженный холеными милостниками, князь ехал тихо, понуря большую голову в собольей шапке. Тусклые глаза Романа безразлично скользили по людским лицам, тонкие губы в тщательно выбритой полукругом светлой бороде временами раздвигала вымученная улыбка. Парчовый кафтан пузырился на спине князя, синее корзно вяло ниспадало с покатых плеч.
Чурила вспомнил рассказ Калины и подумал: не князь уж Роман, одна только тень от князя осталась.
Чурила шел по пыльной дороге мимо вросших в землю изб, а за ними высились крепкие стены Горы, сытого боярского гнезда. Там, над острыми зубьями частокола, будто плыли в небе золотые купола Софийского собора. С юга, с Русского моря, плыли набрякшие на свежаке облака. За Горой они грудились в плотную тучу, и, когда Чурила приблизился к лавре, посыпал мелкий, как просо, дождь.
Под козырьком у обитых светлыми листами меди ворот толпились убогие и калики в ожидании заветных остатков с монастырского стола.
К игумену Чурилу проводил хромоногий служка с лысенькой, заостренной кверху маленькой головой. У кельи служка остановился, проблеял что-то по-овечьи и исчез — будто выдуло его через узкую щель окна.
Игумен Поликарп был стар и немочен, но маленькие глаза под седыми бровями глядели твердо. «Словно леший на болоте», — подумал Чурила и тут же мысленно перекрестился.
На лавке лежали отполированные пальцами кипарисовые четки; в келье пахло горелым деревянным маслом, под образами теплились робкие огоньки. Они отражались в зрачках игумена, и от этого глаза его временами казались Чуриле неживыми.
Поликарп внимательно слушал Чурилу, положив на колени четки, перебирал их узловатыми пальцами. Когда монах кончил, долго молчал, покашливая; потом сказал:
— Вольно живут монастыри на севере. Монахи пьют и бесчинствуют… Что привело тебя в Киев, Чурила?
— Хочу в пещерах очистить душу свою от сомнений…
Чуриле показалось, что просьба его звучит недостаточно убедительно. Поликарп тоже заметил это. Синие искры в зрачках потухли, пальцы замерли на четках. Теперь перед Чурилой сидел обыкновенный старый человек. И он устало говорил ему:
— Полынным ветром и конским пометом пахнет от тебя, Чурила. Я сразу почувствовал это. Ты слишком долго шел в Киев…
Игумен не упрекал его. Тепло сказанные слова не вязались с суровым обликом старика. Он продолжал:
— Ты шел к нам за смирением. Зачем? Твое сердце исполнено тревоги. Ты говоришь как мирянин, а мои послушники отреклись от мира, сердца их обращены к богу…
Игумен помолчал и, глядя в сторону, добавил:
— В лавру я тебя не возьму. Ибо сказано: «Да не имеешь с мирскими людьми благотворения или кумовства, ибо ты беглец от мира и от брака; сего не обретется у отцов, а если и обретется, то редко, и это — закон». Ступай!..
Со смятением в сердце возвращался Чурила от игумена. По мокрым от дождя каменным плитам, выстлавшим двор, бродили понурые монахи в шерстяных темно-красных и черных власяницах. У кладовых стояли возы. Монах-пекарь шел из собора с зажженной от лампады пред запрестольным крестом лучиной. Огонек трепыхался на ветру, и, чтобы он не погас, монах бережно прикрывал его ладонью…
Вратарь, жизнерадостный мужик с большими волосатыми руками, замахивался палкой на нудящих калик.
Чурила молча сунул ему в ладонь игуменову печать и вышел на дорогу. Здесь он остановился и облегченно вздохнул. Внизу, под обрывом, ворочался и терся боками о прибрежные скалы Днепр. Солнце, вынырнувшее из-за туч, сверкнуло в волнах; в кустах на противоположном берегу мужики грузили на телегу сено.
По узенькой тропинке Чурила спустился к воде. Волны обрушивали рыхлый глинистый берег, заглатывая куски, с легким шорохом откатывались на середину реки.
Подобрав рясу, Чурила присел на корточки, набрал в ладони желтоватой воды и умыл лицо. На ресницах засверкали золотые капельки; Чурила зажмурился и встал, подставляя лицо солнцу и речному ласкающему ветру.
Может, оно и к лучшему, что игумен прогнал его из лавры. Две жизни лежало по разные стороны монастырской ограды. И не смирения искала Чурилова душа — Поликарп сразу понял это, Чурила понял это только сейчас. Пестрый, беспокойный мир манил и звал его к себе. А он бежал от него — зачем? Кому станет легче от того, что он иссушит в келье свое сильное тело?.. У него крепкие руки, ясные глаза, быстрые ноги. Зачем он богу? Неужели бог не сможет обойтись без его крепких рук?!
Испугавшись крамольных мыслей, Чурила перекрестился. Но, обратив глаза в сторону церковного купола над монастырской оградой, он так и замер с поднятой ко лбу рукой: на краю обрыва, на бревнышке, только что очищенном плотниками от коры, сидел и, глядя на него, улыбался Калина.
— Уж не видение ли, уж не солнышком ли темечко припекло? — пробормотал монах, — Калина, ты?
— Я, — сказал Калина. — Шел мимо, гляжу — смиренник, обличьем вроде бы с тобою схож. Дай, думаю, погляжу.
В чем-то неуловимо изменился Калина. А в чем?
Сейчас они оба сидели на бревнышке, и Калина рассказывал о том дне, когда крепость осадили половцы.
— Ты же погиб. Я сам видел, как тебя изрубили, — удивлялся Чурила.
— Рубили, то верно. Да не изрубили. А потом мы с Минеем и еще с двумя воями вынесли из избы Ромила и ушли в степь. Сначала думали идти к Чернигову, но путь нам заградили половцы. Вот и повернули на Киев.
— И Миней с вами? — обрадованно спросил Чурила.
— И Миней. Ромил лежит на Горе. Еще плох, но уже лучше стало. Про крепость мы ему не рассказываем. Вот подлечит его Миней, поставит на ноги, тогда и расскажем… А ты? — Калина обнял монаха за плечо. — Ты-то как?
— Едва ноги унес, — с улыбкой отвечал Чурила.
— А в лавре? Был у игумена?
— Был.
— Значит, в монастырь? — голос у Калины осел.
— Не, — Чурила махнул рукой. — Не берут меня, Калина. Беседовал я с игуменом. Степью, говорит, от тебя пахнет, конским наземом…
— Ну-у! — обрадованно протянул Калина и, топорща бороду, улыбнулся.
— Чему улыбаешься?
— Рад.
— Это отчего же?
— А оттого, что нашего полку прибыло. Нет тебе дороги в монастырь. Только пути и осталось, что в дружину. Хороший из тебя получится вой, Чурила.
— Да уж силенкой господь не обделил, — признался польщенный монах.
— Вот и ладно, — Калина встал. — Пойдем в Гору. А о монастыре ты не убивайся. Грехи и после отмолишь. Все мы под богом ходим…
Над заполненным водой рвом перед входом в детинец был опущен мост на железных цепях толщиною в руку. На мосту стояли стражники. В Гору въезд не всякому дозволен: кого пропустят стражники, а кого и ткнут древком копья в мягкое место. На Горе живет князь со своею дружиной, ходят в Гору на совет бояре.
Калина показал стражникам княжескую печать, чернеца пропустили без проверки. Чернецов на Горе привечали, доступ им был не только в боярские, но и княжеские терема.
— Легко за готовым хлебом на лавке спать, — сказал Чурила, дивясь на добротные избы и церкви Горы. Здесь было не то, что в предместье или на пристапи у берегов Почайны. Богато, привольно устроились бояре на Горе.
— Ромил твой важный человек, — с усмешкой заметил Чурила. — Впервой я на Горе. Гляжу и глазам своим не верю: и откуда такая красотища?
— Холопами рубились терема, — отозвался Калина, — много поту пролито на Горе, много слез.
— У нас во Владимире тож Золотые ворота, Успенский собор не хуже Софийского…
— Знаю, слышал, — сказал Калина.
Не в боярском терему — в избе приютили Ромила. Под потолком, засиженном мухами, лежал воевода на лавке, покрытой лоскутным одеялом. Чурила не сразу узнал его — воевода обмяк, опал с лица, мокрые волосы прилипли ко лбу.
— Встречайте гостя, — сказал Калина, входя в избу. — Чай, не ждали.
В красном углу под образами, тихий и неприметный, сидел Миней.
— Пошли бог гостей — и хозяева сыты, — начал было он и осекся.
— Вот и ладно, — улыбнулся Чурила. Перекрестился на образа. — Рад видеть тебя, Минеюшка, в добром здравии.
— Чурила! — по-заячьи вскрикнул Миней, засуетился, запрыгал вокруг монаха.
От шума, поднятого воем, проснулся Ромил, мутными глазами оглядел вошедших. Калина присел на лавку в ногах у воеводы, поправил одеяло.
— Тяжко?
— Раны заживут. На сердце тоска, — слабым голосом сказал Ромил. — Душа летит к дому. Мнится мне, стряслась у нас беда. Ночью сон нехороший снился.
— А ты не думай об этом. Ты спи, Ромил.
Раненый вопросительно оглядел монаха.
— Что за человек? Чей? Не узнаю…
— Человек свой. Вместе в беду попали, вместе хлебнули лиха, — сказал Калина.
Чурила приблизился к лавке:
— Бери к себе, воевода. Хочу сечись с погаными.
Слова монаха понравились Ромилу, он улыбнулся и одобрительно поглядел на сотника. Лукаво посмеиваясь, Калина на стороны разглаживал бороду.
— С виду ты крепок, — слабым голосом отозвался воевода. — Как думаешь, Калина, возьмем к себе монаха? Монахов у нас нет.
— А отчего бы не взять? Можно и взять. Не из холопов, чай, — боярин не разыскивает…
— И то верно, — подмигивая Чуриле, сразу согласился Калина.
На исходе дня Чурила с сотником отстояли вечерню в Софийском соборе. Служба была торжественная. Свечи и вощаницы на деревянных стержнях освещали смиренные лица молящихся, высокие, расписанные картинами из жизни святых своды собора, украшенные золотом и дорогими каменьями оклады икон. Возле царских врат алтаря высился резной амвон, на котором стоял могучего телосложения дьякон в белых одеждах и читал псалтырь. На митрополите была позолоченная фелонь, колоколом спускавшаяся до самых пят, вокруг шеи обернута епитрахиль, на узком поясе висел ручник… Престол и киворий над престолом сверкали серебром и золотом. Алтарная преграда отливала всеми цветами радуги…
Сухощавое, оливкового цвета лицо митрополита, обращенное к молящимся, было словно высечено из камня, — казалось, мысли его парят далеко и от этого собора, и от людей на молитве, и от самой молитвы. Немигающие темные глаза скользят по полатям, на которых стоят дружинники и среди бояр своих князь Роман. У Романа землистые щеки, испуганные, бесцветные глаза. Не удержать Роману киевского стола, рассуждал митрополит. Крепче сидел бы на столе Святослав черниговский, но Святослав не торопится, выжидает, приглядывается…
За кого возносить молитвы свои Константину?
Митрополит пошевелился, смахнул прилипшую к щеке муху. Взгляд его задержался на лице Чурилы, пополз дальше. Вот они, его прихожане: парни и молодицы, старики и старухи, вои, ремесленники и бояре.
Уже не первый год он в Киеве, а все никак не привыкнет, все еще тоскует по Царьграду. Константин не сам просился на Русь — такова была воля патриарха. Нелегка служба на Руси, но патриарх знал, что Константин с ней справится. Перед отъездом новый киевский митрополит долго беседовал с цесарем. Потрясенная войнами Византия боялась усиления Руси. В Большом дворце на Константина возлагались немалые надежды.
Было время, когда надвинулась гроза. Она еще не прошла, глухо ворочалась на далеком северо-востоке. Князя Андрея убили, однако Михалка, брат его, прекратил усобицу железной рукой. А что, как снова подымется Владимир? Что, как снова выйдет из-под власти киевского митрополита?!
Тревожно на Руси. Понимают ли это в Царьграде? Обезопасит ли он, Константин, одним только словом божиим восточные ворота Византии, и без того уже потрепанной нашествиями разнузданных крестоносцев. Нет, не обезопасит: еще недостаточно крепка в народе вера. Древнее, языческое бродит в душе русского человека. Вон тот, уж на что монах, а не отведет, не опустит дерзких глаз. Глубоко, глубоко сидит в душах Перуново вольное семя…
Глава пятая
1
Понеслись ветерки с полуночи, ай да сентябрь! В сентябре одна ягода, да и та горькая — рябина. Прошел луковый день. Мужики примечали: коли луга опутаны тенетником, а гуси гуляют стадами и не летают скворцы, то осень будет долгой и ведреною.
Под Семен-день у Левонтия с Никиткой дел скопилось невпроворот. Были они накануне в хоромах у князя Михалки, показывали свой собор.
— Поставишь его, князь, на дворе возле терема. Хоть и не велик собор, а красен, — говорил Левонтий. — О таком соборе брат твой, Андрей Юрьевич, мечтал. По его наказу и сделано. Гляди, может, что и не так.
Скинул Левонтий тряпицу, отступил на шаг, смущенно поглядел на Михалку. Никитка побледнел от волнения — что скажет князь, неужто не оценит Левонтиевых трудов?!
Михалка покашлял, походил вокруг, молча сел на лавку. Долго сидел так, не двигаясь, потом велел меченошам кликнуть только что вернувшегося из Переяславля Всеволода. Всеволод узнал мастера, стал расспрашивать о жизни, но Михалка нетерпеливо оборвал его:
— Ты сюда, сюда гляди.
Теперь, со стороны, в хорошо освещенной комнате, за окнами которой виднелись заклязьминские дали, собор казался Никитке еще краше. Он представил его на зеленой круче рядом с резным теремом: терем — темного дерева, собор — белый, кряжистый; богатырь в золотом шлеме, а не собор.
— Такого в Киеве не ставили, — сказал Всеволод, обласкивая глазами мастеров. — То наш собор, Софийскому не чета.
— У Софийского свое, — задумчиво отозвался Левонтий. — Но что верно, то верно. Разреши, князь, слово сказать: стар я стал, глаза слепнут, а сердце молодо, — поставлю я этот собор, последний в своей жизни. Да Никитка вот поможет. За Никитку я головой ручаюсь… Кланяйся князьям, Никитка, — повернулся он к парню, — проси княжьей милости.
— Дозвольте, князья, — опустив голову, поклонился Никитка Михалке и Всеволоду.
— Тебе, Левонтий, виднее, — сказал Всеволод. — Кого хошь, того и бери в помощники.
Поздним вечером, после обильного угощения, вернулись Левонтий и Никитка из княжеского терема, а с зорькой они уже были в мастерской.
Много у них работы. И за год не управиться. А хочется сделать поскорее. Изукрасить весь храм сверху донизу резным камнем задумал Левонтий. Чтобы не только богатой росписью внутри радовал он глаз, чтобы и снаружи был праздник. В Византии таких храмов не ставили. Да византийская строгость и не по нутру русскому человеку. Не в небеса должен был звать храм, а к земле — от земли все соки, от нее и богатство, и сила. Прочно на земле стоит русский человек, прочно на земле встанет и Левонтиев храм…
И направил Левонтий Никитку снова по деревням — поглядеть на резьбу, отобрать, что лучше, что сгодится для большой работы. На этот раз ему дали коня, а в провожатые — меченошу Склира.
Так и не довелось Никитке погулять с Аленкой на осенних хороводах. Грустно было обоим перед близким расставанием. Когда-то доведется свидеться?! Небезопасна дальняя дорога, чего только не случится в пути.
Взял бы Никитка с собой и Аленку, но давешняя беда отдалила их друг от друга. Редко слышался теперь в Левонтиевой избе Аленкин смех, редко улыбался и Никитка. Сквозным холодком разделила их атаманова черная тень. Столкнутся, бывало, в сенях, посторонятся друг друга и разойдутся. А после Аленка плачет в углу, и у Никитки все валится из рук.
Им бы и не встречаться, да не тут-то было. Случалось, уедет Никитка на день-другой по делам, затоскует по Аленке, рвется домой, коня загонит, торопится. И Аленка с замиранием сердца прислушивается к конскому топоту — не Никитка ли? А сойдутся — и снова молчат. Что тут поделать?.. На что Левонтий человек старый, бывалый, но и он теряется. Разве вот только время залечит рану. Да и залечит ли?
Только, видать, плохо знал Никитка Аленкин нрав. Да и Аленка самой себе дивилась — откуда вдруг сила такая взялась?
Вечером, втайне от всех, разыскала она на княжеском дворе брата.
Увидев сестру, Давыдка немало удивился, в разговоре держался строго. Выслушав ее просьбу, сказал:
— Сарафан за кафтаном не бегает.
— Уважь, Давыдка, — со слезами на глазах упрашивала Аленка. — Вон каким знатным ты стал при князе. Не прошу я у тебя ни золота, ни серебра. Дай поехать с Никиткой. Уважь.
— А за чем же дело? — смягчившись, спросил Давыдка.
— А дело за малым: вели подать заутра к Левонтиеву двору возок. Доеду до Заборья, там и останусь. Повидаюсь с подругами.
— С Любашей небось?
— Повидаюсь и с Любашей. Дороги-то Любаша тебе не перебежала.
— О том ли речь, — снова нахмурился Давыдка. Но, подумав, обещал: — Ладно. Утром жди.
О своем разговоре с Давыдкой Аленка не сказала дома ни слова. Только лицом просветлела, весь вечер распевала песни.
«И чему радуется? — дивился камнесечец. — Не возьму в толк. Верно говорят: бабья душа потемки».
Зато утром, когда подкатил к Левонтиевой избе возок, все разъяснилось.
— Ну и хитрющая ты, Аленка, — говорил с легкой укоризной Левонтий. — А от нас зря таилась. Отпустили бы все равно, неволить не стали…
Про себя радуясь случившемуся, Никитка, однако, недовольно спросил:
— Чего надумала?
— Захотела да и надумала. Доеду до Заборья, а там погляжу.
Задиристый ответ Аленки Никитке не понравился. Но перечить он не стал.
Провожая Никитку с Аленкой, все были радостно возбуждены. Только Антонина погрустнела, да и с чего бы ей веселиться? Опять одна останется хозяевать в избе. Мар куха ей не помощник. Да и девичьи тревоги тоже высказать некому. Отец отродясь был хмур, с дочерью и двумя словами не перекинется.
Вслед за возком, чуть погодя, верхом на рыжем коне прискакал Склир. Был он боек, в чужой избе чувствовал себя как дома. Маркухе дал поглядеть на свой меч, мужикам рассказал о поездке в Заборье. Пока рассказывал, глаз не сводил с Антонины.
Молод, красив был меченоша. Неспроста девки ходили за ним табуном. В хороводах о Склире рассказывали срамное. Сидя против него за столом, Антонина рделась стыдливым румянцем.
Уже на крыльце, когда выходили провожать отъезжающих, Склир попридержался, склонившись к Антонине, опалил ей щеку своим дыханьем:
— Хороша, касаточка…
— Подь ты, шальной, — испуганно отстранилась от него Антонина.
Но крепкие руки Склира уже скользили по ее бедрам.
— Вернусь, наведаюсь в гости. Не выгонишь?
Антонина охнула, сбежала во двор. Снизу, со двора, окатила его укоризненным взглядом. Но кроме укора было в ее взгляде еще что-то. Однако, когда выехали за городские ворота, все забылось. Впереди, подпрыгивая на ухабах, пылил возок с Аленкой, за переправой синели бескрайние леса.
У Склира сладко защемило сердце. Всплыло перед глазами меченоши Любашино лицо, вспомнилась ночь у плетня, свадьба в Заборье, пир горой до самого утра…
— Э-гей! — кричал мужик на возке и замахивался на коней сыромятным кнутом.
Из-под колес возка с визгом выскакивали свиньи. Мужики, заслоняясь от солнца, глядели на бойкий выезд, гадали, куда и за какой срочной надобностью спешат люди.
— Должно, снова какая беда.
— Али князья ссорятся?
— У гола гол голик. Нам бояться нечего.
И неторопливо разошлись по своим избам.
2
У Никитки дух захватило, когда он услышал от Левонтия о задуманном. Такого на Руси еще никто не слагал. Никто о таком и слыхом не слыхивал.
— Всю стену изукрасим твоими узорами. Зверей, райских птиц и всякую живность поселим в твоем лесу. Пусть глядят — и дивятся, и радуются за землю русскую. Хороша наша земля — величава и причудлива. И всего в ней в избытке. А оттого и не жаль раздаривать красоту. Берите, уносите в сердце своем.
Всю красоту выплеснуть на соборные стены. И не выдумать ее из головы, не вырубить из камня во сне увиденное, а собрать по деревням, по проселкам…
Потому и не задержался Никитка в милом сердцу Заборье, а на следующее же утро подался вверх по Клязьме, в заповедные места, где жили большие хитрецы-умельцы: по дереву так работали, что сердце радовалось. Дорогу указали мужики:
— Большая это деревня, дворов на десять, а то и боле. Живут люди там охотой, от боярина откупаются медом да воском — вроде и не подневольные. Редко какой тиун, что посмелее, забредет в их глушь. Да и ты, парень, держи ухо востро. Народ, сказывают, угрюмый, до чужаков не шибко охоч…
— Наши в поле не робеют, — отвечал Никитка.
— Ну, гляди. Там ведь лес, а не поле.
Аленка тоже уговаривала Никитку не ходить. А уж ежели точно собрался, то пусть и ее берет с собой. В Заборье Аленка преобразилась: осмелела взглядом, распрямилась душой, — не то воздух здесь другой, не то прошлое всколыхнуло живую память.
Никитка даже оробел, совсем уж было размяк, чуть не согласился. Но вдруг опять посуровел, свел брови на переносье.
— Ты мне в таком деле не попутчица, вон лучше вымачивай с бабами лен. Да рассказывай им о Владимире на посиделках.
— А кто тебя в болотах от Ярополковых псов хоронил? — с отчаянием в голосе выкрикнула Аленка. — Кто кормил, поил? Кто ночами ходил, леших не боялся?
— Ты.
— А нынче — дело мое бабье?
— Ты, Аленка, и есть баба. Бабой и останешься. Что хошь делай, а тебя я не возьму.
Ушел Никитка на заре, когда Аленка еще спала, не то все равно увязалась бы. Ушел, а сердце тревожилось: ну что, как пустится вдогонку?
Так и случилось. Уж распрощался он с мужиком, что взялся указать ему путь, уж готов был свернуть на тропку, ведущую через болота, как, обернувшись, увидел, будто что-то маячит поверх тумана — что-то белое. Как раз в том месте, где дорога у Клязьмы делает поворот, а за поворотом взбегает в гору, прямехонько к Заборью. И не успел Никитка чего-нибудь придумать, как и придумывать стало ни к чему: по тропиночке, размахивая платком над головой, бежала Аленка.
Только подбежала — ткнулась лицом ему в грудь и затряслась от рыданий. И, вместо того чтобы пожурить, Никитка стал ее успокаивать. Вроде бы теперь он и взял ее, да как же вот так-то: простоволосую, в одном сарафане?!
— Возьмешь? Не обманываешь? — подняла на него Аленка мокрое от слез лицо.
— Взял бы, да не в Заборье же назад возвращаться. Эх ты, Аленка, Аленка, — укоризненно покачал он головой.
Тут Аленка отстранилась от него и, высоко подымая лапти, побежала по тропе в гору. Никитка и на пенек присесть не успел, как она уж возвратилась с холщовой сумкой на боку. Смущенно потупясь, сказала:
— Суму я еще с вечера припрятала в осинничке. Знала, что обманешь. Всю ноченьку тебя стерегла, да под утро заснула…
Никитка облегченно рассмеялся и почувствовал, как теплеет у него на душе. Так и пошли они вместе через болота по вешкам, указанным мужиком. А вешки-то вели в глухомань, в такую зловонную пучину, что сердцу временами делалось холодно. А ну, как и вправду высунется из зеленого окна какая нечисть, захохочет надрывным голосом, схватит скользкой от тины рукой за ногу да и к себе, к себе — потянет в бездонную пучину!..
Но зыбкое болото скоро обмелело, кочкарник вывел на сухое. На сухом вешки кончились, и, куда дальше идти, Никитка не знал. Потому и остановился в растерянности — хоть бы тропка какая, хоть бы чей, пусть едва приметный, след. Ни следа, ни тропки. А время уж за полдень перевалило — того и гляди, скоро начнет темнеть. В темноте-то и вовсе ничего не отыщешь.
— Говорил мужик про березку, а где она? — бормотал Никитка. — Берез тут не одна и не две, а целая роща. От березы, говорит, ступай на закат, вот и выйдешь к Боровкам…
Долго бродили они по лесу, а на дорогу так и не выбрались. Аленка устала, но жаловаться Никитке — ни-ни. Скоро Никитка и сам устал, подумал об Аленке: «А ей каково?» Выбрал тихую лужайку, примял траву, бросил под сосну мешок с едой и, вынув из-за пояса топорик, отправился нарубить сучьев для костра.
Аленка едва только распрямила на траве занемевшую спину, как тут же и заснула. Проснулась от жара, от бойкого потрескивания сучьев и вкусного запаха клокочущего в котелке варева.
Никитки Аленка не видела за огнем, он сидел с другой стороны костра — по хрусту слышно было — ломал о колено сухие сучья.
Потянувшись, Аленка встала, стряхнула прилипшие к сарафану листья. Никитка снял с огня котелок.
— Вовремя проснулась, не то бы всю уху съел, — сказал он, заглядываясь на девушку. Будто впервой увидал, будто спала с глаз пелена…
— На всю-то уху рот мал, да и пузо, поди, не боярское, — чувствуя его взгляд, со смешком отозвалась Аленка.
Подоткнув под себя сарафан, она села против Никитки у дымящегося котелка, вынула из сумы ложку, вытерла ее уголком платка. Свою ложку Никитка вытер подолом рубахи. Перекрестившись, приступили к ужину.
Но спокойно поужинать им не довелось. Не съели еще и половины ухи, как по лесу пошел рык и грохот, а потом послышались стоны.
— Никак, человека поломал косолапый, — прошептал Никитка и, усадив дрожащую Аленку под сосной, нырнул в чащу.
Из темноты раздался его голос:
— Как есть мужик. Эй, сердешный!
В ответ послышалось неясное бормотанье. Потом в круге света, падающего от костра, появился костлявый мужик в длинной, рваной во многих местах рубахе и в полосатых штанах. Мужик был одноглаз, и оттого, наверное, голова его все время сваливалась набок. Борода росла криво и концом своим подворачивалась к шее. Уж очень походил мужик на козла. И походка у него была частая и подпрыгивающая, и голос тонкий и дребезжащий.
— Вот, не задрал чуть, — подтолкнул Никитка мужика к костру. — Спрашиваю: откуда? Молчит. Что в чаще таился? Тож молчит. Должно, лихой человек. В лесу скрываешься — душу невинную загубил?..
Мужик дернулся и единственным глазом уставился на Аленку. Рот его кривился в безуспешных попытках изобразить улыбку. Улыбки не получалось, а губы дрожали, и казалось, что еще немного — и мужик заплачет.
— Послушай-ка, — вдруг обрадовался Никитка и ткнул его ладонью в плечо, — а не из Боровков ли ты?
— Из Боровко-ов, — проблеял мужик и громко икнул. — Аль тоже в Боровки собрался?
Никитка, нахмурившись, промолчал. Сразу раскрываться перед незнакомым человеком он не хотел.
— Тебя как зовут?
— Серка.
— Эко имечко, — сказал Никитка. — Ну да ладно. В Боровки не проведешь?
— В Боровки-то? — прищурился мужик. Теперь, когда беда миновала, когда разговор пошел о житейском, лицо его преобразилось, на губах появилась хитрая ухмылка.
«Не зря сказывали про боровковских, — вспомнил Никитка. — Вона какой Серка. Уж прикидывает, какую бы пользу с меня взять…»
Серка думал, почесывая рукой за ухом и щуря на огонь единственный глаз.
— В Боровки так в Боровки, — сказал он наконец все с той же хитрой ухмылкой. — Чай, Акумка не прибьет…
Он помолчал и добавил:
— Акумка у нас в Боровках за главного. Через него мы и стоим. Не то давно бы прибрал к себе боярин Захария.
— От Захарии ушли, не уйдете от нового хозяина, — сказал Никитка. — Нынче боярин за дочерью отдал Давыдке Заборье. А от Заборья до Боровков не тридцать верст киселя хлебать. Отыщет вас Давыдка…
— Может, и отыщет, — мрачно кивнул Серка.
— Ночью-то не заблудимся?
— А мне хоть глаз завяжи… Я тут каждую травинку знаю.
— С чего же тогда угодил под медведя?
Серка хихикнул:
— Ишь как приметил. Только я тебе вот что скажу: медведь-то не наш был, пришлый. Много бортей у нас разорил, много порушил сот. Беда!.. Выследил я его, да вот недоглядел: умный медведь оказался. Спасибо тебе, человече, спас ты меня от верной смерти.
И Серка поклонился Никитке.
Не нравились Никитке Серкины улыбки. Да что поделать? Без Серки никак ему не добраться до Боровков.
Не обманул одноглазый — дорогу он знал хорошо, по лесу не плутал, шел, будто у себя в огороде, да только не вывел их к Боровкам, а затащил в такую глухомань, что и звезды за деревьями не разглядишь. Затащил, а сам уполз, как уж…
Ударил себя Никитка кулаком по лбу, да поздно:
— Дурак, ну и дурак же я! И как только мог такому хитрому мужику поверить?!
Аленка успокоила его:
— Не ты один. И я уши развесила. Такого надо было за порты держать…
— Хват мужик. Без промашки. Точно — из Боровков…
— Что правда, то правда. Про боровковских такое сказывают: лапти сплел, да и концы схоронил. Знают их у нас в Заборье. Лаптями мужики по всему Ополью торгуют, а бабы, говорят, уж такие ли мастерицы — вкуснее боровковских соленых грибков нигде не отведаешь…
Долго еще бродили Никитка с Аленкой по лесу. Перед рассветом — уж закраина неба порозовела — упали в траву и заснули как мертвые.
А проснулись они от петушиного крика.
Еще бы два шага им ступить — и вышли бы к спрятавшемуся за кустами плетню: Боровки-то были рядом.
3
— А ну-ка, черт козлоногий, сказывай, как гостей в лесу закружил, — встретил Акумка прибежавшего на его зов запыхавшегося Серку.
Ступив в горницу, Серка остолбенел — и не от сурового взгляда старосты, а оттого, что увидел в Акумкиной избе своих давешних попутчиков.
— Что глаз таращишь, держи ответ, — грознее прежнего наседал на него староста.
Был он велик ростом, могутен в плечах, шея толстая, красная, будто на огне каленая, борода во все стороны топорщится, как шерсть на спине у испуганного кота. Серка рядом с ним и вовсе терялся — не мужик, а только одна насмешка: ни мяса, ни бороды.
— Ступай уж, — не добившись от Серки ни слова, милостиво отпустил его Акумка, — А вы, гости дорогие, пожалуйте к столу. Не обижайте старика, отведайте нашего яства.
Никитка с Аленкой, набродившись в лесу, проголодались, отказываться от приглашения не стали. Хозяйка, Акумкина сестра Ниша, пышная, как крупитчатая булка, тонкоголосая и улыбчивая, поставила посреди стола миску с медом, миску со сметаной да разложила несколько ломтей пахучего теплого хлеба.
Аленке даже дурно стало. Поспешно перекрестившись в угол, она зачерпнула ложку густого золотистого меда, намазала его на хлеб; другой ложкой зачерпнула сметаны. Опасливо поглядела на хозяйку.
Перехватив ее взгляд, Ниша сказала:
— Ешьте, ешьте, дорогие гости. Не стесняйтесь.
— Всякая избушка своей крышей крыта, — подхватил Акумка. — Ежели что не по душе, так не обессудьте.
В деревне у себя Акумка слыл человеком суровым, но с гостями был предупредительно ласков. Переступив порог Акумкиной избы, Никитка сунул оторопевшему старосте под нос Михалкову печать: гляди, дескать, мы люди князевы, не по своей воле пришли в Боровки, и нужна нам от тебя подмога; ежели что не так, не мы — князевы тиуны разберутся, а у них суд короток.
У Акумки дыханье сперло при виде Михалковой печати; аккуратно, боясь повредить, повертел ее в руке, бережно стряхнул приставшие к воску еловые иголочки. Ниша, стоя на цыпочках, оторопелыми, готовыми выскочить из орбит глазами заглядывала через его плечо.
Пока ели Никитка с Аленкой, Акумка о всяком передумал. А пуще всего гадал: с чем пожаловали гости? С добром от князя не приходят, это ясно. Не ясно только, какую беду привели за собой пришлые…
Но когда Никитка, нахлебавшись сметаны, рассказал, зачем прибыл в Боровки, Акумка чуть не подпрыгнул от радости: «Пронесло, пронесло. Слава тебе, господи, пронесло!..»
— Да-а, — успокоившись и обретя былую домовитость, улыбнулся Акумка, — много всякого чудного народа на земле. Знал я доселе: княжье дело — пиры пировать, да охотиться, да войну воевать. А чтобы доски собирать, такого еще не слыхивал.
— Ты толком говори, — оборвал его Никитка.
— А что толком-то, что толком? — зачастил староста. — Вы вон к Серке загляните. У Серки не изба — кружево… — И, уже совсем расхрабрившись, добавил: — Князю виднее, конечно, что к чему. А про нас рассуди: пользы нам от Серкиного баловства, ну прямо тебе скажу, никакой… Лапти-то, они идут, наши-то лапти самые ходкие. А вот Серкина работа — кому она нужна?..
— Должно, нужна, — неохотно объяснил Никитка.
Акумка выпытывал, чуял — дело выгодное, зря он ругает Серку. Поди-ка, Серкина-то работа пойдет еще и подороже лаптей, а?
Никитка молчал. Тогда Акумка окончательно решил: дело выгодное, и пуще прежнего заюлил перед Никиткой.
Никитка отмахнулся от него как от надоедливой мухи и вышел на улицу.
Серкина изба была крайней в левом порядке. Никитка приметил ее издалека. Да и вообще не врали мужики про Боровки — избы в Боровках одна другой краше. Но Серкина изба — всем на удивленье.
Сам плотник сидел на завалинке и расчесывал ногтями грязные ноги. Теперь он и совсем походил на козла: еще больше выпятились костлявые ключицы, еще сильнее ввалилась грудь, мокрая бороденка совсем истончилась…
Но не Серка привлек Никиткино внимание, Серку он заметил издалека, — теперь же взгляд его восхищенно скользил по стенам Серкиной избы: хороша изба, не изба, а храм!..
Никитка сам был плотником, умел ценить плотницкую работу.
— Ай да Серка! — сказал он, обойдя избу со всех сторон.
Пока Никитка ходил вокруг избы, Серка занимался своим прежним делом — расчесывал ноги. Но смекалистый глаз его был настороже. Казалось, он говорил: Серка — стреляный воробей, его на мякине не проведешь. И чего это пришлый так разглядывает избу? Али в Боровки перебирается, али бить по рукам собрался?
Продавать избу Серка не хотел. Как продавать, ежели в избе — половина его жизни?! Да и половина ли? Серка сросся с избой: стояки — вроде ноги, венцы — вроде руки, а кружевной наряд — Серкино платье. Не сыщешь такого платья ни у одного боярина. Чай, Серка тоже с крестом, хоть и нет у него бортей, а из скотины — одна только тощая коровенка. Но избу Серка не продаст. Продать избу — все равно что собственную душу заложить нечистому…
И откуда только принесло этого шустрого парня с девкой?.. Знать, не на радость — на беду. Лучше бы завел их Серка в болото. Из болота бы им не выбраться — в болоте бы они так и сгинули. Угощал бы их леший тиной да болотными пузырями.
О болоте Серка подумал просто так. Но мягкое его сердце вдруг стало обливаться холодом. Глаз помутнел, веки задрожали, он хлюпнул и рукавом рубахи смахнул внезапную слезу.
И когда Никитка, обойдя избу, подошел к нему, ожесточения в Серкином взгляде уже не было, а было только любопытство.
Никитка не стал томить его загадками.
— Повелел нам князь поставить во Владимире большой храм на горе, — сказал он, присаживаясь на завалинку рядом с плотником. — Но будет тот храм не простой, а особенный — вроде твоей избы…
Серкина борода затряслась от беззвучного смеха.
— Моя изба — не храм. И зачем божий храм делать, как мою избу?
— Твоя изба красивая, и божий храм должен быть красивым, — терпеливо объяснял ему Никитка. — Храм будет из камня, но мы вырежем на камне такие же узоры, как на твоей избе, посадим по закомарам зверей и птиц.
— Люди должны молиться в храме, — сказал Серка.
— Храм должен радовать людей, — отозвался Никитка. — Пусть люди любуются своим храмом и уносят в сердцах своих божью красоту…
Серка покачал головой. Он возразил:
— Какая же это божья красота? Красота эта от лукавого.
— И твоя красота от лукавого?
— А как же!.. Все мы здесь, за болотами, знаемся с лешими да с ведьмами. Наши-то Боровки за десять верст обходят. Давеча протопоп к нам пробился, винил в язычестве. Божий храм, говорит, испоганили, псы вы, да и только. Вот я и говорю…
— А что же в божьем храме-то? — удивился Никитка.
— А в божьем храме то же, что и везде, — моя работа.
Серка ухмыльнулся и снова принялся расчесывать коричневые ступни. Смекай, мол, пострадал я за свое, как бы тебе за свое не пострадать…
Никитка резво вскочил с завалинки:
— Кажи свой храм.
— Чего же его казать, — с деланным равнодушием отозвался Серка. — Его и отсюда видно. Эвона, купол-то как рыбья чешуя… Без единого гвоздика церковь срубил, вот те крест.
Серка и побаивался пришлого человека, и радовался тому, что может излить душу. По разговору он понял, что Никитка и сам плотник. Да и раньше, еще в лесу, он приметил Никиткин топор. По топору и хозяин. У такого топора хозяин плотник, оно сразу видно. Любит дерево Никитка и шел сюда не за медами. Неужто и впрямь о Серкином топоре такая слава по земле разошлась? А то вон Акумка только и знает что попрекать…
Тем временем Акумка думал другую думу. Акумке главное — что? Сидеть тихонько за болотами, чтобы не трогали. Боярские тиуны ему ни к чему. Он сам себе в Боровках и тиун, и боярин. Лонись откупились от Захарии медом да воском, а нынче иная беда стряслась — нынче им целиком деревню подавай. И всему виной он, Серка. Ежели не баловал бы топориком, ежели было бы все, как у других, нешто понесло бы на их голову этого белобрысого? Парень, видать, не промах, знает, что к чему. И не только Акумка, но и жирная Ниша сразу почуяла, что легло у Никитки сердце к Боровкам. А коли так, глядишь, и зачастит — наведет на Боровки беду.
Но еще и по-другому смекал Акумка: раз с князевой печатью посланный, значит, дело выгодное. Без выгоды князь тревожить себя не станет. Вот и не худо было бы белобрысого-то пугнуть, а Серку — к ногтю: пущай работает на Боровки, стругает прялки.
Пока Никитка с Серкой разглядывали церковь, пока лазили по кровле, Акумка прикидывал, что бы такое ему сделать, чтобы отвадить княжеских плотников от Боровков.
«Огонь — штука хитрая, — рассуждал Акумка, топорща бороду. — Огонь ведь полдеревни сжечь может. Вот беда… Да беда не беда, а моя изба с другого краю. Покуда красный петух долетит, мужички его словят…»
Поежился Акумка: страшно ему от смутных мыслей, но еще страшней от другого. Сказала ему Аленка, что Заборье теперь за братцем ее, Давыдкой, а Давыдка — не толстый Захария, Давыдка наладит гать через болото: земля-то его. И еще этот плотник надует в уши…
Сколько лет уж не думал о беде Акумка. А тут за все годы одним разом подумать довелось. Но на страшное рука не подымается. Ноги подкашиваются у Акумки.
«И Серкину избу, и храм божий спалить разом».
Помрачнел староста, сник.
Ни похлебка, ни квас не лезут Акумке в горло.
— Места наши гиблые, — рассказывал староста вечером молодому плотнику, — Леса, да болота, да кочкарник. Доброму мужику здесь не житье. Доброму мужику пашню орать, сеять хлеб, а у нас хлеба не растут… Худо.
Вечеряли при свете лучины, зажатой в поставце над кадушкой с водой.
— Сам-то, поди, не остался бы у нас? — кривил рот Акумка.
— Сам-то бы не остался, — соглашался Никитка, — У самого-то дело. Кому пашню орать, кому лес рубить, а мне ставить храмы. Зело красивый храм задумали мы поставить во Владимире. Красивее Успения божьей матери. Всем храмам храм.
— Доброе это дело, — покачивал лохматой головой Акумка. — Из белого камня?
— На века. Лес-то время источит. А нашему храму долго стоять…
— Эй, хозяйка, — позвал Акумка молчаливую сестру. — Ты бы нам медку принесла, доброго человека попотчевать. Без меду — какая беседа?
Непривычен был к меду Никитка, хмелел быстро.
А староста — себе на уме — подливал и подливал ему крепкого зелья.
— Пей, Никитка, от меду мысли очищаются, снятся хорошие сны…
И верно, сны Никитке снились хорошие. Снилось ему, будто плывет он по Клязьме меж зеленых берегов. Небо голубое, вода синяя. И тишина. Ни певчей птицы, ни шороха ветра, ни души вокруг. Плывет лодия, а всплеска весел не слышно. Диво.
А Никитка всматривается в даль. Чует он — вот-вот должно ему что-то открыться. Еще немного проплыть — может, до ближнего поворота, может, чуть подале. А вот от этой сосновой рощицы и совсем близко.
Качает лодию на встречной волне, дух захватывает у Никитки от бегущего навстречу бескрайнего простора. И терпенья уж не хватает Никитке. Впору оторваться ему от лодии, впору подняться над зелеными берегами…
И только подумал он об этом, как раздвинулись берега. Синяя гладь воды ушла вниз, а небо приблизилось, и белым дивом засверкал на горе, над краем обрыва, узорчатый храм с богатырским золотым шлемом.
Тут разом вздрогнула тишина, разорвалась стоголосыми криками. Заплескалась река, зазвенела вода под веслами, запели птицы в лесу, порывистый ветер ударил в уши звериными голосами…
— Вставай, вставай, — будила его Аленка и трясла за плечо.
Сон оборвался, Никитка вскрикнул и сел на лавке, часто моргая глазами. По стенам избы прыгали красные и желтые пятна, за оконцем шумела толпа.
— Беда, Никитка, — прижимаясь к нему, испуганно шептала Аленка, — Боровки горят.
В ложницу стучали.
— Да проснись же ты, — почти плача, тормошила парня Аленка. — Вставай. Али совсем очумел?
«Уж не Акумкина ли изба горит?» — почему-то подумалось Никитке. Он вскочил с лавки, босой, заметался от стены к стене.
В дверь стучали все настойчивее.
— Эй ты, заезжий, — долетали угрожающие голоса, — Не таись, выходи!
Аленка закричала. Подобру к спящим людям в двери не ломятся.
Никитка откинул щеколду. И тотчас же в ложницу ввалились взлохмаченные, орущие мужики. Впереди всех — Акумка с топором в руках.
Щуплый мужичонка в холщовой рубахе до пят замахнулся на Никитку корявой шелепугой, визгливо прокричал:
— Ентот?
Акумка перехватил его руку, прижал вздрагивающую шелепугу к полу. Мужик согнулся, корчась от боли. Никитка попятился, прикрывая собою Аленку.
— Вы что, мужики?
— Еще спрашивает! — загудели вразнобой. — Церковь пожег!.. Полдеревни в огне!..
Всех перекричал Акумка:
— Стойте, неча зря глотки надрывать. Перво-наперво нужно разобраться…
— А чо разбираться?
— Все и так ясно.
— Остыньте, мужики, — сказал Акумка. — Гостя я вам не отдам. Разве что самого изрубите…
Крики поутихли.
— Твой гость, тебе и решать, — пропищал мужик с шелепугой. — Только душу не томи. Боровки спалил — пущай головой расплачивается.
Лишь теперь понял Никитка, в чем его обвиняют. Мужики по-своему рассудили: жили полвека — беды не знали, забрел чужак — и нет Боровков.
Акумка грузно сел на лавку. Приглушенно ворча, мужики ждали у дверей.
— А что, как это Серка? — сказал кто-то. — С него станется.
Все молчали. Молчал и Акумка. Темный лоб его собрался в мелкие морщинки, глаза перебегали по лицам мужиков.
— Ты что, — разлепил Никитка пересохшие губы, — Ты и впрямь думаешь?
— Пьян ты был, — отворачиваясь, проговорил староста.
— Твоими-то медами…
— Не о том разговор, — отмахнулся Акумка. В Боровках его слово — закон! Захочет Акумка — и упадет Никитка под топорами. Только рот открыть Акумке…
Но Акумка медлит, боится беды. Не простой человек Никитка. И за Аленку крепко спросится с Акумки.
— Суд спор, а что, как и впрямь пришлый-то без греха? — повернулся староста к мужикам.
— Ишь ты, — ехидно пропищал мужик с шелепугой. Он стоял ближе всех к Никитке. Он первый и ударит. Уж очень хотелось мужику ударить Никитку. Хмельные глаза его были злы. Много, знать, накопилось в мужике горечи.
Но староста в деревне голова. Без Акумки ни лаптя, ни туеска не вынести из Боровков. Как решит Акумка, так решат и мужики.
— Волоките Серку, — сказал староста.
Мужики не двигались.
— Ну-ну! — прикрикнул на них Акумка.
— Серку-то за что? Серка — тихой, — сказали из толпы.
— В тихом омуте черти водятся. Никак, он и поджег.
— Божий-то храм.
— Зело хмелен был с вечера, — пояснил Акумка. — Волоките Серку.
У Никитки в голове прояснилось. Страх отпустил. Смело глядя на мужиков, сказал:
— Сдается мне, не там виноватого ищете.
Скуластое лицо Акумки налилось кровью. В тишине протяжно скрипнула лавка.
— Ты, пришлый, молчи, — отрезал Акумка. — Без твоего ума разберемся.
Мужики опять загудели, стали надвигаться на Никитку. Но прежней злобы в них уже не было. В глазах стояло любопытство: что еще скажет Никитка? Акумка не дал ему говорить.
— Ты в наших делах не советчик, — сказал он. — Сами разберемся. Верно, мужики?
— Разберемся, сами разберемся, — послышалось из толпы.
Напирая друг на друга, люди вышли из ложницы. Последним вышел Акумка. На пороге помедлил, обернулся:
— Ты, Никитка, уходи из Боровков, покуда цел. Вот тебе мой совет.
— Серку-то почто гробишь?
— Серка — наш человек. За Серку не боись.
— А церковь почто спалил?
Акумка не ответил. Взгляд его остановился на Никиткиных удивленных глазах.
Тут очнулась Аленка, вскрикнув, упала перед старостой на колени.
— Не губи, дяденька! — вдруг заголосила она, — Отпусти нас с миром из Боровков!..
— Ты — что? — растерянно наклонился к ней Никитка. — С чего ты взяла? Зачем?..
Торжествующая улыбка скользнула по Акумкиной бороде. Он отвернулся и, ни слова не говоря, вышел за дверь. Аленка билась в Никиткиных руках.
— Не роба ты, — успокаивал ее Никитка. — Почто — на колени?
— Страшно, страшно мне, Никитушка, — бормотала девушка, прижимаясь к его плечу мокрым от слез лицом.
4
Издревле повелся на Руси обычай — в новый дом переходить на Семен-день.
По обычаю учинил и Давыдка новоселье в своем Заборье. В честь такого случая Всеволод жаловал его собольей шубой, а Евпраксии прислал в подарок украшенный лазурью ларец. Сам он приехать не мог — дела отвлекли в Переяславль. Михалка был хвор.
Три дня праздновали новоселье в новом терему над Клязьмой, пили вина из Захариевых бездонных медуш, мужикам выставляли бочки с пивом. У ломящихся от яств столов прислуживали заборские девки и парни, на кухне распоряжалась Любаша. Взял ее Давыдка к себе в терем по просьбе Склира, а Любаша и рада: для нее хоть на край света, лишь бы не глядеть на нелюбимого. Стряпать же Любаша была мастерица — уважила гостей, накормила всех на славу. Радовался и Склир: здесь-то, в тереме, он как у себя дома. Нет-нет да и шепнет Любаше ласковое слово, нет-нет да и прильнет к ней горячим плечом. Давыдка же будто не замечал ее: дни и ночи проводил с молодой боярыней.
Весело праздновали гости новоселье — загоняли зайцев, подымали лосей, били птиц и прочую живность. Скакала охота по лесам, звонким лаем заливались гончие.
— Бери, бери, улю, улю, лю, лю!
В чаще собаки наткнулись на Никитку с Аленкой.
Выбравшись из болот, голодные, они заснули на берегу лесного ручья, а когда проснулись от шума, вокруг них, спешившись и на конях, толпились люди.
— Кто такие? Откуда идете и куда? — накинулся старший псарь. — Почто таитесь в едоме? Али лес пришли посекать на боярской роздерти?
— Ты что, дядька, — сказала Аленка. — Мы — тутошние, заборские…
— На челе не писано.
— Ну, так веди к хозяину. Давыдка — мой брат…
На собачий гам и человечьи голоса собралась вся охота. Прискакали и Давыдка с Евпраксией. Дружинник с трудом признал в грязной, нечесаной девке, пойманной псарями, свою сестру Аленку.
— Да какая же вас нечистая в болота занесла? — дивился он и хмурился. — А куда глядел Склир? Кому я велел присматривать за Аленкой?!
По пути в Заборье Никитка рассказал о том, как они пробирались в Боровки и как их там едва не приняли за пожегщиков. Давыдка смеялся, но глаза его были серьезны.
— Ушли-то как, ушли-то? — спрашивал он, заикаясь от смеха.
— А вот и ушли. Покуда Акумка с мужиками отправился Серку искать, мы и подались в лес. Два дня плутали. Едва не утопли в болоте, — рассказывал Никитка. — Трясина там, топь непролазная.
— И бортей у них много?
— И бортей.
Евпраксия прислушивалась к разговору. «Посмеюсь над отцом, — думала она. — Под боком у него мужики хозяйство вели, а он спал, как сытый кот. Хорошо еще, мыши хвост не отгрызли…»
«Вот бы вгородить Акумкину землю в поле», — рассуждал Давыдка. Получив взятку с девкою, сделался он прижимистым и оборотливым. В таких делах Евпраксия не вставала ему поперек пути. И у нее было свое на уме. От былой-то девичьей скромности не осталось и следа. Стала боярыня исправной хозяйкой — своего не отдаст, чужого не упустит. Бывало, и без Давыдки ездила она проверять закосы, пажити и дроводели. Ни одной заполицы не минет, ни одного острамка сена не проглядит.
Мечтала Евпраксия вывести Давыдку в большие люди. Князь Всеволод не забыл ее, шлет подарки, тоскует без нее в своем Переяславле, зовет в гости… С нарочным Евпраксия велела передать: буду с первым снегом. А Давыдка покамест пусть пооглядится, попривыкнет жить хозяином. Сразу-то от большого богатства да почестей и голову недолго потерять.
«Не худо, не худо бы прирезать к Заборью Акумкину новину», — думал Давыдка, укладываясь спать с молодой женой…
А Никитка с Аленкой вечеряли у кузнеца. Рад был им Мокей, смеялся над их рассказами.
— Так и приняли за пожегщика? — переспрашивал он Никитку.
— Так и приняли…
— Акумка — мужик не простой…
— Серку-мастера жаль…
— Серку ты не жалей. Нынче не Серку — тебя ищут мужики по лесу. Серка в Боровках человек нужный. Акумка нарочно вас упустил. Главный-то пожегщик он сам. Не хочет над собой боярских тиунов, да, видать, ума все-таки не хватило. Поставит Давыдка свои знамена на его бортях…
— Как есть поставит, — согласилась Аленка. — Вона глаза-то как у него разгорелись…
Говорить о Давыдке плохо при его сестре Мокей остерегался. И не потому, что боялся княжеского милостника, — берег девку. Небось сама со временем все поймет…
За полночь Аленку одолела зевота.
— В хоромах спать душно, — сказал Никитка Мокею. — Не постелешь ли возле кузни?
— Отчего ж не постелить? Натеребите из стожка сена — вот вам и постель. Найдется и одеяло, чтобы накрыться. Нынче холодно стало. Как бы не простыть…
С той ночи, проведенной у кузнеца Мокея, все вдруг перевернулось в Никиткиной жизни. А правду сказать, даже раньше перевернулось — еще когда ворвались мужики в Акумкину избу и стали угрожать расправой. Тогда-то и понял Никитка, как дорога ему Аленка: не задумался бы, лег под топором, а близко к ней мужиков не подпустил. Не гляди, что в плечах узок, но силен. А ловкости Никитке не занимать. Но тогда еще все это не прошло нутром. И только вернувшись в Заборье, успокоившись, Никитка почувствовал, как все очистилось у него на душе — словно проливным дождем смыло накопившуюся муть…
Не в Давыдкином возке — пешими — возвращались они во Владимир. Той же дорогой шли, что и в первый раз, когда бежали из Заборья от боярских послухов. Но теперь тревог не было, и таиться им было не от кого. А все-таки на дорогу не выходили; как тогда, выбирали тихие, потаенные тропки. Не от страха, а оттого, что хотели побыть одни.
Шли они по лесу, высматривали во мху грузди и рыжики.
— Ау! — кричала Аленка из чащи.
Никитка спешил к ней через бурелом, продираясь сквозь ветки, как потревоженный охотниками зверь.
— Чудной ты како-ой, — смеясь, нараспев говорила ему Аленка. — Аль потерять боишься?
— Боюсь, — соглашался Никитка. — Лес темный, ишшо утащит леший…
— Лес темный, да свой, — отвечала Аленка.
Под самым Городищем забрались в ельник с брусникой. Тут уж и вовсе подзадержались. Вроде бы и поспешать пора, вроде бы и солнце задело за верхушки деревьев — вот-вот скроется совсем, а как от ягод оторваться, когда вокруг красным-красно?!
Никитка ел, а Аленка собирала бруснику в подол сарафана. Много собрала, села возле тропки:
— Ешь.
Потянулся Никитка к бруснике, а рука, будто не своя, будто чужая, сунулась к Аленке, обхватила ее за плечи, запрокинула на спину. Посыпались ягоды в траву, — Аленка охнула и закрыла глаза.
То, что было ночью, в памяти не осталось, а ельник этот надолго запомнился Никитке.
Глава шестая
1
Широка, раздольна Русь — ни конца ей, ни края. Сколько уж дорог исходил скоморох Радко, а все слышит русскую речь. И радуется его сердце, и печалится. Радуется удали русской, доброте русского человека; печалится от бед, навалившихся со всех сторон на мужика: давят на него князья да бояре, вытягивают из него куны попы да монахи, жгут его землю половцы да свеи. А защитить некому: у князей забота — разделить землю так, чтобы достался кусок поболе. Того же мужика гонят против мужика. И льется безвинная русская кровь на бескрайних просторах. Реки русской крови впитали в себя черноземы и суглинки, белый песок вдоль русских рек порыжел от горячей крови…
В Великом Новгороде Радко задержался ненадолго. Заработки в городе были небольшие: множество скоморохов понабилось сюда с южной Руси. Уходили скоморохи вместе с мужиками от бесчинства князей и половецкого разбоя. Шли в Новгород и с берегов Варяжского моря: на западе свеи теснили Русь. Чуяли разлад среди русских князей, ковали мечи и латы, грабили гостей, холопов угоняли в рабство.
Потолкавшись с месяц на купецких подворьях, Радко запряг лошадь и двинулся назад — через Торжок на Москву и Ростов Великий. Здесь народ был подобрее: если и страдал, то только от своих же бояр. А с боярами Радко умел разговаривать, бояр Радко не боялся.
В Торжке было много гомону и суеты. Отсюда уходили купецкие караваны на юг и на север, в Ростово-Суздальскую Русь и в Киев. Здесь можно было увидеть и византийских гостей, и тезиков из Хорезма, ведущих большой торг с Новгородом. На скоморохов в Торжке большой спрос, и Радко понял, что не ошибся. Еды у него было теперь вдосталь, отощавший было Карпуша повеселел.
На торжище, среди делового шума и праздничного многоцветья, скоморох разыгрывал сцену с козой и медведем. Маркел натягивал на себя медвежью шкуру, Карпуша изображал козу.
С такими невиннымн шутками хаживал Радко и на боярские дворы. Там его щедро одаривали.
Но скоро затосковала его озорная душа. Раз на площади, в самый шумный день, разыграл он сцену с боярином. Боярина Радко изображал сам. Под одобрительный хохот толпы Карпуша и Маркел гоняли его по кругу батогами.
— Добрые люди, поглядите, как холопы из господ жир вытряхивают! — весело кричали они.
Тем же вечером пришли на площадь вои с приказом посадить дерзкого скомороха в поруб. Но скоморошья телега уже исчезла: Радко знал, что за такие дерзости не одаривают собольей шубой. К утру он был далеко от Торжка.
Днем передвигаться по дорогам было опасно, и Радко забивался в лесную глушь. Здесь, под соснами, он разводил огонь и варил в горшке сочевицу, а иногда борщ с морковью. Борща и моркови в телеге у него был целый мешок — ешь, не хочу. А где раздобыть мяса? Мясо им подавали в деревнях. Но теперь в деревни Радко не сворачивал, опасаясь тиунов.
Только въехав в пределы Ростово-Суздальской земли, он вздохнул облегченно. Здесь они были почти дома.
Однако в первом же селе едва не стряслась беда. Только-только показались они на околице, как их окружили мужики. Телегу остановили, Радка сбросили на землю, связали и оттащили на обочину. Маркела и Карпушу вязать не стали — приставили к ним сторожей с шелепугами.
— Попались, тати! — радовались мужики. — А ну, вилами их!
Так бы и прибили, толком не разобравшись, да выручил оказавшийся поблизости старик.
— Ликом-то они вроде бы на тех-то не похожи. — И рассказал, как проходившие селом скоморохи шарили по избам, а ворованное складывали в снятые с веревок бабьи рубахи и тащили со дворов на свои возы. Тем временем другие развлекали песнями доверчивых мужиков. Один из них уж больно ловкий был. По описанию Радко признал в нем Нерадца.
«Неужто жив? — удивился он. — Неужто носит еще его земля?»
Старик был прав, низкий поклон ему. В селе, куда их привели, все выяснилось. Приметливые бабы ни в Радке, ни в Маркеле не признали шустрого музыканта. А уж Карпуша и вовсе не походил на грабителя. Кончилось тем, что скоморохов накормили кашей и отпустили с миром.
Встречаться с Нерадцем у Радка не было никакой охоты. А встречи, видно, не миновать. Запомнил его Нерадец, не мог не запомнить. Когда отбивали у него Аленку у Неглинной, Радко столкнулся с ним лицом к лицу. Запали скомороху в сердце бешенством скошенные глаза атамана.
От таких глаз держись подальше, пощады от Нерадца не жди…
А дни стояли ясные, по всему телу растекалась солнечная благодать. Подремывая в трясущейся на ухабах телеге, Радко лениво вспоминал последние дни, проведенные в Новгороде.
— Батька, а батька, — толкнул локтем задумавшегося Радка Карпуша. — Не спишь ли?
— Не сплю.
Карпуша зашуршал сеном и лег рядом с отцом.
— Слышь-ко, — снова проговорил он, — а правда, что на Семен-день рыба угорь выходит с утренней зарей из воды и прогуливается лугом на три версты по росе?
— Правда, — сказал Радко. — Гуляя по росе, угорь смывает с себя все болезни…
— Хитрая рыба, — тихонько засмеялся Карпуша. — Батька, а батька!
— Ну что тебе?
— А угря едят?
— Едят, да только в крайности. И то надобно наперед обойти семь городов, и, если не сыщешь никакой яствы, тогда можно есть.
Угорь — водяной змей, говорили в Новгороде, хитрый и злобный, но за великие грехи свои лишенный возможности жалить людей и зверей. Оттого-то и применяют его в своих кудесах волхвы, когда нужно знать о пропаже…
Э, да каких только чудес не встретишь на свете!.. Задумавшись о чудесах, Радко не заметил, как лошаденка свернула с наезженной колеи на лесную дорогу и, пройдя с полверсты, остановилась у плетня, за которым в сени краснеющих тяжелыми гроздьями рябин виднелась изба.
2
На невысоком крыльце стоял мужик в расстегнутой на волосатой груди рубахе.
— Ай да гость! — сказал он, разглядывая лошадь.
Радко вытаращил начавшие тяжелеть от дремы глаза. Он все еще не мог сообразить, где находится, что это за изба и почему на пороге избы стоит Нерадец. Уж не во сне ли привиделось?..
Нерадец сошел с крыльца и направился к телеге. За ним из избы высунулось еще несколько мужиков. Задвигался и захрапел привязанный к задку телеги медведь.
Увидев медведя, мужики остановились.
— Чо, испугались? — усмехнулся Нерадец.
Из толпы пробился к атаману безбородый Хома. Жирное гладкое лицо его лоснилось и блестело.
— Вот, Хома, мой давний знакомый, — сказал Нерадец, указывая на Радка. — Давеча я нюхал его батогов, нынче он понюхает моих…
Тряся подбородком, Хома надрывно захохотал.
— Не ершись, атаман, — сказал Радко с телеги. — Что да как, еще поглядим.
— А и глядеть нечего, — ответил Нерадец и дал знак своим мужикам: — Вяжите его, ребятушки, да раздувайте огонь. Нынче будем делать жаркое из скомороха.
Трое мужиков тут же повисли у Радка на руках и на шее. Но скоморох стряхнул их с себя, как переспевшие яблоки с ветки, — мужики со стуком попадали на землю.
Хома, сложив руки на толстом животе, почтительно покачал головой:
— Силен. Нам бы такого в ватагу, а?
— Такого нам нельзя, — сказал атаман. — Опасный человек. — И, повернувшись к мужикам, посоветовал: — Вы мальчонку-то берите. Через того мальчонку скоморох сам к нам придет.
— Мальчонку, Нерадец, не тронь, — сразу побледнев, попросил Радко. — Голубиная душа. Он тут ни при чем. И горбуна не тронь…
— Горбун нам без надобности, — отозвался Нерадец и — снова мужикам: — Аль не слышали моего приказу?
— Беги, Карпуша! — крикнул Радко.
Мужики всей толпой рванулись к телеге, но Радко упал передним под ноги. На передних повалились задние. Карпуша скатился наземь; еще миг — и его белая рубашонка, мелькая меж кустов, скрылась в лесу.
Выбравшись из кучи, мужики, сопя и матерно ругаясь, придавили скомороха к земле, но он и на этот раз стряхнул их с себя, встал и двинулся на атамана.
Хома, взвизгнув, как поросенок, вкатился на крыльцо избы, но Нерадец не шелохнулся: страх приковал его к земле.
Сладко выдохнув, Радко ударил мокрого от пота атамана по переносице, свалил на траву, перешагнул через его тело и стал деловито выворачивать из плетня кол.
Тут Хома, совсем ослепнув от страха, наугад бросил с крыльца сулицу. Не думал, что попадет, а — попал. Прямо в шею угодил скомороху. Радко зарычал и осел на землю. Тогда мужики, словно свора гончих, кинулись на него со всех сторон. От ударов Радко потерял сознание.
Очнулся он в избе на полу в луже загустевшей крови. Мужики пили брагу и глядели на него с любопытством. Нерадец сидел на лавке; голова его была перевязана мокрым платком, из-под платка на глаза и щеки стекала синева.
Спокойно говорили о страшном. О медведе, которого пустили на мясо, о зарубленном на дворе Маркеле.
— Злой был горбун, — хвастался, тряся подбородком, Хома, — Кусачий. Так я ему зубы-то по одному, по одному…
— Визжал, как резали…
— Живучий…
— Ну а с ентим что будем делать? — спросил Хома атамана. — На растопку аль как?..
Нерадец ответил не сразу. Сидя за столом, атаман думал о главном. Не из-за Радка подался он к Плещееву озеру — другие были задумки. А о задумках этих знали лишь они двое — Нерадец и Хома.
Издалека лежал их путь в Ростово-Суздальскую землю. И не по своей по собственной воле — по воле боярина Добрыни попали они в Ростов. А дело такое, что выбирать им было не из чего. Тогда, на Мсте, только Мошке с детенышем и довелось бежать. А Нерадца с Хомой вои схватили прямо возле боярского возка.
Однако хитрый Добрыня не спешил рубить им головы. Срубленную голову на место не пришьешь, рассудил боярин. А вдруг сгодятся разбойнички?.. И боярин решил так: «Привезу-ка я их в Ростов, а в Ростове поглядим. Ежели не сгодятся, так в мешок — и в реку…»
Сгодились разбойнички. Не без надобности тащил их с собой Добрыня. Вскоре после приезда состоялся у него долгий разговор с боярами, на который зван был епископ Леон. И понял Добрыня из разговора: бояре замыслов своих прежних не оставили, Михалку и Всеволода на Ростово-Суздальском столе терпеть не станут.
— Михалка скоро преставится, — говорили бояре, — а Всеволод еще щенок.
— Щенок, да кусачий, — сказал Леон. — Поостерегитесь, бояре. Не тешьте себя пустой надеждой.
Долго говорили в тот вечер бояре. Сидели в душной келье, обмахивались убрусами, пили крепкую брагу. И то, о чем прямо не было сказано, висело в спертом воздухе. Никто не решался начать. «Михалка сам преставится, а Всеволода нужно убрать», — думали бояре.
И Добрыня сказал, нарушив затянувшуюся тишину:
— Есть тут у меня людишки. Привез в Ростов на расправу, но ежели что… Глядите, бояре…
Сгодились Нерадец с Хомой. Толковый разговор вышел у них с боярином. Боярин строго наказал:
— Не убьете Всеволода — на дне моря сыщу. Лютой смерти предам, чуете?
— Чуем, боярин, — поклонились Добрыне Нерадец с Хомой.
Легкий дал им боярин откуп. Зарезать человека, хотя и князя, — для Нерадца с Хомой дело пустяшное. А после — гуляй на воле. Еще и денег даст щедрый боярин.
— Всего вам будет вдоволь — не обижу, — двусмысленно пообещал Добрыня.
Разных страшных людей повидал на своем веку Нерадец, а такого встретил впервые. От боярина на три версты несет могильным холодом.
Людишек для дела подобрали тоже не без боярской помощи. Хороших людишек. С такими людишками в былые времена пошел бы Нерадец на любое дело. Но здесь не он хозяин, здесь хозяин Добрыня. А Нерадец в ватаге за старшого. Не за атамана.
Ждали Всеволода на пути из Переяславля в Ростов. Сказали бояре: князь поедет по лесной дороге и воев при нем будет немного. А у лесной дороги стоит изба, а у той избы — колодец. К избе князь всякий раз заворачивает испить из колодца ледяной воды. Тут и стерегите.
Тут и стерег Нерадец, а на душе — ни клочка ясного неба, все черными тучами заволокло. Сроду еще не хаживал Нерадец на такое, хоть и слыл сорвиголовой. Нутром своим звериным чуял — несдобровать. Не кунами наградит его Добрыня за смерть князя — предаст лютой смерти, дабы некому было трезвонить по Руси о коварстве ростовского именитого боярства.
В недобрую пору наехал на Нерадца Радко. В другое-то время и поговорил бы с ним по душам атаман, и браги бы дал испить, а уже после предал смерти. Но нынче атаману было недосуг. И потому сказал он мужикам:
— Не время нам судить да рядить. Отволоките-ка скомороха в лес подальше от избы — да и в петлю.
Радка подняли, поставили на ноги.
— До встречи, атаман, — сказал он Нерадцу.
— Еще не скоро свидимся.
— Гляди…
— На все воля божья, — поморщился Нерадец.
Подгоняя пинками, скомороха вытащили из избы. Поглядел Радко в последний раз на голубое небо, просвечивающее через густую листву, и тяжело вздохнул.
В это время на дороге послышался топот многих коней.
3
Вот и свиделись Радко и Нерадец. И солнце-то четверть круга не прошло над землей, а в избе все переменилось. Теперь Нерадец лежал в углу крепко-накрепко спеленатый веревками, а Радко сидел рядом с князем Всеволодом за столом и пил брагу.
Вовремя выбежал на дорогу Карпуша, вовремя бросился под копыта княжескому коню. Не то хоть и прискакали бы, а в живых Радка не нашли.
— Издалече ли и куда путь держишь, скоморох? — приветливо спрашивал у Радка князь.
— Еду я из Великого Новгорода, а путь держу в Поле, — говорил Радко. — Жизнь наша вся на колесах. Вон и телега моя во дворе. Ездим мы, скоморохи, по Руси, веселим присказками честной народ — тем и кормимся.
— Тяжело тебе, скоморох, — сказал Всеволод.
— Зато вольно, — отозвался Радко.
— Вольно, говоришь? — сузил Всеволод глаза и в упор поглядел на скомороха. — Смел, смел ты, Радко…
— Да уж какой есть.
— А вот велю я тебя связать да бросить в поруб, — сказал Всеволод. Он помолчал, глядя в ковш, и добавил: — Много смуты от вас пошло по Руси…
— Всякое говорят.
Всеволод рассмеялся. Понравился ему Радко: богатырь, большой души человек. Самого князя не испугался.
— А не пойдешь ли ты ко мне в дружину? — вдруг предложил он. — В дружине у меня житье сладкое.
— Отчего же не пойти? — хитро отвечал Радко. — Да какой из меня вой? Я — скоморох. И отец мой был скоморох…
Князь покачал головой. «Еще и умен», — одобрительно подумал он о Радко.
В избу вошел сотник.
— Что будем делать с татями, князь? — спросил он, — Здесь кончим али в Ростов повезем?
— Повезем в Ростов, — сказал Всеволод. — Покажу-ка я их боярам да спрошу с них строго: почто на дорогах русскому человеку житья не стало. Где их боярская твердость, куда глядит ростовская дружина?..
Пока сидели в избе, Карпуша ни на шаг не отходил от отца. Ластился он и к князю. Всеволоду понравился малец.
— А не отдашь ли мне Карпушу, скоморох? — снова приступил он к Радку. — Возьму его в терем. Надоело, поди, мальцу таскаться в твоей телеге? Подарю ему меч, подарю коня…
— Да что ты, князь! — побледнев, воскликнул Радко. — Последнюю радость отымаешь.
— Неуступчив ты, скоморох.
— Свое дитя…
— Князь — всем вам отец.
В словах Всеволода послышалось раздражение. Радко смягчил разговор:
— Вот приедем в Ростов, там и потолкуем.
— В Ростов так в Ростов, — согласился Всеволод и велел седлать отдохнувших коней.
Давно не бывал Радко в Ростове: все стороной да стороной лежали его пути. И потому сейчас, когда подъехали к городу, замер, привстав в своей телеге, изумленный. Будто волшебством вознесенные над синими водами Неро, дыбились могучие стены ростовского кремля. В глади озера отражались прямоугольные, рубленные из толстых кряжей башни, церкви, избы посада. А на волнах белели паруса, будто со всего света слетевшие на озеро белокрылые чайки.
Бояре большой толпой встречали Всеволода, заглядывали ему в глаза, кланялись и улыбались. Служки перед архиереем несли святые дары.
Князь соскочил с коня, перекрестился на золотой крест белокаменного собора.
Когда схваченных в лесу мужиков проводили мимо бояр, Всеволод заметил, как потемнели глаза Добрыни, как по щекам его растеклась глубинная синева. И еще он заметил, как дрогнули опущенные долу ресницы архиерея.
Нелегко сломить строптивое ростовское боярство. А надо. Всеволод глядел в будущее. В Переяславле ему не отсидеться. Не отсидеться и во Владимире. Михалка пробовал затвориться — ничего не вышло. Хитростью надо усыпить бояр: пусть думают, что недогадлив и слаб Всеволод, что готов плясать под боярский гудок, как скоморох на площади. Скоморох дурачится, а за скоморошинами его — правда. Только правды боярам знать не должно. Пусть думают: был Михалка — всех держал в узде, не будет Михалки — не будет и узды. А боярству все одно — что Всеволод, что Мстислав. Лишь бы самих бояр не тронул, лишь бы властвовать им над князем, вершить свою волю…
И к утру решил он пленных мужиков не пытать, а отпустить их с богом. Но атамана велел привести к себе: хотелось все выведать, да так, чтобы себе на пользу, а боярам на раздумье.
Нерадец прикинулся смиренником. «Ничего, — подумал Всеволод, — и по заячьему следу до берлоги доходят».
— Хорошо ли спалось?
— Благодарствую, князь.
— Темно в порубе-то?
— Темно.
— Не мягко?
— Да куда уж там. На солому и на ту вои твои поскупились.
— Не боярин, чай, — усмехнулся Всеволод. — Откуда родом будешь?..
— Да уж и не припомню, — усваивая полушутливую речь князя и хихикая, отвечал Нерадец. — Гряды копал, да в воеводы попал.
— Ишь ты, смешливый какой, — нахмурился Всеволод. — Дай волю осоту, и огурцов на белом свете не станет.
Нерадец поморщил лоб.
— Не пойму я что-то тебя, князь, — растерянно сказал он.
— А вот как сымут голову, тогда поймешь… Тяжело голове без плеч, худо и телу без головы. Далеко не доскачешь. Выкладывай-ка, на чем бояре поставили.
Кой-что успел князь выведать у разбойничков. Была бы зацепочка.
«Неужто знает?» — онемел от страха Нерадец. Князь глаз не отводил, глядел на него требовательно. «Знает», — понял Нерадец, и в животе у него стало холодно, как в погребе. Он вдруг дернулся всем лицом и упал на колени. Поцеловал половицу у Всеволодовых ног.
— Милость над грехом что вода над огнем, князь, — простонал он. — Не вели казнить, вели миловать.
И, заходясь от страха, вздрагивая обмякшими плечами, рассказал обо всем. Не забыл и Хому, — нешто одному ответ держать?
— Это он, он всему потатчик.
Всеволод брезгливо оттолкнул его ногой:
— Замолчи, напраслина отрыгается.
— Виноват, князь. Свят крест, виноват.
— Все ли сказал?
— Все, все, — невнятно забормотал Нерадец, глядя ему в лицо преданными глазами.
Всеволод постучал ножнами меча об пол — вошли вои. Он велел им отвести Нерадца в поруб. С порога атаман обернулся:
— На смерть оставляешь, князь. Возьми с собой — верным псом твоим буду.
— Молчи. Как бояре рассудят, так тому и быть.
— Зарежут.
— Авось и помилуют.
Нерадец упирался и еще что-то говорил. Вои зажали ему рот, громыхая сапогами, поволокли по переходам.
Прислушиваясь к затихающим шагам, Всеволод подумал: «Пусть и вправду бояре решат. Не умела песья нога на блюде лежать, так под лавкой наваляется…»
Утром по его вызову в терем доставили скомороха с Карпушей. Дивился Радко красоте княжеских палат, голову запрокидывал на резные потолки, вздыхал и охал. А на сердце кошки скребли — знал, зачем призвал его к себе князь, помнил разговор в избе на лесной поляне.
— Что выговорено, то вымолочено, — сказал Всеволод, усаживая скомороха рядом с собой на лавку. — Рядились мы с тобой в лесу, не забыл?
— Да как же забыть такое, князь, — простонал Радко. — Не бери сына, пощади.
— Не в поруб забираю твоего Карпушу, — мягко проговорил Всеволод, — беру его в княжескую дружину. Будет твой Карпуша моим меченошей. Разве и тебе от того не велика честь?..
И велел Всеволод звать в сени дружинников, ставить на столы меды и яства. Весь день пировал молодой князь в Великом Ростове. А вечером выехал с дружиной в Переяславль. И рядом с ним, чуть отступя, красивый и гордый, скакал на рыжем рысаке Карпуша. Был он в малиновом кафтане, шапка с малиновым верхом заломлена набекрень, сафьяновые сапожки за день сшиты на заказ, в руке — сыромятная плеточка. Любовались юным меченошей ростовчане, а Радко, стоя в толпе, глядел на сына и вытирал невольно выступившие слезы…
Вечером в порубе бояре казнили разбойников. Нерадцу отрубили голову, а тело в крепком мешке утопили в озере. Хому повесили. И облегченно вздохнувший Добрыня заснул на своей лежанке здоровым, спокойным сном. А когда проснулся на следующий день, солнце заглядывало в окно, было светло и радостно. И Добрыня подумал: «Верно говорили бояре: щенок Всеволод. Как есть несмышленыш. И волка из него не вырастет. Где пичужка ни летала, а к нам в клетку попала…»
В тот же час, когда проснулся Добрыня, на привале за озером Всеволода нагнал оставленный в Ростове отрок. Князь выслушал его рассказ о казни Нерадца и улыбнулся. В дороге он сказал Карпуше:
— Запомни, Карпуша: видит око далеко, а ум еще дальше.
И, засмеявшись, галопом повел коня.
К ночи они уже были в Переяславле.
Глава седьмая
1
Отлетели последние журавли на теплые моря. Прошли заревницы с замолотками. Спасая себя от призора недоброго глаза, бабы в деревнях сожгли соломенные постели, старушки — лапти. А чтобы уберечь детей своих от болез ней, родители искупали их на пороге из решета: так уж издавна повелось по обычаю.
С дождями и первым мокрым снегом навалился грязник. «Мни и топчи льны с половины грязника», — говорят в народе. А еще повсюду на Руси в эту пору начинаются свадьбы. Справили свою свадьбу и Никитка с Аленкой. Приспело уж. А так как жить им пока было негде, Левонтий сказал:
— Оставайтесь у меня. Места у нас всем хватит. Избу новую поставите весной — тогда и переберетесь…
Антонина тоже упрашивала:
— У меня хлеб чистый, квас кислый, ножик острый — отрежем гладко, поедим сладко.
Радовался и маленький Маркуха, узнав, что Никитка с Аленкой остаются у них до будущей весны. Он весело прыгал по избе на одной ноге и припевал:
— Васька-васенок, худой поросенок, ножки трясутся, кишки волокутся…
— Чтоб тебя! — незлобиво шлепал Левонтий его по заду.
От шлепка Маркуха запрыгивал на печь и глядел оттуда веселым бесенком. От Маркухи по всей Левонтиевой избе шел переполох, но Левонтий не любил тишины. Когда он не работал, в избе всегда толпились люди.
— Пиво не пиво, и мед не хвала, а всему голова, что любовь дорога.
Все чаще стал наведываться к Левонтию протопоп Микулица. Степенно сидя за столом и розовея от выпитой браги, он расспрашивал мастера о его житье в Царьграде.
— Дивный это город, соборов в Царьграде тьма, а народ там разный, а все-таки на Руси у нас краше, — обычно заключал свои рассказы Левонтий.
Микулица поглаживал огненно-рыжую окладистую бороду и неторопливо кивал головой. Сильно нажимая на «о», протопоп говорил:
— И конь на свою сторону рвется, а собака огрызется и уйдет…
— Мы — не собаки, мы — люди, — спокойно возражал Левонтий.
Микулица смущенно поправлялся:
— То, мастер, к слову сказано. Ты на меня не сердись.
— Да что ж сердиться-то, — соглашался Левонтий.
Между ним и Микулицей постепенно сложились особые отношения. Сидя за мирной беседой, они походили на давнишних приятелей. Микулица снимал с себя церковное облаченье и оставался в длинной, до колен, белой рубахе. Разговоры вел не духовные. Все больше о жизни, о мирском говорил Микулица. Тосковал он по земле. Нанюхавшись у себя в соборе ладана и жженого воска, он с удовольствием вдыхал в избе у Левонтия аромат духовитого хлеба, исходивший от печи, возле которой чудодействовала распаренная, красная от огня Антонина.
Подолгу засиживался он и в мастерской — то у Левонтия, то у Никитки. Дивился протопоп хитрому их мастерству.
— Вот уж верно: чего нет за шкурой, к шкуре не пришьешь, — говорил он, покачивая головой.
Левонтий соглашался с ним:
— Золото не в золото, не побыв под молотом.
Работал он увлеченно. Работая, ничего не замечал вокруг. Забывал порою и о еде. Если бы не Антонина да Маркуха, так бы целыми днями голодный и ходил.
Заезжал к Левонтию и князь Михалка с женой Февроньей. Князь был тощ и сух; подымаясь на крыльцо, покашливал в кулачок. Февронья тоже не блистала свежестью — толста и неопрятна.
Княгиня в мастерскую заглядывать не стала. В мастерскую вошел только Михалка.
Это понравилось Левонтию, так как не любил он показывать посторонним свою еще не законченную работу. Князь — совсем другое дело. Князь дает каменщиков и деньги; от князя зависит, стоять храму над Клязьмой или так и осесть в Левонтиевой избе еще одной неосуществившейся задумкой.
— Сработано — хоть в ухо вздень, — сказал Михалка, со всех сторон осматривая узорами расписанные камни. — Ежели к весне закончишь, на горошники велю сгонять мужиков.
— До горошников не поспеть, — возразил Левонтий.
— Ну, тогда сам гляди, — помолчав, промолвил Михалка. — Работа твоя мне по душе.
На том и расстались. Обрадованный похвалой князя, Левонтий еще истовее приступил к работе. Если раньше не хватало ему дня, то теперь недоставало и ночи. Не на одну куну спалил он в своей мастерской свеч. Антонина ворчала:
— Скоро все хозяйство на воск переведет. Только и добра в избе, что сучки в бревнах.
Все короче и короче становились дни. Мужики глядели на месяц: куда он рога свои целит? По рогам определяли погоду. Смотрят рога на полночь — быть метелям, а на полдень — будет грязь.
В тот год месяц глядел рогами на полдень, и дожди лили две недели, не переставая. Дороги раскисли, избы утонули в лужах, с крытых березовой корой кровель стекали реки воды.
Однако под самые льняницы разъяснило. И стали такие сухие и солнечные дни, как в бабье лето. Ночи тоже были прозрачные и звездные. В такие ночи, устав от работы, Левонтий часто выходил на крыльцо подышать свежим воздухом. Услышав скрип половиц под ногами деда, Маркуха съезжал с печи и тоже выскакивал на всход. Левонтий сажал его себе на колени и показывал на небо.
— Вот это Чигирь-звезда, — говорил он. — А эта звезда Сажар. Сажар-звезда благоприятствует охотникам отыскивать зверей.
Но интереснее всего Левонтий рассказывал про Девичьи зори, про три маленькие звездочки подле самого Становища. И рассказ этот маленький Маркуха помнил почти наизусть.
— А падающая звездочка, — говорил Левонтий, — называется Белым путем. Это блуждают по небу проклятые люди; они сгоняются с места на место до тех пор, пока будут прощены…
Хорошо сидеть на коленях у Левонтия, но у деда дела. Камнесечец уходит, и маленький Маркуха сам еще долго глядит на звезды, пока не почувствует холод, а глаза не начнет смежать сладкая дрема. Тогда он возвращается в избу и забивается в свой любимый угол на печи под теплую, кисло пахнущую овчину.
Иногда, очень редко, к ним наведывался Склир. Был он подвижен и шумлив, много говорил и смеялся, и от его смеха и разговоров в избе почему-то всем делалось тесно.
Приходы Склира тоже радовали Маркуху. А Антонина краснела и старалась не показываться в избе, потому что, когда она была в горнице, Склир, не отрываясь, смотрел только на нее одну.
2
Прилетели первые морозы от Железных гор, задымились трубы, а там, где топили по-черному, дым повалил на улицу через оконца и открытые настежь двери. Разогнав нечистых, зима стучалась у городских ворот, сидя верхом на кобыле.
Вечерами мужики и бабы выходили на реки и озера, собирались у колодцев — прислушивались к воде. Тихая вода сулила теплую зиму, шумная — холодную, с метелями и большими морозами.
Нынче вода в колодцах стонала и гудела, и по примолкшему в ожидании ненастья городу поползли слухи о большом пожаре.
Пожар и впрямь занялся, и в одну ночь выгорели почти все посады. Но за высокий городской вал огонь не перекинулся.
Через Золотые, Серебряные и Медные ворота в город потащились печальные толпы погорельцев — с ларцами, мешками, с перепуганной скотиной — искали приюта, селились в баньках, в овинах и на сеновалах. Но всех приютить горожане не могли, мужики попредприимчивее стали рыть на пожарище землянки.
Землянки вырастали как грибы после теплого дождя. Скоро стали появляться и первые избы, привезенные из деревень. Дни и ночи за валами слышался перестук топоров, в морозное небо подымались высокие дымы костров.
Приближался студен.
Как-то утром пробудилась Евпраксия от яркого света, струившегося в щели приотволоченного оконца. Соскочила, босая, на холодные половицы, глянула на улицу и обмерла — все вокруг разом стало бело. Снег падал на землю большими пушистыми хлопьями, падал спокойно, ровно, будто во сне. За ночь навалило его видимо-невидимо. Возки с трудом пробивались в белой пене: снегу было коням по брюхо…
К полудню в синих разводьях туч показалось солнце. И загомонила улица, зазвенела веселыми голосами. Откуда и народу взялось. На городские валы высыпали мальчишки с салазками, взрослые бросали друг в друга снежки, смотрели вокруг подобревшими глазами.
Ночью ударил мороз. Зима стала накрепко — теперь уж до первых весенних оттепелей…
Давыдки с самых грязних не было во Владимире. Остерегаясь ростовского боярства, князь Всеволод призвал в Переяславль всю свою дружину. Уж больно часто стали наведываться в княжий терем послы — то от Добрыни, то от самого епископа Леона. Послы привозили богатые дары — черных лис и соболей, прельщали Всеволода посулами. Привозили и юную дочь Добрыни, красавицу Валену, сватали, расхваливали. Крепко закрутил Всеволод ростовчанам голову — наконец-то поверили ему. Теперь торопились совсем прибрать к рукам.
Но Всеволод уговоры хоть и выслушивал, хоть и кивал благожелательно головой, а Валену смотреть не стал.
— Что мне ваша невеста? — говорил он. — Вон во Владимире сколько красавиц…
— Да ты не упрямься, князь. Ты погляди, — упрашивали послы.
— И глядеть не стану.
Говорил он так с ростовскими послами, а сам ждал Евпраксию. Потому и не хотел встречаться с Валеной, потому и отшучивался в беседах со сватами.
Но ростовские послы были народ упрямый. Настояли на смотринах. Как бы чего не подумали — уступил им Всеволод.
Привели Валену в княжеский терем. Схитрив, хотели по обычаю сватовство чинить, но Всеволод не позволил.
— Спасибо на любви, боярин, — сказал он приехавшему на этот случай Добрыне, — но нынче свадьбу справлять рано. Девка-то молода еще: не из кута — в кут глядит.
— Молодая, да ранняя, — отвечал ему Добрыня, — Ты погляди-ко на нее, князь.
И впрямь хороша была Валена. Должно быть, не в отца пошла, а в мать, а то и в бойкого соседа. Отец тощий да нескладный, одно плечо выше другого, ноги колесом, а Валена — стройна, длиннонога, глаза черные, смелые, грудь высокая, пышная.
Увидев молодого князя, дрогнула тонкими ноздрями, зарделась смуглыми щечками, понравился ей Всеволод. Таких-то парней в Ростове она не встречала. На что боярские сынки гладки — да куда им до князя!..
Всеволод встал с застеленной ковром лавки, взял Валену за горячую, как уголек, руку, подвел к столу. Всеволодовы дружинники приподнялись от изумления, взглядов не могут оторвать от Валены. И в диковину им, отчего это их князь не хочет взять в жены такую красавицу.
А Всеволод, приветливо улыбаясь, щедро потчевал Добрыню ромейскими винами. Что греха таить, понравилась и ему Валена — хоть нынче с ней под венец, но пугают его Добрынины строгие глаза, колючие да зоркие, как у гончей. Глядят, высматривают, даром что налиты вином, а — трезвы. Вот и Всеволод себе на уме. В капкан-то зазря лапу совать не станет…
Свои у Добрыни задумки, у Всеволода — свои.
Так и ушел Добрыня ни с чем из княжеского терема. Вечером, поругивая Валену, боярин ворчал:
— Нескладная ты, неотесанная — такого сокола упустила.
А у Валены и у самой кошки на сердце скребут. Сидит в куту, тихо плачет, закрыв ладошками подурневшее от слез лицо.
Утром, в розовой предрассветной дымке, остановились у княжьего терема возы. Сенные девки высаживали из саней закутанную в меха Евпраксию.
Проснувшись от возни во дворе и криков возниц, Всеволод выглянул в оконце и увидел, как по всходу навстречу боярыне сбежал Давыдка, как обнял ее и повел, придерживая за плечи, в покои. Радостно толкнулось в грудь: сдержала слово свое Евпраксия, приехала в Переяславль по первому снегу. И тотчас же забыл Всеволод о Валене.
Зимнее утро разгоралось над скованным льдом Плещеевым озером. Во дворах суетились люди, мычали коровы, кое-где уже закурились печные трубы. В морозном воздухе повисли звонкие удары била — попы в многочисленных церквушках сзывали народ к заутрене.
Отправился и Всеволод к молитве в свою домовую церковь. Из терема на полати вел крытый переход, поэтому князь не стал надевать шубу, остался в легком кафтане с длинными рукавами. Стройный стан князя перетягивал широкий пояс, украшенный дорогим шитьем. Густые русые кудри крупными волнами спадали на воротник.
Всеволод радовался предстоящей встрече с Евпраксией.
Когда он взошел на полати, народ уже был в сборе. На молитве в церкви, даже княжеской, древний чин: мужик и бабы стоят порознь. Пред алтарем на солее толпились чтецы, на деревянном престоле, накрытом скатертью, лежал большой запрестольный крест и стояли сосуды со святыми дарами, над алтарной преградой смутно светился деисус.
Все это было хорошо знакомо Всеволоду и давно уже не вызывало в нем трепетного волнения. В церкви он чувствовал себя так же легко и просто, как и в тереме.
Оглядевшись, Всеволод подал знак к началу службы, а сам стал отыскивать взглядом Евпраксию. Церковь была маленькая, долго искать боярыню не пришлось.
Евпраксия стояла в первом ряду за преградой, недалеко от престола, — в темном сарафане, в надвинутом на лоб темном плате. Всеволод не смог разглядеть ее лица, но она почувствовала его взгляд и осторожно подняла глаза к полатям.
Дьячок в стихаре и ораре, перекинутом через плечо, зычно читал:
— Крест есть глава церкви, а муж жене своей, а мужам князь, а князем бог…
Воздух в церкви отяжелел от испарений, подымающихся от разгоряченных тел, настоялся запахом сала и воска. Дышалось трудно. Дьячок незаметно вытирал ладонью вспотевший лоб, пучил глаза и широко открывал рот. Но Всеволод не слышал его голоса. Голос уплывал в глубину церкви, глухо лепился к расписанным святыми ликами сводам и затихал под круглым отверстием купола. Люди крестились и кланялись. Крестился и кланялся Всеволод.
«Добро ли это, — думал он, глядя на Евпраксию. — Не грех ли, не блуд ли?»
Раньше такие мысли не беспокоили князя. Но теперь он почему-то вновь вспомнил Валену, вспомнил ее детское, розовое от волнения лицо, трепещущие крылья ноздрей. Лицо Валены манило князя к себе, но манило его к себе и смуглое лицо Евпраксии.
«Мир в суетах, человек во грехах», — говорил Микулица. Всеволод до хруста сжал спокойно лежащие на коленях кулаки.
Вечером, лаская его, Евпраксия шептала:
— Сокол ты мой ясный, радость ты моя. Взойдет солнце — прощай, светел месяц. О чем задумался, Всеволодушка? Ночь коротка.
— А Давыдка как же? — с детским отчаянием на лице спросил Всеволод, приподымаясь на локте и заглядывая в ее открытые глаза.
Слабо улыбаясь под его взглядом, Евпраксия терлась щекой о Всеволодово плечо.
— Давыдка мой суженый…
— Змея ты, — отстранялся от нее Всеволод.
Она не обижалась:
— Жена виновата искони.
Нет, не любит Евпраксия Всеволода. Давыдка ей больше по душе. Чует это Всеволод изболевшимся сердцем, а сказать не может. И долго молчит, спустив с лавки босые ноги.
Но стоит только снова прильнуть к нему Евпраксии, стоит только впиться губами в его губы — и все забывает князь.
Лунная дорожка передвигается по ложнице, освещает запрокинутое лицо Евпраксии. Боярыня дышит ровно, спокойные мягкие губы чуть приоткрыты.
За оконцами брезжит поздний декабрьский рассвет…
3
Не спится Давыдке, плохие сны снятся ему в ночи. Только смежит набрякшие от бессонницы глаза — и лезут на него со всех сторон призраки: люди не люди, звери не звери. Прыгают, строят рожи, хохочут, плачут навзрыд.
В сенях стукнула дверца — Давыдка приподнялся, прислушался. Будто чьи-то босые ступни прошлепали по переходу. Не боярыни ли?..
И опять тишина. В тишине слышно, как потрескивают от мороза сухие бревна. Иногда во дворе прозвенит било. Не спят сторожа, ходят вокруг терема, стерегут князев сладкий сон. А от кого?..
Вон — с ростовскими боярами Всеволод теперь душа в душу. Давно ли Добрыня нашептывал на Юрьевичей Мстиславу с Ярополком, делал что хотел; нынче вцепился в руку Всеволода, Валену привез, сватает. Бери, князь, дочь, дорого не возьму.
Коварные мысли подстерегают Давыдку в ночи. О разном думает он, а главного боится, главное гонит от себя как назойливую муху. Не скрылись от Давыдки Всеволодовы страстные взоры, устремленные на жену. Ему ли, простому дружиннику, тягагться с князем?
— Спишь ли?
На выскобленные половицы струился скупой зимний рассвет. Давыдка вздрогнул, сел на лавке, уставил остекленевшие глаза в полумрак ложницы. Белый призрак отделился от стены, проплыл навстречу ему, будто по воздуху.
Холодные руки Евпраксии прикоснулись к его лицу. Боярыня села рядом, обдала чуткие ноздри Давыдки хмельным запахом своего тела.
— Аль не рад?
Словно зверь лапой сдирал кожу с Давыдкиного сердца. За ночь накопившаяся усталость прорвалась глухим стоном. Евпраксия вскрикнула, прыснула от него испуганной кошкой, но он уже крепко стиснул ей запястья рук.
— Пусти!..
Со злорадным торжеством Давыдка ждал — вот-вот хрустнут нежные боярские косточки.
— Изменница, — говорил он, ломая ей руки. — Аль прокисло вино?
— Пусти!..
Неожиданно пальцы Давыдки ослабли — Евпраксия сползла с лавки на пол, запуталась ногами в длинном подоле рубахи, встала. Давыдка не глядел на нее, зубами впился в стиснутые кулаки, пугался собственной силы.
— Холоп, — сказала Евпраксия, отдышавшись. — Был сноп казист, да вымолочен, кажись.
— Уйди, — сдавленным голосом отозвался из темноты Давыдка. Глаза его отливали зеленым огнем.
Евпраксии жутко стало, но она не ушла — снова села на лавку:
— Будем путем говорить…
Давыдка говорить не хотел. Тогда заговорила боярыня — усмешливыми словами утешала и вразумляла мужа, как ребенка.
Давыдка с удивлением прислушивался к ее голосу, не верил своим ушам: да полно, да Евпраксия ли это? Жена ли это его, богом даденная?
— Князь доверчив, прост, — нашептывала Евпраксия и снова сладостно льнула к нему. — Почто бесишься? Смирись… Не о себе, о тебе пекусь — знай… Не хочу быть за холопом — хочу быть за воеводою…
— За холопа шла…
— Шла за лихого дружинника. Нынче Заборье твое, завтра поведешь княжеское войско, — ублажала слух его Евпраксия. — Я уж словечко замолвлю… Я уж постараюсь…
Воркующий голос ее постепенно стихал, переходил в страстный шепот. Рука скользнула по Давыдкиным кудрям. На этот раз он не отстранился, только вздыхал с ней рядом, как потревоженный лось, — прерывисто и неглубоко.
— Не тревожь себя, доверься мне, — уже совсем осмелев, ворковала Евпраксия и прижималась к плечу его волнующейся мягкой грудью.
С того морозного декабрьского утра будто заиндевело все у Давыдки внутри. И глаза, и улыбку его тронуло холодком. Была зимняя отрешенная ясность. И не женой-обманщицей стала теперь для него Евпраксия. Стала боярыня его сообщницей.
Казалось, взлетел Давыдка на большую высоту и с высоты этой глядел вокруг помудревшим взором. Что ж, нынче воевода, а завтра и сам — боярин.
Однако, став сообщниками, остыли друг к другу Давыдка и Евпраксия. Исчезла в их объятиях прежняя жгучая боль, исчезла тоска, влекущая за сотни верст. Спокойно спали они на одном ложе, спокойно ели, пили, спокойно молились богу…
А жаркая половецкая кровь? Неужто и она остыла в жилах молодой боярыни?!
Думала Евпраксия: «Одним конем всего поля не изъездишь. Спесив Давыдка, а смирится. Не идти же ему супротив молодого князя». Приглядывалась, гадала. В объятиях у Всеволода выпрашивала землю и угодья. Ох и изворотлива стала Евпраксия, ох и хитра! И сдавался пылкий князь ее запретным ласкам, уступал ее страстному шепоту.
А Валена ждала своего часа на подворье у переяславского тысяцкого Егория. Нервничал Добрыня:
— Что-то тянет князь, не засылает сватов. А пора бы уж…
Мечтал Добрыня заполучить за Валеной Владимиро-Суздальское княжество для именитого ростовского боярства.
Но Всеволод не спешил.
И сидела Валена у заиндевелого оконца — ни девка, ни невеста, ни жена.
Зато Давыдке князь щедро пожаловал сотню. «Что впереди, бог весть, а что мое, то мое», — подумал Давыдка. Низким, поясным поклоном благодарил он Всеволода.
Тем же утром, погрузив на сани пуховые перины и узлы с добром, пересыпанным от моли листьями берды, Евпраксия уехала во Владимир к отцу своему, боярину Захарии.
Как это случилось, и не заметил боярин. А заметил, так было уж поздно. С некоторых пор не он, а Евпраксия стала в терему его хозяйкой.
Теперь боярин целыми днями лежал на лавке и сосал беззубым ртом медовые пряники. Растолстел Захария, обрюзг: нос посинел, щеки с желтыми бородавками обвисли, живот мешком переваливается через шелковый крученый поясок.
Сначала не поддавался боярин, шумел, покрикивал. А потом стих, потому что понял: «Шуметь мне ни к чему. Родная дочь — не чужая». И зажил припеваючи.
Евпраксия же завела в хозяйстве свои порядки. Дворовых девок отослала в деревню теребить льны, из деревни привезла новых. Сама отбирала. Глядела, чтобы не только статью были хороши, но и лицом. Заборским мужикам велела навозить во Владимир бревен и тесу — ставить во дворе свою домашнюю церковь. Рубили отменные мастера, потрудился над ней и Никитка. За хорошую работу да за старание наградила Евпраксия его золотой серьгой с голубеньким камешком. Похвалила перед Левонтием:
— И гладко стружит, и стружки кудрявы.
— Всякое дело за себя постоит, — согласился с боярыней Левонтий.
Не забывала Евпраксия и Заборье. В Заборье наезжала обозом: сама впереди на легких саночках, за ней на возах вся дворовая челядь. Приедет, оглядит пытливо покосившиеся избы, порадуется на новый терем и призовет к себе старосту. Аверкий на боярский двор шел, подрагивая коленями: боялся он Евпраксии, сторонился ее темного взгляда. Он уж и Любаши стал побаиваться с той поры, как взяла его жену боярыня к себе на кухню. А когда Евпраксия сказала, что забирает Любашу во Владимир, даже вздохнул облегченно.
— Кто в кони пошел, тот и воду вези, — сказал он себе. — Лучше без жены старостой на деревне, чем с женой холопом.
На солноворот увезла Любашу Евпраксия. Перед дорогой, улыбаясь, говорила ей:
— Вона какая красавица. Источил тебя Аверкий. Во Владимире ты у меня княгиней будешь…
Сильные стояли в те дни холода. Недаром в народе говорят: солнце — на лето, зима — на мороз. Ходит зима по полю, рассыпает снег из рукава, морозит по следу своему воду, тянет за собой метели лютые, холода трескучие, будит по ночам баб жарче топить печи.
Грустно расставаться Любаше с Заборьем. Ведь кроме Заборья не видела она другой земли. Слыхала про разные города, про каменные соборы, а когда пыталась представить их себе, то все рисовалась ей заборская церквушка — только чуть повыше да посветлей. А уж как из камня кладут божьи храмы, в толк взять не могла.
И еще говорили ей, что соборов во Владимире не перечтешь, что город стоит на горе, как Заборье, а вокруг него стена, а под стеной — ров, глубокая река, такая же почти, как Клязьма. И ров этот вырыли мужики. «Разве могут мужики вырыть реку? — удивлялась Любаша. — Может быть, и Клязьму когда-то вырыли, чтобы напоить водой леса вокруг Заборья?..»
Прощаясь с Любашей, Аверкий то угодливо улыбался, то начинал совать ей в суму репу и краюху хлеба:
— В городе-то скудно живут, хлебов-льнов не сеют…
— Чай, к боярыне еду, — стараясь скрыть тревогу и радость, переполнявшие ее, отвечала Любаша.
— Боярыня не солнце, всех не обогреет.
Он еще долго семенил по снегу рядом с санями, растерянно старался заглянуть Любаше в глаза. Потом возница взмахнул кнутом, сани пошли бойчее, и староста отстал. Закутавшись в шубу, Любаша проводила взглядом Аверкия, постепенно растаявшего в снежной пелене, и повернулась к вознице — низкорослому горластому мужику с заиндевелой, покрытой длинными сосульками бородой.
— Сам-то, чай, из Владимира? — робко спросила она.
— Сам-то? — полуобернулся к ней мужик. — Сам-то я сосновский да при боярах лет десять стою…
— Ну и как? — нетерпеливо выведывала Любаша.
— Знамо дело, везде хорошо, где нас нет, — загадочно проговорил мужик и, привстав, стегнул вожжами лошаденку. — Эх, ма-а!..
Лошадь всхрапнула, выгнула грудь и понесла еще шибче. Накрениваясь, санки вздымали вокруг себя снежные буруны. Любаша задохнулась от морозного воздуха, засмеялась и с головой накрылась шубой.
А Владимира она так и не увидела: в город приехали ночью. Вот ведь какая обида: всю дорогу боялась проглядеть, а перед городом заснула и пробудилась, когда сама Евпраксия по-мужичьи громко стучала в запертые ворота:
— Эй вы, рогатые орехи!.. Так-то боярыню встречаете?!
Любаша протерла глаза, но ничего не разглядела вокруг, кроме высоких сугробов да торчащего над сугробами зубастого частокола.
Ворота неторопко отворились, возы въехали во двор. На дворе суетились мужики с факелами в руках. Факелы нещадно коптили, искры падали на плечи и непокрытые головы мужиков, на темный блестящий снег.
Загорелись огни и у сенных девок под боярским всходом. Девки выпорхнули на мороз в одних рубахах, окружили Евпраксию, стали высматривать, что в возках. Заглядывали за высокий воротник Любашиной шубы, быстро щебетали:
— Ой, какая красивенькая!..
— Приехали, касаточка, — сказал возница и, заткнув за пояс кнут, спрыгнул с возка.
— Откуда ты? — спрашивали девушки Любашу.
— Из Заборья, — смущенная их вниманием, тихо отвечала она.
— Ключница Мария у нас тоже заборская, — сказала одна из девушек. Кто-то дернул ее за рубаху; оглянувшись, она смолкла на полуслове.
Никто не заметил, как во дворе появилась старуха в темном. Низенькая, горбатенькая, часто переступая маленькими лапотками по утоптанному снегу, она подошла к Евпраксии и с достоинством поклонилась ей:
— С приездом, матушка-боярыня.
— Принимай новенькую, — сказала ей Евпраксия и, гордо выпрямив спину, поднялась по всходу в терем. В терему ее уже ждали, в щели заволоченных окон пробивался свет…
Сунувшись вперед подслеповатым лицом, ключница оглядела Любашу, посеменив лапотками, подошла ближе. Любаша тоскливо оглянулась на притихших девушек.
— Не гляди по сторонам-то, — проскрипела старуха. — На меня, на меня гляди.
Она еще долго рассматривала Любашу, кашляла и шамкала мягким ртом.
— Сказывала мне матушка-боярыня, будто повариха ты, да и ладная, — окончив осмотр, медленно сказала она. — Пойдем, коли так, покажу твое место…
Они пересекли двор, на котором все еще суетились мужики, распрягая лошадей и перетаскивая в бретьяницы кадушки с мукой и медом, желтые круги воска. Спустились по крутой лесенке вниз. Ключница, шедшая впереди, толкнула обитую мешковиной дверь. Сначала за белыми клубами пара в комнате ничего нельзя было разглядеть. Но пар осел, и Любаша увидела камору с низким черным потолком, стол посередине, вдоль стен — простые лавки. У стола стояла перекидная скамья. В углу над бочкой с водой чадила лучина.
Тряся головой, ключница обошла камору, показала костлявой рукой на одну из лавок:
— Тут и будет твое место, девонька. Тут и спи.
Неожиданно приветливая улыбка осветила ее изборожденное морщинами лицо.
— Устала, поди, с дороги-то?
— Устала, матушка, — опустив глаза, призналась Любаша.
— Вот и спи, — кивнула старуха. — Утро вечера мудренее. Утром до свету подыму.
Ключница постучала посошком и тут же вышла, снова напустив в камору клубы белого пара.
Глава восьмая
1
Вдоволь пошумев на Волге, еще до зимы ватага Яволода поднялась по Ветлуге и Вохме до речки Юг и ушла в северные леса. Здесь атаман рассчитывал переждать холода, чтобы первой водой снова спуститься на большой торговый путь. С вмерзшей в лед лодии на берег сгрузили взятое у купцов добро, закопали в снег, срубили в чаще избы и вырыли землянки. Но жили не всяк по себе, а как и прежде — все вместе: в общую кучу валили забитого на охоте зверя, в одном котле варили уху, перед сном, собравшись в горнице просторной атамановой избы, распевали привольные песни.
Мошка оживал в ватаге. Рубцевались раны, забывалось старое — глаза его постепенно светлели, на губах все чаще стала появляться улыбка. Приглянулся Мошка атаману, — дня не проходило, чтобы Яволод не наведывался в его землянку. Придет, сымет шапку, возьмет на руки Офоню, посадит на колено и раскачивает, придерживая за ручонки, а сам что-нибудь рассказывает. Обычно они вечеряли вчетвером: Яволод, Мошка, Феклуша и маленький Офоня. Сидя в бабьем куту все в той же потрепанной кацавейке, востроносенькая и веснушчатая Феклуша часто заводила тоненьким голоском какую-нибудь песню. Много знала она песен, но все были грустными, и, случалось, атаман, нахмурясь, прерывал ее:
— Ты бы погуляла, Феклуша…
Девочка не перечила Яволоду. Она обиженно замолкала, поводила острым плечиком и торопливо наматывала на голову толстый шерстяной плат. Взяв на руки укутанного в лисий мех Офоню, она сажала его в срубленные мужиками саночки и везла по просеке к заводи, где стояла скрытая лесистым бугром лодия.
Раньше лодия была ей родной избой, — теперь, покинутая людьми, обдутая северными ветрами, с заснеженными мачтами, со снятыми ветрилами, она казалась ей пустой и страшной, как домовина…
Возле лодии в заводи дымились проруби — мужики черпали из них воду. Феклуша садилась на сваленных у самого берега краснокожих лесинах и молча баюкала на руках Офоню. Офонино личико, маленькое, розовое и глазастое, выглядывало из мехов, словно лисья мордочка, и улыбалось, Феклуша тоже улыбалась.
А иногда взгляд ее застывал: за лесистым увалом суровела неоглядная даль, в чаще тоскливо завывали волки. Нередко волки подходили к самому становищу. Тогда мужики выбирались из изб и землянок, размахивали чадящими факелами и били обнаглевшее зверье дубинками или кололи мечами.
Здесь, в лесной глуши, такое побоище становилось событием. Мужики стаскивали убитых волков в кучу; утоптав снег, жгли на поляне костры и хвастались своей удалью.
Иногда атаман снаряжал людей на медведя — чтобы не засиделись, не обросли жиром. Мужики брали ножи и рогатины и надолго уходили в лес.
Хаживал на медведя и Мошка. Как-то раз он приволок на санках с охоты матерого зверя, все становище собралось у большой лохматой туши. Голову медведя Мошка повесил в своей землянке над лавкой, а шкуру бросил на пол. Атаман шутил:
— На тихого бог нанесет, а прыткий сам набежит…
В ватаге Мошке доверяли. Поняли мужики — человек он верный, в трудный час не подведет.
Раз под Ярославлем такое стряслось — едва ноги унесли.
Вот как это было. Приглядел атаман купецкую лодию под красным ветрилом: богатая лодия, даром что мала — борта резные, на носу леший с закинутой за спину бородой. Ползет лодия, едва веслами пошевеливает, у лодейной избы важно похаживает толстый купчина. Редкий товар сам в руки идет. А того не заметил атаман, что за мыском по левому борту скачет рядом с лодией дружина, а справа — еще чуть наддать ветерку — и выплывает на стрежень другая большая лодия с воями на борту. Знать бы такое, и в драку не лезть. Но Яволод того не знал, притерся к лодие — и ну вязать купца. Поспрыгивали в лодию мужики, стали вытряхивать из ларей купецкое добро, на радостях позабыли об осторожности. А вои тут как тут.
Пока мужики трясли купцов, перебрались они на Яволодов корабль. Глянул назад атаман и похолодел: где уж им, даже ежели и поспешить, уйти сразу от двух лодий!.. Мужики тоже спохватились, побросали добычу, взялись за мечи: коль погибать, то в открытом бою.
И тут, откуда, ни возьмись, появился на корме лодии Мошка: должно, проспал начало боя в избе. Черная борода на ветру полощется, в жилистых руках — меч. Взмахнул Мошка мечом, присел — и двух воев как не бывало, взмахнул еще раз — рассек воеводу. Оробевшие вои потеснились от кормы, а Яволоду только того и надо. Свистнул он — и полезли мужики на лодию. Сам Яволод, уходя последним, пробил у купецкого корабля днище. Захлебнувшись водой, корабль накренился и пошел ко дну.
— Ай да Мошка! — говорили мужики, возбужденные после недавно пережитого испуга. — Двоих разом уложил. А воеводу-то, воеводу…
Мошка отмахивался от них:
— Куда мне. Это со страху. Единожды ударил, а воевода сам под меч угодил.
Вздув ветрила, Яволодова лодия быстро уходила от замешкавшихся преследователей.
Было такое, было. Но было и другое. Это когда мужики, оставшись без дела, звали Яволода поозоровать по деревням.
— На кого руку подымаете? — пробовал усовестить их Яволод. — Чай, сами мы из крестьян, не боярского роду-племени…
— А жрать что будем? — со злыми ухмылками спрашивали мужики. — Аль посошок в руки да и по милостыньку?.. Мы — люди вольны. Ты, атаман, не стой нам поперек пути.
— Не пущу, — решительно сказал Яволод. — Вы меня знаете…
— А то не знать!..
— Поостерегись, атаман…
— Да чо на него глядеть? Пошли, ребята!..
Тяжело дыша, придвинулись мужики к атаману, заскорузлые ладони потянулись к ножам.
Тогда Мошка протиснулся вперед и встал рядом с Яволодом, загораживая сход с лодии. Встала рядом с атаманом и Феклуша. Увидев перед собой нахохлившуюся, как воробей, решительную девочку, мужики повеселели:
— Ай да защитница у тебя, атаман!
— Вот так девка!..
Но намерений своих не оставили:
— Всход-то ослобони, не то…
Побледневший до желтизны Мошка, сжимая рукоять тяжелого меча, тихо пообещал:
— Первому, кто сунется, голову снесу…
Вяжись лычко с лычком, ремешок с ремешком. Не забыл атаман Мошкину услугу.
Про то, что тогда случилось, мужики не любили вспоминать. Стыдно было. Впервой не поверили атаману.
Да и Яволод не попрекал их, делал вид, будто ничего и не было. За то и любили мужики атамана — зла Яволод у сердца не хоронил. Нравом был отходчив, умом смел. Рука у атамана хоть и тверда, а справедлива.
А Мошку с той поры принимал атаман словно брата единоутробного. Даже избу поставил не где-нибудь, а рядом с Мошкиной землянкой. Звал к себе зимовать, но Мошка отказался.
— Ты, атаман, всем нам отец, — сказал он. — У отца же — все дети родные. Негоже одному дитяти в сапожках ходить, а другому в старых лаптях…
Зима в тот год на реке Юге стояла лютая — с метелями и обильными снегопадами. Землянки утонули в сугробах, только вьется над ними синий парок…
Как-то раз, в январе это было, солнышко повернуло на весну, отправился Мошка на лыжах поглядеть, нет ли в лесу зайцев. Долго шел, а зайцев все нет — ни следа на снегу, только птичья затейливая паутинка.
По лесу идти тяжело — даже на широких, обитых шкурами лыжах. Длинная палка с легким шерстяным шариком на конце тоже иногда глубоко проваливается в снег. Под кустами сугробы еще выше, еще рыхлее — там и вовсе не пройдешь.
Долго кружил Мошка по лесу, вдруг видит — никак, след?! Подошел поближе, остановился, приглядываясь и дивясь: след-то след, да только не заячий и не медвежий, а человечий. Кто-то шел перед Мошкой без лыж, местами переползал через кусты на брюхе.
Мошка подумал: на своих вроде не похоже, свои на неделе в такую дебрь не забирались, а третьего дня прошел снег. Постоял, постоял да и двинулся по следу: любознательный был Мошка мужик.
Долго он шел. Уж засинели тени на снегу, а след все тянется и тянется — и все в сторону от становища. Теперь Мошка точно знал — из своих никто не решался заходить в такую даль. Чужой след. А чей?! Атаман сказывал, что по Югу нет поблизости деревень до самого Устюга. А до Устюга, почитай, верст пятьдесят, ежели не больше.
Шел Мошка легко — сердце у него было здоровое, легкие — что твои кузнечные мехи. А заплутать в лесу он не боялся — и ночью не задача вернуться по собственному следу.
Солнышко к тому времени совсем уж укатилось за лес. Погасли над верхушками деревьев красные пятна облаков.
Скоро Мошку со всех сторон обступил густой мрак. Лыжи то и дело натыкались на поваленные буреломом стволы деревьев, застревали в кустах. Но со следа Мошка не сбивался, шел уверенно.
Постепенно лес начал редеть. А когда поднялся месяц, стало совсем светло. Тормозя палкой, Мошка съехал в ложбину, по другую сторону которой раскинулась очищенная от деревьев поляна. За поляной, на взлобке, лежали сваленные друг на друга сосновые кряжи, под лыжами похрустывала припорошенная снегом щепа.
Еще в низинке Мошка почувствовал запах дыма, а когда остановился на бугре, то, глазам своим не веря, увидел перед собой три избы, вокруг изб — тесовый забор.
За забором заворчала и несколько раз лениво тявкнула собака.
2
Снег возле изб был утоптан до блеска. Мошка снял лыжи, прислонил их к забору и постучал в ворота. Собака разом вскинулась, залилась свирепым лаем. Кто-то заслонил оконце в избе, потом во дворе послышался хруст снега. Через щель в заборе Мошка видел — шли двое.
Заспанный ленивый голос обругал собаку. Лай оборвался.
В светлеющем на снегу проеме отворившихся ворот стоял коренастый человек и держался рукой за верею. Из-за спины его, на уровне пояса, выглядывала взлохмаченная большая голова.
— Кого леший носит? — спросил высокий мужик.
Мошка дружелюбно сказал:
— В лесу заплутал, хозяин. Не дозволишь ли переночевать?
Выпуская из ноздрей клубки белого пара, мужик долго молчал. Лохматая голова из-за его спины пропищала бабьим голосом:
— Боярский прихвостень, поди. Ты тюкни его, Тихон, обушком-то. Чо по лесу шастает?..
Мужик нерешительно переступал с ноги на ногу.
— А может, и вправду тюкнуть, — раздумчиво проговорил он.
— Тюкни, тюкни, — затряслась голова.
Мошка отступил от ворот. В руке его сверкнул топор.
— Ты ей, хозяин, не поноравливай, — грозно предупредил он. — Очи-то на место посади: какой я прихвостень?.. Аль прихвостень ночью в лес пойдет, да еще по морозу?
— А ведь и верно, — согласился мужик и покосился на бабу. — Почто пришел?
— Дело простое. Говорю тебе — заплутал, — ответил Мошка и сунул топор за пояс.
Мошкин топор беспокоил бабу.
— Ты топор-то кинь, коли с миром, — пропищала она. — Кинь топор-то.
Подумав, Мошка кинул топор. Баба ловко вывернулась из-за спины мужика и подняла топор со снега.
Мошка удивился: у бабы росла борода.
Теперь, когда Мошка был обезоружен (лук за спиной), хозяева успокоились. Тихон пошире раздвинул ворота и пригласил позднего гостя в избу.
Они пересекли двор и поднялись на низкое крыльцо. Впереди неловко ковыляла на коротеньких ножках бородатая баба, за ней шел Мошка, за Мошкой — Тихон. Под мышкой Тихон нес два топора.
В избе, топившейся по-черному, было жарко и дымно. Сквозь дым едва пробивался свет лучины. На лавках шевелилось живое. Несколько пар детских любопытных глаз устремилось из-под тряпья на вошедшего Мошку.
Из-за печи выплыла баба с измазанным сажей лицом. Сложив руки под обвислыми грудями на сарафане, она тоже с любопытством уставилась на чужого человека. «Отвыкли от гостей-то», — подумал Мошка.
— Ты чей? — спросил Тихон, бросая в угол топор и садясь верхом на перекидную скамью.
Мошка нагнулся, стряхнул заячьими рукавицами снег с валяных сапог и тоже сел на скамью рядом с хозяином. Помешкав, ответил с улыбкой:
— Мамкин и тятькин, чей же… А при крещении Мошкой нарекли.
Бородатая баба засмеялась тонким голоском, заюлила вокруг стола. Теперь, спокойно разглядев ее, Мошка подумал, что баба больше смахивает не на бабу, а на мужика. Вывод его подтвердил Тихон:
— Ты бы, Кона, помолчал. Рот-то наперед хозяев не разевай.
Кона обиженно проковылял в угол, уселся на тряпье среди детей и долго глядел на Тихона укоризненным взглядом.
Тихон молчал, трудно соображая, что делать с пришлым норовистым мужиком.
— Ты вот что, — наконец проговорил он. — Ты душу-то распахни. Пойми, жили мы тихо, вольно… Вот и спрашиваю, а что, ежели ты и впрямь боярский прихвостень? Ежели пришел в нашем лесу знамена выставлять?.. То-то. Вот и гляди: мы тебя отсюда не пустим. А ежели что…
Тихон выразительно покашлял в кулак и посмотрел на Кону. При последних словах хозяина Кона зашевелился.
— Жил-был пожил да и ножки съежил, — пропищал он.
Чуя неприятный холодок на спине, Мошка спокойно сказал:
— Не враг я вам. Сам сбежал от боярина.
— Не верь ему! — отчаянно пискнул Кона.
Тихон снова надолго задумался.
— Придется кликнуть мужиков, — неторопливо решил он. — Будем думать миром. Ступай-ко, Ичка, зови народ…
— Всех звать? — спросила Ичка низким грудным голосом.
— Зови всех.
Баба накинула на плечи порванный во многих местах серый плат и выбежала во двор. Пока она ходила, никто в избе не проронил ни слова.
Скоро стали появляться мужики. Заспанно тараща глаза, они снимали треухи, крестились на невидимые в чаду образа, рассаживались на лавках вдоль стен. Последней вошла Ичка.
— У Иляки трясучка, — сказала она.
— Все в сборе, — Тихон ударил себя ладонями по ляжкам и встал.
— Вот, мужики, — кивнул он на Мошку. — Забрел к нам человек из лесу. Мошкой зовут. Сказывает, заплутал. А чей да откуда — не сказывает. Что делать будем?
Мужики оживленно посмотрели на Мошку.
— Ты у нас старшой, — повернулся к Тихону один из мужиков, костлявый, с русой клочковатой бородой. — Ты и решай.
— Оно так, — глухо подтвердили остальные.
Тихон важно выпрямился, поправил на груди вздувшуюся рубаху.
— Ежели б дело простое, вас бы не звал, — сказал он, — Что за человек, слышали… Аль под боярами думать разучились?
— Мы люди вольные, — гудели мужику, — шли сюда к вольной жизни… Губить пришлого — какая корысть?..
Долго еще спорили мужики. Решили так: оставить пришлого до утра да крепко стеречь, дабы не сбежал.
— Человека загубить — дело нехитрое.
— Игла служит, пока уши, а люди — пока души. Может, еще на что и сгодится.
Хозяйственные были мужики. На том и разошлись.
Мошку усадили за стол вечерять с хозяевами. Еда была скудной: квас да репа. Хозяин сказал:
— У боярина, поди, меды распивал…
— Ты меня, Тихон, с боярином не вяжи. Разные мы люди.
— Знамо, — усмехнулся Тихон. Недоверие его раздувал и вертлявый Кона.
— Не слушай его, — говорил он, стряхивая тыльной стороной ладони прилипшую к бороде струганую репу. — Он те намелет…
Мошка подлил масла в огонь:
— Перепужались вы…
— Перепужаешься, — буркнул Тихон. — Нам ведь нынче с воли-то да сызнова в боярский хомут — все равно что в петлю.
— Эка герой, — пискнул Кона. — Тебя бы к нашему боярину: чуть что — плетей, чуть что — в железа. В порубе-то на боярском красном дворе все мы вдоволь насиделись. За боярином Захарией обещанное не пропадет. Зело любил мужичков пытать.
— Суждальские мы, — смягчаясь, пояснил Тихон. — Боярина Захарии холопы. Прошлой зимой пришел к нам добрый человек, поглядел на наше житье да и говорит: ступайте-ка вы, мужички, на речку Вохму — нет там ни бояр, ни воевод, всяк живет сам по себе. Я, мол, тоже с Вохмы. А кормимся мы промыслом, бьем в лесу пушного зверя, которого там видимо-невидимо. Летом торг ведем с новгородскими купцами… Хорошо! Послушали мы его да так всей деревней и снялись.
— Так-то сразу и всей деревней? — недоверчиво переспросил Мошка.
— Зачем же? Наперво своего человека сюда послали. А уж как он, вернувшись, сказанное подтвердил, то все в снялись — невелика наша деревня, три двора… Долго добирались. Иные не дожили, померли в пути, царствие им небесное. А мы на Юге осели. Живем помаленьку. Ни боярина над нами, ни боярского тиуна… Не врал человек, правду говорил. На том ему спасибо.
— Божьей воли не переможешь, — сказал Мошка, чтобы подразнить мужика и выведать у него побольше.
— Значит, ты не наш, значит, чужой, — снова посуровев, отозвался Тихон. — Ино скоком, ино боком, а ино и ползком.
— Зря ты меня так, — оборвал его Мошка. — Ползком я наползался. Ныне сам по себе жить хочу.
— Знаем мы вас, — вмешался Кона. Облизав ложку и бросив ее на стол, он спрыгнул с лавки и дернул Тихона за полу рубахи. — Не слушай хитрого мужика. Плетет он, а сам на дверь поглядывает, бежать норовит.
— От нас не убежит, — успокоил его Тихон и, встав, уставился в Мошкин подбородок смурым взглядом. — Ну, будя, поболтали. Пора и на покой… А на Кону ты обиды не таи. Кона богом обижен. На цепи держал его Захария. Лаять заставлял, у гостей выпрашивать кости со стола… Большой у Коны счет боярину. Вовек им не рассчитаться. На сердце ненастье, так и в ведро дождь…
— Ладно, — сказал Мошка. — Веди куда спать. Шибко устал я с дороги.
3
О сне Мошка только для красного словца сказал — спать он не хотел. Да и какой сон, если утром, того и гляди, надумают мужики вздернуть его на осинке. Дернется осинка, затянет петля сильную Мошкину шею, и никто не узнает, где и как кончил он свои дни. Обклюют птицы его косточки, обмоют их дожди, огладят ветры, и упадут они на землю, а к следующему лету прорастут сквозь пустые глазницы буйные травы. В траве и вовсе затеряется Мошкин след…
Но тут он вспомнил лица мужиков, судивших да рядивших, что с ним делать, — вспомнил и немного успокоился. Не злые были у мужиков лица, с такими лицами на душегубство не идут. К утру и вовсе отмякнут мужики. Но отпустить не отпустят. Им своя шкура ближе к телу. В ино место дорога широка, да назад узка. Но у доброй лисы по три отнорка.
И так и сяк пораскинув умом, Мошка совсем успокоился. Теперь его мысли поворотились в другую сторону: как бы выбраться из западни? И защемило от этих мыслей сердце, и взяла его такая тоска, что хоть об стену головой. Но стены в избе крепкие, сложены из добротного кругляка; такие стены не то что лбом — и пороками не прошибешь.
Мошка прильнул к двери, прислушался — тихо в избе, хозяева спят. Но не спят в становище на Юге Феклуша и атаман. Ждут его, Мошку, с медведем. Дождутся ли?
В чулане, куда запер его Тихон, пахло мышами и кислой капустой. Мошка повел рукой по углам, нашарил железяку. Железяка узкая, в дверную щель пролезет. Просунул ее Мошка, поддел щеколду, осторожно откинул. Дверь поддалась плавно, без скрипа. Пробравшись между спящими, Мошка на цыпочках прошел через сени к выходу. Кафтан, оставленный в избе, искать не стал, чтобы не разбудить хозяев, выскочил на двор в одной рубахе. На воле его сразу обдало крепким морозцем, перехватило дыхание. Прихватив еще с вечера прислоненные к срубу лыжи, он перелез через частокол позади избы, всунул ноги в ременные петли и пошел в лес. Все будто вымерло вокруг, даже пес не тявкнул — хорошо!
Шел Мошка быстро, и не только потому, что боялся погони: боялся простыть на морозе. Дыхание его застывало на лету, искристыми снежинками оседало в бороде.
Мошка скоро нашел свой след. По следу идти было веселее. Снег похрустывал под лыжами, с деревьев на плечи слетали хлопья и тут же таяли: остановись хоть ненадолго, и рубаха вспухнет колом…
К становищу Мошка вышел только под утро. Едва ввалился с клубами пара в землянку, как обрадованная Феклуша теплым зверьком повисла у него на плечах.
— Прише-ел!.. А мы боялись — не сломал ли тебя медведь…
— Медведь не сломал, — отвечал Мошка, — а что похуже, может, и было.
Яволод, ни о чем не догадываясь, встретил зашедшего к нему в избушку Мошку приветливыми речами. Спросил, как спалось; поинтересовался, почему не приходил вечерять.
Долго таиться от Яволода Мошка не мог. Помявшись, рассказал о случившемся. Рассказывая, сжимал кулаком подбородок, избегал глядеть атаману в глаза.
Яволод угадал его мысли.
— Вижу, что-то задумал ты, Мошка, а сказать не решаешься. Говори, не бойся: какая у тебя забота, какая печаль?
— Много муки перенесет пшеница до калача, — уклончиво пробормотал Мошка.
— Не пойму я тебя, — насупил брови Яволод.
— А тут и понимать нечего. Ведаю я твою тайную думу, ведаешь и ты мою. Да только в твою задумку я не верю. Ты не серчай, атаман, ежели что не так. Знаю, наделишь ты своих мужиков деньгами, а пользы — что? Побродят мужики по белу свету да и снова в ватагу али к боярам в лапы. Так и пойдет по-старому…
— Ой ли? — ухмыльнулся Яволод. — Старая крыса ловушку обходит.
— Все ловушки не обойти…
Мошка задумался, потом, подняв глаза на атамана, решительно сказал:
— Вот ведь какая штука. Поглядел я нынче ночью на мужиков, как живут они без боярина и без боярских тиунов, так и обрадовался.
— Аль ватагу покинуть надумал? — напряженное лицо атамана побледнело.
— Надумал. Возьму Офоню, уйду к тем мужикам. Работы у них много, и что ни сделаешь — все на себя. Вырастет Офоня вольным человеком — мне и помирать будет легко.
Яволод расслабленно опустился на лавку, прикрыл глаза: не хотелось ему расставаться с Мошкой. Полюбился он ему. Сросся с ним атаман в своих мечтах.
— Богатыми людьми вернемся мы на Русь. Не уходи. Вот увидишь, сами боярами станем, именитыми купцами станем…
— Не от скудости скупость вышла — от богатства, — отвечал Мошка. Про себя он уже давно решил: не отпустит атаман — сбегу. А в ватагу не вернусь.
Яволод еще долго его уговаривал. Наконец, поняв, что переубедить Мошку ему все равно не удастся, сказал:
— Ладно, быть по-твоему. Только с пустыми руками я тебя из ватаги не отпущу. Уж больно полюбился ты мне, Мошка, ближе родного стал. — И добавил: — Знаю я про тех мужиков — и до тебя слыхивал, да не говорил: не хотел своих растерять. А тебе, видно, выпала такая дорога. Тебя я держать не стану. Но помни: наскучит пахать землю — ищи меня в Великом Новгороде, помогу…
— Спасибо тебе, атаман, за дружбу и доброе слово, — растроганно ответил Мошка. — Век тебя не забуду. Ежели что, наведывайся и ты ко мне. Будешь желанным гостем.
— У нас с тобой и лен был не делен, — задумчиво проговорил атаман. Он отвернулся и смахнул пальцем с ресницы слезу.
Мошка заспешил в свою землянку — собираться в путь. Когда же он рассказал обо всем Феклуше, та выволокла из-под лавки и свой ларец: не оставлю с тобой Офоню, загубишь дите, уйдем в леса вместе.
Узнав об этом атаман еще больше приуныл. Как же так? Или совсем его Мошка осиротить собрался, деревянная он душа. Яволод кричал на Феклушу, топал ногами, грозился запереть в землянке; на крик его стали стекаться мужики.
— Отчего такой шум? — дивились они. — Али Феклуша провинилась? Провинилась — так наказать. А не провинилась — об чем лай?
Не хотел атаман говорить мужикам правду, да пришлось: от ватаги не было у него секретов.
Мужики притихли. Иные сказали так:
— Вольному воля. Ежели по душе, пусть остается Мошка на Юге. Феклуша тоже вольна сама о себе решать.
Другие глядели в корень:
— Мошка — мужик с умом. Пущай расскажет, почему хочет отбиться от ватаги. Может, и мы останемся.
Жалея атамана, Мошка открылся не сразу. Но мужиков не проведешь. Пришлось говорить правду.
Мужики не прерывали его, слушали молча. Задал Мошка им задачку. Встала перед ними их прежняя бесприютная жизнь, всплыла давняя тоска по земле и хлебу. Не татями родились они — татями сделали их бояре…
И хоть дума у всех у них была одна, атаману высказать ее не решались. Не потому что боялись — не хотели обидеть Яволода. Тогда атаман сказал сам:
— Долгая дума — лишняя скорбь. Понял я вас, мужики, и поперек вашей воли не пойду. Обещал я вам золото-серебро, но вижу: тянет вас к земле. Кому по сердцу — оставайся с Мошкой, ступай в левую сторону. Кто со мной воротится в Великий Новгород — ступай в правую.
На сторону Мошки шагнуло полватаги. И Феклуша шагнула. Снова разгневался атаман, но тут же поутих: живая кость мясом обрастет. Всего при себе не удержать. Лишь бы Феклуше было хорошо, лишь бы после не каялась.
Прощаясь с мужиками, никого не обделил атаман. Много всякого добра унесли они с собою в леса.
…А весною, едва тронулась Сухона, увел атаман свою лодию на Волгу и погиб под Городцом в отчаянной схватке с купцами. Но Мошка так никогда и не узнал об этом. В тот час, когда, обливаясь кровью, Яволод отбивался от наседавших на него воев, когда сулица вмяла кольчугу на его груди и мутная волна захлестнула сознание, Мошка шел в ряду с другими мужиками по полю и, широко размахивая рукой, бросал в набухшую, жирную землю золотые семена ржи…
Глава девятая
1
Нелегкую зиму прожил Ярун у самоедов. Спутники его погибли — кто на охоте в схватке с белыми медведями, кто утонул в море, кого занесло снегами.
Остался во льдах и последний друг Яруна, верный Шахим. Пытаясь взять убитого моржа, он ушел далеко от берега, порыв ветра оторвал льдину и занес в море. Ему ничем нельзя было помочь. Ярун видел, как быстро удалялась льдина с мечущейся по ней черной точкой. Еще порыв ветра — и льдина растаяла в синеве воды и неба.
Теперь Ярун жил одной мечтой — скорее вернуться на родину. Он не стал ждать таяния снегов, в теплые дни путь по тундре, усеянной болотами, становился опасным…
…Плотно запахнувшись в совок из оленьих шкур, Ярун ехал по глади схваченной льдом реки и думал о том, что еще много дней пройдет, прежде чем он доберется до Новгорода. На последнем привале самоеды положили в нарты несколько мешков с вяленым оленьим мясом и рыбой, — припасов этих должно было хватить до конца пути. Но если падут олени, если налетит пурга, Яруну не выбраться из тундры. Недаром все, пытавшиеся дойти до Большой воды, так и не вернулись на родину.
Олени, вскидывая головы с ветвистыми рогами, бежали легко. Из-под мохнатых ног взлетали брызги колючего снега. Снег слепил Яруну глаза, он ложился в нартах на бок и забывался в полудреме.
Однажды он заснул. Он давно уже не спал и словно провалился в небытие. Сон был голубой и розовый. Ярун не запомнил его, но, когда открыл глаза, испуганно ощутил вокруг себя непривычную тишину. Не слышно было ни шороха встречного ветра, ни поскрипывания полозьев. Над серой ночной тундрой играли радужные сполохи северного сияния.
Воздух, словно сотканный из невидимых нитей загадочного света, показался Яруну продолжением чудесного сна. И тут же тело его напряглось от леденящего страха: он лежал на снегу, нарт поблизости не было, только темный след, прихотливо извиваясь, уходил по реке в белесую мглу…
Ярун вскочил на ноги и надрывающимся голосом стал звать оленей. Морозный воздух обжег ему легкие, он закашлялся и побежал по следу.
Это было еще ни разу не испытанное чувство — не просто страх, а нечто более сильное, охватившее сразу все его существо. Даже в бурю на море, когда свирепый ветер раскидывал по волнам утлые лодии, ломал мачты и рвал ветрила, Ярун не испытывал такого леденящего ужаса. Там рядом с ним были друзья, они боролись с волнами, криками подбадривали друг друга. Здесь Ярун был один, а вокруг стояла тишина, и чудилось, будто из белой мглы следят за ним враждебные глаза деревянного самоедского идола.
В раннюю весеннюю пору по тундре бродят стаи изголодавшихся за зиму, отощавших волков. Они нападают на оленей и на людей, и самоеды прячутся от них в свои чумы, призывая на помощь добрых духов. Отгоняя зверей, они стучат в барабаны… Но серые стаи не боятся их грохота.
Ноги подкосились, Ярун опустился в снег и сидел так, не двигаясь, ни о чем не думая. Но под совок пробирался мороз, предательски полз по телу, смежал глаза. Ярун со стоном поднялся и снова побрел по следу нарт.
В глубоком снегу идти было тяжело. Ярун проваливался в сугробы, ложился на живот и полз. Время остановилось.
Рассвет наступит не скоро. И, когда наступит рассвет, Яруна уже не будет в живых. Еще долго, очень долго будут лежать эти бесконечные снега, приподнявшие к небу призрачные столбы северного сияния.
…Олени вернулись по собственному следу. Время от времени они останавливались, взрывали копытами снег, чтобы добыть из-под него живучие стебли ягеля.
Ярун упал в нарты, пристегнулся к ним ремнем и тут же забылся глубоким сном.
2
На самый росеник Добрыня призвал к себе сотника Сыра.
— Донесли мне верные люди, — сказал боярин, — что по Югу много беглых холопов расселилось в лесах. То непорядок. Не годится людям жить без крепкой боярской власти… Возьми-ка, Сыр, воев да ступай на Юг. Чья рука длинней, того и земля. Ступай, без земли ко мне не ворочайся.
Богат боярин Добрыня, крепче всех сидит в Великом Ростове. Много разного люда трудится на него — и боровщики, и бобровники, и закосники, и мытники, и медовары, и говядопасцы. А все глядит боярин по сторонам — где бы еще поживиться. Удил он золотой удой, оттого и Леон, епископ ростовский, стал ходить под его пятой. Один только Всеволод хоть и принимал дары, а спешить не спешил. «Осторожен еще, — рассуждал Добрыня. — Попривыкнет, придет на поклон». И дочери говорил:
— Стояньем города неволят. Никуда не денется твой сокол. Приведу к тебе Всеволода на шелковой бечевочке…
Сотник Сыр удалился от боярина, гордясь полученным поручением. Тем же днем он отобрал воев, снарядил суда и на Николу весеннего двинулся вниз по Волге — добывать боярину землю, ставить над вольными людишками боярских верных тиунов. И еще наказал ему Добрыня срубить повыше Устюга крепость для устрашения холопов: шкурка их, а вычинка наша.
Долго плыл Сыр с воями: за Волгой на Сухоне пошли места дикие, купцы сюда редко заезживали, еще реже хаживали иные люди. О местах этих в Ростове рассказывали небылицы. Говаривали, будто облюбовали их нечистые, будто под каждым пнем — по лесовику, под каждой кочкой — по лешему.
С тревогой вглядывались вои в подступающие к реке темные леса, то и дело прикладывались к винным сулеям. Отхлебнут из сулеи меду — и вроде отступит страх. Но мед был коварен: после иному такое померещится, что хоть сейчас в реку вниз головой.
На ночь лодии приставали к берегу. Отгородившись от леса большими кострами, вои вспоминали, что в родных-то краях в эту пору выгоняют на ночницу лошадей. В избах пекутся пироги с гречей, а с наступлением вечера все холостые ребята выезжают в поле, где пасут лошадей до самого июля. Чего, бывало, не наслушаешься в ночнину!.. Вот и нынче десятинник Силуян, сидя у костра на щите, рассказывал испуганно сгрудившимся вокруг него молодым воям о кикиморах.
— Живет на белом свете нечистая сила; ни с кем-то она, проклятая, не роднится, — глухим голосом говорил он, — нет у нее ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни кола, ни двора; бродит она по белу свету одна-одинешенька, все выглядывает, кого бы ей погубить, кому бы зло сделать.
Силуян — находчивый рассказчик и выдумщик. Всем обличьем своим он похож на деда-лесовика: ростом мал, сухощав, острые плечи приподняты, брови густые, лохматые, под бровями маленькие глазки, будто мышата, — прыгают, резвятся, а то и спрячутся в норку. Прикроют их брови, и кажется, что Силуян спит. Но Силуян никогда не спит, а если и спит — все равно уши топориком. Все слышит, все обо всех знает десятинник Силуян.
Не в один поход хаживал с Силуяном сотник Сыр. Бывал с ним в жестоких сечах, а ни один меч не коснулся десятинника, ни одна стрела не оцарапала его кольчуги. Будто заговорен был Силуян и от копий, и от сулиц, и от топоров. И хоть был он уже не молод, а не стерпел, взял его с собою Сыр на речку Юг: с Силуяном Сыр чувствовал себя уверенно, без Силуяна — как без рук. И был Силуян для Сыра вроде оберега: не убьют Силуяна — и Сыр вернется поздорову в Великий Ростов.
«А что, как и впрямь водится он с нечистой силой?» — думал иногда Сыр. Был он человеком набожным, но в этакой-то дремотной глуши чего в голову не полезет! Бог богом, а не худо, коль и Силуян под боком.
Трудно добирался Сыр до речки Юг. Прошли уж и комарницы, в лесах появились стрижи и ласточки. С прилетом птиц поутихли сиверы, потянули влажные теплые ветры.
Плыли лодии по Сухоне, стучали уключины, хлюпали, падая в воду, весла. Уже третий день не было ветра, третий день натирали вои на ладонях кровавые мозоли. Лес встречал и провожал их враждебным молчанием. Поутихли птицы, попрятался в чаще зверь. Один только раз выкатился в заросшую тальником заводь большущий рыжий медведь, встал на задние лапы. Люди ему в диковину — что за чудеса?.. Постоял медведь на задних лапах, потряс лохматой головой и, недовольно ворча, укатился обратно в чащу. Бросив весла, развеселившиеся мужики выпустили несколько стрел, но стрелы не долетели до берега, и зверь ушел невредимым. Ловкий рыжий ком вскарабкался на каменистый откос и, перевалившись за него, прянул в лес.
Недаром, знать, замечали весной в деревнях, что солнце выходило на красном небе, — палило нещадно. На четвертый день грести совсем стало невмоготу.
Душный ветер надул комаров. Вои дымили кострами, расчесывались, кляли на чем свет и боярина Добрыню и Сыра. Или золота мало в скотницах у Добрыни, или землю он ест — оттого все и не хватает?!
Сотник делал вид, будто не слышит недовольных речей. Ссориться с воями в пути ему не хотелось.
До Устюга добрались только к концу месяца, когда уже появились худые росы. Про худые росы, случалось, говаривали всякое. Заболеет скотина, и уж старые люди заметят: «Верно, напала на медяную росу». Пожухнут листья — опять она, дурная роса… Хоть и жарко было, а вои ходили по лодии в обувке — как бы чего не случилось. От медяной росы не скоро избавишься, тут без знахаря не обойтись. А какой в Устюге знахарь?
Устюг — десять дворов вокруг крепости. Напротив города, за рекой, — широкие поля, за полем — лес. В крепости — деревянная церквушка, на реке — плот, где пристают лодии.
Устюжский воевода Ослябя встречал гостей из Великого Ростова с почетом и лаской, Сыра и Силуяна пригласил в свой терем. Воям, оставшимся на лодии, Ослябя велел выставить три бочонка меду: веселитесь, мужички, не зря кормили комарье. А то ли еще будет!..
— Велика, велика земля русская, — дивился Сыр, размягчаясь с дороги у воеводы. — Сколько ден плыли, а ни конца ей, ни края. Простор русскому человеку. Красота!..
Расправляя на две стороны тонкую русую бороду, Ослябя сказал:
— Гостил тут у меня один. Яруном зовут. А еще назывался новгородским гостем. С севера шел, от Большой воды. Два месяца добирался до Устюга, едва жив остался…
— Яруном, говоришь, зовут? — нахмурил изборожденный морщинами, смуглый от загара лоб Силуян.
— Аль знакомец давний? — добродушно улыбнулся Сыр. Сейчас он чувствовал себя в безопасности, былая тревога прошла, и Силуян снова был просто десятинником, а он, Сыр, был сотником и мог, не опасаясь, посмеиваться над Силуяном.
— Знакомец-то вроде бы не давний, — будто не замечая насмешливого тона сотника, степенно отвечал Силуян. — А Яруна я знавал. Тот ли?..
— Может, и тот, а может, и не тот, — сказал Ослябя. — Шибко ослабел купец, отправил я его на Русь с первой водой…
За угощением да за разговорами стал Сыр осторожно расспрашивать воеводу о речке Юге: велика ли, хороши ли на ней угодья, живет ли кто, кроме зырян, чем кормится. Ослябя хитрил, открываться не спешил: мало ли что за народ, хоть и с боярской печатью на мехе. Поглядим — увидим.
Да и Сыру не к спеху на Юг — понравилось ему в Устюге. На Гледене все лучше, чем в лесу: и сытная трапеза тебе, и мягкая постель.
Через две недели воевода, однако, сдался. Спустившись однажды в ледник и увидев, как оскудели его запасы, он послал своего человека за проводником.
Долго искать проводника не пришлось — нашли сразу.
Кона приехал в Устюг, чтобы накупить железа для отковки орал, да подзадержался. Не зная толком, откуда он, но зная точно, что с речки Юг, посланный от воеводы рассказал ему и о воях, и о поручении Осляби.
Сначала Кона испугался, хотел сбежать, но далеко ли сбежишь на коротеньких-то ножках? Поймает воевода, сгноит в порубе, а проводника найдет другого.
Вечером Кона уже не был в крепости, сидел на лавке и внимательно слушал полупьяного Сыра…
3
Сыр пялил на него глаза, все дивился: ну и ну-у!.. Сам маленький, борода до пупа, голос — как у бабы, а глаза злые.
Но вел себя Кона покорливо, как и все мужики. Войдя, снял шапку, сунул ее под мышку, перекрестился на образа.
— Ты чей будешь, старче? — спросил сотник, оправившись от изумления.
— Здешний, знамо.
— Давно ли в лесу?
— Давненько.
— А дорогу на Юг хорошо знаешь?
— Как не знать. Сколь уж по ней хаживал. По колени ноги оттопал…
— А нонче — готов ли в путь?
— Мы-то завсегда, — усмехнулся Кона. — Твои-то люди готовы ли?
— Хошь сейчас в дорогу, — похвастался Сыр.
— С вечера в путь пускаться негоже, — сказал Кона. — С утра поведу…
— С утра так с утра, — согласился Сыр, косясь на недопитую кружку с медом, — Ложись покуда в сенях. Утром подыму чуть свет.
Но не сотник утром подымал Кону. Кона сам постучался к Сыру в горницу. А в горнице ночью пир был горой. Пили Сыр и Ослябя — пили, меды лили. Так оба и забылись, упав в разлитый по полу малиновый квас.
— Эко повеселились, — пробормотал Кона и, присев на корточки, стал тормошить сотника.
Сыр стонал и охал, а Кона щекотал ему голые пятки. С трудом расщекотал. Поднялся воевода — один глаз заплыл синяком, принюхался к Коне, будто пес к чужаку перед воротами.
— Ты кто такой?
— Кона я…
— А…
Покряхтывая, сотник встал, допил оставшийся мед.
— Гулять — не устать, а дней у бога впереди много, — сказал он Коне.
На что Кона ответил:
— И до веку, и до вечера — живи надвое, сотник.
Сыру присказка не понравилась, он сгреб Кону за шиворот и, подталкивая перед собой коленом, поволок во двор. Во дворе в заплесневелой бочке с водой прыгали длинноногие водомеры. Сыр велел Коне зачерпнуть бадьей воды из колодца. Бадья большая, Кона маленький. Придерживая свисающий живот, сотник смеялся:
— Смотри сам не свались в колодец заместо бадьи…
Тяжелую бадью тащить — не чару меду испить. Тянет Кона веревочку, а бадья ни с места. Сыр хохочет, смехом заливается.
Мужичка выручил Силуян.
— Почто издеваешься над убогим? — с упреком сказал он Сыру и помог Коне вытащить бадью. Сам выплеснул воду сотнику на белую угрястую спину.
Потом Сыр хлебал с устюжским воеводой уху и снова пил мед. Выпив меду, пел песни и гнал от себя Силуяна.
Только к полудню усадил Силуян разморенного сотника на единственную кобылу под старым потертым седлом, и отряд двинулся в леса. Впереди отряда, маленький, юркий, с длинной суковатой палкой в руке, шел Кона.
Из ложбинки в ложбинку — скоро Устюг пропал за деревьями. Лес становился все гуще, все грознее. Чуть приметная тропка расползлась на множество тропинок, а там и тропинки исчезли. Сосны сомкнулись над головами воев, облаками повисло над ними нудливое комарье. Одного только Кону будто не трогают комары; все исчесались, а ему хоть бы что. Идет себе перед Сыровой кобылой, сбивает шелепугой сучки, постукивает по пенькам, будто прислушивается, будто советуется, какую выбрать дорогу, где озерцо обойти, где спуститься к ручью, где подняться на горку.
Лес везде одинаков, деревья всюду одни и те же. Но Кону это ничуть не тревожит. Кона по лесу идет, как по деревенскому, тысячу раз хоженому-перехоженому порядку.
Вел и вел воев Кона, солнце уж стало садиться. Ноги у воев затекли от ходьбы. И Сыр хоть и на кобыле, а тоже устал.
— Долго ли еще идти, Кона? — спрашивал он проводника.
— Потерпи, сотник, — не оборачиваясь, откликался Кона. — Лес терпеливых любит.
— Помни о сговоре.
— Помню, как забыть…
К вечеру вышли на край болота. Кона остановился, воткнул шелепугу в хлюпнувший мох.
— Здесь и заночуем. А через болото с утра пойдем. Как выйдем на сухое, так там сразу и деревенька. Ладно ли, сотник?
— Только чтобы без обману, — пригрозил Сыр, спускаясь с кобылы.
Вои оживились, разбрелись по лесу в поисках сухих сучьев. Зажгли костры, повесили над кострами котлы. В воздухе запахло едой.
Сидя у одного костра с Сыром и Силуяном, Кона рассказывал:
— Ране-то сюды мало кто заглядывал. Да и что была за охота? А нынче все потянулись. Пошел слушок по Руси: места-де богатые, зверья и меда видимо-невидимо. Сперва купцы за шкурами, а после и боярские тиуны. Знать, и вы знамена ставить пришли?.. Чьи будете?
— Боярина Добрыни, — сказал Силуян.
— Не слыхал про такого…
— Еще услышишь, — прищурился Силуян.
— То верно, — понял его Кона. — Пестра сорока-белобока, а все одна в одну.
— Ерник и в корне кривулина, — откликнулся Силуян и тут же испугался — сказал, знать, лишнего. Но Кона сделал вид, будто не расслышал десятинника.
— Первый спень до полуночи, — пробормотал он и, запахнувшись в толстину, свернулся клубочком у костра.
Силуян лег рядом, но заснуть долго не мог. Сыру, тому хоть бы что, будто маковой водой опился, а Силуян вздыхал и таращил глаза в лесную темь.
Звериное нутро у Силуяна, чует недоброе. Но по душе десятиннику и малорослый Кона, и пузырящееся болото, из которого выпрыгивают к самому костру любопытные лягушата. Лягушата даже пугают Силуяна: сядут у огня, глядят на спящих остановившимися точками глаз, раздувают на шее крохотные зобики — будто смеются, будто смехом закатываются…
Так и не заснув, еще до рассвета, едва посерело небо, Силуян принялся всех тормошить. Сразу же пробудившийся Кона стал ему помогать.
— Ночь — матка: выспишься — все гладко, — весело пищал он, расталкивая шелепугой спящих воев. — Вставайте, вставайте. Нынче еще немного пройти, тогда вдоволь наспитесь.
Вои, потягиваясь и позевывая, собирались у клубящегося туманом болота. Кона пробовал ногой кочки, рассматривал погруженные в зеленеющую воду кусты.
— Вот она, миленькая. Вот и тропочка, — ласково говорил он и делал шажок. Потом снова ощупывал перед собой болото и делал второй шажок. Сыру он посоветовал оставить кобылу на берегу: — Божья тварь богу работает.
Болото плотоядно чавкало и булькало, выбрасывая на поверхность крупные зловонные пузыри. Кона вел воев к темнеющему за клочьями тумана маленькому островку.
А вода все прибывала — сначала была по колени, но скоро поднялась до пояса. Коне уж она доходила до груди.
— Потонешь, странничек, — испуганно проговорил Сыр, чувствуя, как оседает под ним тропа.
— Все потонем, — отозвался Кона. Вода плескалась возле его подбородка.
— Аль нарочно в трясину завел?
— Угадал, сотник…
Тропка опускалась под тяжелыми телами воев. Перехватило и у Силуяна дыхание, когда смердящая жижа сдавила горло. А рядом резвились и стрекотали беззаботные лягушата.
— Заговоренный я, — пробормотал Силуян, разгребая руками траву.
— Молчи, — отозвался Сыр.
Коны уже не было видно. Только треух его, зацепившись за кустик, раскачивался над болотом.
Труся мелкими шажками по берегу, тихонько ржала кобыла.
И снова стала в лесу извечная тишина. Только назойливо гудело комарье, собираясь в тучи над скупо дымящимися притоптанными кострами.
4
Упадет в торфяник живая искра, долго тлеет, раздуваясь в большой огонь. Бывает, и день пройдет, и два, а потом вдруг вспыхнет за полверсты от костра, вырвется ветровым пламенем, оближет сухие стволы деревьев, поползет красным зверьком вверх, по скорчившимся сучьям. А там перекинется на соседнее дерево, а там прыгнет еще дальше. Свежий ветерок раздует пламя, понесет, будто парус, по верхушкам сосен и лиственниц. Гонит огонь зверье, гонит птиц, неистовствует, рвет дремотную тишину. Огонь сверху, огонь снизу — земля и небо в огне, только треск стоит над лесом.
Мошка работал на пашне, когда до него донесло горький запах гари. Остановив коня, он приложил ко лбу ладонь и стал вглядываться в лесную даль. Дым поднимался от болот, и низовой ветер гнал его, прижимая к земле, в сторону деревни.
В деревне тоже заметили дым. Тихон поднимал мужиков, ударяя в железное било. Мужики собирались за околицей, спешно седлали коней. К мужикам присоединились и бабы с лопатами. Прибежавший с поля Мошка заметил среди баб Феклушу. Но разговаривать с ней времени у него не было.
Верхом на конях и на телегах вся деревня двинулась в сторону пожара. Версты через три встретили посланных Тихоном дозорных. Те подтвердили, что лес горит у болот и пламя идет на деревню клином.
Между болотами и рекой лежала лесистая полоса шириной с полверсты. Только здесь и пробьется огонь к деревне — через болота не перекинется, захлебнется в трясине.
Дым становился все плотнее. Выбрав место, где деревьев было поменьше, мужики тут же принялись за работу. Зазвенели топоры, затрещали падающие наземь сосны. Часа через три обозначилась просека. Бабы шли за мужиками с лопатами, рыли в рыхлом торфянике глубокий ров, который уже заполняла пробившаяся из реки вода.
Мошка, голый по пояс, с болтающимся на волосатой груди деревянным крестом, шел по просеке впереди всех. От ударов его топора лесины надсадно ухали и звенели; на голову и на могучие плечи Мошки осыпалась колючая хвоя.
До болота было еще далеко, а огонь бушевал совсем рядом. Его потрескивание уже пробивалось сквозь частое тюканье топоров и грохот падающих деревьев. От стены леса несло жаром, как от раскаленной печи. То и дело над верхушками сосен вскидывались языки пламени — будто высматривали, прикидывали, много ли осталось пройти, чтобы свалиться на головы мужиков и ринуться к деревне.
— Наддай!.. Наддай! — кричал Тихон, широко разевая рот. Топор взлетал и опускался над его мокрой, взлохмаченной головой.
Задыхаясь от дыма, бабы надсадно кашляли.
Мошка первым выбрался к болоту. И когда последняя лесина, застонав, повалилась в грязь, все увидели клок голубого неба. Но его тотчас же застлал дым.
Из леса побежали по сухой траве огненные змеи. Они шипели и извивались, будто живые, уворачиваясь от лопат. Те, что было понапористее, карабкались на стволы деревьев, скрючивали ветки, тянулись через просеку, но, не дотянувшись до противоположной стороны, обессиленно переламывались и, потрескивая, издыхали на черной земле.
Уходя от огня, мужики расширяли просеку. Просвет становился все больше, ослабевшее пламя вяло долизывало обугленные стволы.
Дивясь своей работе, люди утирали лица и облегченно пошучивали:
— Прокатила, нечистая, головней, да все мимо.
— Ай да мы, выселковские!..
— Не по конец пальцев потрудились…
Потом, оставив у просеки дозорных, пошли купаться в реку. По реке плыли головешки и изуродованные корявые стволы.
Вода была холодная, мужики поплескались и выскочили на сухое. Мошка переплыл на другую сторону. Там воздух был почище. Мошка лег на траву и запрокинул к небу голову.
Давненько уже не ощущал он такой радости от сделанной работы. Бывало, и раньше выходил на пожары — оберегал боярское добро. Нынче же спасал свое, кровное. Оттого, верно, и работалось легко — вона какую просеку за полдня пробили. В иное время и за неделю бы не управились. Правильно говорят: «В своей упряжке никому не тяжко».
Хорошо отсюда Выселки видать: ползут на гору, толпятся друг к другу избы. Солнышко обласкивает новые смолянистые срубы…
Испугался в то утро Тихон, когда, после побега, вернулся к нему Мошка с ватажниками. Долго пришлось его уговаривать. Все не верил, думал: с нечистыми намерениями пришел к нему давешний незваный гость.
Стояли они по разные стороны частокола: хозяин с поселянами во дворе, а Мошка с ватажниками и маленьким Офоней на руках на улице. Офоня замерз на холодном ветру, стал плакать. Мошка рассердился:
— Дите малое загубите. Аль драться с вами? Не для того шли. Обиду я на тебя, Тихон, не держу, свечу комлем вверх не ставлю.
Кона, прыгая рядом с Тихоном, наставлял:
— Ты ворота-то им не отворяй. Ты проводи-ка их с миром.
Тихон засмурел. Тогда Мошка подошел к самому частоколу и, укачивая Офоню, сказал:
— Бог с тобой, Тихон. Хоть дите в избу прими. Да вот Феклушу. А сами мы и без вас управимся. Срубим избы, будем жить по соседству. Но отсюда все равно не уйдем…
Теперь, вспоминая прошлое, Мошка улыбался. Жить — не сено трясти. Далеко занесли его пути-дороги. А прибили к надежному месту.
Глава десятая
1
Перед самыми купальницами в Городце на Волге преставился светлый князь Михалка.
Еще накануне никто и подумать не смел о смерти, не думал о ней и князь. С утра, сговорившись с мужиками, он ходил на озимые хлеба ловить перепелов.
Пристрастился Михалка к спокойной охоте, была у него мечта: поймать белого перепела. Да где уж там! О белых перепелах только и было что разговору, а ловить их никто не ловил. Не поймал белого перепела и Михалка. Вернулся он с озимых поздно, перед сном парился в баньке, пил живительный настой купальницы, собранной по росе. А потом тут же, в баньке, пошла горлом кровь, и через полчаса Михалки не стало.
Пока снаряжали обоз, чтобы везти тело князя, Всеволод с дружиной прискакал во Владимир и сел на стол. Ростовчане узнали об этом на другой день, прислали к Всеволоду послов, но послов ростовских он не принял. Тогда-то и сообразили бояре, как просчитались они с молодым князем. Всех провел Всеволод, даже хитрого Добрыню. И тогда с опозданием понял Добрыня: Всеволод не Михалка. На что Михалка бывал крут — у молодого князя рука тверже. Валена ревела:
— Осрамил меня батюшка на всю Русь. Нынче кто за себя возьмет?
«Волчонок, воистину волчонок», — думал Добрыня. Порушит Всеволод боярское своеволие; опершись на дружинников и мизинных людей, унизит Ростов пуще прежнего.
Тем же часом призвал боярин гонца и велел ему, не медля, скакать в Новгород, звать Мстислава. В грамоте, врученной за боярской восковой печатью, сказано было, что Михалка, Мстиславов дядька, умер; владимирцы, не согласившись с ростовцами, приняли Всеволода, а ростовцы желают его, Мстислава, по-прежнему себе князем иметь, а иного не примут, токмо бы он не умедлил к ним прийти.
Трех коней загнал гонец (дано ему было двадцать кун, а двадцать кун обещано по возвращении), прискакал в Новгород, вручил грамоту, как наказано было, в собственные руки молодому князю.
Давно ждал этого Мстислав. Едва увидел запыленного гонца, и без грамоты все понял. А прочитал грамоту — велел тут же собирать в дорогу. Даже с женой не простился, даже на недавно родившегося сына не взглянул, — тайно, ночью, с малой дружиной выехал в Ростов.
Хорошо знал боярин Мстислава, знал, что спит и видит он владимирский стол, помнит об их давешнем разговоре, когда тайно приезжал Добрыня в Новгород. Уговор их крепок, не грамотами скреплен — общей ненавистью к Андреевым строптивым братьям. Но у каждого свой расчет. Мстиславу льстит сидеть на владимирском столе, так высоко вознесшемся при Боголюбском, Добрыня бьется за порушенную Боголюбским боярскую волю. Хитрый лис себе на уме: хоть и сядет Мстислав во Владимире, а править Белой Русью будут те же думцы из Ростова. Без бояр Мстислав и шагу не сделает. Да и ни к чему утомлять себя князю скучными делами, без него решат бояре, кого казнить, кого помиловать. А князю бы послаще баб да лихую охоту. И когда кликнул епископ передних мужей, так сказал им Добрыня:
— Придет Мстислав, тем же днем двинемся на Владимир…
…В недоброе, в смутное время вернулся Ярун на Русь. Ростов встретил его переполохом. Вои у городских ворот выслеживали лазутчиков.
— Чей будешь? Куда держишь путь? — допрашивал Яруна десятинник, сидя верхом на чурбаке возле сторожевой избы воротника. Воротника с женой удавили вожжами прошлой ночью, вину бояре свалили на владимирцев.
— Новгородский я, — отвечал Ярун десятиннику. — Торгую пушным и разным другим товаром. А путь держу с севера, от самояди…
О самояди десятинник отродясь не слышал («Себя-то почто едят?»), да и оборванная, набитая пылью сермяга Яруна показалась ему подозрительной.
— А не бывал ли ты, мил человек, во Владимире? Аль мимо проходил, аль и в сам город захаживал? — допытывался он.
— И во Владимире бывал, и в Киеве, и в Царьграде, — простодушно отвечал Ярун. — Купец я…
— А не врешь, дедушка? — переспросил десятинник.
— Вот те крест, не вру.
Десятинник разговаривал с ним мирно. Ярун, соскучившийся по живой душе, принялся ему рассказывать о своих скитаниях, о хождении в Булгар и к Дышучему морю. Но чем дальше он рассказывал, тем больше настороживал десятинника.
«Вроде бы на лазутчика и не похож, — рассуждал тот. — Но посидеть ему не помешает. Нынче время-то какое: не приведи бог. После разберемся». И велел вою отвести Яруна в поруб.
— Грех на душу берешь, — сказал ему на прощанье купец.
— Вечером отмолю…
Тут у ворот случилась давка. Покуда десятинник разговаривал с Яруном, народу натекло видимо-невидимо. Мужики ругались, норовили проскочить в город мимо стражи.
— Глянь-ко, глянь-ко, никак, князь, — вдруг прошелестело в толпе. И сразу будто ветер дунул от ворот — люди молча расступились. Десятинник вскочил с чурбака, запрыгал на онемевшей от долгого сидения ноге, стал шире распахивать обитые медью створы.
— Р-разойди-ись, р-разойди-ись! — покрикивал молодцеватый парень, скакавший впереди всех на потном коне. На одежде парня в полпальца слоем лежала пыль. Конь под ним хрипел и ронял на дорогу белую пену.
Следом за парнем скакала дружина, в середине дружины — насупившийся, прямой как жердь Мстислав. Синее корзно перекинуто за локоть, шапка с лисьей опушкой надвинута на глаза…
Вой, сопровождавший Яруна, разинув рот, пялился на князя. Отступив на шаг, Ярун юркнул за возы с горшками, а там уж дай бог ноги… Только его и видели.
Подавшись на купецкое подворье, Ярун быстро отыскал собратьев из Новгорода. Среди них был и знакомый человек, с которым три года тому назад хаживал к ромеям — Пантелей Путша. И хлеб и соль делили они с Пантелеем, отбивались под Олешьем от бродников. С той еще поры осталась у Пантелея глубокая метка — лиловый шрам на носу. Нос у Пантелея провалился от косого удара сулицы — всегда весело глядел вверх.
— Опять нынче пошла смута. Собрался я на Переяславль, да погожу. Княжеские вои в поле — хуже разбойников.
— Шел я с товаром в Булгар, — перебил Пантелея Емка, купец из Плескова, узкоплечий дядька с тусклой, как мочало, бородой. — А вот все думаю — не поворотить ли назад?
— Назад накладно. Да и ждать невыгодно — своего не выручишь…
Застрял в Ростове и немецкий гость Куно, синеглазый, русоволосый, недоверчивый и подозрительный, ни днем ни ночью не снимавший с себя кольчуги.
Купцы посмеивались над ним:
— Что русскому здорово, то немцу смерть.
Куно по-своему расценивал их смех.
— Вас фюр айн ланд, — ворчал он. — Алле зинд ройбер. О, доннерветтер![1]
Вот уже третий день стояли на пристани его суда, вернувшиеся с полпути. На немца напали, была яростная сеча, едва ноги унес Куно в Ростов.
Русские купцы пытались утешить его, хлопали немца по плечам, угощали медом. Мед Куно не пил — от меда у него слабел желудок. С судна ему приносили виноградное вино.
Среди своих на купецком подворье Ярун почувствовал себя совсем как дома. Но ночью ему снова приснился синий Волхов, стены новгородского детинца, мирные облака над Ильменем. Нынче праздник — жена готовит купальницкую обетную кашу. В светелке собрались бабы, толкут в ступах ячмень, поют песни. Рано утром из толченого ячменя они сварят кашу, а после полдника мужики станут кататься по улицам на передке телеги. Вечером они выедут за околицу и будут умываться там вечерней росой, которая будто бы способна одарить богатырским здоровьем.
Сон в руку, как говорят. Ни свет ни заря в избу постучался старик — маленький, сгорбленный, желтый. Купцы накормили странника, стали расспрашивать, кто такой и откуда. На первых порах старик отмалчивался, но купцы народ упорный, — помялся, помялся странничек и сказал, что зовут его Ивором и что путь свой держит в Великий Новгород.
В его рассказ никто не поверил.
— Ивора мы знаем, — говорили купцы, — а тебя видим впервые. Кто не знает Ивора на Руси?! Сказывают, сидит он в Боголюбове в темнице…
Старик печально улыбнулся:
— А в Боголюбове я и впрямь насиделся. Нынче выпустили меня помирать на воле, но с условием: песен не петь, былин не сказывать.
— Что же ты делаешь?
— Иду с нищею братиею, пою про убогую вдовицу Купальницу.
— Спой нам, Ивор, — стали просить одичавшие от безделья купцы. — Спой нам про вдовицу Купальницу…
— Отчего же не спеть, — согласился Ивор. — Кашей вы меня угостили, угощу и я вас песней.
И, закатив старческие бельма, он повел высоким жалостливым голоском:
— Как во старом городе, во Киеве, как у богатого купца — боярина, у Непокоя Мироновича, жила во сиротстве убогая вдовица Купальница…
Долго пел, а когда кончил, опустил голову и смахнул рукавом набежавшие на глаза слезы. Тогда-то поверили купцы, что старик их не обманывал — и впрямь это Ивор, да не Иворовы песни поет.
— А ты спой нам свою, разудалую, — стали просить они. — Спой нам про новгородского гостя.
Упорно просили купцы, угощали Ивора медом, но петь про новгородского гостя он не стал:
— Насиделся я в порубе, хочу спокойно умереть.
— Тогда пойдем вместе в Великий Новгород, — предложил ему Ярун.
На следующий день, чуть свет, расстались они с Ростовом. Шли лесными тропами, и в пути до самого Новгорода пел купцу Ивор свои вольные песни: в лесу не было князевых доносчиков, а Яруну он доверял.
Дал себе Ивор в Боголюбове обет — дожить остаток дней на покое. Да обета своего не сдержал. Едва прибыли в Новгород, исчез гусляр. Долго искал его Ярун, а потом узнал, что Ивор снова угодил в темницу…
2
Много забот было у Всеволода, но за всеми заботами не забывал он о Михалке. Умершего брата следовало похоронить со всеми почестями. Тело почившего князя привезли из Городца во Владимир, омыли в тереме теплой водой, надели белое и чистое белье и положили посреди ложницы на стол, прикрыв белым полотном и сложив руки на груди. Потом вложили покойнику в одну руку крест, а в другую свечу, и скорбный Микулица надламывающимся голосом стал читать отходную молитву. Стоя рядом с умершим братом, Всеволод истово молился и плакал. Крупные слезы текли по щекам Февроньи, свеча в ее руке дрожала, капли горячего воска падали ей на руку, но она не чувствовала боли.
Тело погребали до захода солнца: последнее солнце до общего воскресения.
Родные и знакомые, прощаясь с князем, целовали его в уста и в руки. Надрывно кричали плакальщицы, церковные служки обильно курили ладан. Потом тело князя положили в деревянный гроб с изображениями святых, к голове покойника поставили кружку с медом и хлеб и отвезли на санях в златоверхий храм Успения божьей матери. За санями вели княжеских лошадей, а дружинники, среди них и Давыдка, склоняли над гробом княжеские стяги.
Покойного поминали кутьею, в которую были воткнуты восковые зажженные свечи: две за упокой умершего, а три за сохранение здоровья живых. У собора Всеволод с Февроньей раздавали нищим и увечным милостыню.
Всеволод был не в духе, на поминках пил мало и раньше всех удалился в свои покои. Гонцы уже донесли ему, что в Ростов прибыл Мстислав и что ростовское боярство, подстрекаемое Добрыней, выставило большую рать, готовую вот-вот двинуться на Владимир.
Мешкать не следовало. Послав за переяславцами племянника своего Ярослава Мстиславича, Всеволод призвал к себе дружину, нескольких верных бояр, среди них одряхлевшего Захарию, и велел им собирать войско.
В тот же день Давыдка ускакал в Заборье. Давно не был он в своей деревне — с самого опахиванья, почитай. Ездили они тогда с Евпраксией проследить, все ли делается к весне, нет ли в чем какого убытку. Приехали на жуколы, а там, не заметив за делами, задержались до опахиванья. Бывало, и раньше бегал Давыдка в поле глядеть, как бабы унимают коровью лихость. Занятно было.
В ту далекую детскую пору и эти обряды, и старушечьи рассказы были для Давыдки исполнены глубокого таинственного смысла. В последнее же время он все реже вспоминал о былом.
Иными, более важными делами были заняты Давыдкины мысли — до воспоминаний ли ему! Вот и сейчас он скачет в Заборье не для того, чтобы взгрустнуть о прошедшем, — скачет собирать князю войско. Нынче он уж не простой дружинник, и не десятинник, и не сотник, а тысяцкий — правая рука Всеволода, передний его муж. Обласкивает Давыдку Всеволод, дарует ему новые земли, а побьют Мстислава — еще выше подымется Давыдкина счастливая звезда.
И еще одна забота у него на уме — Евпраксия ждет ребенка. Девять месяцев носит его под сердцем, хочет мальчика, тешит себя надеждой. Тешит себя мечтами и Давыдка. Родится сын — станет наследником, прирежет к Заборью новые земли; а дочь родится — и снова не в убытке: отдаст ее Давыдка за княжеского сына. Небось Всеволод тоже скоро остепенится.
Пьянит Давыдку удача крепче крепкого хмеля, а не теряет он головы, знает свое место, с Евпраксией не спорит. Евпраксия — всему начало, от нее ему и удача: князь и доднесь вокруг увивается, посылает ей подарки, каждый день справляется о здоровье. Тоже небось думает о ребенке, которого вот-вот должна родить боярыня: чей он? Давыдка довольно ухмыляется: думай, думай, князь, а мы свое дело знаем…
Приехав в Заборье, Давыдка сходил в баню, повечерял в одиночестве и велел звать старосту Аверкия. Переговорив с Аверкием, принял Акумку из Боровков (Боровки-то Давыдка прирезал к своей землице еще на грязнихи!). Гордый Акумка слушал Давыдкину речь стоя. Могучего роста, широкий в плечах, Акумка покорно кланялся, мял в руках шапку и униженно улыбался. Вот и этого лешего прибрал к себе Давыдка.
— Двадцать воев от Боровков, — сказал он, прихлебывая мед и обмахивая вспотевшее после бани лицо расшитым петухами убрусом. — Да с оружием, да на конях, да чтобы и еды было вдоволь… Ступай.
Акумка сломался пополам, ткнулся бородой к Давыдкиной руке (тот довольно поджал губы) и, пятясь, бесшумно вышел в переход.
Ночью было душно. От частых пожаров над лесами висела дымная хмарь. Временами далеко за Клязьмой вспыхивали багровые зарева. Дым полз по реке, расстилался по ложбинам, заползал во дворы.
Давыдка ворочался на горячей лежанке. Нудливое комарье, спасаясь от дыма, залетало в приотволоченное оконце терема, вилось над головой. Тело саднило от укусов. Ругаясь, Давыдка встал, накинул на плечи однорядку и вышел во двор.
По двору бегал сорвавшийся с цепи пес. Подскочив к Давыдке, он нетерпеливо завизжал, заскулил и, встав на задние лапы, стал лизать хозяину руки.
От прикосновения теплого собачьего языка Давыдка почему-то вспомнил Акумку — теперь уже без прежнего удовольствия — и поморщился. Лебезящий староста из Боровков не нравился ему — что у Акумки на уме? Не верил Давыдка боровковским мужикам, а потому решил: с утра отправлю-ка в Боровки Склира. Народ собирать нужно спешно, а эти провозятся до морковкина заговенья. Потороплю и Мокея: кузни у него вдоволь, за ночь-то сколько можно наковать мечей!.. Еще до своего приезда Давыдка наказал Аверкию через нарочного подыскать мужиков половчее Мокею в помощь. Аверкий нашел пятерых. Впятером должны управиться в срок.
Хоть и влекло по старой памяти, а к Мокею в кузню Давыдка не пошел. Побродил вокруг, послушал и спустился к реке. От воды подымалась прохлада, трава была скользкой и влажной. На плоту, приспособленном для стирки белья, что-то темнелось. Давыдка приблизился — человек? Аль тоже кому не спится?..
— Эй, на плоту! — властно окликнул он незнакомца.
Тень шевельнулась. Но человек не откликнулся, только повернулся в сторону Давыдки. Шея толстая, срослась с плечами, голова как котел. Глядит на Давыдку смело, будто и не Давыдка здесь хозяин, будто и не Давыдкины вокруг леса и пахоты.
— Ты — чей?
Мужик не ответил. Он сидел на плоту спиной к Давыдке, опустив в воду босые ноги. Рядом с мужиком на плоту лежал меч в простых кожаных ножнах, поверх меча — потертая сума с заплатками. Все это смутно виднелось в темноте, скорее угадывалось. Давыдка встал позади мужика, дивясь — откуда такой смельчак выискался?!
— Глухой ты, что ли? — с раздражением спросил он снова.
На этот раз мужик неохотно ответил;
— Отчего же глухой?
— Тогда почто не отвечаешь?
— А что отвечать-то? Сам не видишь — русский я.
— Знамо, не половец. Зовут-то как?
— А тебе на что?
— Коли спрашиваю, значит, надо.
Полуобернувшись к Давыдке и опершись на руку, мужик предупредил:
— Шел бы ты мимо, мил человек. Чай, не на твоем плоту отдыхаю.
— А может, и на моем, — придвинулся к нему Давыдка. Эка встреча: сперва мужик раздражал его — теперь он чувствовал к нему уважение. Ишь какая силища!..
— Это как же так — на твоем? — удивился мужик. — Уж не князь ли ты ненароком, уж не боярин ли?
— Князь ли, боярин ли, а Заборье — мое. Выходит, и плот мой.
— Ого, — сказал мужик и встал. — Давыдка, значит?
— Значит, Давыдка.
— А я Чурила.
Он осторожно, как гусь, переступил босыми ногами, потом сел и стал наворачивать на ноги онучи.
Мужик Давыдку озадачил. Он думал: коль при мече — должно быть, не из холопов. А ежели Мстиславов лазутчик идет через Москву на Владимир?
Давыдка заробел, а ведь не трусливого был десятка. Что, как ткнет его сейчас Чурила мечом в грудь да кинет в воду — и поминай как звали. Может, и через месяц не сыщут, в омуте-то…
Чурила надел шептуны, притопнул ими, чтобы легли поплотнее, и миролюбиво сказал:
— Ты меня, Давыдка, не бойся. Я человек смирной.
— А я не боюсь, — задиристо сказал Давыдка. — Я ведь тоже не лыком шит.
— Все вы не лыком шиты, — пробормотал Чурила и опять помрачнел. — Я, чать, на родину шел. Я, чать, с добрым умыслом…
— А меч пошто? — не утерпел Давыдка.
— Меч-то?.. А как же мне без меча? Много порубил я этим мечом поганых, а нынче иду ко князю Михалке…
— Князь Михалка преставился…
— Да ну?! — удивился Чурила. — Земля ему пухом. А кто же заместо Михалки?
— Брат его, Всеволод, — кто же еще!..
— А ведь и верно, — почесал Чурила в затылке. — Шел я тут мимо кузни, завернул на огонек, вижу — мужики куют мечи. Спрашиваю, что да как. А они мне: «Полюбились, мол, друг другу шурин со стрыем — водой не разольешь».
Чурила все больше нравился Давыдке.
— Не погостишь ли в моем тереме? — предложил он ему. Стоять босиком на хлюпающем плоту стало холодно.
Долго уговаривать Чурилу не пришлось — устал он, да и проголодался: худо ли, отведав боярских хлебов, отоспаться за все ночи под надежной тесовой крышей с веселыми петухами на коньке?!
3
Трудными путями добирался Чурила до Владимира. Меньше года прошло с той поры, как встретился он с Ромилом, а не легла у него душа к его неспокойной жизни. Мчался он с воеводой на борзых конях по половецкой табунной степи, упивался ненавистью, рубил поганых, а их еще будто больше становилось: уходили из жизни дружинники, падали в ковыли друзья, да, видно, зря — как шли половцы на Русь, так и шли, как жгли деревни, так и жгли. Конским хвостом пепелища не разметать. Иная нужна на поганых сила. А в Киеве и окрест Киева силы такой не было и нет.
Слышал Чурила в лавре разные разговоры о владимирском протопопе Микулице. Разговоры-то разные, а где-то все сходились на одном: отчаянной думкой живет Микулица, в проповедях Русь зовет к единению. Общей-де силой мы и не то что с половцами — с кем хошь управимся. Русский народ исполнен мужества, да вся беда в том, что князья разодрали землю на части.
Киевские черноризники, подстрекаемые послушным Константинополю патриархом, нашептывали: «Ишь, чего надумал — выше Киева захотел подняться, всех зажать в жилистую длань. Не выйдет. Не допустим!»
«А почто не выйдет-то? — рассуждал Чурила. — У грека-патриарха своя выгода, у нас — своя. Мы, чай, русские, и Микулица русский — неча нам на Царьград оглядываться, помощи от него не жди. Константинопольскими гнилыми стенами от степи не отгородишься. Нужно свои стены возводить — повыше и покрепче константинопольских». О том, знать, и печется Микулица, о том же болит душа и у Чурилы.
И, распрощавшись с новыми своими друзьями, отправился Чурила старым путем обратно во Владимир — через Чернигов и Рязань.
Вышел он из Киева под благовещенский перезвон колоколов. Не думал, не гадал Чурила, что подзадержится в пути, — на масленицу рассчитывал уже поклониться чудотворной иконе Успения божьей матери во Владимире. Под самой Рязанью свалила его жестокая болезнь. Был он перед этим днем в деревне, ел соленые грибы с луком. Знать, грибки-то попали порченые — утром едва поднялся с постели. Но в деревне оставаться не стал: облился холодной водой, растерся жестким убрусом — вроде полегчало — и тронулся в путь. Не проехав и десяти верст, вовсе ослабел: все вдруг пошло перед глазами колесом. Свалился с седла, а дальше ничего не помнит. Когда очнулся, увидел, что лежит в землянке, а у входа, прямо против лежанки, копошится старик — колдует над вороньей тушкой: вытягивает из крыла по перышку, бросает за порог и бормочет себе что-то под нос.
— Где я, дедушка? — услышал Чурила будто свой, а будто и не свой, чужой, незнакомый голос.
— В лесу, миленький, в лесу, — живо подковылял к нему старик.
— А давно ли?
— Да уж горошники, почитай, прошли…
Долго еще выхаживал старик Чурилу: отпаивал его настоями аистника и змей-травы, под руки выводил в лес дышать свежим весенним ветром. Знал дед свое дело: ветер-то лучше всяких корений выдул из Чурилы дурную кровь…
Распрощался Чурила со стариком лесовиком, подарил ему кривой нож с посеребренной ручкой, отнятый в бою у половцев, и подался пешком через Рязань на Бужу. А оттуда, от Бужи-то, до Владимира было рукой подать.
Все это и рассказал Чурила Давыдке, а после, когда выпили еще по чаше, рассказал и про то, что приключилось с ним в Суздале.
— Пойдем со мной во Всеволодову дружину, — предложил ему Давыдка.
Чурила помялся:
— Думал я — обратно в монастырь. Игумен не прогонит, примет раскаявшегося грешника…
— Всеволоду грамотные люди нужны, — не отставал от него Давыдка. — Служба трудна, да мошна не скудна.
Чурила о мошне не думал — хором ему не строить. А вот на молодого князя взглянуть хотелось. Но еще больше хотелось встретиться с Микулицей.
Через день Давыдка привел на княжеский двор полторы сотни мужиков, набранных в Заборье и Боровках. Привел и Чурилу, проводил его в сени.
Князь принял их, сидя на деревянном стольце. Микулицу вначале Чурила даже не приметил, только потом разглядел в углу облаченного в черное мужика с рыжей бородой.
Молодой князь понравился Чуриле: образован, смышлен — далеко глядит, радеет за Русь. «Дедов, Мономахов корень», — с уважением отметил Чурила.
— Что верно, то верно: соломиной не подопрешь хоромины, — заметил Микулица, когда Чурила закончил рассказ о Ромиловой дружине. И замолчал. О сокровенном не говорил, посматривал на молодого князя. По взгляду его Чурила понял: мысли у них одни, за Всеволода Микулица спокоен. — Добрый пастух не о себе печется, — вдруг снова проговорил Микулица.
Взгляды их встретились. Побледнев, Всеволод сказал:
— От беспорядка и сильная рать погибает…
Наверное, в эту минуту он подумал о предстоящей встрече с Мстиславом. Только что прискакал из Переяславля Карпуша: Мстислав идет на Владимир большой силой. Знал Всеволод — бояре ропщут. Но мужики и ремесленники с ним — чья возьмет, чья пересилит?..
У Микулицы нет сомнений: кто правду хранит, того бог наградит. А ведь было и наоборот. Бывало, что правду вдруг все почитали за ложь, а ложь выдавали за правду. Для Всеволода правда — в одном, для Мстислава — в другом.
Но вот перед ним монах — он тоже ищет правду. Стоптал не одну пару лаптей, руки его по локти в половецкой крови, — что привело его во Владимир, почему не во Мстиславову рать?..
И может быть, еще не разумом, а внутренним чутьем, звериным напряжением всех своих сил, Всеволод, рыская в потемках, видел на закраине грозового неба светлую полосу, — многие еще не видели ее, а он видел, и Микулица видел, и Чурила. Что-то ломалось в обычных представлениях: князь, бояре, холопы, народ. Что-то было еще более крупное, даже самое важное, — Русь. Не просто земля, не выгоны и не угодья. За угодья и выгоны боролись раньше — за них шел сейчас и Мстислав. За клок земли. А Всеволод шел за Русь. И Русь эту ныне предстояло отгородить щитами и от Мстислава, и от Ростова Великого, и от Рязани с ее алчным Глебом, и от хитрого Святослава Черниговского, и от половецкой степи, и от степи, которая шире половецкой и в которой уже собирает бесчисленные табуны кровавая монгольская конница…
4
Счастье и несчастье на одном полозу едут. Радовалась Любаша, что привезла ее Евпраксия во Владимир. Втайне мечтала чаще встречаться со Склиром — иссушил ей сердце молодой боярский меченоша. А вышло так, что в боярском тереме удалой Склир вовсе и не такой уж частый гость. А если и захаживает, то не к Любаше. И еще доползли до Любаши слухи, будто чаще всего можно встретить меченошу у камнесечца Левонтия, будто ходил он на масленицу за город не один, а с молодой Левонтиевой дочерью Антониной…
Да ведь если подумать, то и верно: на что Склиру Давыдкина роба? Левонтий нынче в почете, в княжеский терем вхож, со Всеволодом накоротке, не хуже знатного боярина. Женится Склир на Антонине — и ему почет. Не останется Всеволод в долгу перед дочерью своего любимца.
Тяжело Любаше — не отвалить холодного камня от сердца. И старая ключница, на что голубиная душа, не может ее успокоить.
— О чем печалишься, красавица? — допытывалась она. — Расскажи старой, облегчись…
А когда Любаша, собравшись с духом, рассказала, старуха оторопела:
— И думать о таком не смей. И из сердца выбрось. Тебе Склир ровня?
— Ровня не ровня, — запальчиво отвечала Люба ша, — а из сердца выбросить не могу. Помоги мне, бабушка.
— Да уж как тебе помочь, не знаю. Забудь его, каменного, Любаша…
— Забыла бы, коли смогла. А когда невмочь?
Работы в тереме у молодой боярыни много, и с работой Любаша справляется хорошо. Евпраксия к ней ласкова, ни разу еще не поругала — то плат подарит ей за труды, то пожалует вышивной убрусец.
Захария тоже не скуп: то серьгами, то чеботами одарит Любашу, но у боярина совсем другое, у него свое на уме. Старый одной ногой уж стоит в могиле, а все на девчат поглядывает, как кот на сметану. Встретит Любашу — то за ногу ущипнет, то за ягодицу. Хихикает, подмигивает. Фыркнет иной раз Любаша, выскочит прочь из ложницы. А боярин вслед хохочет:
— Рыжий да плешивый — люди спесивы… Тихо не лихо, а смиреннее — прибыльнее.
И принялся допекать Любашу по всякому случаю. Боярыне Евпраксии за всем не углядеть, да и на сносях она, плавает по терему утицей, — вот Захария и взялся извести Любашу. То квасу ему принеси, то меду налей, то попарь его в баньке. В баньке боярин и раньше любил париться, а тут хоть два раза на дню. Лежит на полке, крякает, глядит на розовое Любашино тело, облепленное мокрой рубахой.
На боярина жаловаться некому: боярин сам себе хозяин, сам себе голова.
И случиться же такой беде: пристал как-то Захария к Любаше на красном крыльце — она возьми да и оттолкни его. Не удержался боярин на хилых ногах, покатился по ступенькам, ударился темечком о сухой глиняный ком — и ну кричать.
На крик сбежалась челядь, приковыляла, опираясь на клюку, и старая ключница. Склонившись над Захарией, стала вертеть его и так, и этак, просит Любашу помочь. А Любаша ни жива ни мертва. Наконец коснулась ключница боярской ноги — Захария глаза выкатил из орбит от боли. Старуха почмокала губами:
— Кажись, ногу повредил…
И — зыркнула на Любашу укоряющим взглядом. И от взгляда этого старухиного стало Любаше совсем не по себе. Поняла она — пощады не жди. За такие проделки и крепких мужиков гвоздили, а девку просто сгноить в порубе. Кинулась она в покои, сама не помнит зачем, столкнулась с боярыней (тут бы и повиниться, упасть ей в ноги!), а она — назад, да старушке-ключнице в объятия. Но у старухи руки слабые, пальцы тоненькие, сухие — где им удержать Любашу?!
И опять бы Любаше остановиться (еще время было!), но уж легкие ноги перенесли ее за ворота. А там и сама не помнит, как оказалась на берегу реки.
На реке вдоль берега к колышкам лодки привязаны, мужики под кустиками ловят рыбу. День жаркий, мужики скинули порты, чтобы не мешались, стоят в воде по пояс, разговаривают друг с другом.
Любаше не до мужиков, она их и не разглядела — слезами застлало ясный день, — вскочила в лодку, только схватила весло, чтобы оттолкнуться от берега, как из кустов прямо напротив нее высунулась бородатая морда:
— Ай да баба!
Любаша вскинула весло над плечом, и морда исчезла. Кусты зашевелились, из них осторожно вышел мужик с постным лицом и озорными, бегающими глазами.
— Весло-то положи, — спокойно посоветовал он. — Не озоруй.
— Я не озорую, — решительно ответила Любаша и подняла весло еще выше. — Не подходи, а то ударю.
— Ишь ты, — остановился мужик и почесал ногу о ногу. Глаза его так и стригли Любашу. — Далече ли собралась?
— Тебе-то что?
— Мне-то ничто, а вон шумок у Волжских ворот: не тебя ли, кума, разыскивают?
Кровь отхлынула от Любашиного лица, она будто сама видела, как бледнеет. Мужик даже испугался, захлопотал, засуетился вокруг лодки. Христовый лик его стал еще постнее. Любаша выронила весло, опустилась в натекшую на дно лодки грязную лужу.
— Может, помочь чем, а? Может, помочь? — суетился мужик.
Любаша молчала. Тогда мужик, рассудив по-своему, оттолкнул лодку и осторожно повел ее за кустами вниз по течению: здесь, под самым берегом, их не было видно.
Пока плыли, Любаша и взглядом не повела: холодом обдало ее всю — словно иней в волосах, на губах, на ресницах. «Куда же теперь? Теперь-то куда?» — застыла в голове возникшая еще на боярском дворе отчаянная мысль.
— Теперь-то куда? — спросил мужик. Голос его будто взорвался в Любашиных ушах: она вздрогнула и очнулась.
Ткнувшись носом в траву, лодка покачивалась на волне. За мыском, за зеленым покатым горбом, виднелся Владимир: избы посада, высокая деревянная стена, над стеною — белая грива Успенского собора. Ветер доносил с пойменного луга веселую перекличку птиц.
— Не то у меня заночуешь, — участливо предложил мужик.
Любаша молчала. Мужик неловко покашлял.
— Назад-то ворочаться — куда? — вдруг спросил он.
Ничего плохого мужик не подумал, но в словах его был страшный для Любаши смысл: а что, если он и впрямь вернется назад? Она вскочила на ноги — лодка покачнулась и черпнула бортом воды. Мужик закричал:
— Оглашенная!..
«И впрямь оглашенная», — подумала Любаша. Куда ей теперь податься? К мужу нельзя. Аверкий — боярский пес, в тот же час донесет на нее тиунам. Но кроме как в Заборье, у Любаши на всей земле — ни души. И тогда вспомнила она о Мокее. Всем им кузнец заместо старшего брата. Ежели и не спрячет, то посоветует. Подскажет, как быть.
Чуя неладное, мужик пристально разглядывал Любашу. Дурных мыслей у него не было.
— Эх-ха, — проговорил он, щуря узкие глаза. — Ступай-ко, да лодку не опрокинь. Оно видно: счастье наше собаки съели…
Так и не проронила Любаша ни словечка, хоть в душе и благодарила мужика. А мужик еще долго глядел ей вслед, поддергивал штаны и протяжно вздыхал. С чем, с чем, а с горем он знаком. Горе, оно ведь как вода — со всех сторон окружило. Да разве каждому подсобишь. У самого, чай, семеро по лавкам — вона какие борозды пропахало горе-то на лице…
Любаша шла по лугу как пьяная. Добралась до леса, упала на траву, зарыдала. Не о Склире рыдала Любаша (о Склире она ни разу за день не вспомнила) — рыдала о своей загубленной жизни. Теперь на люди-то как показаться? Теперь боярыня и на дне морском сыщет… И все-таки тайно верила: только бы Мокея найти, Мокей обязательно поможет.
К Заборью она подходила уже ночью. Но в деревню не свернула — вышла тропкой вдоль Клязьмы прямо к Мокеевой кузне.
Тихо было в кузне. Ни огонька. С чего бы это? Даже домница не дымилась. Разбитые черепки были холодны.
…Крепко поработал Мокей на князя Всеволода, много наковал ему мечей и копий — вот и заснул богатырским сном, вот и не слышал, как подошла к кузне Любаша (юноту-то он еще днем отослал отдыхать и откармливаться в деревню). Не вдруг проснулся он даже и тогда, когда Любаша тряхнула его за плечо:
— Мокей, а Мокей!..
В деревне со сна лениво полаивали собаки. Мокей сел на соломенном ложе, протер глаза. Во тьме не сразу разглядел Любашу, подумал, что тормошит его юнота.
— Мокей, а Мокей, — жалостливо шепча, снова наклонилась над ним Любаша.
— Никак, послышалось, — удивился кузнец. — Любаша, ты?
— Я, — сказала Любаша. Ноги ее подкосились, она опустилась перед ним на колени.
— Да как же это?! — растерялся Мокей, пытаясь поднять Любашу. — Да что же это ты?!
Он провел ладонью по ее холодному лицу. Любаша прижалась к его руке, и он почувствовал в горсти ее горячие слезы.
5
Аверкий проснулся от властного стука в дверь. Стучали рукоятью меча.
Староста испуганно вскочил, прыгнул на середину избы, опрокинул корчагу с квасом. Корчага, постукивая глиняными боками и расплескивая квас, покатилась под лавку, где спал отец. Отец закряхтел и принялся громко ругать Аверкия.
В дверь стучали все настойчивее. Аверкий надел штаны, придерживая их спереди за бечевочку, подковылял к двери, откинул дрожащей рукой щеколку. В горницу ввалились, грохоча сапогами, трое воев. Тот, что был впереди, громким голосом распорядился:
— Свет высекай, староста!
Слепой со сна и перепугу, Аверкий не сразу нащупал брошенное на стол кресало. Ударил по камню — рассыпал вокруг голубые искры. Раздул кусочек трута, к труту приложил бересту. Береста подымила-подымила и вспыхнула узким огоньком. От бересты Аверкий зажег в поставце над кадушкой с водой лучину.
— Не то что жену — этак-то и Заборье проспишь, староста, — сказал все тот же вой, который только что распоряжался со светом.
Аверкий насупился: в вое он признал меченошу Склира. Но недовольство свое не выказал, засуетился по избе.
— Милости просим, дорогие гости, — поклонился он Склиру. — Милости просим, — поклонился вошедшим.
Стоя возле лавки, обалдевший со сна отец униженно кланялся и тоже повторял:
— Милости просим…
Склир бесцеремонно, словно был здесь хозяином, сел к столу, поставил между ног меч и, опершись о рукоять подбородком, с усмешкой уставился на старосту. Покорно стоя перед ним, Аверкий все еще придерживал за веревочку сползающие штаны и смущенно переступал ногами; рот его кривился в вымученной улыбке.
Насладившись вдоволь видом униженного старосты, Склир сказал:
— Ну, будя. А теперь сказывай-ка, где прячешь бабу?
Аверкий не понял его. Невинно моргая глазами, он еще некоторое время продолжал улыбаться. Но вот улыбка растаяла, и вместо нее на лице старосты изобразилось сперва удивление, а потом страх. Аверкий икнул и опустился на лавку.
Не став ждать ответа, Склир подал воям знак, по которому они принялись потрошить и переворачивать избу. В избе ничего не нашли. Ничего не нашли ни на задах, ни на огородах. Смущенные и злые вернулись в горницу.
Аверкий тем временем оправился от страха и теперь пытался изобразить из себя гостеприимного хозяина.
— Да что же это я! — размахивая руками, как крыльями, бегал он по комнате. — В доме гости, а угостить гостей нечем.
— Не меды распивать приехали, — раздосадованный неудачей, оборвал его Склир. — Послала нас боярыня разыскать и вернуть во Владимир Любашу. Зело провинилась твоя баба перед боярином…
— Ай-яй! — заморгал белесыми глазами Аверкий. — Шибко накажут?
— Может, шибко, — сказал Склир, — а может, и помилуют. Ты, Аверкий, не таись. Говори всю правду, как есть.
— Правду и говорю, — побожился Аверкий. — Не видал я Любашку, не заявлялась…
— Может, и не заявлялась, — поверил ему Склир. — А и то верно, — добавил он после раздумья, — куда птичке деться, окромя родного гнезда?..
— И верно, деться некуда, — лебезя перед Склиром, пролепетал Аверкий. — Как прилетит, вы ее и в силки — хлоп!
Он захихикал, заходил, приседая, вокруг меченоши. Склир брезгливо отстранился от него. По совести сказать, поручение боярыни было ему не по душе. Вернуться бы сейчас в город: Заборье, мол, обшарили, нет Любаши — и только. Но Аверкию не терпелось выслужиться — случай-то какой выпал! То, о чем Склир только строил догадки, староста высказал вслух:
— А что, как заглянуть к Мокею? Темный человек. Ежели где Любашка и прячется, то, знаю, у него.
Сказав так, обрадовался: ловко получилось! Убью-ка сразу трех зайцев: Любашу поймаю — выслужусь перед боярыней, насолю Мокею — нос-то неча задирать, и со Склиром за старое рассчитаюсь (милашку-то свою в оковах везти каково?!) — знай наших.
Меченоша с досадой покосился на воев. Один из них, золотушный парень с тонкой шеей и ломающимся детским голосом, сказал:
— Дело советует староста. Не то поглядеть?
Пошли вчетвером. Впереди семенил Аверкий, за ним, досадуя на свою нерешительность, шел Склир, за Склиром — вои.
У Мокеевой избы староста остановился, выдыхая запах лука, шепнул Склиру на ухо:
— Ты с воями-то постой, а я погляжу.
И тут же исчез в темноте. Однако долго ждать не пришлось. Скоро он снова вынырнул возле Склира и обрадованно проговорил:
— Здесь она — вот те крест. Ты ступай-ко вперед за старшого, а я погожу.
— Ты ступай, — раздраженно оборвал Аверкия меченоша и подтолкнул его перед собой в плечо.
У кузни заговорил громко, чтобы внутри было слышно:
— Погреми, староста. Вели выходить.
Аверкий забренчал медным кольцом.
Неожиданно дверь отворилась — человек ждал по ту сторону — и из ее черного зева послышался раздраженный голос Мокея:
— Неча бренчать. Пошто будите середь ночи?
Аверкий пританцовывал, будто на копытцах, заблеял тоненьким голоском:
— Здесь она, здесь хозяюшка.
— У, мразь, — выругался Мокей и плечом придавил дверь. — Добром не пущу. Слышь, Склир, — обратился он к меченоше, — ступай отсюда поздорову.
Он нагнулся — в руке его блеснула железка. Аверкий, как кузнечик, отскочил Склиру за спину, подталкивая его сзади, закричал:
— Ты меня не тронь: я — староста.
— А по мне что староста, что собака, — сдавленным голосом отозвался Мокей и взмахнул железкой.
Склир качнулся в сторону, увернулся от удара, выхватил меч. Вои, словно гончие, вцепились Мокею в руки. Кузнец отталкивал их, по-медвежьи рыча.
— Душегуб ты, боярский прихвостень, — ругался он и, вскидывая голову, плевал в лицо Склира.
— Молчи! — пригрозил меченоша.
— Остер топор, да и пень зубаст, — с неожиданным отчаянием и угрозой в голосе выкрикнул Мокей. Вои туго вязали его веревками. Сильное тело кузнеца противилось им, набухало узлами.
— Крепче, крепче пеленайте, — командовал Склир.
Спеленав, Мокея отволокли к домнице, бросили на холодные комья высушенной руды. Склир вошел в кузню, но пробыл там недолго. Быстро вернувшись, он склонился над кузнецом:
— Куда девку спрятал?!
Корчась в веревках, Мокей засмеялся:
— Что, изломали Мокея? На Руси не все караси — есть и ерши…
Так и не доставил Склир боярыне Любашу. С тех пор никто ее не встречал ни во Владимире, ни в Заборье. Всех перехитрил Мокей, да сам угодил в Давыдкин поруб.
Когда Давыдке сказали об этом, он изменился в лице, хотел, чтобы освободили кузнеца, но у Евпраксии начались роды. Так за тревогами и забыл о Мокее.
В тот день у боярыни родился сын, которого нарекли Василием. Под вечер это было. А утром Давыдка со Всеволодовой ратью двинулся через Серебряные ворота в поле навстречу Мстиславу.
Глава одиннадцатая
1
Не думал Добрыня, встречая рассвет у Юрьева, что рассвет этот будет последним в его жизни. На долгую жизнь собирал боярин серебро и золото, на долгую жизнь расставлял по лесам и угодьям свои знамена, на долгую жизнь строил высокие хоромы в Ростове и Ярославле. А все кануло разом: прилетела из-за речки стрела, пробила боярскую закаленную кольчугу, впилась в боярское сердце — и потемнел вокруг белый свет, перевернулась и встала на дыбы земля. Упал боярин в траву, упал и забылся вечным сном.
Еще вчера гордо встречал Добрыня, стоя рядом с Мстиславом, владимирских послов, передавших молодому князю Всеволодову грамоту.
«Когда ростовцы призвали тебя к себе на княжение, — писал Всеволод Мстиславу, — и как оный град есть старейший во всей сей области, и отец твой при отце нашем владел, то я тебе оставляю, если тем доволен хошь быть, а меня как призвали владимирцы и переяславцы, то я тем хочу быть доволен. Суздальцы же как ни тебя, ни меня не призывали, оставим вообще обоим нам или оставим на их волю, кого они из нас похотят, тот им буди князь».
— Хорошо медведя из окошка дразнить, — сказал Мстиславу Добрыня. — Гони Всеволодовых послов, не слушай их речи. Хитер Всеволод: глядит лисой, а смердит волком.
Большую обиду затаил Добрыня на молодого Юрьевича. Подбил своими речами и других ростовских бояр. Матиас Бутович и Иванок Стефанович были с ним заодно. А прочие, неродовитые, глядели им в рот: что скажут эти трое, так тому и быть.
Добрыня предупредил Мстислава:
— Смотри, князь. Хотя ты мир со Всеволодом учинишь, но мы ему мира не дадим.
И Мстислав сказал Всеволодовым послам:
— Скажите Всеволоду, если хочет мир иметь, то бо сам приехал ко мне.
Не приехал Всеволод к Мстиславу, не стал кланяться ростовским боярам. И тогда сошлись полки на Юрьевском поле, и первая же стрела с того берега угодила в Добрыню. Стрела — дура: в кого попадет, не ведает. Но из тысячи других встала на ее пути мягкая боярская грудь.
Упал боярин в траву, забылся смертным сном, а по широкому полю уже спешили навстречу друг другу взмыленные кони. Схлестнулись две лавины, столкнулись щиты, скрестились мечи и копья. Смяли переяславцы Мстиславово правое крыло, не запятнали своей чести и владимирцы с суздальцами.
Звенели над притихшим боярином топоры, храпели люди, падали в лужи скользкой крови. Не видел боярин, как дрогнула Мстиславова рать, не видел и того, как сам молодой князь бежал с поля брани, оставив и дружину свою, и верных своих бояр.
А ведь еще вчера похвалялся Мстислав:
— Порубим каменщиков — велю перенести стол в Ростов.
Делил Мстислав незавоеванную землю:
— Тебе, Добрыня, отдам Гороховец, отберу землю у церкви Успения божьей матери, Микулицу свезу на вече в железах. Тебе, Матиас, пожалую угодья за рекою Воршей. Не забуду и тебя, Иван…
А ныне все бояре полегли у Юрьева. Серым волком, таясь людского глаза, скачет Мстислав в Великий Новгород. Новгородцы люди вольные, но сердце у них доброе: простят князя, дадут хлеб и кров. Да и Ходора, чай, не чужая, заступится перед отцом за непутевого мужа.
…Лежит боярин Добрыня на бранном поле, а еще недавно обещал ростовскому епископу:
— Вот воротимся из Владимира со щитом, закажу колокол не хуже, чем в Киеве. Пусть звенит малиновым перезвоном: хорошо, привольно живется боярству на Руси. Не дозволим княжеским дружинникам и каменщикам хозяевать в наших усадьбах…
Так говорил Добрыня епископу, и не знал уж он, что, воротясь с почестями во Владимир, совсем другое говорил Всеволод протопопу Микулице:
— Гляди, Микулица, — широка, раздольна наша земля. Силушка в ней необъятная. А раздирают ее усобицы; топчут конями поганые половцы. Вот погоди, встану твердо над Клязьмою, поверну к Клязьме и Днепр, и Волхов, и Оку…
А Микулица трусил рядом на пегой кобыленке и улыбался, заслонясь ладошкой от яркого солнца:
— Хлеба нынче, князь, взошли хорошие, травы на лугах подымаются сочные… Ты про землю нашу, князь, говорил добрые слова. Согласному стаду волк не страшен. Две головни и в поле дымятся, а одна и в печи гаснет.
— Поставлю церковь над Клязьмою…
— И то добро, княже, — вторил ему Микулица.
— К Дышучему морю пошлю купцов. Торговать буду с Булгаром и с Хорезмом.
— Хорошо бы, ох как хорошо бы, князь, — подзадоривал Всеволода Микулица, и пегая лошаденка его прядала длинными ушами.
А Всеволод размечтался:
— Свезу мастеров во Владимир, златокузнецов и гончаров, лучших оружейников, лучших бронников, лучших мостников, лучших кожемяк…
— Чать, и свои не хуже, — возражал ему взопревший на солнышке Микулица. — Мастеров на стороне нам не занимать…
Нет, не слышал их мирной беседы боярин Добрыня. Лежал он в поле, и оперенный конец стрелы торчал из его груди. А в небе над боярином плыли белые облака, и мужики с бабами в деревне за рекой окликали весну. На солнечном закате выходили они играть в хороводы. «Весна-красна, ты когда, когда пришла, когда проехала», — пели они, собираясь на пригорках и обмениваясь желтыми яйцами. Пили мужики хмельную брагу, плясали и щупали баб.
Не видел, не слышал их именитый ростовский боярин Добрыня Долгий. Смертный снег смежил его веки, остекленил глаза.
Пройдет ночь, наступит новое утро — и остановятся над ним мужики. Неторопливо поскребут в затылках и скажут:
— Да, важный был боярин. Броня-то с золотой насечкой.
А после Добрыню отвезут в Ростов. И епископ, давний друг его, держа в дрожащих руках псалтырь, прочтет над ним отходную молитву.
Безутешно будет плакать над его гробом Валена (так и не станет она княгиней), будет с завистью и темной злобой глядеть из толпы, как въезжает в Ростов владимирский князь Всеволод, как подносят ему ключи, а девки украшают коня его венками из синих васильков.
Не увидит Всеволод в толпе Валену, потому что взгляды его будут обращены совсем в другую сторону — к украшенному красной и черной резьбой возку, в котором проедет за княжеской дружиной молодая боярыня Евпраксия, еще более похорошевшая после родов, а рядом с ней будет сидеть толстая девка с красным лицом и на виду у всех кормить щедрой грудью пухлого младенца.
Не много воды утечет с того дня, а многое переменится. И ничего этого не увидит боярин Добрыня, и, может быть, к лучшему, — все равно не перенес бы он великого позора. Ушел бы от мира в монастырь или сбежал бы в леса.
И да будет земля ему пухом.
2
В избе у новгородского посадника Якуна просторно, на полу — медвежья новая шкура, на лавках — мягкие ковры, дощатые стены натерты воском. Везде порядок, уют, хоть и живет Якун без хозяйки. Давно померла жена, а новой в дом не привел: пришлая девка управляется с хозяйством.
Сидит Якун на лавке, поджал босые ноги с заскорузлыми пальцами, морщит лоб, щупает языком больной зуб, временами прикладывается к чаре — полощет рот шалфеем. Есть над чем призадуматься Якуну — сам князь в гости пожаловал. И не то чтобы в гости — князь есть князь, — а пожаловал за подмогой. Дело родственное, подсобить надо — а как?!
Во второй раз сбежал Мстислав из Новгорода, не сказавшись, не посоветовавшись ни с боярами, ни с вечем. Один раз простили — уговорил их Якун. Уговорит ли во второй раз?..
На Мстислава Якуну глядеть было неохота. Сидит бледный, испуганный, глаза рыщут по избе, избегают Якунова твердого взгляда. Если бы не Ходора, ни за что не простил бы князя Якун. Но дочь — родная кровь, да еще с сыном. О дочери и думает Якун — не о князе. Если бы не дочь, сам не пустил бы Мстислава на порог.
— Сбегу. К Глебу али к половцам сбегу, — вялыми губами бормочет Мстислав.
«А ведь и верно — сбежит», — думает Якун, разглядывая зятя. Ослепила Мстислава ненависть, помутила разум тупая злоба. И хоть вернулся он в Новгород, а по всему видно: ненадолго. Долго в Новгороде Мстислав не усидит — потянет его снова в Понизье. Так и будет пытать свое неверное счастье, пока не наткнется на стрелу или на копье.
— Негоже русскому князю знаться с погаными, — пробует усовестить его Якун.
Мстислав глядит на него пустыми, в серых крапинках глазами, трепещут тонкие крылья ноздрей.
— Али торговать с немцами? — спрашивает князь, кривя вздрагивающие губы.
— Торговать — дело верное. Веками на торге стоит Новгород, — стараясь сохранить спокойствие, возражает Якун. — Обид не копим, богатство собираем честно. Оттого и живем вольно.
Князья все одинаковы — что Мстислав, что Юрий. Прежний-то князь тоже все время вертел головой, глядел, с кем бы поссориться. Но крепко держало его в узде новгородское боярство. Шибко-то озорничать не позволяло…
Вот и Мстислава ежели припугнуть. Свой-то князь Новгороду нужен. Без князя тоже нет на земле порядка. Князь — сила.
Сидит, вздыхает Якун и полощет шалфеем зубы. Но шалфей боли не унимает: придется рвать зуб с корнем. Не будь Мстислав зятем, не пожалел бы и его Якун — вырвал, как больной зуб.
В полдень, с трудом раскачавшись, надев шитый золотом парчовый зипун, отправился Якун к владыке. Мстиславу наказал из горницы не выходить, ждать известий. Дело худо, прямо сказать, худо. Ежели вече упрется, не поможет и владыка.
Снова сидели бояре, думали трудную думу. Обижать боярина не хотели, правды не сочли нужным таить:
— Перелетная птица твой князь.
— Человек ненадежный.
— Не о Новгороде радеет. Иное у него на уме…
Якун слушал бояр покорно. Возражать не решался. Владыка потел, в беседу почти не встревал — и он понимал, что дело безнадежное. Лучше поискать другого князя, пусть ледащего, но своего. А Мстислава вече не примет. А не примет Мстислава вече, каково им, боярам? Ведь и с них, бояр, спросится: почто даете нам непутевого князя? Али о своей выгоде радеете? Радеть-то радейте, только и нас не забывайте. Поглядите по сторонам — свеи зарятся на Нево-озеро, ждут случая, как бы отхватить у Новгорода. А пойдут ратью — кто заступится? Снова небось сбежит Мстислав.
— Дума мне ваша понятна, бояре, — выслушав всех, заговорил Якун. — Потому и спрашиваю, как быть?
— Мстислава принять не можем.
— Пусть едет к Глебу.
— Ну что ж, бояре, воля ваша. Перечить вам я не стану. И у самого были сомненья. Знать, доживать Ходоре свой век в Новгороде горькой вдовой…
— Не печалуйся, Якун. О Ходоре мы позаботимся.
— Чай, и сам не голь перекатная, — обиделся Якун. — Нешто дочери не прокормлю?!
На том и порешили. Вечером призвали на совет Мстислава, и на совете Якун объявил молодому князю волю господина Великого Новгорода:
— Ты, князь, обругал Новгород, уехал без объявления на дядю твоего, прельстился зову ростовцев; бог дядю твоего оправдал, и тебе сюда идти непристойно.
Хмуро сидели по лавкам бояре, глядели себе на животы. «Купцы, а не бояре, — рассердился Мстислав. — Солью немецкой торгуют, свейским железом, копят серебро. Ну же, и я с вами поторгуюся!..»
И, злобно раздувая ноздри, он сказал:
— Добро рассудили, бояре. Теперь меня послушайте. Шел я к вам с миром — не торговаться. Ныне вижу: зря шел. Сидите вы широкими задами на мешках с серебром. А вот погляжу, как повытрясут из вас серебро алчные свеи.
Бояре вскинули бороды. Владыка ударил в пол тяжелым посохом.
— Смирись, Мстислав, — гневно сказал он. — Негоже нам слушать твои похабные речи. Да и тебе сей лай не к лицу.
— А вот поглядим, — ответил Мстислав. — Торговаться так — как на торгу. Сына своего Святослава беру с собой. Аль откупитесь? Много не запрошу: на пятидесяти гривнах сойдемся…
Услышав такое, бояре онемели. Побагровевший Якун, не вставая с лавки, сказал:
— Как есть без ума. Под носом взошло, а в голове не посеяно. Кого лаешь?
— Полегче, боярин, — положил Мстислав руку на резную рукоять меча. — Не погляжу, что родня.
— Знать, совсем застило… — Бледный и решительный, приблизился к нему владыка. — О Ходоре подумал ли? Креста на тебе нет.
— Пятьдесят гривен, и ни ногатой меньше, — прошипел Мстислав.
Бояре вскочили, размахивая длинными рукавами, заговорили все разом. Только Якун, опустив голову, по-прежнему неподвижно сидел на лавке.
— А ты почто молчишь? — накинулся на него владыка.
— Не в деньгах суть, — охрипшим голосом сказал, помолчав, Якун. — Верно ты сказал давеча: сидим на мешках с серебром. А выкупа за княжича платить не станем. Забирай Святослава, поезжай. Семя твое гнилое, а гнилой товар нам брать не к лицу. Мы люди торговые…
Верой и правдой служил Новгороду Якун. Андреевой милостью пасся после него на посадничестве Нежата, после Нежаты отдавали должность Захарии. А в трудную годину, когда двинулись на Новгород князья смоленские, рязанские, муромские и суздальские, снова вспомнили новгородцы о Якуне. Якун только и спас город, затворившись за его крепкими стенами. Не впустил он в Новгород Андрееву рать, отстоял вольницу. Но после начался мор, а хлеб шел с востока, и новгородцы послали к Андрею бояр просить мира. А чтобы князь не серчал, убрали Якуна, поставили вместо него Жирослава, а по воле Рюрика Ростиславича, посаженного к ним князем, посадничество отдали Ивану Захарьичу. За Ивана Захарьича хлопотал у князя Андрея владыка Илья — уж больно алчен был Жирослав. Хоть меняли новгородцы посадников, а Якуна любили. И когда умер Иван Захарьич, послали просить его снова стать посадником, однако же тот отказался. Тогда уж избрали Завида Неревинича.
Одного боялся Якун: победив Ростиславичей, пришлет Всеволод в Новгород своего князя. А Всеволоду Якун не доверял, стариковским умом понимал: вырастет из волчонка матерый волк, схватит Новгород за горло мертвой хваткой. И все же делать было нечего.
В терем вернулся Якун разбитым, с трепетом ждал встречи с Ходорой. Не знал, что и сделать, как ее успокоить. От сказанного однажды старик отступать не любил. За то и пострадал немало на своем веку.
Ходора не заставила себя ждать, тотчас же явилась на зов отца. Усадил ее Якун на лавку, поглядел в глаза и вдруг почувствовал, как дрогнули губы. Замахал руками, велел уходить.
Лишь вечером, успокоившись, объявил дочери решение совета…
Уехал Мстислав, увез сына с кормилицей в Рязань. Уехал тайно, без проводов. Даже Ходора не вышла проститься с Мстиславом. С сыном расстались в тереме, слез своих никому не показала. Гордой была Ходора — вся в отца.
3
Глеб, Мстислав с Ярополком и боярин Онисифор сидели за столом и вели неторопливую беседу. Речистее всех был Мстислав, Глеб с Ярополком лишь изредка вставляли по словечку, Онисифор молчал.
Не нравилась Онисифору княжеская беседа. А Мстислава он недолюбливал с отрочества. Едва появился Мстислав в Рязани, Онисифор сказал себе: «Гляди, боярин, не с добрым пожаловал молодой князь». О победе Всеволода в Рязани знали через три дня после битвы у Юрьева. От страшных подробностей у Глеба отвисла челюсть, а нынче напел ему Мстислав в уши — и ожил князь. Снова глаза горят алчным блеском:
— Навалимся все вместе да половцев кликнем, — говорил Мстислав, наклоняясь к Глебу. — Не устоит Владимир.
— Как есть не устоит, — соглашался Глеб.
Ярополк прятал в усы ехидную усмешку. Все они одним лыком шиты — вроде бы и родные, а хуже недругов. Хоть бы его, Онисифора постыдились, — на лице-то, как в книге, написано: рад, что побили Мстислава. Бодливой корове бог рог не дает…
Угадывая тайные мысли Онисифора, Мстислав обратился к Ярополку. Положив руку ему на колено, он сказал:
— Не сердись на меня, брате. Что было, то прошло. Глеб нам поможет.
— Поможет, как же, держи суму шире, — проговорил Ярополк, косясь на Глеба.
Глеб, как всегда после охоты, был с перепоя. Но Прошка уже подлечил его сладкими медами, и по дряблым щекам князя растекалась застоявшаяся кровь.
— Своя рубашка всегда ближе к телу, — пробормотал Глеб и сочно рыгнул. — Зря держишь на меня обиду, шурин. Пораскинь мозгами, окромя меня деться тебе некуда.
— Вот и ладно, вот и сговорились, — мирил их Мстислав. — Кто прошлое помянет, тому глаз вон.
— Что верно, то верно, — вмешался Онисифор, которому надоело слушать перебранку князей.
— Ты, боярин, не в свое дело не встревай, — оборвал его Глеб. — Об тебе разговор впереди.
Онисифор обиженно замолчал. Не щадил его князь, а ведь кому, как не Онисифору, обязан он замирением с Михалкой. Небось когда пошел на него Михалка сильной ратью, так вспомнил князь верного боярина. Онисифор — не Детилец с Куневичем. Детилец с Куневичем глядят, как бы свои скотницы набить: едва сел Ярополк во Владимире, первыми побежали делить Андреево наследство. И икону Успения божьей матери, и Борисов меч они притащили в Рязань, а Онисифор после возвращал Михалке награбленное с низкими поклонами. Нынче Детилец с Куневичем притихли, не в милости у князя, нынче у князя доверенное лицо — Онисифор. Да вот беда — не умеет ценить алчный Глеб верных слуг своих…
Рассуждая так, боярин, однако, следил за беседой: слышал все, о чем говорили князья.
— Рати большой нам не собрать, — жаловался Глеб. — Под Всеволодом-то нынче и Суздаль, и Переяславль, и Ростов…
— О рати не печалься, — успокаивал его Мстислав. — Неча мудрить, поклонимся половцам, пообещаем чего… Не впервой…
— Поганых на Русь звать? — вскинул пьяные глаза Глеб.
— Не ты последний, — будто не замечая его испуга, спокойно продолжал Мстислав. — Звали половцев и другие князья. Повоюют нам Владимир со Суздалем, вернутся в степь. В лесах, чай, жить не останутся.
Только теперь Онисифора осенило: так вот что задумали князья! Вот почему призвали его на совет. Ходил и раньше Онисифор в степь, знал половецкий язык, — нынче снова ему идти на поклон к поганым…
— Вот боярина пошлем, — повернулся к нему Мстислав. — Грамотку напишем: так, мол, и так…
Глеб сопел, дышал тяжело, с надрывом. Глаза его снова помутнели. Ярополк вышел за дверь кликнуть Прокшу.
Улыбающийся Прокша внес в гридню большую братину с черпаками и кубками. Пригубив меду, Глеб оживился.
— Слышь-ко, Онисифор, снова пала тебе дорога.
— Бедному кус вместо ломтя, — проворчал боярин.
Но слово князя для него — закон. Получив грамотку, утром следующего дня отправился он в степь. Дорога старая, знакомая; конь под боярином сытый, а еще два в поводу. Снарядил Глеб боярина в дорогу не скупясь. Не поскупился и на дары для половецкого хана: дело не простое, требует умения и ласки. Много соболей вез Онисифор, много скани, золота и серебра. Велено было ему сказать: еще больше соболей, серебра и золота получит хан, когда пограбит Владимир.
Только на Ильин день добрался Онисифор до половцев. Хан встретил его приветливо, угощал кумысом, как дорогого гостя, целую неделю возил с собой на соколиную охоту, — о деле не заговаривал. Глебовы дары пришлись хану по душе, но виду, что понравились, он не подавал. Показывал Онисифору табуны, хвалился, что таких табунов у него тьма. Хвалился золотом и серебром: торговал хан русскими рабами с Царьградом — возил их на Русское море по Дону через Сурож.
Рабов, как и лошадей, держали в степи в загоне. Проезжая мимо загона на лоснящемся жеребце, хан довольно поблескивал зубами, помахивал плеткой на притихших голубоглазых рабынь.
— Зачем мне Владимир, боярин? Во Владимир далеко. Пойду на Киев — много золота привезу.
Онисифор выжидал. Был он терпелив и скрытен. Скрытность его не нравилась хану. У скрытного боярина многого не выпытаешь. Зато боярин, гостя у хана, времени зря не терял. Через лазутчиков он уже выведал многое. Знал, что у половцев тоже промеж собой раздоры, что во время последнего набега честолюбивого хана обделили добычей. Понял Онисифор: тянет хан, чтобы выгоднее сторговаться. Но Глеб наедине дал Онисифору строгое напутствие:
— Шибко многого-то поганым не обещай. Сами скоро по миру пойдем. Не Ярополково, не Мстиславово отдаем — свое, кровное…
— Знамо, князь, — пообещал Онисифор, — внакладе не останешься.
— Гляди, — предупредил Глеб.
Долго ломался хан, стараясь вызнать у Онисифора, что бы еще выклянчить у рязанского князя за помощь. Почувствовав, что время приспело, боясь переиграть, хитрый боярин сказал.
— Вижу, не по душе тебе, хан, наша дружба. Дни идут, а мы с тобой так ни до чего и не договорились. Завтра возвращаюсь на Русь. Велишь ли что передать Глебу?
Хан сощурил блеснувшие гневом узкие глаза, но сдержался, снова стал уводить боярина от главного. Женщины, прислуживавшие за трапезой, по незаметному знаку хозяина подливали и подливали Онисифору вино. Сам хан вина не пил, зато гостя потчевал не скупясь. Онисифор оценил его щедрость — выпивал по полчары, остальное выливал под полог шатра.
Дивился хан: крепок боярин — полмеха вина выпил, а трезв. Когда кончили пировать, Онисифор стал прощаться: перед дальней дорогой самое время отдохнуть.
Спал боярин спокойно: уверенность была — утром хан сломится. И верно, не обманули его предчувствия. Возвращался Онисифор на Русь не один — шла за ним несметная половецкая рать…
А в сумах возвращалось еще сорок сороков соболей. Попридержал их Онисифор для несговорчивого хана, теперь порадует Глеба. Задешево купил поганых…
4
Лето подошло к концу. Скосили в деревнях овсы, отпраздновали овсяницы и скирдницы. Все думали-гадали: скоро ли осень, а вот он и рюень на дворе — с красной брусникой, с увесистыми боровиками. Пронизанное солнцем, с тенетником и отлетающими на юг скворцами, шло по Руси раздольное бабье лето.
Только бы и радоваться затяжному теплу, а Левонтий вдруг занемог. Жар поднялся во всем теле, губы пересохли — ни стать ни сесть, целыми днями лежал он на лавке, гулко кашлял в сухонький кулачок.
Уж чего только не испробовали знахарки: и липовый цвет давали ему испить, и густой настой коровяка. А все напрасно — ничего не помогало Левонтию. Ни с того ни с сего пошла носом кровь. Антонина сбегала в посад, привела старуху-заговорщицу. Сев подле больного, старуха велела повторять за собой:
— Да будет тело — древо, кость — камень, кровь красна, не теки! Закреп-трава, пособи, кровушку во мне сохрани во веки веков. Слово мое крепко, закреп-травою сильно. Чур, крови конец — моему делу венец. Аминь!..
Не помог заговор. Старушка рассердилась: уж больно упрямый попался больной. Другим, слышь-ко, с первого раза помогало.
Антонина сунула старухе в руку вязаный плат, выпроводила за ворота и разрыдалась на крыльце.
— Горе мне, горе. Не подымется батюшка. Навеки закатится красное солнышко…
Маркуша успокаивал ее:
— Индо рано отпевать-то. Индо выздоровеет дедушка.
— Ой, не выздоровеет. Ой, не встанет, — причитала Антонина.
Никитка был в отъезде — отбирал белый камень для будущего собора. На сей раз решили не везти камень от булгар, поискать своего, поближе к Владимиру. Стали расспрашивать мужиков по деревням; от мужиков узнали, что камень есть неподалеку: много камня, прямо на поверхность выпирает белыми лбами. Вот Никитка и решил поглядеть сам — не врут ли. Мужики не врали: камень и вправду был хорош, и камня этого вокруг — видимо-невидимо. Да и для перевозки удобно — река рядом: грузи на лодки, вези сколько душе угодно.
Когда Никитка уезжал, Левонтий был еще здоров, только по утрам жаловался на боли в пояснице.
— Молодости не вернуть, старости не избыть, — шутил он, снаряжая ученика в путь. — Надолго-то не задерживайся.
— А что задерживаться? Одна нога здесь, другая там, в неделю обернусь, — обещал Никитка.
Но в отъезде щемила его тоска, а вернуться до срока тоже не мог: в пути прохудилась лодия. Когда же вернулся, лежал Левонтий, вытянувшись на лавке, как покойник. Увидев Никитку, не улыбнулся, только глазами указал: садись, мол. Никитка сделал вид, будто ничего не заметил: сев на перекидную скамью в ложнице, стал подробно рассказывать о поездке.
Слушая его, Левонтий вздыхал. Аленка, стоя рядом с ним, утирала ему убрусцем покрывающийся холодной испариной лоб, подносила к сухим губам чару с целительным настоем. Левонтий морщился, пил настой, двигая обострившимся на жилистой шее кадыком, поощрял Никитку взглядом. Иногда он забывался, закатывал глаза и часто дышал. На губах лопались желтые пузыри, в груди клокотало, как в поставленном на огонь горшке с сочивом.
Тогда Никитка подымался в мастерскую, брал в руки зубило и молоток и неистово бил по камню. Из камня вырисовывались страшные зубастые твари. Твари мерещились ему по ночам. Утром он снова сидел подле мастера.
На гусари небо заволокло тучами, пошли проливные дожди. Дороги раскисли, почернели избы и заборы, над Клязьмой на много дней повисла молочная мгла.
В один из таких сумрачных дней и появился во Владимире Радко. Остановиться негде, корчма сгорела в пожары, — вот и пришлось заворачивать к Левонтию.
Отворив ворота, Никитка не узнал его: сидит мужик в телеге, накрывшись мешком, из-под мешка торчит борода. Лишь когда Радко заговорил, вспомнилось старое, — кинулся он к скомороху, как к родному.
Никитка искал взглядом Карпушу с Маркелом, но ни Карпуши, ни горбуна в телеге не было.
— А где же… — начал было он, но осекся: никак, беда стряслась с Карпушей?
Радко догадался, грустно сказал:
— Карпуша нынче рядом с князем, взял его Всеволод в меченоши. А Маркела Нерадец, старый знакомец наш, в лесу порешил. Аль не слыхал?
— Вот оно как. Мир его праху, — грустно сказал Никитка. Телега въехала во двор.
На крыльце стояла Аленка. Она уж слышала, как толковали за воротами мужики, — радость так и струилась из ее глаз.
Поставив лошадь к забору и подвесив ей мешок с овсом, Радко поднялся на крыльцо, обнял Аленку. От скомороха пахло костром, лесной смолой. Был он все так же могутен, только плечи слегка обвисли да в глазах задержалась грустинка. Прижавшись к его груди, Аленка всплакнула.
Потом Радко умывался. От дождя в кадушке плясали веселые фонтанчики.
— Вот те и времечко, — говорил скоморох, утираясь широким убрусом. — Даром что лето было пожарное. По приметам, зиму жди с большими снегами…
Вечером он сидел возле Левонтия, тешил его байками о кочевой жизни. Левонтий оживился — должно быть, вспомнил свою молодость. И он немало постранствовал по свету, много повидал на своем веку чудес. Вот теперь только лежит на лавке. Но голова у Левонтия ясна, полна радужных задумок. Задумки и спасают его от беды; если бы не задумки, нешто так вот цеплялся бы за жизнь?! Вся жизнь его — в белом камне. Чудную песню оставил он людям. Звучит его песня над Клязьмой — от Владимира до Боголюбова. А видится ему песней все зеленое Залесье…
Шли дожди, серыми каплями стекали по слюдяным оконцам. За оконцами мгла, бьет в терема холодным ветром, раскачивает подгнившие частоколы. Но о зиме еще думать рано, еще будут ясные дни, и солнце будет, и малиновые закаты, и синяя скатерть просторного неба.
Скосив глаза на мутное оконце, Левонтий думал: «Как она там, моя красавица на Нерли?.. Стоит ли, не склонилась ли под мокрыми облаками?..» И хоть знал, что стоит, а вдруг забеспокоился. Вдруг защемило сердце безутешной печалью. И понял он: уйдет ли мастер из мира, не взглянув напоследок на свое любимое детище? Отсюда и тревога, отсюда и печаль.
А что до дела начатого, то оно в верных руках. В Никитку Левонтий верил. Теперь уже видел: большому мастеру передал свою кровинку, будет жить она в веках, переходить от сына к внуку, от внука к правнуку. Неизбывна любовь к родной земле, крепко держится она в русском человеке.
И первым же светлым днем отвез Никитка Левонтия в Боголюбово. Бережно вез, в высоком возке, приподняв голову мастера на пуховых подушках. По улицам Владимира вез, — останавливался народ, почтительно расступался перед возком, иные земно кланялись, осеняли мастера крестом. Проплыл перед затухающим взором Левонтия собор Успения божьей матери, блеснул ему в глаза золотым шеломом; склонились над ним Серебряные ворота, замерли в суровом молчании.
За Серебряными воротами встретилась возку с Левонтием княжеская дружина — расступилась. Князь Всеволод сошел с коня на грязную дорогу, долго шел рядом с возком, молча глядел на Левонтия. А потом лошади дернули, князь отстал, и возок вырвался на широкий зеленеющий простор. А на просторе том, будто изготовясь к полету, стояла белокаменная церковь. Вот-вот взмахнет она белыми крыльями, вскрикнет по-лебединому и взмоет в небо, чтобы присоединиться к стае отлетающих на юг печальных птиц.
Нет, не на лебедь похожа она — на русскую женщину. Стоит на лугу и ждет мужа, прислушивается к стуку конских копыт… Веками простоит — ее ли учить терпению?..
Приподнялся Левонтий на подушках, распахнул глаза, будто вбирая в себя необъятную ширь, — вздохнул и умер…
Тем же вечером в тесной келье монастыря в Суздале сидел, склонившись над столом, Чурила и, поскрипывая пером, мыслями обращался к потомкам. Не забыл, вспомнил о своем разговоре с монахом князь Всеволод. Тотчас же после битвы призвал к себе Чурилу и велел возвращаться в Суздаль.
— Видишь, монах, этот собор? — указал он на шлем Успения божьей матери. — Стоять ему века. Но бессмертнее камня слово русское. Ибо жив и жить будет вечно русский человек…
Собирая по крохам неустойчивую память, писал Чурила о Руси, о мужестве и горе народном, о реках пролитой крови, о коварстве князей. И виделась ему несметная рать, щитами отгородившаяся от степи в богатырском поле. Но в сердце жили другие строки. Они исподволь зрели в нем, прорастали золотыми колосьями:
Тяжело Руси от распрей княжьих, Потому что говорит брат брату: «Это все мое, мое и это…» Из-за малых слов горели злобой И ковали на себя крамолу…Его ли это слова? Может, и не его. Может, слышал он их, когда дрался с половцами, когда ломались мечи и копья и падали наземь люди. А может, он их подслушал у костра на ночном привале? Не тот ли молодой вой из дружины Ромила пропел их ему, а на следующее утро его схоронили в степном кургане?..
За стенами монастыря уже стучали копытами вражьи кони, и люди при свете факелов брались за мечи и подымались на городские валы.
Огни пожарищ охватывали равнинное ополье. Опершись о копья, мужики сурово вглядывались в тревожную, грозовую ночь…
Конец первой книги
Словарь старинных и малоупотребляемых слов
Бахтарма — изнанка кожи.
Бирич — глашатай.
Буравок — кузовок, лукошко.
Вадега — омут.
Вежи — крепостные башни.
Веретень — расстояние на пашне между точками поворота сохи.
Востола — грубая домотканая материя, дерюга.
Галица — клуша.
Голомень — плоская сторона меча.
Городницы — городские стены; срубы, заполненные землей.
Дворский — должность при дворе князя.
Дибаджа — шелковая одежда (персидское).
Дроводель — лесорубка.
Едома — лесная глушь.
Зарев — август.
Заселшина — деревенский житель, невежа.
Заход — отхожее место.
Зернь — игра в кости или в зерна.
Кокора — бревно с корневищем.
Коник — лавка в крестьянской избе (в передней дома).
Корзно — плащ (обычно княжеский).
Крица — глыба вываренного из чугуна железа.
Кроп — укроп.
Кузнь — металлические вещи холодной ковки.
Кукуль — колпак.
Молица — мякоть дерева, суррогат пищи в голодовку.
Обель — холоп, раб.
Одрины — сараи.
Охлуп — конек крыши.
Паракимомены — высшая придворная должность в Византии.
Перевесище — сеть для ловли птиц.
Персевой плат — шаль.
Подток копья — тупой, окованный железом или медью конец копья.
Поруб — яма со срубом, куда сажали пленников.
Потаковка — ковшик, черпачок; потаковкой пили мед из ендовы.
Резы — ростовщические проценты.
Робичич — сын рабыни (робы).
Роздерть — поднятая из-под лесу целина, роспашь.
Ручечник — ткач.
Сироты — зависимые поселяне.
Сокачий (сокалчий) — повар.
Столец — княжеское кресло.
Стрый — дядя.
Сукмяница — суконное одеяло.
Тезик — купец из Средней Азии.
Топотериты — ночная стража.
Требище — кумирня, языческая божница, жертвенник.
Трок — верхняя подпруга, широкая тесьма на пряжках сверх седла.
Убрус — полотенце, платок.
Укроп — горячая, теплая вода.
Укруг — ломоть (хлеба).
Усцинка — вид ткани.
Ферязь — верхняя мужская одежда без воротника.
Чабер — травянистое растение, содержащее эфирные масла.
Червень — июнь.
Юнота — ученик ремесленника.
Эдуард Зорин Огненное порубежье
Часть первая СВЯТОСЛАВ И ВСЕВОЛОД
Пролог
1
Хлопнула сенная дверь, послышался приглушенный разговор. Беседовали меченоша молодого князя Всеволода и кто-то незнакомый, с осипшим голосом.
Слюдяные оконца обмерзли, в ложницу скупо лилось холодное декабрьское солнце.
Всеволод поднялся с лежанки, набросил на плечи кафтан; пройдя босыми ногами по медвежьей шкуре, выглянул в сени.
Говорившие тут же смолкли и, обернувшись в его сторону, согнулись в поклоне.
— От брата твоего, князя Глеба, гонец из Киева, — тихо сказал меченоша и отступил на шаг.
Сердце Всеволода забилось тревожно. Знал он, что Глеб, сидящий на высоком столе, не станет попусту посылать к нему своих людей.
— Пришли половцы, княже, на киевскую сторону в великом множестве, — сказал гонец. — Князь Глеб занемог, просит тебя с Михалкой заступить поганым дорогу…
Гонец был в шапке из волчьего меха; в длинном рыжем ворсе еще блестели нерастаявшие серебристые льдинки.
Всеволод вернулся в ложницу, торопливо оделся. Меченоша оседлал коней.
Занималось морозное утро. Поднялись в небо столбом белые дымы, заскрипели полозья — двинулись из посада через городские ворота груженные товаром неповоротливые возы.
Конь под Всеволодом играл, морозец пощипывал князю уши, румянил щеки, чуть поотстав, скакал исполненный гордости меченоша, и молодые боярышни, садившиеся в санки, увидев всадников, смеялись светло и зазывно.
Михалка, видно, уже знал о прибытии гонца и поджидал брата; несмотря на холод, вышел на всход простоволосый, в длинной холщовой рубахе, в обутых на босу ногу стареньких чеботах.
В то время как другие князья, связанные родственными узами, нередко враждовали друг с другом, Михалка с Всеволодом жили дружно. Были они сынами князя Юрия Долгорукого от разных жен: Михалка от половчанки; младший, Всеволод, от дочери греческого императора — Ольги. Но оба они еще малыми детьми были изгнаны самым старшим из братьев, властолюбивым и подозрительным Андреем Боголюбским, за пределы Владимира и недолго жили в Византии. Уехавшая вместе с ними в изгнание Ольга одинаково заботилась об обоих, и Михалка привязался к мачехе, забыв, что течет в его жилах другая кровь. Когда, гуляя в саду, Ольга скончалась в одночасье от удара, братья послали гонцов во Владимир. После долгого, истомившего их молчанья Андрей дозволил им возвратиться на родину. Видно, так рассудил: братья подросли, могут и сами вернуться, а ежели я их верну, да приласкаю, да наобещаю чего, то останутся мне верны — не то подадутся к другому князю. Дозволить-то дозволил, а удела на кормление не дал. Вот и перебивались они в ожидании, вот и гостили то у одного, то у другого родича…
Спешившись первым, меченоша взял Всеволодова коня под уздцы, князь соскочил и, проворно взбежав по ступеням, обнял Михалку.
Всеволод любил одеться понаряднее: синий кафтан, стянутый широким блестящим поясом, сафьяновые, с серебряными украшениями, сапоги, красное корзно, заколотое на груди большой запоною, кунья шапка с малиновым верхом.
Радуясь встрече, братья прошли в горницу, посреди которой стоял стол, заваленный книгами; поверх книг и на скатерти были разбросаны угловато исчерканные берестяные свитки.
Всеволод вгляделся в покрасневшие глаза Михалки, покачал головой и укоризненно произнес:
— Нынче снова не спал. Живешь, как чернец за монастырскими стенами… А мы вчера выследили лося. Хорошо!
Сказано это было по-братнему, и Михалка не обиделся на Всеволода за упрек. Как расскажешь веселому братцу про те простые и мудрые истины, которые открылись ему в этих книгах?! Не понять Всеволоду и того, что каждодневной суете, охотам, пирам и забавам он предпочитает свое незаметное уединение.
Младший брат будоражил его. Сначала это раздражало Михалку, потом он попривык к его нобузданному нраву; Всеволод рядом с ним тоже менялся — книги манили и его, иногда и он, уединившись в своей ложнице, подолгу склонялся, забыв про сон, над потемневшими листами. Михалка читал жития святых, Всеволода влекли дерзкие похождения и ратные подвиги героев. Сам он тоже был дерзок и храбр. Может быть, за это Михалка и любил его так?!
Пока они, сидя рядом на лавке, мирно беседовали, дверь в горницу отворилась, и на пороге появилась Михалкова жена Февронья — ширококостная, скуластая, с живыми глазами и ярким румянцем во всю щеку. Она прижимала обеими руками к животу пузатый кувшин с медом, а из-за спины ее выглядывали востроглазые девки с подносами.
Поклонившись поясно мужу и деверю, Февронья спросила, не желают ли князья откушать.
Всеволод вспомнил, что с утра он так и не успел поесть — торопился к Михалке с взволновавшей его вестью. Девки, повинуясь знаку Февроньи, тут же расторопно внесли подносы с рыбой и мясом. Одна к одной, распаренные и томные, были они свежи, как налитые соком яблочки; от мяса исходил аппетитный дух, а мед горячо разливался по жилам. Все в это утро радовали Всеволода. Даже Февронья не казалась ему такой некрасивой, как прежде.
Неторопливо отведывая яства, братья говорили о разном, вспомнили о сестре, томившейся за галицким князем Ярославом. Беда с ней. Совсем потерял стыд Ярослав, привел в свои хоромы наложницу, лает братьев; сынов своих, Владимира и Константина, к себе не подпускает.
— Пусть Глеб снесется с Галичем, передаст и нашу волю: не потерпим-де мы такого обращения с сестрой, пойдем на хулителя ратью, — в запальчивости воскликнул ломающимся голосом Всеволод.
Февронья, стоявшая поодаль от стола, охнула и запричитала. Было у нее доброе сердце, и слезливыми были глаза.
— Будя, — не глядя в ее сторону, упрекнул Михалка, и Февронья бесшумно скользнула за дверь.
Подогретые медом, мысли братьев текли в одном русле.
— Сколь еще мыкаться по Руси? — ворчал Всеволод. — Остался Новгород без князя, думал — меня ли, тебя ли кликнут… Вспомни-ко, когда вернулись на родину, как обхаживали нас и владыко и посадник.
— Их ли на то воля?
— Нешто веча? — усмехнулся Всеволод.
— Вечу тот же владыко голова, — нахмурился Михалка. — Ты не егозись, ты дале гляди.
— Аль Андрею все неймется?
Михалка вздохнул, отпил из чары кваску, стряхнул убрусцем прилипшие к усам крошки.
— Надобно Глебу опорой быть, — сказал Всеволод, помолчав.
— Хошь и великий князь, да Глеб ли нынче в силе? — оборвал его Михалка.
— Не тебе единому, и мне ведомо, — разгорячился Всеволод. — Да что из того? Мало еще хлебнул горюшка?..
— Хлебнул не мене твово. Да злобой неча исходить. Нынче в Новгород не кликнули, завтра в ино место куда кликнут…
Всеволод поперхнулся медом.
— Ты ли это, брате?
— Я, — сказал Михалка. Упрямо уставился во Всеволодовы поблекшие глаза. — Аль не Юрьевичи мы?
— То верно, — не сразу согласился Всеволод.
— Поостынет Андрей…
— Дай-то бог.
Михалка разглядывал младшего брата с любовью, выражался уклончиво. Зато Всеволод, подхватив братнину мысль, весело договорил:
— С поклоном прислал к нам Глебушка, как пришла беда, Андрею тоже наступят на хвост — вспомнит…
Долго еще сидели братья. Опустели на столе ендовы, Февронья заглядывала в дверь, а молодые князья вели неторопливую беседу до самого вечера и разошлись, когда уж слуги запалили свечи.
2
Отслужив в полдень молебен, большое войско с двумя княжескими стягами впереди и длинным обозом позади двинулось в степь.
Небо хмурилось, начал падать мелкий снег, а когда последние возы выехали за городские ворота, встал перед войском высокой белой стеной. Верст через десять пришлось разбивать лагерь, потому что ни кони, ни люди не могли больше сделать ни шагу. Такого снегопада в эту раннюю пору не припоминали даже старики, а молодые — те только диву давались: вроде бы с утра было и тихо и солнечно, а тут на-ко. Протяни руку и полруки не видать. Ни в теплые избы не вернуться, ни костра не разжечь…
Затосковало у Всеволода сердце: с утра только простился с милой, а тут сам бог послал еще одну ночку. Крикнул Михалке: «К утру вернусь!» Развернул коня — только его и видели. К городу пробился через снега, когда уж совсем смеркалось, нетерпеливо застучал рукоятью меча в широкие плахи ворот. Вынырнувший из избы вой будто поднятый из берлоги заспанный медведь, с трудом изловчившись, схватил коня за уздцы.
— Куда?! Куда?! Кто таков будешь?
— Совсем застило, — добродушно проворчал Всеволод и, сняв зубами рукавицу, показал княжескую печать.
— Не признал, княже. Ты уж не гневись, — залепетал воротник.
— Ну, гляди, гляди мне, — сказал Всеволод и, откинув назад руку, ожег вороного плетью. Конь вздрогнул и, выбрасывая из-под копыт шмотки мокрого снега, скрылся за воротами.
Все здесь, по сю сторону городской стены, было Всеволоду давно знакомо. Особенно хорошо знал он вот этот переулок, где привольно раскинулись боярские хоромы, добротно рубленные из крепкого дуба — высокие, с хитро расписанными причелинами и резными водостоками. Снег лежал на крышах пушистыми заячьими шапками, оконца со стеклышками в свинцовой оправе тоже были залеплены снегом.
— Эко ж тебя носит, княже, — с ласковостью в голосе сказал дядько Горяй, разбойного вида сивобородый мужик, гостеприимно пропуская Всеволода на просторный двор. — Боярышня нынче одна-одинешенька, да Радил обещал к ночи быть…
— Молчи, — недовольно буркнул князь. — Не твоя забота в наши дела нос совать. Вот принеси-ка водицы да задай коню овса поболе.
— Не серчай, княже, — поклонился Горяй и, подождав, покуда Всеволод сойдет на землю, повел вороного в поводу на конюшню.
Нетерпеливо взбежав по крыльцу, князь распахнул дверь и столкнулся на пороге с Фаюшей, теплой, желанной, родной.
— Вернулся, не забыл свою птаху, — шептала она.
И он, задыхаясь от счастья, говорил ей:
— Вот приду из похода, заберу к себе.
— Батюшка осерчает…
— Чай, не холоп я, не обель безродная, — охладевая, проговорил Всеволод и боком сел на скамью.
— Да не горячись ты, не туманься, — прижимаясь к нему, мягко ворковала Фаюша.
Глаза у Фаюши смешливые, а в самых уголках пухлого рта легли две горькие ямочки. Знала она: не отдаст ее отец за Всеволода, хоть и князь, хоть и знатного рода. Ни земли у него своей, ни кола ни двора, одно только прозванье.
Вот и целовала она Всеволода в похолодевшие губы, вот и дрожала вся, потому что понимала: прощается с ним навеки. За Роську, сына Святослава, любимца Патрикея, отдает ее отец.
Только суровея от Фаюшкиных ласк, перекатывал Всеволод на скулах окаменевшие желваки. Вот оно что, вот оно как — уж и не с руки стало Радилу породниться с сыном великого князя Юрия, при одном имени которого он когда-то трепетал!.. Выходит так: Фаюшке свадьбу, а Всеволоду — в половецкое поле, под сабли да под каленые стрелы, Роське мир добывать, чтобы спокойно спалось ему в высоком тереме с молодой женой?!
Вздрогнул Всеволод, оттолкнул плечом Фаюшу, вскочил с лавки, выбежал на засыпанное снегом крыльцо. Горяй, уже стоявший неподалеку, подвел к самым перильцам коня.
Прыгнул Всеволод в седло, вскрикнул отчаянно, едва голову догадался пригнуть перед самой воротной перекладиной — и помчался в поле, в снежную замять, где пляшут между небом и землей одуревшие от неслыханного раздолья бесы…
Совсем так же, в снегу, продрогший и несчастный, скакал он уже однажды по исхлестанной ветрами древней дороге на чужбине. Тогда ему было даже еще хуже, тогда ему казалось, что жизнь остановилась, кончилась навсегда: не будет больше ни синего неба, ни алой зари, ни весенней зелени трав…
Ему хотелось умереть сейчас же — выброситься из седла на виднеющиеся внизу сквозь мокрые снега острые скалы. Он представил себе, как падает, как беспомощно кувыркается его тело, ударяясь о каменные выступы, и как ледяной поток яростно увлекает в пучину его изуродованный труп.
Так было давно, в изгнании, когда даже слуги, лебезившие перед своими хозяевами, безбоязненно глумились над осиротевшим русским княжичем. Царьград, в который когда-то он был влюблен, по улицам которого в очаровании мог бродить часами, стал чужим — родина лежала за суровым морем, была далека и недоступна. Но детская память сохранила бескрайнюю ширь ее гостеприимных и щедрых лесов, теплую, неторопливую ласку ее величавых рек и зовущую даль степей.
Умереть хотелось от нестерпимой тоски, а он смеялся, он был безудержно смел, чтобы скрыть свою боль. Он долго ждал своего часа. Он и теперь его ждет, он умеет ждать, жизнь научила его терпению. Нет, суровые уроки ее не прошли бесследно…
…Храпел и рвался конь под привставшим на стременах седоком, метель хлестала в лицо, забивала снегом глаза и уши.
Перед рассветом в светлые разводья туч выглянула луна, ветер стих. Конь с трудом пробивался в рыхлых сугробах, но Всеволод, не помня себя, гнал и гнал его по ложбинам и взгоркам, пока не почувствовал, что падает; лишь тогда он услышал надрывный хрип умирающего животного, выдернул ногу из стремени и кубарем покатился в снег.
У кромки леса маячили пугающие тени. Всеволоду все время казалось, что кто-то крадется за ним, окоченевшие от холода пальцы сжимали рукоять меча, но сзади никого не было, была только ночь и холодное безмолвие облитых лунным светом полей.
Снова начался снегопад, поднятые ветром снежинки с шорохом ускользали из-под ног, равнина ожила, заструилась серебристыми змейками.
Впереди показались огни, послышался храп лошадей.
Всеволод крикнул — от костров отделились неясные фигуры. Сквозь внезапно наступившую дрему послышался голос Михалки:
— Эвона куды его занесло.
Тот же голос приказал кому-то:
— Чего замешкались? Ну-ка, живо — помогите князю сесть на коня…
3
Уходя от преследования, половцы оставляли за собой выжженную землю. Сгоревшие и полусгоревшие избы, разграбленные церкви, окоченевшие трупы, уже присыпанные снегом, — вот что представало глазам скакавших в головном отряде воинов.
На стороне русских была стремительность; отягощенные обозами с захваченным во время набега добром, не желая бросать пленных, половцы двигались медленно, надеясь на то, что преследователи не рискнут заходить далеко во враждебные им степи.
Но князья были молоды и горячи.
— Дед наш, Владимир Мономах, воевал половцев, — сказал Михалка, — побил князей их Алтунопу и Белдюзю. Пойдем и мы на поганых, нам ли смелости у соседей занимать?!
Скакали по горячим следам, но ворогов настигнуть не могли: неожиданно потянувшая поземка перемела дороги. Вои кружили по степи, пока не уморились кони; к ночи разбили шатры, зажгли костры, чтобы пообсохнуть и приготовить еду.
Внезапно дозорные подняли переполох:
— Половцы!
Засыпав костры, дружинники вскочили на коней и ринулись в степь. Снег вокруг русского лагеря был густо притоптан копытами, дымился еще теплым навозом. У кромки горизонта по-волчьи бесшумно удалялись низкорослые конники. Всеволод пустился за ними в погоню — и не зря. Половцы успокоились, что далеко ушли от русского лагеря, сняли дозоры. Вот тут-то и выросла с двух сторон стремительно обходящая степняков Всеволодова дружина. Все круче и круче изгибалось левое ее крыло, все левей загибалось правое, и, когда они соединились, половцы поняли, что оказались в ловушке, но пробиваться в степь было уже поздно.
Много людей полегло в короткой схватке.
По всему видно было, что главные половецкие силы уже где-то совсем близко. Всеволод, окрыленный первой победой, рвался в бой, но рассудительный Михалка говорил:
— Ежа без рукавиц не удержать.
— Эко войско-то. Каких еще тебе рукавиц не хватает? — серчал Всеволод.
— А ты половецкую силу считал?
— Чего ее считать-то? Сам погляди — или мало положил я ворогов?! — хвастался Всеволод. — Людей наших гонят в полон, как скот, а мы?.. Пойду со своей дружиной…
Михалка нахмурился:
— Оттого и уводят, что в князьях согласья нет. А было бы согласье, половец к нам и носа казать бы не смел. Народу-то на Руси — неисчислимо. А ты: «Пойду со своей дружиной». Сегодня они тебя — всею своею силой, завтра — меня. Что тогда?! То-то же. А ну как нам-то заместо свар — да в един кулак, а?..
Он замолчал, долгим взглядом осматривая безлюдный край степи. Конь под ним зафыркал, выбил копытом кусок льда, потянулся губами к замерзшей былинке.
— Видишь? — встрепенулся Михалка.
— Вижу.
— А что видишь? — и сам же ответил: — Половецкие кони нынче отощали. А у наших в обозе — сено… Верь моему слову: не дале реки Угла настигнем поганых, отобьем своих людей да еще возьмем большую добычу.
Любил Всеволод Михалку за доброту и рассудительность. И хоть не намного моложе был старшего брата, а прислушивался к его советам, сердцем чуя братнюю правоту.
Согласился Всеволод с Михалкой. Понял: одному с половецкой ратью не справиться.
Осторожен был дед их, Владимир Мономах, осторожен был Михалка, осторожности учился Всеволод. Не застали их врасплох половцы, вдруг повернувшие на север своих коней. Полегли дозорные под острыми саблями, а весть тревожную подали. Подхватили их весть лихие конники и, падая под стрелами, из уст в уста передавая один другому, донесли до русского лагеря.
Загудели боевые трубы, выстроились воины, пропустив вперед лучников, плотно сомкнули свои ряды. Лучники выпустили в налетающих конников кучу стрел, шагнули назад, и тут же перед половцами выросла щетина копий.
Долго длилась битва, красные корзна молодых князей мелькали в самых жарких местах сечи. Не выдержали половцы, показали русским спины, бросили возы с награбленным добром, пленных, свои шатры и коней… Теперь им было уж не до чести, теперь доскакать бы невредимыми до зимних становищ, где мир и покой, где тлеет в сложенном из камней очаге вечный огонь, завещанный от предков…
А русские пленные: женщины, юноши и дети — обнимали воев и плакали от счастья, давно уж разуверившись, что когда-нибудь еще раз доведется им увидеть родную землю.
Так, с великой славой, возвращались дружины Михалки и Всеволода к берегам тихоструйного Днепра, а в Вышгороде, в своем щедро изукрашенном тереме, медленно угасал брат их — великий князь Глеб Юрьевич.
4
Четырнадцатилетнего Глебова сына Владимира привезли к вечеру из Переяславля в высоких санях с крытым медвежьей шкурой верхом.
Было ветрено, на темном дворе бестолково толпилась челядь, на крыльце стояла в ожидании сникшая княгиня с младшеньким Изяславом. Княжич хлюпал носом и по-щенячьи жался к материному подолу.
Владимир слабости своей показывать челяди не хотел, держался с достоинством. Он спрыгнул с еще не остановившихся саней, прильнул к матери, обнял Изяслава и пошел с ними вместе в ложницу, где умирал отец.
В ложнице было полутемно, пахло ладаном и разгоряченными телами. Священник с дремучими, недобрыми глазами, стоя у изголовья умирающего, загробным голосом читал молитвы; Глеб лежал неподвижно, будто мертвец, и только по часто прыгающему кадыку можно было догадаться, что он еще жив.
Князь Глеб был еще жив и сквозь полуприкрытые ресницы видел, как перед ним появилась сначала жена, потом показались дети: младший, Изяслав, стоял потупившись, словно перед иконой; у старшего, Владимира, блестела на щеке слеза, но он не смахивал ее и стоял так, опустив руки, словно в них уже боле не осталось силы. Княгиня припала к изголовью и громко заголосила.
Будто стараясь заглушить ее рыдания, поп еще чаще забормотал молитвы; бледное личико Изяслава сморщилось, он отвернулся, и плечи его запрыгали, словно крылышки у маленькой подбитой птицы.
Глеб хотел подняться, но в теле его была дурная тяжесть, она давила грудь и прижимала к рыхлым перинам.
Что случилось? Почему они плачут, почему над головой звучат эти странные слова полузабытых молитв?
Он увидел себя, словно издалека, скачущим впереди дружины на сером коне: в левой руке поводья, в правой — гибкая плеть. Шелковый коц приятно облегает плечи, полощется за спиной. Гудит земля от конского топа. «Гей-гей!» — весело покрикивают выжлятники. Трубят рога… А степь дыбится, накатывает зелеными волнами, бросает в лицо густую теплынь полынной горечи. Не ради того, чтобы вязать диких коней, выезжал Глеб на равнину — нравилось ему степное раздолье, реки в сочных травах, студеная вода из родничков, клекот ястребов в синей вышине, которая чернеет ночью и покрывается блестящими, как алмазы, звездами, жаркие костры и бронзовые, отрешенные от всего земного лица людей, сидящих вокруг огня. Может быть, это был зов половецкой крови?.. Но тогда почему, сжимала ладонь рукоятку крыжатого меча, едва только покажутся вдали всадники в островерхих шапках? Почему без жалости поднимался меч и наискось рубил головы с таинственным оскалом белых зубов на коричневых, обветренных лицах?.. Когда же он въезжал почетным гостем в половецкий стан, когда в княжеском шатре медленно танцевали у огня полуобнаженные девушки с раскосыми, зовущими глазами, почему вдруг неясная тоска перехватывала ему дыхание, а голову заволакивало сладким туманом?..
В чужих краях, в степи за Переяславлем, на шумной соколиной охоте застала его роковая весть… Забыть ли это? Забыть ли, как свалился гонец с разметавшего кровавую пену коня, как, подняв к лицу Глеба налитые жаром глаза, прошептал, что Мстислав Изяславич с полками галицкими, туровскими, городенскими и с Черными Клобуками приступил к Киеву и беспрепятственно вошел в него, а сейчас осаждает в Вышгороде князя Давыда?.. Кровь ударила Глебу в лицо, он вскочил на коня, рванул поводья, и степь опрокинулась на него, закружила в зеленом вихре: тогда и он привел на землю русскую половцев.
Шло с Глебом большое войско, шло за легкой добычей. Половцы смеялись, похлопывали князя по плечу: хорошо-о, отведаем сладкой днепровской воды, искупаем коней, наполним сумы золотом, уведем в Тмутаракань рабов — хорошо-о! Злился Глеб, пальцы кусал по ночам, но повернуть назад не смел: Мстислав был страшнее половцев. Знал Глеб жестокую правду тех дней: оставшись без города, не то что без Киева, даже без самого захудалого, будет он мыкаться по родичам, собирать объедки то с одного, то с другого стола. Да что далеко ходить?! Родные братья, Михалка со Всеволодом, как вернулись из Царьграда, так по сей день и заглядывают в рот старшим — всё ждут, не перепадет ли чего. У Андрея им веры нет, да и Глеб ничего не может посулить: сам едва держится за шаткий киевский стол. Еще на памяти то страшное время, когда стучался Мстислав с братом Ярославом и с галичанами в ворота ближайшего соседа своего, союзника Юрьевичей, Владимира Андреевича дорогобужского. Смалодушничал тогда Глеб: хоть и обещал, а не помог Владимиру, думал купить тем расположение Мстислава; дорогобужцы сами отбились от коварного князя. А кому от того выгода? Была вина, была в раздорах и Глебова большая вина, и нынче, лежа на смертном одре, думал князь о той великой неправде, которой жил и которой другие жить будут после него…
О чем думалось, о чем мечталось в молодые годы? Все глядел в чужую вотчину, все казалось: у соседа кусок жирнее. Сосед о том же думал. И водили они друг другу в гости — один половцев, другой — Черных Клобуков. И те и другие уходили с добычей, а на пашнях кричало воронье над телами пронзенных стрелами, изувеченных кривыми саблями русских людей.
Чудовищные призраки склонялись над изголовьем Глеба, сквозь затухающее сознание смутно прорывалось полузабытое: скошенная луговина, белые рубахи мужиков у зеленой опушки леса, он сам на чьих-то заботливых руках, добрые глаза кормилицы. Что было в его жизни, чего не было? Может быть, ничего и не было, а была только эта скошенная луговина, эти заботливые руки и эти глаза? Не было ни половецких плясок у костра, ни сечи, когда брат шел на брата, ни горящих изб и трупов с выклеванными черными глазницами. У зеленой опушки леса белые рубахи мужиков… Сладкая вода из бегущего по серым камешкам студеного родничка…
Глеб улыбался, а взгляд его стеклянел, и пламя свечи отражалось в неживом уже зрачке — таинство смерти свершилось; княгиня, громко заголосив, упала к изголовью мужа.
5
а не Роману, потом уж Ярославу Изяславичу луцкому…
Была у них последняя надежда, но и та в одночасье рухнула. Романа в Киеве принимали с великой честью.
— Вона как держит братец наш южных князей, — восхищался Всеволод. — Нынче все под его широкой дланью.
— Да нам-то что с того? — ворчал Михалка. — Чужие щи хлебать да думать, как бы не обжечься?.. Вон Роман — глядеть на него тошно: свинья свиньей. Жирный, в мыльне век не бывал, смердит…
Ночью слуги запрягали коней в возок. Суетились, поудобнее расставляя кладь, — путь предстоял не близкий. Кони фыркали, неохотно пятились задом.
Суровая стояла в тот год зима. Возок стучал полозьями по ледышкам, подпрыгивал и кособочился. Братья, завернувшись в шубы, сидели по углам, каждый со своими думами.
На киевском порубежье, в лесу, увязалась за возком волчья стая. Сначала на блестящую под луной дорогу вышел на разглядку матерый вожак, пробежал с полверсты, вихляя тощим задом. За дроводелью, из-за поваленных вразброс могучих стволов, потянулись зеленые огоньки. Кони рванули, молодой дружинник, едва удерживая поводья, пытался криком отполошить зверя, да где там!.. Всеволод приподнял сбоку меховую полсть и обмер: волчище лязгнул зубами, сорвал рукавицу, чуть пальцы не отхватил. Михалка сопел и бил мечом в темноту. Возок, будто однодеревку на ветру, бросало из стороны в сторону.
Волки прыгали на возок, дружинник, сидя верхом на коне, кричал, но два здоровенных зверя уже висели на боках у гнедого. Возок накренился, ударился полозом о ствол, отлетел к другому краю дороги. Дружинник охнул и повалился в снег. Всеволод, захлебываясь от встречного ветра, прыгнул на коня. Оглянувшись, он увидел, как тело дружинника быстро обросло черной кучей. Всеволод выгнулся, закричал, ударил плетью зверя, висевшего справа, — волк шаром покатился под полозья; тот, что был слева, сам оторвался от коня.
Дорога взбежала на отлогий холм, лес оборвался. Михалка выбрался из-под полсти. За синим сумраком, за белой ползучей тьмой мелькнул и скрылся желтый огонек. Михалка крикнул брату, чтобы сворачивал, тот молча кивнул.
Возок остановился у затонувшего в снегу плетня, за которым виднелся старый сруб. В узкое окно сруба валил дым.
Михалка соскочил первым, торопливо привязал коней к стояку плетня и толкнул горбыльчатую дверь. В избе, в колючем полумраке, едва рассеянном огоньком лучины, сидел мужик и плел лапти. При виде князей в богатых шубах и шапках с малиновым верхом и лисьей опушкой мужик выронил лапоть и упал на колени.
Всеволод сел на лавку. Говорил Михалка:
— Ты чей будешь?
— Ничей.
— А земля чья?
— Обчая.
Всеволод усмехнулся. Михалка сказал:
— Сбирай-ко ужинать, мужик. Да за комонями пригляди. Тебя как зовут-то?
— Куней.
— Гляди в оба, Куней. Чай, князья у тебя в гостях.
Мужик вышел, плотно притворив за собой дверь. Всеволод скинул шубу, поглядел, где бы повесить ее; не найдя, бросил на лавку. Михалка тоже разделся. В избе было грязно и дымно. Под ногами шуршало сухое лыко, на стенах висели попоны и бродцы, в открытой глинобитной печи потрескивали фиолетовые угольки.
— Эк от стаи-то ушли, — сказал Всеволод.
— Жаль дружинника.
— Кабы не он, не сидеть бы нам нынче в этой избе.
— Не сидеть бы…
Братья замолчали. Тихо потрескивали в печи угольки, синий дым узкой полоской тянулся к окну, ветер шуршал снегом на крыше, стучал оторванной от навеса доской. Лучина в светце вздрагивала, искры падали в кадушку с водой, свет колебался и раскачивал над головой уродливые тени.
Вернулся Куней, стряхивая снег у порога, постучал лапотком о лапоток, поставил на стол глиняную миску с солеными рыжиками, кувшин с квасом, достал с полки над печью блюдо с жареным мясом.
Князья проголодались; они и не заметили, что ели кобылину, и квас был ядрен, и грибки похрустывали на зубах. Ай да мужик, управляется не хуже бабы!..
— Да я не один, — помявшись, сказал Куней, — дочка вон у меня… Цветка!
Груда тряпья на лавке зашевелилась, и из-под нее показалось розовое личико. Девушка удивленно таращила глаза на незнакомых людей, растерянно улыбалась.
— Кланяйся, доченька, — с неожиданной теплотой в голосе проговорил мужик. — Глянь-ко, кто у нас нынче в гостях. Князья!..
Девушка словно и не спала, мигом скатилась с лавки; кланяясь князям поочередно, сквозь еще не отошедшую дрему испуганно взглядывала то на Михалку, то на Всеволода. И хоть был на Цветке старенький сарафан из синеты с вошвами, а на ногах лапти, князья не могли не подивиться ее красоте.
Рыжеватая, золотом отливающая коса спадала девушке на грудь, в синих глазах ее светилось лукавство: хоть и страшно, а знаю-де, что красива, знаю, что любуетесь, а я вот какая: захочу — одарю улыбкой, не захочу — мимо пройду. Небось сами молоды — знаете, что к чему.
— Уж полно тебе кланяться-то, — сказал Всеволод. — Садись с нами вечерять. И ты, хозяин, садись.
Куней с Цветкой принялись отказываться да отнекиваться, но князья привыкли, чтобы все было по ихнему: сели. Ели молча, похрустывали рыжиками. Цветка к мясу не прикоснулась, лишь надкусила горбушку хлеба; чинно сложив руки на коленях, смотрела прямо перед собой.
— Недавно тож были гости, — отвлекая князей, вдруг заговорил хозяин. — Пожгли все окрест. Возвращаясь, набрели на мою избушку.
— Не надо, батя, — темнея лицом, попросила девушка.
— Отчего ж — не надо? — сказал Куней. — Чай, не холопы у нас гостят — князья…
— Да что случилось-то? — перебил его Всеволод.
— Все про гостей я, — Куней откашлялся. — Половцы наведались. Трое их было, а один, смекаю я, наш, русский, — по всему видать, из княжеской дружины. Завернули, поужинали вроде вас да и давай озорничать. Сперва дружинник к Цветке все льнул, а поганые — наша, мол, добыча. Худо по-русски лопочут, но понять можно… Слово за слово, схватились за мечи. Ну, те трое-то на нашего наседают, машут саблями, всю как есть кольчугу на нем искромсали. Он одного-то в самом начале, как ссора завязалась, мечом в живот пырнул — тот у печи и помер, ровно собака. Зато те, что остались, гляжу, вот-вот кончат воя. Беда!.. Тут он еще одному полголовы срубил, а третьего я сзади — тыльцом топора по темечку…
— Ай да Куней! — удивился Михалка.
— Ох-хо, — мужик замотал головой. — Наш-то вой тоже дух испустил — шибко его посекли, шибко… Вот и выходит, со всех сторон нам беда. Половец налетел, кричит: дай! Свой налетел: дай!.. Кому дашь, кому не дашь. А не дашь, силой отымут. Долго ль еще поганым лютовать? Иль сами в своем терему не хозяева?
Всеволод промолчал, накинув на плечи шубу, вышел за дверь. Снег у порога ломался и хрустел, небо вызвездило. В морозном воздухе слышалось хрумканье и фырканье лошадей. Выпряженные, они стояли за углом избы у черного стожка. За стожком едва виднелся плетень, за плетнем тянулась низинка, осыпанная лунным блеском, а дальше темнел лес.
Неуютно было на воле, тоскливо и тревожно. Тишина казалась обманчивой, чудилось страшное: белая ровная пустыня, а на краю ее в космах летучего снега несчетные тени в островерхих шапках на коротконогих быстрых лошадях. И скрип бесчисленных колес уже разрывал морозом скованный неподвижный воздух.
На опушке леса то вспыхивали, то гасли зеленые огоньки. А когда чуть слышный ветер доносил утробное завывание, кони вздрагивали спинами и пугливо жались к стожку.
Кончался солноворот. Зима ходила по крышам, будила баб топить ночью печи, баловалась метелями и рассыпала из рукава колючий иней. Когда она шла по реке, то под следом своим ковала воду на три аршина. А солнце, нарядившись в праздничный сарафан и кокошник, ехало в быстром возке на теплые страны… Шел тревожный декабрь 6679 (1171) года.
Глава первая
1
Прошло одиннадцать лет.
Изгнав Романа в Смоленск, Святослав Всеволодович наконец-то осуществил давнишнюю свою мечту: сел на киевский стол. Чернигов достался Олегу Святославовичу, а брат Святослава Игорь, как и следовало по родовому счету, стал владеть Новгородом-Северским.
Скоро из далекого Владимира прибыли в Киев с великими дарами послы от князя Всеволода Юрьевича.
Послы ехали долго — через Москву и Чернигов, где по рекам, где посуху; в Киев прибыли погожим весенним днем. Дивились чудной красоте Днепра, истово крестились на золоченые купола соборов, держались осмотрительно, но с достоинством — как повелел им молодой князь. «Шибко-то лбы перед Святославом не расшибайте, — наставлял он, — не на поклон едете, а шлю я к нему послов, как равный к равному. Покойным братом моим Андреем строптивый Киев был взят приступом — про то помните, но и удали своей не к месту показывать не смейте. Время еще не приспело, да и дело у вас полюбовное: сватаете дочь самого Михаила Юрьевича — Пребрану — за Святослава сына Владимира…»
Как наставлял Всеволод, так себя послы и вели. Смотрели, что показывают, а что не показывают, про то не спрашивали; князю Святославу кланялись низко, но не очень, а дочь Михалкову, Пребрану, нахваливали что было сил. Чай, не залежалым товаром торговали…
Долго рядились из-за того, где играть свадьбу. Всеволод настаивал на Владимире, Святослав звал всех в Киев. Но и тут у послов наказ был твердый: Святославу не уступать. Не уступили. Сдался старый князь, не хотел, видать, вместо мира новой ссоры. Тут тоже у него был расчет: нынче ссориться ему не с руки — нынче за киевский стол крепко нужно держаться. А что как Всеволод, окрепнув, пойдет по стопам Андрея?!
Совершив ряд, пригласил Святослав послов на пир. Званы были во дворец бояре и дружина. Дубовые столы накрыли на дворе, из погребов выкатили бочки с заморскими винами, подавали душистые меды и жареных лебедей. Свадьба скорая — что вода полая.
Дружба со Всеволодом была нужна Святославу, чтобы привести к покорности южных князей.
Наказ отцовский Владимиру был строг: судьбе не противиться, а там как бог даст.
Отцовская воля для молодого княжича закон, а Владимир был нрава мягкого: привык за широкой родительской спиной жить без всяких забот. Был он худосочен, плечи покатые, узкие, лицо бледное, бородка русая едва пробивается, глаза добрые, покорливые.
Давыдка, милостник князя Всеволода, кряжистый, кудрявый — смерть девкам, — подталкивал княжича локтем в бок, расписывал ему прелести Михалковой дочери. Владимир, слушая его, краснел, отвечая, заикался.
«Совсем ошалел от счастья княжич», — думал про себя Давыдка.
Сам он не робел, ел и пил за троих, соседи его уж под столы сползли, а иные спали, измарав бороды подливой. Кто мог, сам ушел в опочивальни, а тех, кто не мог, но еще двигал ногами, увели служки. Остались Давыдка да Кочкарь, любимец Святослава. Как сели они друг против друга, так один другому, ровно два бойцовских петуха, ни в чем не уступают. Давыдка черпнет вина — и Кочкарь черпнет вина; Давыдка выпьет чару меда — и Кочкарь выпьет. Давыдка — во здравие Всеволода, Кочкарь — во здравие Святослава.
К утру оба враз уснули. Так и спали, сидя друг против друга, подперев упрямные головы пудовыми кулаками.
А Владимир проснулся с болью в голове, и свет ему был не мил, и воспоминания о вчерашнем подымали внутри его неодолимую тошноту.
Спустив худые ноги с лавки, он покачивался из стороны в сторону и глядел незрячими глазами в мутно поблескивающий, натертый воском пол. И все чудилось, будто касаются его чужие руки с холодными мертвыми пальцами, ласкают, ластятся, а плечи вздрагивали от беззвучных рыданий.
Дверь скрипнула, и по легким шагам Владимир догадался, что это мать. Он быстро упал на лавку и притворился спящим. Васильковна постояла рядом, вздохнула и села у него в ногах. Сын вздрогнул и почувствовал, как крупная слеза покатилась по щеке теплой горошиной.
— Полно горевать-то, — сказала мать, гладя его по голове. — Вижу, не спишь, а что за причина, в толк не возьму.
Сын не ответил ей, отвернулся к стене и, ткнувшись носом в холодные доски, теперь уже не сдерживал слез.
— Соколик мой ясный, ягодка моя лесная, — щебетала Васильковна. — Глянь-ко за оконце — утро какое светлое. Пташки поют на дворе, радуются солнышку. Тебе ли горевать, чай, не девица…
А ласковые пальцы скользили по его волосам, по лбу, по мокрому от слез лицу, и Владимир стал понемногу успокаиваться.
— Выпил ты лишку меда — вот и вся беда, — уговаривала мать, — а выйдешь на волю — все мигом забудется. Вставай, сынок, гости уж заждались, кони стоят оседланные… А отца своего не вини. Испокон так повелось, навсегда и останется. Будешь у Всеволода на пиру — много меду не пей, разума не теряй. Жене молодой не поддавайся. Раз уступишь — после всю жизнь находишься под ее пятой.
Странно и непонятно было Владимиру слышать эти ее слова. Хоть и любила его мать, хоть и тянулся он к ней, а знал такое, о чем отец и не догадывался. Сошлась она с любимцем отцовым Кочкарем, полурусским-полуполовчанином. Пришел он в княжеский терем незваным, хмурым да черным мужиком без роду-племени, а нынче Кочкарь — первый человек в Киеве, без него и без жены своей шагу не ступит старый Святослав.
Два чувства жило и боролось в молодом княжиче. И любил он мать, и лютой ненавистью жег. Обидно ему было за отца: неужто вовсе ослеп, неужто и впрямь ничего вокруг не замечает? Или хитер, себе на уме, — кто скажет?
Слезы совсем высохли на лице Владимира, он приподнялся с лавки и прильнул щекой к материнской гру ди. Не раз в детстве отходил он вот так же сердцем от мелких обид. И нынче чужая сила будто вливалась в его хилые мышцы.
Мать почувствовала это и быстро поднялась. Теперь голос ее окреп и стал похожим на тот, каким она обычно разговаривала с отцом.
На дворе отроки горячили коней. Бояре и дружинники весело смеялись, стоя на крыльце.
Едва только Владимир, выряженный в новый кафтан, появился в дверях, к нему тут же подоспел Кочкарь, поклонился, ласково спросил, как спалось. Давыдка, держась в стороне, с усмешкой поглядывал на молодого княжича.
Распирала Давыдку с утра небывалая радость. И радоваться было чему: Всеволодов наказ исполнен по чину, чести своей послы не уронили, а еще и зорька была сладкой — встретил он ее в светелке у Святославовой ключницы Дуняши.
Сейчас Дуняша с порозовевшим от волнения лицом то и дело показывалась в сенях и постреливала в Давыдку изумленными и счастливыми глазами, но он не глядел на нее, делал озабоченный вид, посматривал на отроков, на степенно прохаживающихся бояр; думы-де у него важные — не до любовных утех, нынче прямо со двора отправляться ему с послами на север. Боялся Давыдка прогневить опозданием Всеволода.
Промеж людей, толкавшихся на дворе, Давыдка был всех виднее. Даже княгиня загляделась на него: экого орла послал Всеволод сватом! Но тревожные взгляды Кочкаря стирали с ее губ улыбку.
Наконец на крыльце появился Святослав. Двое служек шли рядом с ним, поддерживая его за локти. Лицо князя, обрамленное седым полукружием бороды, было непроницаемо.
Послы, почтительно кланяясь, поспешили к возкам, дружинники вскочили на коней.
Давыдка поднял руку, натянул удила и, ловко взмахнув плеткой, проскакал по звонко застучавшему настилу, перекинутого надо рвом подъемного моста.
Возки, сопровождаемые отроками, не спеша покатились с Горы по узким улочкам Предградья.
Путь им предстоял опасный и долгий.
2
Булгарский конник вынырнул из-за крайней избы, когда Зоря уже бежал по огородам к лесу.
Еще с утра в деревне никто не ждал нападения, Зоря у себя во дворе чинил телегу. Вечером, когда он возвращался с реки, где ставил заколы, на косогоре отлетело колесо.
Работа спорилась, руки у Зори были ловкие, к плотницкому ремеслу приученные, и уж совсем было управился он с колесом, как на улице истошно завопила баба. Откинул Зоря с ворот щеколду, выскочил на полянку перед избой — и словно горячим ветром его обдало: мчалась прямо на него из-за холма булгарская конница. Мужики выскакивали из изб, кто с колом, кто с топором, — их рубили с ходу. Стоявшие ближе к реке дворы были уже объяты пламенем…
…Споро бежал Зоря, да разве от коня уйдешь? Две стрелы упали рядом, третья угодила промеж лопаток. Вскрикнул Зоря, споткнулся, упал и забылся дремучим сном…
Очнулся он на жесткой попоне. Проколотое звездами небо висело над лесом, на поляне качалось пламя большого костра.
— Никак, жив, — сказал незнакомый голос, и Зоря увидел над собой молодое лицо с курчавой русой бородкой.
Кто-то подложил ему под голову седло, кто-то поднес ко рту деревянную сулею. В сулее был мед. «Кажись, у своих», — услышав русскую речь, с облегчением подумал Зоря, сделал несколько глотков, шевельнулся, и глубокая боль пронзила его со спины.
— Ничего, была б голова цела, — сказал русобородый.
На следующее утро, когда боль притупилась, Зоря смог вскарабкаться на коня.
— Крепок ты, однако, с уважением сказал давешний вой. — Хочешь, возьму в свою дружину?
— А ты кто такой? — удивился Зоря.
— Князь Юрий Андреевич, — подсказал стоявший рядом дружинник.
— Неужто?!
— Кланяйся князю. Кабы не он, небось сгиб бы…
Юрий с любопытством разглядывал оробевшего мужика.
— С тобой, княже, хоть на край света, — склонил голову Зоря.
— На край-то далече будет, — пошутил Юрий, — а до булгар в самый раз. Выдай ему, Неша, броню да меч из обоза, — обратился он к дружиннику.
Через неделю раны совсем затянулись. — Неша умел не только рубиться, но и врачевать. От его травяных настоев силы в Зоре прибывали не по дням, а по часам…
Сделав несколько привалов, дружина вышла к Волге чуть ниже Городца. Замысел Юрия был прост: отрезать булгар от лодий. А Зорю с Нешей он выслал в дозор.
Ехали поросшей приземистыми кустами лощиной. Вслушивались в шорохи, вглядывались к густую листву. Тишина была обманчива, за перекликами птиц чудился топот вражьих коней…
Не привык еще Зоря к тяжелой кольчуге, капли пота покрывали его добродушное широкое лицо. Отдаленно гудели и вились вокруг лошадиных голов слепни. Клонило ко сну. Зоря и не заметил, как задремал. И, наверно, уснул бы, но толчок в спину быстро привел его в чувство.
Он открыл глаза и увидел, что кони вышли на взлобок, Неша приподнялся на стременах и, приложив руку ко лбу, всматривался вдаль.
— Эвона где притаились, — сказал он, улыбаясь, — Лодий, почитай, двадцать, а то и боле.
Берег круто обрывался к реке, за голубой гладью которой расстилалась зелень лугов. От подножья холма сбегал к воде глубокий овраг, и в прорези его, в затишке, виднелись шатры, привязанные к колышкам лодии и пасущиеся у воды кони. Несколько булгар суетились у костра.
— Верно князь удумал, — сказал Неша все с той же хитроватой улыбкой на смуглом от солнечного загара лице.
Он обернулся к Зоре:
— Скачи в обратный путь да скажи, чтобы поторапливались. А я послежу и встречу вас здесь.
До стоянки Зоря добрался скоро. Юрий обрадовался: не думал он, не гадал, что слепое счастье само придет ему в руки. Протрубили сбор, оседлали коней и через час были на месте.
Прав оказался Неша: охраны у лодий не было почти никакой. Мало кому из булгар удалось бежать, почти все полегли на речном откосе: иные, бросившиеся вплавь, утонули.
Юрий приказал долбить днища лодий, костры не тушить; десяток воев, переодетых в булгарское платье, оставил на откосе, а сам с отрядом затаился в лесочке.
Долго ждать не пришлось: в самое время подоспели. Булгары появились с лесной стороны. Ехали нестройно, что-то горланили, радовались предстоящему отдыху. Гнали перед собой пленных.
У Зори сердце зашлось от ненависти: вот они. Уж не тот ли, широкоскулый, с приплюснутым носом, метнул в него перёную стрелу?
И когда подал князь Юрий знак, Зоря не мешкая ринулся на булгар. Положив и слева и справа от себя десяток порубленных тел, огромный и взъерошенный, вырос он перед своим врагом. Скрестились, зазвенели их мечи, кони вскинулись на дыбы.
— Э-эх! — выдохнул Зоря, и тело булгарина, разваленное пополам, свалилось в траву.
Тяжела рука у Зори, не допросишься у него пощады; долго еще метался его конь по откосу, настигал бегущих его острый меч.
— Ну и силища у тебя, Зоря, — уважительно говорил ему князь после боя. — Будет тебе орать пашню, ступай навсегда в мою дружину, милостью своей не обделю.
Вечером пили хмельную сидшу, захваченную у булгар, а заутра, чуть солнышко вскинулось над лугами, с песнями отправились в обратный путь.
3
Новгородских послов, прибывших по решению веча во Владимир, долго не пускали в город.
Истомились послы, ворчали, но ругать своевольного князя побаивались. Наказ, данный им, был строг: Всеволода не гневить, задумок не раскрывать, а исподволь выведать, на что решился князь, какую судьбу уготовил вольному Новгороду. Хоть и изгнали новгородцы Ярополка, мечтавшего сесть на владимирский стол, но супротив ростовских бояр не пошли, помощь свою Всеволоду не оказали. Спасибо Якуну Мирославичу, что надоумил их не давать Ростову своих людей. Не то ждать бы им теперь под своими стенами Всеволодову неисчислимую рать.
Дорожит древний Новгород своей волей, за волю свою и самых дорогих товаров не пожалеет. Везли Всеволоду новгородские послы соболей, янтарь и рыбий зуб. Везли золотые оклады для икон собора Успения божьей матери. Знали: протопоп Микулица у Всеволода — правая рука, замолвит словечко — глядишь, и легче будет вести с самим князем беседу.
А ежели не сговорятся со Всеволодом, то, как наказывали на вече, путь им — в Киев, к Святославу Всеволодовичу: Святослав от них не отступится, сбережет их вольницу на страх владимирскому князю…
Разбив шатры на горе в виду Золотых ворот, сидели послы и думали непростую думу.
А Всеволод в ту пору встречал Давыдку с вестями из Киева. Хорошие вести доставил Давыдка. Радовалось Всеволодово сердце. Привез Давыдка жениха Михалковой дочери Пребране. Но не только жениха — привез он во Владимир долгожданный мир. Нынче самое время собраться Всеволоду с силами: не с руки ему ссориться со Святославом. А чтобы связать старого князя еще более крепкими узами, решил он отдать Святославову сыну Владимиру на княжение древний Новгород. Вона как цепочка потянется — куда ни глянь, везде его, Всеволодов, присмотр. Пребрана — девка сметливая, при ней Владимир будет покорнее овцы. А привязав к себе Новгород и Киев, Всеволод и сам справится с Рязанью и Ростовом. Теперь уж недолго, присмиреют строптивые города, а там — бог даст — сломится и Святослав.
В затемненных сенях было душно. Сидя на стольце, спрятав в тени лицо, Всеволод слушал Давыдку. Молодой дружинник спокойно стоял перед ним, широкоплечий и прямой, положив ладонь на рукоять меча. Глаза его улыбались, и весь он светился добротой и довольством.
Хорошо справил Давыдка посольскую службу. Всегда рад ему Всеволод; в другое время попридержал бы его в горнице, попотчевал бы медами, но нынче ему недосуг.
— Вели-ко кликнуть дорогих гостей, — сказал он, живо подымаясь со стольца.
Давыдка поклонился и вышел. А Всеволод нетерпеливым шагом направился в покои молодой жены — ясыни Марии. Взбегая по узкой лесенке в конце перехода, он представил себе, как хлопочет княгиня в окружении девок возле невесты — в плечах узкая, длинношеяя, в красном сарафане, в сапожках с золотыми украшениями на голенищах; как тихо улыбается и откидывает плавным движением руки спадающие на грудь черные косы.
Еще и месяца не прошло с того вечера, когда привезли ее во Владимир с далеких Асских гор. Помнит, хорошо помнит Всеволод, как выбежал на крыльцо и жадно вглядывался в полумрак, жидко разбавленный светом задуваемых сильным ветром факелов. Кони, возбужденные скачкой, роняли пену, напрягали постромки, возница рвал их за удила, возок еще не совсем остановился, а Всеволод уже был рядом, дрожащими руками отдирал полсть, из-под которой на него пахнуло волнующим запахом и теплом. Возница наконец усмирил коней, из-под полсти выскользнула белая рука, появилось светлое пятно лица с широко расставленными глазами, потом показалась нога в сапожке с игриво загнутым носком.
Всеволода оттеснили мрачные дядьки в надвинутых на глаза высоких лохматых шапках, дружинники окружили князя, на крыльце затопали шаги, в сенях замелькал свет, затем все стихло, а Всеволод так и стоял посреди двора и потерянно смотрел в обступившую его со всех сторон непроницаемую мглу.
Свадьба была потом, все было потом, а этот вечер остался в памяти навсегда. И волнение первого вечера вновь оживало в нем всякий раз, когда он приближался к покоям Марии…
Увидев Всеволода, полуодетая Пребрана вскрикнула, Мария обернулась, и Всеволод погрузился в тепло, струящееся из ее глаз.
— Поспешайте, поспешайте, — быстро проговорил он с улыбкой. И шутливо заметил покрасневшей Пребране:
— Небось не терпится взглянуть на суженого?..
Пребрана еще больше застыдилась, опустилась на лавку, сминая платье. Мария осадила Всеволода укоризненным взглядом, и он вышел за дверь.
«Ох, переменчиво счастье, — думал князь, медленно возвращаясь к себе. — Как бы не накликать беды».
В сенях уже чинно сидели вдоль стен и шумно разговаривали друг с другом бояре и дружинники. При появлении князя все смолкли и встали с поклоном. Взгляд Всеволода выделил из толпы насупленные брови Микулицы, восторженно-радостные глаза Давыдки, а возле самого стольца — бледное лицо юноши с вымученной, будто приклеенной, улыбкой.
Всеволод живо приблизился к Владимиру, обнял и расцеловал его в обе щеки. Владимир смутился, побледнел пуще прежнего, но Всеволод не хотел, чтобы бояре видели его в слабости, и, легонько придавив плечо, велел садиться. Сел сам, сели бояре. Потекли неторопливые разговоры, положенные по чину расспросы о здоровье, о дороге, о родных и близких. Владимировы дядьки, приставленные к молодому князю Святославом, нетерпеливо поглядывали на дверь, ждали, когда покажется невеста…
4
Любили во Владимире сына убиенного князя Андрея Боголюбского — Юрия. Любили за молодость, за простоту, за удаль. А еще за то, что был красив.
Когда проезжал он по городу с веселой охотой, люди высыпали на валы. Юные боярышни отволачивали оконца теремов, рделись румянцем, любуясь веселым наездником на кауром коне. Но улыбка князя ослепляла их напрасной надеждой.
По одной лишь тосковало его сердце, к одной стремились все его помыслы — на охоте ли, в сече ли, или на веселом пиру.
Вот и нынче, едва пристали лодии к берегу, едва подвели любимого коня, едва взметнул Юрий легкое тело в седло, как уж взвилось синее корзно, распрасталось птицей по ветру — и след молодого князя простыл.
За Лебедью малиново растекался закат. В дубовой роще уже кричали ночные птицы, холодные тени серебрили траву. У берега, поросшего осокой, мирно позвякивал сбруей конь. Нет-нет да и вскинет он гривастую голову, покосится красным глазом в непролазную тьму кустарника, откуда доносится тихий шепот и смех. За густыми ветвями не разглядеть коню разостланного на траве корзна, лежащего с закинутыми за голову руками князя и сидящую рядом Досаду, дочь боярина Разумника.
У Досады зеленые глаза с коричневыми точечками во влажной глубине, густые, почти сросшиеся на переносье брови, пухлые губы, ямочки на щеках, и широкие бедра, облепленные тесным сарафаном. У Досады звонкий, словно колокольчик, смех. Руки у Досады белые, нежные. Ласкает она ими лицо молодого князя, запускает их князю в львиные кудри, в мягкую, шелковистую бороду…
Далеко видать с высокого берега земляные валы, окружившие город, за валами высвечивают золотом купола церквей, бревенчатые избы крепко вросли в косогор, а выше всех — терем боярина Разумника. Ходит боярин по двору в шубе, накинутой на голое тело, заглядывает в кладовые и скотницы, а дочери ему не увидать. Спокойно у Разумника на душе — ушла дочь к подружкам на посиделки. Скромница она у него — вся в тихую мать. И уж хорошая задумка радостью переполняет сердце Разумника. Боярские сыны от Досады без ума. Да, куда ни погляди, все ей не пара. У того усадьба в разор пошла, этот умом не вышел. Лишь одного держит Разумник на примете, но пока о том — никому ни полслова. Отцовское сердце худа дочери не пожелает; родная кровинушка, радость его единственная, последняя надежда. Ведь никому невдомек, что давно уже оскудела боярская казна, захирели его деревеньки. Да и деревеньки-то, тьфу, каждая в три двора. А боярин Зворыка дает за сыном Васильком дары немалые: и золото, и серебро, и землю. И лучше парня Досаде не сыскать. За Васильком — как за крепостной стеной: в обиду жены молодой не даст, приголубит ее и уважит.
Тихо вокруг. Все ниже опускается солнце за травянистый берег Лыбеди. Вот уж и вовсе скрылось, смазав вечерние тени. Юрий вскочил, прислушался к далекому топоту. Вскочила и Досада, встревоженно озираясь вокруг.
От Марьиных ворот ехали на рысях к Лыбеди всадники. В переднем Юрий узнал Давыдку. Добрый конь под ним поигрывал, шел боком, вскидывая голову. Дружинник сидел прямо, задумчиво глядел перед собой, опустив вдоль тела правую руку с гибкой плеточкой.
Разглядывая его, Юрий улыбнулся. Нравился Юрию Давыдка, такого молодца и он бы с радостью взял в свою дружину. На что крепок Зоря, но Давыдке он не чета. Верными людьми окружил себя дядька Всеволод: дарит им земли с пажитиями и лесными угодьями, не жалеет ни золота, ни серебра. На том и отец стоял, и дед был тоже умен — за то и любил, и почитал их Юрий. Потому и не пошел с ростовцами и Ярополком против дядьев своих, хоть и нашептывали ему на ухо коварные бояре, что, мол, по древнему праву, ему, а не Михалке со Всеволодом сидеть на владимирском столе…
Обратясь к притихшей Досаде, Юрий сказал:
— Ты затаись, а я скоро вернусь.
Свистом подозвал послушного коня, вскочил в седло.
В полумраке Давыдка не сразу признал Юрия, подняв руку с плетью, властно остановил его.
Но синее корзно приблизившегося князя тотчас ввергло дружинника в изумление:
— Никак, Юрий Андреевич?!
И в голосе его зазвенели приветливые нотки.
— Да что же ты, князь, не на пиру? — удивился он. — Слух когда еще прошел, будто возвращаещься ты из Городца, а я куда ни погляжу, нигде нет тебя… Бают, зело порубил ты булгар, взял большую добычу?
Юрий засмеялся:
— Молва впереди нас бежит…
— И то верно, — согласился Давыдка, вдруг загадочно усмехнувшись. Не понравилась Юрию усмешка дружинника. «Неужто знает про Досаду?» — подумал он.
Но глаза Давыдки уже вновь были серьезны.
— Ездил я в Киев…
— Аль Святослав преставился? — насторожился Юрий.
Давыдка понял его. Он и в полумраке приметил бледность, окатившую лицо молодого князя. Кому не лестно сесть на киевский старший стол? Умрет Святослав, Всеволод займет Киев, а во Владимир идти некому, кроме Юрия.
— Святослав, слава богу, в добром здравии, — не торопясь, давая князю время одуматься, проговорил Давыдка. — Сосватали мы Святославова сына за нашу Пребрану…
— Уж не Владимира ли? — упавшим голосом спросил Юрий.
— Угадал, князь. Кого же еще? — сказал Давыдка. — Среднего-то сына еще когда женили на дочери Казимира польского.
— Знаю.
— Погуляем на свадьбе!
— Да уж погуляем, — внезапно пересохшим ртом произнес Юрий, с неприязнью думая о своем дядьке. Хитер. Не прост. Знать, дальние у него задумки. Вона как разом всех связал одной веревочкой. Глебовы сыновья, сидящие в Рязани, тоже как стрелы в его туле.
Давыдка улыбнулся: по глазам видно, слышно по голосу — не по душе новости молодому князю.
— Ты уж прости, князь, поспешаю я, — сказал Давыдка. — Недосуг. А в другой раз встретимся — наговоримся вдосталь.
Юрий молча своротил на обочину своего коня, Давыдка выпрямился в седле, поднял руку, и все двинулись вперед — сперва медленно, а, отъехав, снова перешли на рысь.
Глубоко задумавшись, Юрий долго глядел им вслед.
5
времени Ярополк, половецкие орды буйствовали на юге, и бояре, вздохнув облегченно, возводили новые терема — один другого краше. Все чаще стали появляться во Владимире заморские купцы; такого шумного и богатого торговища не знал город со времен Андрея Боголюбского.
Опустив поводья, Всеволод ехал молча. На поклоны отвечал с улыбкой, глядел по сторонам светлым взглядом. Доволен был князь, радостен. Еще бы ему не радоваться: как задумал, так все и сбылось. Справили Пребране свадьбу, каких свет не видал. На свадьбе Святослава не было: занемог или притворился, что занемог, а вместо него прибыл Кочкарь. Давыдка снова петушился перед Святославовым милостником — кто кого перепьет, но Всеволод шепнул ему на ухо, чтобы поостерегся: неспроста, знать, Кочкарь одну чару льет в себя, а другую под стол. Попритих Давыдка, князя гневить не посмел, хоть про себя и знал: пусть даже и так, но разве Кочкарю одолеть его? Жила тонка. Пьет через чару, а, того гляди, ткнется носом в столешницу.
Но, бахвалясь про себя, скоро и он приметил: уж больно трезвый у Кочкаря взгляд. Телом обмяк, а в зрачках умишко светится, так и стрижет глазами захмелевших бояр.
Ладно. Все было. Целую неделю шумели. А потом отправились в Чернигов, куда только и смог добраться Святослав. Обрадовался старый князь, увидев во главе обоза самого Всеволода рядом с сыном его Владимиром. Высокую честь оказал. Не забыл, как жил на Святославовых хлебах, пока не преставился старший братец его Андрей. Ежели бы не Кучковичи, век бы сиротствовать и ему, и Михалке без удела: нынче — здесь, завтра — там. А побили Андрея до смерти — воспрянули. Вона как высоко взлетели — так высоко, что и про гнездо, из которого выпорхнули, думать забыли.
Жестоко наказал Михалка Андреевых убийц, а ему бы им свечки в церкви ставить. Нельзя. Даже думать про то нельзя. Грешно. Ой как грешно! Да только что таить: все мы в грехе да покаянии. Правда — она и в княжеский терем дорогу отыщет. Вот и еще у одного птенца окрепли крылья: чуть прозеваешь — забьет насмерть.
Но прятать думы свои давно научился Святослав. И, подъехав к Всеволоду, трижды, истово, облобызал его.
И еще одно удивило во Всеволоде старого князя: на пиру держался он степенно, не буйствовал. Оставив веселящихся гостей, удалился со Святославом в дальние покои.
— Ни мне твоей, ни тебе моей земли не нужно, — говорил он, похлопывая ладонью по подлокотнику кресла, — а Новгород живет сам по себе. Сидел в нем Мстислав, правил противу всех, плел усобицу. Нынче же Новгород и вовсе без твердой руки…
— К чему речи твои, князь? — встревожился Святослав.
— А вот к чему, — помедлив, выговорил Всеволод. — Не приспела ли пора и сыну твоему Владимиру жить по собственной воле?..
Обрадовался старый князь, но вместе с тем и подумал: «Как по книге, мысли мои читает Всеволод». Не спеша с ответом, медленно поглаживал бороду, легонько, по-старчески, покашливал.
Всеволод не торопил его, знал: недоговоренное поймет и сам. Верил: не сидеть Юрию в Новгороде, не поступится Святослав своей выгодой, а о выгоде Всеволодовой гадать еще не приспело. Но и тешить себя преждевременной радостью не смел.
Сидели князья друг против друга, глядели в навощенные половицы. Святослав сказал:
— Жили мы в ладу и в мире с отцом твоим и с братом. А все мы одного корня. Быть по сему.
— Вот и ладно, — чувствуя облегчение, живо отозвался Всеволод. Не слишком ли живо?.. Но Святослав, утопив глаза в лохматых бровях, сидел расслабленно и невозмутимо…
Так-то и стоят у Всеволода перед взором прохладные сени, узенькие оконца, светлые блики на полу, на стенах, оленьи рога, на лавках — ковры и шкуры и — выступающее из полумрака Святославово лицо в полукружье белой бороды. А больше всего запомнились полуприкрытые глаза старого князя. За тяжелыми веками — дремучая темнота. Нелегко разгадать за ними потаенное… Пока пусть так.
…Легко переступает под князем стройными ногами его любимый вороной жеребец. Дергая удила, гнет голову, косится живым глазом на боярские высокие терема. Но зря выглядывают бояре в оконца, зря распахивают ворота, накрывают яствами и медами просторные столы — не к ним в гости поспешает князь.
Едет он к Медным воротам, где на месте старого пепелища высится новая изба камнесечца Никитки.
Склонившись с седла, Карпуша, княжий меченоша, постучал черенком плети в перекладину украшенных деревянным кружевом ворот.
Во дворе женский голос зацыкал на разбрехавшегося кобеля. Никиткина жена Аленка, полногрудая, краснощекая, в накинутой на плечи душегрейке, выйдя из ворот, с низким поклоном приглашала:
— Заезжайте, дорогие гости. Милости просим.
Карпуша спрыгнул с коня, подскочил к Всеволоду и взялся уж было за стремя, но князь, опередив его, легко выбросил свое тело из седла. Аленка улыбалась Карпуше открыто и радостно.
А на крыльце уже стоял Никитка, и Всеволод, переступая через ступеньки, шел ему навстречу, приговаривая:
— Дай погляжу на мастера. Дай-ко взгляну поближе.
Никитка склонился перед ним, но Всеволод прижал его к плечу и, отстранив, долго смотрел ему в глаза.
— А помнишь ли, Никитка, наш уговор? — спрашивал он, откидывая рукой со лба непролазную гриву русых волос. — Помнишь ли?
— Как не помнить, княже, — смиренно отвечал Никитка, но скрыть ликования в голосе не мог: неужто правда? И впрямь: неспроста наведался к нему Всеволод.
Еще учителем его Левонтием был задуман новый собор, а умер Левонтий — и будто отлетела вместе с ним Никиткина душа. Долго, больше года, не заходил он в мастерскую. Не мог откинуть тряпицу, не мог взглянуть на вылепленный руками Левонтия храм. Хранил он еще его тепло, и чудилось — исходило из него Левонтиево дыхание.
Но время лечило раны; поработав на боярских усадьбах, намахавшись топором, Никитка возвращался домой, без охоты ужинал и удалялся в приземистый сруб за банькой. В срубе высились комья глины, глыбы белого камня, валялись зубила и тесала. Никитка садился на дубовую колоду, подпирал кулаком голову и долго сидел в неподвижности, словно разглядывал что-то, только ему одному видимое в полутьме заросших паутиной углов. В эти минуты даже Аленка не смела его окликнуть, а если и заходила, то молча стояла в дверях, тяжко вздыхала и вытирала кончиком платка навертывающиеся на глаза непрошенные слезы… И только когда серые сумерки заволакивали оконца, стены сруба вдруг оживали, раздвигались, темные потолки уплывали, как паруса, в усыпанное звездами небо. И Никитка видел себя на вершине холма, на сквозном ветру, вздувающем на спине перетянутую шнурком рубаху. А перед ним, словно из ничего, вырастала церковь — то возникала, то снова таяла в туманце. Но из туманца выступали то купол, то закомары, то резные колонки. И снова рассыпались. И снова собирались воедино. И так было долго, очень долго, пока однажды он не увидел ее перед собою всю…
В то время как Всеволод с Никиткой, спустившись во двор, отправились на зады, где была мастерская, Аленка проводила Карпушу в горницу.
От старательно выскобленных полов еще попахивало смолой, стены были обшиты узорчатыми досками. Узоры украшали и двери, и даже потолки. От этакой невидали у Карпушки разбежались глаза.
— Да неужто все это — дядько Никита? — выдохнул он с изумлением.
— Где там, — сказала Аленка. — А Маркуха на что?!
— Тоже в мастера подался?
— Ведомо, — с гордостью проговорила Аленка.
— А Антонина, Левонтиева дочь? — допытывался Карпуша.
— Постриглась. Беда с ней. Затосковала так, что никакого сладу, — глаза Аленки наполнились слезами.
В соседней с горницей комнате, за дощатой перегородкой, послышался детский плач. Аленка встрепенулась и тут же исчезла — будто ветром ее сдуло. Карпуша прошел за перегородку и увидел в подвешенной посреди комнаты люльке сучившего пухлыми ножками громкоголосого малыша.
Аленка бережно взяла его на руки и, отвернувшись, стала кормить грудью. Карпуша вышел на цыпочках из избы.
Князь Всеволод уже стоял посреди двора, и, улыбаясь, что-то говорил счастливо растерянному Никитке. Карпуша кубарем скатился с лестницы.
— Прошло время прятаться по углам, — говорил князь. — Пора садиться на землю прочно. Поганых не допустим, усобице не бывать. Собирай, Никитка, каменщиков — кликни клич по всей земле. Вези камень. Да только смотри мне, — он погрозил пальцем.
— Порадуешься, князь, — сказал Никитка. — Слово даю.
— Верю, — кивнул Всеволод.
Вовремя подоспев, на сей раз Карпуша попридержал князю стремя. Всеволод засмеялся и, не коснувшись стремени, запрыгнул в седло. Конь, покружив на месте и громко заржав, устремился в распахнутые ворота.
Глава вторая
1
От Чернигова до Великого Новгорода путь не короток. Да еще с обозом в десять подвод, груженных всяким добром. Да еще по бездорожью. Да с дождями, которые вдруг зарядили совсем не ко времени.
На ухабах молодого князя Владимира растрясло, лицо его посерело и осунулось. Зато Пребрана как была весела, так и осталась: ничего ей не делалось ни под солнцем, ни под дождем. Мамки, приставленные к ней, только головами покачивали, перешептывались, обмирая от страха и изумления: не баба — огонь; ей бы при муже-то смирить свой нрав. Не гоже это — скакать так на коне, будто простому вою. Эка невидаль — застрял в луже возок; али вытащить некому?.. Нешто большая радость подстегивать рвущихся из постромков, увязших по брюхо в желтой грязи лошадей?!
Но не знали, не слышали заботливые мамки, как, забравшись под теплую медвежью шкуру, утешала Пребрана молодого мужа, как поила его травкой, бережно положив на колени его голову со слипшимися на затылке мягкими, как у ребенка, волосами. А потом укрывала его шубой и, сев на ногах, пела грустные песни, от которых на глазах у Владимира наворачивались тяжелые соленые слезы.
— Спи, мой дорогой, спи, все переможется, — нашептывала, она, не смыкая глаз.
Стучали возы, перебираясь по гатям через болота, покрикивали возницы, в дремучей темноте подступивших к дороге лесов чудилась необозримая даль. Не то что пугливые мамки, даже бывалые вои суеверно крестились, прислушиваясь к доносившимся из чащи надрывным всхлипам и утробному уханью… Кони вздрагивали и жались друг к другу.
Редко встречались деревни на далеких россечах — две-три избы, за избами дроводель; мужики и бабы выходили навстречу обозу, кланялись, пряча недобрые глаза. Словно только что выбравшись из лешачьих болот и еще не отскоблив от своей одежды болотную тину, сами они походили на леших.
В таких деревнях чаще всего не останавливались, спешно проезжали мимо. Для ночлегов выбирали места открытые, на берегах рек и озер, в стороне от нудливого комарья. Зажигали костры, жарили мясо, просушивали одежду. Утром, едва забрезжит над зубчатой полосой леса, снова трогались в путь.
Наконец-то прибыли в Великий Новгород, где все уж было готово к встрече. Бояре согнали на улицы народ. Владыка Илья во главе церковного клира сам вышел приветствовать молодого князя с княгиней.
Не доезжая до города версты три, обоз остановился, мужики почистили заляпанные грязью возы, выскоблили лошадей, сами искупались в прозрачном ручье, надели лучшие кафтаны, надраили до блеска шлемы.
Владимир вырядился в малиновое полукафтанье. Пребрана достала ему из ларя бархатные штаны и шитые серебром сапоги, сама она тоже принарядилась в шелковый сарафан с расшитой бисером широкой каймой.
Молодой князь сел на коня, княгиня осталась в открытом возке.
Уже в виду городских ворот навстречу обозу выехали всадники, спешившись, молча кланялись с покорностью во взорах.
Словно и не было позади тяжелого многодневного пути — дружинники приосанились, с высоты коней игриво поглядывали на столпившихся вдоль дороги молодух, предвкушая спокойный отдых на мягких вдовьях постелях.
Многие из них уже не впервые в Новгороде, многие хаживали сюда и раньше по княжеским срочным делам; иные были когда-то во Мстиславовой дружине, да перешли к Юрьевичам, теперь верой и правдой служили Всеволоду. А доверенным человеком князя, проверенным и перепроверенным, был Словиша, востроглазый и юркий, как змейка.
Ни на шаг не отставал Словиша от возка, в котором ехала Пребрана, зорко глядел по сторонам. Он и спать ляжет на пороге в княжеских покоях, он и поскачет, если понадобится, к Всеволоду — не утонет в болоте, не падет под острой стрелой; оповестит его и вернется назад, чтобы снова сделаться тенью молодой княгини, чутким ухом и зорким оком владимирского князя.
Не обманется Словиша, разглядывая растянутые льстивыми улыбками лица бояр, не прельстится торжественной речью владыки. Знает Словиша: тот же Илья благословлял на новгородский стол и Мстислава. Нынче у Великого Новгорода радость. Боярский совет празднует победу: Владимир Святославович князь кроткий, а пылкому Юрию Андреевичу новгородского стола не видать.
Пусть празднуют. Чем громче радость новгородских бояр, тем лучше. Под шумок-то Всеволод и затянет на горле вольного Новгорода свою удавку. Спохватятся, да поздно. Пусть празднуют.
Пока не спеша, с речами да поклонами, добрались до княжеского терема, уже стемнело. Утомленного Владимира отвели в мовницу, где голые дядьки положили его на горячие доски и принялись хлестать вениками; за перегородкой старательные девки хлестали вениками молодую княгиню.
А владыка Илья, сложив с себя церковное облачение, сидел тем часом в своих палатах и беседовал с краснолицым посадником Завидом Неревиничем.
На столе между ними чадила оплывшая свеча, стояла ендова с медом, но к кубкам собеседники не притрагивались, разговор вели вполголоса, чтобы не услышали в переходе. Нынче понаехали из Киева и из Владимира с Суздалем разные неспокойные людишки, а береженого, как сказано, и бог бережет.
Еще свежо было на их памяти бурное княжение Мстислава Ростиславовича, брата смоленского князя Романа. Был Мстислав несговорчив, долго отказывался идти в Новгород, заставлял себя просить и уговаривать. А уговаривали его, потому что не хотели связывать свою судьбу с Всеволодом Юрьевичем: по всему уже тогда видно было, что Всеволод, как пошел с самого начала по стопам Андрея Боголюбского, так и пойдет до конца, а Мстислав поддерживал старый порядок.
Уговорили Мстислава на свою же голову. Дружина уговорила: «Если зовут тебя с честию, то ступай, разве там не наша же отчина?»
Вспоминая недавнее, Завид Неревинич усмехался. Кому-кому, а уж ему-то пришлось хлебнуть лиха. Неспокойный был князь. В свое время, еще когда выбирали князя, посадник заикнулся было на Боярском совете, что, мол, торопиться ни к чему, не худо бы поразмыслить да приглядеться, но владыка застучал посохом и не дал ему говорить. Илья не любит, когда ему напоминают о прошлом, но нынче он прислушивается к Завиду, хоть и старается этого не показать: боится, как бы во второй раз не опростоволоситься.
Да, неспокойно жилось Новгороду при Мстиславе. Ох, как неспокойно. Едва только прибыл Мстислав в город, одну только ночь успел в тереме переспать, как тут же принялся собирать войско. Боярский совет уговорил (речист был), наковал мечей и копий и двинулся против Чуди. На вече так говорил: «Братья! Поганые нас обижают; не пришло ли время, призвавши на помощь бога и святую богородицу, отомстить за себя и оградить землю Новгородскую?»
Привел к покорству Чудь, набрал в плен множество людей и скота, по дороге нашумел во Пскове, вернулся в Новгород и сразу стал думать: куда бы еще пойти воевать? Надумал — пошел против зятя своего, полоцкого князя Всеслава… А после вернулся в Новгород да той же весной и помер. Мир праху его.
Схоронили Мстислава в одной гробнице с основателем Софийской церкви Владимиром Ярославичем и сразу стали рядить: у кого просить себе нового князя? Всеволода боялись обидеть, а сами давно уже решили обратиться к Святославу киевскому. Теперь не могли нарадоваться: с обоими князьями поладили. Взяли Владимира — польстили Святославу, а Всеволод отдал за Святославова сына племянницу свою Пребрану, — значит, и он не в убытке.
Это сперва только радовались, а сейчас вдруг снова забеспокоились, увидев на улицах Новгорода Всеволодовых дружинников. Приехали веселые, по площадям разгуливают, словно они во Владимире. Не ошибся ли Боярский совет, не провел ли их хитрый князь?
Об этом и вели беседу владыка Илья и посадник Завид Неревинич.
Но беседа не клеилась. Кубки так и стояли пустые. Свеча догорала.
Домой Завид Неревинич возвращался пешком. Впереди шли служки с факелами, освещали дорогу. С Волхова надувал свежак, откидывал полы боярского зипуна. Повернувшись спиной к ветру, Завид Неревинич увидел над частоколом светящееся окно княжеского терема.
И снова кольнула неясная тревога. Но служки уже стояли перед воротами его усадьбы, стучали в дубовые полотна, а за высоким забором раздавались встревоженные голоса дворовой челяди…
2
Святославов сотник Житобуд во дворе своей избы тесал топором на колоде сосновую жердь. Жена Житобуда Улейка подметала веником крыльцо и пилила мужа:
— Креста на тебе нет, злодей. Как есть всю избу испоганил, изверг.
С вечера был у Житобуда в гостях его приятель, князев постельничий Онофрий. Пили меды и брагу, обнявшись, пели срамные песни. Подбоченясь, Улейка ругала их, но Житобуд, свирепо скашивая глаза, гнал ее прочь:
— Не бабье это дело — совать нос в наш разговор.
— Всех соседей переполошили, окаянные, — увещевала его жена.
— Не наша это забота, — отвечал Житобуд. — А ты, чем лаять, еще бы меду принесла.
— Да где же я меду напасусь на этакое брюхо?!
Онофрий был черевист и багров с лица, обвислые щеки будто натерты свеклой. Он промокал потное лицо убрусом, фыркал и виновато вздыхал. Улейка не уходила. Житобуд серчал:
— Кому велено нести меду?
— Ах ты кот шелудивый, — ругалась Улейка. — Я вот голиком вас сейчас.
Ушел Онофрий далеко за полночь. Житобуд провожал его. Шли по темной улице, спотыкаясь, судили да рядили по-пьяному.
— Никакого прибытку, — ворчал Житобуд. — Уж который год не ходили на половцев. А с нашего мужика много ли возьмешь?
Онофрий останавливался, мотал головой, как кобыла.
— Ты поостерегись-ко, — предупреждал он непослушным языком. — Ты князя-то не чести… Постеля у тебя мягкая?
— Ну, — отзывался из темноты Житобуд.
— Пироги каждый день на столе?
— Ну.
— Вот тебе и «ну». А чьими это милостями?
— Князевыми…
— То-то и оно, — гудел Онофрий и утробно икал. — Мед-брагу пьешь?
— Ноне пили.
Житобуд с подозрением косился на постельничего. Давненько уж он его обхаживает. Постельничий всегда рядом с князем. Словечко за Житобуда замолвит — и вспомнит про него князь. Десять лет уж, а то и боле, как ходит Житобуд в сотниках.
— Ты ко князю всех ближе, — льстил он Онофрию.
— По коню и седло…
— Попросил бы за меня.
— Попросить-то недолго, — отзывался из темноты постельничий.
— Ну? — с нетерпением мычал Житобуд.
— Страхолик ты…
— Зато вернее пса.
— Знамо…
Лицо у Житобуда все в шрамах. Пол-уха нет. Один глаз голубой, другой — зеленый. А ручищи — что твои пудовые гири. Быку рога на сторону заворачивает. Человека кулаком бьет насмерть.
Прощаясь, Онофрий все же пообещал:
— Не то шепнуть князю?..
Житобуд обнял его и поцеловал в губы. Постельничий утерся.
— Ишь, какой прыткой.
— За мной не пропадет.
— Помни, — сказал Онофрий.
Нынче с утра у Житобуда в голове стоял туман.
Его подташнивало, и он, стругая жердь, сочно отплевывался.
Улейка ворчала:
— Эк перекосило-то тебя. Ровно леший.
— Заткнись, баба, — вяло огрызался Житобуд.
В ворота забренчали.
— Никак, снова вчерашний гость, — вскинулась Улейка.
— Не должон бы, — сказал Житобуд и, воткнув топор в лесину, пошел открывать.
У ворот княжий отрок, не спускаясь с седла, звонко сказал:
— Дядька Житобуд, тебя князь кличет.
Открыл рот Житобуд. Вспомнил, как корил по пьяному делу князя. Задрожали у него коленки, с места сдвинуться не может.
Княжий отрок смеялся, откидываясь в седле:
— Не трясца ли у тебя, сотник?
— Эка зубастый звереныш, — бормотал себе под нос Житобуд. Сквозь страх пробивалась в нем досада на самого себя: когда уж зарекался пореже заглядывать на дно чары, а все неймется. Седина в бороду — пора бы остепениться.
Оседлал он коня, не торопясь поехал в Гору. По дороге недобрые мысли совсем его доконали. Но, когда отрок, спешившись, взял коня его под уздцы, вздохнул облегченно, подумал оторопело: неужто Онофрий и впрямь не донес про запретные речи, а замолвил за него словечко? И когда только успел?!
Князь Святослав сидел на деревянном стольце, опустив на грудь большую гривастую голову. На сотника не взглянул, не проявил ни гнева, ни любопытства.
Помялся Житобуд в дверях, низко, до пола, согнулся в поклоне, а разогнуться не посмел, пока не услышал тихого, как шелест падающего листа, голоса князя.
— Подойди, Житобуд, — сказал Святослав, — подойди, не бойся.
Неуклюже переступая носками вовнутрь, сотник сделал несколько робких шагов и снова остановился, переминаясь с ноги на ногу.
Князь шевельнулся на стольце, покашлял в темный кулачок и встал. Житобуд попятился к двери, но Святослав, не глядя на него, отошел к слюдяному оконцу, помедлил, щуря на свет и без того узкие, отечные глазки.
И будто не Житобуду вовсе, а самому себе сказал:
— Звал я тебя, сотник, для важного дела. Отвезешь грамотку князю Роману в Рязань.
Обернувшись, вперил в него нахмуренный взгляд. Так же тихо добавил:
— Онофрий за тебя поручился. Рад ли?
— Ох, как рад, князь, — бледнея, закивал Житобуд.
— Встань, — сказал Святослав. — Встань, Житобуд, и слушай. Да слова из слышанного не пропусти. Грамотка сия зело важная. В чужие руки попасть не должна. А дороги на Рязань тебе ведомы. В чаще хоронись. Звериными тропами пробирайся, а пуще всего стерегись Всеволодовых людишек…
С этими словами он степенно подошел к столу и протянул Житобуду перевязанный шелковой ниточкой свиток.
— Ступай с богом.
И, покряхтывая, вернулся к стольцу. Сел, задумался. Поняв, что беседа закончена, Житобуд снова низко поклонился и бесшумно выскользнул за дверь.
3
Когда сотник ушел, князь кликнул Онофрия и велел разыскать Кочкаря, Княжий милостник был в сенях и на зов Святослава явился сразу.
— Сердце у меня нынче свербит, — пожаловался ему князь. — Слышно ли что из Новгорода?
— Вечор был гонец от Владимира, — сказал Кочкарь. — Шлет тебе молодой князь поклоны, просит родительского благословения.
— Уж не на чудь ли зовут строптивые бояре?.. Молод еще.
— Угадал, кормилец, — льстиво подтвердил Кочкарь. — Передает молодой князь, будто пожгли вороги села в порубежье, не пропускают купеческие суда, чинят препятствия торговле.
— Знамо. То уж кончанских старост дело.
Святослав, поджав губы, недовольно взглянул на Кочкаря.
— Слыхал я — Словиша ни на час не отходит от молодого князя. Верно ли?
Кочкарь знал и об этом. Однако беспокоить Святослава он не хотел. Но тот смотрел требовательно.
— Верно, — неохотно признался Кочкарь.
«Змееныш, — подумал Святослав о Всеволоде. — Обложил Владимира в Новгороде. И Роман рязанский ходит при нем на коротком поводке…»
Издавна мечтал Святослав сесть на высоком киевском столе. Издавна видел себя старшим среди князей. Сбылось. А радость была недолгой. Пришли заботы, от которых таяли зыбкие сны.
Когда-то говорил он Кочкарю: «Дай срок, не обычным — старшим князем утвержусь я на Горе. Не временным хищником. Вразумлю ослепших: почто воюете друг с другом, почто сын идет на отца, внук на деда?! Не единой ли мы веры?! Против кого поднимаете меч свой?»
Мечтал Святослав не карать и миловать, а блюсти родовой закон: старший князь — всему русскому делу голова. И ежели вразумить ослепших, то и ослепшие поймут: и земле своей, и людям на той земле, и князьям, и холопам их желает он только добра.
Так говорил он Кочкарю, так думал. А поднялся на Гору да поглядел вокруг себя с высоты — и устрашился. Оказалось, и под ним не крепок киевский стол. И, расточая сладкие речи, стал Святослав плести, словно паук, хитроумные сети. Всюду вокруг него были враги. А пуще всех боялся он Всеволода, чувствовал стоящую за его спиной немалую силу.
«Где же пуп земли русской? — задавался он ревностно одним и тем же вопросом. — В древнем Киеве или в новом Владимире?»
И, завидуя Всеволоду черной завистью, вступая в единоборство с ним, сам же рушил свою мечту: вместо единения вел князей к усобице, вместо веры насаждал вражду.
Догадливый Кочкарь подливал масла в тлеющий огонь:
— Один Роман только и верен тебе, князь. Не вырвешь с корнем Юрьево племя — взрастет на тучных нивах чертополох, на месте любви взойдет ненависть.
Еще с вечера принимал Кочкарь гонца Ехира от половецкого хана Кончака. Прибыл Ехир со всеми предосторожностями в купеческом караване, шедшем в Киев от берендеев.
Лицом Ехир смугл, раскосые глазки умны, подвижный лоб в глубоких морщинах. Пригнал он большой воз диковинного товару, продавал перстеньки и бархат боярским женам и дочерям, княгине привез алых шелков и золотых украшений.
Едва вышел Кочкарь на всход, едва взглянул на бойкого торгового гостя, сразу обо всем догадался. Велел отрокам звать его в сени, из сеней провел Ехира в свою ложницу и только здесь, затворившись, стал выспрашивать, от кого и с чем прибыл.
— Не поднимай пыли раньше, чем стадо не пришло, — уклончиво отвечал и юлил Ехир. — А прибыл я в Киев с дорогим товаром. Что купить желаешь, тысяцкий? Себе ли, жене или дочери на потеху?..
Слушая его быструю рочь, Кочкарь даже засомневался: да за того ли он принял Ехира? Что, как и впрямь он только купец и ничего, кроме своего товара, в Киев не привез? И стал тоже хитрить, и кружить, и говорить намеками. Тут-то Ехир и раскрылся.
— Был я за тридевять земель, видел девицу-красавицу, — сказал он, морща загорелый лоб. — Сидит она наряженная в золото да серебро. Скучает по родному тятеньке. Взмахнула бы девица лебедиными крыльями, да сетка шелковая — разве из сетки улетишь?..
Хоть и не назвал Ехир дочери Кочкаря по имени, а и без того все стало ясно.
В самое сердце метил Кончак: не попрекал, не грозил — велел передать, что дочь его жива, всем довольна и шлет в подарок перстень с красным камушком, а сам Кончак посылает ему украшенное золотым шитьем седло и серебряную сбрую.
— Голова к голове — жернов к жернову. Тело украшает одежда, а душу дружба, — говорил Ехир чужими словами и улыбался, открывая большой губастый рот с ровными белыми зубами. — Великий князь Святослав — брат наш и верный союзник. И спрашивает мой повелитель, не нуждается ли он в помощи? Ходила наша конница под Владимир с рязанским князем Глебом, пожгла Боголюбово. А нынче одичали кони в табунах, засиделись воины на далеких стойбищах…
Понял Кочкарь: побаивался Кончак идти ратью на великого князя Святослава, хотел чужими руками набить сумы богатой добычей. Увести большой полон и снова затаиться в своих вежах. Но, сев на киевский стол, Святослав стал осмотрительнее.
Стоя перед князем, вспоминал Кочкарь, как расставался с Ехиром. Не склеился у них разговор. Ни да ни нет не сказал половецкому лазутчику Кочкарь. Свое дело легче пуха, чужое тяжелее камня. Непростую загадку задал Кочкарю Ехир.
И ромеи, и половцы, и поляки, и угры сеют между русскими князьями вражду. Усобица на руку всем. И если нашепчет Кочкарь на ухо Святославу о неверности родного сына его Ярослава, то и это не удивит великого князя.
— О дочери вспомни, Кочкарь, — прошипел ему в лицо одичавший взглядом Ехир; зловеще ухмыляясь, спросил тысяцкого: — Что передать ей велишь?..
Вот — главное. А главное ли?.. Увидев растерянность в глазах Кочкаря, Ехир облегченно вздохнул. Богатые дары увез он из Киева в степь. Но не дочери Кочкаря, не великому хану. Увез Ехир дары своей возлюбленной, пленной булгарке. Не знал Кочкарь, что давно уже нет его дочери в живых, что бежала она весной из ханского становища с красавцем Адуном, что за Доном нагнала их погоня и меткая стрела пронзила ее юное сердце на переправе, а Адуню отрубили голову.
Ничего этого не знал Кочкарь, потому и стоял перед Святославом спокойно, потому и говорил не спеша, сладко думая о дочери.
Не знал Кочкарь, какого гнева был преисполнен хан, услышав о случившемся. Не знал, что велел Кончак привести к своему шатру убийц и покарал их смертью на виду у всего становища. Так любил он Кочкаря и так на него надеялся. И под страхом жестокого наказания запретил Ехиру проговориться Кочкарю о смерти его дочери.
Две родины у Кочкаря, но очаг один. Привез его Святослав пленником, а сделал милостником. Так предаст ли Кочкарь свой очаг, отдаст ли на поругание землю, в которой обрел он и кров, и богатство, и почет?!
4
В покоях у княгини — приятный полумрак. Свесив ноги, Васильковна сидела на кровати, а сенная девка, веснушчатая Панка, заплетала ей косу.
Раннее утро пробивалось в разноцветные стеклышки окон, расстилало по полу, словно пестрый ковер, мягкие, расплывчатые солнечные пятна. Прикрывая отекшие глаза на полном, одутловатом лице, Васильковна слушала хлопотливое шелестенье тараканов за стенкой и предавалась воспоминаниям.
Медлительная и мечтательная, она любила восстанавливать подробности минувшего, замирая от щемящего счастья или холодея от ужаса.
Сегодня мысли ее, как почти каждое утро за последние полгода, едва только она проснулась, сразу заполнил Кочкарь — все остальное, важное и неважное, даже сын, отстранилось в туман. А Кочкарь стоял рядом — она словно наяву чувствовала на своих щеках его дыхание и со страхом смотрела на Панку; но Панка была занята своим делом и, мурлыкая под нос, ловкими пальцами перебирала косу.
«Когда это началось?» — пыталась вспомнить Васильковна. Еще до Кочкаря, еще задолго до того, как он появился в княжеской усадьбе на Горе, оборванный, худой и страшный — в крови и запекшихся ранах, — еще до того все это началось. Еще в Оспожинок, когда муж ее Святослав схоронил отца, вошел к ней в светелку, опустился на лавку и, закрыв глаза, прошептал: «Свершилось…» Лицо его было еще бледно, еще тени лежали под глазами, но сами глаза наливались праздничной синевой, — и в этот миг она, еще совсем юная, поняв его радость, затрепетала, залилась густым румянцем. Свершилось… Наконец-то Святослав получал черниговский стол и мог жить по своему разумению.
Васильковна радовалась по-бабьи.
Отец Святослава, Всеволод, был груб и ненасытен. От его неудержимой похоти страдали не только дворовые девки и молодые боярышни, но и невестка. То он призывал ее к себе в ложницу — потереть спину настоем из цветов липы, коровяка и черной бузины, то в баньку — пошлепать веничком.
Сын знал это, но молчал, ночами он вздрагивал, как от внезапной и сильной боли.
Еще тогда Святослав был терпелив и скрытен. Он выучился управлять своим лицом, которое приобрело извечное выражение скорби, и, глядя на него, еще двадцать лет назад люди сочувственно вздыхали: «Дотянуть бы молодому князю до весны…» Но проходили весны и зимы, проходили годы, а Святослав не только не помирал, но даже и не болел, хотя и в болоте тонул, и под лед нырял, и мерз на степном ветру. Терпелив был. Терпеливо ждал кончины отца. Меды и брага должны были добить старого князя, если раньше не добьет половецкая сабля.
Отбуйствовал. Помер Всеволод. Трое суток будил всех истошным криком. На четвертые вытянулся, икнул и замер. Отпели его и похоронили со всем обрядом.
Тут-то бы и зажить молодому князю, тут бы и наверстать упущенное. Как бы не так: Святослав был себе на уме.
Всех перехитрил, одной Васильковны обмануть не сумел. Разлюбила она его, постылого, да и что ей в таком князе? Кольцо ли какое, али колты, али браслет серебряный — все выпрашивала, словно милостыню. Прежде чем подарить, повздыхает, поохает, а после все выпытывает, не потеряла ли, крепко ли бережет: не малых, поди, стоило денег. Вон другие, не княгини — боярыни, и роду-племени-то средненького, а так нарядятся, что любо поглядеть.
Не знала Васильковна в гневе своем, что глядели на нее многие, глядели, да любовались, да князю завидовали: красоты она когда-то была необыкновенной… Одна только была беда: попробуй подступись. Тихий-тихий Святослав, а дружиннику своему Лытке, полюбившему Васильковну, метнул стрелу промеж лопаток, когда на кабана охотились, — не пяль глаза, рот на чужое не разевай.
Тут-то и появился на княжом дворе Кочкарь. Сам будто из печи, фырчит, да пыль с кафтана стряхивает, — чудище, а не человек. Зато Святославу пришелся по душе. Велел он его вымыть в бане, выпарить, постричь, нарядить в новую однорядку. Да сапоги пожаловал, да шапку, отороченную мехом. И взял с собой по деревням за податью вместе с Васильковной. Васильковну — чтобы не скучала, ну а Кочкаря для острастки: кто на него ни взглянет, сразу с ног долой. Этакое страшилище еще поискать: не человек, а прямо водяной из болота.
Объехали весь погост, телеги добром загрузили (много взяли в тот раз добра), а вот уж последняя деревенька за пригорком, еще спуститься к речке да подняться на другой берег, скрытый березняком, — и здесь она, совсем рядом, как выкатился из чащи матерый медведище. Васильковна впереди ехала — он на ее коня и навались. Разом выпустил из него кишки, ревет, силится ухватить упавшую княгиню за сафьяновый сапожок. Васильковна на обочину упала, глаза закрыла, боится шевельнуться. В ту самую пору и выручил ее Кочкарь. Пока оцепеневшие от страха отроки, мешкая, разворачивали коней, спрыгнул он с седла, выхватил из-за голенища нож и, увернувшись от удара когтистой лапы, нырнул медведю под брюхо. Взвыл медведь, подмял под себя Кочкаря, но крепкое лезвие уж сидело у него между ребер, алая кровь окрашивала зеленую луговую траву. Кочкарь отделался ссадиной на плече, вот только разорванная вдоль спины однорядка пропала. Жаль…
Удивился Святослав ловкости Кочкаря, похвалил его, вечером призвал к себе, и в присутствии бояр и дружины дал ему золотую гривну и сотню.
А молодая княгиня обласкала половца таким взглядом, от которого у Кочкаря поползли по спине мурашки. Да разве ж мог он надеяться на ее любовь! Да разве ж смел?! Но помнил, хорошо помнил половец давнюю поговорку: гни дерево, пока гнется. Давно не ласкал он женщин в диком поле, давно не бросал полонянок поперек своего седла. И хоть знал, что княжеская любовь опасна, да зато сладка; хоть и дорожил доверием Святослава, но вольная кровь разум переговорила.
Трепетно ждал он вечера, чтобы наведаться в церковь: знал, когда молилась княгиня. Шел, пугаясь шороха собственных одежд, а увидел ее, коленопреклоненную пред мутно светящимися образами, увидел ее лицо под кружевным, каменьями украшенным кокошником — и сразу страх отодвинулся, прихлынула к вискам горячая волна, опустился он подле нее на каменные плиты.
Так и стояли они на коленях рядом, слыша дыхание друг друга, а ночью он прокрался к ней в ложницу, увидел дверь отворенную, ступил на мягкие ковры — и почувствовал, как прильнуло к нему невидимое во тьме жаркое тело, как обожгли его губы трепетные поцелуи…
На всю жизнь запомнилась ему эта ночь. Запомнилось колыхание светильников за оконцами, решетчатая тень на полу, раскиданные на подушке светлые волосы Васильковны, испарина на ее трепетных щеках, а может быть, слезы?..
С той ночи Васильковна не отпускала от себя Кочкаря ни на шаг. Святослав тоже все больше благоволил к своему половчанину. Стал он тысяцким, а потом приближенным князя. Ни одного решения не принималось теперь без него. В сенях сидел он по правую руку от Святослава, бояре старались умилостивить Кочкаря — просьбы свои князю передавали через него. А Кочкарь во всем советовался с Васильковной.
И хоть прошло немало времени, хоть поблекла прежняя красота княгини, хоть и поотдавала она замуж своих дочерей и переженила сынов, Кочкарь был с ней всегда рядом. И знала Васильковна все, что замышлял Святослав. Боялась его, презирала за скупость, но подогревала в нем давнюю веру: не так уж много воды утечет, а переселится он из Чернигова в Вышгород.
Переселился.
«Ну а уж теперь, — думала Васильковна, — ухо держи востро».
…Вошел Кочкарь — вошел без стука, страшный, прямой, черный. Панка обернулась в его сторону, выпустила из рук княгинину косу и, охнув, осела на пятки.
Кивком головы Кочкарь выпроводил ее из покоев. Постоял, покачиваясь, сел на краешек постели, взяв в ладонь маленькую и пухлую руку Васильковны, сказал:
— Хорошо ли спалось, княгинюшка?
И, говоря так, улыбнулся большим, обросшим черными волосами ртом. Глаза у него, как и прежде, влажно и призывно поблескивали, и Васильковна невольно подалась вперед, но Кочкарь, покосившись на дверь, приложил палец к губам.
Васильковна сникла, а Кочкарь продолжал;
— Заметил я, утром росы были хороши. К чему бы это?
— Нешто зарев проглядел?
Кочкарь промолчал.
— Или беда какая стряслась? — всполошилась она.
— Нынче отправил в Рязань Святослав Житобуда — каково-то доскачет? — сказал Кочкарь.
— Небось князюшко мой снова о Романе вспомнил, — усмехнулась Васильковна, оправляясь от испуга и вдруг обретая иконописную строгость лица. — Мало от Глеба ему было забот. Нынче Роман — тоже не птица: крылья худы, низко летает…
— Говорил я князю: Роман, мол, под Всеволодом…
— А он? — встрепенулась княгиня, выпрямляя под сарафаном тучное тело.
Кочкарь безнадежно махнул рукой.
— Юрия держаться надо, Юрия, — сказала Васильковна и соскользнула с постели. — Юрию сам бог велел сесть во Владимире…
— Да надежен ли Юрий-то? — попробовал возразить Кочкарь.
Но Васильковна оборвала его:
— С Новгородом, он знает, не Святослав его обидел, а Всеволод. Нынче же Новгорода ему не видать. Новгород наш. — Рязань — Романова. В Чернигове — тоже своя кровинушка. А Всеволод пускай ступает в Переяславль. Юрию, Юрию место во Владимире! — громко заговорила она, переходя на визг.
Кочкарь сидел тихо, не возражал.
— Житобуда надобно вернуть, — успокоившись, сказала Васильковна. — Пусть наведается во Владимир… Сотник давно в пути?
— Сотник ждет в сенях, — склонившись, с лукавой улыбкой, ответил Кочкарь. — А как же князь?
— Слово князево — нерушимо, — хмуря выщипанные брови, строго сказала Васильковна. — Да почему бы две службы не сослужить? Передаст привет Роману, поклонится и Юрию. Коли смекалист твой Житобуд, лишнего не сболтнет. Зови сотника-то. Зови!
Неуклюже переваливаясь располневшим телом, Васильковна направилась на середину ложницы, где перед большим квадратным столом стояло обитое бархатом кресло.
5
Миновав за полдень деревню Озерцы, Житобуд выехал к болотистому руслу реки. Места здесь были тихие и дикие. Сотник был родом из-под Рязани, знавал и уморенного Всеволодом в темнице князя Глеба, сам участвовал в последнем походе с половцами на Суздаль, доносил обо всем Онофрию, а тот выслуживался перед Святославом. Слава богу, нынче приспела его пора: заметили. Вон и княгиня с Кочкарем вели уважительную беседу: наказывали из Рязани немедля наведаться во Владимир к Юрию Андреевичу, передать на словах с глазу на глаз, что, мол, помнят, как сидел он в Новгороде до Мстислава, всем был по душе, а нынче Всеволод чинит беззаконие — не его, а Юрьево место на высоком владимирском столе, чего же мешкать?..
В Озерцах Житобуд жил, когда еще отец его был старостой. И места вокруг родной деревни исходил вдоль и поперек. Хаживал когда-то здесь на лосей. Раз тонул в болоте, вытащил его тогда из трясины проходивший мимо Пантелей-кожемяка. Другой раз Житобуда жалила змея — и все в этих местах. Еще и сейчас белеется у него на икре левой ноги глубокий шрам. Он сам тогда вскрыл ножом место укуса и выдавил из раны отравленную ядом кровь.
А вот версты за три за Озерцами, у самой Оки, дорога была для него совсем неведомой. Знал о ней Житобуд по рассказам охотников, а сам сюда не добирался. Но охотники не обманули его — все сходилось с приметами: и тропа была, и разбитый грозою дуб, и полянка, за которой начинался сосновый бор, — уже на другом берегу Оки. Отсюда река поворачивала на север, а Житобудов путь лежал к Рязани.
Конь не хотел плыть, упирался, фыркал, шлепал копытами в скользкой тине. Житобуд подзадорил его плетью.
Вода в Оке была холодна. Выбравшись на отмель, Житобуд погнал коня рысью. Разводить костер и обсушиваться он не стал — времени было мало, да и побаивался: дым видно издалека — соберутся на костер чужие люди, а людей Житобуд сторонился. Среди них могут встретиться разные: и просто лихие, и Всеволодовы дозорные. Не ровен час, остановят, начнут пытать, кто такой и откуда. Задержат. А Роман ждет вестей из Киева.
В лесу было сумрачно и влажно. Мошкара и комары тучами вились над головой, набивались в рот, облепляли глаза. От промокших в реке ног подымался пронизывающий все тело озноб.
Дорога, о которой рассказывали охотники, должна была пройти немного правее. Но лес все не кончался, и Житобуда охватила тревога. Солнце склонилось к верхушкам деревьев, с запада широкой полосой шли плотные тучи.
Боясь заблудиться, Житобуд совсем уж было надумал повернуть назад, как неожиданно выехал на дорогу. Колея, заросшая светлой молодой зеленью, извивалась среди красных сосновых стволов, ныряла в колючий кустарник, сползала в сырые низинки. Из-под копыт выпрыгивали лягушата, за кривыми кочками неутомимые кузнечики настраивали свои пронзительные гудки. Лес дышал спокойствием; ровный шум его внушал уверенность, горький запах смолы и зелени ласкал и бодрил.
Но Житобуд был опытным воем, и лесная благостная тишина не могла притупить его бдительности. Слух чутко улавливал посторонние шорохи, зрение отмечало все подозрительное: здесь — царапину на стволе, там — сломанную ветку. Тревога томила Житобуда с той минуты, как выехал он из чащи на дорогу.
Что бы так волвовало его? Что не давало ему покоя?.. И тут вдруг понял: свежие следы копыт на колее. «Проехали верховые, и немалым числом», — определил Житобуд.
Скоро он убедился в том, что наблюдательность не обманула его. Сначала он услышал голоса, потом, выехав из-за поворота, увидел шестерых воев, скакавших в том же направлении, что и он. Кони под ними были заляпаны грязью. Всадники тряслись в седлах, повесив за спины щиты.
Житобуд, остановившись, попятил вороного в лес, но один из воев обернулся, дернулся в седле и громко окликнул его. Краем глаза Житобуд увидел, как все разом напрягли удила, поворачивая коней.
Он скакал через чащу, слыша только хруст сучков и собственное прерывистое дыхание. Но спиной чувствовал: те, шестеро, не отставали от него. Они разделились и обходили сейчас Житобуда с двух сторон. Он не сразу сообразил, почему они разделились. И лишь когда перед ним показалась водная гладь, понял, что его загнали в западню.
Теперь он мог разглядеть лица окруживших его воев. Пятеро из них были еще совсем юны, на подбородках их едва пробивался мягкий пух. Шестому, верно, перевалило за сорок. Угрюмое лицо его не предвещало добра. Дремучая борода росла почти до самых глаз, лохматые брови торчали из-под узкого козырька круглого шлема; неподвижные вопрошающие глаза смотрели на Житобуда, не мигая. Он-то, конечно, и был старшой.
— Пошто бежал?.. Али тать? Али убивец?! — задиристо прокричал один из молодых воев, но Житобуд даже не обернулся в его сторону. Он ждал, что скажет старшой. Однако тот, разглядывая его, молчал. Даже грузный конь под ним будто окаменел. Молодые дергали удила, хватались за рукоятки мечей, а этот даже не шелохнется.
— Будя в драку-то лезть, — стараясь сохранить спокойствие, проговорил Житобуд. — Княжой я человек, не тать и не беглый холоп, а дело у меня срочное…
— Ишь ты, — скупо отозвался старшой и, как показалось Житобуду, довольно ухмыльнулся. Но борода утаила ухмылку. Острые глазки смотрели на него все так же неприязненно. Молодые вои переглянулись.
— Ну, а коли так, пошто в лесу хоронился, пошто от нас бёг? — снова накинулся на него один из них.
— А вы-то кто такие? Мне-то про то откуда знать? — ответил Житобуд. — Сказано: княжой я человек. А ежели не верите, будем сечись…
— Сечись не будем, — поднял руку старшой. — Поотстали мы от князевой дружины, рыскаем вот по лесу, ищем своих…
— Поди, Романовы людишки? — поспешил с вопросом Житобуд.
— А ты как угадал? — отозвался старшой.
— Да угадал… — уже не так уверенно сказал Житобуд. Бес его попутал: а что, как и впрямь Всеволодовы дружинники?!
Житобуд тронул удила и выбрался на сухое. Вои тотчас же окружили его. Старшой скакал рядом. Он молчал, только изредка обжигал Житобуда недоверчивым взглядом.
Солнце совсем склонилось долу, косые лучи его едва пробивались сквозь чащу. Похолодало. В темноте, перекликаясь и поругиваясь, вои выбрались на дорогу.
— Ежели до темноты не разыщем своих, заночуем в лесу, — сказал старшой.
Промокший на переправе, Житобуд совсем замерз. Все тело его колотил озноб, и не только от холода. Не мог простить он себе сгоряча сказанного про Романовых людишек. Поспешил с перепугу, сам себя выдал — ясное дело: вон как сверкнули обрадованно глаза старшого. Ни змеей не обернуться, ни птицей: не уползти в траву, не взмыть в поднебесье.
Справа, слева и сзади него скачут вои, ведут под надежной охраной к Всеволоду: «Вот тебе, князь, гонец от Святослава из Киева». И велит тогда князь Житобуда пытать: а куда путь держишь? А что наказывал тебе Святослав?..
Житобуду ли не понять: от шести воев не уйти, на Всеволодовы вопросы не ответить. И оставалось ему одно — покорно скакать во тьму неприветливого леса.
Долго ехали. По легкому ходу коней Житобуд догадался, что не плутали вои в лесу, а хорошо знали дорогу.
Скоро чаща поредела — ниже и потоньше стали деревья. В просветах запрыгали огоньки. Много костров горело на поляне. У огня сидели люди, иные лежали, подложив под головы обитые кожей щиты. В глубине поляны, на взгорке, темным облаком высился шатер.
Вои теперь скакали бок о бок с Житобудом. У шатра окружили его еще теснее, схватили за руки, на ходу стянули веревочкой запястья. Житобуд с обидой сказал чернобородому:
— А это супротив нашего уговору…
Старшой и ухом не повел, все так же молча, взглядом, велел воям снимать пленника с коня. Знать, радовался удаче (еще бы: сам в руки залетел!), предвкушал заслуженную награду.
Придерживая рукой широкий меч у бедра, он подбежал к шатру и, склонившись, откинул полог.
Навстречу ему, ступая неторопливо и легко, вышел воин в светлом, расстегнутом на груди кафтане.
«Давыдка!» — узнал его Житобуд и попятился. Было: видел он из толпы, как приезжал княжеский милостник к Святославу сватать за сына его красавицу Пребрану…
6
Давыдка с удивлением разглядывал Житобуда. На что уж он был силен, гнул подковы, а этакого детину встречал впервой. Из-под туго стянутой волосяной веревочкой рубахи проступали, словно булыги, накатанные рекой напрягшиеся мускулы, жилы на шее взду лись, держат голову гордо, не дают склониться; разноцветные глаза, налитые злобой, смотрят не мигая.
Старшой, семеня за Давыдкой, выглядывал из-за его плеча. Мужики с опаской рассматривали пленника. Без доспехов, в свободно свисающих до колен белых рубахах, они подходили к костру, щурясь, глазели на Житобуда, покачивали головами. Что греха таить: многие из них хаживали на медведя, но с таким матерым зверем один на один тягаться не доводилось.
— И отколь нанесло нечистого? — дивились одни.
Другие говорили:
— Сказывают, с княжеской печатью.
Княжеская печать озадачила и Давыдку. Да и воины, наехавшие в лесу на Житобуда, божась, уверяли, будто сами слышали, как говорил он о важном поручении. Но ни меха, ни бересты при Житобуде не оказалось (грамотку Святославову зашила его Улейка в рукаве кафтана — сыщи-ка!). «Не отпыхавшись, дерева не срубишь», — рассудил Давыдка и начал разговор свой издалека.
— Вижу крест на тебе, — сказал он. — Зовут меня Давыдкой. А тебя как кличут?
— Житобудом.
— Вот и ладно, — стараясь придать своему голосу еще больше приветливости, подхватил Давыдка. — А уж коль мы с тобой познакомились и зла я тебе не желаю, то будь моим гостем. Эй, мужики! — крикнул он в темноту. — Снимите с Житобуда вервие!
Окрепшим голосом предупредил:
— Вздумаешь бежать — все едино настигну, а, настигнув, вдругорядь не пущу.
— Чего уж бежать-то, — с радостной готовностью согласился Житобуд. — Бежать мне некуды. Поди, вижу, не маленькой.
А сам хитрющими глазами повел из-под мохнатых бровей в чернеющую со всех сторон лесную чащу. Неладно у него под конец пошло, всю дорогу ехал себе в удовольствие, а тут прямо на Всеволодовых людишек наскочил. Вперед наука. Знал ведь: как пересек черниговское порубежье, ухо надо держать востро…
Давыдка взгляд его перехватил, ухмыльнулся, угадав, про что подумал пленник: дай только ногу поставить, а весь-то я и сам влезу.
Воины развязали Житобуда, живо отскочили в стороны.
— Храброй у тебя народ, — недобро пошутил пленник.
— На такого-то разве что с рогатиной, — в тон ему шутливо откликнулся Давыдка, — Садись ближе, вечерять будем.
Житобуд сел на попону, протянул к огню задубевшие, в желтых буграх мозолей, темные от въевшейся пыли руки. Костер высвечивал его бороду, набрякшие веки, блестящий от пота бронзовый лоб.
Сокалчий принес на медном блюде пышущее паром мясо и хлеб. Острым ножом Давыдка разрубил мясо на две равные части, половину протянул Житобуду, половину взял сам. Чавкая, перемалывая крепкими белыми зубами хрящики, облизывал лоснящиеся от жира пальцы, неторопливо рассказывал:
— Мы ведь тоже в лесах не по своей охоте. Призвал нынче князь, велел в дозор идти. Сон, говорит, мне такой приснился, будто к Роману гости, да через наш двор. Не гоже-де нам гостей отпускать без подарков. Роман наш брат, и мы ему не враги…
Закашлялся Житобуд, поперхнулся куском горячего мяса. Давыдка сочувственно спросил:
— Аль суха ложка горло дерет? Да как же это я не догадался!
И отругал сокалчего:
— Чего ж это ты, кривое твое рыло, гостя встречаешь, а про меды забыл? Аль бочки пересохли, аль полопались лады?!
Сокалчий икнул, вздрогнул толстым и мягким, словно студень, брюхом и тотчас же растворился в темноте за костром. Издалека послышались его свирепые крики, и тотчас же в кругу света, падающего от костра, появились два молодых воина; один из них нес большую деревянную братину, а другой — серебряные чары. Молча поставили все это на ковер перед Давыдкой и удалились.
Давыдка не спеша разлил по чарам мед, отпил из своей глоток, подмигнул и продолжал, не спуская с Житобуда внимательных глаз:
— Вот и рассудили мы: коли не оповестили нас гости желанные о прибытии, так только от своей скромности. Но ведь и нам не гоже отступать от дедовского обычая. Чай, половцы и те гостей с почетом принимают, а мы ведь христиане.
Все понял Житобуд: не случайно столкнулся он с воинами на лесной дороге. Ждали его, расставив силки. В силки-то те расставленные он и угодил. А Давыдка только потешался над ним. Видел он Святославову печать — теперь ни за что не отвертеться.
— Ешь, ешь, Житобуд. Ешь да правду сказывай: уж не встречал ли ты кого путем?
А у самого глаза так и стригут. Растерялся Житобуд, возьми да и сбрехни:
— Правда твоя, Давыдка. Знать, медок просветлил: видел я человека на переправе. Коня он поил, а сам по сторонам поглядывал.
— Не, — тряхнул кудлатой головой Давыдка. — По сторонам только тати поглядывают. А гости князя Романа едут с печатью, им бояться некого…
Отложил кусок недоеденного мяса Житобуд, уставился на Давыдку налитыми бешеной кровью глазами:
— В простых сердцах бог почивает. Почто взял — знаю, почто есть усадил — тоже знаю. А вот почто душу тревожишь, того никак не пойму.
— Дурак ты, Житобуд, сам себя и выдал, — засмеялся Давыдка. — Гость мой желанный ты и есть. А послан ты Святославом к Роману. Вроде бы никто про то и не слышал, а мышка донесла. Ежели нынче не скажешь, с каким словом отрядил тебя Святослав, во Владимире все равно заговоришь. Не гляди, что силен, мы и не таких бирали…
Сказал так и с доброй улыбкой отхлебнул из чары медку. Глянул Житобуд в кроткие глаза Давыдки, глянул на его красные и мягкие губы — и последнее свое слово, что уж было в горле, выговорить не сумел. Только вытянул шею, подергал кадыком и задрожал. Выть тебе волком за твою овечью простоту. Просил он у Онофрия княжеской милости, вот и допросился. Сидеть бы ему возле своей Улейки, слушать, как она его поругивает, да попивать холодную брагу — не этот кислый мед.
— Вольно и черту в своем болоте орать, — сказал он и ударил Давыдку кулаком по голове.
Икнул Давыдка и повалился наземь. Недопитый мед так и брызнул у него изо рта.
А Житобуд в один миг перемахнул через костер, свалил сокалчего, сорвал с привязи коня — и напролом через кустарник, через лес, через низины и взлобки погнал его куда глаза глядят.
Наутро, уж и не веря, что цел и жив, выехал к Рязани.
Глава третья
1
— Ты что же это, нечестивец, — кричал игумен Поликарп, яростно стуча посохом, — все стены монастыря исписал мирскими ликами?! Святую обитель осквернил?! Порочных блудниц возвел в райские кущи?!
Зихно-богомаз попятился к выходу, споткнулся на пороге — упал бы, если бы не подхватили стоявшие позади молчаливые чернецы.
В горле у Поликарпа булькало и клокотало. Глаза игумена закатились, впалые щеки еще больше запали — лицо его стало сухим и желтым, как старый пергаментный лист.
Чернецы заломили богомазу руки, пыхтя и ругаясь, взбадривая пинками, поволокли его по монастырскому двору в поруб. Откинули решетку, наградили еще парой пинков и сбросили вниз. Поставили решетку на место, сплюнули и ушли, не проронив ни слова.
Только что Зихно радовался приходу игумена. Поликарп казался ему смиренным и добрым старичком: спина согбенная, голос тихий, глаза кроткие, с поволокой.
Но, разглядывая выполненную с утра роспись на стенах трапезной, игумен вдруг обрел властную жесткость: черты лица окаменели, глаза хищно ощупывали стены, жилистая рука сжала посох так, что на суставах проступили белые пятна…
Зихно был человеком веселым и не умел отчаиваться. Потолкавшись из угла в угол поруба, он опустился на корточки. А едва сел и закрыл глаза, окутали его приятные воспоминания.
Привиделась ему купеческая дочь Забава — полненькая, румяная, с ямочками на пухлых щечках, с ровными рядочками белых зубов под чуть привздернутой верхней губой. Забава прибегала к нему на речку в кусты — там он ласкал и целовал ее до самого утра. А утром помогал ей перелезть через высокий забор и ждал, пока она не проберется в светелку и не помашет ему из оконца рукой. Однажды их подстерег брат Забавы и натравил на Зихно собак. Они изодрали молодого богомаза так, что он две недели отлеживался с примочками на раненых ногах.
Забаву Зихно нарисовал на стене надвратной церкви в образе белокурого ангела, парящего в облаках над постным ликом святого Луки.
Жена златокузнеца Мосяги Ольга наделила своими чертами святую великомученицу Варвару: черные брови, прямой нос с приподнятыми крыльями ноздрей, лукавая усмешка в уголках четко очерченных губ.
Узнав о блуде жены, Мосяга выследил их у квасовара Гостены: на этот раз Зихно посчастливилось уйти от расплаты. Подговоренные златокузнецом мужики ввалились в избу со двора, а богомаз ушел огородами.
Крепко осерчал Зихно на Мосягу — оставил о нем память и в Новгороде на стенах святой Софии, и в Печерской лавре: козлоногий черт с седенькой бородкой, кадык торчит, словно камень в горле застрял, глаза выпученные, зверины.
Но больше всего любви и мастерства вложил Зихно в лик святой Марии. Писал ее — и грезилось наяву: могучий Волхов несет свои воды в Ильмень-озеро, белые бусинки звезд купаются в глубине. И лодка словно парит между звездами и водой. Только слышится плеск весел да темнеется застывшая на носу тоненькая фигурка в белом сарафане, в надвинутом на лицо белом платке. Хоть и не видит Зихно глаз молодой посадницы, а помнит, как смотрела она на него в церкви, когда он, пристроившись на лесах, подновлял роспись стены дьяконника. Искала она отца, а нашла суженого.
В тот же вечер обнимал ее Зихно у святых врат. А другою ночью увез, к себе в избу за Волхов, там и зоревали они, шалея от счастья.
У самого сруба под волоковым оконцем плескалась река, ветер задувал в избу щемящий запах свежескошенной травы, под полом попискивали мыши, скреблись в подгнившие доски, в углах шуршали тараканы. А они лежали в теплой овчине, задыхаясь от поцелуев, и ничего не слышали и не видели вокруг себя.
Наутро, расчесывая волосы, Валена, потухшая, сидела на лавке и потерянным взглядом рассматривала разбросанные по неметеному полу кисти, измазанные краской стены и голосом, охрипшим за ночь, удивленно выговаривала:
— А нехристь ты, Зихно. Знамо, нехристь.
Почесывая голые ноги, Зихно дивился:
— С чего это ты, Валена? Вот крест нательный, кипарисовый, самим владыкой за труды даренный… Хошь, перекрещусь?
— Нехристь, как есть нехристь, — твердила свое Валена. — И образов нет у тебя в красном углу, и лампадка не теплится. Ровно волхв, живешь.
— А это что? — начиная сердиться, спросил Зихно. Он указал на доски, расписанные им накануне и расставленные по лавкам для просушки.
— Бесовское твое ремесло, — с досадой плюнула посадница. — Нешто такими-то были святые?
— А ты их зрила? — спросил Зихно. — Может, ты святая и есть…
— Грешница я, — оборвала его Валена.
— Не грешница, а лада, — попытался обнять ее богомаз. Она отстранилась от него и стала поспешно одеваться.
— Ты что?! — испугался и удивился Зихно.
Опалила его Валена незрячим взглядом и вышла из избы. Оттолкнула лодочку от берега, взмахнула веслом — и исчезла в клочкастом тумане.
Извелся Зихно от тоски. Валилась работа у него из рук, ходил он вокруг избы посадника, все надеялся: увидит его Валена. Уж после узнал, что уехал посадник к чуди и жену взял с собой.
Совсем лишился Зихно покоя, думал с другими бабами утешиться, да где там!.. Все не шла у него из головы молодая посадница.
Запил Зихно, дрался с мужиками на кулачки, бросали его с моста в Волхов, едва жив остался — отходили его в монастыре, сам владыка навещал, развлекал богоугодными притчами, терпеливо наставлял на путь истины. И приступил богомаз к работе. Под самым куполом, где гулко гуляли ветры, писал он свою Марию. Сердцем писал, а не красками. Сидел, сгорбившись, на помосте, руки согревал дыханием и думал: а в чем она, истина, в чем святость? И постом истязал себя, и молитвами.
Радовался владыка: лепота! Бояре, приходившие взглянуть на роспись, истово крестили лбы: лепота!..
Но наутро, когда ушел он из Новгорода, когда приехал Илья с Боярским советом еще раз полюбоваться обновленными ликами святых, — красовалась на алтарной стене, где положено быть богоматери, посадница Валена, ни дать ни взять живая: с искринкой в глубине грустных глаз, с блудливой улыбкой на сочных губах — бейте лбы, молитесь, святые и грешные, аз воздам.
Кинулись за богомазом на резвых конях церковные служки, а что толку? Поднялась трава на его следах, смыли их на речном песке осенние дожди…
И снова загулял Зихно. Так загулял, что самому тошно стало. Пропил однорядку, пропил и кипарисовый крест, подаренный Ильей. А потом, избитый соляниками, заподозрившими в нем татя, явился в Киев, постучал в ворота Печерской лавры.
Обласканный Поликарпом, взялся было Зихно за ум. Приглянулся он игумену: кроток, умен, начитан. А уж богом данное — богово. Мастером был Зихно отменным: так распишет стены, что краше греческого: там пустит по белому полю коричневую краску, здесь разбавит ее серо-розовой, где плеснет и желтизны. Всего в меру, а окинешь взглядом — сердце радуется.
Зима прошла в трудах. А с первой весенней капелью опять затуманило Зихно глаза, ударила в виски забродившая кровь — и опустели под куполом леса, высохли краски, паутиной затянуло кисти.
Повадился ходить Зихно в мир, прельщать молодых девиц. О том доносили игумену. Поликарп дивился: и откуда в смиренном богомазе такая удаль?.. Пробовал увещевать Зихно, читал ему выдержки из святого писания. Но, когда, загрустив, за одно утро разукрасил богомаз стены чернецкой обители непотребными ликами, осерчал игумен.
…Лежал Зихно в порубе, вспоминал сладости привольной жизни и улыбался.
Утром пришли за ним два дюжих монаха, вытащили его на свет, вывели за ворота лавры, надавали затрещин и бросили вслед покатившемуся под горку богомазу его худой мешок с красками и кистями.
2
Хорошо летом в лесу — сухо, духмяно. В зарев комарье уже отошло, дышится легко; каждый листик, каждая травинка будто звенит в прозрачном воздухе. Полянки выстланы плотной травой, под кустами, в тени, пахнущей перегноем, притаились, прижались друг к дружке, будто малые зайчата, коричневые грибы с масляной блестящей головкой. Срежешь один гриб, срежешь другой, поглядишь по сторонам, а их видимо-невидимо по всей полянке разбежалось: только бери, только бросай в корзину. Обойдешь таких три-четыре куста — и можно домой поворачивать: грибы некуда класть. А дома вздуешь в печи огонь, начистишь грибков, нагрузишь на сковороду большой горой — аж дух захватит от такого лакомства… Хорошее, славное дело — грибы. Без грибов на исходе лета лес скучный. Грибы да ягоды — забава старому и молодому. А бруснику не только бабы, но и мужики выходят заготавливать впрок. Хорош из брусники настой, а квас и того лучше…
Раненько поутру шел Зихно через лес. Долго добирался он до Москвы. Пробовал осесть в Чернигове, однако до черниговского епископа уж докатилась о нем молва, и к руке своей богомаза он не допустил. Потолкался Зихно по монастырям, но и в монастырях отвечали одинаково: «Богомазы нам не нужны». Тогда вскинул он на плечи мешок с кистями и красками и подался на север. Где к мужицкому обозу пристанет, где к купцам…
Шел Зихно через лес и, не унывая, мурлыкал себе под нос озорную песенку. Привык богомаз к крутым поворотам жизни и верил: ежели не сегодня, то завтра и ему улыбнется прихотливое счастье. Большие были у него надежды на владимирского князя Всеволода. Сзывал Всеволод мастеров со всей необъятной Руси, а в себя Зихно верил. И дал себе суровый зарок: не пить, не озоровать, новую жизнь начинать по-новому.
Только надолго ли? Откуда было знать богомазу, что судьба-злодейка еще с утра распорядилась по-своему, что идет по лесу с лукошком девушка, а у девушки бедовые глаза, спадают золотой волной до пояса густые волосы и зовут ее Златой. Еще в молодости умерла у Златы мать, а отец погиб в усобице. Приютил ее у себя усмошвец Нельзей, полюбил как родную дочь. И уж шепчется по ночам Нельзей со своей женой, перебирают они женихов — приспело время, девка давно на выданье. Навевает Злате сладкую истому лесной ветерок. Идет она по мягкой траве и тоже гадает о суженом…
Все ближе к Злате Зихно, только и осталось, что полянку перейти, а за полянкой скрестятся их пути…
От куста к кусту, перекликаются девичьи озорные голоса. Подыгрывая девчатам, лес откликается то слева, то справа — не поймешь, откуда человек, откуда эхо.
— Ау! Ау!..
Сначала Злата шла с подружкой Фросей, но та набрела на семью боровичков, поотстала в ложбинке, а Злата перебралась на другую сторону ручья и совсем потеряла подругу. Теперь кричи не кричи — все равно не дозовешься.
Не впервой Злата в лесу, каждая тропиночка ей здесь знакома: много раз хаживала она сюда — весной за ландышами, летом по землянику, осенью по грибы, зимой по клюкву на Оленьи болота. С Фросей они договорились: ежели потеряются, ждать у расщепленной молнией сосны. Это на склоне к Неглинной, где вот уже много лет пустует землянка, вырытая, как сказывал отец, монахом-отшельником еще в языческие смутные времена. Монах умер, а землянка осталась. Теперь в ней никто не жил, и только во время сильного дождя под ее полусгнившей кровлей прятались оказавшиеся поблизости мужики и бабы.
А грибов-то нынче, грибов!.. Вон какой большой подосиновник стоит на полянке, красуется на всю округу — красный, упругий молодец молодцом. А чуть подальше — белый коренастенький гриб, укрылся сухими листьями, думает — не заметят. По желтой шапке ползает божья коровка, раскрывает крылышки, жужжит и собирается улететь, но не улетает: гриб пригревает солнце, от упругой мякоти его исходит сладкий сытный аромат.
Злата посидела на корточках возле гриба, полюбовалась на божью коровку, а потом осторожно подрезала ножиком крепкую ножку. Гриб зашатался и приятной тяжестью лег в ее ладонь. Положила Злата гриб в корзину, улыбнулась, радуясь находке, и пошла дальше. От кустика к кустику, от деревца к деревцу.
— Бог в помощь! — услышала она вдруг над собой смешливый мужской голос. Испугалась, кузнечиком отпрыгнула за сосну, а голос у нее над ухом:
— О волке подумала, а волк тут как тут…
— Ой! — вскрикнула Злата и уронила лукошко. Грибы посыпались на полянку.
— Ой! — снова вскрикнула Злата, увидев выходящего из-за дерева Зихно. Богомаз подмигнул ей и, встав на колени, принялся собирать выпавшие грибы.
— Ты кто? — спросила Злата.
— Мужик серый, кафтан рослый, на босу ногу топоры, лапти за поясом. Не узнала?..
Поглядела Злата поверх руки на мужика, похлопала глазами — вроде незнакомый.
— Откуда ты этакий взялся?
— А из болота.
— В болотах у нас только водяные водятся.
— Перевертыш я…
Говорил, а сам улыбался: на злого человека не похож. Но на всякий случай Злата зыркнула глазами по сторонам: не прячутся ли в кустах его дружки. В лесу было тихо. Ветер шуршал в осиннике, издалека, едва слышно, доносились девичьи голоса.
— Что присмирела? — спросил Зихно.
— Тебя испугалась, — с вызовом отвечала Злата.
— А девки меня не пугаются.
— Че-его? — переспросила Злата.
— Веселый я, говорю, человек. Иду из Киева во Владимир.
— Скоморох?
— Богомаз я…
Зихно собрал грибы, протянул лукошко Злате. Девушка сунула руку к лукошку — Зихно схватил ее за локоток.
— Попалась, коза-егоза!
— Брось, не дури.
Глаза Златы расширились от страха и гнева. Подумала: «И впрямь лихой мужик». Но кричать не посмела.
Зихно привлек девушку к себе — она снова выронила лукошко, грибы посыпались ей под ноги. Зихно поцеловал Злату в губы.
— Ах, сладка малина!
— Отпусти-ко, — тихо сказала Злата, глядя ему в лицо. «Нет, не лихой мужик. Сильный, статный; глаза чистые, ясные…»
Зихно выпустил девушку, но шутливо пригрозил:
— Бежать надумаешь — догоню. У меня ноги быстрые.
— Да и сам быстрый.
— То-то…
Собирая грибы, Злата оглядывалась: только бы подружка не набрела. Не то пойдут суды за пересуды…
А та — тут как тут. Вынырнула из кустов да чуть ли не в самое ухо:
— Ау!
— Кшыть ты, оглашенная! — накинулся на нее Зихно.
Фрося вытаращила глаза на богомаза, захлопала белесыми ресницами.
— Ты нам грибы помоги собрать, — посоветовал ей Зихно. — Шел вот да подружку твою спугнул, она лукошко и выронила…
Совсем не ко времени набрела на них Фрося. Злата уж корила себя за то, что мысленно накликала ее. Приглянулся ей богомаз. И страху перед ним она уже не чувствовала. Даже злилась, что была неуступчива. Но Зихно на нее ничуть не обиделся, и это успокоило Злату.
— Вот заночую у вас в Москве, — говорил богомаз, шаря палкой в кустах — авось и тут притаился грибок? — а заутра налажу путь дальше.
— Нешто у нас работы не сыщется? — робко сказала Злата.
— Отколь же? — удивился Зихно.
— Новую церковь в Москве поставили. Еще вчерась поп-то сокрушался: некому, сказывал, расписать ее святыми ликами…
— Это мы могём, — сказал Зихно с достоинством. — Как попа-то зовут?
— Отец Пафнутий.
— Ведите, девки, к попу, — обрадовался Зихно.
Вышли из лесу прямо на огороды. В конце их прилепился к холму посад. Каждая изба в посаде — крепость, подпирает улицу толстенными сосновыми стенами, глядит высоко поставленными, как бойницы, оконцами; вокруг дворов — крепкие частоколы: руками не расшатать, разве что пороками.
Чем выше в гору, тем больше народу. А когда выбрались на большую дорогу, то навстречу нескончаемым потоком потекли возы, толпы мужиков и воев.
— Ты бы поотстал маленько, — шепнула Злата богомазу на ухо.
— А вечером придешь?
— Аль забыл?
— Чего забыл? — переспросил Зихно. Вроде ни о чем и не договаривались. Хитрит девка.
— А снопы стеречь от потехи лешего… Там и свидимся.
3
Отец Пафнутий только что вернулся из баньки и, сидя за столом, пил квас. Время от времени он вытирал рукавом со лба обильный пот, расслабленно покряхтывал и вскидывал мутные глаза на стоящую перед ним толстую, с отвисшими, тяжелыми грудями попадью Степаниду.
«Постарела, постарела матушка», — скорбно размышлял поп, разглядывая жену. А ведь давно ли была она стройной и разбитной девкой, от любви к которой высохло на Москве столько парней. Бывало, гордостью преисполнялось все существо Пафнутия, когда проходил он с попадьей по улицам города. А нынче с ней показаться на людях страшно: лицо желтое, глаза навыкате, толстые ноги, едва передвигаясь, попирают прогибающиеся тесовые дорожки — от поповой избы к церкви, от церкви — к избе княжеского тиуна Любима, с кем только и водил Пафнутий дружбу. Но и Любим уже надоел ему. Все надоело Пафнутию в Москве. Мечтал он перебраться во Владимир, выслуживался перед протопопом Успенского собора Микулицей, но Микулица вот уж сколько лет не замечал его. Должно, так и лежать попу Пафнутию на здешнем кладбище. И чем дольше рассуждал Пафнутий о своей жизни, тем постнее становилось его лицо.
На крыльце послышались шаги, в дверь постучали. На пороге появился церковный служка Пелей с усохшей ногой и костылем под мышкой.
— Аль с утра кого отпевать? — пробурчал Пафнутий и с придыхом отхлебнул из кружки. Квас был кислый, перебродивший и перекосил попу лицо.
Пелей поклонился хозяевам и сказал:
— Тут, батюшка, человечек к тебе. Сказывает, богомаз.
— Каким ветром его надуло? — буркнул Панфутий.
— Из Киева, сказывает, от самого Поликарпа.
— Ишь ты, — сказал Пафнутий и степенно разгладил на стороны седеющую бороду. — Ну так кличь его. Неча гостя томить на воле.
— Здеся он, — подобострастно пискнул Пелей и толкнул костылем дверь.
Вошел Зихно, с порога перекрестился на образа. Набожность богомаза понравилась попу. А еще как-никак человек из Печерской лавры. О богоугодных делах игумена Поликарпа все были наслышаны. Пафнутий оживился, кивнул на лавку.
Зихно сел. Тяжело переваливая грузное тело, Степанида взяла с полки и поставила перед ним кружку. Пафнутий наполнил ее квасом.
— А ты сгинь, — приказал он Пелею. Служка, стуча костылем, нырнул за дверь. Степанида снова встала у печи, придерживая скрещенными руками обвислые груди. Лицо ее было невозмутимо, как у языческого идола. «Вот ведьма!» — выругался про себя поп. Богомазу он сказал:
— Кличут тебя как?
— Зихно.
— Из Новгорода?
— А ты как догадался?
— Имечко за тебя говорит, — усмехнулся Пафнутий.
— Ловко.
Поп покряхтел и зло зыркнул на Степаниду. «Всё-то ей надо знать. Шла бы лучше приглядеть за хозяйством. Коровенки, поди, не кормлены».
Попадья и бровью не повела, продолжая все так же невозмутимо стоять у печи.
— Далеко ли путь наладил? — едва сдерживая раздражение, скопившееся против жены, спросил у богомаза поп.
— Думал податься ко Владимиру, — объяснил Зихно, — да вот проведал, что на Москве новую церковь срубили, а расписать ее некому. Ежели что, я бы с охотой.
Степанида хмыкнула, но Пафнутий отнесся к словам богомаза со вниманием.
— В цене сойдемся ли? — усомнился лишь он.
— А я многого не запрошу, — ответил Зихно.
— Ан запросишь, — прищурясь, покачал головой Пафнутий.
— Да вот мое слово, — сразу успокоил его Зихно, — харч чтобы твой да одежка.
— Всего-то и делов?! — чуть не подпрыгнул от радости Пафнутий. Степанида снова хмыкнула, но он, уже не таясь, осадил ее взглядом.
— Всего-то и делов, — кивнул Зихно, с томлением вспоминая Злату.
— Ну и ну-у, — протянул поп и вдруг выпалил: — А не выгнали тебя из лавры-то?
— Сам ушел.
— Поликарпу не приглянулся? — продолжал въедаться Пафнутий.
— Тебе-то что? — осерчал Зихно и зашевелился на лавке — будто уходить вознамерился.
Переполошился Пафнутий: как бы не спугнуть богомаза, захихикал, пряча в жирные щечки глаза.
— Ты квасок-то на мед смени, — сказал он жене. Степанида не пошевелилась.
— Кому велено?! — прикрикнул на нее поп.
Лицо попадьи побагровело.
— Ну! — привстал Пафнутий, сжимая маленькие кулачки.
Попадья вышла, стукнув дверью.
— Завсегда с ней эдак-то, — льстиво пояснил поп.
— Баба, — согласился с ним богомаз.
Пришлый все больше нравился Пафнутию. Есть теперь кому излить душу. А еще подумал он, что весной, когда приедет со Всеволодом Микулица, то-то подивится его расторопности. Уж коли от Поликарпа богомаз, то какой ни худой, а мастер… Может, и поймал Пафнутий свою жар-птицу?
К вечеру, когда Зихно с попом приканчивали уже третью ендову с медом, пришел княжеский тиун Любим.
Любима все знали на Москве как первого бражника и охотника до молодых баб. Зихно сразу приглянулся ему.
Скоро охмелевший Пафнутий уснул на лавке, и Степанида, не говоря ни слова, вытолкнула их из избы. Побродив по улице, они пошли к тиуну. Зихно пел срамные песни и плясал, Любим хлопал в ладоши.
Ночью Зихно щупал тиунову жену, пышнотелую и податливую Евнику. А утром проснулся с головной болью в незнакомой горнице. За перегородкой слышались голоса. Один из них принадлежал Любиму, второй, как ни напрягался Зихно, не мог признать.
«Вот леший! — обругал себя Зихно. — И Злату проспал». Он вспомнил, что договаривался с девушкой о свидании.
— Ты, Житобуд, сторонних людей пасись, — наставлял охрипший с перепоя голос тиуна. — Один раз ушел, вдругорядь пымают. Тогда поминай как звали.
— На-кося, — рокотал незнакомый бас, — Вдругорядь я им не дамся.
— Словят…
— Не перепел я.
— По важному делу отрядил тебя великий князь. Как-то обернется?
Незнакомец хохотнул.
— Пущай рыщут. А Романовой грамотки им не видать.
Зихно пошевелился на лежанке, опустил на пол босые ноги. С истомой вспомнил, как стаскивала с него Евника порты, накрывала сукманицей. Застонал от обиды.
— Это кто еще у тебя в ложнице? — вдруг спросил незнакомец.
— Богомаз.
— Отколь бог принес?
— Сказывает, из Киева.
Лавка скрипнула под тяжелым телом, послышались грузные шаги. Большая волосатая рука откинула занавеску, и Зихно похолодел от страха. Прямо над ним появилось огромное лицо, обрамленное гривой давно не чесанных волос. Злые разноцветные глаза буравили богомаза. Хмель сняло как рукой.
— Ишь ты, — сказал Житобуд и опустил занавеску. Снова заскрипела лавка, за перегородкой зашептались.
— Чур, чур меня, — быстро перекрестил Зихно лоб и натянул порты.
Когда он вышел в горницу, в ней уже никого не было. «Должно, привиделось», — подумал Зихно. Но привидеться такое как могло? И мужик обличьем уж больно знаком, на Святославова сотника смахивает, коего не раз встречал в Киеве, когда трудился над фресками у Поликарпа. Никак, он и есть? «Беды бы какой не стряслось», — испугался богомаз. Однако страхи покинули его, едва только в горнице появилась Евника. Была она нынче еще краше вчерашнего. С вечера-то он ее толком не разглядел, а сейчас дивился: экая пава. И воспоминание о Злате затерялось в закоулках его памяти.
Но Евника на сей раз была строга, поджимала губы и щупать себя богомазу не позволяла.
— Ишь, лапы-то распустил, — обругала она его. — Все вы мужики — козлы двурогие.
— А я не козел, — сказал Зихно.
— Козел и есть, — она шлепнула его по сунувшейся к ее талии руке. — Меды пить все вы мастера… Ступай. Батюшка-то, поди, заждался. Ищет милого гостя.
На дворе было солнечно и ясно. На пригорке Пелей, скособочившись на костыле, лениво постукивал в подвешенное на перекладине било. Народ собирался к церкви на заутреню.
У городских ворот Зихно увидел тиуна и рослого всадника. Во всаднике признал Житобуда. «Экой зверюга», — подумал Зихно, вспомнив давешний разговор за перегородкой.
Житобуд выпрямился в седле, и свирепый взгляд его остановился на богомазе.
4
Зихно был человеком простым и долго думать об одном не мог. Скоро забыл он о Житобуде. Мысли его вернулись к Злате. Чувствовал он себя перед ней виноватым. Не постыдился бы, пал перед девушкой на колени. Да где искать девушку? «Не иначе как в божьем храме», — решил он и отправился в церковь. Заодно и с попом потолкует о деле.
Москва — город невелик. Все знают друг друга. Старушки на паперти посторонились, с любопытством разглядывая богомаза. Зашептались за его спиной.
Зихно, перекрестившись, вступил в голубой полумрак.
Еще от двери увидел он у правого придела знакомый Златин повой, но подойти не смог — тесно.
Поп Пафнутий, отекший со вчерашнего перепоя, читал тропарь, хриплый голос его едва слышно было в задних рядах молящихся. Заскучав, Зихно принялся разглядывать стены, прикидывая, где и что станет писать. Откуда свет падает, где гуще тени. Все это примечал он наметанным взглядом, но Златин повой ни на минуту не упускал из виду.
В церкви пахло лампадным маслом и потом. В густом воздухе плавали синие дымы. Люди широко крестились и клали низкие поклоны.
Зихно поглядел еще вокруг себя и вышел на улицу. Ветер обласкал его лицо, вздул рубаху; солнце поливало все вокруг щедрым светом.
У подножья заросшего травой вала копошились куры. Воротник ковырял черенком копья землю, зевал, прикрывая рот ладонью, и поглядывал на богомаза с надеждой — надоело ему сторожить пустые ворота, хорошо бы с кем отвести душу.
Зихно подошел, присел рядом на корточки, спросил:
— Тутошний?
— Знамо, — солидно отвечал воротник.
— Живете на краю. С тоски, поди, помираете?
— У нас с тоски помрешь, — усмехнулся воротник, пощипывая торчащую в разные стороны жесткую бороду.
— Да что за беда? — удивился Зихно.
— Беда не беда, а место наше бойкое. Куды ни поверни, все через Москву. Шибко любят наш город князья. Во как!..
Зихно посмотрел поверх частокола на низко бегущие серебристые облака. Клонило ко сну, но возле церкви послышались голоса, он вздрогнул и увидел толпу, спускающуюся с пригорка. Заутреня кончилась, поп Пафнутий торопливо, подняв полы рясы, перебегал улицу; совсем увядшее лицо его выражало скорбь: нижняя губа оттопырилась, щеки обвисли, бороденка пообвяла, как полежавший на солнышке березовый веник.
Зихно совсем уж было собрался его окликнуть, но так и замер с открытым ртом: по краешку улицы, по сосновым досочкам вышагивала, постукивая каблучками новых сафьяновых сапожек, Злата. Шла гордо, на богомаза не поглядывала, еще и нарочно воротила глаза на выцветшие стены изб.
Заломил Зихно шапку и — через толпу бочком, бочком; встал на дороге, улыбается, глядит на Злату и видит, как бледность растекается у нее по лицу.
Шагнула она в сторону, и он — в сторону; шагнула она в другую — и он за ней.
— Не дури, — сказала Злата, не поднимая глаз.
— А я и не дурю, — ответил богомаз и еще ближе к ней придвинулся. — Аль уговора промеж нас не было, аль за ночь разонравился?
— Уговор был, да весь вышел, — Злата покраснела так, что даже богомазу стало жарко. Пахнуло от нее будто от печи. Глаза налились слезами, да такими, что и у Зихно засвербило в носу.
— Обидел я тебя, — сказал он упавшим голосом, — да не моя в том вина. У Пафнутия засиделся, а Пафнутий на меды зол.
— Нешто сам не бражник? — впервые подняла на него чуть посветлевшие глаза Злата.
— Не казни, Златушка, вели миловать.
— Бог тебе судья.
Обошла она его стороной и — в переулочек. Постоял Зихно на улице, почесал в затылке и отправился к попу.
Степанида загородила ему дверь своим могучим телом, но из-под ее руки просунулась растрепанная голова Пафнутия, и заросший бородой рот приветливо пропищал:
— Заходи, богомаз. Попадья блины напекла. А ты, Степанида, неси-ко меду.
— Очи-то продери, — буркнула попадья, не трогаясь с места.
Поп поднатужился и плечом вытолкнул ее в сени. Зихно посторонился и вошел в избу.
Пафнутиева ряса валялась на лавке, сам поп был в холодных исподних штанах и бос; все еще вялый, но уже по-домашнему приветливый и уютный, он жмурился, как кот, потирал руки и нетерпеливо поглядывал на дверь, из-за которой вот-вот должна была появиться попадья с вожделенной ендовой.
Но Степаниды все не было, и поп, сгорая от жажды, выскочил в сени. В сенях ни души. «Что за наваждение?» — пробормотал Пафнутий и стал звать попадью. Ни звука в ответ. Во дворе попадьи тоже не было.
Поп высунулся за ворота и окликнул спускавшегося с пригорка Пелея:
— Степаниды моей не видел ли?
— Степаниды-то?
Пелей подергался на костыле, поскреб за ухом и неохотно, переходя на шепот, сказал:
— Степанида, кажись, к куме подалась.
— Как так? — удивился поп. — Я ж ее за медом послал.
— Так, может, она и за медом, — ковыряя в носу, предположил Пелей.
— Дурак ты, — сказал поп. — У меня у самого полна медуша. Дурит матушка…
Так ни с чем и вернулся к богомазу. Зихно сказал:
— Не беда. Сами нацедим, сами и выпьем. Кажи, куда за медом идти.
Сходил. Выпили. Поп принялся жаловаться на жену. Будто сам с собой разговаривал. Потом стал читать наизусть святое писание. Зихно зевнул и вышел.
Солнце уже клонилось к закату. За частоколом виднелись крытые сосновой щепой избы посада. За избами, совсем рядом, чешуйчато серебрилась река. Ветер доносил шлепанье вальков и девичьи голоса.
Теплый вечер, блестки воды, притушенные расстоянием голоса, зелень раскинувшихся за городом лесов снова встревожили богомаза, наполнили его смутным и приятным беспокойством.
Он прошел через ворота и спустился к Неглинной. Под берегом в кустах кто-то плескался. Вода расходилась по реке кругами.
Зихно раздвинул ветви и увидел девичьи оголенные плечи — Злата!.. Во рту у него сразу пересохло.
— А, вот ты где, коза-егоза, — сказал он хриплым от волнения голосом.
Злата вскрикнула и быстро прикрыла грудь сарафаном.
— Ты бы ушел, Зихно, — покорно попросила она.
— Ишь чего захотела, — осклабился богомаз и спрыгнул с берега в кусты.
Злата отскочила, схватила валявшуюся рядом толстую валежину.
— Вот те крест, убью, — только подойди, леший, — пригрозила она.
Решительный вид девушки охладил богомаза.
— Деревянная ты, — обиделся Зихно.
Злата, прячась за ветвями, быстро одевалась.
Над рекой повисла вечерняя дымка. Леса уходили в сгущающийся мрак. В логах и низинках заклубился туман.
Зихно с тоской подумал, что церковь расписывать он не будет, в Москве ему не жить и самое время утром отправляться во Владимир.
5
В ворота били чем-то тяжелым.
— Эй, хозяева!
Заспанный воротник спросил:
— А вы кто такие?
— От князя Всеволода. Отворяй, да побыстрей!
Ворота распахнулись. Кони, храпя, загрохотали копытами по новому настилу моста. Воротник отскочил в сторону, испуганно перекрестился. Подождав, пока всадники спешатся, неторопливо задвинул засовы.
Широкоплечий воин в косматой шапке, отплевываясь, стряхивал с кафтана пыль.
— Эй, дядька! — крикнул он воротнику.
— Ай-я?
— Поди сюды.
Воротник приблизился к широкоплечему, склонился подобострастно.
— Эк тебя со сна-то переворотило… Небось не ждали? — усмехнулся широкоплечий.
— Не ждали, батюшка, — с готовностью подтвердил воротник.
— Оно и видать. Обомшели вы за своими болотами.
— Обомшели, — согласился воротник.
Широкоплечий засмеялся.
— А ведь не признал, — сказал он.
Воротник близоруко пригляделся к говорившему.
— Не признал, батюшка.
— Ну и дурак. Давыдка я!
— Господи! — всплеснул руками воротник. — Ведь и впрямь Давыдка… Да что же ты за полночь-то? Аль беда какая приключилась? Аль дело какое срочное?
— У князева человека все дела срочные, — гордо сказал Давыдка и подобревшим голосом добавил: — Ты бы, Евсей, о людях моих попекся. Зело умаялись мы — сорок верст, почитай, отмахали, да все безлюдьем. А где тиун?
— Да где ж ему быть? — сказал Евсей, смелея. — С бабой на печи…
Воины засмеялись.
Давыдка сказал:
— Шутник ты, Евсей.
Держа Давыдкина коня в поводу, воротник повел приезжих к тиуновой избе. Постучал древком копья в заволоченное оконце:
— Люби-им!
Оконце открылось, из темноты высунулось заспанное лицо.
— Ну, чего тебе?
— Гости вот…
— Сладко спишь, тиун, — сказал с ехидцей Давыдка.
Борода тут же исчезла, хлопнула дверь, и Любим в исподнем выкатился на крыльцо, засуетился, униженно закудахтал. Давыдка отстранил его и вошел в избу. Вслед за ним вошли воины. От множества людей в горнице стало шумно и тесно. Евника, растрепанная, теплая со сна, в длинной рубахе до пят, суетилась среди мужиков, накрывала на стол. Тиун, бледный, растерянный, заглядывал Давыдке в глаза, ловчился, как бы ему угодить.
Воины сели к столу, стали жадно есть, чавкая и подливая себе в чары темный мед.
— Ешьте, ешьте, дорогие гости, — угощал их хозяин. Сам он старался быть под рукой — тому одно подать, тому другое, следил, чтобы полны были ендовы.
Об остальном Любим не тревожился: знал, что Евника уж подняла во дворе мужиков, что мужики кормят и поят коней, а на сене готовят воям мягкую постель.
Мед у Любима был крепок, настоян на чабере: когда надо, веселил, когда надо, клонил ко сну. И уж совсем было задремали воины, и Давыдка солово уставился на играющую только что вздутым огнем печь, как в сенях послышалась возня, недовольный голос Евники, потом упало что-то тяжелое, дверь распахнулась, и на пороге появился взъерошенный Зихно.
Любим, побагровев лицом, приподнялся уж с лавки, чтобы дать ему затрещину и выпроводить за порог, но Давыдка вскинул заплывшие веки, икнул и поманил нежданного гостя к столу.
Тогда и Любим приветливо улыбнулся и указал Зихно на лавку. Про себя выругался: «Навязал черт нечистого!» Зихно второго приглашения ждать не стал, выпил чашу, выпил вторую, а с третьей стал рассказывать про свое житье-бытье и смешить честную братию.
Всем бы давно уж пора ко сну, а тут будто и не пили, будто и не отмахали сорок верст на лошадях. Слушают богомаза, рты от удивления разинули, гогочут так, что, того и гляди, образа посыплются с божницы.
Дальше — больше, рассказал Зихно, как расписывал Печерскую лавру, как прогнал его игумен Поликарп и как добрался он до Москвы да пил меды сперва у попа Пафнутия, а потом у Любима.
Все бы ничего, да вдруг, по пьяному-то, вспомнил он про мужика, что напугал его утром: морда — во, лапищи — во.
— Стой-ка, мил человек! — закричал Давыдка совсем трезвым голосом. — А нет ли у него шрамов на щеке?
— Есть, да не один.
— И пол-уха нет?
— Нет и пол-уха.
— И глаз один — голубой, а другой — зеленый?
— И то верно, — все более изумляясь, кивал головой Зихно.
— Быку рога на сторону своротит?
— Своротит. Косая сажень в плечах. Не человек — медведь.
Затрясся тиун, а Давыдка подсел к Зихно, обнял его и ласково так, как дитю малому, говорит:
— А про грамотку тот мужик ничего не сказывал?
Поглядел Зихно, как строит тиун страшные рожи, но соврать все равно не смог:
— Сказывал и про грамотку.
— Ну, Любим, — тихо, почти шепотом, сказал Давыдка и выпрямился во весь рост.
— Ну, Любим, — повторил он, и тиун с воплем повалился ему в ноги: не казни!
Упала на колени и Евника, подползла к Давыдке, стала целовать ему руки. Княжий милостник оттолкнул ее ногой, схватил Любима за бороду, поднял на уровень своего лица.
— И ты Роману продался?!
Завопила Евника. Вои подхватили ее, выволокли за дверь.
Выдернув полбороды, Давыдка швырнул тиуна на лавку, задыхаясь, сел рядом. Отдышавшись, заговорил спокойно:
— Шел я по следу зверя, а угодил в волчье логово. Ловко.
— Пожалей ты меня, Давыдка, — отплевывая кровь, жалостливо скрипел тиун. — Бес попутал.
— А бес и распутает, — вторил ему Давыдка. — Вся-то ниточка от тебя потянется…
— Смилуйся!
— Бог смилуется.
Вошли вои. Тот, что постарше, спросил:
— Что с бабой делать, тысяцкий?
— Вяжите вместе.
Любим, ткнувшись окровавленным затылком в стену, со слезами на глазах попросил:
— Отпустите бабу. Евника за меня не ответчица.
— А это мы еще поглядим, — сказал Давыдка.
Вои вышли. Давыдка налил себе чашу меда, подумав, налил вторую. Пододвинул богомазу. Выпил, мотнул головой, зло сказал:
— Который раз я на Москве, Зихно. Казнил вот тут, за тыном, князь Михалка огнищанина Петряту, продавшегося Ростиславичам. Нынче думали — тихо. Ан нет. Как есть — змеиное гнездо…
На ранней зорьке покидал богомаз Москву. Ехал он во Владимир не по своей воле — не то гостем, не то пленником. Поп Пафнутий, напрягая близорукие глаза, крестил за ним дорогу, а Злата, прячась за избой, беззвучно рыдала, размазывая по щекам соленые слезы.
Глава четвертая
1
Глубоко в сердце запала Роману беседа с Житобудом. Посланец великого князя Святослава сделал свое дело. Почувствовав поддержку Киева, самолюбивый и желчный Роман обрадовался возможности избавиться от опеки Владимиро-Суздальского князя. Но на пути его стояли еще родные братья Всеволод и Владимир пронские. С ними сговориться будет не просто. Упрямые и своевольные, они вышли из-под власти старшего брата — Всеволод Юрьевич обещал им поддержку, и они слепо верили ему.
Роман мечтал править Рязанью сам. Печальная судьба отца, князя Глеба, кончившего дни свои в позорном плену, не научила его осторожности. Напротив, она еще больше ожесточила юного князя.
А ведь эти страшные дни еще свежи были в памяти, еще свежи были раны, нанесенные некогда могущественной Рязани. То же высокомерие правило Глебом, та же алчность толкнула его на союз с обреченными Ростиславичами — Мстиславом и Ярополком. И не Всеволод, а Глеб привел на Русь половецкие полчища; не Всеволодова дружина топтала Рязань, а половцы жгли и топтали поля под Суздалем и Боголюбовом. И кто осудит Всеволода, поднявшего меч справедливого возмездия?.. Кто?..
Реки уносят воды, время врачует боль. И уж забыл Роман, как сидел он с отцом в порубе во Владимире и как разгневанные толпы горожан требовали от Всеволода их казни. Как просили за них посланные от Святослава черниговский епископ Порфирий и игумен Ефрем и как Глеб, высокомерный в своем упрямстве, заявил, что лучше умрет в порубе, чем пойдет в изгнание. Забыл Роман, как он плакал и молил о пощаде и как смягчился Всеволод и отпустил его, взяв слово быть в полной зависимости от владимирского князя. Все забыл. А может быть, не забыл? Может быть, испытанное унижение и ожесточило его? Может быть, благородство Всеволода и вызвало его ярость?!
Подолгу сидел Роман в тереме, неподвижный, замкнутый, ушедший в свои замыслы. Гнал от себя жену, бояр не принимал, ел и пил в одиночестве.
Приученные к расточительству, к широким пирам и попойкам Глеба, бояре роптали, но молодому князю неудовольствия не выказывали, копили вражду исподволь, ждали своего часа.
В минуты внезапно налетавшего гнева Роман был безрассуден, в минуты раскаяния — молчалив и хмур. А иногда охватывала его внезапная веселость, и тогда вина лились рекой. Но и среди пира уйдет он порой в свои черные мысли, утонет хрупким телом в высоком кресле, осунется, побледнеет, только глаза горят, словно угли, — болезненным, неживым огнем.
В такие минуты под руку ему не попадись, слово не ко времени не скажи: накажет и не станет терзаться раскаяньем. Бросит в поруб, а после забудет: был человек — и нет его.
Крут, своенравен Роман. Подозрителен. Всюду мерещится ему измена. Всюду видятся подосланные Всеволодом люди.
Тишина в тереме, за слюдяными оконцами ночь. Свеча на столе оплывает белой лужицей.
Встревожил сердце Роману Житобуд, хорошую принес весть: очнулся Святослав, понял, откуда надвигается гроза. Стерегся брата своего двоюродного, Олега, опустошал земли его жестокими набегами, враждовал и с шурьями своими, Ростиславичами, а того не понимал: хоть и сел он на высокий киевский стол, а не будет ему ни сна, ни покоя, пока не смирит зарвавшегося Всеволода.
И без Романа ему тут никак не обойтись.
Вот отчего появился в Рязани Житобуд, говорил льстивые речи — за медами речей его слышал Роман надвигающуюся грозу. А кто из той грозы выйдет победителем?
Сломит ли он своевольных братьев своих, сумеет ли поставить под свои знамена?
Житобуд умел говорить, умел и уговаривать. Но прямого ответа Святославу Роман все же не дал — отправил гонца с туманными обещаниями. Хотел выждать, собраться с силами, попытаться склонить на свою сторону братьев.
Хоть и первым, но нелюбимым сыном был Роман у Глеба. С детства не знал он ни отцовской любви, ни ласки. Воспитывала его мать, но с тихими речами ее вливалась в хрупкое тело молодого князя смертельная отрава.
Льстила себя княгиня надеждой увидеть сына на княжеском столе: свое чадо, свою кровинушку. И чтобы все в нем было ее, не Глебово, чтобы имя отца, его породившего, стерлось в веках.
Может быть, оттого и предал Роман своего отца, хоть и сам Глеб, сидя во владимирском порубе, уговаривал его прикинуться смиренным. Глебу уж никто не поверит, какую бы клятву он ни дал, а Рязани младшим сыновьям не поднять.
Слишком легко согласился Роман повиниться перед Всеволодом. Не поддался лжи молодой владимирский князь. Хоть и обнимал при всех, хоть и целовал в уста. Чуял, что притаился на юге, за Мещерскими лесами, опасный соперник.
А ведь было время — почти поверил в свою клятву. Роман, поверил, что через Всеволода обретет утраченное отцовское наследие. Но вскоре понял, что и он, как младшие братья его, только стрела во Всеволодовой туле.
Усмехнулся Роман: нынче и Святославу не спится в высоком вышгородском терему. Рушится потрясенный Андреем Боголюбским извечный порядок…
Свеча сгорела, мигнул и потух синий огонек. В гриднице растекался бледный рассвет. С кухни донесся перестук ножей, в переходах послышались робкие шаги. Просыпалась челядь, принималась за свои повседневные дела.
Скоро соберутся у князя бояре, рассядутся по длинным лавкам, начнут жаловаться на беззаконие и скудость. Обнищала Рязань, разбежались ремесленники, все реже заглядывают на рязанский торг заморские и свои, русские, купцы. Перегородили Всеволодовы заставы былые торговые пути — лодии, плывущие от булгар, заворачивают на север. Редко заглядывают и южные гости — им выгоднее торговать с Владимиром.
Хорошие вести привез Роману Житобуд. Но говорить о них боярам еще рано.
Еще рано говорить и о том, что сын Андрея Боголюбского Юрий мечтает о владимирском столе. И что сладкие Житобудовы речи не пропали даром. Пылкому ли Юрию смириться с дядькиным произволом? Всем обделил его Всеволод. Держит при себе как щенка — то ласкает, то гневом распаляется. А пристало ли Юрию довольствоваться объедками с княжеского стола?..
Совсем посветлело в гриднице, путаные Романовы мысли становились стройнее. И впервые за три года проснулось в нем скрытое торжество.
2
Склонившись над мирно посапывающим Юрием, Зоря потряс его за плечо:
— Пора, княже.
Юрий пошевелился, но глаз не открыл — хотел продлить привидевшийся ему приятный сон. Во сне, обернувшись белой лебедью, явилась к нему Досада. Прозрачное шелковое покрывало струилось над ней, как облако, и сквозь это облако просвечивали колючие желтые звезды, а над головой Досады проливал свой ровный свет двурогий полумесяц. Слов молодой боярышни Юрий не запомнил, но прикосновение ее руки все еще теплилось на его щеке.
На кустах, на траве, на деревьях лежала обильная роса. В серебристом далеке, на взгорке, паслись стреноженные кони. У реки, погрузившейся в молочную белизну тумана, теплился огонек догорающего костра. У костра, словно окаменевшие, кто согнувшись, кто полулежа, грелись воины.
С малой дружиной выехал Юрий из Владимира, выехал тайно, будто вор. С утра толкаясь на улицах и на торговище, верные князю люди пустили слух, будто собрался он на охоту.
Князю Всеволоду Юрий тоже сказал:
— Выслежу лося. Не лежится на пуховой перине, душно в тереме. Глотну лесного воздуха.
Всеволод перечить ему не стал. Но, когда Юрий, трепеща от страха, предложил и ему ехать с собой, отказался.
— Не время мне сейчас. Не до охоты.
Юрий вздохнул облегченно. Теперь уж ничто не могло ему помешать в задуманном. Кликнул выжлятников и сокольничих, велел посытнее накормить собак.
Вечером простился за Лыбедью с Досадой — целовал и обнимал ее горячо, будто навеки прощался, а ехал-то всего на четыре дня. Но от Досады не скрылось его беспокойство: супротив булгар уходил — улыбался, а тут глаза печаль заволокла, в уголках трепетных губ пролегли горькие складки.
— Неладно с тобой, князюшко. Не ездил бы на охоту. Томит меня предчувствие — к беде это.
Рассмеялся Юрий, поцеловал ее в одну и в другую щеку:
— Все это бабья дурь. Вам бы век мужика держать подле своего подола.
Сел на коня. Помахал рукой. Ускакал. Но в пути был хмур, с удивлением думал о Досаде: и отколь в ней бесовская прозорливость?.. Ведь не поверила же, что спешит на охоту, по глазам, что ли, прочла?..
…Поднятые Зорей воины седлали коней, проверяли снаряжение, шепотом переговаривались друг с другом, боясь спугнуть устоявшуюся ночную тишину. Но ночь уже уползала в ложбинки, а по вершинам деревьев растекались желтые и розовые блики, предвещая скорый восход солнца.
Прямо над князем хрустнул сучок, и на плечо ему упала золотистая еловая шишка. Князь вздрогнул, запрокинул голову и увидел среди иголок белку. Юркий зверек замер, вцепившись лапками в ствол: пышный рыжий хвост, маленькие черные точечки любопытно уставившихся на Юрия глаз.
— Ишь ты, — сказал князь добродушно. — Глянь-ко, совсем не боится.
Зоря с улыбкой на обветренном лице бросил в зверька шишку — белка метнулась вверх по стволу, перемахнула на соседнюю лесину и скоро скрылась из глаз.
Нечаянное происшествие развеселило князя, смыло с сердца накопившуюся за ночь тревогу. Да и разгорающееся утро обещало хороший день, и настроение постепенно улучшилось. То, что с вечера еще казалось безнадежным, теперь вселяло уверенность. Угрожающие тени отступили в глубь леса, навстречу всадникам раскрылись солнечные поляночки, окруженные подернутыми желтизной березками, за речками расступились осенние дали, навевающие прохладу и птичий запоздалый стрекот.
Воины тоже повеселели, заулыбались, жмурясь от бьющего в глаза еще жаркого солнца. Послышались смех и шутки, голоса становились все громче и громче.
Смешно таиться князю на своей земле. На своей земле он хозяин. А хозяин сам себе и закон, и суд, и расправа.
Никто не даровал Юрию ни деревень, ни пажитей, ни лесов; нигде не ставил он свои знамена. И не требовал мелких подачек — жил, как живется, потому что по древнему праву, как ни поверни, каких крючков ни придумай, а все на этой земле принадлежит ему. Андреев сын он, а не холоп и не рядович. А уж почто обделили — с дядьев строгий спрос…
Решимостью преисполнился Юрий — надоело ходить в весельчаках да балагурах: что, мол, с простачка за спрос, какая за ним сила?.. И Житобуд, встретившийся с ним за Черным погостом, хоть и не своими говорил словами, а был прав. Поможет Юрий Роману укрепиться на рязанском столе — Роман поможет ему добыть стол владимирский. И Святослав им поможет, у Святослава свои задумки.
Юрий взмахнул плетью, шибче погнал коня. Каурый вздрогнул, пошел рысью, кося на седока удивленный глаз. Из-под копыт его прыснул в густую траву заяц, помчался через кусты, оставляя на ветках клочки неопрятной шерсти. Юрий заулюлюкал, озорно повел коня через мелколесье, но косой затаился обочь дороги, и во второй раз спугнуть его не удалось.
Не может жить молодой князь в покое, жаждет схватки. Размеренная жизнь во Владимире — с церковными службами, с боярскими советами и чинными пирами — ему не по нутру. Любит он озорные гульбища, гусляров, скоморохов, любит скакать на коне за уходящим лосем, меткой стрелой разить в поднебесье птицу. Любит веселую соколиную охоту и сладкое вино…
Скрытный Роман, с худым лицом, с утопленными под надбровными дугами глазами, с презрительно опущенными уголками губ, с размеренными речами, пересыпанными постными наставлениями великомученников, в товарищи ему не годился.
Но не на игры собирались князья. Собирались князья на смертный бой. И Святослав с высокой киевской Горы отечески благословил их.
Сейчас князья встретятся. Еще три версты осталось проскакать Юрию — спуститься к речке Буже, подняться на взлобок крутого берега, где пересеклись две дороги, одна из которых ведет на Владимир, другая — на Рязань, а на перекрестке дорог высится вымытый дождями, сожженный солнцем, продутый ветрами старый деревянный крест.
Роман уж устал вглядываться в противоположный берег, вдоль которого тянется полоса соснового леса, ноги онемели, руки измочалили крученый поясок.
Зря волнуется Роман — Юрий совсем недалеко. Еще один перелесок осталось ему проскакать, еще один поворот — и вот он на виду у всех. Каурый конь, екая селезенкой, бочком спускается к реке, за ним торопятся дружинники. Воды коню по брюхо, ноги князя, обутые в дорогие сафьяновые сапоги, захлестнула мутная волна, но он глядит только вперед, на медленно приближающийся берег.
Давно не виделись Роман и Юрий — с того злополучного дня, когда, разбив Глеба на Колокше, Всеволод заточил отца и сына в свой поруб.
Позорное это было время, и вспоминать о нем никому из них не хотелось. Хотя, если вдуматься, все с того и пошло. И дорожки, приведшие их сегодня к этому деревянному кресту со зловещей вороной на макушке, начинались не в Рязани и не во Владимире, а все там же на Колокше, где полегла последняя Мстиславова рать и отборное Глебово войско.
— Здравствуй, брат, — приложив руку к сердцу, поклонился Роман Юрию.
— Здравствуй, брат, — отвечал поклоном на поклон юный князь.
— Не утомила ли тебя дорога?
— Дорога долгая, всем полна.
— И то верно: нет крепкой руки, нет и мира на земле.
И, сверля Юрия взглядом, скромно добавил:
— Прошу в мой шатер отдохнуть. Почетному гостю кругом почет.
Юрий спрыгнул с коня, бросил поводья Зоре. Размашистым шагом направился между горящих по всему берегу костров к лазоревому Романову шатру, разбитому на самой вершине холма.
Не обманул Роман, и вправду не поскупился: Юрия встречал со всею щедростью. На длинном столе, только что сбитом из смолистых сосновых кругляшей и досок и накрытом богатой серебристой бархатной скатертью, стояли блюда с жареными гусями и лебедями, со стерлядью и соблазнительно подрумяненными кусками мяса, между блюд высились братины, а по углам шатра стояли бочки с медом и винами.
Пир предстоял на славу, и, зная сдержанность Романа, Юрий сразу дал себе строгий зарок: лишнего не пить, а еще меньше говорить. Больше слушать и налегать на еду. Благо, поесть было чего и у молодого князя уже заурчало в животе.
Роман широким жестом пригласил Юрия занять место на застланной ковровым покрывалом лавке, сам сел рядом и, разлив по чарам вино, сразу приступил к делу.
— Капля по капле — дождь, дождь реки поит, реками море стоит, — сказал он, кривя тонкогубый рот. — Ехал сюда, знал зачем. Будем думать думу вдвоем.
Трудно Юрию пересилить неприязнь к Роману, трудно, улыбаясь, сговариваться против дядьки своего. Совсем не к месту вспомнил он вдруг, как выручил его Всеволод в битве под Юрьевом, когда насели на него, совсем еще юного, освирепевшие Мстиславовы копейщики.
Роман говорил тихо, тонкими костлявыми пальцами перебирал кудрявую бородку, глубокими складками морщил лоб. А глаза, остановившиеся, как у гадюки, смотрели на Юрия в упор, и чувствовал Юрий, что цепенеет в нем все под Романовым неподвижным взглядом и губы сами повторяют за Романом сказанное:
— С нами Святослав. За Святославом Гора. За Горой — земля русская. Вздохнем всем миром — ветер подымется. Доколе же нам оглядываться на Всеволода?
Хоть и дал себе Юрий зарок, но перед Романовыми сладкими винами не устоял; хмелея, хвастался победами своими над булгарами.
— Смелость силе воевода, — хрипло шептал ему на ухо Роман. — А не выдюжишь, охнешь козлячьим сердцем, тут тебе и конец. Не то что княжества — худого удела не выпросишь. Да и пристало ли просить сыну Андрея Боголюбского?!
И еще говорил Роман:
— Свое даришь. Чужого не берешь. Никто тебя не осудит…
Недобрым сном забылся в Романовом шатре Юрий. Радости не было, не было и печали — была пустота. О многом говорили в тот вечер, а чего-то главного ни он, ни Роман не сказали. Чего?..
«Чего не сказали-то?» — думал Юрий по дороге во Владимир, прикасаясь дрожащей ладонью к рагоряченному лбу. Но мысли не шли дальше вопроса, они ворочались медленно, как колеса застрявшей в суглинке телеги.
И росный зеленый рассвет уж не радовал его, как накануне.
3
С недавних пор на княжеский двор во Владимире все больше и больше стекалось люда со всей Руси. Послы из Новгорода, Чернигова, Смоленска, Галича, Новгорода-Северского сидели в сенях, с любопытством оглядывая друг друга, — все со своими делами, со своими заботами. Ждали князя. Советовались. Просили помощи. Нашептывали друг на друга.
В далеком Галиче своевольные бояре во главе с Константином Серославичем жаловались на Ярослава Осмомысла. Привел-де он к себе на княжеский двор худородную любовницу Настасью, а законную жену, сестру Всеволодову Ольгу, с сыном Владимиром изгнал в Польшу. А у Настасьи народился сын Олег. И, совсем помутившись разумом, грозится Ярослав посадить после себя на галицкий стол не законного сына, а прижитого от любовницы. Гоже ли это? Стерпит ли суздальский князь, чтобы сестра его кончала дни свои в позоре и изгнании?..
Но у Всеволода свои заботы. Нынче Галичем заниматься рановато. Под боком зреет смута. Никак не свыкнутся строптивые князья с его победой, мутит воду в Волхове вольнолюбивый Новгород, зреет заговор в Рязани, Святослав тянет руки к северным землям, а с востока, с Волги, угрожают Владимирскому княжеству булгары.
Оставив нового своего меченошу Кузьму Ратьшича (Карпуша занемог, простудившись на охоте) забавлять послов, прихватив с собой вертлявого тиуна полубулгарина-полурусского Гюрю и молодого боярина Михаила Борисовича, ускакал Всеволод за Клязьму, в тихую пойму, где на отлогом берегу под столетними дубами давно уже облюбовал себе укромное местечко и повелел срубить избу. В избе этой, просторной и прохладной, не было ни ковров, ни серебряных светильников, ни окон с разноцветными стеклами — ветер свободно гулял в четырех стенах, и только в углу под лампадой высвечивалось темное лицо Христа, писанное на кипарисовой доске. Стол и лавки в избе были добротные, из толстых досок и на толстых ножках, да еще в погребе, вырытом чуть в стороне, хранилось старое вино.
Никто не смел беспокоить Всеволода в его убежище. Даже Мария ни разу не бывала здесь, и только любимец его, племянник Юрий, мог нарушить суровое одиночество.
Уже несколько дней Всеволода мучили сомнения. Не то чтобы вещие сны. Не то чтобы доносы доводчиков. Просто плохо спалось ему по ночам, под половицами скреблись мыши, а мысли текли свободно в не нарушаемой голосами, не тронутой льстивыми и обманчивыми речами тиши. То, что забывалось в темноте и вдруг испугало его своей прозрачной ясностью и простотой.
Они договорились. Князь Юрий ждал его. Уже издалека, из низинки, Всеволод увидел привязанного к дубу коня под высоким кожаным седлом.
Синее корзно Юрия было брошено на лавку. Вытянув ноги в запыленных сапогах, положив перед собой на столешницу длинные руки в перстнях на узких длинных пальцах, молодой князь сидел тихо, смотря на Всеволода глубоко утопленными в тени глазниц беспокойными глазами. Худое, напряженное лицо его было бледным, узкий рот в обрамлении редкой бороды страдальчески искривлен.
Всеволод стремительно вошел, обнял приподнявшегося Юрия за плечи, сел напротив — колени в колени, — долго, внимательно разглядывал его: молчалив, скорбен. Или озлоблен?
Всеволод был терпелив. Рука потянулась к бородке. Пальцы дрогнули, сжались в кулак, подперли щеку.
— Донесли мне, — хрипло сказал он, слушая собственный голос издалека. — Донесли мне, будто старый Святослав снова шлет гонцов к Роману.
Юрий безмолвствовал. Всеволод продолжал раздраженно:
— Задуманному не бывать. Совсем обезумел Роман. Послов моих держит по три дня на подворье. А велика ли ему от того польза?
— Роман — сам себе голова, — неохотно отозвался Юрий.
Всеволод вскинул бровь, провел пальцами по усам.
— За глупой головою и ногам плохо, — глухо сказал он. — Неужто Глебова участь не прибавила ему ума?
— В чужую дудку не наиграешься.
— Да дудка чья?
— Твоя, ведомо.
Всеволод откинулся на лавке, усмехнулся, прикрыл веками глаза. Сидел молча, не шевелясь. Не шевелился и Юрий, судорожно думал: «Осторожен, осторожен и коварен». И вдруг поймал себя на страшном: «Неужто обо всем пронюхал? Зачем звал? Почто разговор завел о Романе?»
Но, когда Всеволод открыл глаза, страх прошел: такая в них была ясность, такая чистота, что Юрий и сам невольно просветлел лицом.
Всеволод заговорил о наболевшем: о кознях князей, о недоверии бояр, о племяннице Пребране, томящейся в Новгороде под присмотром своевольного посадника и Святославовых соглядатаев.
«Зачем ему это?» — подумал Юрий. И снова всколыхнулась в нем невысказанная обида: захватил отцовский стол, а сыну жалуется на тех, кто на стороне извечного закона. Нет, Всеволоду он не советчик.
Разговор не клеился. Всеволод, чувствуя это, перекинулся на другое. Стал расспрашивать Юрия, удачной ли была последняя охота.
— Выследил двух лосей, — сказал Юрий, отодвигая лицо еще дальше в тень, Всеволодовы глаза смущали и пугали его. Он вдруг почувствовал во всем теле унизительную слабость.
— Нынче же велю Давыдке готовиться к встрече гостей в Заборье, — проговорил Всеволод. — Засиделись бояре, скисли.
Юрий молчал.
— Так что же с Романом? — серчая на него за безучастность, вернулся к разговору Всеволод.
— Ты князь, тебе и решать, — сказал Юрий.
Всеволод встал. Встал и Юрий. Они были почти одного роста — оба стройные, смуглые, светловолосые.
Предчувствие не обмануло Всеволода. Погоняя коня, оставив далеко позади себя сопровождавших его воинов, он с болью вспоминал отрешенные глаза молодого князя.
Всюду враги. Святослав и Роман не в счет — клятвам их он никогда не верил. А нынче утром Кузьма Ратьшич намекнул, что-де и Давыдка спелся с Кочкарем, Святославовым прихвостнем. Глядит пес, где кусок поболе да посытнее. Но так ли это?.. А что, как нарочно выпустил он Житобуда? Что, как прельстился, поверил в несбыточное: соберутся-де князья, а с ними Святослав, спихнут Всеволода, посадят Юрия, заведут старые порядки — тогда опять Давыдка в почете?..
Всеволод стиснул зубы, резко стегнул коня. Вороной вздрогнул, заржал, рванулся в зеленый простор, ветер сорвал со Всеволода шапку, но он и не оглянулся. Снова стегнул коня, еще и еще.
Пропуская князя, мужики на мосту шарахнулись к перилам, чей-то воз накренился набок, испуганно вскрикнула баба.
Быстрым шагом миновав наполненные боярами сени, Всеволод прошел в ложницу.
Окружавшие Марию девки, побледнев, выбежали. Всеволод опустился на колени и ткнулся головой в ласковые руки жены.
В сакле с глинобитными полами, где она выросла, всегда теплился добрый старый очаг, во дворе, нависшем над рекой, цвели розы, внизу, под скалами, бил прохладный родник в оправленной камнями овальной чаше. По утрам женщины приходили сюда за водой, наполняли глиняные кувшины с узкими горлышками и несли их, придерживая одной рукой на плече, в гору.
В Асских горах были храбрые мужчины и красивые женщины. Мужчины отправлялись в набеги, женщины рожали детей и поддерживали в очаге огонь. Иногда из долин приходили дурные вести, тревожные слухи катились от аула к аулу, а иногда появлялись беженцы — худые, изможденные люди с нехитрым скарбом на повозках с высокими колесами. Они разбивали на склонах гор шатры, готовили над кострами еду, и их чумазые ребятишки наполняли окрестности неумолчным гомоном и пронзительными криками.
Люди приходили и уходили. И когда они уходили, в ауле снова устанавливалась дремотная тишина. Мужчины поднимались в горы, били коз и оленей, женщины доили коров, ткали ковры и растили детей.
У жизни этой не было начала и, казалось, не будет конца. Но весть о конце ее принесла взмыленная кобылица, ворвавшаяся однажды вечером на княжеский двор. Огромный человек с лохматой русой бородой и воспаленными от солнца глазами раскладывал перед князем, отцом Марии, лисьи меха, дул на шкурки, рассыпал на ковре серебряные арабские диргемы.
Потом шумный караван вез Марию через половецкие степи, в пыли и горячем мареве, по желтой, потрескавшейся от жажды земле, вез по заросшим горьким ковылем балкам, по высокой, в человеческий рост, траве, по перелескам и лесам, — вез туда, где однажды, в предзакатный час, явился на горе сказочный белокаменный город, в котором ей отныне предстояло жить…
Во Владимире Мария не чувствовала себя чужестранкой. Она была добра и отзывчива — люди тянулись к ней; она была умна — и Всеволод поверял ей свои думы. Мария одаривала монастыри и привечала калек и нищих. Доброе сердце ее пленилось красотой лесов и широких рек, она быстро выучила русский язык и вечерами, оставшись одна, любила петь грустные простые песни. С тех пор как она появилась во Владимире, на княжеском дворе всегда тесно было от гусляров и скоморохов.
Среди боярышень, окружавших Марию, больше других нравилась ей Досада. От нее узнала она о причудливых русских праздниках и обычаях, иногда, переодевшись в простое домотканое платье, бегала с ней на девишники. Но остаться неузнанной Мария не могла: где бы ни появилась она, ее узнавали. Да и как спрячешь большие черные очи, обрамленные пушистыми бровями, смуглые щеки с пробивающимся сквозь несмываемый загар румянцем, открытую улыбку, обнажающую ровный ряд белоснежных зубов.
Досада поверяла ей сердечные тайны, жаловалась, что отец надумал выдать ее за немилого. Хоть и парень он видный, но любит она другого.
— Кого же это, Досадушка? — выспрашивала ее Мария.
Но девушка, потупясь, молчала.
— Уж не из холопов ли он?
— Нет.
— Из худых бояр?
— Не угадала, княгинюшка, — отвечала Досада, робея под лукавым взглядом Марии.
— Никак, князь? — всплеснула Мария руками, и у самой заколыхнуло сердце. Из князей-то на Владимире только двое: Всеволод да Юрий.
— Чего уж таиться, — гладила она Досаду по плечу. — Сама, почитай, все сказала…
Бросилась Досада ей на грудь, залилась слезами.
— А плачешь-то почто? — удивилась Мария.
— Люб он мне.
— А люб — так любитесь.
Досада еще пуще в слезы. Растерялась Мария, ума не приложит, как успокоить девушку. Повела к себе в ложницу, усадила на лавку, стала ворковать над ней, подшучивать над непутевыми мужиками — нет, мол, у них никакого понятия: за пирами, да за охотой счастья своего под боком не видят.
— Одно сердце страдает, а другое про то не знает, — сказала Мария.
— О чем ты? — удивилась Досада.
— Да все о том же, о твоем милом.
Тут уж Досада и вовсе умылась слезами.
— Знает он про все, да вдруг позабыл.
— Никак, разлюбил?
— Разлюбить не разлюбил, а взяла его в полон злая кручина. Ходит сам не свой, бормочет что-то, а что — не поймешь.
Задумалась Мария — такого с ней еще не бывало. Случалось, и раньше поверяли ей девушки свои тайны. И всегда находилось для каждой из них сердечное слово, а тут никак не успокоить Досаду: накопилась в ней боль, жжет каленым железом. Не подступиться.
Допоздна засиделась с ней Мария в ложнице, рассказывала об Асских горах, об отце своем, похитившем горянку, ставшую впоследствии его женой, а ее матерью. Все бы ничего, да осерчал на него половецкий хан, дочь которого прочили ему в жены, двинулся с горы с войском, пожег лежащие в долине села, и только богатыми дарами удалось откупиться от большой беды.
Ушла Досада, а примирилась ли со своей кручиной, про то не сказала.
Терпению учил Марию отец, терпению учили ее горы. Терпелив был народ, среди которого она выросла.
Всеволод был горяч и порывист. Она узнавала его шаги издалека — легкие и стремительные. По походке догадывалась: с доброй идет вестью или с худой. Худая весть омрачала его, глаза становились белыми, как у слепца; добрая весть — озаряла.
Мария научилась понимать мужа с полуслова. Скажет что-нибудь, а она договаривает, подумает только, а она уже все знает наперед.
— Ну и ведьма же ты у меня, — с мягкой улыбкой говорил ей князь.
Иногда сердился, забивался в угол, сидел на лавке молча, подобрав под себя ноги. Мария не беспокоила его, ходила неслышно, разговорами не донимала: посидит, выгорит изнутри, крепче станет. И верно — не раз и не два уходил от нее Всеволод с верным решением. А ведь только что казалось: нет пути ни вперед, ни назад — все рушится разом.
Но с каждым днем все тверже становился Всеволод. Все жестче делался взгляд, все острее выдавались похудевшие скулы.
И только ночами, прижимаясь к выпирающему животу Марии и чувствуя, как бьется в глубине его маленькое упрямое существо, он добрел и ласково гладил податливые смуглые плечи жены.
Глава пятая
1
Порывистый ветер гнал вдоль дороги рассыпчатую дождевую пыль. Колеса возов проваливались в наполненную водой колею; подставляя под телеги шесты, мужики, матерясь, вытаскивали их из грязи, возницы кричали и били сыромятными кнутами по исхудалым задам истощенных лошадей. Обложенное тучами небо опустилось почти на самые вершины деревьев, повисло на них длинными серыми космами.
Последняя деревушка, в которой можно было заночевать, осталась далеко позади, впереди чернел гулкий и неприступный лес, а дождю не видно было конца.
Кутаясь в отяжелевшую от сырости однорядку, торговый гость Ярун сидел на переднем возу и едва сдерживал сотрясающий все тело пронзительный озноб. Голова горела, в висках стучали звонкие молоточки, безвольные руки едва удерживали вожжи. Время от времени Ярун прикладывался к сулее с медом, стуча зубами, делал несколько глотков, но легче от этого становилось ненадолго.
«Зря, зря не заночевали в деревне», — корил себя Ярун. Отогревался бы он на печи, лошади были бы сыты, да и за товар был бы спокоен. Уж не первый год он в пути, случалось всякое, а вот умишком не разжился. Всегда вот так: поспешишь, понадеешься на удачу, а после кусаешь локти от раскаянья.
Три года минуло с той поры, как возвратился он от Дышучего моря, три года собирал обоз, чтобы ехать к немцам — не доверяли ему прижимистые купцы, не верили, что, единожды разорившись, сможет он снова встать на ноги. А вот встал же, с прибытком обменял меха и подсчитывал куны, прикидывал, когда и с кем сквитается в первую очередь, с кем — во вторую, — на то он и купец, чтобы не только торговать, но и выгодно вести дело. Через год, через два, рассуждал Ярун, поведет он торговлю широко — еще позавидуют ему кончане, еще придут, поклонятся в ножки.
Купецкое счастье переменчиво — кому как не Яруну это знать. Но без риска в путь лучше не пускаться, без риска не отложишь и ногаты, все пустишь по ветру.
Хорошо поторговал Ярун, немцы знали цену товару. Если проторить к ним дорожку, всем на пользу: и господину Великому Новгороду, и Яруну.
Но дождь испортил хорошее настроение. А еще пуще извела Яруна огневица. И где только он ее подхватил? Уж не на переправе ли, когда пришлось залезать в воду и вытаскивать завязшие на броде возы? Тогда тоже недосуг было обсохнуть у костра, понадеялся на бога. А ведь присказка давно одна: на бога надейся, да сам не плошай. Оплошал Ярун. И деревеньки той, которую проехали не останавливаясь, тоже крепко пожалел.
Ярун еще отхлебнул из сулеи крепкого меду и вдруг увидел мелькнувшую среди деревьев скособочившуюся тень.
— Тпр-ру! — крикнул он, и возы остановились. Мужики соскочили на землю, засуетились, гадая, что за беда стряслась.
— Никак, изба? — подбежал к Яруну растерянный мужичонка.
— Вот и я гляжу, — сказал Ярун, — а ну-ка, поворачивай кобылу. Да тут, кажись, и колея проложена. Как есть деревня.
Миновав сосновый подлесок, возы выехали на поляну, огороженную плетнем. За плетнем стояли три избы: две рядышком, одна с краю.
Ярун направился в крайнюю избу, постучал в двери. С той стороны боязно зашушукались.
— Свои, свои, — добродушно сказал он. — Вон возы уж завели во двор. Не пустите ли переночевать?
Дверь отворил мужик — в исподнем, белый. Борода тоже белая, череп лысый, даже в ночи блестит.
— А пугливые вы, — сказал Ярун, входя в избу и стряхивая на пороге прилипшие к однорядке капли дождя.
Мужик усмехнулся и покачал головой.
— Будешь пугливым, — сказал он, — коли чудь гостевать наладилась. Что ни заезд — то овца, что ни другой — коровенка.
— Скоро, почитай, всех по миру пустят, — послышался из избы надтреснутый голос.
Попривыкнув к темноте, Ярун разглядел бледное, будто мелом вымазанное лицо, старушонки в треугольнике черного платка.
— Не то помер кто? — с сочувствием спросил Ярун.
— Сынка на той неделе схоронили, — сказал мужик безучастным голосом. Старушонка вздохнула и тонкой, высохшей до кости, рукой поправила сбившийся на глаза плат.
— Чудины его и пришибли, — пояснил мужичонка. Видать, давно ему не доводилось беседовать с людьми — в этакой-то лесной глухомани и вовсе шерстью обрастешь, пойдешь бродить по уремам, как бездомный медведь.
— Чудины, говоришь? — переспросил Ярун.
Последний поход новгородского князя Мстислава в Чудскую землю, закончившийся полной победой новгородцев, надолго отбил у чуди охоту зорить беззащитные окраины. Значит, снова взялись за прежнее?.. Нет купцу раздолья на Русской земле: на юг подашься — грабят половцы, стерегут на Днепровских порогах; на востоке растаскивают товар булгары, на западе — чудские князьки, да и шведы не прочь побаловать на больших дорогах… Нет единой крепкой руки, чтобы возвести дороги, оградить купцов от опасностей. Где торговля, там и богатство, а где богатство, там и мир. Вон как подымается Владимир, а все потому, что крепит Всеволод рубежи, грабить и обижать купцов своих никому не позволяет…
Постучав кресалом, мужик запалил подвешенную над кадушкой сухую лучину.
Ярун снял тяжелую от дождя однорядку, расстегнув рубаху, сел на лавку. Хозяйка, причитая, поднялась со своего места в углу, выгребла из печи остывшие угольки. Хозяин принес со двора охапку дров. От лучины зажег щепу, дуя на робкий огонек, дождался, пока в печи не заиграло пламя. Длинный красный язычок охватил березовую кору, едкий дым, расползаясь в стороны, наполнил избу, потек в срубленный из черных досок дымник.
В избе потеплело. Вытянув затекшие ноги, Ярун в приятной дреме чувствовал, как покидает его озноб, как разливается по всему телу ожившая кровь.
В котле, булькая, закипела вода; хозяйка, опершись об ухват, смотрела в раскаленный зев печи, жадно вдыхала запах вареной репы; хозяин сидел на лавке напротив Яруна, положив перед собой сжатые в кулаки большие руки.
Ярун рассматривал его продолговатое лицо с угловатым лбом, с родинкой над бровью, с глубокими морщинами, с топорщившимися в стороны жесткими усами. Глаза у мужика были умные и настороженные — казалось, в них застыло извечное ожидание. И еще был страх. Не мгновенный испуг, не страх перед неведомым, а страх, ставший частью его существа, — как эти лежащие на столе руки, как покатые плечи, согнутая спина, кривящиеся губы.
За дверью похрапывали кони, ветер забрасывал в щели мелкие брызги, на глиняном полу избы растекались грязные лужи.
Вдруг хозяин встрепенулся, голова его вскинулась — он словно услышал что-то, еще не долетевшее до уха Яруна. Хозяйка тоже отвернулась от печи и уставилась на дверь.
Кони заржали, кто-то выругался, порыв ветра распахнул дверь, чуть не сорвав ее с петель, поток воды выплеснулся на пол, — на пороге в мокрой, прилипшей к голому телу рубахе появился парень с желтыми, как солома, волосами, с раскрытым ртом, из которого вместе с частым дыханием вырывались слова, смысл которых не сразу дошел до Яруна.
Хозяйка по-заячьи жалко вскрикнула, хозяин схватил валявшийся на лавке треух, напялил его зачем-то на голову, потом снова снял и бросился в угол сгребать в кучу грязное тряпье. Наконец он беспомощно опустился на лавку, и Ярун увидел в дрожащем свете лучины, как по щекам его пробороздили светлую дорожку две слезы.
Яруна снова бросило в жар, озноб усилился, голова наполнилась нестерпимым жаром. Он поднялся и, шатаясь, вышел во двор.
Мужики суетились и запрягали лошадей. Кто-то пробежал рядом, толкнув Яруна в бок, отскочил в сторону, выругался.
Кричали все.
— Чудь!.. Чудь пожгла соседний починок…
Откуда-то из темноты появился тот самый, заходивший в избу, рыжий парень и, хватая Яруна дрожащей рукой за плечо, показывал ему на лес. Ярун вырвался, спеша воротился в избу, стал звать хозяев. Лучина погасла, в избе было темно — никто не отозвался на его крик. Он выскочил во двор.
Рыжий парень уже стоял, расставив на переднем возу ноги, и размахивал кнутом. Кони, напрягаясь, силились вытащить воз из колдобины, хрипели, рвали постромки. Парень спрыгнул, подставил под задок телеги плечо, Ярун стал ему помогать.
— Э-гей, милые! — кричал парень. Кони взялись разом, телега выскочила на дорогу, Ярун поскользнулся и упал. Тотчас же чьи-то руки подхватили его. Сознание мутилось. Ярун еще слышал, как его укладывали на солому, как встряхивало телегу, когда колеса перекатывались через корневища деревьев, отметил затухающим сознанием, что обоз втягивается в лес, и ушел во тьму…
2
На рассвете Яруну стало лучше. Он проснулся на соломе под заботливо подоткнутой шубой. Возле телеги паслась распряженная лошадь. Дождь перестал. От лужайки, от мокрых листьев поднимались испарения.
Ярун скинул с себя шубу, сел и огляделся. Минувший вечер и вся прошедшая в забытьи ночь вспоминались ему теперь как недобрый и жуткий сон.
Но обоз стоял в лесу, мужики, кутаясь в кафтаны, перешептывались друг с другом, вглядываясь в редкие просветы между обступившими поляну деревьями, с тревогой оборачивались на позвякивающих сбруей лошадей — и то давнишнее снова подняло в груди Яруна изнуряющий озноб. Он сполз с телеги и подошел к обозчикам.
Мужики почтительно расступились, и один из них, не произнося ни слова, повернул голову в ту сторону, где над лесом блеклой полоской занимался рассвет. Ярун тоже поглядел поверх деревьев и увидел густое облако, сносимое в сторону уже затихающим ветерком. Потянуло гарью.
— Жгут. Все жгут по пути, проклятые, — сказал знакомый голос. И Ярун повернулся к говорившему — это был все тот же знакомый ему парень с желтыми, как пересохшая солома, волосами. Его шальные глаза были красны, и рот перекошенно и вымученно улыбался.
Ярун вспомнил, как они вместе вытаскивали засевшую в грязи телегу.
За кустами, на разбухшей от дождей дороге, послышалось чмоканье множества копыт, неразборчивые голоса. Парень, открыв рот, юркнул под телегу, мужики подобрались, вытаскивая из-за поясов топоры.
Но невидимый за деревьями отряд проехал, голоса удалились, и в лесу снова установилась тишина. Смущенно хихикая, парень вылез из-под телеги, мужики облегчённо заулыбались. Ярун велел запрягать лошадей: путь им предстоял долгий, а он еще хотел заглянуть в деревеньку, где были ночью.
Из лесу выбирались со всеми предосторожностями, выслав впереди себя дозор. Желтоволосый парень, сидя в одном возке с Яруном, поминутно дергался, приподнимался и вглядывался в размешанную дорожную колею. Много коней прошло по дороге, много проехало всадников. А что там, за логом, где прилепились на косогоре избы? Побывали ли в ней непрошеные гости?..
Запах гари становился все сильнее. И когда обоз спустился в лог, а потом по петляющей дороге поднялся на пригорок, глазам предстало жалкое пепелище. Все избы сгорели дотла. Кое-где еще вились над головнями сизые ядовитые дымки, кое-где теплились в золе неостывшие угли, да три глинобитные печи уродливо высились среди сожженной, истоптанной, испоганенной конским навозом земли. На сосне покачивалось какое-то тряпье, но, когда возы подъехали ближе, Ярун понял, что это не тряпье, а человек и что у человека синее лицо, вздувшиеся на шее вены, перекошенный рот и закатившиеся глаза, — в нем он сразу признал хозяина избы, в которую они заходили.
За поваленным плетнем кто-то копошился в золе. Ярун спрыгнул с воза и приблизился. Какая-то баба копалась в подернутой золой куче, что-то выгребала и бережно складывала в холщовую латаную суму. Ярун окликнул ее — и увидел устремленные на него безумные глаза.
Ветер прошелестел по лесу, поднял на пепелище черную метель. Баба выпрямилась, вскинула суму на спину и побрела к косогору, где на обуглившемся столбе висел закопченный горшок.
Ярун проводил взглядом ее согбенную фигуру, снял шапку, перекрестился и, возвратясь к возам, велел мужикам сворачивать в сторону.
Ехали молча. Прибившийся к ним в деревне парень назвался Химой. Был он немногословен, из пророненных им нескольких слов Ярун понял, что он кузнец, но кузню его разорили, дом спалили дотла, да и его самого едва не лишили жизни, но он спасся, уйдя от пожогщиков огородами.
Верст через тридцать должна была появиться еще одна деревушка, и мужики удивились, услышав еще на опушке леса мирный крик петуха.
Каким-то чудом нападавшие миновали эту деревню, потому что, как догадался Хима, подались жечь монастырь, но монастырь им не сжечь, потому что там крепкие стены и много монахов, умеющих держать в руках не только четки, но и мечи. В прошлый набег чудь ушла из-под его стен с великим уроном.
В деревне купцам обрадовались, хотя какая от них помощь? Сами они дрожат за свой товар, а защититься нечем. Но у мужиков, прибывших с обозом, были решительные лица.
Каждый норовил заполучить их на свой двор, хозяйки зазывно улыбались, мужики сдержанно кланялись и приглашали всяк к себе.
В деревне было пять дворов, все разместились по-княжески. Люди были накормлены и напоены, и впервые за много дней опасного пути отоспались на теплых лежанках.
Заутра Ярун едва добудился попутчиков. Химу они так и не нашли и дожидаться его не стали: какой-то старичок сказал, что прибился он к чужому двору и дальше пути ему нет.
Мужики распрощались с гостеприимными хозяевами, и обоз тронулся.
Через неделю Ярун был уже во Пскове, а еще через три дня в Новгороде. Товар свезли на купецкое подворье, отслужили молебен за счастливое окончание пути и поспешили по домам.
Одному только Яруну спешить было некуда. Хозяйки у него дома не было, и в избе никто его не ждал, да и была она не топлена и неуютна, населена мышами и тараканами. Даже кошки не мог завести себе Ярун, потому что кто приглядит за ней в его отсутствие? А жизнь купца — вся на колесах: сегодня здесь, завтра там. Сегодня жив, завтра косточки твои высушивает степной разбойный ветер.
Но лучшей доли себе Ярун не искал. Манили его неизведанные страны, далекие реки, кипучие моря. Иные-то из купцов только и радовались, что барышам, и на Яруна поглядывали с усмешкой и недоумением: что-де за чудак завелся среди нас, какой-такой ищет доли, завиднее той, что дадена им с рождения?
Шел Ярун по улицам Новгорода и дивился: мирно живет народ, мирно и хлебосольно. Не слишком ли мирно? Не слишком ли хлебосольно? Не загордился ли в своем достатке, не очерствел ли душой?.. Поднимись он сейчас на вечевое место, брось шапку оземь, поведай о виденном и слышанном — поверят ли? Откликнутся ли сердцем, потянутся ли за мечом — защитить ближнего, свою кровинушку, поильца и кормильца, русского, загнанного чужеземцами мужика? Или покричат да разойдутся по своим избам, к ломящимся от яств столам, к теплым дородным мамкам?..
Шумно на улицах Новгорода — пестрые толпы ликуют, степенные бояре пробивают себе животами дорогу, нерасторопных отстраняют посохами. У мастерских златокузнецов прохаживаются хорошенькие боярышни с натертыми румянами щечками, приглядываются к брошкам, колтам, сережкам.
Продаст им и Ярун много красивого заморского товара. Подивит. Порадует. Продавая, расскажет о дивных странах, в которых довелось побывать, о том, что везде живут такие же люди, что всюду молодые девицы любят красивые безделушки, а пахари выращивают хлеб, а князья враждуют друг с другом, вытаптывают конями хлеба тех, кто кормит их и поит, жгут и насильничают. А всего больнее ему за родную землю, за то, что некому защитить ее, потому что каждый тянет к себе кусок с чужого блюда: придет грабить псковскую да новгородскую землю чудь, а новгородский князь, подстрекаемый вечем, пограбит и пожжет чудские деревни. Так и длится вечная вражда. А на что новгородцам чудь: аль своего добра не в достатке? Всего хватит в Великом Новгороде, да и на всей Руси, и пришлым бы навсегда наказать: вам — свое, нам — свое, а коли с войной к нам пойдете, не будет вам ни прощения, ни пощады.
3
Устав от сидения в тесных теремах Боярского совета, устав от длинных наставлений владыки Ильи, молодой князь Владимир пристрастился к прогулкам по Ильмень-озеру. И первым его помощником в этом сделался юркий, как змейка, востроглазый и приметливый Словиша.
Это он позаботился срубить новую княжескую лодию. Кликнул лучших корабельных мастеров, искусных плотников и резцов по дереву. Лодию сработали на славу, доски просмолили, корму украсили узорами, птицами и зверушками с пышными хвостами, на носу поставили золоченого змея с разверстой пастью, на мачты натянули алые ветрила.
Весь Новгород сбежался на берег Волхова поглядеть, как станут спускать ее на воду. Народу собралось видимо-невидимо — люди галдели, суетились; тут же сновали лоточники, торговали квасом, медом, горячими пирогами. Скоморохи веселили честной народ песнями и прибаутками.
Пребрана по такому случаю празднично принарядилась. Надела новый, шитый жемчугом сарафан, накрыла голову кокошником в золотых петухах. Сопровождавшие ее девушки пели песни, словно на масленицу, и парни, собравшиеся неподалеку от пристани, встречали их шутками.
Молодой князь был молчалив и серьезен. Прибыл он к самому молебну, в строгом зипуне с широким поясом, с тяжелым мечом на левом бедре, в отороченной мехом алой шапке и синих сапогах.
Распоряжаясь на празднике, Словиша успевал быть всюду: его белая однорядка мелькала и на берегу, в толпе клирошан, и на лодие, где бородатые загорелые мужики, натужившись, поднимали ветрила. Когда князь и княгиня по заботливо развернутому ковру взошли на борт, он оказался возле них и не отходил ни на шаг до тех пор, пока не запенилась под лодией мутная вода Ильмень-озера.
Толпа на берегу быстро таяла, волховское устье отодвинулось в сторону, лодия дала крен, выпрямилась и побежала по крутой волне. Кремль и дома посада растаяли вдали, синий окоем раздвинулся, в лица ударил напористый ветер.
Князь степенно вошел в кормовую избу, где уже были накрыты праздничные столы и ждали отроки с братинами, наполненными медом и хиосским сладким вином.
Бояре дивились — где только не доводилось им пировать, а на лодие — впервые. Волна укачивала их, ветер надувал паруса, над бортами лодии с пронзительными криками проносились чайки.
Бояре выползали на корму, поддерживаемые отроками, блевали, охали и помутневшими глазами глядели вокруг. А вокруг была только вода, только белые гребешки волн, и лодия под ногами то подымалась, то опадала, словно проваливалась в преисподнюю.
Молодого князя тоже укачало. И без того бледный, он побледнел еще сильнее, на скулах проступила синева, под глазами набухли мешки, глаза налились кровью. Перепугавшаяся Пребрана велела поворачивать лодию к берегу, ласкала и успокаивала Владимира, ставила на лоб примочки, брызгала на лицо холодной водой.
Не зря лились по столам меды: Словиша был доволен. Сообщит он Всеволоду с гонцом, что, задумав недоброе, через сына склоняет на свою сторону Великий Новгород старый Святослав, приставил к Владимиру верных людишек нашептывать ему на ухо отцовскую волю; людишки-то, правда, хлипкие и шибко охочие до вина, но, ежели бы не вино, как было выведать Словише о тайных замыслах киевского князя?!
К любому, даже самому хитрому замку у Словиши свой ключ. Ловко орудует он им, ловко отпирает потайные двери.
Опередив служек, подставил Словиша князю плечо, помогая ему сойти на берег. Бережно проводил его до терема, помог уложить в постель, пошептался с Пребраной и удалился неслышной тенью.
Всю ночь Владимир бредил и метался по подушке. Под утро, сонного и все еще хмельного, разбудил его постельничий, длинный и тощий волосатый дядька с узким лбом. За дядькой, робея, стоял молодой вой в запыленной одежде и часто моргал глазами — не всегда увидишь князя в такой ранний час, да еще в постели. Но дело у воя было срочное. Чудь пограбила на границах села, творит разбой и беззаконную расправу.
С больной головой, разбитый и усталый, отправился Владимир в Боярский совет.
Бояре уже знали о случившемся, и, несмотря на ранний час, все оказались в сборе. Увидев входящего в палату князя, владыка укоризненно покачал головой, сидевший рядом с ним посадник Завид Неревинич усмехнулся и ткнулся лицом в изогнутую рукоятку посоха. Бояре, соблюдая обычай, степенно поклонились Владимиру.
Князь сел и, сладко укачиваемый полудремой, приготовился слушать, о чем станут говорить бояре.
Бояре говорили о разном. Одни гневались и призывали немедленно собрать войско, как это делал Мстислав Ростиславович; другие были осторожнее и намекали, что было бы не худо договориться — торговые-де пути лежат через чудь, а если Новгороду перегородят дорогу на запад, туго придется купцам.
Завид Неревинич молчал. Молчал и владыка. Жуя конец пегой бороды, терпеливо ждал, пока бояре выскажутся. Хитер был Илья, многих князей пережил, навидался разной смуты, и лезть в полымя у него не было охоты. Потому-то душа его и склонялась к тем, кто призывал к миру: можно, мол, от чуди и откупиться. А почему бы и нет? Богат вольный Новгород, и если прикинуть убытки, то откупиться выгоднее, чем собирать большую рать и вручать неверную судьбу в руки божьего промысла. Бог-то милостив, да как знать, богово ли дело проливать невинную христианскую кровь?
Завид Неревинич думал иначе. Пылкая речь его понравилась Владимиру. Он очнулся от отупения и смотрел на посадника подобревшими глазами. «Вот он, мой час, — обрадовался молодой князь. — Небось думают обо мне: где уж ему! Как бы не так. Пусть протирают бояре и кончанские старосты, коли охота, свои штаны на лавках. А я все едино пойду на чудь. Вече меня поддержит».
Но кончанские старосты — народ хитрый и расчетливый. Они и не подумали соглашаться с боярами. Слова посадника пришлись им по вкусу. Хоть Мстислав Ростиславович и обошелся Новгороду не в одну гривну, да зато три года торговали без помех. И все расходы окупили с лихвой. Положили прибыток в свои скотницы. Пора, пора еще раз проучить строптивую чудь.
Владимир ликовал. Владыка тоже смекнул, что против старост идти ему ни к чему. Давно уже понял он: не на одних боярах стоит Новгород. Да вот надежен ли молодой князь?
Владимир ловил на себе его взгляды и старался держаться с достоинством.
Еще недолго поспорив, сошлись на том, что все решит вече. Бояре рассчитывали на своих крикунов, кончане на своих. Чья возьмет, того и правда.
Кликнутое на следующее утро вече, буйное и голосистое, порешило собирать войско.
А Словиша темною ночью отправил во Владимир верного человека с грамотой. Еще накануне он убеждал молодого князя обратиться за помощью к Всеволоду. Но тот был упрям и непреклонен. Словиша не на шутку встревожился: ежели побьют новгородцы чудь, Святослав встанет прочно на берегах Волхова…
4
Золотая осень подходила к концу. Частые дожди срывали с деревьев последние листья, желтые поля набухли от влаги, и лишь изредка выглядывало солнце — не на день, не на два, а всего на полчаса. Тогда природа озарялась уходящим светом, сквозные леса манили вдаль, и от полянок подымался вместе с легким паром прощальный запах увядающей зелени.
Конное и пешее войско, вышедшее из Новгорода под гудки и барабаны, теперь, растянувшись на две версты, с трудом пробивалось через непролазную грязь, мокло под дождем, кляло и осень, и князя, и застрявшие обозы, в которых были и сухая одежда, и свежая еда.
Завид Неревинич, находившийся все время рядом с молодым князем, взялся уж было отговаривать его — мол, не разумнее ли повернуть назад и отложить поход до весны, но расхрабрившийся Владимир и слушать ничего не хотел. Дивился посадник происшедшей в князе перемене: прибыв в Новгород, был он тих и смирен, как инок, но пришло время — и, знать, заговорила неспокойная дедовская кровь. Теперь его не остановишь — Боярский совет далеко, вече не кликнешь. В походе князь — всему голова.
Завид Неревинич трясся в седле на рыжем жеребце и сокрушенно вздыхал. Где-то еще настигнут они чудь, а пока проходили через разоренные и спаленные злым огнем деревеньки, в которых не то что обогреться — отпить водицы неоткуда: отходя, враги засыпали за собой колодцы.
На пепелищах воев встречали истощенные люди, голосили бабы; мужики, вооружась дубьем и топорами, присоединялись к войску. Накопилась в них нерастраченная злоба — такие в бою хуже диких зверей, пощады от них не жди. Да оно и понятно: сколь терпеть еще русскому человеку от разбойных набегов?!
Иногда перед войском появлялись небольшие отряды. Покружив на дороге, не сближаясь, они скрывались в лесах. А что за лесным полумраком — поди разбери. Может, спряталась там сотня, а может, и боле. Обложит ночью со всех сторон, навалится на спящих — тогда только дай бог ноги. Воины с опаской поглядывали в чащу, прислушивались к шорохам, ночью у костров рассказывали страшное.
Так и прошагали, меся грязь, всю Русскую землю — однажды утром, в туманном молоке, увидели на склоне высокого холма деревушку. Деревушка как деревушка, те же избы, те же сбегающие к реке огороды, но избы были целые, и свивались над ними мирные дымки.
Тут-то и ждало их чудское войско. Едва рассеялся туман, едва выглянуло скупое солнышко, едва прорезалась лесная даль, как передовой отряд остановился и по рядам воев и мужиков прокатился шорох: наконец-то.
Засуетились сотники и тысяцкие, загремели барабаны, мужики рассыпались вдоль реки, изготовились к бою. Метнули на ту сторону несколько стрел, с той стороны ответили тем же. Никого не задело, не ранило.
— Будем переправляться через реку! — задиристо распоряжался Владимир. Завид Неревинич с сомнением покачал головой: все здесь не нравилось ему. Река хоть и неглубока, а слева болото. Справа лес, а в лесу лешие водятся. Как бы не устроила им чудь засады.
— Испугался, посадник, — поддразнивал его князь, — Уж не велишь ли войско назад поворачивать? То-то посмеются над нами бабы — кого испугались.
— Чего глазок не досмотрит, заплатишь мошною, — степенно отвечал Завид Неревинич.
— Вам бы все мошна, — горячился Владимир. — Все бы к рукам прибрали, да чужое добро страхом огорожено.
Побледнел посадник: молод еще Владимир его-то учить. И не таких видывал он князей — птицы перелетные. У самого душа чуть в теле, приехал в Новгород, без няньки слова сказать не мог, а тут, гляди-тко, как разошелся.
Туман рассеивался, солнце поднималось все выше — впервые за долгий срок день обещал быть ведренным.
Синее корзно князя мелькало у болота — там дружина переправлялась через реку. Подымая брызги, кони шли вскачь. Вот они уже выбрались на сухое, вот они уже на противоположном берегу, дружинники гарцуют, кричат, размахивают мечами и копьями.
Мужики, задрав зипуны, тоже начали перебираться через воду. Сотники, кружась на лошадях, покрикивали на них. Рыжий жеребец Завида Неревинича не хотел лезть в реку. Посадник спустился на землю и стал смотреть из-под руки, как переправляется войско. Тревожно было у него на сердце, не нравилось ему, что чудины стоят по-прежнему на взлобке. Уж не заманивают ли, уж не придумали ли чего? Силы у них не равные, в открытом поле ни за что не одолеть новгородцев.
Так и есть. Едва выбрались на глинистый осклизлый берег последние пешцы, едва только построились в боевом порядке, как чудины развернули коней, помчались во весь опор к темнеющему неподалеку лесу. Владимир с дружиной пустился за ними в погоню. Завиду Неревиничу плохо было видно, что произошло на опушке, он только догадался, что стычки не было, потому что дружинники вдруг повернули к болоту. В сторону болота пошли быстрым шагом и пешцы, сгрудились, подались назад, но путь назад им был уже отрезан: из деревни вырвался конный отряд, промчался по лесной излуке и ударил по пешцам с тыла.
Завид Неревинич схватился за голову: исход битвы был для него уже ясен. Охваченные с трех сторон врагами, прижатые к болоту, новгородцы были обречены.
Лишь немногим удалось вырваться к реке, — изувеченные и окровавленные, они падали в воду, бросали топоры и копья — меткие стрелы, пущенные им вдогонку, настигали даже тех, кто успел добраться до берега.
Дружина Владимира рассеялась по полю, синее корзно князя беспомощно металось среди дерущихся казалось, подбитая птица машет подраненными крыльями, пытаясь взлететь. Но уж взлететь не может, а опытные охотники разбрасывали вокруг сети, чтобы взять князя живым.
Завид Неревинич очнулся от оцепенения, когда возле самого его уха пропела стрела, вторая стрела вонзилась в седло; жеребец вскинулся и понес посадника по ровному полю, опережая бегущих в панике воев.
Молодого князя выручил быстрый конь. Подарил ему коня на свадьбу Всеволод, будто и вправду знал, что сослужит он зятю добрую службу, будто предчувствовал, что нерасторопному Владимиру в первой же битве придется уносить от неприятеля ноги.
Промокший, весь в тине, дрожащий от страха и от бессильной злобы, нагнал Владимир Завида Неревинича с остатками войска, уходившего на восток по старым пепелищам. А на западе занимались новые пожары, подымались к потемневшему небу новые дымы. Хмурые крестьяне уходили из своих деревень вместе с разбитым войском.
— Хорошо медведя из окошка дразнить, — издевались они над воинами. — Заварили кашу, а нам расхлебывать.
На второй день попался им навстречу застрявший в пути обоз.
— Поворачивай оглобли, — говорили вои обозникам, — Отвоевались.
На третий день, убедившись, что погони за ними нет, устроили привал. Развели костры, развесили на шестах зипуны. Вскрыли бочки с медом, пили, плясали, поругивали князя и посадника.
Владимир всю ночь просидел в шатре, кутался в бараний полушубок, дрожал и всхлипывал, как младенец. Наведавшийся под утро Завид Неревинич пробовал успокоить князя, стал рассказывать и о прошлых неудачных походах, намекал на весну — весной, мол, рассчитаемся за свой позор, — но князь не хотел его слушать: сидел молча, лязкал зубами, грыз ногти.
Днем снова зарядил дождь, да такой плотный, что и в двух шагах не разглядеть соседа. Костры шипели, к вершинам сосен поднимался горький чад. Люди кашляли, валились, пьяные, прямо в грязь, озверев от выпитого, затевали драки.
Завид Неревинич распорядился вылить из бочек остаток меда, и на утро пятого дня, едва собрав оставшихся, отставших и заблудившихся в лесу мужиков, повел их на Плесков, а оттуда в Великий Новгород.
Гонцы, опередив войско, несли на загнанных конях печальную весть. То-то порадуется Боярский совет. А что скажет вече?..
5
Погибших в неудачном походе оплакивал весь Новгород. Князь не показывался перед народом, не вышел он и к боярам, один только владыка Илья, свирепо стуча посохом и не взирая на преградивших ему путь отроков, прошествовал в княжескую гридницу и, отослав опухшую от слез Пребрану, имел с Владимиром длинную беседу.
Князь слушал его отупело, увещевания и наставления Ильи почти не доходили до его сознания.
Илья то ласково уговаривал его, то гневался и наливался темной кровью, но оживить князя не смог и он.
Ночью, лежа рядом с Владимиром в душной постели под теплым пуховым одеялом, Пребрана ласково шептала:
— Все переможется, не казнись.
— Добрая ты, — со стоном отзывался Владимир, уткнувшись лицом в подушку. — Не ведала, за кого шла.
— Шла за молодца.
— Поглядела бы, как ловили меня в нерето… Едва ноги унес. Князь я.
— А князь, так и живи по-княжески. Нешто душу твою веселит, как приходил Илья и уговаривал, будто дитя малое?
— Правота что лихота: всегда наружу выйдет.
— Вот и ладно, — ворковала Пребрана, гладя его плечо.
— К чему это ты? — повернулся к ней Владимир. Лицо жены расплывалось в темноте. От тела ее исходило успокаивающее благоухание.
— Бегали и до тебя князья. Ой как бегали. Не ты первый, не тебе и последнему быть. А за битого двух небитых дают.
— Что народу скажу?
— С народом бояре станут говорить. В том твоей нужды нет.
— А я?
— Ты — князь. Ты с бояр спроси, почто войско не дали, почто обозы отстали, почто поворотили пешцы. Сам-то ты не поворотил.
Князь промолчал. А и верно, подумал он, наскоро собирали людишек. На совете-то грозились чудь шапками закидать. Один только владыка и предупреждал об осторожности. Да все ссылались на Мстислава Ростиславовича. Завид Неревинич тоже преуспел. А почто с него нет спросу?
В окно заглядывал двурогий месяц; сразу же, как возвратились из похода, погода установилась сухая и безветренная. Дни стояли теплые. Но журавли отлетали на Киев, и старики предсказывали близкие холода.
Отпускала Владимира злодейка-тоска, тихий голос Пребраны ласкал и убаюкивал его.
— Ежели что, — сказал он спокойным голосом, прижимаясь к щеке жены. — Ежели что, попрошу отца…
— Нынче батюшка твой занят на юге, — осторожно остановила его Пребрана. — А ты — куда поближе погляди.
— Дядьке твоему, Всеволоду, челом бить? — отстранился от нее похолодевший князь.
— Да не ершись ты, — сказала Пребрана. — Умом пораскинь. Ишь, горячка какая…
Владимир промолчал. Долго думал, не в силах связать расползающиеся мысли. Воркующий голос Пребраны настораживал его, но против Всеволода доводов не было. Помнил он его еще по Чернигову, когда сам был мальцом. Помнил и после, когда помогал Святослав молодым Юрьевичам сесть на владимирский стол. В ту пору он ходил со Святославовой дружиной в помощь Михалке и Всеволоду.
Нет, ничего плохого о Всеволоде Владимир сказать не мог. Да и в битве с чудью отличились владимирские ратники. Если бы не Словиша, как знать, ушел ли бы молодой князь от позорного плена?..
Пребрана гладила князя мягкой ладошкой по слипшимся на затылке волосам, и черные мысли отступали, таяли, мешались в его мозгу со сладкими сновидениями.
Молодая княгиня еще долго глядела, опершись на локоть, как по-детски шевелятся Владимировы губы, как пробегают по его лицу то темные, то светлые тени.
В ложницу упал первый луч, зажег натертые воском половицы, запутался в пушистом трапезундском ковре. Пребрана скинула ноги с постели, на цыпочках подошла к образам, опустившись на колени, прочитала благодарственную молитву.
Не думала, не гадала она, что привяжется к Владимиру. Казалось, шла за нелюбимого, серчала на дядьку, а нынче вся преисполнилась к мужу неслыханным теплом. Слаб он, беззащитен, а наставить на путь его некому. Кто, как не Пребрана, законная супруга, в божьей церкви венчанная, вступится за молодого князя?!
6
Товар, закупленный у немцев, в Новгороде был в большом ходу. На вырученные деньги Ярун срубил новую лодию и, собрав верных людей, иные из которых занимались с ним и раньше гостьбой, решил попытать счастья во Владимире. Бывал он там не раз и всегда возвращался с барышом. А ежели товар пойдет так же, как и в Новгороде, то заглянет он к булгарам, от булгар поднимется по Оке, в Рязань, а из Рязани… Из Рязани можно податься в Чернигов и в Киев, а из Киева в Олешье, а из Олешья — в Царьград. Все можно вольному купцу — была бы только охота да здоровье. Здоровьем господь бог Яруна не обделил.
Так и не узнал Ярун о неудавшемся походе новгородского князя Владимира на чудь, потому что был в ту пору в пути, а путь его лежал через малые и большие реки на Волгу, к городу Ярославлю, где тоже шел большой торг и где он думал задержаться на несколько дней, потолкаться среди людей, разузнать, что да как и есть ли смысл заглянуть по дороге в Великий Ростов. Хоть и полинял Ростов с той поры, как Всеволод положил конец боярской вольнице, а все-таки град велик, и знающие купцы не обходят его стороной.
Перед самым отъездом в избу к Яруну явился поздний гость — по обличью вроде знаком, а вроде и не встречались. Много людей перевидал на своем веку Ярун — разве всех-то упомнишь. У гостя было светлое улыбчивое лицо, ухоженная бородка, быстрые, юркие глаза. Назвался Словишей.
— Слышал я, купец, что путь твой лежит во Владимир. Не возьмешь ли и меня с собой? — прямо с порога спросил он.
Откровенный разговор гостя понравился Яруну.
— Ты садись, — предложил он Словише. — Без соли, без хлеба — какая беседа.
— Да мне недосуг.
— Хозяина обижаешь…
Давно уже приглядывался Словиша к Яруну, знал его по рассказам камнесечца Никитки — человек верный и храбрости необыкновенной. Ходил будто бы он к Дышучему морю, жил у самоедов, едва жив остался. Потерял жену, а вот же не сломился — снова подымает торговлю. С таким хоть в огонь, хоть в воду. А через Торжок путь Словише был заказан. Упредил его: будь, мол, осторожен — Святославовы послухи разосланы по всем дорогам и всякого, кто поспешает ко Владимиру, допрашивают с пристрастием, а то и возворачивают в Новгород. После неудачного похода сына на Чудь крепко опасается Святослав, как бы Всеволод не нарушил скрепленный клятвой уговор и не послал править Новгородом Юрия — и племянника уважить, и от себя грозу отвести. Он и Владимиру посоветовал свалить всю вину за поход на Завида Неревинича, а на место его поставить нового посадника Михаила Степановича, своего, надежного человека. Так и сделал Владимир, и весть эта была тревожна. Было с чем поспешать к Всеволоду.
С купцами Словише сподручнее. Думал так: доберется до Ярославля, а оттуда в Великий Ростов, а из Великого Ростова до Владимира рукой подать.
Нарезая толстые ломти хлеба и солонины, наливая в чары мед, Ярун незаметно приглядывался к нечаянному гостю. А когда выпили да закусили да повели душевную беседу, решил, что Словишу возьмет с собой хоть до самого Царьграда — с таким человеком в беде не пропадешь.
И Ярун приглянулся Словише: не речист, но что ни скажет, то в строку: сразу видно бывалого человека.
На том и сошлись. Утром Словиша был на Яруновой лодие.
Перед отъездом из Новгорода навестил он Пребрану и велел о своей отлучке не сказывать молодому князю. А дело у него срочное, и доверять гонцам его нельзя.
Провожая его, Пребрана плакала и жалела Владимира. Словиша посоветовал ей сердца себе не разрывать: пока Святослав сидит в Киеве, ничего с Владимиром не случится. Всю вину за поход небось свалил на Завида! Побаиваются новгородцы великого князя, да и на Всеволода оглядываются — теперь им на своем стоять нелегко. И уж чья возьмет — время покажет.
Пребрана перекрестила Словишу и поцеловала в лоб.
А дело у Словиши и впрямь было срочное и самое неотложное. Доверил ему один человек великую тайну: сговаривается, мол, Святослав с Романом оторвать от Владимира Рязань, Всеволода прогнать в Переяславль, а на его место посадить Юрия. Теперь Юрию Новгород ни к чему — пусть себе тягается с кончанскими старостами Святославов сын: не велика честь ходить под рукой Боярского совета. А Владимир — как-никак вотчина Андреева, отошедшая ему еще от Юрия Долгорукого, и кому как не сыну Андрея сидеть во Владимире.
Коварен Святослав, коварен, да поздно очнулся: пока дрался за Киевский стол, Суздальское-то княжество проглядел. Думал: помог молодому Всеволоду, так век ему и ходить по его воле. Ан все по-другому вышло. Теперь один Юрий у него и остался. А если прельстит его Всеволод Новгородом, то ни Новгорода, ни Владимира Святославу уже не видать. Останется только Киев на окраине Руси — один на один с алчными половцами. Да еще Чернигов. Вот тебе и великий стол!..
Всю дорогу до Ярославля Словиша донимал Яруна рассказами о своей жизни. А жизнь у него была опасная и веселая и ни одной меточки-зарубочки на нем не оставила, хоть и дрался он и с булгарами, и с половцами, и с рязанцами, и с новгородцами. Иного косая подстережет в первой же схватке — залетит шальная стрела, и не в него даже пущенная, пробьет грудь, потушит под ребрами жаркий огонек, а другого и сулицей бьют, и копьем колют, и мечом секут — а ему все нипочем.
Ярун, слушая его, согласно кивал головой. Уж ему-то всякого довелось хлебнуть. Уж ему-то ведомо, что лучший заговор от смерти — спины врагу не показывать.
В Ярославле на Которосли они расстались.
— Может, и свидимся во Владимире, — сказал Словиша.
В Ростове Великом он навестил епископа Луку, принял от него благословение. Проезжая по улицам города, приметил, что народу в нем поубавилось, дома пообветшали, да и церкви словно пообвяли — не было в них былой торжественности и блеска.
Тихо и незаметно отодвигался Ростов на второстепенное место во Владимиро-Суздальской земле.
Лука чувствовал это, понимал он также и то, что власть его простиралась не дальше ремесленного посада. Протопоп Микулица во Владимире был сподвижником князя, и церковь оглядывалась на собор Успения Божьей матери, а не на ростовские епископские палаты. Всеволод давно перестал с ним советоваться и, лишь соблюдая ритуал, если наведывался в дряхлеющую столицу, навещал Луку, справлялся о здоровье, говорил о мирском, не касаясь дел государственных и церковных.
Лука пожаловался Словише на недомогание, на боли в пояснице и бессонницу; они сидели при двух свечах, ели жареного гуся с яблоками, пили квас и кроп — разбавленное водой вино. Прислуживала им пожилая неопрятная женщина с большим, выпирающим животом и усеянным бородавками рыхлым лицом. В глазах ее Словиша не отметил почтения, сам Лука держался с женщиной осторожно и отсылал ее всякий раз, когда гость начинал говорить о делах.
«Совсем, совсем потух владыка», — подумал Словиша и стал прощаться. Лука дал ему доброго коня, не постеснялся выйти на крыльцо, чтобы проводить гостя.
Глава шестая
1
Лениво пошевеливая поводьями, Давыдка ехал на кологривом рядом с женой своей боярыней Евпраксией, лениво глядел по сторонам, лениво думал о том, как снова потечет в Заборье заведенная давнишним порядком жизнь. Засунув шапку за пояс, чувствуя, как припекает осеннее солнце темечко, он позевывал тайно, чтобы не видела боярыня, незаметно крестил рот и сквозь одолевающую тело приятную дрему слушал скучные рассказы жены об урожае, о поборах, о том, что нынче много меду и еще больше будет пшеницы и что прирезанные к Заборью Боровки приносили бы хороший доход, если бы староста Акумка не был так хитер и прижимист.
С годами Евпраксия стала еще красивее, но уже не волновала Давыдку. Жили они рядом хуже, чем врозь. После того как привез Всеволод молодую жену, трое суток не выходила Евпраксия из терема, а вышла — и не узнать ее: спала с лица, почернела вся, в глазах появился холодный блеск. Понял Давыдка: пустое говорила боярыня, будто без радости ей князь. Любила она его, ох, как любила, а тут вдруг все оборвалось. Но разве Давыдкина в этом вина, разве он сватал за Всеволода асскую княжну Марию?!
Вот она, подневольная жизнь. Давно ли мечтал Давыдка стать хозяином в своем Заборье, давно ли радовался, возводя над Клязьмой веселый боярский терем?! А нынче хоть трава не расти. И от терема того ни гордости ему, ни забавы. Живет в тереме нелюбимая жена, погоняет мужиков, крикливым голосом распоряжается на кухне.
Куда привольнее удалому тысяцкому при Всеволодовом дворе. Куда веселее скакать с княжеским поручением — на север, на юг ли, в дождь ли, или в свирепую жару! Все там свое — погнал коня в галоп, хлебнул упругого ветра — и заботы с плеч долой. И юная княгиня одарит таким взглядом, что хоть сейчас — в самую гущу врагов, под серую тучу стрел, под голубые молнии мечей.
Ехал Давыдка бок о бок с Евпраксией, ехал, жмурясь, глядел на солнышко, а о том не догадывался, что и привольная его жизнь кончается, потому что мучимая ревностью Евпраксия уж пропахала по его судьбе глубокую и роковую борозду.
Не зря донесли Всеволоду о сговоре Давыдки с Кочкарем. Хоть и не упускал он Житобуда, хоть и охотился за ним по рязанским да и по московским лесам, а молва пошла. Поползла молва изворотливой гадюкой, обернулась дворовой девкой Дуняшей, а уж от Дуняши — к жениху ее Валеху, конеюшему великого князя.
Все было. А как было, никто, кроме Евпраксии, да Житобуда, да князя Юрия, толком не знал.
Выполняя наказ Кочкаря, прямехонько от Романа рязанского пробрался Житобуд потайными тропками во Владимир, связался с Юрием, а уж Юрий свел его с Евпраксией.
И сидел он в Давыдкином тереме, пил брагу, обволакивал взглядами, словами путал ее и связывал, в то самое время как мчался Давыдка с дружиной в дождливую ночь, в туман и непогодь, рыская по дорогам в поисках Житобуда.
Сидел Житобуд в Давыдкином тереме и радовался: радовался, что впервые выспится на перине, что, вернувшись в Киев, успокоит великого князя доброй вестью.
Ослепленная бабьей крутой ненавистью к Всеволоду, клятвенно обещала Евпраксия, что Давыдкина тысяча повернет против владимирского князя — пусть только Роман решится, пусть только выступит с ратью. А от Святослава ждут они великой чести.
— Князь наш добр и милостив, — с усмешкой сказал Житобуд.
Ночью он явился в ее ложницу, все так же усмехаясь, грубо взял ее и заснул на боярской постели — большой, волосатый, уродливый…
Утром Евпраксию уже не мучили угрызения совести. В сердце была какая-то неведомая ей доселе торжественность и отрешенность. Теперь она могла все. Она обнимала Житобуда, обсуждала с ним разные подробности, деловито собирала его в дорогу и даже улыбалась.
Ничего этого Давыдка не знал. Не знал он, что и до князя Всеволода дошли неясные и путаные слухи. Еще вчера они встречались в гриднице, Давыдка рассказывал Всеволоду, как напал на след Житобуда в Москве, о разговоре, который подслушал богомаз Зихно, а Всеволод, как всегда, приветливо улыбался, поглаживал бородку и привечал его теплым взглядом.
Потом вошла княгиня, Давыдка поклонился ей и хотел уйти, но Мария остановила его и спросила, не больна ли Евпраксия — уже давно не показывалась она в княжеском терему. Давыдка отметил, как нахмурилось лицо князя, но Всеволод быстро взял себя в руки и просил боярыню принять участие в охоте. Мария кивнула, отвернулась от тысяцкого, и Давыдка вышел из гридницы.
В сенях он столкнулся с меченошей князя Кузьмой Ратьшичем. Немолодой уже, отчаянно храбрый Кузьма вышел из Давыдкиной тысячи — родом он был из Галича, служил Ярославу, потом подался в Смоленск к Рюрику и Давыду Ростиславичам, дрался вместе с ними с половцами, бежал в Чернигов, а оттуда во Владимир. Чем угодил он князю Всеволоду, не знал никто. Не знал этого и Давыдка, ревнуя, испытывал к Ратьшичу неприязнь, Ратьшич чувствовал это и отвечал Давыдке тем же. Но вели они себя так, что со стороны могло показаться, будто это неразлучные друзья. Давыдка при случае старательно нахваливал Ратьшича, Кузьма — Давыдку.
Как-то на пиру, после удачной охоты, Давыдка, пользуясь хорошим настроением князя, упросил его отдать ему Карпушу: на что, мол, тебе, князь, два меченоши? Всеволоду не хотелось расставаться с полюбившимся ему сыном скомороха, но Давыдка сослался на Кузьму — был-де у него храбрый вой, держал он его подле себя, а нынче осиротел. Всеволод расстрогался, и на следующий день Карпуша перешел к новому хозяину. Давыдка обласкал его, подарил новый шлем с серебряной насечкой, кольчатую броню. Евпраксия пожаловала кипарисовый крестик на золотой цепочке.
Карпуша всюду был вместе с Давыдкой, ехал он и сейчас чуть поодаль от него, с восторгом поглядывал на Евпраксию.
Перебрались вброд через Клязьму. Вода в реке была уже холодной. Леса поредели, опавшие листья шуршали под копытами лошадей. Евпраксия молчала, молчал и Давыдка.
Солнце склонилось к закраине леса, когда за холмом показалась маковка новой церкви. Вот они и дома.
В тереме было неуютно и сыро, как в нежилой избе. Проходя в сени, Евпраксия распорядилась затопить все печи. Ворчливый голос ее слышался в людской и на кухне. Тотчас же в усадьбе поднялся переполох, запахло жареной рыбой и мясом.
В церкви Давыдку ждал Зихно. Он вышел навстречу тысяцкому, весь измазанный краской и известью — чуть хмельной, улыбчивый и счастливый. Забегая вперед, стал показывать фрески, объяснял библейские сюжеты. Давыдка не слушал его, смотрел на лики святых, кивал головой, посмеивался; каждому свое. Втайне завидовал богомазу. Живет как птаха. Счастлив тем, что работает, что никто не мешает ему целыми днями висеть на лесах.
Осмотрев церковь и ничего не сказав, он вернулся в терем. Евпраксия сидела в ложнице на лавке, напротив нее стоял Карпуша. Давыдка вздохнул, сел, стянул еще с утра жавшие ему новые сапоги. Раскинул отекшие ноги, блаженно закрыл глаза.
Завтра с утра он пойдет на Клязьму ловить с мужиками стерлядь. Представил себе, как закинут сеть, как поведут ее в заводь, как будут плескаться и прыгать через край проворные рыбины. Он ощутил запах тины и свежей ухи. Отослав Карпушу, Евпраксия прервала его сладкий полусон:
— Жалуется мне огнищанин: совсем отбился от рук Акумка. Съездил бы ты, Давыдка, в Боровки, потряс окаянного. Нешто нет на него управы?
— А ты Карпушу пошли, — сказал Давыдка. Резкий голос привыкшей повелевать жены раздражал его.
Евпраксия попыталась улыбнуться:
— Карпушку-то и малец вкруг пальца обведет. Простодушный он…
— Сразу видать, — оборвал Давыдка, — То-то всю дорогу пялил на тебя глаза.
Сказал он это для того только, чтобы сделать Евпраксии больно. Боярыня побледнела.
— Не спеши языком-то. Совсем ошалел.
— Молчи, коли грешна.
— Скоро добро забывается, — вспылила Евпраксия. — А кто тебя, холопа, в тысяцкие вывел?..
— Ведьма ты.
— Эко зачастил… Аль подумал — боле не сгожусь?
— Листом стелешься, а все куснуть норовишь. Оттого, поди, что князь со своей черноглазой не намилуется.
Вспыхнула Евпраксия, вскочила с лавки, лицо, зардевшееся недобрым пламенем, стиснула ладонями.
Давыдка обрадовался: наконец-то! В самое сердечко угодил. Теперь не отойдет, пока всех девок в тереме не перехлещет по щекам. Гневлива стала боярыня, тяжела у нее рука: чуть что — в плети.
Он закрыл оконце, нарочито громко зевнул и лег. Накрылся шубой, повернулся лицом к стене.
Но на этот раз Евпраксия опустилась на лавку рядом, заговорила спокойным голосом:
— Поспорили — и ладно. Слышь-ко?
— Ну? — удивленно буркнул из-под шубы Давыдка.
— Да повернись ты, чай не образа под носом!
Давыдка пошмыгал и сел. Евпраксия молчала, внимательно изучая его лицо.
— Впервой видишь? — спросил Давыдка.
— Думаю.
Глаза у нее были холодные и неподвижные.
— Слепым ты стал, Давыдка, — произнесла она наконец и дотронулась негнущимися пальцами до его подбородка. Он не посмел отстраниться. Ждал, что скажет еще.
— Кузьму проглядел…
— То моя забота, — повел он головой. Но пальцы Евпраксии снова отыскали его подбородок.
— Кузьме князь жаловал Городищи.
— Жаловал, — вторил ей Давыдка.
— И под Гороховцом угодья…
— На то Князева воля.
— Этак-то и тысячу отдаст Ратьшичу, — спокойно сказала Евпраксия.
Давыдка вздрогнул, встал, босиком прошелся по ложнице, снова сел, запустил в волосы пятерню.
— Слушай меня, Давыдка, слушай и запоминай, — вкрадчиво говорила Евпраксия. — Нрав у князя нашего крутой да переменчивый. Нынче один ему шепнет на ухо, завтра другой. Глядишь, и вовсе пустит по миру… Али вру?
— Ну-ну, — сощурясь, подбодрил ее Давыдка.
Евпраксия выдохнула, склонилась к самому его лицу, зашептала на ухо:
— Что верно, то верно: ложася спать, думай, как встать. Не то и Заборье проспишь.
— Я ко Всеволоду с душой, — оборвал ее Давыдка.
— Оно и видать, — жарко проговорила Евпраксия, — А ты пораскинь мозгами. Время-то старое прошло, нынче в другую сторону глядеть надо. Сына убиенного князя Андрея любить и жаловать.
— Юрия? — испуганно отшатнулся от нее Давыдка. — Аль вовсе разума бог лишил?
— На истинный путь наставил, — твердо произнесла боярыня. — По закону-то кому как не Юрию сидеть на владимирском столе?
Страшно стало Давыдке. Рука сама по себе перекрестила лоб. Ну и баба!
…Давно уж не ласкала его Евпраксия. Опьянел Давыдка. Жарким поцелуем впилась в его губы боярыня.
Отдыхая на смятой постели, тяжело дыша, лежали они молча и опустошенно глядели в темный потолок.
2
Слухами земля полнится. Дошла до Никитки весть, будто прибился к Заборью знаменитый богомаз, расписывает чудесными ликами деревянную церковь на боярском дворе.
Пошел Никитка к протопопу Успенского собора Микулице.
— Ишь ты, — сказал протопоп и отправился к Всеволоду.
Всеволод выслушал Микулицу со вниманием и велел немедля скакать в Заборье, дабы того богомаза сыскать и привезти во Владимир. Прослышала об этой новости и княгиня. Вздумалось ей тоже поехать в Заборье. Без особой охоты отпускал ее князь, но все же отпустил. И Никитке наказывал:
— Гляди в оба. Ты за нее в ответе.
Узнав о том, что Никитка едет в Заборье, Аленка тоже стала напрашиваться: возьми, мол, и меня с собой.
— А дите? — упрекнул ее Никитка. — Аль с дитем собралась?..
— А я Маркуху попрошу, приглядит.
— Еще что выдумала! Маркухе и без того дел невпроворот. Да и не баба он. Сгинь! — с шутливой строгостью пугнул ее Никитка.
Выехали после заутрени. Сам Микулица проводил их до Волжских ворот. А за Клязьмой путь потянулся лесами, — утопая в мягких подушках, располневшая и счастливая, глядела Мария по сторонам, радовалась приметам бабьего сухого лета. Уже седьмой месяц носила она под сердцем ребеночка. Все мечтала о мальчике — то-то порадуется князь. Никитка, выполняя наказ Всеволода, скакал рядом, склонялся с седла, заботливо спрашивал:
— Не велеть ли ехать потише?
И — чуть спустя:
— Не растрясло ли? Не отдохнуть ли вон на той поляночке?..
Мария отрицательно качала головой. Хорошо было ей, как никогда, хорошо и ясно. Небесная пронзительная лазурь отражалась в ее глазах, а когда она закидывала голову, то казалось — вливается в нее необозримая синь. Будто плыла она над опаленным первым осенним заморозком лесом, лениво взмахивала просторными крыльями, и радостный крик бился у самого горла — тоненькой синей жилочкой, трепещущей под частыми ударами сердца. То, что ждало ее впереди, было и страшно, и любопытно. И томительное предчувствие неслыханного торжества наполняло все ее существо медлительной музыкой.
Дивился Никитка княгине — уж совсем на сносях, другая бы охала, ставила припарки, дневала и ночевала с повитухами, а эта мчится себе сквозь лес и желтеющие поля, да еще упрашивает шибче гнать лошадей, словно какая спешка. Или просто нравится ей быстрая езда?.. Тоже ведь чернявая, не из наших, не из русских баб, тоже небось скакала на коне не хуже любого дружинника. Это здесь разомлела от Всеволодовых забот, а в Асских горах и не того хлебнула: знаем, мол, как живут на чужбине.
Сам Никита тоже оттаивал сердцем при виде осенней неслыханной красоты. Днями сидя над белыми глыбами, стуча по ним зубилом, вдруг почувствовал он леденящий холод. Казалось, время уходит с каждым ударом молота, и не куски белого камня отваливаются от глыбы, а годы, и мечты тоже рассыплются в прах, а на ладони останется маленький осколок, а дрогнувшая рука замахнется для последнего удара.
В камень нужно было вдохнуть жизнь. А он искал ее в камне. Замирало от несбыточности замысленного сердце, опускались плечи, закрывались глаза. Ему казалось, что он ослеп. Что стены мастерской стали его миром, а светлая мечта уходила в глубину, постичь которую он был не в силах.
Но здесь, на игривом ветру, на игривом коне, летящем по обочине лесной дороги, он ощутил раскованность, и слепящий свет, ударивший в его лицо, смыл тревогу, томившую его уже столько дней и ночей…
Приезд Марии всполошил Заборье. Стояла ночь, ярко светила над лесом Прикол-звезда, за плетнями лаяли одичавшие от тоски собаки, а перед боярским теремом метались люди с факелами, слышались испуганные голоса.
Давыдка в нарядном кафтане, суетливый и торжественный, помогал княгине выбраться из возка, мужики держали под уздцы взмыленных лошадей, а Евпраксия, веселая и праздничная, льнула к Марии и, всплескивая руками, дивилась:
— И не побоялась, княгинюшка? На дорогах наших не растряслась?..
— Бог миловал, — отвечала Мария с кроткой улыбкой, опираясь на плечо Давыдки.
— Уж счастье, счастье-то какое, — лепетала Евпраксия, забегая вперед и заглядывая раздавшейся в талии княгине в глаза.
Мария ступала осторожно, Давыдка ввел ее на крыльцо, велел посветить в сенях, проводил через сени в отведенную для почетной гостьи опочивальню.
Поотставший Никитка дивился: «И откуда только пронюхали в Заборье о нашем приезде?!»
Мария без зависти подумала: «Хорошо устроился Давыдка. Терем срубил не хуже княжеского».
Евпраксия тревожилась: «Уж не донес ли кто?»
Но все страхи ее рассеялись, едва только Никитка напомнил о богомазе:
— А ну-ка, сказывай Давыдка, где прячешь мастера?
— Успели растрезвонить, — улыбаясь, проворчал тысяцкий. — Куды ж мне его прятать? Не клад…
— Кому как, — сказал Никитка.
С Давыдкой он держался запросто. Передал поклоны от сестры.
— Со мной собиралась — не дозволил.
Давыдка кивнул:
— Подрастет дите, тогда уж…
— Небось не пустишь в свой терем? — пошутил Никитка.
Давыдка не ответил. Да и о чем речь? Хоть Никитка и знатный мастер, хоть и любит его князь, да народ каменщики ненадежный. Жаль ему сестру. По нынешним-то временам выдал бы он ее за боярского сына.
Пока они так разговаривали, пока искали посланные Давыдкой люди богомаза, Евпраксия провела Марию по всему терему. Показывала, искоса поглядывала на княгиню, про себя торжествовала: ишь ты, ожирела, словно утка, и лицо в румянах, и под глазами круги.
Вспомнила, как ласкал ее Всеволод, втайне надеялась: не забыл, помнит, такое забыть нельзя. Такое — раз на всю жизнь.
Но торжество переходило в зависть: была она бесплодна, первый ребеночек народился и помер, а второго бог не дал. Вот уж сколько лет ждала, трепетно надеялась — пустое.
А Марии и здесь повезло. Будет сын — еще крепче привяжется к ней Всеволод. Да и дочь в княжеском роду не помеха. Все, чем жила Евпраксия, все теперь у молодой княгини. Прожитое — что пролитое: не воротишь. Одно только и радовало — черная тайна. А как судьба улыбнется, станет Евпраксия устраивать жизнь на свой лад. И уж княгинюшке-лебедушке припасла она в мечтах монашеское одеянье: пожила, поела сладко, не пора ли и богу помолиться?..
Думая так, угодливо говорила:
— Не велишь ли баньку истопить?
— Истопи.
— Эй, девки! — кричала Евпраксия. — Топите баньку, да поживее. Пару не жалейте, лучших веничков припасайте.
Испуганно шарахались от нее девки, бежали, мелькая широкими пятками, во двор, визгливо поругивали мужиков:
— Тащите, мужики, дровишки! Эка разленились! Али лапти к земле приросли?! Кому сказано — княгиня париться будет.
Праздничная суета нравилась Марии. Заботливость Евпраксии трогала.
— А где же богомаз? — спросила она вдруг, когда они вернулись в устланные коврами покои.
Измаялись мужики, разыскивая богомаза. В сараюшке, где он обычно ночевал, постель была не измята. Все кусты по-над Клязьмой облазили, надорвали глотки от крика. Надоумил их староста Аверкий:
— А вы к вдове Вешке наведайтесь. Вчерась лопотали они о чем-то на плоту. Небось зазвала в гости.
Пошли к Вешке. Долго стучали в ворота.
— Чего разбренчались-то? — окликнула мужиков с порога вдовушка. — Никак у женок выпить не допроситесь?
— Меды нам твои не ко времени, — сказали мужики. — Не у тебя ли Зихно завалялся?
— Нешто кусок какой? — рассердилась Вешка. — Нет у меня вашего богомаза.
— Да куды ж он запропостился? — растерялись мужики.
— А кто кличет?
— Сама княгиня.
— Ну?! — удивилась Вешка. — Тогда ищите, мужики, получше.
Нырнула в избу, растолкала спящего на лавке богомаза. Зихно сел, почесал поясницу, уставился на Вешку осоловевшим взглядом.
— Вот тебе кафтан, а вот и шапка, — сказала вдовушка. — Пошевеливайся, коли смел. Княгиня, говорят, в Заборье наведалась, ищет тебя, не доищется.
Сон как рукой сняло. Напялил Зихно кафтан, нахлобучил шапку, а лапти надеть позабыл — обнял Вешку, чмокнул в теплую щеку, выпрыгнул в оконце. Вешка выбросила ему вслед лапотки.
Задами да огородами пробрался Зихно в свою сараюшку, лег на соломенную подстилку, накрылся сукма ницей. Только пристроился — мужики снова в дверь. Глядят и дивятся — лежит себе Зихно, похрапывает да губами почмокивает. Что за наваждение?!
Растормошили его, подняли, одели, обули, подхватили под руки и поволокли в боярский терем.
Отвесил богомаз княгине земной поклон, ресницами хлопает, ничего понять не может. Дурак дураком. А сам смекает: «Неспроста искать меня велено. Неспроста мужики все село облазили».
И верно — неспроста. Как сказала ему Мария, что велено свезти его во Владимир к Микулице, так и повалился Зихно ей в ноги.
— Честь-то какая, матушка!
— Князя благодари…
3
— Собирай на стол, хозяйка, — сказал Никитка жене, вводя богомаза в избу.
Аленка, пунцовая, со сбившимися на лоб влажными волосами, вытащила из печи горшок с дымящимся сочивом, провела ладонью по лбу, вытерла руки о передник, поклонилась вошедшим.
— Милости просим. Садитесь с нами вечерять.
Зихно окинул ласковым взглядом ее стройную, чуть располневшую фигуру, вздрогнул, поймав себя на том что слишком долго и внимательно смотрит на хозяйку, снял шапку, тоже поклонился и широко перекрестился на образа.
Просторный стол в горнице был выскоблен до белизны, на столе на деревянном блюде высилась горка крупно нарезанного хлеба. Аленка поставила в миске свежие огурцы, налила уху.
Мужики в дороге проголодались, ели молча, бойко постукивали ложками, подставляя под ложки краюхи хлеба.
Никитка рассказывал о Заборье, вспоминал знакомых, передал поклон от Давыдки.
— Совсем разважничался твой братец, — помолчав, добавил он.
Аленка поджала губы, но ничего не сказала в ответ. Потянувшись, достала с полки плошку с киселем. Мужики ели кисель, нахваливали хозяйку.
— Ты меня шибко-то не хвали, — проговорила Аленка, сев напротив Никитки и подперев подбородок кулаком. — Разорю я тебя.
— Уж и разоришь, — ухмыльнулся Никитка, облизывая ложку из-под киселя.
— Торговалась нынче, в избе-то шаром покати.
— Пшеном запаслась ли?
— Взяла уборок. Да оков зерна, да соли.
— А меду, меду-то хоть не забыла ли?
— Взяла лукно.
— Не мало ли?
— Будет с тебя, бражника, — пошутила Аленка. — А для гостей хватит и того, что наварили. Считай, из пуда девять ведер.
— Придет Давыдка, за вечер с ведром управится.
— У самого полны медуши, — сердито сказала Аленка.
— Гость.
— Вон тоже гость, а — непьющий, — кивнула она в сторону тихо сидящего богомаза.
Мужики засмеялись.
— Ну, сыты ли? — спросила Аленка.
— Сыты, — переглянулись мужики, вышли из-за стола. Аленка скрылась за перегородкой. Вернулась, держа на руках малыша. Малыш сучил ногами, разглядывал людей, но не плакал. Аленкино лицо светилось от счастья.
— Вот — сынка народила, — похвастался Никитка и взял малыша на руки.
— Весь в тебя будет, — сказал Зихно. — Нарекли-то как?
— Улыбой, — ответила Аленка. — Улыбается он все.
— Пусть улыбается. Улыбчивые люди счастливые. Я вот и поныне улыбаюсь, — сказал Зихно.
— Хвастаешься ты все, богомаз, — возвращая Аленке сына, покачал головой Никитка. — И человек веселый, и мастер — первая рука.
Зихно нахмурился, замолчал, сгребая в ладонь со стола хлебные крошки. Мастера дело хвалит. Что о себе говорить?
— Съезди в Новгород, погляди на Софию — моя работа. А еще у Поликарпа расписывал пещеры. В Заборье допишут за меня… Черниговский епископ тоже помнит Зихно.
— Ну-ну, — похлопал его по спине Никитка. — Забота у нас с тобой общая. А то что пошутил — не серчай.
— Шутки и мы понимаем, — открыто улыбнулся Зихно. Взгляд его снова ласково задержался на Аленке, убиравшей со стола.
Утром Никитка поднял богомаза, когда на улице еще только серел рассвет.
— Протопоп встает рано, — сказал он. Поспеть бы до заутрени.
Аленка уже копошилась во дворе. Над крышей баньки курился дымок.
— Вот вам веники, — сказала она. — А исподнее в предбаннике.
Мужики напарились и, красные, босые, в одних холодных штанах, вернулись в избу, где на столе их уже ждали испеченные на скорую руку пироги и кислое молоко.
Аленка порылась в ларце, отыскала ненадеванный Никиткин синий кафтан, вынесла богомазу.
— Прикинь-ко. Авось в пору будет. В твоих-то лохмотьях перед Микулицей показываться одна срамота.
Зихно примерил кафтан — в самую пору оказался, повертелся по избе, улучив момент, когда Никитка вышел за дверь, обнял Аленку за талию, потянулся губами к щеке.
— Ах ты пес шелудивый! — вскрикнула Аленка и, дав богомазу затрещину, отскочила на середину избы.
Появившийся на пороге Никитка залился веселым смехом: Зихно растерянно озирался по сторонам.
— От поблажки и воры плодятся, — сказал Никитка, все еще смеясь. Рассмеялась и Аленка.
— Отколь ты такого прыткого привез? — сказала она мужу, с опаской обходя богомаза.
— Не боись, — сказал Зихно все еще растерянно и не зная, не то казниться ему, не то смеяться вместе с хозяевами.
— А ты гляди наперед, — серьезно посоветовал ему Никитка. — В другой раз и я, ежели что, добавлю, а у меня рука потяжельше будет.
Всю дорогу до Протопоповых палат шли молча. Редко встречавшиеся на пустых улицах мужики охотно раскланивались с Никиткой. Зихно подивился:
— Ровно князь ты у себя во Владимире.
— Добрый мастер у всех на виду. А город наш ремесленный, — пояснил Никитка. — Еще при Андрее Боголюбском так повелось. Не зря, знать, тужились ростовские бояре — все хотели князя у себя посадить. Не вышло.
Протопоповы палаты окружены высоким частоколом. В воротах молодой и приветливый служка поклонился гостям, проводил их во двор. Протопоп сидел на лавочке в длинной, до пят, рубахе, простоволосый, седой, уткнув подбородок в поставленную между ног палку со сложенными на набалдашнике сухими длинными пальцами. Близорукие, совсем выцветшие глаза Микулицы были устремлены в пространство, беззубый рот шевелился.
Услышав шорох шагов, протопоп повернул голову, сощурился; глаза под нависшими седыми бровями постепенно высветились; мысли, только что занимавшие его, недобрые мысли, отступили, утонули в глубине пристально уставившихся на Никитку зрачков.
Еще только что думал Никитка, как постарел и обветшал Микулица — за каких-нибудь три года сдал, так что и не узнать, — но тут вновь почувствовал исходящую от него властность и силу, которая заставила его почтительно опуститься на колени и приложиться к высохшей руке протопопа.
Зихно тоже встал на колени и приложился к руке Микулицы, о котором много слышал и мысленно представлял увидеть совсем другим — не старым, и не в посконной рубахе, и не на лавочке, а во всем торжественном облачении под сводами величественной церкви Успения Божьей матери.
Протопоп говорил тихим бесцветным голосом, часто прерывал свою речь хриплым дыханием, покашливал по-стариковски неглубоко, суетливыми руками перебирал набалдашник палки — простой суковатой палки, вырезанной в лесу грибниками, чтобы легче было искать припрятавшиеся в траве рыжики; палке этой было уже лет десять, а то и боле: протопоп никогда не расставался с нею.
Микулица хорошо разбирался во фресках, советовал, где и что писать, и не надо было ему идти в собор, потому как знал он его хорошо — весь, от серебряно-золотого кивория и дивно изукрашенной алтарной преграды до покрытого золотом купола и каморы.
И еще не успел, Зихно ничего рассказать о себе, только обмолвился несколькими словами, но слова эти взволновали Микулицу, речь стала сбивчивой — так говорят люди, одержимые прекрасной мечтой. Не простое великолепие должно привлечь людские взоры к Успенскому собору, не удивление перед пышностью одетых в золото и драгоценные каменья окладов, а истинная красота, которая без блеска и нарочитой торжественности влечет к себе и взоры, и сердца людей, покоряет скрытой в строгости линий волшебной силой.
Поликарп, сухой и неприступный, стучал посохом и велел замазывать на стенах писанные Зихно бесовские лики — Микулица сам бунтовал и требовал бунта. Поликарп взывал к аскетическим канонам, к молитве и смирению — Микулица звал к возрождению духа, к естеству, к лугам и травам, к зверям и птицам, к простоте красок и чувств. Ведь только возлюбив родную землю, поймет и смерд, и холоп, и боярин, и огнищанин, и князь, что все они одной крови и одной веры. И что красота — в единстве, и гордость — в познании красоты, своей, а не прибившейся из-за моря-океана. И что превыше всего — русский человек, Русская земля. И что беречь и хранить и защищать эту изукрашенную красотами землю — счастье, равного которому нет и не может быть.
Так сбивчиво и нескладно говорил протопоп, говорил тихим старческим голосом, но Зихно и Никитка обмирали, слушая его. И уже не казался Микулица таким старым и немощным, и уже все в нем: и посконная рубаха, и небрежно расчесанная борода, и суковатая, захватанная руками палка, и старческие, в коричневых пятнах, руки — призывно влекло к себе и волновало. Он сам был частицей истерзанной усобицами Русской земли, — суглинком и черноземом, забитым на пашне смердом, иссеченным половцами воем, живым корнем из которого, набравшись неиссякаемых соков, вырвутся зеленые побеги, раскинутся могучим древом — от Волги до Горбов, от Дышучего до Русского моря.
Забулькало в груди у Микулицы, болезненный кашель потряс его тело. Глаза снова заволокло туманом. Протопоп прикрыл веки, черты лица его подобрели, и он вновь отрешился от мира.
Неслышно приблизился служка, коснулся Никиткиного плеча. Повинуясь его жесту, старась не потревожить протопопа, Зихно и Никитка тихо удалились со двора.
Город просыпался. Веселый и нарядный народ спешил к заутрене.
4
Приняв Словишу, выслушав его неторопливый рассказ о новгородских делах, Всеволод уединился в своей любимой горенке где вдоль стен высились полки с оставленными братом книгами, стоял простой деревянный стол и кресло, в котором Михалка любил сидеть и думать глядя в оконце.
Нынче снова поднимались в князе неясная тревога и гнев, который он старался заглушить, листая пергаментные страницы любимой «Александрии». Но за хитрой вязью букв, за бесстрастными словами, не падавшими в сердце, вставало прошлое, вроде бы сгинувшее навсегда, и вправду сгинувшее для шумной и многоликой толпы, заполнившей улицы Печернего, Ветчаного и Нового города.
Прошло всего три года, как он, продрогший на пронзительном ветру, растерянный и ошеломленный внезапной бедой, которая, как ему казалось, была далеко и не грозила Владимиру, обманутый новгородцами, обещавшими и не пришедшими ему на помощь, проехав в глубоком трауре сожженную Глебом рязанским Москву, примчался с дружиной в Переяславль, чтобы собрать войско. Здесь его уже ждали степенные бояре, льстили и уговаривали не идти без подмоги, потому что с Глебом половцы — неисчислимая, дикая рать. «Поверни обратно, — говорили они. — Новгородцы задержались в пути. Подсобят тебе и черниговцы».
Всеволод кричал на бояр, обвинял их в измене, иных приказал посадить в поруб. Бояре роптали, Всеволод, простудившийся в пути, всю ночь дрожал и пил отвары целебных трав. Дружинники не тревожили князя.
Утром он явился в гридницу, велел привести бояр и сказал, что доверяет им в последний раз. Бояре улыбались и кланялись ему, но по лицам их, подернутым бледностью, Всеволод понял, что и они-то не очень верят Боярскому совету и боятся расплаты.
Прошло еще два дня. Прискакавший из Владимира гонец, бросив на дворе загнанную и подыхающую лошадь, сообщил, что Глеб с половцами подступил к самому городу, что он уже спалил Боголюбово и готовится брать Суздаль.
Всеволод поднял свое войско. Когда он уже двинулся к Коломне, его нагнали по пути Олег и Владимир Святославичи, а чуть попозже присоединился с малой дружиной Владимир Глебович из Переяславля Южного.
У Коломны Всеволода настиг второй гонец, который сообщил, что половцы, разорив деревни и погосты, забрали большой полон и что Глеб вместе с ними делит добычу. Микулица вывел на крепостные валы Владимира всех, кто может держать копье и меч, суздальцы отбивают приступ за приступом.
Не дойдя до Коломны, Всеволод повернул войско свое на восток. Решалась судьба всего задуманного и сделанного. И он спешил. Он не давал отдыха ни коням, ни людям. Обозы остались далеко позади — обозы подтянутся; впереди мерещилось кровавое зарево. Ночами Всеволод слышал крики и детский плач, перед глазами его проходили страшные видения: обуглившиеся срубы, черные стены церквей, изрубленные, корчащиеся в предсмертных муках люди.
На что способно предательство? Где границы человеческой алчности?.. А может быть, он, Всеволод, своей твердостью и неуступчивостью призвал на родную землю неслыханную беду?! Может быть, следовало уступить, уйти в Переяславль, отдать Владимир и Суздаль ожиревшим ростовским боярам? Может быть, они защитили бы родную землю от поганых?..
В те дни впервые дрогнуло у Всеволода сердце. Впервые подумал он тогда о правильности избранного пути. И это были страшные дни и ночи, ночи и дни, проведенные в тревоге и беспощадной бессоннице.
Но, когда, подойдя к Колокше и разглядев на противоположном ее берегу нестройное Глебово войско, покинутое половцами, он выехал вперед на коне и увидел нацеленные ему в грудь разрывчатые луки, сомнения смыло — и осталась только уверенность, утвердившаяся в нем с того утра на всю жизнь.
Глеб был разбит, сгнил в порубе, снова поднялись и расстроились храмы. Ожила торговля, расцвели ремесла, тучные хлеба взросли на некогда вытоптанных половецкими конниками полях.
Но корни раздора остались. Они набухали в политой кровью земле, буйно прорастали чертополохом.
Всеволод сидел над раскрытой «Александрией», подперев кулаком подбородок, глядел в тускнеющие окна, но глаза его не ловили ни нежно-розовых красок заката, ни причудливых теней, ложащихся на ковер, ни колеблеющегося, тонкого, как паутинка, огонька лампады перед ликом Христа. Глаза его были устремлены в прошлое, а мысли жили в будущем. Но уже не было в нем ни слабости, ни сомнения. Была цель. Были осторожность и изворотливость.
Он, словно лесной зверь, научился видеть опасность, чувствовать неуловимый запах надвигающейся беды.
И не со стороны Новгорода дул сейчас пахнущий дымком тревожный ветер. До Новгорода дойдет черед. Поставит он на колени и Боярский совет, и строптивое вече, даст своего посадника и князя.
Опаснее был Киев. Осторожный Святослав, мудрый, как старая сова, и хитрый, как лис, слал ему полюбовные грамоты, а сам сносился с Романом, чтобы отколоть Рязань, и опирался на Юрия, как на будущего сговорчивого владимирского князя.
Больнее всего ранила Всеволода измена Юрия. Но еще оставалась надежда: а если это навет? Если кому-то понадобилось устранить не только его, Всеволода, но и последнего из Юрьева корня? А Владимир отдать на кормление приходящим князьям?..
Темнело быстро. Чувствуя томление в сердце, Всеволод встал, приблизился к иконостасу, долго молча стоял, вглядываясь в отрешенное лицо Христа. Обращаясь молитвами к богу, он искал в них освобождение от сомнений, но освобождение не приходило. Не было той ясности в мыслях, которой он ожидал от молитвы, не было и облегчения. Молитва не обращала взора его к небесам, суетные тревоги и каждодневные заботы заполняли весь мозг, все существо князя.
По крутой лесенке он спустился из горенки в сени, где на возвышении смутно виднелся княжеский столец, а вдоль стен тянулись накрытые коврами лавки. Представил себе сидящих на лавках бояр, их скрытые бородами безучастные лица — поморщился и толкнул дверь. На всходе, опершись на копье, стоял молодой воин; при виде князя он выпрямился, отступил чуть в сторону — Всеволод сошел во двор.
Один, без дружинников и без меченоши, он проехал по улицам спящего города к соборной церкви, невдалеке от которой находился терем Микулицы.
Казалось, протопоп ждал его. Он не спал, был в верхней одежде — в накинутом на плечи полукафтанье, в мягких потертых сапогах. Зябко ежась, Микулица разглядывал князя.
Всеволод пододвинул к себе перекидную скамью, сел напротив — непривычно молчаливый, чужой.
Микулица вздохнул, ссохшимися губами прошелестел:
— Вижу, закручинился, князь.
— Тяжко, — выдохнул Всеволод. — Не спится, молитвами сердца не облегчу. Сомнения гложут душу.
— Сомнения питают разум, — тихо сказал Микулица. — Но вера сильнее стократ.
— Вера — во что?
Улыбка тронула губы протопопа, глаза его смотрели тепло и молодо, но немощный голос говорил не то, о чем думал Микулица. Не о боге думал протопоп и не о той вере, которая обращена к богу.
— В спасителя, — сказал он.
— К спасителю взывает и Святослав. И Глеб взывал к спасителю. А сколько клятв, скрепленных именем спасителя, было нарушено — и никто из хулителей Христа не сгорел в пещи огненной…
— На небесах всем воздастся по их делам.
— Зовешь и меня смириться, отче? — отстранился от него Всеволод.
— Смириться перед богом, но не перед людьми, — сказал Микулица. — Отбрось сомнения.
— Смута и предательство подтачивают веру…
— Смуту творят люди, а не бог. А люди грешны и смертны. Не иссушай в себе веры, князь, а дело твое правое, — тихо шелестел Микулица. — Не по цветам — по шипам лежит твой путь. Не криками радости, но хулой будут провожать тебя на этом пути. И не раз еще дрогнет твое сердце и наполнится печалью… Себе ли во славу творишь задуманное?
Всеволод молчал.
— Или отойдешь в сторону и предашь дело свое? И сыщешь себе в том спасение?..
— Доносят мне, — глядя в пол, произнес Всеволод, — доносят мне, будто и Юрий в сговоре со Святославом… Так ли это?
Микулица встал. Полукафтанье сползло с его плеч, огромная белая фигура возвысилась над Всеволодом; хрипящий, с присвистом, отчужденный голос сказал:
— Не верь, князь. Наветам не верь. Но ежели сказанное не ложь — отсеки. Не поддайся жалости. Отсеки и иди дальше. Другого пути у тебя нет.
Отшатнулся Всеволод, с отчаянием глядя на Микулицу.
— Что ты, отче? — испуганно проговорил он.
Микулица глухо застонал и, схватившись за сердце, опустился на лавку.
— Эй, люди! — кидаясь к нему, закричал Всеволод.
Вбежали служки, заполнили горницу, суетясь и толкая друг друга, приподняли протопопа, бережно повели в ложницу. Микулица опадал у них на руках, тряс головой и, оборачивая побелевшее, как у мертвеца, лицо к Всеволоду, шептал слышимое только ему одному:
— Отсеки… Отсеки… Отсеки…
Глава седьмая
1
С утра по степи прошел теплый дождь, омыл травы, наполнил бурлящей водой бесчисленные ручейки. А потом на юге сквозь низко громоздящиеся тучи выглянуло солнце, изогнуло от края и до края земли многоцветную радугу, зажгло золотые искры на шелках увенчанных конскими хвостами шатров.
Много шатров раскинулось по степи, но выше всех шатер половецкого хана Кончака. Разбили его на холме, на самой зеленой вершине, на голубых ветрах, под белыми облаками и жарким солнцем. Полощет ветер золотистый шелк, стоят воины у входа с каменными неприступными лицами — молодые, широкоплечие и узкие в бедрах половцы, подпоясанные кожаными ремнями с подвешенными на боку длинными саблями.
В шатре — тишина и желтоватый полумрак, за шатром бурлит неспокойная кочевая жизнь: мычат коровы, ржут кони, кричат ребятишки и женщины, скрипят возы, грохочут барабаны. Горят по всей степи, насколько хватает глаз, бесчисленные костры, бурлит в котлах над кострами конское мясо, шипят бараньи туши, нанизанные на вертела. Степенно покачивая изогнутыми шеями, идут по степи верблюды, груженные огромными тюками с богатыми товарами — путь их далек. Много дней и ночей будут плыть они через степи, пока не выйдут к берегам синего моря. Там их уже ждут византийские корабли, и купцы, торгуясь и громко крича, скупят награбленный половцами товар, загрузят его в трюмы и развезут по всему свету, а верблюды, все той же дорогой, все так же неторопливо вернутся назад со слитками золота, с дорогими украшениями, которые Кончак подарит своим женам — за ласки, за улыбки, за красоту. А самое дорогое украшение он оставит для своей любимой жены — для черной, как смоль, белозубой и верткой, как ящерица, Болуки.
Могуч хан Кончак, издревле славен его род, вышедший с востока, из Етривской пустыни. Ходят под могучей рукой Кончака беи, беки и солтаны, горит посреди половецкой вежи неугасимый очаг, сложенный из обожженных на солнце полевых камней. В память о погибших воинах высились посреди степи высокие курганы с каменными бабами… Обращенные плоскими лицами на восток, они держали в прижатых к груди руках чаши, а над ними плыли по черному небу загадочные звезды, по которым мудрецы предсказывали человеческую судьбу.
Счастлива судьба Кончака, сохранившего верность родной степи. Горька судьба Отрока, ушедшего на Кавказ. Не затоскует сердце Кончака, не преисполнится жалости к врагам. Слава о нем разлетится по всей земле, и содрогнутся поверженные, ибо непокорных карает меч, а тех, что склонились, ждет позорное рабство.
Так сказал Кончаку мудрый старец, пришедший со стороны Асских гор — был он согбен, немощен и слеп, но, когда незрячие, покрытые бельмами глаза его обращались к хану, сердце Кончака сжималось от суеверного ужаса.
Уже много лет манили к себе Кончака богатые русские города. Из уст вещего старца услышал Кончак о победоносных походах половцев против печенегов и венгров. Не раз склонял перед ними свою гордую голову и Киев. Но Владимир Мономах разорил половецкие становища, и теперь ему, Кончаку, даровано судьбой отмстить за былой позор.
Так сказал ему вещий старец, и Кончак велел одарить его за доброе предсказание золотом и драгоценными камнями. Но старец отказался от подарков. «Глаза мои не слышат звона золота и не видят блеска камней, — улыбнулся он. — Зачем мне золото, если я знаю сокрытое от людей». И еще добавил старец: «Я сказал тебе все, Кончак, но не сказал самого главного. Всех людей ждет один и тот же конец. И сколько бы рабынь ни положили в курган рядом с ханом, сколько бы ни зарезали в его честь коней, кости его истлеют так же, как и кости бедного странника, бредущего в рубище по бескрайней степи».
Кончак поклонился старцу, а когда он вышел, кликнул Ехира и велел отсечь предсказателю голову, потому что никто не должен слышать мятежных слов, которые довелось услышать ему. Ханы бессмертны в загробной жизни, и удел каждого — повиноваться ему и здесь, и по ту сторону роковой черты.
Ехир выполнил приказание своего господина и получил за это золотую цепь. А Кончак, оставшись в шатре один, задумался: а что если прав кудесник, — а кудесник должен быть прав, на то и читает он незрячими глазами людские судьбы по звездам, — что если кудесник прав и настало время свести с россами давнишние счеты: сейчас, когда грызутся они между собой за первенство и старшинство на Руси, поднять всех беков и пройти по их земле испепеляющим смерчем — то-то богатая будет добыча, то-то нагонят они рабов, тяжело груженные караваны направят к синему морю, где их уже ждут не дождутся алчные купцы.
У входа в шатер послышались голоса, полог откинулся, и, низко склонившись, вошел Ехир. Бей прервал спокойные мысли хана, и Кончак недовольно поморщился. Не слишком ли близко допустил он к себе этого пронырливого человека?
Но глаза Ехира смотрели на Кончака открыто и преданно — честные собачьи глаза.
— Что тебе надо? — ворчливо спросил хан, откидываясь на ковре. — Или я дал тебе мало золота за голову этого старика? Ты хочешь еще золота, много золота?..
— Щедрость твоя известна богам, — не смея поднять глаз, преданно проговорил Ехир. — Мудрость твоя безгранична, о хан. Так повели же своему верному слуге свершить еще один приговор.
— О каком приговоре ты говоришь? — удивился Кончак.
Губы Ехира растянулись в ехидной улыбке. Мелкие морщинки потекли к косицам от уголков сощуренных глаз. В глубине зрачков зажегся холодный огонек.
— Кочкарь отказался повиноваться тебе, о великий, — вкрадчиво произнес бей. — Кочкарь узнает о смерти дочери — и тогда…
Кончак насторожился: а ведь Ехир совсем не глуп, Кому, как не ему, известно, что обманутый друг почти всегда становится злее бешеной собаки. Кочкарь знает дороги к половецким вежам, знает потаенные тропы и водоемы, к которым уходит орда. И если он поведет за собой Святославово войско, то степь перестанет быть для Кончака родным домом.
Хан улыбнулся и бросил бею украшенное рубинами ожерелье. Ехир поймал его на лету, хищными пальцами ощупал холодные камушки и на четвереньках выполз из шатра.
«Пусть убьет Кочкаря», — сказал себе Кончак. И успокоенно заснул.
Утром по всем ордам были отправлены гонцы с ханским приказом: собирать войско, сворачивать шатры и юрты и спешить на Дон, где их будет ждать Кончак.
Хан выехал вперед в окружении своих телохранителей. Юноши горячили коней, смуглые половчанки бросали на них с повозок жаркие взгляды.
Кончак в парчовом кафтане, в меховой остроконечной шапке, ехал, исполненный собственного достоинства, на чистокровном актазе: крашенная хной, начавшая седеть борода обрамляла его бледное лицо, тонкие крылья ноздрей раздувались, поджатый рот кривился в ухмылке. Он знал, что и за ним украдкой наблюдает пара жгуче-черных глаз. Негритянка Болука была ревнива и мстительна.
Кончак вспомнил, как привезли ее с берегов Сурожского моря. Дивились половцы, сбегались смотреть на невиданную женщину: кожа черная, губы алые, зубы блестят, как снег, волосы упругие, свитые в мелкие колечки.
— Откуда чудище такое? — спрашивали старики.
Половцы, ходившие в Тмутаракань торговать рабами, толком и сами ничего объяснить не могли. А выменяли они ее на дюжину соболей. Почти даром взяли.
Есть, мол, такая страна, объясняли незадачливые купцы, где все такие же черные и губастые, а как попала она в Тмутаракань, никто толком объяснить не мог.
— Солнышко, что ли, там жаркое, — предполагали старики, — солнышком, что ли ее припекло?
Трогали полонянку руками, дивились, что кожа у нее мягкая и нежная.
К толпе подъехал на коне Кончак. Тоже подивился, но сразу приметил необычную красоту рабыни. Была она стройна и крутобедра, маленькие девичьи груди торчали острыми сосками, истома исходила от всего ее блестящего, тугого тела.
Взмахнул Кончак плетью, разогнал ротозеев, а негритянку велел свести в свой шатер. Подивились про себя купцы, но ханской воле перечить не стали…
Пленила Кончака черная Болука, совсем потерял он голову, забыл своих прежних наложниц. Дни и ночи проводил он в ее шатре, одарял ее шелками и бархатами. Часами заслушивался он песнями, которые она пела, постукивая ладошками по барабану, любовался жгучими танцами, сжимал Болуку в своих объятиях, припадал губами к ее острым соскам.
Но когда однажды ушел он в шатер к булгарке, привезенной Ехиром из волжского набега, Болука подстерегла ее на реке и, не дрогнув, зарезала кинжалом, выкраденным у Кончака.
Сначала, узнав о случившимся, хан рассердился, но потом отошел и еще сильней полюбил свою черную рабыню.
2
Обложенный половцами Переяславль взывал о помощи. Но помощь была далеко — в несколько переходов от Киева, от Чернигова еще дальше. За Днепром пылали деревни, люди бежали со скарбом на переправы, рассказывали страшное. Свирепствуя, как никогда, степняки угоняли скот, грабили церкви, оскверняли могилы. Детей и женщин уводили в полон, всех, кто оказывал сопротивление, вырезали, оставляя на пути своем пепелища и изуродованные трупы. Почуяв запах крови, над степью кружили стервятники.
Святослав, собрав наскоро войско, двинулся на выручку Переяславлю. Кочкарь вел его коротким путем к Лукомлю на Суле, где была самая удобная переправа через Днепр. Зная хитрого и коварного Кончака, он надеялся перехватить его до отхода в степь. В степи половчанин у себя дома, в степи его не выловить. Кружа и заманивая за собой, он измотает силы русских, а после нагрянет с той стороны, откуда его совсем не ждут.
Потом стали поступать тревожные вести из Триполья, и Святослав предложил разбить войско на две части: одну — к Переяславлю поведет он сам, вторую — к Триполью — возьмет на себя Кочкарь.
— Не верь Кончаку, князь, — убеждал его Кочкарь. — Хитрая лиса только и ждет, чтобы мы разделили свои силы.
Князь согласился с ним. Но время, ушедшее на споры, было потеряно. Нагруженные добычей половцы уходили в степь. На Суле удалось нагнать лишь небольшой отряд. В короткой схватке полегли почти все. Но троих половцев взяли живьем и привели к Кочкарю.
Один из них выделялся могучим ростом и богатой одеждой. Кочкарь подумал, что это бей.
— Я знаю — за два перехода Кончак не мог уйти далеко, — сказал он пленнику. — Скажи мне, куда он ушел, и я разрешу тебе возвратиться в степь.
— Кончак ушел за Дон, — сказал пленник. — Но Ехир ждет тебя за Сулою. И еще скажу я тебе, Кочкарь. Дочь твоя мертва.
Побледнел Кочкарь, покачнулся. Схватил половца за воротник, потряс, с ненавистью оттолкнул от себя.
— Врешь.
— Ты храбрый воин, Кочкарь, — повторил пленник онемевшими губами. — Но дочь твоя мертва, а Ехир рыщет по степи, чтобы принести Кончаку твою голову.
Опустился Кочкарь на колени, закачался из стороны в сторону. Сдавленный стон вырвался из его груди. Упав лицом в траву, он впился ногтями в землю и долго лежал без движения.
Прошло немало времени; когда же Кочкарь встал и посмотрел вокруг себя отрешенными глазами, воины не узнали его. Лицо князева любимца окаменело, сжатые губы были покусаны.
Не сказав ни слова, он медленно сел на коня, дернул поводья и двинулся по степи. Переглянувшись, воины последовали за ним. На половцев никто и не обернулся. Удивились степняки: странные люди эти россы. Кто же оставляет в живых вестников беды?.. Или они так горды, что не страшатся кары беспощадных богов?
Ехир ищет Кочкаря — этот жирный ханский прихвостень. Кочкарь вспомнил, как он лебезил и пытался припугнуть его на Святославовом дворе, угрожая расправой над оставшейся в орде дочерью. Когда это случилось? Уже тогда, когда Ехир был в Киеве, или позже, когда вернулся с подарками?
Пленный половец не врал. Кочкарь видел это по его глазам. Глаза, заглянувшие в бездну смерти, не умеют лгать.
Пусть Ехир ищет Кочкаря. Он сам поможет ему в этом. И хоть велика степь и много путей и перепутий пролегло по ее широкой груди, а их дороги сойдутся.
Холодный ветер от реки остудил охваченную словно раскаленными обручами голову. Кочкарь снял шлем, провел дрожащей рукой по растрепанным ветром волосам. Что ж, теперь они поменялись ролями. Кочкарь стал охотником, Ехир — дичью.
Всю ночь маленький отряд рыскал по ночной степи.
3
ганным ветром, ослепленные, испуганные лошади ржали и рвали постромки.
Повозка с Болукой разбилась, лошади ускакали в степь. Один только конь остался с хозяйкой — он-то и спас ее от беды. Иначе погибла бы любимица хана, выклевали бы очи ее хищные птицы, к весне ветер выбелил бы ее кости… Крепко обхватив ногами мокрый от пота, теплый круп коня, скакала Болука к своим становищам за войском Кончака…
Над кромкой горизонта, куда стекали налитые свинцовым дождем тучи, появилась светлая полоса. К полудню тучи совсем раздвинулись, солнце набрало силу и, разогрев набухшую от дождя землю, наполнило воздух душными испарениями. Разморившись от жары, Болука не заметила, как задремала. Ей снилось, будто она совсем маленькая, рядом с ней сидит мать и толчет в деревянной ступе просо, а отец, большой и сильный, играя упругими мускулами, сгибает над костром лук и натягивает на него тетиву. Над соломенными крышами вьется синий дымок, над рекой разносятся голоса — там мужчины вытаскивают на берег больших белых рыбин и, оглушая их ударами дубин по голове, продевают сквозь жабры бамбуковые палки. В темном лесу, окружившем деревню, таится пленительная прохлада, веселые разноцветные птички, перепрыгивая с ветки на ветку, оглушают воздух пронзительными криками…
— Гляди-ко, братцы, черная, будто из печи, — услышала Болука у самого уха удивленный возглас, открыла глаза и увидела себя в кругу белолицых улыбающихся воинов в остроконечных шлемах. У воинов были голубые глаза и русые бороды. Они смотрели на нее без враждебности, переглядывались друг с другом, шутили.
— На половчанку не похожа.
— Половчанок мы видывали.
— А эта откуда?
— Девка…
— Ну и диво!
Один из них, большеглазый и низкорослый, поддернул тянувшегося в сторону коня и хмуро сказал:
— Конь-то половецкий.
— Да ты на девку взгляни.
— А что на нее глядеть — девка как девка. А то, что черная, этого и впрямь не видывал. Но слышать слыхивал: разные есть на свете люди — и белые, и черные, и желтые. Да только как ее в степь занесло?
— Ты, Кочкарь, спроси-ка ее. Может, она по-половецки лопочет, — посоветовал один из воев.
Кочкарь сказал ей несколько слов на половецком языке, Болука отрицательно покачала головой.
— Хворая, немая вроде…
— А одежда на ней ханская, — заметил кто-то.
— Точно — из Кончаковского обоза. Знать, отбилась во время грозы.
— Значит, наша добыча, — сказал, осклабившись, молодой вой и, подъехав к Болуке вплотную, потянул ее за платье. Белука вскрикнула. Конь встал на дыбы, заржал, забил в воздухе передними копытами. Негритянка упала в траву, вскочила, бросилась наутек.
Смех да и только — разве от конных убежишь? Нагнали ее вои, окружив, снова стали смеяться. Вот такую в Киев-то привезти: то-то подивится народ.
— Хватит зубы скалить, — остановил развеселившихся воев Кочкарь, — аль забыли, зачем в степь шли?
— Забыть-то не забыли, а что с пленницей делать?
— Отпустить ее, — посоветовал кто-то.
— Отпустить — дело не хитрое, — сказал, задумавшись, Кочкарь, — но ежели отбилась она от обоза, своих ни за что не сыщет. Погибнет девка с голоду али звери загрызут.
— Жалко такую-то.
— Добро бы взять с собой…
— А как ее возьмешь?
— Седла даже нет.
— Седло сыщем.
Знаками велели негритянке садиться на коня. Подложили попону, чтобы мягче было, нашлась у кого-то и упряжь. Ехали, веселились: не один Кончак, вот и мы с добычей.
— А что, как это ханская наложница? — сказал Кочкарь.
— Может, и ханская. Но таких-то у половцев я что-то не встречал, — заметил молодой вой. Он все норовил ехать поближе к негритянке, заглядывая Болуке в лицо, ухмылялся и щелкал языком: красивая.
— Бери, коли нравится. Только в баньке наперво отмой, — посоветовал молчавший до сих пор сотник. — Парку поддай покрепче да веничков припаси поболе: может, побелеет…
— А с женой-то что станешь делать? — спросил, улыбаясь, Кочкарь.
— Он к половцам подастся, — сказал сотник. — У половцев жены смирные.
Ехали так, балагуря, по степи. Не заметили, как из балки высыпали пригнувшиеся к лукам всадники. Завопили, растеклись по полю, окружили воев со всех сторон. Встали на расстоянии и посмеиваются. Ни стрелы в них не метнешь, ни на мечах не сойдешься.
Понял Кочкарь, что угодил он со своими воями в ловушку и что из ловушки этой ходу нет — разве только в загробное царство или в рабские колодки. Похолодело у него на душе от ненависти и бессилия, потому что увидел он перед собой ухмыляющегося Ехира — на белом коне, в шапке на лисьем меху, в накидке, украшенной драгоценными камнями, с луком в опущенной руке.
Искал он Ехира, чтобы сквитаться за дочь. Нашел, а сквитаться уж не доведется.
— Здравствуй, Кочкарь — сказал Ехир. — Вот и не думал, что встретимся. Давно ли беседовали на княжеском дворе. Не пора ли побеседовать в поле?
— Искал я тебя, Ехир, — ответил Кочкарь и вытянул из ножен меч. — Знать, бог улышал мою мольбу.
Вои последовали его примеру. Умирать единова. А за каждую русскую голову не одна половецкая падет.
Но не сошлись они в жаркой сече, не скрестили острых мечей: натянули половцы тугие луки, пустили по стреле — и остался Кочкарь один в кругу, да еще встреченная в степи негритянка.
Не пожалел его Ехир, дал взглянуть на смерть своих товарищей. Подъехал к Кочкарю, поклонился, приложив руку к средцу:
— Спасибо тебе за подарок. Спас ты любимую наложницу Кончака. Много золота получит за нее Ехир, а еще больше золота — за твою, Кочкарь, голову.
— Да что моя голова, — сказал спокойно Кочкарь. — Жаль только, что не сквитался я с тобой, собака, за погибель своей дочери.
— Не грусти, Кочкарь, — засмеялся Ехир. — Дочь твоя не будет одинока. Скоро свидитесь.
И кивком головы он приказал половцам вязать Кочкаря. Бросились они на него, как собаки на медведя, — поднял Кочкарь коня на дыбы, взмахнул мечом — так и откатились от него поганые. Бросились во второй раз и во второй раз расшвырял их Кочкарь. Откуда и сила взялась, вроде бы и не молод уж, да и раньше не отличался ловкостью, а тут попробуй-ка возьми, его.
Но разве от сотни один отобьешься? Свалили половцы стрелой коня, забился серый в предсмертной судороге, подмял под себя Кочкаря. Тут-то и взяли Святославова любимца, тут-то и накинули на шею ему петлю, да так, с петлей на шее, и подвели к Ехиру.
Плюнул ему Ехир в глаза и повелел связать потуже. А связанного бросить в повозку.
— Доставлю тебя к хану, Кочкарь. Авось и простит?.. Хотя все равно не сносить тебе головы. Уж больно спесив и горяч ты. Да веру сменил — какому богу будешь молиться?.. Нет, не простит тебя хан.
Оглянулся Кочкарь в последний раз на трупы своих товарищей. Ослепила его ненависть, увела на погибель в степь. Знал ведь, знал, что стережет его Ехир, но разума не послушался. Впервые отказал Кочкарю рассудок.
Широка, привольна половецкая степь — дни и ночи скачи по ней. До пояса подымаются в степи ковыльные травы, звенят кузнечики, шелковое небо струит над степью ласковые ветерки.
Любил Кочкарь еще в далеком детстве глядеть на небо, когда вот также, в скрипящей повозке, ехал куда-то со своей ордой; отец погонял лошадей и пел песню, которой никогда не было конца, мать перебирала зерно на похлебку, младший братишка посапывал в подвешенной к перекладине веревочной сетке. А Кочкарь смотрел на небо, на солнце, золотящее края облаков, на серебряные нити дождя, протянувшиеся до зеленой земли.
Любил Кочкарь бегать босиком по степи, любил гонять коней на водопой, купаться в прозрачных речках, вытекающих из нагретой солнцем ласковой и мягкой земли.
Да и сам он вышел из этой земли и в эту землю вернется. Никто никогда не узнает, как он погиб и где зарыли его тело. И животворящее тепло уходящего и, может быть, последнего в его жизни дня наполнило Кочкаря истомой: он закрыл глаза и крепко заснул.
Проснулся Кочкарь от удара в бок — кто-то мычал и ерзал рядом с ним: он почувствовал, что веревки на запястьях ослабли, дернул — освободил руки. Чья-то ловкая рука перерезала путы на ногах, незнакомый голос прошептал:
— Беги, Кочкарь, беги, пока не поздно. Вот тебе меч, а коня увидишь за ручьем в ложбинке.
— Кто ты? — спросил Кочкарь, сжимая рукоятку протянутого ему меча.
— Беги, — повторил голос, и тень нырнула под повозку.
Оглянулся Кочкарь. Спустился на землю, шагнул в темноту. Под кустом, обняв копье, подремывал воин. Услышав шорох, проснулся, вскочил, хотел крикнуть, но лезвие меча, погрузившись в бок, повалило его навзничь. Кочкарь нагнулся, снял со спины обмякшего половца лук. Он не спешил уходить. Были еще у него свои счеты.
Ехир сидел у костра на корточках и обгладывал баранью кость. Теплый жир стекал по его рукам и подбородку. Борода лоснилась, маленькие глазки блестели от удовольствия.
Маленькая стрела, пронзив ночную мглу, сверкнула над костром и задрожала в запрокинутом горле Ехира. Выронил он кость, схватился обеими руками за оперенный конец и, захрапев, упал лицом в костер. Горячее пламя объяло его одежду, взвихрилось к небу красными пчелами.
Быстрый конь уносил Кочкаря от замешкавшейся погони, а на дне балки трепещущий от восторга половец обнимал Болуку. За щедрость она платила щедростью, жизнью — за жизнь.
4
— Радуйся, жинка, что живым воротился. Чай, и простыми хлебами обойдемся. Да и мед, поди-ка, не весь Онофрий вылакал?
— Как же, только Онофрия мне и не хватало, — добродушно сказал Улейка. — Своего бражника мало…
— Своего-то схоронила?
— Типун тебе на язык.
Житобуд был болтлив и счастлив. Княжеское поручение он выполнил, угодил и Кочкарю с княгиней — будет нынче в избе его праздник. А за наградой дело не встанет. Хоть и скуповат Святослав, но на этот раз придется ему раскошелиться. И обещанную тысячу даст Житобуду. То-то позавидуют соседи.
Узнав, что Святослав и Кочкарь в походе, первым делом навестил он друга своего Онофрия.
Постельничий был приветлив и встретил его с порога ласковой улыбкой.
— С приездом, Житобуд, — сказал он, вставая с лавки и раскрывая объятия. — Дай-ка погляжу на тебя: все такой же — молодец молодцом.
— А каким мне еще быть? — хвастливо выпятил грудь Житобуд. — Кость да жила, да все сила.
— Вспоминал я тебя, частенько вспоминал, — говорил, ходя вокруг него, Онофрий. — Соберутся у меня гости, выспрашивают: нет, мол, Житобуда, совсем пропал, уж беды какой не случилось ли?
— Ну, а ты? — благодушно улыбался Житобуд.
— Я себе на уме, — хитро подмигивал постельничий. — Сговор наш помнишь ли?
— Как не помнить.
— То-то же. Эй, хозяйка! — кликнул Онофрий жену. — Неси-ка нам вина, из той корчаги, что лонись купцы подарили. Пировать будем, а разговор у нас не короткий.
Длинный вышел разговор. Все выпытывал Онофрий, какое такое дал ему князь поручение. А Житобуд хоть и был пьян, хоть и языком едва ворочал, но все дураком прикидывался и ни о чем не проболтался. Уж очень хотелось ему получить тысячу, а через Онофрия все может полететь к бесу: болтлив Онофрий — завтра же всему Киеву разблаговестит.
— Не узнаю я тебя, Житобуд, — зудел захмелевший Онофрий. — Обличьем вроде бы все тот же: страхолюд, а не человек. Зато язык у тебя будто закаменел. Аль рассказать нечего?
— Чего ж рассказывать-то — делал удивленные глаза Житобуд. — Ты у князя первый человек, тебе и без меня все ведомо.
— Что ведомо, то ведомо, — хорохорился Онофрий. — Да вот от тебя ничего не слышу.
— Еще услышишь, — пообещал Житобуд.
Утром раненько, только первые петухи пропели, только поползли через ворота в город возы, кликнула его к себе княгиня.
Шел Житобуд в Гору, весь светился от радости. В терему встретила его раскрасавица девка, провела в княжеские покои. Оставив наедине с Васильковной, тихо удалилась.
Житобуд упал на колени, коснулся пола лбом. Княгиня приветливо указала ему на лавку. Житобуд сел на самый краешек, вытянул шею, боясь пропустить словечко.
— С приездом тебя, Житобуд, — певучим голосом проговорила княгиня. — Со счастливым возвращением.
— Благодарствую, матушка, — сказал Житобуд и снова навострил уши.
— Ну, сказывай, каково ездил, передал ли грамотку?
— Грамотку твою и князеву передал, сделал все, как было велено, — с готовностью подтвердил Житобуд.
— А с князем Юрием виделся ли? — испытующе допрашивала она его.
— Виделся и с князем Юрием.
Васильковна подалась вперед, пальцы ее сжали подлокотники кресла.
— Ну как, здоров ли он? — спросила дрогнувшим голосом.
— Здоров и тебе того же желает. А на грамотку твою велел так сказать: пойдет Роман на Владимир, — он помешкал, морща лоб, как бы чего не спутать, — пойдет, сказывал, Роман на Владимир — я Всеволоду не подмога. Хватит и того что вместе с ним скидывал Ростиславичей. На то и была воля Святославова. И нынче великий князь — в Киеве.
Евдокия облегченно вздохнула и откинулась в кресле. Ответ Юрия понравился ей. Да иначе и быть не могло. Уж не раз дивилась она терпению молодого князя.
А Житобуда нужно отблагодарить. Вон как сверлит ее глазами — не из одной только верности пробирался в Рязань да Владимир, рассчитывал и на награду.
Сняв с пальца перстень с желтым камушком, протянула его Житобуду.
— Вот тебе, сотник, на счастье. А князь за наградой тоже не постоит. Ступай.
И она отвернулась к окну. Житобуд тихо вышел за двери, где его уже ждала та самая девка, что встречала в сенях. Девка улыбнулась ему и повела за собой.
Ликующий Житобуд похвастался перстнем перед женой. Глаза Улейки заблестели: и вправду, стал ее страхолюд большим человеком. Этакими-то подарками князья зазря не разбрасываются.
Взяла у Житобуда перстень, примерила на свой палец — в самый раз. Сказала мужу:
— Тебе-то мал перстенек.
— Ловка, — почесал Житобуд затылок.
Вечером Улейка сама выставила ему целую ендову меду.
— Вишь, для тебя сберегла, а ты — Онофрий, — приткнулась она к нему бочком.
Житобуд выпил чару и обнял жену. И вовсе не злая у него Улейка. Баба как баба.
Хорошо дома. Благодать!
5
В грязник повсюду на Руси справляют свадьбы. Гуляли свадьбы и во Владимире. И были они особенно веселыми и хмельными: по старому поверью, снег на первый день праздника — к счастью для обрученных.
Еще с вечера было тепло, даже дождя не предвиделось. А ночью сошлись над городом тучи, подул холодный ветер, и к утру улицы стали белым-белы.
Стар и мал — все высыпали на волю; на площадях толпы, веселый смех, скоморохи. На валы вскарабкивались ребятишки с санками, играли в снежки — румяные, счастливые.
Мария не могла выйти на прогулку — тревожная тяжесть в животе приковала ее к постели. Ребеночек шевелился под сердцем и просился на волю. Княгиня прислушивалась к толчкам, растерянно улыбалась. В окна струилось беловатое сияние, у ног Марии сидела Досада и рассказывала, о леших, которые на грязнихи перестают бродить по лесу, а со злости ломают деревья, загоняют всех зверей по норам и сами проваливаются сквозь землю.
Любила Мария сказки и особенно вот эту — о хитром мужике, который подглядел лешачьи проказы.
— Жил когда-то в деревне мужик, — певуче рассказывала Досада, — собой не мудрой, но зато такой проворный, что всегда и везде поспевал первой. Поведут ли хороводы, он первой впереди; хоронят ли кого, он и гроб примерит и на гору стащит; присватывают ли кого, он поселится от рукобитья до самой свадьбы, и поет и пляшет, обновы закупает и баб наряжает. Отродясь своей избы не ставил, городьбы не городил, а живал в чужой избе, как у себя во дворе. Хлебал молоко от чужих коров, ел хлеб из всех печей, в деньгах счету не знал. Об одном только не догадывались православные: откуда к нему деньги валятся? Старики поговаривали, что он запродал душу нечистому. Молодые судили по-своему: он-де клад нашел и золотом и серебром. Старушки уверяли своих кумушек, что удалой таскает свои деньги из вороньего гнезда. Там, мол, никогда деньгам переводу нет. Вот затем-то и в лес ходит каждый день…
В ложницу без стука вошла Ольга, сестра Всеволода, жена галицкого князя Ярослава Осмомысла, недовольно покосилась на Досаду; грузная, заплывшая жиром, — села на скамью, тяжело дыша, уставилась маленькими глазками на Марию.
Приехала Ольга во Владимир еще на прошлой неделе, но уже хозяйничала, словно жила здесь вечно. Ее ворчливый голос подымал с утра дворовых людишек, раздавался в сенях и на кухне — всюду она совала свой нос, всем была недовольна и даже Всеволоду выговаривала, что, мол, распустил он своих холопов да каменщиков, скоро ему на шею сядут.
Всеволод терпел ее, в споры с ней не вступал, но однажды, разгорячившись, крикнул, что она — в его тереме, не у себя дома, — уезжай-де к Ярославу, там и наводи порядок. Никто тебя во Владимир не звал, а то что спутался муж с Настасьей, так это неспроста — от такой сварливой бабы и к холопке сбежишь.
Ольга схватилась за грудь, упала навзничь и стала поносить Ярослава такими словами, которых и мужик-то боронится — как бы кто из баб не услышал.
— Ты Настасью-то зря честишь, — немного поостыв, сказал Всеволод. — А то, что с боярами связалась да вторгла княжество в смуту, нет тебе и не будет прощения.
— На боярах стояла и стоять будет Русская земля, — ответила, выпрямляясь, Ольга, — И ты поостерегись. Со старшего-то брата пример не бери.
— Спелась, спелась с Константином Серославичем, — покачал Всеволод головой. — Волос-то длинный, да ум короткий. То-то радуешься — сожгли бояре Настасью на костре. Да видано ли такое злодейство?
— Невзлюбил ты меня, — пожаловалась Ольга.
— А за что любить-то?
— Аль говоришь от себя?
— Живи покуда. Но боярина, полюбовника твоего, Константина Серославича, в княжество свое не допущу. Довольно с меня смуты, хозяйничайте в своем Галиче. Только, как наследство делить будете, ума не приложу. Владимир твой слабоумен, а Олега, прижитого от Настасьи, бояре твои в князья не возьмут.
— Что же ты мужа-то моего загодя хоронишь? — выкрикнула Ольга, колыхаясь ожиревшим телом. — Что это ты такое говоришь?
— А то говорю, — оборвал ее Всеволод, — что загубила ты его. Хиреет Ярослав. Небось бояре радуются. А то и травки в питие ему подсыплют. Сожгли Настасью, сведут в могилу и Ярослава. Помяни мое слово. И еще помяни, за Владимира твоего я не вступлюсь…
— Племянник он твой, родная кровинушка, — пустила слезу Ольга.
— Кровинушка-то кровинушкой, а боярам своевольничать на Руси, холопов грабить, скотницы свои золотом набивать да на крови-то счастье свое строить я не позволю. Будь у меня такой Константин Серославич, давно бы голову ему отсек, чтобы другим было неповадно…
Вот он какой стал, Всеволод-то, подумала Ольга, а ребеночком был хилым и послушным. И, выпячивая губы, дразня брата, со злорадством произнесла:
— Не хвались, на рать едучи. Других-то поучать все мы горазды, а вокруг себя посмотрел?
— А что смотреть-то? — насторожился Всеволод.
— Бояр-то своих срамишь, а как повернут они супротив тебя?
— Уже поворачивали.
— Да опереться им было не на кого. Ростиславичи — те сопляки, молоко на губах не обсохло. А как законного князя сыщут, а как притянут к ответу?
Ничего не сказал ей на это Всеволод, хоть и попали ее слова в самое больное место. Уходя от сестры, бледный и взбешенный, он отгонял от себя мысли о Юрии, но втайне соглашался с Ольгой: вона уже куда докатилось…
Ольга не собиралась долго жить во Владимире: бояре доламывали Ярослава, и, как только прискачет от них гонец, тут же она и уедет в свой Галич. Ярослав и правда слаб здоровьем, но упрям, как и прежде: нельзя допустить, чтобы завещал он княжеский стол Олегу.
Уж сколько раз давала она себе слово не браниться со Всеволодом, сколько раз зарекалась, но, привыкнув повелевать, сломить себя не могла.
И снова раздавался ее визгливый голос в дворцовых переходах, снова распекала она гридней и слуг, а на кухне совала нос в каждый котел.
Мария была терпимее Всеволода. И хоть в советах Ольги не нуждалась, но выслушивала ее всегда со вниманием, кивала головой и улыбалась. В тереме у княгини Ольга отводила душу.
Сидя на лавке, оплыв как тесто в корчаге, она рассказывала молодой княгине, как родила первого, мертвого ребеночка, как потом появился на свет Владимир, как рос он, вечно хворый и худосочный.
— За робость невзлюбил его отец, — жаловалась она Марии. — Возьмет на охоту, а он с коня упадет — слабенький. Меча-то поднять не мог, сидел в тереме, слушал, как девки рассказывали байки. И еще пел он у меня хорошо.
Вспоминая о сыне, Ольга вся так и преображалась. Глубокие складки на ее жирном лице разглаживались, голос обретал чистоту и певучесть.
— Ругал меня Ярослав: почто холишь сына, почто к бабьим хороводам приучиваешь? А мне как быть? Как мне-то быть, коли некому за сыном приглядеть, коли сам отец связался уж с этой девкой и ничего-то у него не осталось на уме окромя одной только похоти?..
Всеволод рассказывал Марии о Ярославе по-другому: и силен он, и храбр, в битве — всегда впереди; боялись его враги, а пока он отбивался от недругов, бояре точили его княжество изнутри. Преуспели. Добились своего. Главное проглядел Осмомысл. Одной-то храбростью от всех не отобьешься.
Но Ольге Мария не перечила — старая женщина вызывала в ней жалость. И еще ей было сейчас не до нее. Под сердцем постукивало и просилось на волю маленькое существо, которого она ждала уже долгих девять месяцев, которого ждал Всеволод и о котором они вместе мечтали.
Досада выскользнула из ложницы, оставив княгинь наедине. Были у нее свои заботы, которые она хотела высказать Марии, но Ольга помешала ей. А может быть, и к лучшему? Может быть, просто выплакаться втайне ото всех? Ни к чему нести свои печали на площадь — людей много, а беда у нее одна.
Под самый грязник приглашал отец сватов. Приходил к нему боярин Зворыка, приводил сына своего Василька. Звали из светелки Досаду. Расхваливал Разумник свою дочь, как товар на торгу. Краснела Досада, краснел Василек. Чувствовала боярышня — чужая она ему. А бояре радовались красивой паре. Ну чем не муж и жена?..
Под вечер оставили их вдвоем. Василек густо краснел и прятал глаза в свои по-девичьи пушистые ресницы. Досада теребила в руках подаренный Разумником шелковый платок.
О чем говорить им? Чужие они. И у Василька на уме другая — слышала про то Досада в хороводе.
— Не люблю я тебя, Василек, — сказала Досада. — Не по душе ты мне.
— Сердцу не прикажешь, — робко кивнул Василек, не решаясь поднять на нее глаз. — Да и ты не моя лада. А что делать? Как воли отцовой ослушаться?
— Тихий ты…
— Не обижайся на меня, Досадушка, — попросил Василек. — Не кори без дела. Ежели что, я за себя постою. Да в этом ли беда? О том ли говорим мы с тобой?
Впервые заглянула ему в глаза Досада — нет, не робкий Василек: взгляд прямой, смелый. Да неужто ж сломит его старый боярин?
— Крутая у моего отца рука, ох, крутая, — сказал Василек.
— Да и мой не лучше.
И, сказав так, они улыбнулись друг другу, словно заговорщики. Полбеды свалилось у Досады с плеч. Повеселела она.
Вышли они к отцам румяные, счастливые. А отцы брагу допивают, разговорами друг друга тешат. Поглядели на молодых, переглянулись. А Досада им и говорит: не хочу, мол идти за нелюбимого, да и у Василька другая на уме.
Икнул Зворыка, привстал со скамьи да как ахнет кулаком по столу:
— Это какая еще такая другая? Это что еще за непослушание? А я? А отцова воля? Ну — говори, сучий сын.
Не испугался его Василек, не дрогнул, не согнулся под тяжелым отцовым взглядом.
— И говорить тут нечего, — отвечает. — Все Досадушка сказала.
— Это как же тебя понимать? — привстал и Разумник, уперев пудовые ладони в столешницу. — Это какие такие слова ты ему сказала?
— А те слова, что не люблю я его и замуж идти не собираюсь.
— И я не женюсь на Досаде, хоть и красивая она, хоть и нравом некуда лучше, а сватай меня, отец за Настасью, Перенегову дочь, — произнес Василек, не опуская глаз под свирепым взглядом Зворыки.
Шуму было до самого потолка. Кричал Разумник, Зворыка кричал, а уломать молодых так и не смогли.
Увел Зворыка своего сына, во дворе надавал ему подзатыльников. Досада заперлась в светелке, два дня не выходила к столу, на третий день отец сжалился, сам постучался в дверь.
Отворила ему Досада и обмерла от жалости: совсем одряхлел ее отец, спал с лица, глаза потухли, под глазами набухли коричневые кошели.
— Осрамила ты меня, доченька, на весь город, — сказал он. — А все родное дите. Не сердись на меня, старого. Хотел я тебе добра, да видно бог не велел. Ступай вечерять…
А за ужином сказал так:
— Думаешь, доченька, одна ты и хитра. Думаешь, никому про то не ведомо, как встречаешься ты с князем Юрием за Лыбедью?
Досада чуть куском пирога не подавилась, уставилась на отца выпученными глазами.
— Да что ты, батенька, да что ты такое выдумал? — только и пролепетала она.
— А то и выдумал, про что все говорят. И Зворыка вчерась про то же сказал. А язык у Зворыки — помело. Ох, и худо тебе придется, доченька, ох, и горчешенько. Не возьмет тебя Юрий замуж. Не до того ему сейчас.
Сидел боярин Разумник, подперев голову, печальный, как на похоронах. Рушились его надежды, не видать ему спокойной старости, не вытянуть хозяйство свое из оскудения. Оно бы, конечно, не плохо — выдать Досаду за князя: бывало, и князья женились на боярских дочерях. Но Юрий сам пасется на дядькиных хлебах. И у Всеволода свои задумки. А задумки князевы — за семью печатями. Возьмет да и оженит Юрия на чьей-нибудь княжне, даст ему на кормление удел, избавится от соперника. Эх-ха, жизнь прожить — не поле перейти. Все может быть. Может и так обернуться, что станет Юрий великим владимирским князем: изломает Всеволода медведь на охоте или еще что, а сына у него нет, а братьев у него нет. Вот все и отойдет Юрию. В этакую-то пору и не худо бы породниться с князем. Но не привык Разумник ловить журавля в небе: и журавля упустишь, и синица упорхнет.
И решил он подыскать дочери нового жениха.
А Досада убежала за Лыбедь, все ждала князя, пока солнышко не скрылось за горой. Не дождалась, вернулась вся в слезах.
Но боярин ее уже больше не беспокоил.
По ложнице проковыляла повитуха, сгорбленная старуха с волосатым лицом, толстозадая девка шла за ней следом, держа перед собой деревянное корыто, наполненное горячей водой. От корыта подымался пар, девка отворачивалась и дурашливо улыбалась. В двери просовывались любопытные лица.
Князь растерянно оглядывался через плечо, ждал. Крикливым голосом Ольга распекала слуг. Слуги суетились, опрокидывали лавки, что-то приносили и уносили.
Потом раздался стон — утробный, сквозь сдавленные зубы, не ее, не Марии, стон.
— Кричи, миленькая, — ворковала повитуха. — Кричи, не томись.
Она говорила еще что-то, княгиня кричала и металась на кровати. Потом все стихло, послышался плеск воды, легкий выдох и едва слышный писк. Всеволод обернулся.
С трудом переступая толстыми ногами, Ольга шла ему навстречу, держала в вытянутых руках маленький розовый комочек, кое-как завернутый в тряпицу, и улыбалась, обнажая неровные, поеденные гнилью зубы.
— С девочкой тебя, братец, — сказала она, протягивая ему ребенка.
Всеволод осторожно взял сверток в руки, заглянул под тряпицу и увидел сморщенное личико, растянутый в беззвучном крике крохотный ротик, сучащие кривые ножки. И это то, чего они так ждали?.. И это его ребенок?! Всеволод был растерян и обескуражен. Он стоял неподвижно, глядел на маленькое беспомощное существо, шевелящееся в его руках, и глупо улыбался. Он еще не успел испытать радости, он еще жил прошедшей тревогой, но постепенно глаза его светлели, к щекам подступал румянец, в горле что-то заклокотало и захрипело — он бросился с ребенком на руках к постели, увидел раскинутые по подушке темные волосы, прикрытые веки, встал на колени и ткнулся лбом в холодную и влажную руку жены.
Ольга собиралась сразу же после родов Марии возвращаться в Галич, чтобы успеть до заморозков навестить в Новгороде-Северском дочь свою Ефросинью, недавно выданную за Игоря Святославича, но передумала и решила остаться на крестины племянницы.
Всеволод с радостью отпустил бы сестру и раньше, но противиться ей не стал, чтобы не тревожить Марию.
Тревожить ее пришлось бы потому что Ольга ни на шаг не отходила от княгини, давала ей советы, ухаживала за ней, поила целебными отварами. Голос Ольги креп день ото дня, и скоро скрыться от него было уже негде. И если бы Всеволод вздумал выпроваживать сестру, она бы расшумелась на весь Владимир и ославила его не только в Белой, но и в Червонной Руси. Марии же нужен был покой.
Наконец Ольга окрестила племянницу. Во святом крещении нарекли ее Пелагеей, а по-княжески — Собиславой. Можно было отправляться в путь.
Всеволод богато одарил сестру подарками, велел кланяться Ярославу, Игорю и Ефросинье, снарядил возы, приставил к обозу воев и, отстояв с Ольгой в Успенском соборе молебен, отправил ее через Золотые ворота на Москву.
Уставший от хлопот, размякший и счастливый оттого, что избавился от Ольги, он возвращался во дворец, когда навстречу ему попался возок с сидящей на медвежьей шкуре закутанной в лисью шубу Евпраксией.
И шевельнулась в нем давняя тревога. Он вытянул шею, привстал на стременах, но возок уж промчался мимо, улыбка Евпраксии скользнула по его лицу прохладным ветерком и тотчас же растаяла. Через несколько минут, въезжая во двор своей усадьбы и глядя с коня на светящееся оконце княгининого терема, он совсем забыл о встрече и, спрыгнув на землю, легко взбежал по всходу на крыльцо.
В то же самое время встречал Евпраксию на своем дворе Давыдка. Помог боярыне выбраться из возка, помог подняться по ступенькам. Был он ласков, улыбался — давешний сговор будто снова сроднил их, как бывало и прежде. Но нынче Всеволод уже не стоял между ними, и Давыдка чувствовал себя увереннее.
Сбросив на лавку шубу, Евпраксия облегченно выдохнула, повернулась лицом в передний угол, перекрестилась на образа.
— Слышал?.. Принесла Мария Всеволоду дочь.
Голос ее сорвался и потух. Давыдке показалось, что она плачет. «Снова за свое», — с отчаянием подумал он. Однако глаза у боярыни были сухие, и губы держались в усмешке.
«Слава тебе господи!» — мысленно порадовался Давыдка.
Но когда он вышел, Евпраксия упала на лавку, зарылась лицом в мягком лисьем меху скомканной шубы, заголосила по-бабьи — протяжно и страшно.
Глава восьмая
1
Прекрасен месяц просинец. Прошли коляды и святки, оттрещал морозами солноворот.
Старушки отправились собирать снег от стогов — крещенский-де снег не простой, а особенный: холстину выбеливает лучше солнца и росы, а если бросить его в колодец, то будет от колодца подспорье во весь год, даже если не выпадет и капли дождя. И еще исцеляют крещенским снегом онемение в ногах, головокружение и судороги.
Несмотря на сильный мороз, народу на улицах города было много. Первый день на крещенье стоял ясный, солнце светило вовсю, сорванные с деревьев снежинки, блестя, кружили в неподвижном воздухе, под ногами скрипело и похрустывало.
Боярышни, катавшиеся на санках с клязьминского косогора, забросали снежками проезжавшего поблизости князя Юрия.
— Что, княже, задумался? — задиристо кричали раскрасневшиеся девушки. — Что к седлу прирос? Аль без коня из избы и шагу не ступишь? Забирайся к нам на горку — коли замерз, согреем, а коли жарко тебе — еще и не так остудим.
— Ишь вы, вертихвостки, — отвечал, улыбаясь, Юрий. — Вам бы все скоки да голки. Прикиньте-ка нехитрым умишком: каково князю на санках с горы кататься?
— Ступай к своим боярам, — отстали от него девушки. — Протирай с отцами нашими лавки. А мы себе парня веселого найдем.
Обиделся Юрий — я ли не веселый? — и спрыгнул с коня.
Боярышни заверещали, побежали в гору, ловкий князь настигал их, валил в снег, целовал в губы. Одной только поймать не мог — была она резва и увертлива. Кружила по косогору, уводила князя все дальше от подружек. А когда совсем далеко увела, когда уж стихли за поворотом их крики, остановилась, чтобы перевести дух, опустила вдоль тела руки, запрокинула голову — так и подкатило сердце у Юрия к самому горлу. Глядит и глазам своим не верит — Досада! Да как же сразу-то он ее не признал? Или потому что давно не видел или оттого, что одета она в простую душегрейку, платком укуталась до самых глаз?
Обнял ее князь, прижал к груди, счастливо засмеялся. А у нее — слезы на глазах, губы дрожат, слова на языке путаются:
— Забыл, совсем забыл ты меня!
— Да что ты, Досадушка! Что ты такое говоришь?! — целовал ее в холодные щеки Юрий. — Да разве ж можно тебя забыть?..
— И к берегу нашему не выходишь…
— Держит меня при себе Всеволод, дальше, чем на версту, не пускает.
— Неужто правда?
— И нынче к нему спешу… Да вот вы раззадорили.
Ткнулась ему Досада носом в полушубок, руки положила на плечи. А вокруг день-деньской, а вокруг снег да люди. И они на снегу, на самом пригорке…
Отстранился от нее смущенный князь, посмотрел по сторонам.
— И что это с тобой случилось, Досада? — спросил он, чувствуя неладное.
— Истосковалась я по тебе.
— И я по тебе истосковался… Хочешь, прокачу на коне? — вдруг спросил он.
— Прокати! — обрадовалась Досада.
Увидев их, боярышни снова затрещали, как воробьи на солнцепеке. Опять посыпались в Юрия снежки. Досада похвасталась перед подружками:
— А меня князь обещал на коне прокатить.
— И меня! И меня! — закричали девушки, прыгая вокруг Юрия.
— Всех прокачу, — пообещал князь, усаживая Досаду впереди себя. Перекинул поводья, дыхнул в ухо ей теплым ветерком:
— Ну, теперь держись, Досадушка!
И пустил коня в галоп. Промчался с Досадой в седле по всему посаду, выехал на Клязьму, на темный укатанный санный путь, пересек его — и ну по полю, по нетронутому серебристому снегу, так что только белая метелица из-под копыт.
Поглядели на них девушки с косогора и махнули рукой: нечего с князем в игры играть — вона куда ускакали, уж и не видно совсем. И снова принялись кататься на санках.
А Юрий попридержал коня в дубовой роще, у кряжистых стволов, усыпанных толстым неподвижным снегом, снял Досаду с седла, прижал к груди и отнес по заячьему извилистому следу к приютившейся на опушке рощицы копешке…
— Так и не дождался тебя нынче Всеволод, — говорила Досада, когда они возвращались в город по ночному, помертвевшему полю. Луна стояла в безоблачном небе, а рядом с ней светилась маленькая звездочка.
— Вот это я, — показала на нее Досада.
— А я? — спросил Юрий.
— Ты?! — удивилась она. — Ты мой месяц.
Плыла Досада над полем в покачивающемся седле и казалось ей, что несет ее на своей теплой ладони большой и добрый великан.
2
Дивился Юрий: и с чего это Всеволод вдруг окружил его такими заботами? Раньше едва замечал, а тут звал жить в свои терема, сажал за свой стол с княгиней; уводя после ужина в заветную горенку, вел с ним длинные вечерние беседы.
Был Юрий нетерпелив и вспыльчив, а нынче сам себя перестал узнавать; в присутствии Всеволода держался кротко и тихо.
В затянутые льдом окна горенки плескался колючий снег, пламя свечей колебалось и качало на стенах размытые тени.
Юрий и Всеволод играли в шахматы, подаренные князю прибывшим на крещенье Яруном. Купец выменял их на лисьи шкурки у приезжего хорезмийского гостя. На выделанной перламутром доске высились мас сивные фигуры из черного полированного дерева: воины в причудливом одеянии, с круглыми шапочками и расширяющимися книзу мечами, скуластые и узкоглазые; диковинные животные со свисающими, как хвосты, носами; всадники на приподнявшихся для прыжка конях с подогнутыми передними ногами — все движение и вихрь; степенные, восседающие на высоких креслах под балдахинами, князья с неподвижно застывшими на коленях руками.
Всеволод поглаживал бороду, щурился, передвигал фигуры медленно, обдумывая каждое движение; Юрий горячился, играл быстро и решительно. Поле его постепенно редело, Всеволод улыбался и с каждым ходом все напористее шел вперед.
— Молодой ум что брага, — сказал он, завершая игру полной победой.
Юрий кусал губы, через силу улыбался:
— Да и ты, чай не в гроб глядишь…
— Куда уж мне, — самодовольно отвечал Всеволод, неторопливо расставляя на доске фигуры. А складную вещицу привез купец. Хороший подарочек.
Юрий снова покорно принимался за игру, снова горячился и снова проигрывал. Смущаясь, теребил ус, щелкал тонкими суставами пальцев. Не сиделось Юрию, не по душе была ему хитрая игра — вот в зернь он бы побаловался. В зернь играть он был мастак.
— Там все не то — там слепое счастье, — проговорил Всеволод, выслушав племянника. — А здесь, как в жизни: на три года глядишь вперед — на всю жизнь загадываешь…
— На всю жизнь не загадаешь, — ответил Юрий, прислушиваясь к беснующемуся за окошком ветру.
— То верно, а береженого бог бережет, — поглядел ему в глаза Всеволод. — Сам знаешь, осторожного коня зверь не вредит.
— Да далеко ли на нем ускачешь? — возразил Юрий.
— Было бы куда скакать.
Загадками говорил Всеволод, главного не договаривал. Ходил по горенке, кутался в кафтан, ежась, взглядывал на Юрия — порой молодому князю чудилась в его взглядах нежность, порой — гнев. Непонятен и неуловим был Всеволод. А разговоры свои заводил не от праздности. Не от праздности просиживал с Юрием длинные вечера.
Иногда, когда игра наскучивала, Всеволод снимал с полки толстую книгу, листал ее, вспоминал брата своего Михалку.
— Прежде и я любил наскоком-то, прежде и меня учил братец: не играй, мышка с кошкой — задавит.
— Плохо знаю Михалку, — признавался Юрий. — А отца и вовсе-то раз в году видал.
— Мудр был князь Андрей, хоть и крут, — с теплом в голосе вспоминал Всеволод. — Страху хлебнули при нем бояре, оттого и взбесились. Да правое дело всегда верх возьмет. Помни.
— Тебя изгнал из своих пределов…
— А я за то зла на него не держу. Не за себя радел князь — за дело. За правду и пострадал. Измену корчевал, чтоб поле расчистить, чтоб взошла на нашей земле добрая жатва.
Юрия грызли сомнения — не хитрит ли князь? А ежели не хитрит, то к чему же клонит? В союзники подбивает? Чтоб его же, Юрьевыми, руками вершить суд и расправу?..
И снова, как тогда в избушке, гадал: нешто знает про сговор? Нешто жалеет?
Нет, не жалеет его князь. И не пожалеет. Не зря вспомнил брата — в деяниях его ищет опору. И Юрий ему — поперек пути.
Уткнувшись в книгу, Всеволод медленно читал:
— «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему сребренников. И он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе…»
Плохие сны снились Юрию во Всеволодовом тереме. Просыпался он, дрожа от дурных предчувствий, прислушивался — вот скрипнула половица: не крадутся ли убийцы, не стоят ли за дверью, обнажив мечи? Почему держит его у себя Всеволод? Вроде и не узник он, а любимый гость. Но зябко Юрию под мохнатой шубой, холодно и одиноко, как в погребе.
И точило его сомнение, и даже образ Досады уходил во мрак, уступая место оскаленным и страшным ликам.
Где же, князь, твоя былая удаль? Где же радость, переполнявшая тебя, хмельная, шальная радость, родившая вокруг тебя улыбки и чистый смех? Ворвешься ли сейчас на лихом скакуне в гущу булгарской конницы, перемахнешь ли через частокол, чтобы прижаться устами к устам пылающей от страсти боярышни, сойдешься ли в богатырском поединке, выпьешь ли чашу со сладким медом, чтобы после пуститься в молодецкий пляс?!
И слышится ему тихий голос Всеволода, и чудится ему в голосе том затаенная боль:
— Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал…
Босой, в холодных штанах и исподней рубахе, крадется Юрий к окну, распахивает его, глядит в серебристую мглу, жадно глотает ртом сухой морозный воздух.
3
Работая на лесах под сводами собора, Зихно писал по влажной штукатурке, приготовленной по его указанию из смеси гашеной извести, песка, дробленой соломы и угля, склоненную голову апостола Фомы. С опущенных плеч апостола свободно свисали складки розоватой хламиды, тонкие нервные руки были подняты для благословения, вокруг головы светился в коричневой оправе желтый нимб, была выписана и сама голова, но выражение лица апостола ускользало от внутреннего взора богомаза.
В соборе гулял холодный ветер, на лесах было зябко, время от времени Зихно откладывал кисть, дул на руки, пытаясь согреть окоченевшие пальцы, кашлял заложенной грудью и с грустью оглядывал хоры, подхорный свод и купол, где предстояло еще много кропотливой работы.
Настал час обеда, уже отзвонили била во всех церквах, и Зихно, отложив кисти, бросил их в воду и спустился с лесов.
Внизу его ждал Никитка. Был он румяный с мороза, на вывернутой шкурой наружу волчьей шубе оттаивал иней. Зихно неприветливо оглядел его, вытер о передник руки.
— А я не один, — сказал Никитка. — У нас нынче гости.
— У вас завсегда гости, — буркнул Зихно, все еще занятый мыслями об апостоле Фоме. Когда работа у него не клеилась, лучше не подходи: не по делу обругает, расшумится — беда.
— Гость-то не мой, а твой.
— У меня гостить некому. Сам у тебя в гостях.
— А ты глянь-ко за порожек, — сказал Никитка. — Может, кого и признаешь?
— Некого мне признавать, — отмахнулся Зихно, но все-таки взглянул. Стоит девка, на ногах лыковые лапотки, на голове платок; шубейка с длинными рукавами с чужого плеча, в руке — пестрый узелок. Стоит и улыбается, ногой о ногу постукивает, снег с лапотков сбивает.
— Да никак, Злата? — удивился Зихно. Развязал тесемки, бросил передник в угол, подошел, взял ее руки в теплых вязаных варежках, прижал к груди.
— Эко, эко разохотился, — отстранилась от него Злата, руки выдернула из его ладоней, завела за спину. Узелок упал — совсем как тогда лукошко в лесу. Нагнулся Зихно, поднял узелок, рассмеялся.
— Пойдемте ко мне щи хлебать, — сказал Никитка.
— Аленка совсем уж, поди, заждалась.
Оглянулся Зихно на апостола Фому, махнул рукой — подождет святой, завтра новую штукатурку положу — и, поглядывая на Злату, вышел вслед за Никиткой на волю. Зажмурился от яркого света — снега, сметенные с паперти в высокие сугробы, сверкали, утоптанная дорожка ныряла в кусты, переливавшиеся зеленым и красными искрами, словно крыло Жар-птицы.
В горенке Никиткиной избы было тепло. Сидевший в углу Маркуха приподнялся навстречу гостям, поклонился им, повесил Златину шубу на гвоздик.
За обедом вели чинную беседу. Злата рассказывала, как добиралась из Москвы с обозом смоленских купцов.
— Едва упросила взять с собой. Все боялись, не беглая ли я. Не холопка ли…
— А в Москве? — спросил Зихно. — Поп Пафнутий жив ли?
— Беда с ним приключилась. Сгиб наш поп, и косточек не сыскали.
— Да как же это? — удивился Зихно, уплетая за обе щеки ветряную рыбу.
— Нечистая у нас завелась, — сказала Злата. — Что и делается, не приведи бог.
— Уж не запродал ли поп душу свою лешему: великий был грешник?
— Может, и запродал, — с неодобрением глядя на улыбающегося богомаза, ответила Злата. — Да только слух по Москве прошел, что все это человеческих рук дело и что леший этот обличьем ну точь-в-точь тиун Любим…
Зихно перестал жевать рыбу, уставился на Злату недоверчивым взглядом.
— Ври да не завивайся. Любима Давыдка во Владимир отправил, двух воев снарядил, чтоб не убег. Сказывают, в пути-то его и посекли — уж больно срамил он князя и все норовил досадить воям, — сказал Зихно.
— Может, оно и так, — уклончиво согласилась Злата. — А вот бабы совсем про другое рассказывали. Видели-де они его на болотах, в самый раз, когда из трясины вылезал. Лохматый, говорят, черный, а борода белая, ниже колен…
— Ой, страшно-то как! — воскликнула Аленка.
— Ты бабьи россказни поболе слушай, — успокоил ее Никитка. — Про наши-то места тоже чего не наговорено. Плават-де гроб с убиенной Улитой Кучковной по озеру. А я на озере сам был, никакого гроба и в помине там нет — одни только кочки да мхи.
— И про то, что посекли Любима, — продолжала, не слушая Никитку, Злата, — тоже, может, россказни. У нас-то совсем по-другому говорят. Как посадили его в поруб, так он там и сидел, а когда на третий-то день принес ему воротник каши, то никакого Любима в порубе не оказалось — и заместо него на цепи сидел медведь, рыжий да лохматый.
— Медведь?! — заблестели глаза у Маркуши.
— Как есть медведь, — повернулась к нему Злата. — Вся Москва ходила поглядеть. А я уж побоялась. Вот и скажи мне тогда, обратилась она к богомазу, — как он туды попал? Кому это медведя понадобилось тащить в поруб?.. А?
— Мало ли на Москве шутников, — сказал Зихно.
— Это ты такой шустрой, — ответила Злата. — А у нас народ тихий. Болота нынче стороной обходят. Поехали раз по дрова, слышат — голос, вроде бы ребеночком плачет. Ну, мужики, ясное дело, шарить по кустам. От кустика к кустику, от кустика к кустику. А голос — то здесь, то там. Так и очнулись посреди трясины. Как выбрались, не помнят. С тех пор в лес — ни ногой…
Зихно вспомнил пирушку в избе у тиуна, вспомнил приветливую жену его, осторожно спросил:
— Уж и Евника не ушла ли с мужем на болота?
— Где там, — махнула рукой Злата. — С тех пор как нашли медведя в порубе, совсем помешанной сделалась. Знать, и в нее бес вселился. Избу запустила, паутина, грязь, хомяки, будто поросята. В церковь божью не ходит, все сидит на ларе. А ежели кто сжалится, позовет вечерять, отказывается, говорит, того гляди, Любима провечеряю — должен он-де ко мне приехать в золотом возке…
В избе стемнело. Никитка запалил зажатые в светце лучины, Аленка увела Злату на свою половину избы. Из-за полога послышался детский плач, женские голоса.
Зихно сидел за столом, подперев кудлатую голову кулаком, смотрел на чадящее пламя лучины, улыбался и все никак не мог взять в толк, отчего ему вдруг стало так хорошо.
О Злате он не думал с того дня, как покинул Москву, а тут будто наяву вспомнились грибы, рассыпанные на лужайке, испуганное лицо девушки — вокруг зелень, сосны, белеющие среди сосен сиротливые березки и такая невиданная благодать, что только и может присниться в спокойном и красивом сне.
И вдруг увидел он лицо апостола Фомы — глубокие глаза его, пристальные и скорбящие, полураскрытые в улыбке губы, струящееся от всего его облика доброе и ласковое тепло.
С обгоревшего кончика лучины подымался к потолку сизый дымок…
4
Бездна была влекущей и невыносимо черной. И в черноте этой не было ничего, что могло бы его испугать; страх был внутри его самого, он разрывал грудь, шевелил волосы и надвигался неотвратимо, как поднятая ураганом волна.
Микулица вздрогнул, проснулся и, все еще не веря в то, что избавился от гнетущего и жуткого сна, лежал без движения, глядел в темноту, сквозь которую постепенно проступали очертания бревенчатых стен, лавок вдоль стен, большого стола на толстых ножках посередине.
Боль не спеша уходила, но вместе с болью уходили последние силы; с болью уходило ощущение жизни, невесомое тело лежало, вытянувшись на лавке, как если бы протопоп был уже мертв. В затухающем сознании проходили отрывки воспоминаний. Главное ускользало, размазывалось во мраке, проваливалось во тьму, и Микулица, собрав остатки сил, оторвал голову от подушки. Он не хотел звать на помощь слуг, не хотел, чтобы его поднимали, поддерживали под руки, одевали и обували — седобородый старец был упрям и горд.
Никто не должен стоять между ним и богом. Он сам принимал последнюю волю умирающих. Сам закрывал покойникам глаза, сам отпевал их, перед тем как положить в пустые красные сани без лошадей и без оглобель.
Для Микулицы не было таинства смерти. Он не боялся ее и ждал уже много дней. Жизнь вытекла из него, как вино из дырявой корчаги. Плоть смирилась, но дух еще жил в его иссушенном, хилом теле. И ясной была мысль.
Утром он велел истопить себе баньку, блаженно вздыхая, лежал на полке в клубах белого пара. Просил похлестать себя веничком, испил любимого кваску, набросив шубу на голое желтое тело, сидел в горнице в блаженной полудреме.
Потом он надел чистое исподнее, поверх него — черную однорядку до пят с широким откладным воротником, закругленным на концах, и застегнутыми на кистях рукавами. Поверх скуфьи натянул треух; степенный служка накинул ему на плечи просторную шубу на волчьем меху. Микулица взял в руки посох и, отказавшись от помощи, сам вышел во двор, где его уже ждал открытый возок.
Но протопоп не сел в возок, а, неторопливо обойдя палаты, вошел в собор, где, стоя на коленях перед иконою Владимирской божьей матери долго молился и клал земные поклоны.
Потом его медленно везли по городу; на улицах собирался народ, Микулица крестил толпу и, чувствуя жжение в груди, примечал на лицах людей скорбь и недоумение.
Поднимались из своих полутемных, пропахших дымом нор кузнецы, низко кланялись протопопу гончары, златокузнецы, усмошвецы и клобучники. Все знали его, многих и он узнавал в лицо.
За возком увязались бабы и ребятишки, откуда-то появились скоморохи. Нищие в грязных лохмотьях тянули к протопопу руки — он одаривал их деньгой; дружинники заворачивали коней, дивились необычному выезду Микулицы. К толпе присоединились черноризцы, каменщики отбрасывали зубила и тоже шли вместе со всеми за протопоповым возком.
Вдруг ударили в била на многочисленных звонницах Владимира, Микулица взглянул на подернутое морозной дымкой солнце и велел везти себя через Волжские ворота, через покрытую льдом Клязьму на белеющую вдали Поклонную гору.
По дороге он обессиленно задремал, но, когда въехали на вершину, разом очнулся и, превозмогая боль, выбрался из возка. Снег молодо похрустывал под его ногами, от поймы тянуло кислым дымком, а вдалеке во всю ширь виделся раскинутый на холмах город — с крепостными валами, с высокими воротами и вежами, с матово блестящим куполом собора Успения божьей матери.
Опустившись на колени в рыхлый снег, Микулица перекрестился, прижался щекой к колючему, уже вобравшему в себя весеннее солнце насту, и скупая слеза медленно выкатилась из его глаза и стекла в бороду.
Присмиревшие кони стояли неподвижно, только из ноздрей их вырывались султаны белого пара; неподвижно, не глядя на протопопа, высился на облучке облаченный в овечий полушубок служка.
Солнце скатывалось к закраине леса, длинные тени деревьев легли на дорогу, а протопоп все еще оставался на коленях, молился и глядел в распахнувшуюся перед ним необъятную даль. Два раза в жизни исполнен человек неслыханного удивленья: сделав первые шаги по родной земле и прощаясь с нею — исполненный тихой грусти. На бесконечно долгую дорогу вбирал в себя Микулица и эти краски, и эти запахи, и привкус кислого дымка, и синь необъятного неба, и суету толпы, и звонкую тишину притаившегося зимнего леса. Он различал не слышимый никому шорох бунтующих в почках листьев, незвонкую капель на солнечной, занесенной снегом опушке, постукивание падающей с елки коричневой шишки и осторожный шаг приблизившегося к дороге зверя.
Совсем стемнело. Микулица поднялся с колен, опираясь на посох, тяжело приблизился к возку, сел, закрыл глаза и снова дремал всю дорогу до самого города.
Вечером он исповедался в крестовой комнате, обошел все службы, смиренно просил прощения у служек и холопов.
Ночь прошла спокойно.
Утром у Микулицы сделался сильный жар в голове.
К полудню в полном сознании он тихо испустил дух…
5
взглядом с глазами Микулицы, светящимися мудростью и старческой добротой.
Перед этими скромными образами деисуса, с подвешенной на железной цепочке обыкновенной глиняной лампадкой стоял протопоп на коленях и молился за спасение родной земли, когда вокруг Владимира горели подожженные половцами села, а в створы Золотых ворот гулко ударяли вражеские пороки.
Здесь, под этим низким черным потолком, он натянул на себя воинскую кольчугу, взял в руку меч и отправился на вал, чтобы вселить в людей мужество.
Здесь он умирал. Здесь он испустил дух, и здесь обмыли его тело.
Всеволод научился сдержанности. Он уже не бросался, как в молодости, в самую гущу схватки, не ходил с засапожником на медведя. Не плакал — даже тайком, даже ночью, даже в своей горенке наедине с оставленными Михалкой книгами, которые умели молчать и хранить тайну.
Но теперь что-то надломилось в нем, он упал коленями в шкуру и, ткнувшись лицом в коричневую сукманицу, сотрясся от рыданий. Однако облегчения не было, и тогда, ослепленный отчаянием и гневом, он стал раскидывать лавки, швырять подсвечники и шандалы, а когда силы оставили его, сел к столу и, обхватив голову, долго сидел, глядя в одну точку.
Стук в дверь заставил его вздрогнуть. Он быстро встал, смахнул еще висевшие на усах слезы, лицо его стало непроницаемым.
В горенку вошел Кузьма Ратьшич — русоволосый, с низким покатым лбом и широкими угловатыми плечами. Маленькие глазки меченоши смотрели на князя внимательно и покорно.
Приложив руку к груди, а другой рукой придерживая меч, Кузьма поклонился князю. Всеволод, стараясь сохранить спокойствие, велел ему говорить.
Он слушал внимательно, склонив голову набок и полуприкрыв глаза, вздрагивал и с трудом сдерживал новый приступ гнева. Поджатые губы его кривились; вскидывались и опадали тонкие крылья ноздрей.
Ратьшич кончил, замолчал, переступил с ноги на ногу. Всеволод продолжал стоять со склоненной головой; на пересеченном глубокими морщинами лбу выступили светлые бусинки пота. Потом он поежился, как от сильного озноба, еще раз оглядел стены и потолок, домотканые полосатые половички, брошенную на пол шкуру, смятую постель Микулицы, плавно колеблющийся огонек лампады, перед иконой и коротко бросил:
— Веди.
Князь вышагивал широко, решительно заложив за спину руки. Семеня рядом с ним, Кузьма говорил:
— Все верно, князь, мужички баяли. Выловили мы его на болоте. Три дня сидели в лесу, вдруг видим — следы. Попетляли возле нас и нырнули в кочкарник. Снегу — по брюхо. А мы — по следам-то, по следам… Долго петляли. У него там тропка своя через болото. Летом бы ни за что не отыскать, а тут в самый раз. Глядим — землянка, над землянкой парок вьется… Тепло, как в избе. И хозяин тут — сидит смирненько, кипяточек попивает, пирогами закусывает. Как мы вошли, так пирог у него и застрял в горле. Глаза-то на лоб полезли, слова сказать не может.
Ратьшич хихикнул, но Всеволод, скосившись, глянул на него так, что он поперхнулся. Дальше шли молча.
В избе для служек, прилепившейся к углу высоких протопоповых палат, было дымно и душно. На столе лежала нетронутая коврига хлеба, стоял жбан с водой, на лавке неловко сидел, подобрав под себя обутые в лапти ноги, взлохмаченный бородатый мужик. При виде князя он вскочил и тотчас же снова упал на лавку, тараща на Всеволода бесцветные, налитые страхом глаза.
Всеволод быстро приблизился, сгреб мужика за бороду, поднял его лицо вровень своих глаз, встряхнул и жарко выдохнул:
— Тать!
Мужик попятился и осел на пол. Всеволод опустился на лавку, положил руки на колени.
Ратьшич пнул мужика сапогом под зад:
— Вставай, Любим. Не меды, чай, допивать пришел. Держи ответ перед князем.
Затряс тиун бородой, поднялся на четвереньки, с испугом, исподлобья посмотрел на молча сидящего Всеволода.
— Вставай, вставай, не прикидывайся, — поторапливал его Кузьма. — Умел зло творить, умей и ответ держать.
— Да невиновен я, князь! — взмолился, припадая к ногам Всеволода, Любим. — Чуял, дело недоброе. Сам бежал в болота, сам себя казнил.
— О казни еще разговор впереди, — злорадно предупредил Ратьшич.
Всеволод сидел неподвижно, глядел на елозившего перед ним тиуна, сжимал и разжимал лежавшие на коленях кулаки. Вот оно. Вот она — измена.
— Бес попутал, как есть бес попутал, — глотая слова, быстро лепетал Любим. — Не хотел я, видит бог, не хотел.
Он поискал глазами образа, суетливо перекрестился, стукнул лбом в половицу у самых Всеволодовых ног. Всеволод брезгливо отодвинулся.
Глаза тиуна бегали. Сложенные на груди, ладонями внутрь, руки мелко дрожали.
— Как тебя взял Давыдка? — спросил Кузьма.
— А так и взял, так и взял, — с надеждой повернулся в его сторону Любим. — Как взял, так и велел везти во Владимир.
— И в пути ты не сбег?
— Да где сбежать-то? — Где сбежать? — будто удивлялся он, цепляясь за слова. — Крепко стерегли меня. По нужде и то…
— Ну-ну, — оборвал его Кузьма. — А дальше?
— А что дальше, что дальше? Как привезли, так и заперли. Вернется, мол, Давыдка, сам и рассудит, что дальше. В Заборье меня завезли…
— Отчего же в Заборье?
— А Давыдка в Москве попридержался, вот и привезли в Заборье…
Часто перебирая коленками, он опять приблизился к князю, припал щекой к его ноге.
— Прости, благодетель наш!
— Пес! — отшвырнул его Всеволод ударом сапога в грудь.
— Не смей касаться князя, — строго предупредил тиуна Кузьма и положил руку на крестовину меча. Любим проворно отполз в дальний конец избы, сжался в углу, заслонил лицо рукой, из-под руки глядел затравленно. В груди у него булькало и клокотало, как в горшке с кашей, поставленной на огонь.
— Дальше рассказывай, — приказал Ратьшич.
— Дальше-то самое страшное и началось, — сначала тихо, а потом все громче и громче принялся исповедоваться Любим. — Запутался я с Житобудом этим. Сродственник он мне, вот и заночевал в Москве, а про то, что был в Рязани, велел молчать. И про князя Юрия тоже не велел сказывать. И ежели бы не богомаз… Лежу я в порубе у Давыдки и думаю: всё, брат Любим, кончилась твоя жизнь. Велик лоб, да во лбу мох… Лежу вот так в соломке, гляжу на стены и думаю. Эх, думаю, хорошо бы сейчас в лесок, белочку выследить, медку бы со своей Евникой испить вечерком-то да в мягкую постелю… А тут дверца отворяется, входит вой и велит выбираться мне из поруба и идти к Давыдке: кличет, мол, ждет не дождется. Выбрался я, поглядел на солнышко, перекрестился — в последний, думаю, разок видеть доводится. Иду. Иду и дивлюсь. Встречают меня не как пленника, а как гостя дорогого. В горнице стол накрыт. Боярыня улыбается, просит угощаться. Как откажешь? Да и невдомек мне, к чему это. Сел я, где приказано, ем, меды пью, а боярыня с Давыдкой на меня смотрят, будто сроду человека не видывали. А как наелся я, повели разговор, да не простой, а с подковыркой, с намеком, что вот, мол, ты человек какой: захотим — помилуем, а захотим — казним, сведем во Владимир ко князю, ему и поведаешь, кто таков Житобуд и по какому делу в Москву наведывался. Князь тебе голову дурную срубит, другую не пришьешь. А ежели нас послушаешься, жить будешь припеваючи — скоро, мол, все перевернется и сидеть тебе снова на Москве… Все больше боярынька меня обхаживала, а Давыдка головой кивал. Угрюмый такой был и молчаливый. Ну и согласился я съездить к Святославу, передать ему, что, мол, Роман с ним завсегда. И во Владимире подсобят. Рязань — Роману, Владимир — Юрию, и Давыдкина тысяча тож за него. Только-де просит он за это прирезать ему землицы за Колокшей. А тебе, князь, оставляли Переяславль; твой, мол, удел, там тебе и сидеть…
Всеволод побледнел, но не выдал волнения — все так же сидел, уперев ладони в согнутые колени.
— Что было делать? Согласился я, — продолжал Любим. — А как добрался до Москвы, как переправился через Неглинную, так все внутри и оборвалось… Куды ж, думаю, мне? Как, думаю, Евника-то без меня?.. Вот и подался в леса, вырыл на болоте землянку. Выйду вечерком на опушку леса, погляжу на Москву — и полегчает. Да только человеку волком-то жить — каково?
Глаза Любима наполнились слезами, он выпрямился, протянул к Всеволоду руки:
— Прости, князь! Рабом твоим буду навек…
Всеволод поднялся, бросил сквозь зубы:
— Раб ты и есть… Молчи!
Забежав вперед, Кузьма распахнул перед князем дверь. В избу вкатился белый шар, растекся быстро редеющим облаком.
6
Хорошо летом в Заборье, хорошо и зимой. Скачут Давыдка с Евпраксией по белому полю, загоняют зайцев. Взрывают кони белые буруны, срываются с тетивы меткие стрелы. Смеется Давыдка, хохочет Евпраксия.
Давно не бывал в Заборье князь Всеволод; думали хозяева, что он уж и дорогу к ним забыл. А тут пожаловал с дядьками, ездовыми и псарями, пожаловал под самый вечер, когда его меньше всего ждали.
Тихая деревня наполнилась лаем собак, ржаньем лошадей, на боярском дворе поднялся шум и гвалт. Засуетились конюшие, забегали повара, загомонили девки. Несли укрытые убрусами белые караваи, в жбанах — меды и пиво, в глубоких блюдах — ягоды и грибы.
Евпраксия, раскрасневшаяся и счастливая, усаживала Всеволода в красный угол, под выложенный каменьями иконостас, подносила ему с поклоном чару. Давыдка ублажал Кузьму Ратьшича и Словишу, но и князя тоже не забывал: нет-нет да и подсядет к нему, вставит словцо-другое.
Князь был невесел, вспоминал Микулицу, пил и ел мало. Кузьма со Словишей тоже почти не притронулись ни к меду, ни к мясу.
Ночью Евпраксия не могла уснуть; Давыдка глядел пустыми глазами в потолок и вздыхал, как потревоженный лось.
Но утром мрачные думы рассеялись. Отоспавшись и попарившись в баньке, Всеволод повеселел, стал приветливее. Осмотрел усадьбу, заглянул в амбар, хлебню, побывал на сокольне, похвалил птиц. Показали ему коней, лонских кобылиц и клюсят. Во всем знал молодой князь толк, разбирался во всяком деле. Но подивился он мамон-зверьку, которого подарил Давыдке Ярун.
Зверек строил рожицы, прыгал через спину, чесал голову и выпрашивал сладкие пряники. Всеволод смеялся от души.
Потом отправились загонять зайцев. Давыдка хотел поднять и мужиков, но князь отсоветовал:
— Сами управимся.
Подвели ему коня, собрался уж он вскочить в седло, уж ногу поставил на стремя, но тут на крыльцо вышла Евпраксия — в легком кафтане, в сапожках, в сдинутой на затылок меховой шапочке — и попридержался князь, загляделся на боярыню. Должно, привиделось ему прошлое, он улыбнулся, но тут же снова посуровел и водрузился в седло.
Всадников было немного, но все с луками, и с тулами, полными стрел. Собаки, радостно и нетерпеливо взвизгивая, крутились под копытами коней, кони фыркали, прядали ушами и рвались на волю.
Мужики, без шапок, в расстегнутых на груди шубейках, распахнули ворота, псари закричали, кони вздрогнули, и вся охота, под свист, гиканье и улюлюканье ринулась по деревенской улице на пригорок, где стояли две сосны, за ними кузня, вросшая в нетронутые сугробы, и где темными рядами кустов обозначался заснеженный берег Клязьмы.
Охота ушла на другой берег и разделилась: князь с Кузьмой, Словишей и хорошо знающим лес боровщиком Данилой подались за едому, а Давыдка с Евпраксией решили попытать счастья за дроводелью — в прошлом году зайцев там было видимо-невидимо.
Сговорились, что через час съедутся на опушке, а там решат, как быть.
Горяча коня на ровном поле, Давыдка оскаливал зубы в улыбке, говорил жене:
— Никак, снова благоволит к нам князь?
— Не тряси яблоко, покуда зелено, — серьезно отвечала Евпраксия.
Давыдка подъехал к ней совсем близко, так что кони их соприкоснулись стременами. Задышал Евпраксии в самое ухо:
— А чего с огнем шутить? Не лучше ли по ветру бежать?
— Кабы знать, откуда ветер. Нынче Микулица преставился, завтра Роман владимирские посады пожгет.
К кому тогда подашься? Святослав — великий князь, ему с Горы-то далеко видать…
Нет слов у Давыдки, чтобы возразить Евпраксии, хоть и не чувствует он правды в ее речах. Неуютно ему, холодно на сквозном ветру. Метет по полю поземка, колышет снег, змейкой извивается между кустов. От бьющей в глаза белизны кажется, что ослеп, Щурится Давыдка, рассматривает поле из-под руки — не шевельнется ли что.
А вот и шевельнулось! Притаился косой, думал, что не заметят, а след его и выдал. Положил Давыдка на лук стрелу, натянул тетиву, прицелился в косого, а он прыг — и уже под кустом, еще прыг — и за бугром.
Рассмеялась Евпраксия, пустила коня своего напрямик через перелог. В перелоге снегу коню по самое брюхо. Барахтается конь, бьет копытами, словно по пустому, — Евпраксия смехом заливается. Весь кафтан у нее в снегу, сбилась набок шапка, вцепилась боярыня в поводья, едва в седле держится.
Вот тут-то косой и попал под Давыдкину стрелу — подпрыгнул, дрыгнул ногами и свалился замертво.
Когда Евпраксия выбралась из перелога, на Давыдкином широком поясе уже болтались две тушки, третий заяц ушел в лесок, зря потратил на него Давыдка две стрелы.
Кружить по полю надоело. Когда солнце поднялось к назначенному часу, стали пробираться к опушке. Ехали через лес по хорошо укатанной санной дороге. Встретили мужика с сумой за плечами и с батожком, спросили, не видел ли всадников. Мужик отступил в снег, снял шапку, поклонился и неторопливо объяснил, что видел: совсем недалеко отсюда свернула охота на подборки.
Удивился Давыдка — зайцев там сроду не водилось, И чего это потащил князя Данила? Или таил от хозяина, греховодник, а перед Всеволодом задумал выслужиться?
И, расстроенный, он повернул коня, погнал его к подборкам напрямки через чащу. Евпраксия едва поспевала за ним.
Снег в лесу был рыхлый, местами уже подтаивал, на сосновых лапах висели сосульки и обледенелые комья.
Скоро впереди зажелтелась облитая солнцем поляна, свет ударил в лицо, кони перескочили через неглубокий ложок, и Давыдка увидел тех, кого искал.
Князь сидел на пенечке и ножнами меча ковырял снег, Словиша стоял рядом и рассматривал застрявшие в шапке остинки и сосновые иголки. Кудрявые волосы его спадали до плеч и закрывали половину лица. Кузьма Ратьшич был на коне. К нему-то и устремился прежде всего Давыдкин взор. Была в лице княжеского любимца какая-то неживая окаменелость, от которой до самого нутра прохватывала звериная жуть.
Евпраксия тоже, не отрываясь, смотрела на Ратьшича, и щеки ее медленно заливала нежная бледность.
Князь не поднял головы, Словиша продолжал разглядывать шапку, только Ратьшич потянулся к поясу, и Давыдка не мог оторвать от него завороженных глаз.
Вдруг Кузьма откинулся и резко подался вперед — в воздухе что-то сверкнуло. Давыдка почувствовал, как его ударило в грудь, пошатнулся, опустил взгляд и увидел торчащий из кафтана тупой конец сулицы. Он потянулся к нему руками, хотел вытащить, но, не дотянувшись, стал медленно валиться на бок.
Словиша надел шапку. Князь поднялся с пенька и вскочил в седло. Только сейчас Евпраксия заметила, что на поляне не было ни Данилы, ни псарей, ни собак. Охота шла стороной — лай и крики слышались в другом конце леса.
А здесь стояла тишина. На скрюченное тело Давыдки, на его удивленно раскрытые глаза падал тихий снег. Падал и уже не таял. Еще раскачивалось, позвякивая, стремя — конь склонял к хозяину маленькую голову и косился на боярыню.
Евпраксию разрывал крик отчаяния, но закричать не было сил.
Снег пошел сильнее, теперь он занавесил всю даль, скрылась опушка леса. Резвая поземка деловито заметала редкие следы…
7
Ярун прибыл в Киев в недоброе время. Еще издалека заметил он низко стелющийся над холмами дым и вырывающиеся из него языки пламени. А когда подъехал ближе, то увидел, что половина города охвачена огнем. Полыхало и под Горой и на Горе.
Мужики, толпившиеся на пристани, говорили, что загорелось в палатах у нового митрополита Никифора, а потом огонь перекинулся на посады.
— Да что же вы стоите, братцы? — накинулся на людей Ярун.
— А мы что? А мы ничего, — говорили мужики. — Нешто в огонь лезть?
— А хошь и в огонь. Этак-то весь город, вся красота погорит.
— То Никифора, грека, проказы…
— Кара небесная. С ей разве управишься?
Ярун сбросил зипунишко, заворотил рукава рубахи, выдернул из телеги топор. Взмахнул им в воздухе.
— А ну, кто смел! — и побежал, криками собирая вокруг себя людей.
Когда вскарабкались на берег, когда ударил в лицо яростный огонь, толпа разрослась. Мужики полезли на крыши, защищая лица от густо осыпавшихся с почерневшего неба искр, стали ворочать обуглившиеся бревна, бабы, выстроившись в ряд, подавали им ведра с водой.
По улицам метались испуганные кони; коровы и овцы, мыча и блея, жались к частоколам. В сумятице ползли забитые домашним скарбом возы. Мужики, скаля белые зубы на почерневших от копоти лицах, матерились:
— Бес вам под ребро! А ну, давай в топоры!..
Хватали растерявшихся возниц за полы кафтанов, стаскивали с телег. Бабы истошно вопили, ребятишки путались под ногами, цеплялись за бабьи сарафаны.
Огонь, гонимый западным ветром, шел клином на Гончарную слободу, и гончары работали злее всех.
— Погодите, — говорили они кричникам, — остановим пожар здесь, все вместе подсобим и вам.
Над городом плыл тревожный колокольный звон. На Горе что-то ухнуло, к небу поднялся сноп искр.
— Догорел Никифор, — злорадствовали мужики.
— Всякая сосна своему бору шумит, — говорил Ярун, глядя на бегущих в гору дружинников.
— Князя нынче в городе нет. Подался в Любеч, — толковали в толпе.
— Вот и постарался митрополит…
— А ему что? Ему ничего. Завтра нагонят плотников, срубят новые палаты.
— Да нам каково?
— Налегай, ребятушки! — кричал Ярун, задыхаясь от дыма.
Давно не играл он топором, но, видать, осталась еще в руках былая силушка. Бревна стонали и ухали под его ударами. Отрезанный от посада огонь постепенно затухал. Над малиновыми угольками курились синие дымки.
Но, потухнув в одном месте, коварный огонь тут же вспыхивал в другом.
Всю ночь никто в городе не сомкнул глаз. Но еще и утром стлались над Киевом зловещие дымы.
Люди валились от усталости, падали посреди улиц, засыпали мертвым сном.
Ярун спустился к берегу на свою лодию. Вдоль всей пристани на Почайне горели костры. В медяницах закипала еда, мужики отмывали в Днепре закопченные руки, дивились сделанному:
— В народе — что в туче: в грозу все наружу выйдет.
— А где купец? — спрашивали иные. — Эко он с топором-то. Крепкий, видать.
— Купцы — народ бывалый. А и верно — где купец?
Яруна искали по всему берегу. Прискакали дружинники, тоже спрашивали, куда подевался купец.
— А вам-то он на что? — интересовались люди.
— Митрополит кличет.
— Спохватился…
— А где он был во время пожара?
— В соборе молился.
Ярун вышел к дружинникам. Прятаться от митрополита не было ему никакой нужды. Торговать — не в зернь играть. А путь ему еще предстоял не близкий, и помощь Никифора была бы в самый раз.
Ехали через пепелище, мимо скорбно копающихся на месте сгоревших изб мужиков, баб и ребятишек. Погорельцы складывали в кучу все, что могло еще сгодиться в хозяйстве: ножи, топоры, миски… Немногое пощадил огонь, немногое удалось спасти.
Ярун ожидал увидеть на Горе одни только головешки и очень удивился, когда за воротами предстали новенькие терема, окруженные крепкими хозяйственными постройками. Митрополичьи палаты сгорели — это верно, с них все и началось, но остальное отстояли дружинники и вои.
Святослава в городе не было, митрополит принял Яруна в княжеском тереме. Дружинники ввели купца в сени, а сами вышли.
Никифор был маленького роста, суетлив и разговорчив. Тревожная ночь оставила у него под темными, как маслины, глазами лиловые полукружия, сквозь смуглую кожу лица проступала бледность.
Ярун сидел на лавке, пил принесенный из ледника холодный квас и рассказывал о своем хождении к Дышучему морю.
— Дорога в те края долгая и опасная, летом солнце — день и ночь на небе; зимой — сплошная ночь. А время самоядь определяет по палочке с углублениями: отрежет одну дольку, отрежет другую. Когда палочка станет совсем короткой, скоро придет зима… Живут они в шатрах из оленьих шкур, которые называют чумами.
— И много у них оленей? — спрашивал Никифор, перебирая четки.
— Много. Столько оленей, что и не счесть. Едят они оленье мясо, одеваются в олений мех, вместо коров — оленьи шкуры. Много там лисиц, и песцов, и пеструшек. Пеструшек иной раз случается так много, что они покрывают землю целыми полосами, вскарабкиваются на чумы и даже падают через верхнее отверстие в огонь.
«Богата Русская земля на север и восток от Киева. А древний Константинополь дряхлеет», — с грустью думал Никифор. Хиреет торговля, венецианские и генуэзские купцы ведут себя в Византии, как на завоеванной земле. Не лучше и крестоносцы, эти орды изголодавшихся, оборванных и алчных рыцарей…
Ярун рассказывал:
— А поклоняются самояди Нуму, который обитает на небе.
— Так же как и Христос?
— Нум не имеет тела, он подобен небу, но им сотворены все земные существа, а также сама земля и звезды. Нум добр, величествен и силен, но он слишком велик, чтобы следить за всем человеческим родом. Управление людьми он доверил тадебциям, невидимым существам, одаренным от Нума сверхъестественной силой. Они распространены по земле и по воздуху и иногда являются людям в образе человека, но не всем, а только тадибам — так самоядь называет кудесников.
Мир един, думал Никифор, не так ли и мы общаемся с богом?.. Но разная вера расторгает народы, единая вера сливает их воедино.
Пытливый ум молодого митрополита пытался уловить связи вещей в природе и в человеческой жизни. Он не шел слепо за патриархом, он думал и вступал в споры с самим собой. Патриарх не любил Никифора; Никифор давно уже перестал чтить патриарха, погрязшего в земных пороках. Власть императора трещит по швам. В народе растет недовольство.
А здесь, на Руси?
Ровный голос Яруна как бы продолжал его мысли:
— И сколь необъятна земля, сколь чудны населяющие ее народы! Но всюду люди дерутся за власть. Всюду насилие и произвол, приходят в запустение дороги, тати грабят купцов средь бела дня… Было время, поклонялись люди идолам, у каждого — свой идол, свой бог. Жили в лесах, били зверя, видели клок неба над собой — на том и кончался их мир. А потом люди сбросили идолов в реки и вышли из лесов. Подивились — огромен мир: пошли на север, пошли на юг, на запад, на восток. Радовались, протягивая друг другу руки.
Не с Никифором говорил Ярун — размышлял вслух:
— Но, сбросив в реки идолов языческих, стали возводить земных. Святослав — в Киеве, Роман — в Рязани, Ярослав — в Чернигове. И каждый боярин в своей вотчине — тот же князь. Это — мое, и это мое же. И пошли друг на друга войной. Свой же мужик своего бьет, а князья да бояре скотницы набивают золотом и серебром. Много золота, много серебра, а у соседа — больше. Пойду-ка возьму силой…
«Умен купец, умен», — думал Никифор, слушая Яруна. Вспоминал Леона Ростовского, приезжавшего с жалобой на владимирского князя Всеволода. Вспоминал хитрого Святослава, внимательно читал грамоты новгородского архиепископа Ильи. Вникал в дела черниговские, рязанские и смоленские.
Широка, необъятна Русь. Богатства в ней неисчислимые. Но твердой руки нет.
«А Всеволод?»
Вещие слова говорил Ярун:
— Нынче все пути сошлись во Владимире. Поприутихли бояре, торговому люду — простор. Соборы возводит великий князь, крепит единую волю.
«Единую», — мысленно повторил за купцом Никифор. И вдруг вспомнил патриарха — крючковатый нос, белесые глаза, устремленные на синюю гладь Золотого Рога. Патриарх говорил, словно бредил: ругал папу римского, наставлял следить за князьями, приводить их к смирению, расширять православную веру.
Дано ли понять ему сказанное краковским епископом Матвеем: «Русский народ, своей многочисленностью подобный звездам, не желает сообразоваться ни с латинской, ни с греческой церковью»?!
Русь была для патриарха далека и непонятна. Все взоры византийской церкви и Палатия были устремлены на Смирну и Эфес, города, отвоеванные у тюрков крестоносцами. Шел дележ добычи, жестокий спор за участие в доле.
Русь лежала за половецким полем. В лесах. В непроходимых болотах. Дикая Русь.
Никифор увидел ее совсем иною. Но сообщать об этом в Константинополь он не спешил.
Глава девятая
1
Получив за верную службу от князя Юрия небольшой земельный клин под Боголюбовом, Зоря часто наезжал в деревню, иногда жил в ней по неделям. Руки ратая тянулись к земле. Но не только земля манила его в Поречье. В старой избушке, прилепившейся на самой клязьминской излуке, жила с отцом-рыбаком Надеем дочь его Малка — высокая, гибкая, с черными прямыми волосами, которые, если она их распускала, спадали ей почти до самых пят. Выросши у реки, была она гребцом хоть куда, плавала как рыба, а в отсутствие отца выполняла по дому всю мужскую работу. Бывало, Надей занеможет, так она и с сохой управлялась не хуже любого мужика.
Поглядывали на нее деревенские парни (красива!), но свататься побаивались: возьмешь такую жену в дом — после не раз покаешься.
Познакомился Зоря с Надеевой дочерью на масленицу.
Деревенские ребятишки с утра строили снежные горы, поливали их водой и раскатывали. Бабки по вечерам распевали нестройными голосами:
— Звал-позывал честной семик широкую масленицу к себе в гости во двор. Душа ль ты моя, масленица, перепелиные косточки, медовые твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне в гости на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться…
Весело встречали праздник в Поречье, возили по берегу Клязьмы куклу, бабы, умаявшись у печей, пекли блины. Опару для блинов готовили из свежего снега; дождавшись, когда взойдет месяц, причитали:
— Месяц ты, месяц, золотые твои рожки! Выглянь в окошко, подуй на опару!
Верили, что от этого блины бывают белые и рыхлые.
Ехал Зоря из Владимира, погонял коня, поглядывал, прищурясь, на сверкавшие по берегу Клязьмы снега. В лесу он слышал, как слетали с сосен поутру тяжелые глухари, как в предрассветной тишине раздавался бормоток тетерева.
Хоть и подувал с севера порывистый свежак, а затылок Зори уже припекало теплое солнышко, и во всем его теле была такая истома и благодать, что, завидев Надееву избу, он свернул коня с хоженой тропки и повел его легкой трусцой через поле, — может, и здесь пекут блины? Да и где не пекут блинов на широкую масленицу?!
Подъехал к избе, привязал коня к изгороди, и — в дверь.
— А где хозяева?
— За хозяйку я, — ответил звонкий голос. — Кого бог принес?
У печи, ловко работая ухватом, стояла Малка. Вынутые из огня горшки шипели и дымились. На сковороде подрумянивались блины.
— Зоря я, дружинник князя Юрия Андреевича. А тебя как звать?
— Малкой, — ответила девушка, и, опершись на ухват, с подозрением поглядела на гостя.
— Аль не веришь? — удивился Зоря.
— Что ж тебе не верить? — сказала Малка. — Заходи, коли пришел. С праздничком тебя.
— А хозяин где? — спросил Зоря, усаживаясь на лавку.
— Отец скоро вернется. Да ты шубу-то сымай, у нас жарко.
И верно, изба была хорошо протоплена. Зоря скинул шубу, огляделся: везде чисто, по выскобленному полумягкие половички. На саму Малку-то он не сразу обратил внимание: баба, ну и баба, где же ей еще и место, как не у печи. А когда прошлась она перед ним, покачивая бедрами, дрогнуло у дружинника сердце: такой красоты он еще отродясь не видывал.
Пришел Надей с охапкой дров, свалил их у порога, молча поклонился Зоре.
— Гость вот у нас, — со смешком сказала Малка.
— Гостям мы рады, — еще раз поклонился Надей. Мосластый, широкий в плечах, он все-таки едва не на голову был ниже дружинника.
Под пристальными взглядами Зори Малка выставила на стол блины, накинув на голову платок, выскочила за дверь, вернулась с корчагой меда. Надей подмигнул дружиннику, Малка сказала:
— Садитесь, мужики, будем масленицу встречать.
Допоздна засиделся Зоря у рыбака. Подперев кудлатую голову кулачищем, смотрел на Малку, слушал хвастливые речи Надея о его рыбацких подвигах.
Малка улыбалась, смущенно опускала глаза, краснела. От деревни доносился веселый смех, гудки скоморохов, а Зоря так и просидел бы здесь всю ночь — не тянуло его на люди. Праздник был у него на душе, и он боялся пошевелиться, чтобы не растерять охватившего его очарования.
Надею приглянулся дружинник.
— Ты надолго ли к нам? — приставал он к нему с расспросами.
— Нарезал мне князь Юрий клин, — неохотно объяснял Зоря. — Орать буду, сеять, избу ставить…
— Значит, надолго, — довольно кивал Надей.
— Дело наше ратное, — говорил Зоря. — Ежели князь призовет, оставить хозяйство-то будет не на кого.
— А ты жену заведи, — знаючи наставлял Надей. — Без жены и дом не в дом.
— Жену найти еще нужно…
— Да мало ли у нас девок!
— Ваши девки за своими парнями.
— Ты видный. За тебя кто хошь пойдет.
Лукаво заблестели глаза дружинника.
— А твоя дочь согласится?
Побледнела Малка, вскочила с лавки, чуть не опрокинула блюдо с оставшимися блинами. Да как накинется на отца, как засверкает глазищами, как закричит:
— Ты, отец, кого за стол посадил? Ты где такого лихого молодца отыскал?
Удивился Надей, развел руками:
— Твой гость.
— Да я такого-то гостя — ухватом!
Пряча улыбку в усы, Зоря поднялся из-за стола, неспешно перекрестился на икону, поблагодарил Надея за угощение. Надел шубу. Смущенный Надей протянул ему треух.
— Ты это, ты на нас не обижайся. Заходи, ежели что, ежели карасиков там али стерлядку, — сбивчиво бормотал он.
— Как же — зайду, — пообещал Зоря. — Завтра же и зайду.
Выходя за порог, он поглядел на Малку. Девушка все еще стояла у печи. Но в глазах ее, устремленных на дружинника, уже не было прежней неприязни.
Слово свое Зоря умел держать. Назавтра, как и обещал, он снова был у рыбака.
Март шел на убыль. Подточенные теплым солнышком, исходили потемневшие снега, садилась в гнездо ворониха, а у зайчихи уже появились настовики — зайчатки первого приплода. Зеленовато-белыми пуховичками зацветала верба.
Пошла рыба, и Надей перебрался с удочками поближе к берегу, туда, где стекают под лед весенние ручейки.
Малка попривыкла к дружиннику, сходил и с нее зимний холод, все чаще улыбка освещала ее лицо, едва только показывался на пригорке пегий Зорин конь.
2
Отшумели полые воды, смыло течением бурые льды. Зацвела в пронизанных солнцем прозрачных лесах красно-синяя медуница, запылил орешник. Пришла пора браться за орало.
Поплевав на ладони, провел Зоря первую борозду от березовой рощицы до болотистой низинки. От низинки снова повел борозду в гору. Радовалось сердце: от желтых маслянистых пластов подымался теплый пар, над пашней кружили грачи, важно вышагивали по сторонам, отыскивая в земле жирных червяков.
Посветлевшими глазами глядел Зоря по сторонам, шутя разворачивал орало, помахивая ивовым прутиком. За зеленым островком густого хвойника раздавались голоса: и там мужики пахали пашню, борозда за бороздой расчерчивали подернувшееся свежей зеленью поле. Спешили. Поглядывали, улыбаясь, на небо — было оно на редкость прозрачное и ясное, солнце припекало согнутые спины, намокшие рубахи прилипали к телу, к вечеру усталость валила с ног.
Малка прибегала к Зоре два раза на дню: то хлеба принесет, то квасу. Завидев ее еще издалека, дружинник останавливал коня, бросал орало, распрямлял натруженные плечи, шел ей навстречу неторопливой, валкой походкой.
Малка расстилала под кустиком тряпицу, раскладывала угощенье. Зоря жевал хлеб, пил квас, прищурясь, сквозь выцветшие ресницы разглядывал девушку. Такого покоя и такого тепла не знал он с рожденья. Знать, судьба привела его в Поречье. Ведь давал князь Юрий два угодья ему на выбор. А ежели не попал бы он в эти места? Ежели бы не наехал на приткнувшуюся у берега Клязьмы избушку?.. Не видать бы ему тогда своего счастья, вовек не видать.
— А ведь ты не из наших краев, — сказала ему как-то Малка, надкусывая зубами травинку.
— Верно, — ответил Зоря. — Да как ты догадалась?
— Сорока на хвосте принесла.
Зоря засмеялся.
— Из далеких я мест. Отсюда не то что не видать, скоро и не доехать. Про булгар слыхала?
— Как не слыхать…
— Так вот я, почитай, от самых что ни на есть булгар. Деревню нашу сожгли, а князь Юрий Андреевич мне что отец родной. Кабы не он, не видать бы мне ни Поречья, ни тебя, Малка…
Девушка прикоснулась ладонями к запылавшим щекам.
— Да что ты такое говоришь, Зоря!
— Спас меня наш князь от верной погибели.
— Страшно-то как!
— Еще и пострашнее бывает.
Загрустил Зоря, вспомнив свое ратное житье-бытье. За родных с булгарами он рассчитался сполна. Ему б сейчас на землю сесть, остаться в Поречье. Да только что у князя на уме? Лето жаркое заглядывает в окна, а летом князь ни за что в тереме не усидит. Опять пойдут они на булгар, а то и на половцев, а то и еще какую другую землю воевать.
— Не отпущу я тебя, Зоря, — испуганно шепнула Малка, прижимаясь к нему плечом.
— Да как же не отпустишь-то? — удивленно переспросил дружинник, гладя ее по волосам. — Как же не отпустишь-то, ежели князь призовет? Нынче нас с Юрием Андреевичем никак не разлучить.
— Какой же он князь, ежели без тебя ему и в поход идти не с кем?
— Таких-то, как я, у князя не один и не два сыщется. А за спасение свое в долгу я перед ним до самой могилы. Вот как.
Солнце садилось за Клязьму, купало в золотистой воде длинно протянувшиеся лучи. Тени деревьев перекидывались за середину речки.
Ведя выпряженного, упревшего коня в поводу, Зоря возвращался с Малкой с пашни. Уставшее за день тело отдыхало, приятный ветерок обдувал лицо. Зоря улыбался, поглаживая приветливо тянувшегося к нему коня по морде, по теплым мягким губам. Конь фыркал, тряс головой и норовил перейти на рысцу. Зоря сдерживал его, натягивал повод.
— Ишь ты, разыгрался.
Надей сидел на лавочке перед избой, чинил бредень. Увидев дружинника, встал, поклонился. Малка скользнула в избу.
Привязав коня, Зоря сел рядом с Надеем. Смотрел на ловко работающие руки рыбака. В тишине слышно было, как шевелится за бугром река. В лесу посвистывала одинокая пичуга.
— А нелегок и твой хлеб, Надей, — сказал Зоря.
— Чего уж легкого, — охотно отозвался рыбак, и руки его, вязавшие бредень, замерли, взгляд Надея устремился вдаль.
— Хорошо ли пошла рыбка? — спросил Зоря.
— Рыбка-то пошла, да все мелкая, — сказал Надей. — Не то что в запрошлом годе.
— В запрошлом годе и хлеба были хороши.
— А какая рыбка ловилась! — оживился Надей. — Раз клюнул у меня сом, полдня по реке водил. Умаялся я, пока вытащил. Во сом!..
— Да неужто такие бывают?
— У нас и не такие бывают. Да-а, река нас и кормит и поит. Места здесь кругом обильные…
Руки Надея снова принялись ловко вязать узелок за узелком.
— А давно ль ты у Клязмы-то поселился? — спросил Зоря.
— Давно. Жена моя тогда еще на сносях ходила. После Малку родила…
Задумался Надей. Заволокло глаза его туманцем, пересекли лоб глубокие ложбинки.
— Мужики в Поречье сказывали, красивой она была?
— Такой ли раскрасавицей, что и не опишешь, — оживился Надей. — Доченька-то вся в нее пошла.
Помолчал. Снова безвольно опустились над бреднем распухшие в суставах красные руки.
— Померла она в лихую годину, — глухим от волнения голосом принялся рассказывать Надей. — Зима тогда выдалась снежная да морозная. Ох, и лютовала. Я ко княжескому двору рыбку повез, а жена одна в избе оставалась. Пошла по воду, дело-то бабье, да нога в прорубь-то и скользнула. Едва выбралась, сердешная. Заледенела вся. А когда воротился я из Боголюбова, ее уж лихоманка взяла. Лежит вся синяя, озноб ее колотит, зуб на зуб не попадает. Уж как ее только не отхаживали. И в баньку водили, и травкой отпаивали. Не помогло. Преставилась на Романа…
Из избы вышла Малка, села на лавку рядом с отцом, участливо спросила:
— Снова за старое, батя?
— Ветер кручины не развеет, доченька, — отозвался Надей. — Одна ты у меня на всем белом свете. Без матери воспитал, — повернулся он к Зоре. — А какова! — глаза его заблестели от гордости. — Иному и мужику перед ней не устоять.
— Уж хватит нахваливать-то — отмахнулась от него Малка, смущенно глядя на дружинника. — Захвалишь еще…
— Товар красен лицом.
— Не товар я, да и ты не купец…
На пригорке показался припадающий на левую ногу мужик в короткой душегрее мехом наружу, с огромной копной волос.
— Ивака идет, — сказала Малка.
— Поклон добрым людям, — тихим голосом приветствовал их мужик.
— И тебе поклон, — сказал Надей. — Что на печи-то не лежится?
— Кости ноют, должно, к дождю, — сказал Ивака, присаживаясь на корточки. Только сейчас Зоря заметил, что у мужика не было правой руки.
— Дождь нынче ни к чему, — покачал головой Надей. — Еще пашню не подняли, а уже дождь. Ни к чему он… Ты, Ивака, не дело говоришь…
— Да что ж не дело-то, — кротко улыбнулся Ивака. — Не я говорю, рука вот отрубленная говорит. Пальчики ломит…
— Ох ты, господи, — выдохнула Малка.
Зоря с любопытством разглядывал мужика. У него был загорелое, высушенное солнцем и ветром лицо с начинающей седеть бородкой, голубые добрые глаза и чуть приплюснутый нос с широкими крыльями ноздрей. Под густыми усами прятались усмешливые губы.
— Ты где руку потерял? — участливо спросил дружинник.
— На Болоховом поле, — хрипло сказал Ивака и передернул плечом. — Это когда с Ростиславичами секлись. Свой же мужик и отмахнул — ростовский… Беда!
— Да как же ты без руки-то? — удивился Зоря. — Как же ты с оралом управляешься?
— Управляюсь, — выпятив грудь, гордо сказал мужик. — Не гляди, что я ростом не вышел, а силы во мне хоть отбавляй. Одной рукой орало и подымаю.
— Врешь, — не поверил Зоря.
— А что мне врать? — ничуть не обиделся мужик.
— Давай, коли что, силой потягаемся?
— Давай.
Надей засмеялся:
— Не связывайся ты с ним, Зоря. Он и впрямь что бык.
Сели на землю друг против друга, поставили левые руки локтями на скамейку, вложили ладонь в ладонь, поднатужились.
— Ого! — сказал Зоря, напрягая мускулы. — Отродясь такого не было.
— Еще будет, — весело откликнулся Ивака, наклоняя Зорину руку.
Но Зорю насмешками лучше не тронь. Рассердился он, рванул вправо, прижал Ивакину руку к лавке.
— Твоя взяла, — сказал Ивака, потирая ладонь. — Уж на что я медведь, а тебя мамка и вовсе Ильей Муромцем родила.
Темнело. На закраинке неба быстро таяла светлая полоса. Зоря поднялся, отвязал коня.
— Хорошо у вас, — сказал он Надею, — но пора и честь знать. Завтра чуть свет снова на пашню.
— Я тебя провожу, — вызвалась Малка.
Спустились к реке, шли по самой кромке, у воды, обходили тихие заводи, в которых плескалась рыба. Остановились. Зоря привлек девушку к себе, заглянул во влажные глаза.
— Посватаюсь я за тебя Малка, — сказал он неожиданно осевшим голосом.
— А не пожалеешь?
— Вот отсеюсь и посватаюсь…
— Кто же в мае-то сватается? — прижимаясь к нему, прошептала девушка.
— Люба ты мне.
— Сама вижу. Молчи.
— А что молчать-то? Я на всю деревню кричать буду, — горячо сказал Зоря.
— До свадьбы и не смей, — испугалась Малка.
3
дороге. Слева и справа буйно зеленеют травы. В новорожденной тени березняков таится легкая прохлада. Насупленные вечнозеленые ели сторонятся солнечных опушек, усыпанных медуницами.
Екает селезенкой Надеева кобыла, поскрипывают колеса телеги, а из лесу доносится сквозь ласковый шорох листвы тревожащий душу голос одинокой кукушки.
Загадала Малка кукушке свое желание на долгую жизнь. А кукушка прокуковала три раза — и замолкла.
— Что пригорюнилась, Малка? — допрашивал ее Зоря. — Али ночью недобрый сон приснился?
— Скоро расстанемся мы с тобой, — сказала девушка, пряча от дружинника скатившуюся по щеке слезу. — Кукушку я подслушала…
— Пустое это, — облегченно вздохнул Зоря. — Кукушка — глупая птица. Откуда знать ей про нашу с тобой судьбу?
— А вот, сколько я ни загадывала, все сбывалось, — ответила Малка.
— Мне бы, по кукушкину-то наговору, давно в земле лежать, — улыбаясь, успокоил ее Зоря. — А я здоров.
На подъезде к Владимиру, уже за Боголюбовом, на западе показались черные тучи, быстро охватили все небо, ветер взлохматил клейкие листочки на березах; вверху, где за валами стояли, тесня друг друга, княжеские терема, сверкнула молния и тотчас же загрохотал гром, да так, что вспугнутые им лошади помчались под горку рысью; телега затрещала, замоталась из стороны в сторону. Зоря выхватил из рук Надея вожжи, потянул их на себя.
Снова полыхнула молния, да такая синяя и страшная, что Малка закрыла глаза. Зоря повернул притихших лошадей на боковую дорогу. Уже упали первые крупные капли дождя, а когда дождь хлынул во всю свою мочь, Зоря успел завести телегу под раскидистую ель.
Все почернело вокруг, шорох прокатился по лесу, потом перешел в зловещий гул. Дождь надвигался сплошной стеной, и Зоря вспомнил безрукого Иваку: верно предсказал мужик, будто вещун какой…
Скоро струи лихого дождя проникли и под разлапистую ель. Взбухла земля, понеслись в стремительных ручейках прошлогодние желтые иголки.
Лес содрогнулся от близкого удара грома. Малка, спрятавшись под толстую холстину, перекрестилась. По лошадиным холкам перекатывалась легкая дрожь. Кося глазами в темную глубину плотно прилепившихся друг к другу стволов, лошади прядали ушами и возбужденно фыркали.
Молния еще долго сверкала, но шум ливня стихал; нежданно подувший по вершинам ветерок понес по прогалинам и полянкам мелкую дождевую пыль.
Внезапно все засверкало и заблестело вокруг — солнце высветило в глубине леса березки, упало на траву, побежало по тропкам все дальше и дальше — в лесу стало просторнее и чище. Деревья, умытые ливнем, стряхивали с ветвей тяжелые капли.
Чмокая колесами, телега выбралась на проторенную дорогу, Надей снова взял вожжи, Зоря сел в задке рядом с Малкой, и скоро они увидели вдали белокаменный собор Успения с ослепительно блестящим под лучами солнца большим золотым крестом.
Въехали в город через Серебряные ворота. Во Владимире тоже прошел дождь, и по улицам стекали грязные потоки воды. Ребятишки, засучив штаны, ходили по лужам, с громкими криками запускали игрушечные деревянные лодки.
От мокрых крыш и заборов поднимался пар. На торговой площади гудел народ.
Здесь Зоря с Малкой сошли, а Надей поехал дальше, к Золотым воротам, на княжеский двор. Встретиться договорились у собора.
Глядя на окружившую ее со всех сторон красоту и толпящийся повсюду народ, Малка охала и всплескивала руками. Зоря был к этой толчее привычен.
Держась за руки, они прошли мимо высоких боярских теремов, с тесовыми кровлями и украшенными резьбой коньками и причелинами, к площади возле звонницы, где меж кряжистых дубовых столбов висело на железной цепи соборное било. На возвышении стоял человек в синей ферязи, кричал что-то, и толпа отвечала ему громким уханьем. Стоявшие позади мужиков старушки часто крестили лбы и что-то бормотали.
Ведя за собой Малку и оттесняя плечом притихших мужиков, Зоря пробился поближе к говорившему и узнал в нем княжеского бирича Туя.
— Что стряслось-то? — спрашивал Зоря стоявших рядом с ним плотников, которых признал по топорам и исходившему от них запаху смолистого дерева. — Беда какая?
— Беда, — неохотно буркнул один из мужиков и снова приподнялся на цыпочки, чтобы лучше видеть говорившего.
— Богу душу отдал кто, али как? — не отставал от него Зоря. Мужик выругался и метнул в него свирепый взгляд, но при виде отороченной мехом шапки с алым верхом, какие носили только дружинники, мягче пояснил:
— Скончалось наше мирное житье. Опять князьям невмоготу — вишь, что бирич глаголет. Затеял Роман великую смуту.
— Никак, с братьями поссорился?
— Отобрал у них уделы. Собирает князь Всеволод войско, а нам каково?
— Втыкай в бревна топоры, — вмешался другой плотник с лукавыми глазами.
— А нам сеять, — сказал один из мужиков в продранной на плече грязной рубахе. Сквозь прореху виднелось заскорузлое загорелое тело.
— Бабы отсеются…
— На баб только и надёжа, — протянул мужик. — Да баба не лошадь. Ее и заездить можно.
Бирич, натужив горло, кричал с возвышения:
— И повелел князь Всеволод немедля выступать в поход, дабы хулителя и отступника князя Романа рязанского со всею строгостию покарать и братьям его, князьям пронским, вернуть их волости…
Вцепившись в рукав Зориного кафтана, Малка шептала онемевшими губами:
— Вон как все поворотилось. Вон как кукушка-то накуковала…
Померкла недавняя радость. Стоял Зоря и ушам своим не верил, хоть и знал: не крепко его счастье. А Малке каково?
— Зоря, эй, Зоря! — кто-то окликнул его.
Он обернулся и увидел протискивающегося сквозь толпу Надея. У Надея были пьяные, блуждающие глаза. Левое веко подергивалось, в трясущейся руке он сжимал кнут.
— Слыхал? — спросил его, кивая в сторону бирича, Зоря.
— Как не слыхать? Слыхал, — проговорил Надей заплетающимся языком. — Еще на княжеском дворе слыхал. Вот и отсеялся ты, дружинник. Вот и отмыкался. Нынче же коня выпрягать, али в Поречье вернешься?
— Где уж там, — упавшим голосом сказал Зоря, пряча от Малки подернувшиеся печалью глаза. — Выпрягай, и поживей. Князь уж, поди, всех скликал. Одного Зори не дозовутся.
Малка вдруг запричитала в голос. Глядя на нее, заголосили и другие бабы.
Мужики, ворча и ругаясь, поплелись кто куда. Площадь быстро опустела.
Зоря проводил Надея с дочерью до Серебряных ворот. За воротами они расстались. Малка повисла у него на шее, прощалась, будто с покойником, не таясь, плакала.
Зоря успокаивал ее:
— Не надолго это. К концу сева вернусь в Поречье.
— Не вернешься ты, чует сердце мое — не вернешься…
— Брось ты каркать-то, — не выдержал Надей. — Чего разголосилась? Да и не мужик он тебе. Поди, невенчаная…
У него постукивала на дне телеги, под соломкой, заветная сулея с медом. А делиться с Зорей ему не хотелось: небось дружиннику и без того медов вдосталь перепадает. Сказывают, сладкое у них житье.
— Полезай в телегу! — приказал дочери Надей.
Зоря шел рядом, держа Малку за похолодевшие пальцы. Потом Надей привстал, взмахнул плетью, и лошадь ходко пошла под уклон. Зоря выпустил Малкину руку, отстал; Малка ткнулась лицом в платок и громко зарыдала.
Въехав в лес, Надей попридержал кобылу, перекрестился и достал из-под соломки заветную сулею.
4
чему в виски стучат железные молоточки?! И сердце сдавила ледяная рука. Отчего бы это?
Еще с вечера узнал он, как все началось. Открылся Досаде:
— Дождались, Досадушка, скоро посажу я тебя в самый высокий терем, осыплю золотом и жемчугами.
— Аль и сейчас не даришь меня своей любовью? — удивленно отвечала ему Досада. Тревожили ее слова князя, недоброе выражение его глаз пугало ее. Давно уж стал задумываться Юрий: разговаривает с ней, ласковые шепчет слова и вдруг замолчит, насупится, уйдет взором в неоглядную даль.
— Любовью дарю, а велика ли честь? — шептал Юрий. Бродил в словах его буйный хмель:
— Сын князя Андрея я. Законный сын. Значит, и земля, что вокруг Владимира, вся моя, не Всеволодова. Был я малолетним да дурным, захватил дядька стол, а рассчитываться и не помышляет.
— Что говоришь ты, князь? — испуганно отшатнулась от него Досада. — Страшно мне…
— Кого боишься? Кого? — схватил ее за плечи Юрий.
— Да бог же… — пролепетала Досада.
— Бог? — улыбнулся князь. — Бог-то с нами. И Святослав с нами. И Роман.
Вся дрожа от страха, опустилась Досада перед Юрием на колени.
— Не загуби душу свою, — просила она. — Откажись от задуманного.
— Да что ты, Досадушка? — поднял ее с колен улыбающийся Юрий. — И чего это тебе загрезилось? Беда-то в чем?.. Аль не хочется стать княжной над всеми боярынями? Аль скотницы твоего отца забиты золотом?.. Отвечай.
Ничего не ответила ему Досада. Только покачала головой и ушла от него в великой печали. Невдомек было тогда Юрию, чем это обидел он свою ладу.
А нынче что-то просыпалось, продиралось сквозь уснувшую совесть. И не страх это был. И не раскаяние.
Ходил Юрий по терему, заложив руки за спину, ходил и думал.
В тот же вечер Мария, увидев печальную Досаду, стала расспрашивать ее, не случилось ли в доме какой беды. Синие глаза молодой боярышни еще не высохли от слез — она упала к ногам княгини и поведала ей все, что услышала от Юрия.
Темное лицо Марии покрылось красными пятнами, но она не дала воли гневу, а стала успокаивать девушку. Теперь уж ничто не мешало Досаде дать волю слезам.
Услышав от жены об измене Юрия, Всеволод не удивился.
— Лисий хвост, а рот волчий, — сказал он.
Все сошлось. Не врал Словиша. И Ратьшич ему не врал. И решил он на всякий случай приставить Ратьшича к Юрию.
— Гляди в оба, — наставлял он его. — У Юрия тысяча, и, ежели повернет он за Романа, нам несдобровать.
— Ты на меня, князь, положись, — твердо пообещал ему Ратьшич. — Юрию без меня и шагу не ступить.
— А поведет дружину свою против нас…
— И это исполню, князь, — поняв недоговоренное, ответил Ратьшич.
И все-таки тревожно у Всеволода на душе. Хоть и знал, что копившееся исподволь рано или поздно должно объявиться, но выступление Романа застало его врасплох.
Донесли ему лазутчики, что послан от Святослава к Роману сын Святославов Глеб, а сам старый князь только ждет условного сигнала. Вступать в единоборство с Киевом Всеволоду не хотелось, но и спускать Роману его бесчинств он тоже не собирался.
Бояре на совете говорили Всеволоду:
— Не спеши, князь. Не проливай зря крови. Может, Роман и одумается.
Но Всеволод бояр слушал в пол-уха. Знал: с Романом следует расправиться, пока Святослав не собрал войска, пока не дошло оно до Рязани. А когда дойдет, поздно уж будет.
Нет, мешкать Всеволод не любил, однако же и не торопился раньше срока. Не успел еще оправиться Владимир от трудной борьбы с Ростиславичами.
Плохо спалось князю в эту ночь, утром Мария ахнула, увидев синяки у него под глазами. Ластилась, старалась угодить ему. Но Всеволод будто не замечал жены. Ходил по покоям задумчивый и мрачный.
Во дворце стояла настороженная тишина. Слуги боялись попадаться князю на глаза. Бояре, как всегда собравшиеся с утра в просторных сенях, разговаривали вполголоса. Некоторые, завидев Всеволода, косились на него с усмешкой.
Всеволод понимал их, про себя накалялся гневом: «Снова взялись за старое, снова мечтают о былой вольнице».
И не дождетесь, злорадствовал Всеволод. Проходя мимо бояр, сверлил пронизывающим взглядом их неприступные лица.
«Изрубят, как брата, в куски — вложи им только меч в руки, — думал он. — Марию, как Настасью, любовницу Ярослава, возведут на костер. Разграбят храмы. Разгонят мастеров. Пойдут на поклон к епископу Луке, присягнут Юрию…»
Не верил он им. Судьбу свою вручал таким, как Ратьшич и Словиша. Такие не подведут. Хотя и среди них есть бешеные собаки, кусающие своего хозяина, но кормятся они из руки князя и на боярские подачки княжеской милости не променяют.
С болью вспомнил Давыдку, с содроганием вспомнил, как, хватаясь немеющими руками за пронзившую грудь сулицу, падает он с коня. Как кривится застывающий в муке рот и стекленеют глаза.
Стараясь отогнать недобрые мысли, искал уединения. Чувствовал, как не хватает ему в эти минуты Микулицы.
В сенях сидели бояре, в ложнице ждала его Мария, на улице толпился растревоженный народ.
Придет ли Юрий? Юрий не приходил.
Вместо него появился Кузьма Ратьшич.
— Все готово, князь.
Всеволод не ответил ему. Приблизился к окну, толкнул створки, подставил лицо ворвавшемуся в комнату свежему ветерку. Мысли постепенно прояснялись, зеленые дали вливали в него уверенность, ярко полыхающее на безоблачном небе солнце — тепло еще одного родившегося в муках дня…
5
Проснулся Зихно у клобучника Лепилы. С трудом вспомнил, как с вечера они пили брагу, как потом целовались и Зихно напяливал на голову шерстяные копытца.
А встретился он с Лепилой у опонника Конюты, длинного мужика с костлявым страдальческим лицом, узловатыми пальцами и бородавкой на шее величиной с голубиное яйцо.
С Конютой Зихно познакомился в соборе, когда тот приносил вытканные золотом занавеси для амвона. Мужик он был себе на уме и прижимистый, но гость есть гость — пришлось ему выставлять для богомаза братину меда. К медку-то в самый раз и подоспел клобучник.
Был Лепила улыбчив и краснощек, маленький, пузатенький и такой прожорливый, что Конюта забеспокоился, глядя, как он уплетает второго гуся: не попросил бы третьего.
Но Лепила должен был заглянуть к швецам, которые обещали ему ниток, и стал прощаться с Конютой. Зихно, у которого уже начиналось в голове приятное брожение, увязался за ним.
У швецов, в тесной избе, завешанной исподницами, шелковыми и алтабасными штанами, сермягами из толстого сукна и легкими кафтанами, ферязями с четырехугольным откидным воротником и кожухами, обшитыми плоскими золотыми кружевами, они снова пили мед, рассказывали байки и пели песни.
К вечеру Зихно уже не приставал к Лепиле — клобучник сам тащил его к себе домой, хвалился брагой и обещал сшить такую шапку, что почище любой боярской.
Жил клобучник бобылем, да это и сразу было видно, едва только Зихно переступил порог его избы: полы полгода не метены, всюду обрезки сукна и шелка, спутанные клубки ниток, в углах — черная от копоти паутина, на столе — засохшая каша, немытая посуда, куски хлеба вперемешку с иглами и шильцами.
Они пили и пели до хрипоты, потом свалились и спали в обнимку на полу, среди разноцветных лоскутов. В бороду Лепиле впутались белые нитки, да и Зихно был не лучше: нитки висели у него на голове и на ушах.
Потормошив блаженно чмокающего губами Лепилу и не добудившись его, Зихно вытряхнул из братины остатние капельки браги, пожевал корочку и, грустно обведя взглядом погрязшую в сиротстве избу, вышел на улицу.
В голове у него все гудело, во рту было горько, и он решил пройти по старой дороженьке — заглянуть к опоннику Конюте: авось не поскупится, нальет чарочку меда, а большего богомазу и не надо.
Ведь слышал же он издали Конютин хриплый голос за тыном, ведь видел же его исподницу, а сколько ни бренчал в калитку, так никто из избы и не вышел. Зихно плюнул себе под ноги, почесал затылок и направился к златарю Толбуге. Златарь был человеком смиренным и добрым, и он не допустил бы, чтобы Зихно ушел от него, не похмелившись. Но на пороге богомаза встретила жена златаря, высоченная и толстая, как бочка, баба с красным лицом, выпуклыми глазами и с батогом в руке.
Зихно не стал заходить к Толбуге. Он круто повернул и выйдя через Волжские ворота к Клязьме, поплелся к судовщикам. Судовщики — народ отчаянный, уж они-то не дадут богомазу помереть от жажды.
У реки на плотах бабы стирали белье. Чуть подальше голые дружинники купали коней. Хихикая, бабы поглядывали на них, дружинники подзадоривали баб веселыми криками.
Река искрилась на утреннем солнышке и манила к себе. Зихно сел на бережок и снял рубаху. Он подумал, что искупаться сейчас было бы в самый раз. Поплескаться немножко в воде, а потом идти к судовщикам. Задумано — сделано. Снял порты, прикрывая ладонью срам, вздрагивая и ежась, спустился к самой кромке берега. Попробовал воду пальцами ноги — холодно.
Тут на холмике показалась баба, идет прямо на него — вот и кучку богомазова тряпья миновала: никак, тоже поплавать задумала? Попятился Зихно в воду, опустился по горло, спрятался за склонившийся над речкой кустик.
А баба подошла совсем близко, и Зихно увидел из своего укрытия, что и не баба это вовсе, а девка, да и не просто девка, а красавица из красавиц и вроде бы где-то он ее и до этого видел. Зашлось от радости озорное сердце богомаза: вот сейчас скинет она сарафан, войдет в воду, а он тут как тут. Даже весь хмель из головы вышибло.
Но девка и не подумала снимать сарафана, а так, во всем, что на ней было, и пошла в речку. Вздулось красное облако сарафана, осело на воду, а чуть подальше — омут.
— Стой ты, бешеная! — заорал Зихно, вымахивая из-за кустика. Только теперь понял он, что пришла девка на Клязьму не купаться, а с жизнью счеты сводить.
Вот бедовая: ведь слышала же богомаза, но даже головой не повела, только взмахнула руками да так молча и пошла под волну.
Зихно нырнул под нее — и вовремя. Успел, под водой уже, схватиться за сарафан. Потянул на себя, вытащил на отмель, дух перевести не может. Стал и так и эдак крутить девку, воду из нее вытряхивать — утопленников ему и раньше доводилось вылавливать и в Волхове, и в Ильмень-озере.
Колыхнулась грудь у девки, на шее забилась тонкая жилочка. Открыла она глаза, а ничего понять не может. Села, взглянула на голого богомаза — и ну в рев.
Быстро натянул на себя Зихно порты, перевязал бечевочкой рубаху. Стал успокаивать девку:
— Дуреха ты. Али милый бросил?
Ни слова в ответ.
— Грех ведь топиться-то…
Опять — только слезы.
Зихно оглядел прилепившийся к телу девушки сарафан, быстро оценил: не из простых она, не холопка. Да и мушка золотая на гребне…
Посоветовал:
— Ты бы, дуреха, сарафан-то сняла, посушила.
— А ты? — сердито глянула она на него из-под опущенных ресниц.
— Топиться снова не будешь? — спросил Зихно.
— Не твоя забота, — сказала девка. И по тому, как посмотрела она, по тому, как сказала, понял богомаз: не ошибся он — боярская дочь. «Ох, и погуляешь ты нынче, Зихно!» — сказал он себе и отвернулся от боярышни. Но чутким ухом ловил каждый шорох. Со сладкой истомой в груди скосил взгляд: увидел наброшенный на кустик сарафан.
— Как зовут-то тебя? — спросил он, не оборачиваясь.
— Досадой, — послышалось из-за куста.
— Никак, боярина Разумника дочь?! — обрадовался Зихно.
— Угадал…
— Чего же ты, милая, во реку-то полезла?
— Жарко. Выкупаться захотелось.
— В одёже-то?
— А хошь и в одёже. Твое-то, холоп, какое дело?
Кольнуло богомаза в грудь. Осерчал он — только что из омута вытащил, а она ругаться.
— Не холоп я, — сказал он с обидой в голосе. — И холопом отродясь не был. Богомаз я, иконник. А зовут меня Зихной.
Промолчала девушка. По звуку Зихно догадался, что она одевается. Вышла из-за куста. Остановилась. Обернулся Зихно — и обмер: такая тоска была в устремленных на реку девичьих глазах, такая боль, что и не выскажешь. Наклонилась она, подняла уроненный на землю повой, побрела в гору. А ноги у нее так и подкашиваются — вот-вот упадет. Дошла до взлобка — и впрямь упала.
Подбежал к ней Зихно, поднял на руки, прислушался, а с губ ее хоть бы легкое дуновенье сорвалось. Нос заострился, под глазами — желтые круги. «Ах ты, господи!» — в отчаянии поглядел вокруг себя богомаз. Не понесешь же боярышню через весь город на руках. Положил ее под кустик, голову приподнял, чтобы ветерок лицо обдувал, а сам побежал к судовщикам. Упросил дать телегу с лошаденкой, чего-то наврал.
Подъехал к берегу, а Досада, как лежала, так и лежит. Уж не померла ли, испугался Зихно. Приложил ухо к груди — жива. Пристроил боярышню на телегу, накрыл мешками и погнал лошаденку в гору.
В усадьбу к Разумнику его не сразу пустили, все допрашивали через ворота, кто такой да откуда.
— К боярину у меня дело, — сказал Зихно.
Вышла ключница, глянула на телегу, затрепетала вся, велела шире открывать ворота. С крыльца сбежал боярин, стал помогать слугам нести Досаду, закатил глаза, надсадно задышал, повалился на бок.
Тут уж вовсе поднялся переполох. Одни отхаживали боярина, другие боярышню. Про Зихно все забыли.
Постоял он, постоял на боярском дворе да и развернул кобылу. Не дождаться ему медов, не до угощенья здесь нынче. И поехал снова к судовщикам.
Судовщики отчаянно напоили богомаза, проводили до дому. Глядя на его безжизненно распростертое на лавке тело, Злата причитала:
— И за что это господь послал мне такую муку?!
А князь Юрий так ничего и не узнал о своей ладе. Когда привез Зихно Досаду на боярский двор, Всеволодово войско, пыля по дорогам, уже двигалось к Коломне.
Глава десятая
1
Роман рассчитывал на помощь Святослава. Но великий князь, занятый враждой с Давыдом Ростиславичем, тоже ищущим киевского стола, послал ему лишь небольшой отряд с сыном своим Глебом, который заперся в Коломне.
Оробел рязанский князь. Потух. Понимал он, что со Всеволодом своими силами ему все равно не справиться. Вспомнил судьбу отца, закончившего дни в порубе, — и вовсе испугался. Готовое к выступлению войско ждало приказа, а князь, уединившись в горнице, нелюдимый и мрачный, пил меды и вздрагивал от каждого стука, доносившегося со двора.
Гонцы приносили плохие вести. Всеволод вышел из Владимира, не сегодня-завтра будет под Коломной, а он не решался стронуться с места.
Святослав прислал к Роману Житобуда. Страшилище тысяцкий еще больше напугал молодого князя. «А этот леший мне на что?» — думал он с горечью. Спрашивал с тоской:
— Где Святославова дружина?
— Нетерпелив ты, князь, — пытался уговорить его Житобуд. — Да сам посуди, разве когда было, чтобы Святослав не держал своего слова?
— От Глеба пользы мне мало, — отмахивался Роман.
— Глеб — Святославов сын, а идти супротив Святославова сына Всеволод поостережется. Пока будет стоять он под Коломной да думать, что дальше делать, как ему быть, справится Святослав с соперником своим Давыдом и прибудет к тебе со всею силой.
— А ежели Всеволод не поостережется, ежели возьмет Глеба?
— Совсем застило тебе рассудок, князь — отвечал Житобуд, с ухмылкой разглядывал Романа. — Все равно нынче тебе пути другого нет, как только идти на помощь Глебу.
— А я еще погляжу…
— И глядеть нечего.
— Ступай, — раздраженно отослал Житобуда князь. Не нравился ему Святославов тысяцкий: разноцветные глаза смотрят нагло, речи говорит с ним, словно с равным.
Житобуд ушел. Но на следующее утро, ни свет ни заря, снова был у Романа. Наказ великого князя ему был строг: пусть рязанцы не робеют, пусть только начнут. А начнут — я их в беде не брошу. Аль родному сыну не помогу? Не рискнет Всеволод осадить Глеба в Коломне, уйдет восвояси. Тут Романовым братьям и конец. Да и про Юрия Андреевича, чай, рязанский князь позабыл.
С трудом оттаивал Роман. Житобуд старался:
— Погляди, какое у тебя войско. Вой к вою. Кони сыты, дружина рвется в сечу. А у Всеволода посадские мужики да ремесленники. У кого горбуша, у кого топор. Тебе ли с ним не справиться?
— Вон Ростиславичи тож хвалились. А отца моего кто упек в поруб?
— За отца владимирским каменщикам и ответ держать. Да неужто ж будешь ты век свой дохаживать под Всеволодой пятой?..
— А как быть?
— Тогда верни братьям своим уделы. Может, и Рязань им отдашь, а сам подашься в степь?
— Молчи! — вскочил Роман, бледнея и хватаясь за рукоять меча. Житобуд покорно склонил перед ним голову.
— Прости, если чем обидел, князь.
Отдышавшись, Роман снова сел в кресло, окинул Житобуда придирчивым взглядом. Еще в предзимье был Житобуд в этих самых сенях, и тогда они говорили о том, что нынче должно свершиться. В ту пору Роман не робел — был он весел и самонадеян. Задуманное маячило далеко впереди. Святослав был ласков. Всеволод слал гонцов, приглашал на охоту. Братья сидели в Пронске тихо.
А нынче вон как все перевернулось. Только стоило ему зашевелиться — и Всеволод уж не на охоту его кличет, зовет сразиться в чистом поле. Чья возьмет?..
Может, и его спровадят в железах во Владимир?
И сбросят в тот же поруб, где умирал отец? Может, и он невзвидит больше белого света?!
Зря радовался Житобуд. Снова скис Роман. И снова уговаривал его Святославов тысяцкий.
От того, как поведет себя рязанский князь, многое зависело в жизни и у Житобуда. Святослав доверял ему. Да и Кочкарь с Васильковной не обходили удачливого тысяцкого своими дарами.
Зимой навез Житобуд на свой двор дубовых кряжей, весной поставил новую избу — не хуже, чем у бояр: просторную, с широким красным крыльцом и не с волоковыми оконцами, а с косящатыми — с блестящими стеклышками, каких и у бояр-то не у всех сыщешь. Поглядывали на него завистливые людишки, даже слух по Киеву прошел, будто водится он с нечистой силой. Не кто-нибудь, а сам Онофрий в это поверил. «Не могет, сказывал, быть, чтобы человеку сразу так во всем повезло. Чтобы и тысяцким стал, и избу себе новую срубил, и скотницу насытил золотом». А еще подивило всех, что бросил Житобуд бражничать. И больше всего порадовалась этому жена его Улейка. Стала она доброй и ласковой и не жаловалась больше на Житобуда. Всем на удивленье, расхваливала мужа соседкам. «С нечистой спутался Житобуд, с нечистой», — шептались по углам и соседки.
А нынче, ежели Роман не выступит к Колокше, на помощь Глебу, пошатнется благополучие Житобуда, отвернется от него судьба, а то еще хуже: покажет свой страшный лик.
Нет, не оставит Житобуд Романа в покое. Вызовет его к войску, заставит переправиться через Оку.
2
От Романа не поступало никаких известий, отец тоже молчал. В дремотной тишине стояли вокруг города леса, горячее солнце раскалило узкие улочки, в окна вплывал густой знойный воздух.
Князь, голый по пояс, сидел на лавке, пил квас, потел и утирался убрусом. Воины неприкаянно бродили по улицам, заглядывали во дворы, пугали взбалмошных собак.
По ночам собаки собирались в стаи, выли, задрав к небу острые морды, скреблись в дверь, чуя запах еды.
Кто-то надумал расстреливать собак из луков. Забава эта понравилась воинам. И теперь, чтобы скоротать время, они выслеживали голодных псов, а вечером, стащив их в кучу, хвастались своей удалью.
Через неделю к князю прискакал меченоша от дозорного, который заметил с башни выползающее из леса войско. Глеб оживился, перепоясался мечом и отправился на валы.
Когда он подъехал, здесь уже было много народу. Показывали руками в сторону леса, охали и дивились.
Дивиться было чему. Все поле перед крепостью было усеяно людьми. Кое-где дымились костры, на лугу паслись выпряженные из повозок лошади. На вершине холма алым маком полыхал просторный шатер. От шатра во все стороны скакали дружинники.
Один из них подъехал к самым воротам и, подняв руку, стал требовать князя Глеба. Чуть робея, князь высунулся из-за частокола — дружинник прокричал, что он посланный владимирского князя Всеволода, и просил пустить его в город для переговоров.
Глеб, спускаясь с вала, велел отворить ворота. Дружинник въехал, спрыгнул с коня и, склонившись, сказал:
— Будь здрав, княже.
— И ты будь здрав, — стараясь сохранить величие, ответил ему Глеб. В дружиннике он признал Кузьму Ратьшича, с которым доводилось встречаться на свадьбе брата Владимира. — Говори, с какими вестями пожаловал к нам?
— Мои вести добрые, — открывая в улыбке широкий рот, сказал Кузьма. — Князь Всеволод просил меня говорить с тобой наедине.
Глеб оглядел окруживших его воинов и приказал подвести коня. Бок о бок проехали они до избы, в которой остановился князь. Из-за тынов на них с любопытством поглядывали мужики и бабы. До них уже дошла весть, что Всеволод пришел освобождать Коломну и прислал в город своего меченошу.
Войдя в избу, Глеб не сел, не предложил садиться и Ратьшичу. Кузьма оглядел избу и довольно хмыкнул. Улыбка его не понравилась князю.
— С чем прибыл? — спросил он меченошу.
— Послал меня к тебе князь Всеволод сказать, чтобы, не проливая крови, явился ты к нему со всею дружиной, — Ратьшич помолчал и потом, уже от себя, с просьбой в голосе добавил: — Не противься, князь. Сам видишь, тебе против нашего войска не устоять. Только своих же, русских людей погубишь, а пользы от того ни тебе, ни Роману.
Глеб еще надеялся на помощь рязанского князя: ведь, как доносили гонцы, он вот-вот должен был переправиться через Оку. А что, если Романово войско уже на подходе к Коломне.
Не решался Глеб на сдачу. Надеялся на Романа, боялся отца.
— Возвращайся к Всеволоду и скажи, — наконец медленно ответил он, — что города я не сдам, а пусть берет его мечом. Бог нас рассудит.
— Да нешто глаза твои ничего не видят? — удивился Кузьма. — Подымись-ко еще раз на вал, взгляни: разве устоишь ты со своей дружиной? И кромки леса не коснется солнце, как уж будем мы в городе.
Не понравилось молодому Глебу, как разговаривает с ним Ратьшич. Хлопнул он в ладоши, и тотчас же в избу вошли дружинники, встали за спиной Кузьмы.
Побелел Ратьшич:
— И где это видано, княже, чтобы посла не выпускать из города?
— Не посол ты, — оборвал его Глеб. — За дерзость наказую, а не по прихоти своей. Посидишь в порубе, авось одумаешься. А мы тем временем поглядим, чья возьмет.
— Пожалеешь, княже, — сказал Ратьшич и покорно дал воям связать себе руки.
Вывели его во двор, столкнули в яму. Выругался Кузьма, но никто его не услышал.
Глеб велел дружинникам выходить на валы. Дружинников было немного — драться им не хотелось.
— Бой отвагу любит, — петушился перед ними Глеб. — Аль обробли? Со Всеволодом сечись — не на собак охотиться.
— Красиво солнце всходит, каково-то зайдет! — отзывались дружинники.
Так и не пошли на валы. Посидели в городе — и будя. С тоски помереть можно. Отворяй, княже, ворота.
Растерялся Глеб, хлопнув дверью, удалился в избу, ходя из угла в угол, изрыгал грязные ругательства. Поносил и отца, и Романа. Бросили его в этой дыре, а после сами же корить будут: какой-де Глеб князь — и дня в Коломне не устоял.
Тем временем дружинники вызволили из ямы Ратьшича, отдали ему шапку и меч. Кузьма хвалил их:
— Молодцы, мужики, а князь у вас молокосос.
— Ты князя нашего не хули, — пригрозили ему дружинники. — Молод он — это верно. Да молодость-то с годами проходит. Мы ишшо на вашего князя поглядим. Уж больно мягко он стелет…
— Нынче я за него не поручусь, — весело сказал Ратьшич, садясь на коня. — Кабы не задержали вы меня, тогда другой сказ.
Взмахнул плетью, гикнул — и был таков. Дружинники одобрительно переглянулись: лихой у Всеволода меченоша. Да и сам князь, сказывают, лихой. А ну, поглядим.
Отворили ворота, встретили Всеволода, со всеми почестями, ключи выложили на серебряное блюдо, обнажили головы.
Всеволод въехал в город на сером коне в синем кафтане и сапогах из зеленой кожи. Позолоченный шлем держал в левой руке, правой сжимал усыпанное голубыми глазками удила. Русые волосы спадали князю на лоб, глаза глядели пристально и сурово.
Разгневался Всеволод на Глеба, велел заковать его в железа, а всю дружину перевязать и отправить во Владимир.
Сидя на телеге лицом к задку, Глеб потрясал схваченными цепью руками:
— Еще отольются тебе, Всеволоже, мои слезки. Помяни меня, еще как отольются!..
За телегой, связанные веревкой, плелись Глебовы дружинники. Не ожидали они такой чести. Высыпавшие на улицы горожане посмеивались над ними:
— Вам бы с бабами только и воевать!
— Куды им с бабами, — издевались другие. — С тараканами!
Князь Глеб пялил на людей злые глаза, плевался и гремел цепями.
— Ишь, какого медведя словили, — шутили мужики.
— Шкура медвежья, а нутро заячье.
Вечером на торжище людей развлекали скоморохи. Люди пили меды, угощали Всеволодовых дружинников, плясали и пели песни.
Долго, до поздней ночи, не смолкало в городе веселье. Вои тискали за тынами повизгивающих девок. В церкви служили молебен.
Всеволод не пил и не веселился. Час его еще не настал.
Утром войско выступило навстречу Роману.
3
Житобуд переправился через Оку с передовым Романовым отрядом и двинулся на Коломну — выручать Глеба, Он еще надеялся, что Всеволод не достиг города. Таков был второй наказ Святослава — молодого княжича в беде не оставлять, ежели что — бросить дружину, но Глеба доставить в Киев живым и невредимым.
Дорога шла лесами, в лесах отряд подстерегала опасность, поэтому продвигались медленно, со всеми предосторожностями. Обоза с собой не взяли, оставили при Романе. Через день Роман должен был выйти с главными силами и соединиться с Житобудом у Коломны. А от Коломны путь прямой на Москву. От Москвы до Владимира рукой подать.
Радовался Житобуд: уговорил он все-таки Романа, а сейчас поможет Глебу, и уж тогда вернее человека у Святослава не сыскать. Придется Кочкарю уступать ему свое теплое местечко.
Высоко воспарил Житобуд. Видел уж себя в палатах на Горе. Палаты резные, стены воском натерты, на полах — шкуры и заморские ковры. Ест Житобуд с серебряных блюд, ходит в парче и бархате. Бояре заискивают перед ним, метут бородами половицы, а князь сажает его за своим столом с собой рядом.
Первый человек и советник при Святославе — Житобуд. Даром что страхолюд и глаза разные, зато ума палата. Засохнет Кочкарь от зависти, а Васильковна призовет его к себе и скажет: «Люб ты мне, Житобуд. Кочкаря я прогоню и советоваться буду только с тобой».
И прогонит Кочкаря. А Житобуд прогонит бестолковую Улейку. Такая ли ему нужна подруга?! Возьмет он в наложницы пленную половчанку, смуглую и востроглазую. Возьмет и будет ласкать ее и лелеять и есть с ней вместе с серебряных блюд лебединые крылышки.
Покачивался в седле Житобуд, закрыв глаза, улыбался собственным мыслям. Пьянел от счастья сильнее, чем от крепкого меда. Уж такого ли хлебнул он меда, — такого меда, что слаще и не бывает.
Не знал Житобуд и в уме такого не держал, что по той же самой дороге, тем же самым леском, движется навстречу ему Всеволодова рать, а впереди на горячем коне — Кузьма Ратьшич. Крепкая на Кузьме кольчуга, тугой лук повешен через плечо, тяжелый крыжатый меч качается на бедре, в туле дремлют покорные стрелы.
Ехал Житобуд и радовался, а радоваться-то было нечему. Едва только выехал на полянку, едва только ударило ему в лицо солнышко да открыл он глаза — и сам себе не поверил: выстроилось перед ним войско, копья опущены, шлемы надвинуты на глаза, посверкивают обнаженные мечи, топоры вскинуты на плечи.
Растекся Житобудов отряд по опушке, замер.
Выехав вперед, Кузьма Ратьшич весело сказал:
— Здорово, мужики. За какой надобностью идете к Коломне?
Рокот прокатился по рядам. Смеялись во Всеволодовом войске. Романовы дружинники молчали, поглядывали на Житобуда.
Побледнев, Житобуд тоже выехал вперед.
— Идем мы к Коломне, — сказал он охрипшим голосом, — спасать князя Глеба. А ну, отступи с дороги!..
Кузьма Ратьшич засмеялся.
— Нет в Коломне вашего Глеба. Отправил его князь Всеволод во Владимир, заковал в железа. Поворачивайте за Оку.
Пошатнулся Житобуд: да где ж такое видано, чтобы князя, Святославова сына, — и в железа? Ослеп он от гнева, выхватил сулицу, метнул в Ратышича, да промахнулся.
В ответ посыпались на рязанцев резвые стрелы. Послышались крики, воины бросились друг на друга. Пролилась первая кровь, раздались первые крики о помощи. А потом все смешалось в сплошной грохот и гул. Вставали на дыбы, топтали раненых кони, трещали под топорами щиты, лопались распоротые засапожниками кафтаны.
Попятились рязанцы, покатились на дорогу. Сняли сапоги, чтобы бежать было легче. Побросали мечи, топоры и копья. А впереди всех спешил к переправе насмерть перепуганный Житобуд.
И не о высоких палатах помышлял он теперь, не о лебединых крылышках, и не о плененной половчанке, а думал только об одном: доскакать до лодок первым, переправиться на ту сторону, а там хоть всё провались. Лишь бы уцелеть: вернется он к своей Улейке, заживет припеваючи. И пусть точит его жена — нет меда приятнее ее брани.
У берега свой бил своего. Переполненные лодки опрокидывались на середине Оки и шли ко дну. Облаченные в доспехи люди едва держались на плаву — железо тянуло их вглубь.
Приставленные к Житобуду Романовы дружинники отбивали его лодию от нападающих. Люди карабкались через борта, падали на траву, обливаясь кровью.
Прыгнув на палубу и оглянувшись, увидел Житобуд устремленные на него усмешливые глаза Кузьмы Ратьшича. Пробивался Кузьма к лодии, ударяя голоменем меча по головам бегущих воев.
— Отчаливай! — неистово закричал Житобуд и упал на дно лодии: пущенная кем-то стрела просвистела над самым его ухом и вонзилась в борт.
Дружинники оттолкнули лодию от берега, навалились на весла. Скоро течение подхватило их, шум битвы стих, только из воды доносились крики утопающих.
Житобуд велел подобрать, кого можно, и быстро грести к противоположному берегу, где уже замаячили всадники, и в первом из них — на белом, в желтых яблоках, коне — он узнал Романа.
Спешившись, князь приблизился к причалившей лодие и смерил Житобуда презрительным взглядом.
— Прости, князь, — опустил голову Житобуд. Из прорезанного рукава его кафтана сочилась кровь.
Владимирцы, издеваясь, кричали с противоположного берега:
— Велите бабам своим печь пироги. Ждите гостей!
— Да меду наварите!
— Да браги!
— Да баньку не забудьте истопить.
— Веничков припасите!
Бледное лицо Романа покрылось испариной. Заледенел страх в его расширившихся глазах. Бежать! К половцам, в степь, на край земли. Бежать.
Ах, как не любит его кусачей плети белый, в желтых яблоках, конь. Как рвется вперед, как выгибает шею — ветер полощет за спиной Романа синее корзно, деревья мелькают по обочине, трава зелеными брызгами взметнулась под копытами коня.
Дружина отстала, дружине не догнать Романа. И Всеволоду его не догнать. Как хорошо иметь быстрого и верного коня. Лучше, чем верного друга.
Нет друзей у Романа. Не было и нет. И братьев нет у Романа — Всеволод и Владимир в стане врагов, Игорь и Святослав ждут не дождутся его поражения.
Рассмеялся Роман, хохот его разнесся по лесу. Ну что ж, получите вы Рязань. Но вот только надолго ли? Придет владимирский князь, урядит по-своему братью, раздаст волости по старшинству, а Роману не выделит и самого худого удела.
Не пришел на помощь Роману Святослав, не выступил против Всеволода и Юрий.
Нелегкая впереди у рязанского князя дорога. И в поруб к Всеволоду ему неохота идти. И в степь идти страшно. Но в степи привольнее, в степи бродят строптивые кобылицы, смуглянки в шатрах дожидаются своих неспокойных мужей. Сидят у незатухающего огня и гадают: вернется или нет?
О Романе никто не гадает: нет у него ни жены, ни любовницы. А есть у него верный конь. И дай бог ему быстрые ноги.
4
Узнав о том, что Всеволод завладел Рязанью, а сына его, Глеба, с позором отправил во Владимир, Святослав пришел в ярость.
Он проклинал трусливого Романа, грозился немедля собрать войско, камня на камне не оставить от гадючьего Всеволодова гнезда.
Кочкарь не смел перечить князю, но, когда гнев его поутих, сказал:
— Нынче не время идти на север. Уведем мы войско на Владимир, а Давыд Ростиславович сядет в Вышгороде.
Один Кочкарь только знал истинное лицо Святослава. И Святослав при нем не кряхтел и не охал. Доверялся. Делился сокровенным.
Прав был Кочкарь: не расправившись с Ростиславичами, отправляться со всем войском в дальний поход на Владимир было опасно.
— Донесли мне, — сказал Кочкарь, — будто собирается Давыд охотиться по Днепру. Может, и нам снарядить охоту?
Насторожился Святослав, прислушиваясь к словам своего любимца. Догадался о его замысле.
— Давненько не стреливали мы уток, — живо подхватил он, и Кочкарь довольно улыбнулся. — А велика ли при Давыде дружина?
— Велика ли, не ведаю. Только тебе решать, князь. А как сговоримся, пошлю в Давыдов стан лазутчиков.
Тем же вечером Житобуд отправлялся в степь. Последняя была ему проверка. Строго наставлял его Кочкарь:
— Серой мышью забейся в траву, проползи ужом, да чтобы через день к заходу солнца был у меня на дворе. За Романа и за Глеба тож на тебе грех. Не искупишь того греха — проглядишь и Давыда — не сносить тебе головы.
Чуть не заплясал от радости Житобуд, опустившись на колено, поцеловал Кочкарю полу кафтана.
— Кормилец ты мой и спаситель, — сказал он ему. — Не тревожь себя, все сделаю, как велишь.
Улейка провожала его со двора громкими воплями:
— Снова за старое, ирод несчастный! И где только носит тебя. Знать, завел себе девку, вот и играешься, а на жену все хозяйство бросил.
— Молчи, дура! — одернул ее Житобуд. — Не позорь перед соседями. В новую избу-то въезжала, не спрашивала, отколь у Житобуда деньги.
— Отколь, как не с большой дороги! — кричала неугомонная Улейка. — Ты на рожу-то свою взгляни — тьфу. И как только бабы с таким страшилищем в одну постель ложатся.
— Совсем с ума спятила, — проворчал Житобуд, подымаясь в седло. И, не глядя на жену, выехал за ворота.
Хорошо ночью в степи, а еще лучше, когда под тобою послушный конь. Едешь себе через травы, глядишь по сторонам — и нет им ни конца ни края. Пахнет горькой полынью и чабрецом, из-под копыт со свистом выпархивают вспугнутые птахи. Легкий ветерок ласкает лицо, по правую руку, под берегом, вздыхает широкой волной натрудившийся за день батюшка Днепр.
Нет-нет да и послышится над водой неторопливый скрип уключин. Плывут купцы, нет им ни сна ни покоя: плывут из Новгорода и Чернигова, из Смоленска и Турова, спешат на большой киевский торг.
Местами на берегу светились костры. Их Житобуд объезжал стороной, сдерживая топот коня.
Только под утро остановился на отдых. Расстелил на траве попону, подложил под голову седло, задремал. Но спал недолго и чутко. Едва посерело небо, снова тронулся в путь.
Рассвет застал его на полпути. К вечеру он был на месте. Спрятал стреноженного коня в кустах, дальше пробирался пешим. Теперь он был еще осторожнее, полз в высокой траве, держась подальше от берега, чутко вслушивался в наполненный птичьим пересвистом воздух. Как зверь, ловил носом донесенные ветерком запахи.
Потянуло дымком. Житобуд скатился с кручи и перевел дыхание. По кромке берега проехали, громко переговариваясь, всадники.
Теперь совсем близко. Житобуд вскарабкался по отлогому склону и приподнялся.
В низине, скрытой от ветра, был раскинут шатер. Повсюду горели костры, суетились люди. В огромных котлах, подвешенных над огнем, варилась уха. Двое сокалчих в стороне разделывали кабанью тушу, собаки с жадностью пожирали выброшенные на землю потрохи.
Вдалеке протрубил рог; сокалчие оторвались от работы, воины сбежались на край полянки. Из-под кромки берега вырвались взмыленные кони, проскакали возле костров, остановились у шатра. В низкорослом переднем вершнике Житобуд признал князя Давыда, хоть и был он, как все, в обычной белой рубахе, в мягких сапогах, заляпанных грязью. Только шапка, лихо сдвинутая на ухо, была украшена драгоценной запоною.
Давыд спрыгнул на землю, бросил поводья услужливо подоспевшему молодому воину и вразвалку направился в шатер. Полог шатра откинулся — Житобуд увидел княгиню, увидел, как Давыд обнял ее и что-то сказал веселое, потому что она рассмеялась, вздрагивая плечами, и потянула князя за руку в шатер. Воины разбрелись по низинке, сокалчие снова принялись за кабанью тушу.
Житобуд отполз, спустился все так же осторожно к воде, сосчитал лодии. Потом выбрался наверх, через час был в кустарнике, где оставил коня, вскочил в седло и, стегнув вороного плетью, помчался навстречу уходящему за край степи солнцу.
Кусты и травы окрасились сначала в золото, потом в пурпур, а когда засинели прохладные сумерки и над землей разостлалась беловатая дымка, Житобуд увидел всадников, скакавших по его следу.
Он придержал коня, огляделся и взял чуть левее, где еще накануне заприметил глубокую балку. Вороной у него был покладист и скор, а если вонзить ему в бока острые шпоры, летел быстрее птицы. И Житобуд, обрадованный удачей, охмелевший от степного душистого ветра, решил поиграть с судьбой.
Нырнув в балку, он погнал коня в сторону от реки, потом снова вывел его на равнину, потом опять нырнул в балку и так кружил своих преследователей до тех пор, пока они не разделились и не помчались за ним с двух сторон: один устремился в балку, другой заходил со степи. Слева была река, и повернуть туда Житобуд не мог.
Теперь, прижавшись к гриве вороного, он скашивал взгляд на преследователей и думал только о том, как бы уйти. Но те, что шли за ним следом, хорошо знали свое дело.
Житобуд вдруг вспомнил, как его прижали Всеволодовы дружинники под Рязанью к болоту, вспомнил и обмер от страха. Понял: и его прижимают к Днепру, и не дают выхода в степь.
«Спросил дурак у ветра совета», — обругал себя Житобуд. Не везет ему. Ежели в степи не изрубят, Кочкарь велит отсечь голову, И поделом: сам напросился в западню.
Вот и река уже под самым боком — другой берег в туманце едва виднеется. Хоть бы ночь скорей, в темноте-то можно и проскользнуть. Но в степи висели синие сумерки, небо еще светилось, а преследователи на хвосте у вороного.
Рванул Житобуд удила, скатился с конем под обрыв и — в воду. Быстрое течение подхватило коня, холодная вода обожгла Житобудово тело.
Просвистели над головой, плюхнулись в воду две стрелы. Всадники, не спеша, ехали по берегу, как на прогулке, мирно беседовали друг с другом, иногда, оторвавшись от беседы, советовали Житобуду.
— Ты на стремнину правь, там поглыбже будет.
— Не замерз еще? А то греби к берегу, мы тя погреем.
Друг другу говорили:
— Пусть покупается, мужик по баньке соскучился.
— Может, ему парку поддать?
И пускали в Житобуда, чтобы не дремал, по две стрелы.
«Еще, чего доброго, поразят», — со страхом подумал Житобуд и повел коня поперек течения; будь что будет.
— Эй, дядя! — закричали с берега. — Аль совсем одичал? А ну, поворачивай.
Стрелы посыпались одна за другой.
Наконец-то стемнело. Противоположного берега не было видно; Житобуд обернулся — сзади его тоже окружала кромешная ночь.
Тут-то и перепугался он не на шутку. А что, как не выдержит вороной? Днепр широк, вода холодна, не выплыть Житобуду, не выбраться из пучины.
Стал он сбрасывать с себя кафтан, едва освободился: потянул через голову рубаху, едва не выронил удила. А внизу что-то шаркнуло и поползло по ноге до пояса.
Одеревянел Житобуд от страха, только одно и подумалось: водяной. Не угодил он дедушке; знать, пришел смертный час. И принялся неистово креститься: «Пронеси, нечистая! Пронеси!».
Пронесло. И вовсе не водяной это был, а дубовый сук: плыл себе по реке, никому не мешал — и лодии миновал, и в сетях не запутался; нанесло его на Житобуда. Выругался Житобуд, отшвырнул сук и вдруг почувствовал, что конь выбрался на твердое.
Обратно тысяцкий до самого Киева скакал левобережьем — без кафтана и без рубахи.
Перед рассветом, дрожа от холода, прибыл домой. Подперев руки в бока и со злорадством глядя на голого по пояс, посиневшего мужа, Улейка издевалась:
— Что, нагулялся, кот? К домашнему теплу потянуло? Аль милая не по вкусу пришлась, аль батогами со двора спровадила?!
— Молчи ты, Улейка, глупая баба, — сказал Житобуд. — Лучше бы меду поднесла. Был я нынче в гостях у водяного, едва ноги унес…
— И поделом! — кричала Улейка. — Зря водяной-то тебя в царствие свое не уволок. Там тебе только и место.
— Ну, цыц ты! — прикрикнул на нее Житобуд и вошел в избу. Скинул порты, лег на лавку, укутался в овчину. Сквозь зевоту сказал:
— Ты мне, жена, лучший кафтан из ларя вынимай. Завтра иду в Гору.
И тихо заснул.
5
Хорошую весть принес Кочкарю Житобуд. Князь пожаловал ему шубу со своего плеча, княгиня подарила вытканный серебряными нитками пояс, Кочкарь протянул ему кинжал в ножнах с золотой насечкой, сказал:
— Верные слуги у нас в почете. Миновала тебя на сей раз беда. Дай-то бог, чтобы миновала и впредь. Князь добра не забудет.
— Хвала князю, — ответил Житобуд, кланяясь и прижимая к груди подарки.
Думал он: дело сделано, можно и домой. Хоть и сварлива Улейка, а соскучился он по ней. Но Кочкарь и не собирался его отпускать. Самое-то важное поручение припас он под конец беседы.
Испугался Житобуд свалившейся на него удачи: как бы лишнего не хватить, как бы не одуреть от счастья — брал его вместе с собой Святослав на охоту.
Домой уж он заезжать не стал. Шубу оставил у Онофрия, пояс и кинжал взял с собой. Если Улейка снова узнает об его отъезде, весь посад всполошит.
А поручение Святослав дал ему не из легких: как приедут они на левый берег Днепра и начнут охотиться против Давыдова стана, Житобуду быть начеку. Даст ему князь два десятка воев, и с теми воями Житобуд поднимется по реке и схватит Давыда, когда тот будет один.
Кончалось лето, а на дворе было еще тепло и солнечно, как в червень. Сварили на мирскую складчину пиво, в деревнях уже отпраздновали окончание жатвы. Хороший был в тот год урожай, амбары ломились от зерна.
Весело глядели мужики на проезжавших дружинников, не ворчали им вслед. Пели песни. Справляли свадьбы. И не думали о зиме. Половцы в то лето их не беспокоили, а хлеба хватит на всех.
Житобуд скакал впереди с Кочкарем, указывал дорогу. Хорошо он ее запомнил, привел Святослава прямо к тому месту, где на противоположном берегу охотился Давыд.
Первым же вечером отправился князь с княгиней к Давыду в гости. Другим вечером Давыд гостил у Святослава. Много было выпито медов и вин, много съедено разных яств. Прощаясь на берегу, Святослав обнимал Давыда и целовал его в уста.
Утром Кочкарь наставлял Житобуда:
— Время пришло. Да не спеши, Житобуд. Бери Давыда наверняка. В князя стрел вели не метать, а дружинников не жалейте.
Отбыл Житобуд с воями на лодках в условленное место, затаился, прислушался к охоте.
А князья, спустив на воду подсадных уток, собирали птиц в стаи, били стрелами на лету, собаки едва успевали носить добычу.
Время приближалось к обеду. Давыдова лодия приткнулась к левому берегу, где больше всего было дичи, и Житобуд дал своим знать, чтобы тихонько выгребали из засады, а сам с несколькими воями тихо двинулся наперерез увлеченному охотой князю.
Было при Давыде всего три дружинника, да еще княгиня. Справиться с ними — пустяк. И Житобуд, приблизившись к князю, крикнул ему, чтобы не упорствовал и сдавался, не то все равно его возьмут. Такова воля Святослава.
Давыд оторопел от Житобудовой наглости, княгиня побледнела, а один из дружинников, приготовившийся подстрелить подлетавшую утку, пустил стрелу в Житобуда. Меткий был у него глаз; не успел Житобуд и моргнуть, как уж торчала стрела у него в плече, а Давыд, схватив княгиню под локоть, потащил ее к лодии.
Скорчившись, выдернул Житобуд стрелу, кинулся за князем, но встал на его пути все тот же дружинник с обнаженным мечом. Едва увернулся Житобуд от смертельного удара, а через секунду, изловчившись, схватил противника за пояс, поднял над головой и, взвыв от боли и от досады, ударил его оземь, да так, что дух вон.
Отталкиваясь веслом от берега, князь пытался выбраться на течение. Лодию мотало из стороны в сторону, и княгиня громко звала на помощь.
На бегу успел заметить Житобуд, что его воины в своих долбленках поотстали и, если сейчас же не налягут на весла, Давыд успеет уйти.
Не такой представлял он себе эту охоту. Видел уж почти воочию, как ведет к Святославову шатру плененного князя, как благодарит его Кочкарь, а Васильковна дарит приветливой улыбкой.
Уходил Давыд. Подхватила днепровская волна его лодию. Теперь на долбленках не догнать князя. Вон как стараются вои, а расстояние между ними все увеличивается.
Легкая лодия у князя, будто белая птица, скользит по воде. Не достать его сулицей, стрелой не догнать…
Блеснуло, как луч, и, как луч, растаяло Житобудово недолгое счастье.
Подозвал он свистом своего коня, вскочил в седло, глянул с тоской в последний раз на Днепр и помчался в степь.
Не дотянуться до него Святославовым лихим дружинникам. И Улейке не видать больше своего беспутного мужа. Некого будет пилить ей по утрам, некому по вечерам наливать в чару браги. А, может, сыщет она другого мужика, сметливее и удачливее Житобуда?..
Стиснул зубы Житобуд, взмахнул сыромятной плеткой. Вынес его вороной на курган, замер, будто каменное изваяние. Что там впереди? К кому пристать Житобуду? Где добывать себе новое счастье?!
Обманул Житобуд Святослава, обманул Кочкаря с Васильковной…
— Теперь уж я объявил свою вражду Ростиславичам, — сказал старый князь, — нельзя мне больше оставаться в Киеве.
— Ежели бог поможет, еще и догоним Давыда, — попробовал успокоить его Кочкарь.
— Из рук ушел, а где его искать? — покачал головой Святослав.
Плохое выдалось нынче для князя лето. Только свершилось задуманное, только вздохнул облегченно, а уж все против него повернулось.
Давыда искали всю ночь. Захватили стан и дружину, а князя так и не нашли.
Три дня глаз не смыкал Кочкарь, будто волк, рыскал по степи. Расспрашивал пастухов, пытал купцов. Но все отвечали ему, что они ни князя, ни жены его не встречали.
И лишь через несколько дней объявился Давыд далеко на севере: собирал он новую дружину, посылал гонцов к братьям своим. Клеймил Святославово коварство. Звал князей на Киев.
Глава одиннадцатая
1
Словиша только что кончил завтракать, когда вошли трое и один из них, высокий худощавый дружинник с маленьким вздернутым носом, сказал:
— Князь повелел отнять у тебя меч и проводить в поруб.
Словиша, изогнувшись словно кошка, прыгнул на лестницу, ведущую в светелку, но воин подставил ножку, и он упал.
Его связали, отвели и бросили в яму. Не успел Словиша, опередили его. А что случилось?
Святослав прислал к сыну своему Владимиру в Новгород сказать, чтоб князь собрал войско и вышел на Всеволода.
— Пойдем вместе выручать брата твоего Глеба, — велел передать Святослав.
Пребрана узнала про Словишу только к вечеру. Придя к мужу, стала просить за дружинника: не пытай судьбу, выпусти. Обычно мягкий, Владимир на этот раз оставался непреклонен. Сидел на стольце, бросал на жену насмешливый взгляд. Пребрана расплакалась, но и это не тронуло молодого князя.
— Идешь по стопам Ярополка со Мстиславом, — сказала тогда она. — Себя бы пожалел.
— Словиша — Всеволодов послух, — ответил Владимир. — Нешто думаешь, что я и вовсе слеп? А до Мстислава с Ярополком мне дела нет. Тогда отец мой помог Юрьевичам. Ныне же сам он со мной.
Так и ушла от него Пребрана ни с чем. Ночью мужа к себе не подпустила, утром отправила к Всеволоду гонца. Хоть Словиша и в порубе, а кто-то должен предупредить дядю.
Но за Пребраной следили. Недалеко ушел гонец от Новгорода — пробила ему шею быстрая стрела, весточку княгинину принесли Владимиру.
Князь был в гневе, топал ногами и кричал. Пребрана выслушала мужа спокойно. Когда же он пригрозил, что и ее бросит в поруб, молча вышла и повелела отрокам готовиться в дорогу.
К утру возок ждал ее у всхода. Она села под меховую полсть и крикнула вознице, чтобы гнал на Торжок. Сама же за городскими воротами свернула на Ростов. Трое преданных дружинников сопровождали ее в пути.
Узнав об отъезде княгини, Владимир снарядил погоню. Два дня напрасно искали ее у Торжка. Понял молодой князь, что его обманули.
А возок тем временем скользил по лесной укатанной дороге все дальше и дальше от Новгорода.
Вокруг лежали нетронутые снега, в лесу было тихо. Тусклое солнце едва пробивалось сквозь морозную дымку. Пребрана куталась в шубу, с восторгом глядела по сторонам.
Сидевший верхом на переднем коне возница размахивал кнутом. Дружинники скакали рядом.
Уже на полпути к Ростову сзади послышались голоса и лошадиный топ. Возок покачивался и жалобно скрипел.
Погоня приближалась. Дружинники по знаку Пребраны поотстали, чтобы задержать преследователей; возок свернул на узкий санный след, ведущий в лесную глушь.
Снег в лесу был плохо утоптан, кони проваливались, возница с искаженным от напряжения лицом беспрерывно хлестал их по мокрым крупам.
В чаще темнело. В сумраке деревья казались живыми, тянули к возку лохматые, безвольно опущенные под тяжестью снега лапы. Кони пошли медленнее и вскоре остановились.
На поляне, за пряслами утонувшей в сугробах изгороди, виднелась избушка. Из приотволоченных окон и из дверей валил белый дым. Возница спрыгнул с коня.
— Что делать будем, княгинюшка? — робко спросил он, склоняясь над Пребраной. — Дальше ехать некуда, сзади погоня. Да и жутко в лесу.
— Поворачивай к избе, — приказала княгиня и выпрыгнула из возка на дорожку. Возница привязал коней к изгороди, дал им сена, и направился вслед за Пребраной.
— Эй, кто тут есть? — крикнула княгиня с порога и, кашляя от дыма, вступила в густой мрак.
— Кажись, баба, — чуть погодя ответил из темноты удивленный голос. — Отколь бог принес?
— Не ждал гостей? — сказал возница, забегая вперед княгини и шаря по углам настороженными глазами.
Из темноты выросла могучая фигура в накинутой поверх сорочки сермяге.
— Да вы-то кто такие будете — спросил он, рассматривая вошедших.
— Княгиня Пребрана из Новгорода, — сказал возница.
Хозяин удивился:
— А не врешь?
— Огонь-то вздуй, — посоветовал возница. — Да глаза шире раскрой. Живешь тут ровно леший.
— А может, я леший и есть, — пробурчал хозяин, но уже ласковее.
Послышались удары кресала, в темноте засверкали желтые искры.
— Из печи бы огонь-то взял, — насмешливо посоветовал возница.
— Печь-то я уж протопил, — сказал хозяин. — Эко нетерпеливый! Уж не князь ли ты?
Возница хихикнул и не ответил. Пребрана села на лавку, запахнулась в шубу. Все внутри ее вздрагивало и ныло. Бил озноб.
Хозяин запалил зажатую в свете лучину, вторую лучину поднял над головой, чтобы лучше разглядеть гостей.
— На княгинюшке-то совсем лица нет, — вдруг заметил он с беспокойством. — Что с тобой, матушка?
Пребрана с трудом подняла веки, затряслась в ознобе и боком повалилась на лавку.
— Да что же это?! — засуетился перепуганный возница. — Да что с ней?.. Эй, хозяин!
— Дай-ко подсоблю, — сказал мужик и, подсунув под тело Пребраны сильные руки, поднял ее. — Клади на лавку сукманицу.
Возница послушно выполнял его приказания: разжег печь, сбегал с водоносом за снегом, насыпал его в медяницу и поставил на огонь.
Мужик тем временем достал сушившиеся под потолком пучки трав и, перебирая их, складывал в маленькие кучечки.
— Вто это от кашля, — ласково говорил он, — а это от внутренного жара помогает.
Травки пахли горько и пряно.
— Ты того, — сказал возница, с подозрением следя за движениями мужика, — ты княгинюшку нашу не попорть…
— Я те попорчу, — прикрикнул на него мужик и выпрямился. — Не тать я, а пустынник, беглец от мира и от людей. Живу в избушке своей наедине с богом. А ежели вам у меня не нравится — лес-то велик, в каком-нито сугробе и заночуете.
— Но-но, — попятился от него возница, хватаясь за короткий меч.
— Опять же дурак, — спокойно сказал инок и ухмыльнулся. — У меня вон оскорд под лавкой лежит, я с ним на медведя хожу. Видал?
— Ох и страшный ты, дядька, — покачал головой возница и сел на лавку в ногах княгини.
Мужик заварил в медянице травку, остудив, перелил в чару, поднес Пребране. Сделав несколько глотков, она снова впала в забытье. Но скоро щеки у нее порозовели, дыхание стало ровным. Мужик перекрестился.
— Простыла она, — сказал он. — Скоро совсем полегчает.
За дверью раздался конский храп. Кто-то радостно крикнул:
— Здесь она!
…Больную княгиню, закутав в шубы, со всею осторожностью доставили в Новгород.
А через день Владимир выступил с войском к Торжку, чтобы соединиться с отцом, как условились, возле устья Тверцы.
2
Продвигаясь к Переяславлю, Святослав сжигал на своем пути крепости и деревни. Дым пожарищ стлался за его войском, разоренные мужики уходили в леса.
Всеволод призвал к себе Кузьму Ратьшича и велел немедля скакать в Переяславль — держать город до прихода главных сил.
Расчет Всеволода оправдал себя. Изгнав Романа, он почувствовал только запах большой победы, но самой победы не было, она была впереди.
Сообщение о попытке пленения Давыда и о том, что Ростиславичи собирают в Белгороде силы, чтобы захватить киевский стол, было для него неожиданным и радостным.
Предстоящая битва со Святославом приближала его к осуществлению давнишней мечты. Он мог утвердиться на севере, лишь встав на выю гордому Киеву, лишь только сломив Святослава.
Обычно сдержанный Всеволод в эти дни негаданно преобразился. Мария со счастливой улыбкой всматривалась в возбужденные глаза мужа, ловила взглядом возвратившуюся былую упругость его движений. Он снова был молод и ясен, как тогда, в тот самый счастливый в ее жизни день их первой встречи.
Снова толпились на дворе дружинники, чадили березовые факелы, слышался храп коней, и князь, в распахнутом кафтане, без шапки, стоял на всходе, собранный и нетерпеливый.
Теперь он редко заглядывал к ней, и она мирилась с одиночеством, коротая вечера с дворовыми девушками и Досадой.
Мария знала обо всем, что случилось с боярышней, жалела ее, звала к себе в гости чуть ли не ежедень. И Досада понемному оттаивала.
Вернувшись из Рязани, князь Юрий искал с ней встречи — она избегала его. Два раза он наведывался к боярину, надеясь увидеть ее случайно, он она не выходила из светелки, хотя отец и звал ее — сказывалась нездоровой.
Совсем перестал понимать свою дочь Разумник. Ну, Василек Зворыка пришелся ей не по нраву, бог ей судья, а тут — князь, и не просто какой-нибудь, а сын самого Андрея Боголюбского! Ведь сразу смекнул старый боярин, что не зря зачастил Юрий к нему на двор. Не за стариковскими разговорами. Да и Досада о нем только и мечтала, оттого и отказалась идти за Василька. А нынче и видеть не желает. Вот уж воистину, дочь в доме — хуже пожара.
Не догадывался тогда боярин, что хотела она покончить с собой, что неспроста угодила в Клязьму. Скрыла от него все Досада, наговорила, будто купаться надумала да попала в омут. Но соврать Марии она не могла.
Сидели девушки в ложнице у княгини, вышивали голубей и петухов на сарафанах, пели стройными голосами любимые свои песни. А когда запевала княгиня, все смолкали — грустны и протяжны были ее песни, рожденные в горах. Голосок у Марии тоненький и звучный. А начинала она, словно рассказывала, но песня крепла, и девушки откладывали вышивки — то смахивали невольную слезу, то улыбались: люди везде одинаковы, и горести да заботы у всех одни.
— Не отчаивайся, Досадушка, — старалась успокоить боярышню Мария. — Еще придет твой суженый. А о князе Юрии и думать позабудь.
— Да как же позабыть-то? — поднимала на нее наполненные слезами глаза Досада. — Как же позабыть-то, ежели в каждом сне приходит и манит за собой?
— А ты гони его, гони. Ты богу молись, может, и полегчает.
— Да нешто мне в монастырь идти?
— С такой-то красотой? — улыбалась Мария и трогала длинными пальцами рассыпавшиеся по плечам девушки шелковистые волосы.
Но тут же взгляд ее становился строгим.
— Жестоко провинился перед Всеволодом твой милый, — говорила она. — Не простит он его.
— Да что же будет-то? — пугалась Досада.
Мария качала головой. Ей ли про это знать? Одно только знала она, что, справившись со Святославом, снова вспомнит князь о Юрии. Не жить им вместе на одной земле. Всеволод Владимира не уступит. Дела своего в чужие руки не отдаст. Измены не простит.
Но всего этого она не говорила Досаде. Не хотела тревожить девушку, берегла ее.
А еще было такое, о чем Досада и не догадывалась. Понравилась она Кузьме Ратьшичу. Увидев ее однажды с княгиней в сенях, удивился любимец князя: как же это раньше он не замечал, что нет краше ее во Владимире, любой терем обыщи.
Стал тихонько расспрашивать Марию: чья, мол, она да откуда.
— А не стар ли ты для нее, Кузьма? — посмеялась над ним княгиня. — Седина-то в бороду…
— Седина-то в бороду, да бес в ребро, — подхватил Ратьшич.
С тех пор старался попасть Досаде на глаза. Но она хоть бы что: будто и нет Кузьмы. «Должно, и вправду я старый», — с тоской подумал Ратьшич. Но сердцу не прикажешь. Ни часу не мог он прожить, чтобы не подумать о Досаде — на совете ли у князя, в битве ли, или на охоте. Даже на хмельном пиру вспоминал он ее и не хмелел. Валились бояре под столы, а он сидел, подперев голову, выливал в себя чару за чарой, глядел на красную рожу пирующего напротив гридня — и видел Досаду. Ну разве не наваждение?!
И сейчас, по дороге в Переяславль, кольнуло его в сердце, когда приметил, проезжая небольшую деревушку в три двора, поднимающуюся в гору девушку. Проскакал мимо нее, не выдержал, обернулся — и обожгли его такие же, как у Досады, ясные, зеленоватые глаза.
В Переяславле ждали Ратьшича несчетные заботы и тревоги. Приехав в город, увидел он жителей его в беспечности, а городские укрепления в полной запущенности: рвы обмелели, валы осыпались, стрельни покосились, частоколы подгнили.
Вызвал к себе воеводу, говорил, глядя в трусливо бегающие глаза:
— Обленились тут, жируете, а Святослав под самым боком!
Дрожал воевода, бормотал что-то невнятное. Лицо длинное, постное, в бесцветных глазах — тоска. Не воевода, а смиренник.
— Завтра же согнать мужиков на вал. Завезти лес, кликнуть плотников, старые стрельни разобрать, поставить новые! — дышал ему в лицо Кузьма. — А не выполнишь — со света сживу, попомни.
Пятясь и униженно улыбаясь, выскочил от него воевода. «Тьфу ты!» — выругался Кузьма.
И, чуть встало солнышко, Ратьшич сам отправился проверять, что сделано.
Напугал он воеводу. Только выехал Кузьма за ворота, увидел — потянулись в лес подводы, во рвах уже долбили мерзлую землю мужики. Бабы помогали им. Даже ребятишки и те таскали землю на валы в плетеных корзинах.
Воевода суетился среди работающих, покрикивал:
— А ну, наддай!.. А ну, пошевеливайся!..
Оглядываясь на него, мужики ворчали. «Поди-ка, и без воеводы бы справились», — подумал Ратьшич и сам спустился в ров. Подобрал валявшийся под ногами беспризорный лыскарь, вскинул над головой, вонзил в неподатливую землю.
— Гляди-ко, — прошелестело по рву. — Сам княжеский милостник…
— А силища-а!..
Силушкой Ратьшича бог не обидел: берег на троих, а одному досталось. Перед тем как попасть на службу к Всеволоду, пришлось Кузьме много чего повидать. С детства он и пахал, и копал, и лес рубил. И топором работал, и лопатой. Каменные мозоли набил на ладонях.
Привычно ему долбить землю. В теле приятное тепло, озорной морозец гоняет по жилам и веселит кровь. Здесь не то, что с боярами на совете штаны протирать, нудить одни и те же неторопливые речи, глотать кислый от пота воздух.
Скинул Кузьма кафтан. Остался в одной рубахе. Пар подымается от спины и от рук, лыскарь звенит, мерзлые комья летят под откос — лихо!
Сел Кузьма передохнуть, окружили его люди, разглядывали с уважением, робко щупали брошенный в снег дорогой кафтан: ну и ну-у! Никак, все такие у нынешнего князя — с этакой-то сноровкой да силищей?
— Все такие, все, — отвечал Кузьма, улыбаясь. — А вы-то? Нешто обробли?
— Мы-то пообыкли. Не неженки, вестимо.
Мужики гудели одобрительно. Кузьма смотрел в их открытые, приветливые лица и радовался: эти не подведут.
— Не сдадим, мужики, ворогу Переяславль? — выпытывал он у них.
— Почто сдадим? Выдюжим.
— А сильна ль у тебя дружина? — спросил пробившийся сквозь толпу старикашка. — Не то ведь и срубы не в прок.
— Мои дружинники — один к одному, — сказал Ратьшич и обвел толпу пытливым взглядом. — Да и вы, как погляжу, не из трусливого десятка?..
— Нам бы мечей поболе. Да копий, да луков…
— Дадим вам и мечи, и копья, — пообещал Ратьшич.
К вечеру за работу принялись плотники. Разобрали ветхие стрельни, вместо них стали рубить новые. Отваливая щепки, бойко постукивали топоры.
Через неделю Переяславль было не узнать: высокие валы, крепкие дубовые ворота, неприступный частокол из свежих бревен, глубокий ров и над всем над этим — грозные стрельни с темными проемами бойниц.
Но Святослав на Переяславль не пошел. Он встал в сорока верстах от города, на реке Влене.
3
Ночная метель занесла дороги, заметала липким снегом возы. Кони и люди выбивались из сил. Во мгле едва виднелись обступившие дорогу деревья. Ветер налетал порывами, слепил людей.
Передовой отряд вели молодые и норовистые, как необъезженные кони, рязанские князья, младшие братья Романа, Всеволод и Владимир Глебовичи. Сам владимирский князь все время оставался в середине войска, Юрий с дружиной сопровождал обоз.
Не много воды утекло с тех пор, как он помогал Всеволоду брать Торжок, — и трех лет не прошло. А как все переменилось. Тогда он скакал впереди, дружина его первой бросилась на врага, и сам он не был еще отравлен ядом тайной зависти.
А нынче, закрывая локтем лицо от снега, Юрий покорно ехал позади всех, и мысли его были смутны, и в голове все мешалось и путалось. Надежды, возложенные на Романа, не оправдались. На Святослава он тоже не мог положиться. Всеволод ему не доверял. А доверяли ли ему его же дружинники? Даже Зоря и тот глядит из-подо лба, дергает удила своего коня, покрикивает на него, широко разевая рот. Все так: кому лестно плестись с обозниками, вытаскивать из сугробов возы с походным скарбом, ловить в лесу сорвавшихся с привязи коров? Разве это их дело? Разве не доказали они свою храбрость?! Разве дрогнули хоть раз перед лицом врага?..
Только зря косился Юрий на своего верного дружинника; и думал Зоря совсем не о том, что тащится в хвосте войска с обозом, хоть и пристало ему быть впереди рядом с бесстрашным молодым князем, — мысли его витали далеко и от этой дороги, и от снежной замяти, и от нежданных тревог, которые сулил чуть брезживший над лесом рассвет.
Вспомнил он, как вернулся из рязанского похода в Поречье, как еще издалека увидел на луговине красный Малкин сарафан, как пустил вскачь коня, подхватил девушку, усадил впереди себя и, вдыхая запах ее пушистых волос, направился не к избушке, а в светлый березняк, уже встречающий приближающуюся осень ярким золотом опадающей листвы.
В лесу было прозрачно и тихо, под, кустами приманивала взгляд спелая брусника, румянцем наливалась калинушка, а старые пни лохматились целыми стаями усыпанных веснушками упругих опят.
Прижимал к себе Зоря девушку; одурев от счастья, шептал ей на ушко ласковые слова.
— Не сбежишь теперь ты от меня, Малка. Видишь, и лето прошло, пройдет и зима. Все наврала твоя кукушка.
— Велик ли с нее спрос?
— Моя ты теперь…
— Твоя, Зоря, навеки твоя. Ох, и стосковалось по тебе мое сердце, ох, и стосковалось.
Спрыгнул Зоря с коня, девушку принял в свои объятия. Прижал ее к себе, ожег поцелуями мягкие губы…
За полночь возвращались они в деревню. Шли по скошенному овсяному полю, глядели в усыпанное звездами небо, дивились, до чего же все красиво и хорошо вокруг.
Возле избы ждал их похмуревший Надей. Стоял, опираясь на сучковатую палку, лохматый, будто кот. Схватил Малку за руку, потянул к себе. Зоре сказал:
— Ты, мил человек, дочь мою не позорь. Вся деревня над нами нынче посмеивается. Приходил Ивака, и тот спрашивает: «А не твоя ли, Надей, Малка в березнячке с князевым дружинником балуется? Али обознался?..»
— Чего уж там, — ответил Зоря, улыбаясь выглядывающей из-за спины Надея дочери. — Свататься, знать, пора. Любим мы с Малкой друг друга. А ты, Надей, будь мне отцом.
Давно это было, а помнится все, как сейчас. И сваты, и свадьба, и скоморошьи пляски на берегу реки. И новая изба, в которую Малка вошла хозяйкой. Были на Зориной свадьбе дружинники, веселили честной народ, пугали деревню криками кряду три дня и три ночи, Сроду еще не случалось в Поречье такой свадьбы…
Нет, не в обиде был Зоря, что едет с обозом. Знал, придет срок, грянет битва — и снова он впереди.
А князь Юрий совсем потерял себя от гнева. Оставшись с обозом за крепостными стенами Переяславля, распалился еще больше. Как, Всеволод с дружиной в городе, а ему, словно простому вою, коротать ночь с мужиками на попоне?!..
Вечером покинул стан, разыскал дядю. Говорил с князем грубо и высокомерно.
Всеволод сказал:
— Не слышит тебя прадед твой Владимир Мономах. Великий и грозный был князь, а малым не гнушался, ибо из малого складывается великое. В чем обида твоя, князь? В том, что спишь на попоне?.. А почто спать тебе в красном терему, ежели вои твои приставлены к обозу? «Пойдя на войну, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; и стражей сами наряжайте, и ночью, нарядив их со всех сторон, тогда ложитесь около воинов», — так поучал нас дед, а твой прадед. Стыдись, князь.
На том и кончился их разговор. Не до Юрия было сейчас Всеволоду, беспокоили его вести, доставленные Кузьмой: Святослав не шел им навстречу, стоял на Влене, рассылая во все стороны небольшие отряды, выжигавшие и грабившие окрестности Переяславля.
Что задумал старый князь? Почему мешкает?..
Ночью Всеволод снова советовался с Ратьшичем. Ставил себя на место Святослава, пытался вникнуть в его замыслы. Прислушивался к доводам Кузьмы. Утром принял решение: Ратьшич выходит с небольшим отрядом, переправляется через реку и нападает на Святослава.
— Будь что будет, а там поглядим, — сказал Всеволод. — Может, и вылезет старый князь из берлоги, соблазнится, легкой добычей. Владимирский мужик хорош при защите крепостей, а в чистом поле нашему киевлянина не побороть.
Тем же днем отряд Ратьшича перешел через Влену по льду, насел на новгородскую дружину, находившуюся поближе к селу наделал шума и тут же вновь растворился в метельном крошеве. Но Всеволод зря прождал ответного удара. Святослав по-прежнему избегал сражения.
Возбужденный после недавней вылазки, с поцарапанной щекой и продранным во многих местах кафтаном, Кузьма советовал не тянуть до оттепели и самим перейти на тот берег. Он поминутно вскакивал, размашисто ходил по шатру, подергивал плечом.
— А если Святослав только этого и ждет? — спрашивал его Всеволод. — Сунемся всею силой, а там — засада?..
— Сомнем.
— Смять-то сомнем, да посадим врага на хвост. Своих людей положим.
— Ихних тоже посечем, — самодовольно напыжился Ратьшич.
— Дурень, — вспыхнул Всеволод. — Кого «ихних»? Наших же, русских мужиков. Тебе бы кровь реками проливать… Дурень.
Кузьма потупился, переступил с ноги на ногу, щеки залил румянец.
— Так ведь они-то… — начал было он, но Всеволод нетерпеливым жестом оборвал его. Кузьма преданно уставился на князя.
Всеволод прошелся по избе; положив руки на косяк, остановился в дверном проеме. Осунувшееся лицо его было теперь спокойно. Глядя поверх головы Ратьшича на красное от закатного света оконце, князь сказал:
— Труби заутра сбор. Встанем на Влене против Святослава.
Кузьма встрепенулся, радостно покашлял в кулак:
— Верно рассудил, князь. Непереная стрела вбок идет.
Всеволод улыбнулся:
— Туды ли стрелу направил? Тако ли оперил?..
— Тако, княже! — весело выкрикнул Кузьма и вышел из горницы.
4
— Ай да красавец! — сказал Святослав, разглядывая вырядившегося в лохмотья Кочкаря. — Никак, с каликами снюхался?..
И впрямь — трудно было узнать княжеского милостника: в драных штанах, в лаптях и в облезлой заячьей шапке с оторванным ухом. Зипун в разноцветных заплатах, рукава болтаются — сразу видно, что с чужого плеча.
— Пристукнули тут мои вои одного странничка шарил по обозу. Вот старье-то и сгодилось, — сказал Кочкарь.
Путь ему предстоял опасный. Не на шутку встревоженный осторожными действиями Всеволода, Святослав отрядил Кочкаря в Переяславль; своими глазами взглянуть, что делается в городе и разузнать, о чем помышляет владимирский князь — думает за воротами крепости отсиживаться или намеревается выйти в поле.
Потолкавшись с утречка на дороге, Кочкарь дождался ростовских купцов, завел с ними разговоры, наплел кучу баек и скоро сидел уже в возке посередине длинного обоза.
При въезде в Переяславль обоз обшаривали дружинники, щупали тюки, ворошили солому. На странника никто не обратил внимания. Сидя на мешке с овсом, Кочкарь пошучивал:
— Не велик умишком, везу золотишко.
— Ишь, богатой какой, — мрачно огрызались дружинники. — А что, как и впрямь золотишко? Ну-тка, попридержи кобылу-то…
— Мне что, — отвечал Кочкарь, натягивая поводья. — Товар не мой. Хоть все мешки потрошите…
— Не куны ищем.
— Чего ж усердствуете?
— То князев приказ. Давай проезжай! — кричали дружинники и шли к следующему возу.
От ворот Кочкарь сразу направился на торжище. Народ здесь разный, сметливый. На торгу что хочешь узнаешь, дырявому рту тайны не удержать. В уличной толчее Кочкарь чувствовал себя как дома. Тут остановится, там поговорит. Увидел в толпе пьяненького воина.
— Эй, мужичок, не покормишь ли божьего человека?
— Много вас таких, — отвечал, икая, воин. — Нынче отбоя от нищих не стало.
— А я не нищий.
— Так кто же ты?
— Богомолец.
— А пошто в рванье?
— Смиряю дух.
— Эка смиренник. Как думаешь, божий человек, не выпить ли нам бражки? — прищурился воин.
— А обет? — замялся Кочкарь.
Воин сказал:
— После отмолишь. Бог милостив.
Пошел Кочкарь с воином. По дороге выпытал у него, кто он и откуда.
— Клобучник я. А зовут меня Лепилой. Как пролетел по Владимиру слух, что идет на нас Святослав, дали мне меч. Вот он. Нынче, сказывают, не до шапок. А потом и вовсе не для кого будет шапки шить.
— С чего это?
— Эко ж глуп ты, смиренник, — сказал Лепила с хмельной усмешкой. — Ну подумай, на что покойнику шапка?
Делая испуганные глаза, Кочкарь быстро перекрестился:
— Свят-свят…
— Свят, да нам не подмога. Многих голов не досчитаемся мы после похода…
В избе, куда они пришли, народу было тьма. Мужики и воины пили, сидя на лавках и на бочках.
— Однова гуляем, — кричали они. — Завтра идем на Святослава.
Иные хвалились:
— Укоротит наш князь Святославу хвост.
Другие плакали, уткнувшись в столы:
— Пропали наши головушки. Много сирот пустят князья по свету.
Лепилу знали, завидев его, лезли целоваться, подносили в чарах мед. Кочкарь сел к столу. Трезвыми глазами оглядел пирующих. Выпил, повел осторожный разговор. Рассказывал о сладости привольной жизни. Выпытывал нужное. Запоминал слово в слово. Будет, что поведать Святославу. Да не шибко порадует он князя. Войско у Всеволода огромное, силы неисчислимые.
А Лепила все подносил ему то мед, то брагу. Не заметил Кочкарь, как опьянел, только почувствовал, что взыграло в нем сердце молодецкое. С озорством подумал: «А что, как и на княжеский двор заглянуть? Может, еще что выведаю?» И тихонько, бочком, выбрался из избы на волю. Хлебнул свежего воздуха, огляделся и пошел в толпе по городу, глазами отыскивая княжеский дворец.
Долго искать не пришлось: Переяславль не Киев, здесь все как на ладони. За частоколом виднелись украшенные резьбой крыши и терема, у входа на княжескую усадьбу стояли, опершись на копья, зоркие вои. Страннику через них дороги нет.
Обошел Кочкарь усадьбу со всех сторон, приглядел местечко, где частокол пониже, пристроился, подпрыг нул, подтянулся на руках и мигом перевалил ловкое тело на другую сторону. Упал в снег, долго лежал, не двигаясь. Оглядевшись, пополз за сруб, сел, сунул в рот ледышку, передохнул. Осторожно выглянул из-за угла. Не заметили.
Пробравшись за коновязью, Кочкарь приблизился к самому всходу, и уж совсем немного ему осталось, чтобы подняться на крыльцо, как дверь распахнулась, и он оказался лицом к лицу с Кузьмой Ратьшичем, который хорошо знал его по Киеву.
У Ратьшича и в голове не было такого, чтобы встретить Кочкаря в Переяславле. Потому-то он и удивился вначале оттого только, что увидел на княжеском дворе оборванца. Но, приглядевшись, сразу понял, кто перед ним.
Румянец сошел у Кузьмы с лица, рука потянулась к мечу, но Кочкарь, находчивый и сильный, опередил его, выхватил у Ратьшича из ножен меч и — кубарем со всхода — прыгнул к коновязи. Вскочил на коня, обрубил поводья.
— Стража! — бросился вслед за ним Ратьшич.
Кочкарь был уже у ворот, на всем скаку опустил меч на запрокинутое бледное лицо копейщика, второго сшиб конем. Лихо!
Промчался сквозь расступившуюся в страхе толпу, вырвался на простор, за городские валы, — ни за что не догнать Кочкаря.
Серебристая дорога уносила его все дальше от Переяславля, а когда он, отъехав на полверсты, оглянулся, погоня только что выезжала из городских ворот.
— Э-ге-гей! — закричал Кочкарь, подняв над головой сверкающий меч. Выдохнув, разрубил пустоту, рванул удила, и конь, послушный его твердой руке, помчался через укутанный снегом лес.
5
них новгородская конница, возы пришлось бросить. Всеволод подшучивал:
— Ну как, много ли привезли мне серебра и злата?..
Рязанские князья, багровые от смущения, стояли перед ним, потупившись. Никто их за Влену не посылал, сами напросились. Сами заработали синяки и шишки.
— Не удержался за гриву, за хвост не удержишься, — говорил Всеволод. — Это вам не с братцем счеты сводить. Святослав — великий князь. Да и новгородцы с ним. Сила.
— У нас ли, князь, не сила, — вступился за рязанцев Кузьма.
— А ты помолчи, — оборвал его Всеволод. — Тоже ловок. Кочкарь, почитай, в руках был, а ты его выпустил.
— Бес он. Одно слово — половчанин.
— Что половчанин! Ловкий вой Кочкарь, — возразил князь. — Вот от вас, ротозеев, и ушел. Не в том умение, чтобы мечом размахивать, а в том, чтобы врага перехитрить. Нынче Святослав как думает? Пойдет-де Всеволод через Влену, а я его на льду и встречу. Пущу на него лихих черниговцев — не устоит. А новгородцы дело победой завершат. И тогда уж путь во Владимир открыт. Спалят Переяславль, Москву предадут огню.
— Так что же предлагаешь ты, князь? — удивился Кузьма. — Не возьму я что-то в толк, по-мудреному говоришь. Зачем тогда собирали войско, зачем шли под Переяславль, зачем я с мужиков три шкуры спустил, чтобы поставили новую городню?
— А затем и поставили, — сказал Всеволод. — Пусть думает Святослав, что в гости ждем его не с пустыми руками.
Он помолчал и добавил:
— Не пойдет старый князь на Переяславль. Постоит, а на Переяславль не пойдет. Помяни мое слово, Кузьма.
— Да что же держит-то его?
— Страх. Того и гляди, повернет. А нам спешить некуда. Он-то на чужой земле, а мы на родимой. Мужики ему ни хлеба, ни овса не дадут. А все, что можно было, он уже пограбил…
Падал снег, метели сдували его в белые горы, заносили вырытые наспех землянки. На той и на другой стороне берега курились дымки костров. Осмелясь, воины выходили из укрытий, долбили во льду проруби, носили воду. Со скуки ловили рыбу, тосковали по дому, ворчали.
На реке встречались владимирцы и новгородцы, переяславцы и черниговцы, суздальцы и киевляне. Черпали воду, заводили знакомых. Сидя на глыбах выколотого льда, вели мирные беседы, словно ввечеру на лавочке перед своей избой.
— Нынче уродились у нас большие овсы, — хвастались владимирцы.
— А у нас грибов было видимо-невидимо, — говорили новгородцы.
— Бабы-то, поди, уж выставляют на три утренние зори семена на мороз, — поддерживали разговор черниговцы.
Вспоминая баб, тоскливо вздыхали, смолкнув, глядели в укутанные утренней дымкой дали.
Зоря встретил на реке сотника Калину из Чернигова, ходившего с Андреем Боголюбским на булгар.
— Много пленных увел тогда князь Андрей, — рассказывал сотник. — А меня посекли нечестивцы. Едва мамка выходила.
— Рубиться они могут, — кивал, соглашаясь с ним, Зоря. — А то живем мирно, ходим в Булгар с товарами.
— Половцы тоже мирные, — усмехался Калина. — Покуда князья наши дружны, сидят в своих становищах, пьют кобылье молоко. А чуть только смута пошла, они тут как тут. Нынче вон Кончак уши держит востро.
— Богато живет Русь, — говорил Зоря. — Вот и высматривают из-за застав, где что плохо положено.
— Сами тому виной, — отвечал Калина. — Навались мы всей-то силушкой, навек отбил бы охоту из степи нос казать.
— Эвона какое войско собрали на Влене. Сговориться бы князьям да вместе-то — на Кончака. Чего делим?
— У меня баба в Чернигове осталась. На сносях она…
— И у меня…
Время шло. Морозы сменялись оттепелями. Падал снег с дождем. На реке распахивались темные полыньи.
Слушая уставших от безделья тысяцких, звавших перейти за Влену и ударить по Святославу, Всеволод молчал.
Кузьма тоже намекал, что пора, мол, действовать. Всеволод улыбался: ишь, как расходились петухи. Значит, и Святославу не сладко. На что терпелив, но и его терпению скоро придет конец.
Не обманулся Всеволод. К концу второй недели прислал Святослав к владимирскому князю двух попов. Велел передать из уст в уста:
— Брат и сын! Много я тебе добра сделал и не чаял получить от тебя такой благодарности; а ежели ты задумал на меня зло, захватил сына моего, то недалеко тебе меня искать: отступи подальше от этой речки, дай мне дорогу, чтобы можно было к тебе переехать, и тогда нас бог рассудит; а не захочешь ты мне дать дороги, то я тебе дам, переезжай ты на эту сторону, и пусть нас бог рассудит.
Всеволод, выслушав послов, кликнул Ратьшича и велел ему связать их и отправить во Владимир. Сам же он, как стоял, так и не двинулся с места. И ответа Святославу не дал.
6
Холодно в княжеском шатре, ветер задувает под полог дождевые брызги, свистит в вышине, гонит по небу низкие серые тучи.
Закутавшись в шубу, сидел Святослав на лежанке, остановившимися глазами смотрел во тьму. Все тело его будто одеревенело, ни кровинушки в лице, пальцы рук судорожно сжаты.
Что ждет его там, за рекой? Победа или позор? Неужто снова уготовано ему на старости лет влачить жалкую участь изгоя?.. Ежели переборет его Всеволод, ежели побегут, не выстоят черниговские конники, отступят новгородские пешцы, с кем он останется, кто поверит в него, некогда могучего и хитрого князя?!
Беспокоен и вероломен род чернигово-северских Ольговичей. Немало крови на их руках, гусляры пронесли о них по Руси худую славу. Коварен был дед Святославов Олег, еще коварнее был отец. Обходили люди стороной двор его на Почайне, пугали именем его ребятишек. Приводил Всеволод Ольгович на Русь половцев, продавал им в рабство русских людей — за мелкую услугу, за помощь против родного дяди. Воевал он и с Юрием Долгоруким, и с братом его Ярополком, предавал огню белокаменный Киев, конницей своей топтал крестьянские поля, насиловал в деревнях девушек, в реках топил мужиков.
Помнил, хорошо помнил Святослав, как двинулось на Чернигов огромное войско с киевскими, переяславскими, смоленскими, суздальскими полками, с берендейской конницей и с отрядом венгров; как разгневанный народ кричал его отцу: «Ты надеешься убежать к половцам, погубить свое княжество? Зачем же ты снова изворачиваешься? Лучше оставь свое высокоумие и проси мира!»
Не смыть с прошлого каиновой печати, не избыть горя, причиненного отцом его Русской земле. Не одолеть Святославу Всеволода, не смыть ни дедова, ни отцова позора…
Шуршит за шатром весенний дождь, начавшийся не ко времени, вздыхает подо льдом беспокойная река. Еще есть время сохранить остатки веры, уйти хоть и с позором, но с войском, которое понадобится ему, чтобы вернуть себе Киев. А начнется распутица, рассеется войско, не собрать его сызнова, не склонить на свою сторону ни Новгорода, ни земли Северской, ни Черниговской — все разом рухнет. Все, о чем впервые возмечтал, когда посадил его отец князем во Владимир-Волынский. Не было ему в ту пору и восемнадцати лет, а уж вкусил он сладость привольного житья и княжеской власти. Ехал он впереди своей дружины на белом коне, ловил восхищенные взгляды молодых боярышень, пил хмельные меды, стрелял в лесах зверя, казнил и миловал.
Но, радуясь, познал он в ту пору и шаткость мимолетного счастья. Когда двинулись против его дружины Владимира Володаревича Галицкого; когда смешались на поле брани половцы, русские, поляки и венгры; когда запылала земля у него под ногами, — вкусил он и горечь утрат и великий позор.
Так отдаст ли он еще раз судьбу свою в руки неверному счастью?
Горячей волной подымалась в сердце Святослава слепящая ярость. Думал ли он еще пять лет назад, когда приютил у себя изгнанных Андреем Боголюбским Михалку и Всеволода, что вырастут из них матерые волкодавы? Думал ли?
Думал ли он об этом, помогая Всеволоду против Мстислава и Ярополка Ростиславичей в их жестокой войне за владимирский стол?.. Кого взрастил на своих хлебах?..
Полог шатра откинулся, в проеме показалась могучая фигура Кочкаря.
Кочкарь вошел; подложив под себя ноги по половецкому обычаю, сел против князя. В темноте лица его не было видно, но Святослав слышал его дыхание и чувствовал на его губах безмолвный вопрос.
Что сказать Кочкарю? Что скажет Кочкарь войску?
И, словно вспышка белой молнии, вдруг промелькнуло перед ним давнишнее воспоминание: горящие избы, мечущиеся в огне обезумевшие люди, крики и проклятия, и он — в исподнем, дрожащий от холода и от леденящего страха, прижавшийся к потной гриве коня, бьющий голыми пятками по его бокам, летящий в ночь — в лесную глушь, в поля, в отчаяние и безвестность.
Повторить пройденное? А годы, которых уже не вернуть?!
И, с трудом разжав сведенные судорогой челюсти, Святослав сказал молчаливо сидящему Кочкарю:
— Кончено. Не одолеть нам Всеволода. А пока не пришла распутица, надо спасать войско.
— Неужто так и уйдем, князь? — подался вперед Кочкарь.
Святослав промолчал. И тогда снова сказал Кочкарь:
— В Киев дороги нам нет.
— Знаю, — выдавил старый князь. Он сглотнул соленую слюну, встал, выпрямился. Кочкарь тоже встал.
— Завтра отпущу брата Всеволода, а с ним и сына Олега, — сказал Святослав.
— А Владимира?
— Уйду с ним в Новгород.
Кочкарь попросил:
— А со мной как же, князь? Возьми и меня с собою в Новгород.
«Не от него ли все и беды пошли?» — мелькнуло в голове Святослава. Но он очень устал, ноги не слушались его. Клонило ко сну.
— Быть по сему, — сказал старый князь, и Кочкарь поклонившись, вышел из шатра.
Проснувшись поутру и, как всегда, собравшись по воду, Зоря вышел к проруби и вдруг увидел, что противоположный берег пуст. Догорали на холмах брошенные костры, сиротливо торчали шесты от шатров, раскачивались на ветру.
Зоря испуганно попятился, перекрестился и опрометью бросился назад.
— Ушли! Ушли-и! — завопил он не своим голосом.
Воины высыпали из укрытий, не веря глазам, таращились во мглу.
Вышел из шатра Всеволод. Посмотрел на противоположный берег, легко вскочил в седло.
В тот же день через Переяславль к Владимиру умчались биричи, возвещая на всех дорогах об одержанной победе.
В птичьем гомоне, в дыхании теплого ветра шла по земле ранняя весна.
Глава двенадцатая
1
Мария будто знала день и час, когда конь Ратьшича прогремит под сводами Золотых ворот и, вступив на часто уставленный постройками княжий двор, уткнется распаленной от быстрой дороги мордой в ступени просторного теремного крыльца.
Княгиня стояла наверху в накинутой на плечи подбитой лисьим мехом шубейке, дверь позади нее была отворена, из проема клубился пар и высовывались лица дворовых девок.
Ратьшич вообразил себе вдруг, что и Досада, склонившись, смотрит на него в выходящее на двор оконце (об эту пору она как раз и гостевала у княгини), и потому сошел с коня степенно, неторопливо размял ноги, прежде чем взбежать на крыльцо.
Мария перекрестила его низко опущенную простоволосую голову, переспросила несколько раз быстрым шепотом: «Как он?.. Как он?..» — и, услышав в ответ: «Жив-здоров, матушка!», улыбнулась Ратьшичу и, плавно плывя впереди, повела его в покои, где все были в сборе и на том же месте, что и всегда, сидела Досада.
— Так сказывай же нам, Кузьма, — устраиваясь поудобнее на лавке, застланной толстым красным полавошником, говорила Мария, — сказывай, как бились со Святославом, и много ли наших полегло, и скоро ли увидим мы во Владимире князя со дружиной.
— Смешно и молвить, княгиня, — смущенно ответствовал Ратьшич, — но со Святославом мы не бились вовсе, а ушел он подобру-поздорову в Новгород. Князь же наш, дай бог ему здоровья, отправив меня с радостной вестью к тебе, княгинюшка, сам перешел Влену и двинул рать свою к Торжку… То-то нынче неймется Святославу, — улыбнулся Ратьшич, — прогонят, вот те крест, прогонят новугородцы и его, и сынка Владимира.
— Экий ты веселый нынче, — сказала Мария, улыбаясь и покачивая головой.
— Да как же не веселиться?! — удивился Ратьшич ее словам. — Седни всяк пей за здоровье князя. Повелел Всеволод Юрьевич выставить ремесленному люду бочки с медом и брагой.
— Не скупись. Добавь и от меня, Кузьма, — сказала Мария. — И радость я твою разумею. Не серчай за сказанное. Померещилось мне, что хоть и радуешься ты, а будто терзает тебя тяжкая дума.
Ратьшич не ответил ей, зато так посмотрел на Досаду, что у нее запылали уши. Мария выручила свою любимицу.
— Устал ты небось с дороги-то, Кузьма, — посочувствовала она дружиннику. — Ступай выспись. А заутра кликну чуть свет… Жди.
Не хотелось Кузьме уходить из уютного и теплого терема, но ослушаться княгини и докучать ей он не посмел.
Поклонившись и еще раз взглянув на Досаду, вышел. Прямо с крыльца прыгнул в седло попятившегося от неожиданности коня. И только сжав руками поводья, только почувствовав на щеках удары северного, похолодавшего к вечеру ветра, он вдруг вспомнил, что изба, в которой он жил, наверное, не топлена и пуста и что ехать ему некуда.
Поежившись от проникшего за шиворот полушубка скользкого холода, Кузьма непроизвольно похлопал коня по холке, и, прижавшись к тыну, направился в боковую улочку, к Медным воротам. Здесь давно уже лепилась на косогоре вросшая в землю изба старого Мотяя, в которой собирались бражники, изгнанные из домов кто лихой бедой, кто лютой женкой.
Уже во дворе наносило в ноздри стойкий хмельной дух. Под крылечком кто-то кряхтел и лениво пошевеливался. В отворенные окна и дверь вырывался гул голосов и пьяные выкрики.
Придерживая рукой шапку, чтобы не свалилась, Кузьма пригнулся, ступил через порог и очутился в комнате, забитой праздным людом.
— Честь да место, — угодливо улыбаясь, приветствовал Кузьму хозяин, скособоченный и лысый, как пузырь. — Господь над нами — садись под святые.
Глядя на именитого гостя с уважением и опаской, мужики за столом приутихли, сопя носами и покряхтывая, подвинулись, настороженно отставили недопитые кружки с медом и брагой. Кузьма истово перекрестился и сел, как велел Мотяй, под ярко малеванные образа. Юркий паренек с косящим красным глазом робко поставил перед ним ведерную ендову. Кузьма повелел:
— Наливай всем!
Мужики за столом одобрительно выдохнули:
— Ай да Кузьма!
— Дай бог тебе счастья!
— Пейте-гуляйте, — подзадорил их гость. — А заутра ставит вам князь на площади бочки с медом…
— Славен будь, Кузьма!
— Пей, чтоб в ендове не стало — к ретиву сердцу пристало.
— Гуляй, мужики!
Загудела, заходила изба. Отколь ни возьмись — на пороге дудочники. Скоро все позабыли про Ратьшича…
Посидел, посидел Кузьма, подперев кулаком голову, повздыхал, а в чару так и не заглянул. Сгреб шапку со стола, встал, раздвинул мужиков плечом, и вышел.
Совсем стемнело. Звезды проклюнулись над охлупами крыш. Сдуло с улиц толкущийся без дела народ.
Приехал Кузьма к родной избе: стоит новенькая, вся в резном узорочье, а будто чужая, ни огонька, ни человечьего голоса, ни собачьего рыка. Распахнул ворота во двор, привязал к перилам крыльца коня:
— Эй, есть кто?
Нет, не совсем пуста изба: закудахтал, заскрипел по осевшему снегу деревяшкой вместо ноги выскочивший из подклета Варуха — и слуга, и друг, и отец, и на дуде игрец (когда-то вместе ходили в простых пешцах, да одному выпало счастье, а другой остался калекой.
— Батюшки-светы! Да, никак, сам хозяин!.. С приездом тебя, — упал он Ратьшичу в ноги.
— Будя тебе, Варуха, — сказал Кузьма просто и поднял его сильными руками. — Еду, гляжу — в избе пусто. Тоска обуяла. А не сыщится ли у тебя чего повечерять?
— Как же не сыщется! — обрадовался Варуха. — Да для такого разу и капустки, и грибков, и медку на чабере…
— Вот и ладно, — нетерпеливо оборвал его Кузьма. — Неси все разом в горницу: радость нынче у меня — будем пировать.
В горнице с низкими потолками было не прибрано и темно. На полу — мусор, в углах, словно рыбацкие сети на просушке, висела двухгодичная паутина.
Кузьма стянул с могучих плеч кафтан, бросил на лавку, скинул сапоги, прошелся к столу.
«Бился, колотился, мясоед прошел, а все не женился», — горько подумал он.
А ведь вроде бы — до того ли?..
С малого начинал Кузьма. Был он человеком не знатным — это нынче приблизил его к себе светлый князь. А ране никто про Ратьшича и не слыхивал, никто и головы встречь ему не поворачивал: рвань, голь перекатная, а то, что бесята в глазах — гляди, как бы чего не набедокурил.
Пошел он к Всеволоду самым последним ратником.
Когда это было?
Сидя у стола в ожидании грибков и браги, Ратьшич вспоминал.
Тяжкая то была година. Спалив Боголюбово, стучалась в ворота белокаменного Суздаля половецкая конница. Привели ее издалека рязанский князь Глеб и молодые Мстислав с Ярополком. Не хотели, уступить владимирские княжения Всеволоду и того ради даже великие святыни отдали на посрамление поганым. Скорбный плач стоял над Нерлью и Клязьмой, угоняли хищные степняки в полон русских баб, мужиков и детей…
Пуще всех выхвалялся Ярополк: не одолели мы дядьку своего Всеволода на Юрьевом поле — нынче ему с нами не совладать. Да чем было хвалиться? Сошлись два войска на реке Колокше, простояли месяц, а как второй пошел, велел Всеволод, благословясь, переходить своей коннице на другую сторону.
Славная была сеча! Дрогнули половцы, смяли стоявшую позади Ярополкову дружину. Побежали все.
Была в этот день рядом с Кузьмою удача. Заприметил его князь. Видел он с горки, как прыгнул Ратьшич на половецкого коня, как пустился в погоню за Ярополком. Видел, как сошлись лицом к лицу, как блеснули мечи; видел, как упал Ярополк в траву, раскинув руки…
Порадовался Всеволод за молодого пешца. А когда привел он пышущего гневом молодого князя к шатру, наградил гривной и велел оставаться при себе…
Вот откуда привалило Кузьме счастье, и нынче он за князя — хоть на страшную пытку.
Текут воспоминания то ручейком, то широкой рекой. Любил Кузьма Всеволода за смелость, про себя судил за излишнюю доброту. Ни к чему было ему отпускать молодых князей, хоть и клялись они в верности.
Помнит, хорошо помнит Кузьма, как навязывал Мстиславу и Ярополку на глаза кровавые тряпицы, чтобы успокоить владимирцев, требовавших их ослепления. Помнит, как вывозил их за пределы княжества на телеге, как подались они со страшными ругательствами в Новгород. Не вняли дядькиной доброте, упорствуя в злобе.
Слава тебе господи, кажись, понял Всеволод, что княжества не укрепишь одними молитвами: вона как все обернулось. Пожег Ярополк деревни вокруг Переяславля, сел в Торжке и лает пощадившего его дядьку всякими хулительными словами.
Проняло! Видел Ратьшич гневные глаза Всеволода, когда принесли ему бежавшие от беды мужики страшные вести о бесчинствах Ярополка. Видел, как напряглось его лицо, как сжали пальцы рукоять короткого меча…
В тот же вечер отослал Всеволод Ратьшича во Владимир, а сам с войском двинулся к Торжку…
— Свой уголок — свой простор, — сказал, входя в горницу со свечой, Варуха. — А без бабы все равно что без крыши…
«А и верно, — подумал Кузьма. — Пора жениться…»
В ту ночь, напившись домашнего меду, наговорившись с Варухой, он спал до самого утра спокойно. Не снились ему ни оскаленные лица, ни враждебные леса, таящие внезапную засаду, — снились хорошие, добрые сны, и от этих добрых снов сладкая истома растекалась по всему его телу, в голове было тихо и ясно, и Варуха, заглядывая в ложницу, облегченно вздыхал, улыбался и, тихо постукивая деревяшкой, уходил к себе на лавку — под теплую, пахнущую кислой кожей, квасом и полузабытым детством овчину…
2
танные кнутами кони несли на запад, мотая из стороны в сторону возок с забившимся в угол обмякшим Святославом. Исполненный мрачных дум, уткнувшись в высокий воротник мохнатой шубы, князь молчал. Озлобленный от неудач, хмельной Кочкарь скакал рядом, недобро оглядывая чернеющие дали. Деревни встречали их безлюдьем и свирепым лаем сорвавшихся с цепей собак, из лесу к обочинам дорог выходили отощавшие за зиму волки.
По пути таяло, словно мартовский снег, несметное Святославово войско. Мужики разбегались по домам.
…Три дня заседал на Софийской стороне в палатах у владыки растерянный Боярский совет, наставлял выборных бить челом победителю.
А Ярополк Ростиславич, которому по просьбе брата его Мстислава, снова принятого новгородцами, отдан был на кормление Торжок, укрепился за высокими стенами города и не помышлял о сдаче.
Сидя на лавке и прижавшись подбородком к рукояти меча, упертого ножнами в пол и зажатого между сдвинутых колен, он говорил, собирая к переносью густые брови:
— Милости у Всеволода просить не стану. В ноги ему не поклонюсь. Брат мой через него преставился. По колено, чай, в крови, а все не насытится. Скоро дотянется и до вас.
— Укрепись верою, князь, — ласково увещевал его сотник Онфим. — Хоть ты не губи. В ярости Всеволод неумолим, сам ведаешь. Пожжет дядька твой посады, уморит полгорода, а не отступится. Ты вокруг погляди: девки и бабы отощали, хлеб свой отдавая воям, покойников да убиенных едва отпевать успеваем, хороним в общих могилах, будто нечистых. Дело ли задумал? Не лучше ли поклониться Всеволоду, покаяться в грехах — простит?..
Он замолчал, проводя ладонью по гладкому розовому лбу. Лицо Ярополка исказилось.
— Говори, да не заговаривайся, — пригрозил он, постукивая в половицу ножнами меча. — Не боярский тиун я и не посадник — князь. Тебе ли, рабу, понять мою думу?
— Хоть и не сплю я в высоких теремах, — обиделся сотник, — а тож своя голова на плечах. И тебе наказывало вече — блюсти благодать и выгоду господина Великого Новгорода.
— Что на вече было, то было, — оборвал его Яро полк. — Много шумели, кого-то ненароком скинули в Волхов. А погорланили — разошлись по избам пить меды. Дети вы…
— Дети, а — обидчивы.
— Да неужто не разумеешь ты, Онфим, — вконец рассердился князь и даже поднялся с лавки, — что хлебушко, о коем ты только что говорил, идет в Новгород через Торжок? И коли сдадим мы Торжок, то не бывать в Новгороде хлебушку?
— Эка испужал, — покраснел Онфим, — да мы не из пужливых. И не на вече мы, чтобы друг дружку перекрикивать. Худой мир лучше доброй ссоры. А уж со Всеволодом ссориться нам вовсе не с руки. Замиримся, — даст-то бог, не помрем с голоду. Не замиримся — быть беде. Таково мое последнее слово.
— Вот и ладно, — сказал Ярополк, сдерживая гнев. — Ступай покуда. Нынче мне не до тебя.
— Одумайся, князь.
Ярополк повернулся к нему спиной. Онфим постоял, постоял и вышел. Пересекая двор, плюнул в сердцах. Не по душе пришлась сотнику князева задумка. «Это у него обида старая свербит, — решил он. — Зайду поутру — авось поостынет».
А Ярополк, оставшись один, мыслями отлетел в прошлое. Сидел в полутьме, опершись локтями о столешницу, глядел на облитые золотистым светом лампадки образа, но видел совсем другое. Видел кровь и ярость. Видел искаженное ненавистью одутловатое лицо князя Глеба, на плечах которого повисли, как волкодавы, два босых боголюбовских пешца. Видел брата своего Мстислава, опирающегося на руку меченоши — молоденького и беззащитного, как девушка, Радомира с синими, в пол-лица, испуганными глазами… Вдали догорала деревенька, подожженная половцами, и молодой Всеволод, искусывая в кровь обветренные губы, до белизны в суставах пальцев сжимая поводья, глядел с коня, как стелются над полем горькие рваные дымы.
Посеченные, порубленные, лежали на задах деревни мужики, бабы и дети, а взятые в полон половцами, и только что освобожденные, теснились вокруг Всеволодова коня, еще не веря в освобождение, еще со страхом косились на согнанных в робеющую толпу темнолицых степняков.
Это они, Глеб, Мстислав и Ярополк, привели к берегам тихоструйной Клязьмы врагов. Это они указали половцам потаенные тропы через леса и болота, их руками разрушили белокаменные святыни, зажгли Боголюбово, разграбили церковь Покрова на Нерли…
— Накажи их, князь! — кричали возмущенные владимирцы, проталкиваясь к возку с пленными. В толпе взвизгнула баба:
— Ослепи!..
Горячее солнце отражалось в золоченом куполе надвратной церкви, люди стояли вдоль улицы и на валах. Протопоп Микулица, сухой и строгий, торжественно перекрестил сошедшего с коня Всеволода, всенародно облобызал его и, подбирая полы блестящей ризы, приблизился к возку, глянул сверху вниз на Ярополка, и у того упало сердце, Мстислав задвигался, отводя глаза, а Глеб смотрел на свои сложенные на тугом животе изуродованные толстыми жилами распухшие руки и не смел поднять головы.
В отчаянье брошенное роковое слово все громче и громче звучало в душной тесноте толпы:
— Ослепи их, князь!
— Ослепи! — доносилось уже не как мольба, а как приказ. Люди, выдержавшие осаду, потерявшие на городских валах своих близких, жаждали крови.
Страшное слово перекатывалось из уст в уста. Тесня воинов, толпа надвигалась на возок.
— Стойте, люди! — вскинул над головой руку внезапно побледневший Всеволод, — Али не князь я вам?
— Князь, князь! — завопили в толпе.
— А кто спас вас нынче от поганых?
— Ты, ты, князь!
— Так не князю ли суд вершить?
— Тебе, князь! — согласно выдохнула толпа.
— Стойте, люди! — снова вскинул над головой руку Всеволод. — Стойте и слушайте. Это я, князь Всеволод, сын Юриев, внук Мономахов, говорю вам: да свершится суд скорый и справедливый. И те, кто повинен в несчастиях ваших, понесут заслуженную кару. И в том клянусь вам на священном писании. Аминь!
Он поискал взглядом Микулицу. Микулица зыркнул в толпу служек, служки засуетились, и скоро в руках у протопопа заискрилась, одетая в золото и каменья, толстая книга — Всеволод, торжественно хмурясь, приложил к ней руку.
Робко скрипнул возок, толпа в молчании расступилась, и процессия медленно двинулась к княжескому терему…
Ни тогда, ни после не дано было Ярополку понять своего дядю, хоть и сжалился над ними Всеволод, хоть и велел наложить ему и брату его на очи окровавленные повязки, чтобы думали владимирцы, будто исполнил он их волю, будто ослепил по обещанному, а Глеба оставил в темнице.
Спустя много времени, в Новгороде, узнал Ярополк, что скончался строптивый зять его от падучей, а иные сказывали совсем другое: умер Глеб не своей смертью, а кончил его острый меч Всеволодова милостника — отчаянного тысяцкого Давыдки.
3
Получив из рук Боярского совета Торжок, привезя в город жену Всеславну с сыном Игорем, сидел бы Ярополк тихо да мирно, собирал с купцов, проезжающих в Новгород, дань, охотился вволю (благо, вокруг зверья видимо-невидимо), пил меды и радовался светлому солнцу — так нет же: былая неприязнь к Всеволоду не давала ему покоя. И принялся он, злобствуя на него, разорять владимировские земли, жечь села, принадлежащие дяде, да так далеко от Торжка, что не дошел до Переяславля всего сорок верст.
Тогда-то и решил Всеволод положить конец Ярополкову разбою: встал под стенами Торжка, осадил город.
Голодали в крепости, а подмоги все не было.
Явились к Ярополку выборные, просили не упрямиться, сдаться Всеволоду: не половец же он, как-никак — дядька. Выборных князь велел гнать от себя. У самого у него хлебушко еще был, дружина не голодала. Но пуще всего надеялся он на помощь отца Мстиславовой жены Ходоры, бывшего новгородского посадника Якуна, — небось уговорит бояр и архиепископа, небось лридет на подмогу, не даст преставиться единственной дочери и своему внуку Святославу. А в Торжке Ходора оказалась по бабьей дурости: поехала она на крестины к подружке своей, да у той свекор умер. Уговорила подружка Ходору остаться на сороковой день, а там задождило, а там завьюжило, а там раскисли дороги по весенней оттепели — так и дождалась того, что Всеволод осадил Торжок. Теперь и подавно не выбраться.
Шли дни, а подмоги Торжку все не было. Рассвирепевший от неудач Ярополк совсем обезумел: на сотских топал ногами, псами травил выборных, в осажденном городе бесчинствовал. Жена его, перепуганная насмерть, ходила зареванная, маленький сын прятался от отца в подклет.
— Ишь, вырастила змееныша, — говорил Ярополк Всеславне, а слугам велел сыскать Игоря.
Слуги приводили упирающегося сына, ставили перед отцовым стольцом.
— Чей ты? — дивился, разглядывая его, Ярополк. — Пошто отцу слова не вымолвишь?
— Твой он, истинно твой, — встревала, сложив руки на животе, Всеславна.
— Молчи, сука, — шипел Ярополк. — Не тебя вопрошаю… Аль язык проглотил?
— Здоровенький он, — стрекотала жена. — Личико-то беленькое, глазоньки-то ясненькие…
— Ду-ура, — кипел злобой князь. — Воистину дура.
Слушая перебранку родителей, Игорь начинал дергаться и тоненько, по-щенячьи, всхлипывать, размазывая грязной ладошкой слезы по бледным щекам.
— Изыди, — говорил Ярополк. — И чтобы глаза мои тебя не видели.
— Пойдем, сыночек, — хватала Игоря за руку Всеславна, и пятясь, выводила его из сеней.
Ярополк подымался на вал, подолгу оставался у заборол, смотрел на север. Все ждал, все боялся, как бы не проглядеть, когда повалят из лесу густой толпой новгородские ратники в синих зипунах. И уж рисовал себе в утешение, как дрогнет обступившее город Всеволодово войско, как распахнутся ворота, и вырвется из них с победными криками его дружина, и впереди той дружины — он сам на белом, поджаром коне…
Но лес был тосклив и безмолвен, и сырые облака плыли, цепляясь за иссеченную острыми зубцами опушку.
И постепенно иные мысли брали в полон Ярополка, иные вставали перед ним картины: видел он себя въезжающим в Великий Новгород — на заморенной лошаденке под худым седлом, нечесаного и немытого, с глазами, красными от бессонницы. И чудилось ему, ослепшему от страха, как пялятся с застывшими улыбками вышедшие взглянуть на незадачливого князя спокойные, неторопливые мужики.
Ходора спрашивала вернувшегося с вала князя:
— Что выглядел, сидючи?..
— Кукиш, — зло отвечал Ярополк. — Знать, верно говорено: стой заодно, а беги врозь. В порты наложили твои новгородцы.
— Ишь ты, прыткой какой, — незлобливо отвечала Ходора. — Сам, чай, заварил кашу, а нам расхлебывать?
— Уж нахлебался посул. В догадку мне: отцу твоему нынче не до тебя. Попрятались бояре по теремам, ждут, каково со мной будет. Коли одержу верх над Всеволодом — обласкают меня, а ежели Всеволод войдет в Торжок, — забыв про меня, придут всем скопом виниться. Нынче Новгород без хлеба, а то Боярскому совету невдомек: кабы мне подсобили да прогнали Всеволода, хлебушко-то рекой потек бы. Во как!..
— Эко рассудил, — хихикнула Ходора. — Чай, бояре тоже не дураки. Тебе всё как бы, а Боярский совет всему голова. С него и спросится. Кому охота в Волхове искать дна?
— Боитесь веча, — буркнул Ярополк. — Давят мужики, а вы и рады.
— Не то мы в порубе сиживали? — вдруг взъерошилась Ходора и даже встала с лавки. — Не сам ли от вольной воли бежал, не сам ли просил у моего Мстислава прибежища?
— Твово Мстислава нынче нет, а мне за него ответ держать?
— Не он один — оба постарались, — побледнела Ходора. — Оттого и Святослав, сыночек мой, растет сиротой. — Твоему-то тоже небось на роду написано. Не-ет, нынче не пожалеет тебя Всеволод — в тот раз-то с Глебом куда как легко отделались. Добрый у вас дядька, да любой доброте есть предел…
— Сгинь ты! — взорвался Ярополк, — Еще чего накликаешь.
— Уж и кликать неча: беда-то у самых ворот стоит. Слышь: в полотна стучит пороками.
Ярополк грязно выругался и вышел из терема. Во дворе, перед крыльцом, снова толпились, насупясь, выборные. Сотский Онфим ненастойчиво гнал их потухшим голосом:
— Велено вам: ни ногой на княжий двор…
— Так куды же нам подеваться? — вытирая согнутым пальцем красные слезящиеся глаза, спросил исхудавший старик, на плечах которого продранная во многих местах кольчуга болталась, как на пугале. — Рука-то не то что меча аль копья, небось и тростиночки не удержит. С голоду мрем, яко мухи… Вели княже, отворить ворота Всеволоду.
— Вели, княже, — покорно зарокотали выборные, кланяясь Ярополку.
— Пошто опять пустил мужиков во двор? — накинулся князь на Онфима. — Тебе ж было велено.
— Велено-то велено, — пробормотал сотский. — Да ты, княже, взгляни-ко на свое воинство: одни кости да кожа.
— Были б кости, мясо нарастет, — сказал Ярополк. — Еще маленько потерпите, мужики. Новгородцы в двух переходах от нас: не нынче — завтра будут здесь.
— Который день поджидаем, — не сдавались мужики. Крепко стояли на своем. Наказали им в ремесленной слободе: с отказом от князя не возвращаться.
— С ними и ладов нет, — сокрушенно вздохнул Ярополк. Снял шапку, перекрестился и крикнул через двор выжлятникам, чтобы спускали собак.
Плюнул себе под ноги Онфим и ушел вслед за выборными.
Ночью толпа мужиков, запалив факелы, придвинулась к княжеским одринам, стала ломать ворота. Среди них, сказывают, видели и Онфима, но изловить его ни в ту ночь, ни на другое утро не смогли, а ведь велик ли город Торжок!..
4
На правом, низменном, и на левом, всхолмленном, берегах Волхова раскинулся Новгород. Словно белорыбицы, пошевеливается подо льдом в глубокой ложе могучая река, а город полнится громкой разноголосицей. Движется по деревянному настилу Великого моста народ, задирают люди головы, щурясь от весеннего солнышка, поглядывают на откос, где за крепкими городнями детинца глядится на север и на юг, на восток и на запад одетыми в свинец куполами Софийский собор; любуются — не налюбуются, вдыхают, разинув рты, налетающий с Ильменя мартовский, пахнущий тающими снегами воздух; исполненные гордости, радуются: чай, не рязанские, не смоленские мы — новгородские!..
Со времен Всеволода Мстиславовича, изгнанного из Новгорода за порушение клятвы княжить здесь до самой смерти, решал город на вече сам, кого из князей звать, кого изгонять за пределы своей земли. Собравшись у Софии, шумели новгородцы, дрались друг с другом на кулачки, сбрасывали в Волхов противников, думали, судили-рядили по собственной воле, а того не заметили, как прибрал все к своим рукам Боярский совет, а в Боярском совете — владыка и передние мужи, среди коих были не только бояре, но и богатые купцы. На вече ли, на торгу ли — везде у Боярского совета свои глаза и уши, свои зачинщики и крикуны. Пошумят кончане, потешат душу, разойдутся довольные — сделано, мол, все, как сказано, а после уж почесывают затылки, соображая, что сделано было сказанное не ими, что и на этот раз легко обошли их купцы и бояре.
Стоя на городне детинца, владыка Илья глядел, как скатывается к далекому окоему солнце, как тускнеют краски и вытягиваются по проталинам серые предзакатные тени. Еще не съехал со двора изгнанный из города Святослав киевский с сыном своим Владимиром, а мысли владыки обращены в завтрашний день.
Вчера с вечера в Боярском совете дым стоял коромыслом. Илья стучал посохом, взывая к разуму, требовал изгнания Святославова сына вместе с отцом, грозил анафемой и клеймил упрямцев. Шаталась вольница, на подходе к Новгороду мерещилось Всеволодово войско — до обычной ли степенности было владыке, когда на глазах рушилось сокровенное?!
— Со Всеволодом будем замиряться, — говорил владыка. — Подмоги Торжку не слать, Ярополка не приваживать, гнать из новгородских пределов…
Якун наливался кровью, требовал дать ему людей и оружие:
— Нынче снова уступим Всеволоду — завтра и оглянуться не успеем, как сядет на выю Великому Новгороду…
О дочери пекся Якун, мечтал вызволить Ходору из Торжка. Смежив набрякшие от бессонницы веки, владыка слушал бывшего посадника. Нет, не изменили годы Якуна. Хоть и побелела от седины голова, а норов все тот же. Неведомо ему, что теперь уж не устоять Новгороду в поле, что, обложив Торжок, Всеволод все равно принудит их к сдаче. И так навлекли они на себя его гнев, приютив Святослава, а упрямый и мстительный Ярополк распалил его еще больше. И за помощью обратиться некуда: нет на Руси силы сильнее Всеволодовой, а хлебные закрома пустеют день ото дня.
Хоть и выхваляются еще друг перед другом новгородцы, а беда стоит у самых ворот: гниет зерно у Торжка под зорким присмотром Всеволодовой дружины.
А было еще такое, о чем пока не решался Илья сказать совету: за день до этого прискакал в Новгород гонец от владимирского князя. Обращался Всеволод к владыке:
— Не губи свое стадо, старче. Все готов я позабыть и простить: и то, что Пребрану, дочь брата моего Михалки, содержал без должного почтения, и то, что слали со Святославом своих воев под Переяславль, — отдайте Ярополка мне. Возьму Торжок, отвезу Ростиславича во Владимир, заковав в железа, отпущу купцов с хлебом — нынче у меня много дел и в южной Руси.
Вот что передавал Всеволодов гонец, отогреваясь во Владычной палате.
А теперь в той же палате бояре и купцы кидались друг на друга, как бешеные псы, не ведая о том, что Илья ответил Всеволоду согласием.
…Солнце наполовину скрылось за краем земли, от полей, от скованной льдом реки потянуло холодом. Владыка поежился, запахнул поплотнее шубу и, соскальзывая сапогами с обледенелых ступеней, стал медленно спускаться во двор детинца.
Жмурясь от ярких бликов солнца, многократно отраженного в первых студеных лужицах, Илья неторопливо пересек площадь перед Софийским собором. С крыльца Владычной палаты шаром скатился проворный служка, елозя от нетерпения, ждал, что скажет Илья.
— Вели подавать возок, — приказал владыка.
Служка прыснул в сторону, самозабвенно шлепая по лужам, побежал к конюшням. Илья усмехнулся, степенно взошел на крыльцо, потянул толстую, мягко подавшуюся на смазанных петлях дверь.
Тотчас же навстречу ему поднялся с лавки Онфим; вытаращив заспанные глаза, осторожно — в ладошку — зевнул и размашисто поклонился владыке. Илья остановился посредине горницы, посмотрел сквозь смущенного сотника на слабо светящееся, заделанное слюдой низкое косящатое окошко. Помедлив, прошел в угол, где стоял под скромными, окованными золоченой медью образами резной ларь темного дерева, по которому были пущены узорчатые серебряные полосы, побренчал ключом, отворил крышку и, согнувшись пополам, извлек свернутое трубочкой письмо.
Покашляв, тут только вспомнил о топтавшемся за спиной Онфиме. Не оборачиваясь, коротко повелел:
— Подойди.
Онфим, стараясь ступать на носках, мягко приблизился. Лицо отвернул в сторону, чтобы не оскорбить владыку своим нечистым дыханием.
— Вернешься в Торжок, — обернувшись и строго глядя на него, сказал владыка, — исполнишь все, как повелю. Грамоту передашь Ярополку и на словах скажешь, что-де так порешили совет и вече. И не их, мол, вина, ежели все обернется по-другому. А ссориться со Всеволодом из-за давних счетов — такой охоты у Великого Новгорода нет.
— Все понял, отче, — смиренно склонил голову Онфим.
— Прими же мое благословение и — в путь, — крестя гонца, проговорил Илья. — Да по дороге-то не мешкай, попутчиков стерегись. Ступай, ступай…
Онфим, пятясь, выскочил за дверь, Илья, опершись раскинутыми руками о косяки, склонился к окну — увидел лихо подкативший к крыльцу крытый кожей возок. Тотчас же у двери забухали шаги. Вошел служка.
— Все исполнено, отче.
Илья шагнул мимо отступившего в сторону служки за дверь, спустился с крыльца, боком упал в возок. Кони резво вынесли владыку из детинца на мост, за мостом свернули на Ярославово дворище.
В княжеских палатах владыку не ждали. Въехав со скрежетом полозьев во двор, возок всполошил мирно клевавших навозные кучи кур; выплескивая воду из черных луж, остановился у самого всхода.
Не торопясь, владыка выставил из-под меха сначала одну ногу, потом другую; к нему подскочили князевы людишки, суетливо подхватили под руки; на всходе показался сам юный князь Владимир Святославович.
— Ох, ох… В старой кости сугреву нет, — пожаловался, взобравшись на крыльцо, владыка. — Нынче солнышко-то в полнеба, а мне зябко.
— Заходи гостевать, — пригласил Владимир, приняв благословение. — Сегодня радость — батюшка у меня, с тобою — радость вдвойне.
Илья прошел в палаты, перекрестился на образа (все здесь было ему знакомо), сел на лавку, посохом поковырял вощеный пол.
— Не к батюшке твоему, к тебе, князь, у меня беседа — глухо сказал он.
Владимир побледнел:
— Верна ли догадка, владыко, но сдается мне, что князь Всеволод, свояк мой, стучится в ворота Великого Новгорода?
Илья усмехнулся.
— Про то и голь перекатная ведает, — сказал он, прищуривая глаза. — А вот что порешил совет: батюшке твоему не медля съезжать из Новгорода, тебе, княже, искать со Всеволодом мира.
— Да как же это? — растерялся князь.
— Горяч, горяч, — погрозил ему скрюченным пальцем владыка. — Ты Словишу-то, Всеволодова милостника, из поруба вызволяй да шли к свояку послом. Сердцем отходчив Всеволод, авось и простит, что ходил с отцом на Влену. Вот и я замолвлю ему словечко: по неразуменью, мол, родителев приказ преступить побоялся, хотя и сам князь…
Владимир густо покраснел. Не понравились ему слова Ильи, стыдно было, да и ведомо: чей двор, того и хоромы — как перечить владыке?!
А Илья уж дальше слушать его и не намеревался — и так сказано более того, что надобно, — встал, перекрестил князя, от угощенья отказался, а чтоб до конца не было Владимиру обидно, сказался больным: решил-де попоститься, авось хворь ту и снимет…
Когда выходил владыка на крыльцо, не то померещилось ему, не то и впрямь увидел, как осторожно прикрылась щель в соседней двери — и, кажись, мелькнула за щелью Святославова борода. Ухмыльнулся Илья — то-то и оно: не хвались раньше срока. Прищемил Всеволод киевскому князю нос, тому нынче и деться некуда. Ежели что, укажет Великий Новгород и Владимиру на дверь — знай наших. А со Святославом и говорить не станет Боярский совет. Пущай ступает в свой Киев и боле воды в Ильмень-озере не мутит.
На въезде в гору за мостом через Волхов владыка постучал вознице в спину посохом:
— Попридержи коней-то…
Приоткрыл полог, с улыбкой поглядел, как звонко сбегают к реке весенние ручейки, прислушался к далекому птичьему граю. Хоть от земли и исходила накопленная за зиму лютая стужа, но солнышко уже пригрело Илье покрытую морщинками щеку. Весело окидывая взором неоглядную ширь, на краю которой щетинились леса, подумал владыка: вот замиримся со Всеволодом, вот стронутся реки — и пойдут под белыми ветрилами во все концы земли новгородские лодии — бусы-кораблики. Набьют кончане брюхо, попритихнут. Уйдет за Переяславль грозный Всеволод, уведет с собою Ярополка — чинить суд да расправу. Уляжется распря… Не впервой!
И все-таки неспокойно было у Ильи на сердце, все-таки давило сомнение: а что, как не отступится владимирский князь? Ему вольно — вон у него какая силища, черными крыльями накрыл Торжок, и ежели нынче не встанет под воротами Великого Новгорода, то придет вдругорядь, да посадит на Ярославовом дворище своего князя, а в Боярском совете — своего посадника: свершится сие.
Вот какая лихая дума омрачила светлый зрак владыки, и, вдруг посуровев лицом, он крикнул:
— Трогай!
Возок дернуло, мотнуло, Илья в изнеможении откинулся на подушки.
5
Пришел Онфим в Торжок на рассвете. Ночью с трудом пробрался через плотные Всеволодовы дозоры — едва жив остался, натерпелся страху, сидя в сугробе под городскими воротами. Утром, чуть посерело, принялся подавать сигналы — крякал, кричал филином. Докричался до того, что метнул в него стоявший на городне молодой да несмышленый ратник стрелу. Выругался Онфим — тут его только и признали.
— Олух ты и есть олух, — сказал десятник парню, — едва нашего сотника до смерти не пришиб.
И велел ему отворять ворота.
Ворота отворили, Онфима впустили и тут же вместе с ним отправились ко князю на двор.
Завидел Онфима Ярополков меченоша, осклабился, засвистел по-дурному:
— Да неужто ты заговоренный?
— Может, и заговоренный, — огрызнулся Онфим, — только дело у меня не твоего ума.
Сунул меченоша шапку под мышку и — в сени. А из сеней навстречу ему — Ярополк. Глаза яростные, ноздри по-звериному раздуваются, губы дергаются не то гневно, не то усмешливо. Оттолкнул меченошу, остановился на крыльце, отставив в сторону обутую в красный сафьян ногу, поглядел сверху вниз на Онфима.
— Где ж это ты почивал-отдыхал, Онфимушка?
Голос ласковый, грозою спряденный, — ох, несдобровать лихому сотнику.
Да только не испугался Ярополка Онфим.
— Грамотка у меня к тебе, княже, от Боярского совета, — отвечал он с достоинством. — А руку к ней приложил сам владыка Илья…
— Вон оно как, — остывая, показал головой Ярополк. — Входи в сени, посол господина Великого Новгорода.
И, повернувшись на каблучках, сам пошел впереди.
— Ну?! — дыхнул Онфим в лицо отшатнувшемуся меченоше.
В сенях Ярополк сел на лавку; Онфим стоял перед ним, ожидая, когда дочитана будет грамота. У дверей и на крыльце толпились дружинники; узнав о прибытии сотника, со всех сторон сбегался к княжескому двору народ, глядел, грудясь под окнами:
— Замиряться зовет Великий Новгород!
— Нынче беде конец!
— Айда ворота отворять!
— Ишь ты, прыткой! Князь — он-те отворит…
Не терпелось всем. А больше всех не терпелось Онфиму. Однако Ярополк сидел молча.
— Скажи хоть словечко, княже, — взмолился сотник. — Аль и нынче все так же глух, не слышишь людского ропота?
— Иначе слышатся во мне голоса…
— Не верь им, княже, — отчаялся сотник. — Не от бога они — от дьявола.
— Нишкни, — оборвал его Ярополк и встал. — Распушился, ровно петух. То ты. А господин Великий Новгород нынче обветшал, скоро бабы сядут в Боярский совет. Вот когда пойдет потеха! И то дело — будет из-за чего принимать срам.
— В добром мире сраму не зрю, — смело сказал Онфим.
— Ох, наговоришься ты у меня, сотник, в порубе, — осерчал Ярополк. — Ох, наговоришься!
Прикусил язык Онфим — испугался: на все воля князева. Уж коли Великий Новгород ему не указ — видать, совсем вскружилась Ярополкова голова.
И тогда, повременив, передал он слова Якуна Ми рославича: «Дочь мою Ходору в Торжке не неволить. Отпустить ее с девками и со всем добром и с сотником Онфимом, дабы в городе не случилось с ней какого зла».
— Забирай княгиню. Неволить не стану, — зло выпалил Ярополк и удалился из сеней.
Онфим вышел к народу, не поднимая глаз, мрачно протиснулся сквозь толпу; мужики дышали тяжело, дорогу уступали ему неохотно, ждали заветных слов. А что мог им сказать Онфим? Не было у него для них утешительных известий.
…К вечеру во второй раз за прошедшие сутки распахнулись ворота Торжка, и под откос по перемешанному с грязью и кровью снегу понесся крытый задубевшей кожей возок. Сделав петлю в виду городских стен, он круто взял вверх — в ту сторону, где на опушке леса теплились белыми дымками многочисленные костры.
Не взяла с собой Ходора никакого добра, а и девок при ней было всего две; Онфим сел за возницу.
— Тпру! — остановил лошадей дозорный, пригляделся к Онфиму. — Кто такие будете?
Онфим пригнулся к мужику:
— Охранная печать у меня… Всеволодова.
— Покажь.
Повертел в черных потрескавшихся ладонях, улыбнулся вымученно:
— Проезжай.
Прежде чем ударить коня, Онфим выпрямился, оглянулся назад: за Торжком садилось красноперое солнце; лучи его взметнулись над крышами изб и над куполами церквей, словно огненные языки пламени; тучи, сгрудившиеся за городом, казались отнесенными в сторону клубами дыма… Дозорный поймал встревоженный взгляд Онфима, обернулся, и на суровое лицо его тоже легли кровавые блики далекого пожара.
Онфим ударил коня и больше уже не оглядывался. Петляя в лесу, дорога вынесла их к замерзшей реке. За Тверцой темнели мирные деревушки с крытыми щепой избами, с подслеповатыми прорезями окон и тоскливым тявканьем напуганных волками собак…
6
Всеволодово войско, взяв Торжок, еще грозило Новгороду, а сам князь уже был во Владимире.
Сошли с полей снега, стронулась и отшумела ледоходом Клязьма, поднялись воды, затопили пойму до самого подножья церкви Покрова. А потом разлив сошел, и жарко засияли майские полдни.
В один из таких дней, воротившись с охоты, Всеволод кликнул Ратьшича и велел ему привести в свой терем Ярополка.
В другое время, может быть, и не стал бы он говорить с сыновцем, да и о чем было им говорить? — но нынче, разгоряченный погоней за быстроногим и свирепым лосем, подогретый выпитым на привале терпким вином, он все еще был как спущенная с тетивы стрела.
Ярополка привели, поставили перед Всеволодом; всем прочим князь приказал выйти.
Чего ждал он от этой встречи? Втайне Всеволод надеялся увидеть на лице Ярополка раскаяние, хотя не верил в это и сам. Еще там, у стен догорающего Торжка, он впервые подивился тронутым бешенкой глазам сыновца. Нынче он снова с тревогой и раздражением всматривался в знакомые черты стоящего перед ним человека, узнавал и не узнавал его. Временами жалость сжимала Всеволоду сердце, временами захлестывала слепая ненависть.
— Садись, — кивнул он, стараясь избегать немигающих глаз Ярополка.
Молодой князь сделал движение, словно собирался сесть, но вдруг раздумал и садиться не стал, а продолжал стоять, глядя на Всеволода с нерушимым упрямством.
— Садись, — хоть и по-прежнему тихо, но напрягая голос повторил Всеволод.
— Насиделся уж, — разжал слепленные губы Ярополк. — Хороша в твоем порубе перинка.
— В твоем небось не мягче была.
— Понапрасну никого не неволил…
— Напраслины и на меня не возводи, — серчал Всеволод. — Была тебе дана воля…
— Да вона как обернулось! — Ярополк резко выбросил перед собой руки с кровавыми рубцами на запястьях. — Яко волка везли… В открытом возке… по морозу… в железах…
— То не моя, то твоя вина, — оборвал его Всеволод.
Нешто старое не забылось? Ишь, как озверел: детей и баб сгубил, мужиков положил на валах — несть им числа, невинную кровь пролил. О том загубленные спросят с тебя. А ты молчи! Тебе сказать нечего… Молчи!
Неясно говорил Всеволод, смутно. И оттого смутно, что душила его возродившаяся в темных закутках памяти давнишняя злоба. Но Ярополк понял князя, и лицо его стала медленно заливать прозрачная бледность. Обмякли протянутые к Всеволоду руки, поникла голова. И вот уже поплыли перед глазами то в тумане, то живо, словно все начиналось вновь, лица бояр и воев, выплевывающие снопы искр обугленные окна горящих изб…
И когда вскарабкались боголюбовские пешцы на валы, когда затрещали и обвалились ворота и по гулким полотнам их вкатилась в город ощетиненная мечами Всеволодова конница, когда упал, защищая князя, любимец его Творимир, — и тогда еще, запершись в срубе, не думал сдаваться Ярополк.
— Почто упорствуешь? — недоумевая, кричал ему с седла Всеволод. — Торжок давно наш. Куда податься тебе дальше погреба?!
Воины приволокли бревно, били с надсадой и дружным уханьем. Двери трещали. Последний удар сорвал их с петель и опрокинул в избу. Ворвались. Загнали Ярополка в угол, под образа. Выбили меч. Опрокинули. Навалились втроем. Связали.
— Заковать его в железа, — спокойно сказал Всеволод и тронул коня.
Постыдное это было дело. Сколько ден и сколько ночей везли Ярополка по весенней распутице? Да разве он считал? Да разве он вспомнит, сколько раз всходило на востоке и сколько раз опускалось на западе уставшее за день солнце? Горечь и ненависть сжигали ему сердце, мутили разум, слепили глаза. Не видел он ни солнца, ни чернеющих снегов, ни раскатанной, рыжей от навоза дороги, ни конопатых от полыней раздольных рек. Не слышал он ни скрипа полозьев, ни топота копыт, ни окриков возницы, ни шорохов готовых стронуться льдов, ни звона падающих с крыш сосулек.
В Москве дозволили ему проститься с женой и сыном. Всеславна кидалась ему на шею и неистово голосила; маленький Игорь стоял, насупившись, в стороне.
Все это было чужим и ненужным. И Ярополк с нетерпением поглядывал на сопровождавшего его сотника. Сотник понял его, сжалился и прервал свидание.
Прошлое осталось без воспоминаний. Будущего не было. Прозябая в порубе на гнилой соломе, Ярополк ждал своего часа. И вот за ним пришли, сбили железа и привели в эти сени, которые были так хорошо ему знакомы.
Всеволод сидел перед ним, согнувшись, крепко сцепив пальцы. Молчал. Поскрипывали половицы под ногами прохаживающегося по ту сторону двери Кузьмы Ратьшича. Только кликни Всеволод — и он тут как тут. Накинуть ли на шею удавку, снести ли мечом голову — все сделает, не задумавшись. Верные люди у Всеволода, преданные, как псы.
Изменило время дядю, ох как изменило: был он молод и уступчив, а теперь повзрослел — глядит, ищет вокруг себя врагов. Раньше терять было нечего, нынче — эвона сколь за спиной!..
Крепкую брагу пил Всеволод на последнем привале. Настоял ее лесничий дикими травами, выдерживал десять дён во тьме, сливал при восходе луны, по чарам разливал — заговаривал.
Нет, неспроста велел Всеволод страже привести Ярополка. Вдруг взглянув дядьке в глаза, похолодел молодой князь, хоть и давно ко всему был готов. Могильным холодом повеяло от него. И, обмирая от отчаяния, стал говорить Ярополк Всеволоду обидные и злые слова.
Вскочил Всеволод, отшвырнул ногой скамью, бледнея, схватился за меч. А когда, заслышав шум, вбежал в сени Ратьшич, Ярополк уж медленно оседал на ковер, цепляясь порезанными руками за горячее лезвие дядькиного меча.
Тело убиенного князя Ратьшич закатал в холстину и той же ночью бросил в озеро. Поглядел ему вслед, перекрестился и, торопясь, пустил коня крупной рысью: ждали его у гончара Данилы веселые бражники. Затащили они к себе вечор отпетого блазня Оболта, шутника и пьяницу, — то-то будет потеха!..
…Изумленным владимирцам тела Ярополка Ростиславича не показывали. Но на всех площадях биричи, гремя в медные тарелки, извещали, что князь почил от ран, полученных под Торжком.
Часть вторая СВОЯ ЗЕМЛЯ В ГОРСТИ
Пролог
1
Привольно жилось дружинникам Петру и Нестору Бориславичам при великом киевском князе Ростиславе. Но, отправившись в Новгород к сыну своему Святославу, Ростислав занемог в Великих Луках, возвратился назад и умер в сестрином селе Зарубе.
Тотчас же на киевский стол сел племянник великого князя — Мстислав, человек крутого нрава, прямой и независимый.
Чувствуя недовольство окружающих, посягнул было на право занять место в Вышгороде дядька Мстислава Владимир, но его никто не поддержал, хотя все и подстрекали, и пришлось ему искать себе приюта, мыкаясь от одного князя к другому. Так забрел он далеко на север, к Андрею Боголюбскому, который выслушал его с улыбкой и пообещал чем-нибудь наделить. А пока велел ступать в Рязань.
Крут, крут был Мстислав, даже мать Владимира отправил за Днепр в Городок, наказав ей идти оттуда, куда она хочет.
— Не могу жить с тобою в одном месте, — сказал он, — потому что сын твой всегда нарушает клятвы.
И старуха, которой деться было некуда, отправилась в Чернигов к Святославу Всеволодовичу.
Нет, совсем не то житье пошло, что было при Ростиславе. Даже добычей, доставшейся после похода на половцев, обделил великий князь верных дружинников своих Петра и Нестора Бориславичей. А потом, когда холопы их выкрали из стада его лошадей и отметили своими клеймами, и вовсе погнал из Киева.
И дали себе Бориславичи клятву отомстить строптивому князю. И лучшего ничего не придумали, как возвести клевету на него Давыду Ростиславичу.
Явившись к нему, они сказали, что Мстислав хочет схватить его и брата его Рюрика, когда те прибудут к нему на пир.
— За что? За какую вину? — удивился Рюрик. — Давно ли он нам крест целовал?
Давыд тоже сомневался в правде сказанного Бориславичами.
— Хорошо, — сказали Петр и Нестор. — Вот пригласит он вас на пир, тогда вы нам поверите.
И ушли, сделав оскорбленный вид.
— Плохо придумали мы, брате, — укорил Петра Нестор. — Что дала нам наша ложь?
— Цыплят по осени считают, — отвечал ему Петр. И оказался прав.
Скоро князья получили от Мстислава приглашение, посланное через гонца.
— Хочу вас видеть, — звал их Мстислав. — Приезжайте на почестен пир.
— Вот видишь, — обрадованно сказал Нестору Петр.
— Ловко все это мы с тобой придумали. Поглядим, что будет дальше.
Князья вспомнили о предупреждении Бориславичей и не выехали к Мстиславу, как он хотел, а послали ему сказать:
— Поцелуй крест, что не замыслишь на нас никакого лиха, так поедем к тебе.
Получив такой ответ, Мстислав обиделся на князей, призвал к себе дружину и стал советоваться.
— Что это значит? — говорил он дружинникам. — Братья велят мне крест целовать, а я не знаю за собой никакой вины.
Дружинники тоже были удивлены.
— Князь! По неразумению велят тебе братья крест целовать, — говорили одни.
Другие советовали:
— Это, верно, какие-нибудь злые люди, завидуя твоей любви к братии, пронесли злое слово.
— Злой человек хуже беса, — возмущались третьи, — и бесу того не выдумать, что злой человек замыслит.
— Прав ты пред богом и пред людьми, — поддерживали его все. — Ведь тебе без нас нельзя было ничего ни замыслить, ни сделать, а мы все знаем твою истинную любовь ко всей братии. Пошли сказать им, что ты крест целуешь, но чтоб они выдали тех, кто вас ссорит.
Так и поступил Мстислав, послушавшись разумного совета дружины, но Давыд не согласился выдать Бориславичей.
— Кто же мне тогда скажет что-нибудь после, — рассудил он, — если я этих выдам?
И хоть целовали князья друг другу крест, но затаенное недоверие осталось между ними. На пир к нему они так и не поехали, а Мстислав, выведав все про истинных виновников ссоры, искал только случая, чтобы изловить Бориславичей и примерно наказать их за клевету и вражду, которую они посеяли на Русской земле.
Петр и Нестор поняли, что замысел их хоть и удался, но самим им несдобровать, и бежали на север. Мстислав послал своих людей изловить их, искали Бориславичей всюду, но так и не нашли.
А на севере, из-за Оки и Клязьмы, зорко следил за всем этим князь Андрей Боголюбский.
С тех пор как ушел он за Мещерские леса в свою излюбленную Ростово-Суздальскую Русь, и Киев, и Смоленск, и Чернигов поглядывали с тревогой в его сторону. За ним было дедово и отцово право старейшего средь князей.
Что задумал гордый Андрей? Почему вдруг зашевелилась дружина, заспешили по дорогам гонцы? На кого куются в кузнях мечи и копья, отчего днем и ночью трудятся бронники, щитники, тульники, лучники?..
2
Вторую неделю ждал Андрей известий из Новгорода. Вторую неделю бродил мрачнее обычного по притихшим переходам своего дворца в Боголюбове. Проведавшего его воеводу Бориса Жидиславича спрашивал нетерпеливо:
— Ну как?
Воевода отрицательно качал головой: известий не было.
Тускло светились исхлестанные дождем слюдяные оконца Андреевой ложницы, который уж день стояла непогодь и слякоть. На дворе сгружали возы. Княгиня Улита вернулась из Москвы, бояре Петр и Аким помогали ей подняться на всход.
Андрей поморщился. Когда-то молодая Кучковна нравилась ему, была она нежна и румяна, умела и принарядиться, и в походах сопровождала его, не жалуясь на тяготы дорожной жизни. Но проходили годы, да и не очень-то много лет прошло, как сошла с нее былая красота, поблекли, вытянулись щеки, померкли когда-то красивые глаза, тело огрузло, в голосе появилась хрипотца, а характер и вовсе испортился: стала она ворчать, гонять дворовых девок, а иногда вмешиваться и в дела самого Андрея: одни из бояр, те, что польстивее, нравились ей, другие сделались хуже лютых врагов. А уж Бориса Жидиславича и вовсе извела Улита. Невзлюбила Прокопия, княжеского отрока, зато с ключником Анбалом могла целыми днями разговаривать о дивных странах, в которых ему довелось побывать. Крутился вокруг нее и Ефрем Моизич, иудей, с тихим голосом и вкрадчивыми движениями, — он точно все время выслеживал дичь и выставлял напоказ свою преданность. Но ни охотником, ни преданным слугой Андрея он не был. Трусость его вызывала насмешки окружающих, и в особенности Бориса Жидиславича. Однажды он пригласил Ефрема Моизича поохотиться на лося, вывел его на рассвирепевшую корову, сам отскочил в сторону, а Ефрема оставил лицом к лицу со зверем. Тот вскарабкался на дерево и просидел там до тех пор, пока дружинники, по совету Жидиславича, не отправились на его поиски.
Ох и посмеялся же князь Андрей над хвастливым иудеем! Но Ефрема Моизича насмешки его не смутили, он даже радовался, заметив, что стал заметным в Боголюбове человеком.
Сомневался Борис Жидиславич в преданности иудея, а сейчас у него были все основания подозревать Ефрема Моизича в предательстве.
Многое из задуманного Андреем становилось известно его врагам. Особенно втирались в доверие к иудею бояре Кучковичи, а Кучковичи — осиное гнездо.
— Берегись их, князь, — советовал Андрею Борис. — Еще припомнят они тебе своевластие Юрия Владимировича, не простят крови отцовой, которою и твои руки обагрены.
Сердился князь, не любил, когда напоминали ему о том страшном деле. Думал, нежностью к Улите, Кучковой дочери, искупил жестокость отца своего — князя Юрия Долгорукого. Хоть и сам он был не легкого нрава, но сдерживал себя, проводил иные вечера в молитвах, церквам жертвовал богатые угодья, золото и драгоценные каменья.
Оттого и прослыл он Боголюбским, а сам-то был ли боголюбив? Сам-то верил ли в любовь свою или хотел лишь казаться добрым и набожным?
Сам он верил только в силу. И на север ушел не от слабости, а от силы, потому что знал: великая смута пойдет среди князей. Кто ни сядет на великий стол, оглянется: вроде занял он не свое место. А Андрей смолчит или поступит по собственной воле — и пусть трепещет некогда гордый Киев перед маленьким, лесами загородившимся Владимиром. Не в городе сила, а в князе, не в боярах сила, а в народе. За народ и держался Андрей, крепил дружину. Из простых мужиков взял и Бориса Жидиславича, и Прокопия, и Анбала…
Дождь становился все сильнее, люди на дворе суетились; шлепая по лужам, переносили в терем тюки и лари.
Андрей не хотел встречаться с женой. Он спустился в подклет, увидел сидящего там на лавке Бориса Жидиславича, велел седлать коня. Борис Жидиславич выскочил и вскоре возвратился, стряхивая с кафтана капли дождя.
Конь был оседлан. Андрей вышел на задний двор, протянул коню ладонь, тот приветливо ткнулся в нее теплыми губами, пофыркал, и легкая рябь подняла волоски на его холке.
Любил нетерпеливый Агат своего хозяина, любил нести его в своем седле — в ночь ли, в росное ли утро, в туман или в дождь. А иногда князь направлял его через широкий брод на другую сторону Клязьмы, где в сочных травах вспархивали и посвистывали птахи, а вдалеке светились березовые рощи. Здесь хозяин отпускал удила, ехал тихо, предоставляя Агату самому выбирать себе путь, и таким любимым путем у Агата была речная излука, где на широких раскидистых кустах ало полыхали большие, сочные ягоды.
Но сегодня Агат был не один. Рядом с ним шел легкой иноходью другой конь, которого он частенько видел на княжеском дворе и с которым успел подружиться, когда хозяева сидели в тереме, а они, стоя у прясла, жевали брошенную им услужливой рукой отрока Ветошки душистую, пахнущую болотистой низиной и летними цветами траву. Коня воеводы Бориса Жидиславича звали Хлеборостом, потому что родился он в самую вершину лета, когда густеет травостой суходолов, и все выше перехватывает узлами трубку тонкий злак.
Хлеборост был норовист и полон неистраченных сил, а Агат уже повидал мир, истоптал немало дорог, которые вели его и на север, в земли новгородские, и на восток, в земли булгар, и на юг — в Рязань и Муром. А Хлеборост едва успел только протоптать первую свою дорожку…
Любил и холил Агата Андрей, и Агат отвечал ему любовью и преданностью. Не всегда приходилось догонять ему уходивших от погони врагов, иногда и князь спасался только благодаря быстрым и выносливым ногам Агата.
Сжимая коленями поджарые бока Агата, князь Андрей говорил Борису Жидиславичу:
— Мстислав хочет без меня сажать и выгонять из вотчин князей. А на чем его право?
— На силе, — отвечал Жидиславич.
— На силе право того, кто силен. Мстислав слаб.
— Князья боятся его.
— Киев — моя вотчина.
Голос Андрея звучал с раздражением, и Агат настороженно повел ушами.
Князь похлопал коня по холке, словно принимал на себя его обеспокоенность. Агат вскинул голову и снова пошел легким шагом.
Борис Жидиславич сказал:
— Ты сидишь на севере, князь…
— Не изгнали меня из Киева, сам ушел, — ответил Андрей.
— Знаю, — кивнул Жидиславич, сдавливая ногами бока своего Хлебороста. — Знаю и задумку твою, князь. Но иногда и мне становится страшно.
Князь промолчал. Агат почувствовал напряженность в его теле. Андрей был недоволен воеводой. И воевода понял это.
Князь дернул Агата за удила, но Агат знал: это не значило, что он должен прибавить шагу. Андрей думал. Он пошевеливал удилами, подбирая слова, которые через секунду скажет спутнику.
— Страшно и мне, воевода. Лики замученных и убиенных являются во сне.
В голосе Андрея была хрипота, которой Агат не замечал раньше. Рука, сжимавшая поводья, дрогнула. Понурившись, князь долго молчал.
— Киева никто еще не брал на щит.
— Знаю, — раздраженно оборвал Андрей.
— Не булгарский город — твой город, князь…
Голос воеводы упрашивал. Андрей встрепенулся, вытянулся, привстал на стременах. Такого напряжения в теле князя Агат не чувствовал даже на поле брани. Даже когда они уходили от половцев, а вслед им неслись стрелы и слышались крики увлеченных погоней всадников. Что с князем?.. Почему он молчит? Почему замолчал и Жидиславич? Словно роковая тайна легла между ними, и ни один из них не решается выговорить ее до конца, хотя вокруг только ветер и дождь и темнеющие во мраке черные кусты, на которых уже не видно ни листьев, ни красных ягод.
— Взять на щит, — сказал Андрей. — Для себя?.. Нет!
— Для кого же? — удивился воевода. Хлеборост встрепенулся под ним. — Для кого же, князь?!
— Посажу в Киев Глеба переяславского, а тот пусть отдаст Переяславль Владимиру Мстиславичу аль еще кому…
Борис Жидиславич дернулся в седле от удивления. Хлеборост прянул в сторону, и воевода ожег его плетью.
— Дивишься, воевода? — усмехнулся Андрей. — Аль привыкнуть ко мне не в силах?
— Да к чему ж это все, князь? Не пойму я тебя.
— Хитер ты, да, гляжу, всего до конца не разумеешь. Скажи-ка, воевода, как стану я держать в покорстве князей, ежели рука без плети? Хороший отец и тот своего сына кнутом учит. Раз поучит, два, а там и ласковое слово впрок пойдет.
Он помолчал.
— На Киеве вся старина стоит. А как разорю его — отучу принимать князей по своей воле. Надолго отучу. Будет им крест-то каждому целовать. Пусть меня попросят а я подумаю, как быть… Плеть им нужна, плеть!..
— Киев — отец городов русских… — растерянно пробормотал Борис Жидиславич.
— Нынче главный город на Руси — мой Владимир. Отсюдова и я, и внуки, и правнуки мои править будут…
Сникший воевода не поднимал на Андрея глаз.
— Когда выступать? — спросил он покорно.
— Как только гонцы известят, что Мстислав отправил к новгородцам на княжение сына своего Романа.
— Недолго ждать…
— Знаю. А соберем мы рать великую. Тебя с сыном моим отправлю к ростовцам и суздальцам. Соединимся во Владимире. Пойдет с нами Глеб Юрьевич из Переяславля, и Роман из Смоленска, и Владимир Андреевич из Дорогобужа, и Рюрик Ростиславич из Овруча, и братья его — Давыд и Мстислав из Вышгорода, и северские князья Олег Святославич с братом Игорем и Всеволод Юрьевич, и Мстислав Ростиславич.
— Князь Святослав Всеволодович черниговский прислал гонца, — сказал Жидиславич.
— Помяни меня, воевода, этот князь из гнезда Гориславичей коварнее и мудрее всех, — ответил ему Андрей, разворачивая коня. — Не признает он Владимир над Киевом, оттого и идти с нами отказался… Но и другое помни, ежели живы будем, — и ему не устоять на гнилом срубе. Труха и есть труха. А после нашего похода Киеву во веки веков не подняться.
Князь нетерпеливо дернул удила. Агат тихонько и радостно заржал, вскинул голову к очистившемуся от облаков небу и легко помчался назад, к темному клязьминскому броду.
Хлеборост едва поспевал за ним. Седок на нем обмяк и отяжелел, и пущенный на свободу конь спешил поскорее перебраться через холодную речку с вязким илистым дном, вскарабкаться на крутую горку, сбегающую к Волжским воротам, чтобы мирно пристроиться у знакомой изгороди, где всегда так много сена и душистого сытного овса…
3
Всеволод. Он был тогда еще очень молод. Он рвался в бой, лез впереди всех на валы. Осажденные сбрасывали на него бревна и лили смолу, он уворачивался от ударов мечей и копий, и его красное корзно мелькало среди частокола на самой вершине, где рубились старые, отмеченные боевыми шрамами воины.
Ему казалось, что его видно со всех сторон, что все любуются им, и никакая рана ему не грозит, потому что он заговорен от сулиц и острых стрел.
В городе бушевали пожары. Обрушенные ворота пылали, по разбросанным доскам мчались одичавшие кони, волоча в стременах опрокинувшихся навзничь дружинников.
Женщины прятались за частоколами, загораживая собой громко плачущих ребятишек. Воины лезли в дома, выкидывали на улицу лари с одеждой, разбитые горшки, иконы, хватали драгоценности, набивали ими походные сумы, снова врывались в битву, падали под мечами, роняя только что награбленную добычу.
Пленных, несчастных и запуганных женщин, парней и мужиков, с измазанными сажей, посеченными лицами, сгоняли в толпы, окружали всадниками, гнали через объятые огнем улицы к воротам и дальше, к Почайне, где уже стояли, кренясь на волнах, огромные лодии. Людей ожидало рабство, лодейщики глумились над ними; воины, опьяненные кровью, били их по спинам сыромятными плетьми.
Всеволод был на Горе, последнем оплоте осажденных, не успевших поднять мосты, отчаянно защищающихся и уже обреченных на смерть.
И здесь, среди догорающих развалин когда-то красивых теремов, среди всеобщего разорения, он вдруг почувствовал сначала усталость, а потом и пустоту, — бросив в ножны ненужный больше меч, Всеволод смотрел испуганными глазами на все свершенное. Прилив мужества прошел, вокруг молодого князя уже не скрежетали мечи, не кричали, разинув рты в предсмертной тоске, люди. Единственный звук, который доходил до его сознания, был звук потрескивающего на огне сухого дерева. И еще была неслыханная тишина, от которой закладывало уши. Тишина, шедшая изнутри, из давних и скорбных воспоминаний, когда отец его Юрий вывел его однажды на пригорок, за которым лежало приютившее их на ночь село. Села не было, была спаленная огнем равнина, была река, и был берег, усеянный трупами.
Всеволод должен был увидеть и это сожженное село, и этих погибших людей, которые отказались от непосильной дани, убили княжеских тиунов и собирались скрыться в леса. Но княжеская дружина оказалась проворнее, беглецов согнали на берег реки, спалили деревню, а потом всех перерезали. Детей князь велел угнать в рабство и продать половцам.
Отец говорил, что непокорившиеся не верили в бога, что они поклонялись идолам и нагоняли мор на всех, кто нес им княжескую правду и православную веру.
То, страшное, давнее, детское, забылось с годами. И вот всплыло вновь.
Всеволод не принимал бессмысленной смерти. Он был молод, и ему не дано было понять, почему умирают люди, которым хочется жить. Он видел смерть в бою, и она не страшила его. Потому что в бою право на смерть у всех было равное.
…Покачнулся Всеволод, помертвел от гнева, когда рядом широкоплечий и сутулый лучник повалил на затоптанную траву под забором худенькую девочку с большими глазами на испуганном бледном лице. Чужая сила вырвала из ножен меч и опустила его на склоненный, открытый для удара затылок воя.
Падая, лучник запрокинул голову, и Всеволод увидел молодое лицо с нежной кожей и едва пробивающимся мягким пушком над верхней губой…
Вокруг догорали срубы. Подъехал Андрей, остановил рядом коня, положил Всеволоду руку на плечо.
— Устал, брате? — голос его был добр, рука была сильна и покоилась на Всеволодовом плече уверенно.
Юный лучник, скорчившись у забора, глядел на них остекляневшими глазами.
— Это я его убил, — сказал, отстраняясь, Всеволод. Андрей снял руку с плеча брата. Что насторожило его?.. «Нельзя верить этому волчонку», — подумал он с неприязнью. И впомнил о том, что Михалка не присоединился к войску, бравшему Киев, а ушел по поручению осажденного в крепости Мстислава с Черными Клобуками на помощь сыну его Роману в Новгород. Но Рюрик и Давыд послали за ним погоню и схватили благодаря измене Черных Клобуков неподалеку от Мозыря.
Сейчас Михалка содержался в своем шатре, наказывать его Боголюбский не спешил, но неожиданно подумал, что и младшего, Всеволода, неплохо бы взять под стражу. Надежды на братьев он не возлагал, да и всегда, еще раньше, ждал от них только измены.
Слеп был Боголюбский. Бил богу земные поклоны, а в бога, живущего в человеке, не верил. Дьявола искал в умах и душах близких. Создавая великое правой рукой, левой сам же его и рушил.
— Научила тебя мамка книжным премудростям, — сказал он с упреком Всеволоду. — А мудрость сия мертва.
— Зато жива другая.
— Другая? О чем ты говоришь?.. Разве мудрость не в том, чтобы властвовать?
Глаза Андрея возбужденно горели.
— И дед и прадед мой натерпелись от Киева. Натерпелись и терпели. Разве в этом мудрость?
— А в чем же?.. Вспомнишь меня, — впервые жестко сказал брату Всеволод, — проводят тебя из Киева с проклятием. Этого ли ты хотел?..
— Молчи! — оборвал его Андрей. — Проводят с честью. А после проклянут. Знаю. На милосердии хлебов не взрастишь. Ведай: взлелеешь былинку, пожнешь сорняк.
И с этими словами, не задерживаясь, пустил коня своего вскачь.
Долго пробирался Всеволод через пепелища, смутно было у него на душе, и не было слез, облегчающих сердце.
Ночью являлся ему лучник с зияющей раной на затылке, говорил что-то беззвучно шевелящимся ртом, загадочно улыбался и манил за собой.
Всеволод вскидывался на лежанке, со страхом, как в детстве, таращился в темноту.
За полночь прошла гроза. К утру Всеволод забылся, и снились ему на ранней зорьке тихие, ласковые сны…
Глава первая
1
двинешься ты за Влену — первая стрела тебе. Бог тебя уберег. Да я не прощу. Ступай-ка ты, княже, за Владимирские пределы. Ни честью я тебя не награжу, ни казной. Ищи опоры в тех, кому на черной неблагодарности ко мне крест целовал.
Побледнел Юрий, вспомнил судьбу сидящего в оковах Святославова сына Глеба, вспомнил рязанского князя, погибшего во Всеволодовом порубе, Ярополка Ростиславича и — понял: не самый худой для него конец уйти с миром из Владимира, могло быть и хуже. Поклонился князю, поблагодарил его за доброту и попросил дать ему день, чтобы проститься с друзьями, и еще просил — отпустить с ним дружину.
— Дружину я не держу, — сказал Всеволод, — и людей твоих неволить не стану. Ежели кто захочет ехать с тобой, пусть едет. Ищите счастья на стороне. Прощай, княже.
— Прощай, — сказал Юрий и вышел.
Беда никогда не приходит одна. И родину и друзей своих потерял молодой князь. Растаяла и его дружина. Были вои один к одному. С ними и на булгар ходил, им и жизнь свою вверял и каждого берег, как родного сына. Да и его любили дружинники, знал это князь. Но, как только сказал им про то, что путь их лежит в степь, что родимого хлебушка им на чужбине не отведать, заговорили испытанные в сече вои:
— А семьи наши, княже?
— А жены?
— Нешто в половецких становищах будем есть жареную конину да пить кобылье молоко?
Некоторые еще надеялись на мягкосердечье Всеволода. Советовали Юрию:
— Сломил бы ты свою гордыню, княже, поклонился дяде, поклялся служить ему верой и правдой. А мы бы уж от тебя ни на шаг.
Разве могли они, смелые и бесхитростные люди, догадаться о его коварстве? Разве могли они поверить, что у него, водившего сотню против тысячи не выдержало сердце сладкого соблазна, что не зарился он на добычу, а на чужую славу позарился? И что за это ему — вечное бесчестье и вечный позор.
Уходили от него вои — кто ночью, тайком; кто днем, низко кланяясь и прося прощения. Думал, что и Неша с Зорей подадутся в деревни, где дарованы им угодья, но они остались, хоть и видел князь, как тяжело расставаться им с землей.
Труднее всех было Зоре. Знал Юрий о том, что осталась у него в Поречье молодая жена. Даже сам уговаривал:
— Оставайся. Обиды на тебя не затаю.
Но Зоря отвечал:
— Спас ты меня, княже, от смерти. Отплачу ли тебе за добро злом? Позволь только на день съездить в Поречье, в последний разок взглянуть на свою Малку.
Как было не отпустить его князю. Отпуская, тайно думал: нет, не вернется Зоря. Хоть и храбрый он дружинник, хоть и верой служил до самого конца, а не уйти ему от молодой жены.
Но Зоря вернулся под утро, весь не свой и растревоженный, молча лег возле костра, подложив под себя попону. Ни слова не сказал ему князь. Понимал, словами сердца не успокоишь, а время пройдет — залечит раны. Ведь и он сам навсегда потерял свою Досаду.
А ведь еще надеялся, что все переборет любовь, что уйдет она с ним, пробрался ночью к ней в терем, перепугал до полусмерти, умолял простить, хоть и знал, что не простит, хоть и знал, что прощенья ему нет и быть не может.
Отталкивая его от себя, Досада шептала:
— Уйди, услышит отец.
Говорила:
— Не люб ты мне.
Не верил он ни единому ее слову.
— Не обманывай себя, Досадушка, — уговаривал он ее. — Разве так скоро все забылось?
— Забылось, милый.
А губы у самой синие, а глаза пустые.
— И ночи за Лыбедью?
— Забылись, милый.
— А вечер на лихом скакуне?
— И этого не помню, милый.
— Да что же помнишь ты, Досадушка?
— Холодную воду помню, — говорила она, будто вещала, мертвея. — Черный омут помню… Уйди.
— Все меня бросили. Бросишь ли и ты меня?
Последнее отчаяние было в его словах. Схватил он ее в объятия, силой хотел увезти из терема, но в усадьбе поднялся шум. Едва выбрался Юрий за ограду.
А утром ускакал он с поредевшей дружиной на Золотые ворота, ускакал на Москву, а оттуда на Рязань, но и рязанские князья, с которыми не раз он делил и тепло походного костра и воду в сулее, велели ему не задерживаться в городе.
— Ушел брат наш Роман в степь, уходи и ты. Со Всеволодом вражду затевать мы не хотим. Изгнал он тебя. Не нужен ты и нам.
Осерчал Юрий, пожег две деревеньки под Рязанью, едва ноги унес от преследования и тогда только понял, что и в Чернигове его не примут, не примет его и князь Игорь в Новгороде-Северском, а если кто и примет, то один только хан Кончак.
Вот куда вывела Юрия кривая дорожка измены. Не думал, не гадал он, сражаясь против булгар, спасая русских людей от плена, что придет на поклон к заклятому врагу, что встанет на колени перед шатром свирепого хана и будет ждать с непокрытой головой, когда выйдет Кончак, подымет его, велит войти с собой на мягкий войлок и, хлопнув в ладоши, прикажет слугам принести мяса и кумыса, чтобы накормить и напоить желанного гостя.
Устал Юрий с дороги, уснул в шатре Кончака, и виделись ему во сне спокойные русские реки, сосны на косогорах, деревни и женщины в пестрых сарафанах, несущие на перекинутых через плечи коромыслах наполненные студеной родниковой водой ведра. Приснится ему девушка с голубыми глазами и грустной улыбкой, давшая ему напиться, старушка с клюкой и беззубым шамкающим ртом, изрыгающая проклятия. А потом приснится Владимир в золоте куполов, избы и огороды, раскинувшиеся на спуске к Клязьме, приснится, как он купает в Клязьме первого подаренного отцом коня, и сам отец, стоящий на крыльце своего боголюбовского дворца, в дворе которого старательные мужики бьют зубилами по белому податливому камню. Увидится красавица церковь на излучине Нерли, а потом все застит кровавое зарево — и ворвется в уши тревожный и призывный перезвон бил и гул толпы. Увидит он искаженное скорбью лицо Кузьмы Киянина, поднявшего на окровавленных руках тело убитого отца, протопопа Микулицу, смиряющего крестом озверевшую толпу, идущую из Владимира в Боголюбово…
Проснется Юрий на рассвете внезапно, потому что ему вдруг привидится, будто это он, а не Кузьма Киянин, держит на руках истерзанное тело отца, что у отца незнакомое лицо, а когда вглядится в него, узнает в нем молодого Всеволода, и толпа, собравшаяся на площади, будет кричать Юрию; «Убийца!»
У шатра, прислонив головы к осклепищам копий, дремали два половца, невдалеке паслись лошади, дымились угасающие костры; у одного из костров сидела старушка, опустив голову на согнутые колени.
Юрий подошел к ней, сел рядом и пошевелил палкой в подернутых пеплом углях. Старуха вздрогнула, устремив на него испуганные глаза. Князь хотел заговорить с ней, ему еще было страшно после недавнего сна, но старуха все равно не смогла бы понять его, потому что он не знал ни слова на половецком.
Однако что-то близкое почудилось ему в ее взгляде, устремленном на затухающий огонь.
Она улыбнулась беззубым ртом, и вдруг из этой беззубой смрадной дыры раздались слова, сказанные на родном его языке.
Он испугался, что старуха узнает его. Она узнала. Она протягивала к нему костлявые руки, проклинала его и весь его род, и мать, родившую его на позор и предательство.
Юрий убежал в степь, упал на землю, катался, по мокрой траве, плакал и клялся утром собрать дружину и объявить воям, что решил вернуться на Русь, где лучше жить и умереть изгоем, чем быть любимым гостем у Кончака.
На дне иссушенной знойными ветрами балки его отыскал Зоря. Он сидел над князем, долго уговаривал его, а потом кликнул старуху.
Теперь, во мраке ночи, поглотившей чужую и безрадостную степь, она уже не казалась такой страшной, как у подернутого пеплом, умирающего костра. Сидя на коленях перед князем, старуха покачивалась из стороны в сторону и монотонным речитативом, похожим на песню, сказывала ему о своей жизни.
Подле самого Донца в небольшом селе выросла она в семье холопа, простого ратая, и с раннего детства помнила только пашню, старую избу с перекошенными углами, да огороды с капустными грядками, в которых копалась, едва только научилась ходить. Большая была у них семья, много было детей, да всех прибирала смерть еще в младенческие годы. Ее же бог миловал, пережила она и черный мор, и голод, а когда подросла, пришли в их края половцы.
— Привел их черниговский князь. И не было им числа. Прошли они по полям, не оставив ни травинки, сожгли деревню, мужиков изрубили, женщин постарше — тоже, а молодых увели в полон.
Не впервые уж слышал Юрий скорбные повести о половецкой неволе, много несчастья принесли кочевники Русской земле — кровью обливались южные степи, слезами вдов и матерей орошались скудные всходы.
Слушая рассказ старухи, Зоря дивился:
— На что уж булгары злы, а половцы хуже бешеной собаки… Сколько же годов тебе, баушка?
— Да какая же я тебе баушка, милок? — отвечала она, утирая концом платка слезящиеся глаза. — Моложе я тебя, добрый молодец, и состарили меня не годы, а беда.
Не поверил ей Зоря:
— Да нешто беда оставляет такие зарубки?
— А вот послушай-ка ты меня, тогда и поймешь, — отвечала старуха. — Молодая-то была я ладная да красивая. Мужики за меня на селе сватались, не раз, бывало, выходили на кулачки. А любила я только одного — гончара Вахоту. Совсем уж сосватал он меня, уж про свадьбу все разговоры вели, свадьбе бы вскорости и быть, да нагрянули поганые. Схватили меня, потащили на огороды, хотели изнасильничать, а Вахота о ту пору в ложбинке прятался. Ему бы так и сидеть, да где там!.. Как увидел он, что волокут меня трое половцев, выскочил из ложбинки с топором, одного-то сразу же порушил, а двое других, знать, ловчее его оказались. Скрутили, привязали за ноги да за руки к двум березкам да так его, сердечного, на части и разорвали…
— Так и разорвали?! — вскинулся Зоря.
— Своими глазоньками видела. Да еще потешались. Да еще баб согнали, чтобы глядели…
Нелегко рассказывать ей о пережитом, горькая волна подымалась черной памятью. Все сберегла, хоть и терзали ее в неволе, хоть и били за то, что родной речи не позабыла, что непокорничала, что бежать хотела, хоть и не бежала.
— Не одна я у них из наших. Повезет тебя Кончак в загон, будет хвастаться рабынями. Ты — князь, тебя он не тронет, — говорила она с тихим укором.
Бледнели звезды на светлеющем небе, от степи тянул полынный ветерок. Далеко в стойбище прокричала ослица.
— Пора уж мне, — сказала старуха и встала. — А то вчерась гляжу: едут вроде наши. Отколь, думаю, взялись? Нешто побили поганых?
И, помолчав, добавила:
— Несчастные вы… Что же родину-то бросили? Какая кручинушка вас сюда завела?
— Беда за всеми по пятам ходит, — сказал Юрий.
Зоря еще больше разжалобил князя.
— О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет, — сказал он, провожая удаляющуюся старуху взглядом.
Юрий с горечью подумал, что время идет, не день минует и не два, и разбредется его дружина, останется он один как перст. И Зоря уйдет, вон какая у него в глазах тоска. Разве такого богатыря в половецком безделье удержишь?
Зоря будто читал его мысли:
— Потянет нас Кончак за собой, князь. Нахлебники ему не нужны. Поведет он нас со своими половцами али на Киев, али на Переяславль. Что же мы — русский против русского за половецкого идола меч подымем?
— О чем ты говоришь? — удивился Юрий, холодея от его слов.
Зоря промолчал, устремив взгляд на расстилавшуюся над степью рассветную полосу.
Первая ночь в чужедалье. Тряхнув отяжелевшей головой, Юрий встал; переступая, словно по сыпучему песку, наклонившись, зашагал к кочевью.
2
— Князю Юрию Андреевичу низкий поклон, — сказал, входя в шатер, крупный детина с разноцветными глазами и шрамами на лице. Правого пол-уха нет, в левом болтается серьга.
Все еще лежа и не скинув с себя тяжелый сон, князь приподнялся на локте.
— А ты кто таков? — спросил он без удивления, потому как удивляться в степи уже успел разучиться.
— Житобуд я, бывший Святославов тысяцкий. Как же не признал, отец мой родной?
— Теперь признал, — кивнул Юрий; вставая, добавил: — Щедро наградил тебя за собачью твою службу Святослав. Ныне Кончаку зад лижешь?
Житобуд побледнел, дрогнула в ухе золотая серьга, голубой глаз потемнел, зеленый налился кровью.
— Не затем послан я, князь, чтобы ссору заводить. Кличет тебя к себе хан.
— Скажи, буду, — сухо ответил Юрий и подождал, пока Житобуд выйдет из шатра.
«Вона как всех нас у врагов наших судьба свела. И Роман где-то рыщет бездольным волком по степи, — подумал он, натягивая на себя кафтан. — Хан нетерпелив. Прав Зоря: не сегодня, так завтра натравит нас на своих же собратьев. А сам, как шакал, пойдет по пятам — подбирать добычу. Кус мяса себе — кость нам».
Перепоясав кафтан тканным золотыми нитями поясом, нацепив меч, подаренный еще отцом — широкий, с крестообразной ручкой, украшенной зелеными и голубыми камешками, он вышел на улицу: да полно, улицы-то здесь отродясь не бывало. Не было ни привычных частоколов, ни изб, ни огородов за плетнями, ни лесов, ни перелесков — была только ровная степь да раскинутые по большому ее пространству войлочные юрты половцев. Среди юрт, задрав оглобли, на которых сушилось белье, стояли повозки с огромными колесами, между повозок сновали грязные ребятишки.
Зоря уже поджидал князя, улыбаясь, поклонился ему.
— Как спалось, княже? — встретил он его обычным вопросом.
— Спасибо на добром слове, Зоря, — ответил князь.
Дружина была в сборе. Когда еще только прибыли к половцам, Юрий дал Неше наказ, чтобы вои не ленились, чтобы и на чужбине помнили про свое ратное мастерство. Вот и сейчас они скакали по полю, размахивая мечами, стреляли из луков в расставленные неподалеку от юрт красные щиты. Половецкие конники, наблюдавшие издалека за их упражнениями, улыбались и делали замечания на своем гортанном языке. Русские вои вызывали их на единоборство:
— Неча рты разевать. Чай, нас не переплюнете!
— Эк со стороны-то все складно получается.
— Бой отвагу любит.
Юрий поморщился, обращаясь к Неше, недовольно сказал:
— Зря задираются вои, не у себя дома.
— Пусть знают наших! — широко улыбнулся Неша.
— Ишшо в драку полезут.
— На кулачки-то?! — удивился Неша.
— Кабы так, — отмахнулся от него Юрий, — Ты вот что, ты скажи-ко воям, чтобы ни-ни. Пущай в щиты мечут стрелы, а в драку не вступать…
— Не дети малые.
— Хуже детей, — оборвал его Юрий, — Нынче у всех здесь вот наболело, — он показал рукой на грудь. — Одно слово — чужбина.
— Да не казнись ты, князь, — успокоил его Неша. — Не по своей воле подзадержались мы у половцев. Образумится Всеволод — воротит назад. Жди со дня на день гонца.
— Ишь ты прыткий какой, — прищурился Юрий. — Плохо дядьку моего знаешь.
— Тебе виднее, — неохотно согласился Неша. — Дозволь идти к воям?
В голосе его послышалась обида.
— Ступай, — разрешил князь.
Придерживая рукой задевающий за ногу меч, широко шагая, Юрий поднялся на изголовье холма, к ханскому шатру. Два свирепого вида половца у входа перегородили было ему дорогу, но из шатра послышался повелительный голос, и они тотчас же расступились.
Юрий откинул полог, согнулся и вошел. Со света в шатре было сумрачно, князь не сразу разглядел сидящего на ковре хана.
По левую сторону от него стоял Житобуд, по правую, утопая в подушках, возлежала женщина с черным лицом. Белки глаз ее, казалось, светились в темноте, из-за припухлых, чуть вывернутых губ ослепляли пронзительной белизной ровные зубы.
Юрий, задержавшись у входа, слегка поклонился хану, Кончак кивнул ему и выжидательно посмотрел на Житобуда.
— Хан приветствует тебя, — сказал, подобострастно улыбаясь, Житобуд. — И говорит, что рад видеть у себя сына прославленного Андрея Боголюбского.
— Я тоже рад видеть хана, — сказал Юрий. — Мы благодарны ему за оказанное нам гостеприимство.
Хан пробормотал что-то, снова провел пальцами по бороде и указал Юрию на место рядом с собой. Житобуд поспешно отступил в сторону, и князь сел на ковер.
Кончак хлопнул в ладоши, задний полог шатра колыхнулся, и из-за него тихо появилась старая женщина с подносом, на котором стояли две чаши и высокий кувшин. Поставив поднос на ковер, женщина поклонилась в отдельности хану и гостю и так же бесшумно и быстро удалилась.
Попивая из широких чаш терпкое вино, князь и хан вели через переводчика неторопливую беседу.
Кончак выспрашивал о Святославе, о Всеволоде, Юрий пытался выведать замыслы хана. Оставаться у половцев он не хотел.
Кончак соблазнял его богатой добычей, отдавал тысячу лучших конников, уговаривая идти на Переяславль.
— Ты обижен, — говорил хан. — Если ты настоящий воин, тебе надлежит отомстить за несправедливость. Ну скажи, кто отдаст тебе свой удел?.. Или ваши князья такие добрые?
— Не торопи меня, хан, — останавливал его Юрий. — Не огляделся я в половецкой степи. Да и вои мои не могут еще свыкнуться с жизнью вдали от родины.
— Да велика ли беда?! — удивлялся Кончак, блаженно потягивая из чаши вино. — Аль не по вкусу им наши девушки.
— Девушки ваши хороши, — отвечал Юрий.
— Аль оставили они на Руси палаты-хоромы?
— И того у них не было, — соглашался с ним молодой князь.
— И скотниц не было набитых золотом? — усмехнулся Кончак.
— О каких скотницах ты говоришь!
— Тогда не понимаю тебя, князь, — развел Кончак руками.
Юрий перевел дыхание. Уж не издевается ли над ним половецкий хан? Нешто и самому неведомо, каково дышится на чужбине? На какие леса променял бы он свои благоухающие степи?..
— Что ты знаешь про степи, чужак? — сказал половец. — Как ты смеешь сравнивать их с вашей угрюмой родиной, где в уреме пасутся лешие, а в болотах квакают лягушки?
Юрий вспыхнул, но тут же подавил гнев. Кончак уловил скользнувшую по его лицу неуверенность и самодовольно улыбнулся. Князь молод и горяч. Им правит не ум, а чувство. И этот мальчик мечтал сесть на владимирский стол!..
Тихим, вкрадчивым голосом он принялся рассказывать ему о привольном половецком житье; убаюкивая себя, покачивался на ковре, держа в полусогнутой руке наполненную вином чашу. Веки тяжелели, речь становилась все сбивчивее и бессвязнее. Юрий смотрел в его покрытое желтыми пятнами, безжизненное, как старая деревянная маска, лицо, и ему казалось, что это неправда, что он спит и видит дурной и непонятный сон, что вот сейчас, за краем этого шатра, прокричат петухи, тяжелый войлок раздвинется, и распахнется над ним бездонная небесная ширь с косяком неторопливо летящих на юг журавлей. С бугра, за тонкими и белыми березками, скользнет к тихо текущей вдали реке жесткая песчаная тропка, совьется на склоне прихотливым узелком и упрется в пахнущий мокрыми досками причал, у которого в праздничном наряде парусов стоят приплывшие издалека купеческие лодии… Видел ли это хан? Открылось ли хоть раз его сердце этой спокойной, торжественной красоте?.. Что таится за полуприкрытыми веками Кончака? Какой коварный замысел свивает себе гнездо в его обритой до синевы, круглой, как шар, голове?!
— О чем думаешь, князь? — вдруг встрепенулся хан.
Юрий вздрогнул, как мальчишка, пойманный на недозволенном. Глаза Кончака смотрели в упор.
— Слушаю тебя, хан, — через силу улыбаясь, сказал князь.
— Твои мысли далеко отсюда…
Юрий не ответил. До сих пор молчавший Житобуд пошевелился и кашлянул. Кончак недовольно покосился на него.
— Выйди, — приказал он.
Житобуд почтительно поклонился и вышел. Хан сказал:
— Бойся этого человека, князь.
— Кто предал однажды, предаст и во второй раз, — медленно проговорил Юрий.
Кончак усмехнулся, отставил на ковер чашу. Теперь он смотрел на молодого князя с любопытством. Юрий выдержал его взгляд, и это понравилось Кончаку. Он засмеялся:
— Вижу, тебе пришлась по душе моя наложница, князь.
— Смею ли я… — пробормотал Юрий и опустил глаза. — Но чудно мне видеть такую женщину, хан откуда она?
— Из очень далекой страны, — сказал Кончак. — Все люди там черные. И женщины тоже.
Он протянул руку и ущипнул девушку за щеку. Она гордо отстранилась, но ни один мускул не дрогнул на ее лице. Смеясь, Кончак пояснил:
— Ее зовут Болукой. У нее мягкая и упругая кожа. Или ты не веришь мне, князь?
Юрий с любопытством разглядывал девушку. Хан разрешил:
— Дотронься до нее.
Юрий покачал головой.
— Или ты боишься? — вскинул бровь Кончак.
— Ты сказал, что она твоя наложница.
Болука не спускала с молодого князя глаз.
— Видишь, ей это даже приятно, — кивнул Кончак.
Взгляды Юрия и девушки встретились. Что они прочли в них?.. Кончак нахмурился. Ему не понравилось, что рука молодого князя задержалась на щеке Болуки.
— Ступай вон, — приказал он девушке.
Болука проворно встала и попятилась к выходу. Кончак выдавил нервный смешок.
3
Светлая полоска неба на западе отливала по закраинам зеленью бронзы, а на восточной стороне черный бархат уже прожгли первые звезды. В степи слышалось пофыркивание пасущихся коней.
Зоря сидел на теплом камне, подперев голову рукой. Ласковый ветерок омывал его лицо. Дружинник смотрел вдаль, и мысли его возвращались к тому дню, когда Юрьева дружина покидала Владимир. День был пасмурный, по пустым улицам города упругий ветер рябил собравшиеся после ночного дождя просторные лужи. Юрий ехал впереди, кутаясь в синее корзно, дружинники, опустив головы, следовали за ним. Кто-то из ребятишек, игравших на валу, запустил в них комом грязи, два боголюбовских пешца, хихикнув, проворно затворили за ними жалобно скрипнувшие ворота. Этот скрип и до сих пор стоял в ушах Зори — он как бы отрезал прошлое от настоящего и будущего.
На Поклонной горе Юрий придержал коня. Дружина остановилась, все лица враз повернулись: отсюда Владимир был виден особенно хорошо. Люди молча смотрели на город, иные украдкой смахивали слезы.
— Еще можно воротиться, — сказал Юрий, не глядя на дружинников. Ветер срывал с его плеч корзно; князь хмурился и, казалось, едва сдерживал рыдания. Дружинники молчали.
Кто осмелится предать князя? Не с ним ли они делили тяготы и радости походов, не с ним ли рубились плечо к плечу с врагами? Не их ли он щедро награждал богатой добычей?! Нет, они не уйдут от Юрия, разделят с ним его участь до конца.
Но кто-то тронул рядом поводья, и вперед выехал молодой дружинник Малюня, родом из-под Боголюбова. Бледное лицо его перекосило волнение; приблизившись к Юрию, он низко поклонился ему, потом, так же низко, поклонился дружине.
Никто не сказал ни слова, но в эту минуту Зоря позавидовал ему. Юрий снял с себя крест и повесил его на шею Малюне.
— Спасибо тебе за службу, Малюня, — сказал он.
— А тебе, князь, за добрые слова.
Дружинники долго смотрели на его одиноко удаляющуюся фигуру; потом хлынул дождь, князь Юрий развернул коня и пустил его рысью по раскисшей дороге…
Сидя на камне среди бескрайней степи, вспомнил Зоря и свою Малку, вспомнил Поречье, Клязьму, избу проворного Надея — и загрустил пуще прежнего. За растревоженной памятью да за невеселыми думами не заметил он, как подошел к нему Неша и опустился рядом на пожухлую траву.
Кашлянул Неша, глухо сказал:
— Все на север глядишь, Зоря.
— Все гляжу, — узнав его голос и не оборачиваясь, ответил дружинник.
— Долог путь к родному порогу…
— Нет нам назад пути.
— Чужая сторона — дремучий бор.
— Своя земля и в горсти мила.
Неша понизил голос:
— От князя я…
Зоря шевельнулся на камне.
— Хороши ли вести?
Неша перешел на шепот:
— Нынче вернулся Юрий от хана мрачнее тучи.
— Аль беда какая? — насторожился Зоря.
— Хуже и не выдумаешь. Сказывает князь: бежать надо.
— Сами к половцам шли, — усмехнулся Зоря.
— Шли, да не в гости.
— То верно. Кончаку пальца в рот не клади.
— За хлеб да ночлег платить надо.
— Головой…
— Нашей же, русской кровушкой.
— Нешто в набег собирается? — встрепенулся Зоря.
— И наша дружина в голове половецкого войска — на лихих конях. Сожжем Переяславль, пойдем на Киев…
— Молчи! — вскочил Зоря, угрожающе потянувшись к мечу. Неша не пошевелился.
— Сядь ты, — охладил он нетерпеливого дружинника. Зоря неохотно опустился на камень. — Слушай, что князь повелел передать. Завтра Кончак снимает кочевье и ведет его на Дон. Мешкать нам более нельзя — в сумятице-то самое время скрыться…
— Так князь и порешил?
— Не свои, его слова передаю.
Сердце Зори наполнилось торжеством. Хорошую весть принес ему Неша.
— А сокол наш князь!
Неша засмеялся в темноте.
— Только нынче и понял?
— Затосковал я, — признался Зоря. — Как из Владимира шли, думал: ненадолго. А после Рязани понял: назад нам дороги нет… Куда ж нынче поведет нас князь?
— Знамо, не к Всеволоду…
Неша не договаривал, и Зоря сразу почувствовал это. Значит, Малку ему так и не увидать?
— Хитришь, Неша, — сказал он упавшим голосом.
— Да что хитрить-то?
— Чует мое сердце: не на Русь возвращаемся мы с князем.
— А кто примет нас на Руси?
Смыло недавнюю радость, пуще прежнего загрустил Зоря: а коли не на Русь, то куда поведет их Юрий?
— Слышал я, будто задумал он податься в Царьград к базилевсу, — сказал Неша. — Но только верно ли это, не знаю.
Зоря молчал. Снова вспомнил он дождливое утро, снова, будто только что, проскрипели в его ушах створы ворот. Увидел он город с высокой Поклонной горы, зябко закутавшегося в корзно князя, смущенного Малюню, его удаляющуюся за пеленой дождя фигуру.
Неша положил на плечо Зоре тяжелую руку.
— Аль забыл наше доброе братство?..
В степи фыркали кони. Закраина неба на западе потемнела, над степью выполз двурогий месяц. Чужая земля. Чужое небо.
Зоря вскинул голову к звездам, закрыл глаза. И протянулись по его щекам две серебристые ниточки. Или это просто почудилось Неше?
4
— Ай, нехорошо, князь. Ай, как нехорошо! — говорил Кончак, изображая огорчение.
Князь Юрий, потупясь, молчал.
— Зачем обманывать старого доброго хана? — продолжал допекать его Кончак. — Зачем бежать? Зачем ночью?.. Или я не друг тебе? Или я принял тебя неласково? Или мои половцы тебя чем обидели? Скажи, кто обидел, — казнить буду. Нехорошо, князь. Ай, как нехорошо!..
Воины плотной толпой стояли позади Юрия. Подыгрывая хану, половцы скалили зубы.
— Не хочешь быть моим дорогим гостем, ступай, князь, на все стороны. Не задержу. Коней дам. Мяса дам. Рабынь дам. Ступай, — издевался Кончак.
Донесли ему о побеге. Житобуд донес. Спрятался он в степи, подслушал разговор Неши с Зорей. Обрадовал хана. Получил за верную службу золотой перстень. Лизнул Кончаку руку.
Подстерегли половцы дружинников, навалились на привале, когда уж думали те, что ушли от погони, когда уж зажгли костры и легли отдохнуть.
Привели связанных в стойбище, выставили на посмешище старухам и ребятишкам.
— Ай-яй-яй, — смеялся Кончак.
— Ай-яй-яй, — смеялись старухи, корча страшные рожи. Ребятишки кувыркались и дергали воев за полы кафтанов.
У Зори синела шишка под глазом, у Неши лиловел поперек лица след от половецкой плети.
Все было на их веку, повидали они много крови, а такого позора еще не было.
— Твоя воля, хан, — сказал Юрий, подняв голову и глядя Кончаку в глаза. — Нынче мы не гости твои, а пленники. Вели казнить или миловать.
— Казнить? — удивился Кончак. — Какая мне от этого польза?
— Тогда отпусти с миром.
Задумался Кончак. Свел брови на переносье, закрыл тяжелыми веками глаза. Вволю потешился он над Юрием — давно так не смеялся хан. А пользы от молодого князя и впрямь никакой. Разве что отпустить? Дорога на Русь ему заказана. Не примут его сородичи. Не нужен князь Юрий Руси. И степи он не нужен. Зачем степи такой молодой и неудачливый князь?
Но Житобуд шептал ему на ухо:
— Стерегись Юрия. Это он только с виду такой. Помяни мое слово: вырастет из этого птенца могучий орел.
Отмахнулся от него Кончак:
— Все уши мне продул. Велю-ка и тебя прогнать вместе с князем. Нынче ты его предал, а завтра предашь меня.
И сделал, как сказал: прогнал Юрия с дружинниками, а вместе с ними Житобуда. Ползал Житобуд у хана в ногах, но прощения себе не вымолил.
Выгнали его из стойбища в степь. Метнулся Житобуд к половцам — наткнулся на каленые стрелы, метнулся к своим — блеснули в глаза ему обнаженные мечи. Сел он в пыль посреди степи, озираясь как зверь. И пронзила его половецкая стрела, а Неша отсек ему голову мечом. С тем и забыли все о Житобуде.
Заутра была уже Юрьева дружина на пути в Тмутаракань. Невесело ехали по степи дружинники, песен не пели; невесел был и сам князь. Не на родину возвращались они, ехали в новое изгнание, а что ждало их впереди?..
Много дней прошло, прежде чем добрались они до Сурожского моря. Еще немало времени понадобилось им, чтобы выйти к Тмутаракани. А за Тмутараканью синело Русское море, а за Русским морем был Царьград.
В богатом и шумном торговом городе никто не обратил на них внимания. Много изгнанников из Руси прошло через эти ворота. Немногие вернулись назад.
Полмесяца торговался Юрий с купцами: никто не хотел брать его дружину на свою лодию. Просили за услугу золото, а золото осталось в половецком стойбище; просили рабов, но Юрий и сам бежал из рабства.
Пообтрепалась, зароптала дружина, и Юрий в отчаянии доверился случайному кормчему, встреченному на купецком подворье. Подбил его кормчий похитить ночью лодию своего хозяина — торгового гостя грека Колокира. Не сразу согласился на такое Юрий, но когда стали исчезать в городе его вои, ударили с кормчим по рукам.
Темной ночью пробрались дружинники к пристани, перебили стражу, подняли паруса и тронулись уж в открытое море, как вдруг вспомнил Неша о друге своем Зоре — не было его на лодии. Сказал о том Юрию. Князь выслушал его, но не прогневался.
— Отпустил я Зорю, — ответил он. — Истосковался человек по родине, а неволить я никого не хочу.
Пожалел Неша, что и он не оказался на месте Зори, но теперь возвращаться было уже поздно. Лодия вышла за косу, подул свежак, прыткая волна подхватила и понесла их в подернутый ночным сумраком морской простор.
5
На торговище в Тмутаракани Зоря продал заезжему алану коня и сбрую. Обрадовал алана, задешево отдал. Но конь все равно был ему теперь ни к чему: возвращаться на родину через половецкие степи он не отважился. Один раз ушел от Кончака, второй раз не уйти. И вернут его тем же путем в Тмутаракань, но уж не вольным человеком, не дружинником князя Юрия, а рабом.
Другое задумал Зоря. Прослышал он на подворье от ловких людей, будто ходят отсюда лодии с картлийскими купцами в Олешье и набирают купцы на свои лодии гребцов. Силой Зорю бог не обидел, и, уж коли справлялся он с мечом, с веслом как-нибудь справится.
Искать подходящего случая пришлось недолго. Всё те же ловкие людишки помогли ему — заплатил он им за услугу золотой монетой, а они свели его с веселым черноглазым Дато.
Приглянулся купцу молодой русский дружинник. Взгляд открытый, косая сажень в плечах. Да и сам Дато был не из слабаков. А сильный сильного видит издалека. И еще опечалила его история, поведанная Зорей, — о князе Юрии и о его изгнании из Владимира.
Днем Зоря помогал Дато на торговище, вечером они сидели вдвоем за чарой старого грузинского вина, и купец рассказывал о своей родине, о ее природе, о смелых и трудолюбивых людях, населяющих цветущую долину, раскинувшуюся за высоким Кавказским хребтом.
Обильно полита не только потом, но и кровью благословенная грузинская земля. Топтали ее полчища завоевателей из Аравии, Ирана и Турции. Но с приходом к власти Давида Строителя разрозненные земли Грузии стали постепенно объединяться. Царь приблизил к себе верных служилых людей — мсахури, старая знать взроптала, особенно недовольны были новыми порядками князья Орбелиани. И вот, когда на престол взошел сын царя Дэметрэ Георгий, они обласкали племянника его Демну. Демна был молод, и Орбелиани воспитали его в ненависти к Георгию. Князьям было выгодно сделать Демну царем: ведь тогда он стал бы в их руках послушным орудием, при помощи которого они устранили бы мсахури и снова зажили по-прежнему — каждый сам по себе, каждый в своей вотчине. Не думали князья о родной земле, а пеклись они только о собственной выгоде. Достигнув совершеннолетия, Демна предъявил права на престол. Однако Георгий разбил восставших и жестоко их покарал. Погибли Орбелиани, погиб и Демна…
Слушая Дато, кивал головой Зоря:
— Выходит, не только у нас, по всей земле идет смута.
— Жизнь как бурная река, — говорил Дато. — А пророй берега, разведи поток на тысячи мелких ручейков — и не станет реки. Жаркое солнце высушит ручейки.
— Ручейки утолят жажду.
— У князей ненасытное брюхо. Выпьют они всю воду и засушат поля. Кто тогда останется жить в опаленной зноем пустыне?.. Умный садовник хранит воду про запас. Он знает — река поит и кормит его. Мсахури никогда не выступит против царя.
Дато выпил чару и наполнил ее снова. Щеки его порозовели, глаза увлажнились. Он нашел благодарного слушателя и спешил высказаться до конца. В Тмутаракани Дато некого было опасаться, а с русским путь ему только до Олешья.
— Да вот в чем беда, — переходя на полушепот, продолжал он. — Не молод уже Георгий, а сыном бог его не наградил.
— Да как же так?! — удивился Зоря.
— Дочь у него. Красавица из красавиц. Тамарой ее зовут.
— Дочь — это тоже хорошо — кивнул Зоря.
Дато поцокал языком.
— Непонятлив ты, — сказал он с укором. — А если помрет Георгий?
— Нешто сам торопится?
— Не молод уже. Всему на земле свой срок. Вот и стали снова радоваться князья: нет, мол, у Георгия сына, а как призовет его господь, изберем царем кого-нибудь, кто попокладистее…
Дато помолчал, отпил из чары глоток. Дружинник осушил свою чару до дна. Хорошее вино в Картли.
— Ты к нам приезжай, я тебе такое покажу, — похвастался польщенный Дато.
— А и наши меды не хуже ваших вин, — вставил Зоря.
— Пивал я и ваши меды, пивал и ромейские вина, — сказал Дато и подпер голову кулаком. Казалось, он совсем забыл про свой рассказ, как вдруг встрепенулся и трезво продолжал:
— Радовались князья. Собираясь на пирах, поносили Георгия, ждали его конца. Ни патриарх Микель ни архиепископ Василий, ни эристав над эриставами могущественный Абуласан не могли предвидеть того, что задумал Георгий. Откуда им было знать о его тайных помыслах?!
Зоря умел слушать. И это нравилось Дато. У себя, в Картли, он старался помалкивать. Болтать в Картли было опасно, но в Тмутаракани никто не подслушивал их, и стены были холодны и немы. На столе догорала свеча, кувшин еще был достаточно тяжел, и приятный шум прибоя, доносившийся издалека, располагал к беседе.
— Слушай и запоминай, — покачивая перед собой указательным пальцем, говорил Дато, — царь Георгий короновал свою дочь Тамару. Такого в Картли еще никогда не бывало!.. И Абуласан, этот длинноухий осел, чуть не проглотил от удивления свой язык…
Картлиец подмигнул Зоре, лихо, одним глотком, выпил остатки вина из своей чары и, откинувшись спиной к стене, громко захрапел.
Зоря подхватил обмякшего купца под мышки, отнес его на постель. Дато чмокал во сне губами и блаженно улыбался. А Зоря еще сидел за столом и долго смотрел в догорающее пламя свечи.
— Вино рвет бочку, что же оно делает с человеком? — любил повторять по утрам Дато.
И еще он рассказал Зоре старинную легенду:
— Когда-то люди не умели приготовлять вино. Но однажды один бедный крестьянин принес с гор дикую лозу и посадил ее в своем саду. Когда виноград созрел, все с удовольствием ели сладкие ягоды. На следующий год крестьянин посадил еще три лозы, а потом еще сто. И ягод было так много, что их не успевали есть, и тогда он стал выдавливать из них сок. Сок тоже всем понравился, но его было так много, что крестьянин подумал: не выливать же его! — и разлил по кувшинам. Через два месяца он попробовал его и удивился: сок стал еще вкуснее. Тогда он созвал к себе гостей и стал их угощать напитком. Первым выпил чару соловей. «Кто отведает этого напитка, будет петь, как я!»— воскликнул он. Выпил свою чару и петух. «Кто отведает этого напитка, будет петушиться, как я!» — сказал он. А жирный кабан, который тоже с удовольствием осушил свою чару, объявил: «Кто отведает этого напитка, будет валяться в грязи, как я». С той поры вино так и действует на человека.
Слушая неунывающего Дато, Зоря думал: велика земля, много в ней разных чудес. Нет для половца ничего милее его степей, а для картлийца — Кавказских гор. Болука черна, как обгоревшее дерево, ее родина — спаленные солнцем берега неведомой большой реки. Я мечтаю вернуться в родные леса, где зимою свирепый мороз и белый снег. А все вместе мы — словно дети в одной огромной семье. Почему же брат идет на брата, а сын на отца? Почему половец бьет русского, а русский — булгарина, поляки идут на угров, а персы на грузин?
— Глаза пожрали бы друг друга, не будь между ними носа, — как-то сказал Дато.
— Значит, жадность разъединяет людей?
Дато не ответил. Знал ли он это сам?
— Жизнь — мельница, богатство — проточная вода, — сказал он. И добавил: — Пусть всяк раздувает свой костер…
Так и жили они в гостеприимной Тмутаракани до первого попутного ветра.
А потом лодия снялась с якоря, вздулись ветрила, вскипел за кормой белоснежный след — и узкая черточка быстро удаляющегося берега слилась с водой и с небом.
Глава вторая
1
Васильковна прибыла в Новгород на купальницы. С утра попарилась в баньке лютыми кореньями, позавтракала в терему кашей из толченого ячменя и теперь сидела у окошка, томная и ленивая, и глядела, как прогуливаются по двору суетливые куры. Дорога из Киева была дальней и утомительной, возок нещадно подбрасывало на ухабах, в избах, где останавливались на ночлег, спать не давали клопы, которых всюду, было великое множество. Княгиня то и дело призывала к себе Панку, заставляла ее зажигать свечи, чтобы отогнать клопов. Панка зевала, лениво помахивала веником; княгиня серчала:
— Аль дурмана наелась?
— Дрема одолела, — лениво отвечала Панка, морща веснушчатое личико.
— Ишь, боярыня, — с упреком говорила Васильковна. — Избаловала я вас. Совсем от рук отбились. Ну, погоди — вот прибудем в Новгород, дурь я из тебя вышибу.
Раздражение княгини росло день ото дня. Когда она еще была в Киеве, когда прискакал от Святослава гонец с дурной вестью, первое, что ей пришло на ум, это немедля снаряжать возок. Она подумала не о муже, не о том, что случилось на Влене, а о Кочкаре, от которого не было известий, хотя гонцов отправлял и он и, как доныне всегда бывало, слал с князевым письмом и свою весточку. «Уж не случилось ли с ним чего? — подумала она. — Уж не настигла ли шальная стрела? А может, Святослав осерчал на своего любимца?»
Васильковна капризничала, ругала девок и гоняла их по терему, а потом вдруг замолкала, сидя на широкой, застланной пушистым ковром лавке, подолгу смотрела перед собой невидящим отрешенным взглядом. Первая тревога отходила, и сквозь обиду и страх пробивалось главное: дело, задуманное и ею, и Кочкарем, и Святославом, рухнуло — не здесь, в Киеве, а далеко отсюда, на не известной никому болотистой речушке, о которой раньше и слыхом-то никто не слыхивал, а нынче будет она у всех на устах, потому что подымут голову и Давыд и Рюрик Ростиславичи, и другие князья — потянутся к брошенной Святославом добыче.
Теперь Святославу Киева не удержать, а вернуть его будет еще труднее. Чего там гадать — послушай, о чем болтают на улицах встревоженные мужики. Бояре и те разинули рты, да только не знают еще, за какого князя молиться. Никто не встанет на городские валы, любого примут хлебом-солью. У всех еще на памяти великий пожар и разорение, учиненные Киеву Андреем Боголюбским.
Стыдно вспомнить Васильковне, как покидала она Гору, как выезжала тайком за ворота по перекинутому через наполненный водою ров мосту, как заглядывал под полсть щуплый воротник и нагло улыбался, дыша в лицо княгине густым перегаром медовухи.
Пили бояре, пила дружина, пили мужики. Во хмелю топили тревогу. Иные молились, иные злорадствовали. Ждали перемен. Святославу не верили, поглядывали на Белгород, где сидел Давыд. Вспоминали, казалось, забытое — коварство старого князя.
— Гони! Гони! — испуганно кричала Васильковна вознице, высовывая голову из возка.
В предутреннем сумраке чудились зловещие тени, перед глазами стояло наглое лицо хмельного воротника. Панка, сидя рядом с княгиней, жалась в угол возка, крестила лоб частыми взмахами руки, шептала побелевшими от страха губами молитвы. Сроду не видывала она такой свою величавую и всегда спокойную княгиню. Оборачиваясь к утопающей в тумане Горе, Васильковна грозила ей кулаком — ужо погоди, ужо вернусь, расшевелю осиное гнездо.
Никому не было веры. Даже посланцу Святослава, его меченоше Несмеяну. На что уж постельничий Онофрий преданный был человек, но и он отказался сопровождать ее в Новгород — прикинулся больным. А накануне бражничал с боярином Куличкой. Сказывают, пил да князя своего поругивал — скуп-де был Святослав, не ценил праведных людишек, все золотишко под себя загребал, а нынче — где его куча?
«Ишь ты, пузатый боров, — злорадствовала Васильковна. — Давыд ли Рюрик тебя наградит…» В воображении рисовала картины мести, представляла себе, как вновь въезжает в Гору, как низко кланяются ей бояре, прячут блудливые глаза. И колокола. Звенят малиново колокола. И рядом с князем — Кочкарь, смелый, гордый, прямой.
А пока возок нес ее в безвестность — по берегу Днепра, к Почайне, где уже надувались ветром паруса лодии, посланной Святославом.
Накренившись, возок остановился разом, поднял клубы желтой пыли, застонал, заскрипел. Васильковна вышла, осторожно ступая обутыми в красные сапожки ногами по хрустящему песку, поднялась на палубу. Мужики, ругаясь, хлестали упершихся лошадей — возок тоже подымали на лодию: на волоке княгиня пересядет в него снова.
В лодейной избе было тепло и безветрено. На полу — ковры, бревна натерты воском, в углу под образами теплятся лампады. Почувствовав усталость, княгиня опустилась на лавку, безвольно сложила на коленях руки — ладонями вверх, — сухие, длинные руки стареющей женщины, с коричневыми пятнами на распухших пальцах. Села и замерла — теперь ей ни о чем не хотелось думать.
Лодия покачивалась, за досками слышалось, как хлюпает, ударяясь в борта, упругая днепровская волна да хлопают над головой еще не наполненные ветром паруса.
Тут дверь отворилась, блеснул кусок голубого неба, но его заслонило широкое плечо, в развороте которого она уловила что-то очень знакомое, и сердце ее отчаянно заколотилось.
— День добрый, княгиня, — сказал приглушенный волнением голос Кочкаря, и она рванулась с лавки и замерла, трепеща, на его груди.
Обнимая руками ее рыхлое тело, прижимаясь щекой к ее мягкой, дряблой щеке, Кочкарь видел сединки, пробившиеся в ее русых волосах; красную мочку уха, оттянутую золотой подвеской, и с ослепительной яркостью вспоминал другую встречу и другую женщину, голова которой еще недавно покоилась на его руке.
Ему казалось тогда, что он не сможет перенести этой встречи. И поручение князя принял без особой радости. Ночь накануне отъезда в Киев он провел у боярышни Мирославы, доверчивой и хрупкой, как весенний стебелек, ласкал ее вспотевшее от волнения тело, впивался губами в ее жаркие губы и не думал о Васильковне. Но мысли о ней вернулись к нему с первым рассветным лучом, прощаясь с Мирославой, он был сух и неулыбчив, и боярышня заметила это, хоть и не сказала ему ни слова — он все прочел по ее широко раскрытым, испуганным глазам.
Потом был путь — опасный и бесконечно длинный — и встреча, которой он не хотел и к которой стремился. Он боялся выдать себя взглядом, боялся задолго приготовленных слов, но сейчас с удивлением почувствовал, как теплая волна перехлестывает ему горло, так, что трудно становится дышать. И дряблое тело княгини волновало его, и оттянутое подвеской красное ухо поднимало в нем сладкую и щемящую нежность.
Они плыли по Днепру и ехали в возке, и за все это время Кочкарь ни разу не вспомнил о Мирославе. Он скакал на коне впереди обоза, и ему хотелось выглядеть молодым и сильным, чтобы понравиться княгине, словно молодость и вправду вернулась к нему. Васильковна улыбалась, встречаясь с ним взглядом.
Отчего бы это? Не оттого ли, что все начиналось сызнова, и они опять, как и много лет назад, чувствовали себя союзниками?.. Все было потеряно, и все было впереди. Пусть радуется Давыд, пусть торжествует Рюрик в Белгороде — они не дадут Святославу передышки.
Мчались кони сквозь лесную хмарь и дождливую непогодь. Возницы задыхались от встречного ветра. А ночью, выгнав Панку, Кочкарь, как и в молодости; стискивал податливую счастливую Васильковну в своих крепких объятиях…
Умытый дождем прозрачный рассвет растекался над Волховом. Призывно кричали петухи.
Обмякшая княгиня сидела у окна, вслушивалась в звуки просыпающегося города. В теле ее еще стояла истома, но мысли обретали пронзительную ясность.
С кухни доносился перестук ножей, в переходах послышались шаги, осторожный шепот. Все было как в Киеве. Привычно и просто.
И здесь, в Новгороде, Васильковна сразу почувствовала себя хозяйкой.
2
Святослав сидел на стольце, полуприкрыв глаза. Владимир, переминаясь с ноги на ногу, смущенно стоял рядом.
Вошла Васильковна, вопросительно посмотрела на мужа. Святослав кивнул. Княгиня распахнула дверь, что-то крикнула в полумрак, и тотчас же на пороге появилась Пребрана.
Она была в длинном, расшитом серебряными нитями белом сарафане, руки опущены, на щеках румянец. Глаза лихорадочно блестели, округлая грудь под сарафаном вздымалась от волнения.
Владимир по-петушиному вытянул шею, сглотнул застрявший в горле комок.
Васильковна отступила к стене, села на лавку. Пребрана повела глазами в ее сторону, но продолжала стоять.
Святослав засопел, пристально разглядывая бьющуюся в оконное стекло муху, тихо сказал:
— Невесела ты что-то сегодня, княгинюшка?
Владимир вздохнул, Пребрана усмехнулась уголками губ:
— С чего бы веселиться мне, князь?
— Аль свекрови не рада?
— Дома — как хочу, а в людях — как велят.
— Не в людях ты — дома, — недовольный ее ответом, наставительно произнес Святослав.
— Гостям мы всегда рады.
Пребрана бросила быстрый взгляд на Васильковну и отвернулась. Лицо княгини покрылось бурыми пятнами. Владимир побледнел. Но Святослав продолжал спокойно:
— В речах твоих ума нет, одно суесловие. Почто дерзишь?
— Не на суд пришла.
— Ты дело говори, — нахмурился Святослав.
— Ну говори же, говори, — болезненно морщась, пролепетал Владимир. — Про то, как зимой бежала, про Словишу.
Румянец на щеках Пребраны поблек. Она поджала губы.
— Про то, что между нами было, нам и судить, — сказала она, обращаясь к мужу. Владимир опустил взгляд — не выдержал, стыдно стало.
— Сына моего срамишь, — сказала Васильковна срывающимся от гнева голосом. Сжала в кулаки покоящиеся на коленях руки.
— Сам себя осрамил. Чего же срама ему бояться? — удивилась Пребрана.
— Ты что говоришь? Ты кому говоришь?! — привстал на стольце Святослав.
— Я мужу говорю — перед ним ответчица, — дерзко оборвала его Пребрана.
— Нынче снова шуму на весь Новгород, — сказал Святослав.
— Шум-то есть, да не я шумнула, — усмехнулась Пребрана. — Как унес ты, свекор, ноги из-под Переяславля, с тех пор шум и пошел. Послушали бы, что кончанцы говорят. Говорят, мол, не с руки нам ссору затевать со Всеволодом, а покуда ты, свекор, в Новгороде, ссоры не миновать…
— Отколь такое? — удивился Святослав. — Меня со святыми дарами встречали.
— А как проводят?
— Проводят, как повелю.
— Великий Новгород — не Киев, — сказала Пребрана. — Да днесь и в Киев вам дороги нет.
— Уймись! — вскочила Васильковна. — Совсем рехнулась. Как есть, выжила из ума. А ты, ты-то куды смотришь?! — набросилась она на сына. — Ты-то куды глядишь?!
Владимир задохнулся от страха, подался за отцов столец. Святослав посопел в бороду, но ничего не сказал. Васильковна снова села на лавку.
Тихо стало. Билась в стекло надоедливая муха.
— Ну, будя, — наконец проговорил Святослав, поднимаясь со стольца и разминая ноги. — Шибко хорошо поговорили. Повеселились.
— Нет уж, — вскинулась, вновь оживляясь, Васильковна. — Коли вышла такая беседа, то и мне, матери, слово дай молвить.
— Да уж молвлено, — прогудел старый князь.
— Как велишь, — побагровела Васильковна.
Святослав, помешкав, махнул рукой: ладно, мол, говори.
— Нынче яйца курицу учат, — наставительно сказала Васильковна, обращаясь к мужу.
Святослав крякнул и отвернулся. Владимир, подавшись к матери, вытянул шею. «Ишь ты, какой заморыш, — с тоской размышляла Васильковна. — А все из-за нее. Юрьево семя». О Пребране она не могла даже думать спокойно. Если Святослав такой простак, то уж она-то давно догадалась: пока Пребрана при сыне, ничего путного из Владимира не выйдет. Вон какая орлица — она и покрепче парня под себя подомнет.
С улыбкой наблюдая за свекровью, Пребрана дивилась: ну и баба!.. Свекор-то совсем скис. Ей было жаль Владимира. Не хотелось смотреть на мужа, такого хрупкого и несчастного. Зимой он больше нравился ей: была в нем и твердость, и настойчивость.
Слова Васильковны доходили до нее словно через туман:
— Красна пава пером, а жена нравом… А нрав-то у тебя, Пребранушка, весь в деда твово. Так то — князь. Ты же — мужнина жена. Отколь в тебе это?!
— Чем бог наградил.
— Не бог, а люди, — строго осадила ее Васильковна. — Отец-то, Михаил, и вовсе святым не был.
— Ты, свекровь, отца мово не тревожь, — сдавленным голосом предупредила Пребрана.
— Вот оно, вот! — обрадовалась княгиня. — Все наружу и вылилось.
— Кшыть ты! — оборвал ее Святослав.
Владимир отскочил от отца. Переведя взгляд на Пребрану, старый князь сказал:
— Ступай покуда. Жди к трапезе.
Пребрана поклонилась с улыбкой и вышла.
— Куды поворотила, — протянул Святослав, подходя к жене. — Прежде чем языком-то молоть, подумала бы — что.
— Аль не правду сказала? — удивилась Васильковна.
Святослав досадливо поморщился.
— Кому нынче твоя правда нужна? Чай, мы не на Горе. Чай, Всеволодовы-то уши — вот они, — и он ткнул пальцем в дверь, за которой скрылась Пребрана. — Нынче нам самое время замириться со Всеволодом, а на старые обиды вспоминать.
— Да ты, батюшка, что? — пошатнулась Васильковна. — Никак, от сына своего, от Глебушки нашего, отступился?.. А он-то, родненький, в сыром порубе мается, нас с тобой вспоминает, ждет не дождется.
Она хлюпнула носом, пожухнув, как лист, опустилась на лавку.
— Баба, она и есть баба, — смягчаясь, сказал Святослав. — Ничего твоему Глебушке не станется. А то, что в поруб угодил, — через свою же глупость, не через нашу. Неча было в Коломне сидеть, не за тем его к Роману отсылал. А нынче и Роман сгинул, и мне — вечный позор.
— Сердце у тебя каменное…
— Ты лучше умом пораскинь, — не слушая ее, продолжал Святослав. — Не замирившись со Всеволодом, ни Киева, ни Глеба нам не видать. За Глеба воевать не пойду, войско мне против Рюрика сгодится.
Не было рядом с Васильковной Кочкаря, не у кого было ей спросить совета. Растерялась она. И хоть болело у нее сердце за Глеба, а перечить разгневанному князю она не решилась.
Владимир, глядя на ссору родителей, боялся вставить слово. Так и промолчал он все утро. Молчал и за трапезой. Ел мало, много пил. Лишь удалившись в покои жены, дал волю накопившейся обиде:
— И за князя меня не почитаете. Ровно не я в Новгороде хозяин. Мало мне Боярского совета.
— Сам виноват, — сказала Пребрана. — Доколе будешь чужим умом пробавляться?
— А ты почто сердила батюшку? С добром он к тебе…
— Не в ту сторону батюшка твой глядит.
— Умна больно.
Пребране стало жаль Владимира. Сидит потерянный, не знает, руки куда деть, тискает тонкие пальцы. Подошла к нему, провела ладонью по темечку, поцеловала в лоб.
— Ровно с покойником прощаешься, — отстранился от нее Владимир. Но голос его смягчился.
Пребрана села рядом, обняла мужа за плечи.
— Чего уж там, — сказал, не подымая глаз, Владимир. — Нынче правда твоя. Велел батюшка звать Словишу.
3
Сидя в порубе, Словиша многое успел узнать. Охранники были добрые, с тоски заговаривали с ним, даже угощали медом. Рассказывали о походе Святослава на Переяславль, о приезде в Новгород. Чуял Словиша — ветер подул в другую сторону. Скоро и про него вспомнят.
Будто в воду глядел. Вспомнили.
Пришел веселый Широнос, длинный, скуластый и курносый вой, отомкнул решетку.
— Вылезай!
Пока Словиша отряхивал приставшую к кафтану солому, торопил его:
— Не гомозись. Аль приглянулось в норе?
— Сам с мое посиди, — отвечал Словиша, подымаясь по спущенной в поруб лестнице.
— Ишь, медведище какой, — сказал Широнос, разглядывая обросшего волосами, растрепанного Словишу.
— Не у тещи был на блинах, — дерзко ответил Словиша.
— Язык-то укороти, — посоветовал Широнос и шмыгнул.
Словиша расчесал пятерней свалявшуюся бороду. От яркого света, ударившего в лицо, закружилась голова.
— А белый-то, — удивился Широнос. — Всего насквозь видно.
— Добрый ты…
Глаза стали привыкать к свету. Приставив ко лбу ладонь козырьком, Словиша разглядывал воя.
Широнос смущенно переминался с ноги на ногу.
— Аль вовсе от людей отвык? — спросил участливо. Покашлял, перехватил осклепище копья:
— Пойдем, коли так…
Они пересекли заполненный людьми двор, поднялись на крыльцо княжеского дворца. В сени Широнос входить не стал, пропустил Словишу вперед и закрыл за ним дверь.
Войдя, Словиша огляделся: все, как прежде, все, как и раньше было. Не раз пировал он за этими широкими дубовыми столами, не раз держал с Пребраной совет. Много воды утекло в Волхове с тех пор — вон уж и снега стаяли, и деревья распустились, за окном — зеленый пойменный простор.
В порубе всегда было темно и холодно.
Вошел Кочкарь, неодобрительно оглядел Словишу, не сказав ни слова, вышел. В дверях снова появился Широнос. Поманил дружинника пальцем:
— Подь сюды.
— Никак, Святославову милостнику не приглянулся? — удивился Словиша.
— В баньку велено тебя сводить.
— Ишь ты! — с удовольствием крякнул Словиша. — Гляди, Широнос, нынче я у князя в почете.
— На меня обиды не держи, — попросил его вой.
— А мне на тебя обижаться нечего, — успокоил его Словиша. — Кабы не ты, сдох бы я в своей норе.
— Человек ведь…
— Бросали — не спрашивали.
— Воля князева.
— А печаль наша.
В баньке Словиша совсем отошел. Широнос похлестал его веником, постриг бороду и усы, сам удивился:
— И не узнать тебя ноне.
В предбаннике уже лежал на лавке бережно сложенный новый кафтан — точь-в-точь на Словишу, словно по мерке шит. Штаны — тоже новые, новые сапоги.
— Нет, не в обиде я на князя, — шутливо говорил Словиша, перетягивая тонкую талию шелковым пояском — живота у него не было, совсем провалился, как у борзой.
— Грех обижаться на князя, — поддакивая ему, льстиво сказал Широнос. — Князь на то и князь.
— Да и мы с усами! — отозвался Словиша. Радовался дружинник, что на воле, что дорога ему лежит не иначе как во Владимир.
Святослав принял его ласково, указал садиться на лавку. Сметливые отроки налили в чаши вина. Исчезли тихо, как тени.
Вошел Кочкарь, встал позади князя, пристальным черным глазом оглядел Словишу (второй глаз был прикрыт повязкой).
Святослав, поднимая чашу, сказал:
— Во здравие брата нашего князя Всеволода.
Отпил глоток, поставил чашу перед собой, охватив ее обеими ладонями.
— Во здравие, — сказал Словиша и тоже отпил глоток.
Святослав улыбнулся. Улыбнулся и Кочкарь. Понравилась им сдержанность Словиши, оценили они и его догадливость. Значит, разговор будет не долог.
Снова в сенях появились отроки, снова разлили по чашам вино. Теперь чаш было три.
— За твое здравие, князь, — сказал Словиша и, как и прежде, отпил глоток.
— Недорога гостьба, дорога дружба, — сказал Кочкарь и выпил свою чашу до дна.
— Как в гостях ни хорошо, а дома лучше, — с лукавинкой намекнул Словиша.
Святослав задумчиво потеребил бороду украшенной перстеньками рукой: умен Всеволодов дружинник, ох, до чего умен. С таким не дело ходить вокруг да около. Одно только слово сказал, присказка вроде, безделица, а все понятно: и то, что они здесь не у себя на Горе, и то, что ему пора во Владимир.
О том же подумал и Кочкарь.
Святослав сказал:
— Брату нашему князю Всеволоду передашь поклон. Скажешь: зла на него у сердца я не храню. Глеба, мол, жду, а за Романа пусть не гневается.
— Все передам, как велишь, князь, — сдержанно поклонился Словиша.
— Сговорено — как узлом завязано. Святослав облегченно вздохнул.
Словиша встал. Кочкарь шагнул вперед, положил руку ему на плечо.
— А теперь, как заведено, — сказал он, — скрепим уговор по обычаю.
Святослав целовал крест, отроки принесли и сложили на лавке княжеские дары. Кочкарь сам повязал Словише меч с украшенной золотом и черненым серебром рукоятью.
А за стеной, в трапезной, все уж было приготовлено к пиру: длинные столы ломились от яств, вин и медов. На лавках сидели кончанские старосты и дружинники, во главе стола — архиепископ и посадник Завид Неревинич, по другую сторону — Святослав с Владимиром, Кочкарь и Словиша.
Пировали до поздней ночи, здесь же, на лавках, спали. Отоспавшись, снова садились за столы.
Во хмелю да в суматохе некому было следить за Словишей. Пробрался он вечером к Пребране в терем. Поскребся в дверь. Открыла ему Панка, тихонько, по-заячьи вскрикнув, отступила за порог.
Княгиня, склонившись над книгой, сидела у стола.
Толстая оплывшая свеча бросала свет на ее задумчивое лицо, золотила упавшие на лоб нити волос.
Увидев Словишу, Пребрана встала, Панка юркнула за дверь, но княгиня остановила ее и велела вернуться. Панка растерялась, но ослушаться ее не могла. А вернула ее Пребрана не без умысла — чтобы после не было пересудов: неспроста же приставила к ней свою девку Васильковна.
Словиша понял княгиню и, поклонившись ей, спросил, не передать ли что Всеволоду: завтра отъезжает он из Новгорода во Владимир.
— Бог тебе в помощь, Словиша, — сказала Пребрана. — Остерегайся в пути лихих людей. А дядьке моему Всеволоду передай, что с мужем живем мы в ладу да в мире. Хотела б увидеть его, поклониться праху батюшки. Но расставили охотники в лесах силки, тугие луки держат наготове.
— Есть у меня и глаза, и уши, — сказал Словиша. — А ты, княгинюшка, шибко-то не тоскуй. Скоро возвращусь я — буду снова подле тебя.
— Гляди, не задерживайся, — и она осенила его крестным знамением.
4
В Торжке Словиша ночевал с купцами. Народ ушлый, вели купцы обозы с солью из Галича, рассказывали о тамошних делах. Одни поругивали Ярослава, заступались за сына его Владимира, другие честили жену его Ольгу, а вместе с ней и своевольных бояр, спаливших на костре любовницу Осмомысла Настасью.
— Житья не стало простому люду. То поляков зовут, то угров, — говорили они, — Вот и в Киеве нынче неспокойно.
— Опять пошла усобица.
— На дорогах разбой…
— Сами князья хуже татей…
— В одном только Владимире и живут купцы. Поприжал Всеволод бояр, вывел крамолу.
— Крут, а справедлив.
— Одно слово — хозяин…
Приятно было Словише слушать такое про своего князя. Купцы спрашивали его:
— А ты-то отколь будешь?
— Из Новгорода.
— А куда путь держишь?
— Куда держу, про то ветер знает.
— Ишь ты, какой скрытной.
— Сказал бы словечко, да волк недалечко, — отшучивался Словиша. — Сами про татей сказывали.
— А может, ты и есть тать, — уставился на него могучий мужик, молча сидевший у печи.
Мужика этого Словиша приметил еще с вечера: вроде бы и такой, как все, а вроде бы и нет. Глядит угрюмо, из-подо лба, улыбается — кривит нижнюю губу. Молчун.
— А если и тать, тебе-то что за дело? — подзадорил его Словиша. — Как поглядел я, обоза с тобой нет, да и на самом зипунишко — даром не надо. Нешто кто на тебя позарится?
Мужик не подхватил его шутки, кольнул сердитым взглядом, отвернулся к окну.
Больше других приглянулся Словише суздальский купец Прибыток. Этот был улыбчив. Маленький, шустрый, он везде поспевал и не жаловался, как другие.
Все видит и все знает. И сколько соли дают за лисью шкурку, и на сколько кадей пшеницы меняют кусок бархата на Волыни.
— Хорошо идут наши мечи и кольчуги в Булгаре, а в Тмутаракани — меха и кони, — говорил он Словише. — Бывал я и во Владимире. Большой и красивый город.
— А в Киеве бывал? — спросил Словиша.
Прибыток рассмеялся:
— Оно сразу и видать, что человек ты не торговый. И в Киеве я бывал, и в Чернигове, и в Галиче, и в Новгороде. Спроси лучше, где не бывал.
— И в Царьграде?
— В Царьграде не бывал, — сознался купец. — Мы за моря не ходим.
— А нынче куда идешь?
— Иду в Чернигов. Брат у меня там помер, хочу забрать его деток.
— Добрый ты человек, Прибыток, — сказал Словиша.
— А как же? Своя кровь, — польщенный, проговорил купец. — Не идти же мальцам по миру. А я приставлю их к делу. Вырастут — научу торговать. Своих-то у меня нет.
— Отчего же?
— Да вот. Жена-то померла через год после свадьбы.
— С кем же ты живешь?
— С сестрой. Калека она у меня. Хроменькая. Так вместе век и коротаем…
Пораскинув и так и сяк, решил Словиша, что одному пробираться через леса и впрямь опасно.
— Возьми меня с собой, Прибыток, — попросил он купца. — В тягость я тебе не буду. Зато, глядишь, в дороге чем подсоблю.
— Оно-то так, — согласился купец. — Да только не один я. С людишками переговорить бы… Нынче разный народ по дорогам бродит.
Он поднял на Словишу смущенный взгляд:
— Ты того… Ты на меня не обижайся…
— Чего же обижаться-то? Я ведь, коли что, и один. Мне ведь не привыкать, — сказал Словиша.
— Ты на меня не обижайся, — повторил Прибыток. — Я сейчас, я мигом.
И вышел из избы. Угрюмый мужик, сидевший у окна, неодобрительно покосился на Словишу. Дружинник подмигнул ему.
Скоро Прибыток вернулся, весело сказал Словише:
— Согласились.
— Вот и ладно, — обрадовался Словиша.
Утром двинулись в путь. Выехали за ворота, свернули в лес. Ночью прошел дождь, в лесу было прохладно, пахло зеленью и хвоей. Привязав коня к задку телеги, Словиша лежал на мешках с солью и смотрел на плывущие по небу облака.
К полудню пригрело солнце, и дружинника разморила дрема. Он не заметил, как заснул, а проснулся оттого, что телега стояла, а возле телеги толпились люди. Позади всех суетился Прибыток. Лицо его не понравилось дружиннику, и Словиша потянулся за мечом. Но меча под рукой не оказалось.
Словиша сел на мешке и протер глаза.
— Эй, Прибыток! — крикнул он через головы мужиков.
— Тута я! — живо отозвался Прибыток, выглядывая из-за широких мужичьих спин.
— Это что за народ? — спросил Словиша.
— Мужики.
— Вижу, что мужики. Да только раньше я их что-то не видел.
— Из лесу мужики, — охотно пояснил Прибыток и снова юркнул за спины.
— А меч мой где?
— В щелку провалился, — сказал один из мужиков и взял Словишу за рукав кафтана.
— Ты меня не трожь, — вырвался Словиша и вскочил на ноги.
Мужики незло засмеялись.
— Прыткой…
— А глазищи-то…
— Сымай его, чего глядеть!
Двое мужиков запрыгнули в телегу, столкнули Словишу на землю. Вокруг загоготали.
— Чего ржете? — рассердился Словиша.
— А то и ржем, что прыткой.
— Ишь, странничком прикинулся.
— А меч княжеской.
— И в суме соболя.
Тут сквозь толпу протиснулся мужик с хмурым взглядом — тот самый, в рваном зипуне.
— Здорово, кум, — сказал он с улыбкой.
— Ты кто? — спросил Словиша.
Мужик сказал:
— Летяга. Сотник князя Рюрика Ростиславича. А ты кто?
— Никто.
Летяга хмыкнул и приказал, оборачиваясь к мужикам:
— Вяжите его да в телегу. И ты, Прибыток, помоги.
Словишу связали, снова усадили на мешки с солью. Рядом, свесив ноги, присел Прибыток. Стараясь избегать укоризненного взгляда дружинника, сказал со вздохом:
— Служба княжеская — дело подневольное. Эх-ха!
— Иуда ты! — оборвал его Словиша и дернулся на мешке.
— Кому Иуда, а кому верный слуга, — тихим голосом объяснил Прибыток. — Мы ведь за тобой от самого, почитай, Новгорода следим. Все приглядывались, все промеж собой смекали: тот али не тот. Тот. Попался!..
Словиша сплюнул:
— Зря везете меня.
— Чего же зря? Все яснее ясного: меч-то Святославов, — значит, и ты Святославов гонец.
— Эка рассудил. Дурак ты, Прибыток. Будет вам с Летягой от Рюрика Ростиславича взбучка.
— А это ишшо поглядим.
Прибыток чмокнул и взмахнул над головой кнутом. Кони побежали быстрее, телегу замотало на рытвинах и на корнях деревьев. Словиша выругался, лег на спину.
Как и утром, по ясному небу плыли белые облака.
5
Допросив Словишу, Рюрик отпустил его. Да еще дал золота на дорогу, да еды, да коня. А Летяге велел проводить дорогого гостя.
— Передай Всеволоду от меня поклон, — сказал он на прощанье. — А на нас не серчай.
— Ну что? — спросил Словиша еще больше посмурневшего сотника. — Словили Святославова гонца?
— С кем беды не бывает, — ответил, избегая его взгляда, Летяга. — Все Прибыток наплел, от него и пошло. Ох, и достанется нам от князя.
— Прощай, Летяга.
— Может, свидимся…
Ускакал Словиша на солнечный восход. И, продираясь сквозь леса к Москве, не думал о том, какую добрую весть принес осторожному Рюрику.
Выслушав Прибытка с Летягой, побеседовав со Словишей, понял Рюрик, что самое время ему сейчас идти не мешкая на Киев. Еще не скоро соберется Святослав с силами, еще не скоро дождется ответа от Всеволода, а у Рюрика войско вот оно — под боком. Нет, не помирившись со Всеволодом, не пойдет старый князь в свой Киев. Осторожен Святослав, хитер и осторожен. Зато Рюрику другого такого случая, может, и до смерти не дождаться. И он не любит рисковать, и он живет с оглядочкой, да тут и оглядываться нечего — пора собирать дружину и идти на Днепр. Ни за что не опередить его Святославу: пока-то он еще переберется через волоки!
Сладко щемило сердце Рюрика, когда во главе своей дружины, восседая на высоком коне, приближался он к Киеву. Зажмурившись от счастья, со слезами на глазах вглядывался он в золоченые шеломы церквей, улыбался и гнал коня все быстрее и быстрее, подстегивая его крученой плеточкой.
Знал Рюрик — откроют киевляне ему свои ворота, не станут драться за бежавшего в Новгород Святослава, да и боголюбовский разор у них еще на памяти, но все же волновался.
Вот уже сколько лет грезился ему высокий киевский стол, ночами видел он, казалось, несбыточное: валит пестрый люд по улицам Киева, давят друг друга мужики, спешат взглянуть на молодого князя. А он стоит на паперти собора рядом с облаченным в торжественные ризы митрополитом и щедро дарит народ монетами. А подле него — княгиня вся в белом, в украшенном жемчугами кокошнике, а позади — верные отроки, как собаки, готовые ринуться за своим князем в огонь и в воду. Видел он себя молодым и стройным — и хоть проходили годы, а ни одна морщинка не оставляла следа на его лице.
Куда там! Нынче голубоглазого красавца Рюрика не узнать: обрюзг он, стал толст и неповоротлив, а морщинок столько легло под глазами, что и не сосчитать. Седина запорошила густым инеем его бороду, в голосе появилась хрипотца, глаза из голубых стали серыми — все это не только от забот (он и в Белгороде жил беззаботно), а от чрезмерного пития и несдержанности.
Жаден был до жизни Рюрик, все спешил ухватить, ничего не проходило мимо его жилистых, цепких рук, а главное упустил. Как промчались годы, он и не заметил — то в походах, то в пирах, — а спохватился: грести-то уж больше нечего, все загребли другие князья, те, что были его посноровистее.
Но нынче давней молодостью повеял на него днепровский свежак. Словно только что вернувшийся в мир из тьмы небытия, глотал он степной воздух, впитывал в себя цвета и звуки. Но слаще всех звуков был для него перезвон дивных киевских колоколов, краше всех красок — многоцветье торжественно стоящей у Золотых ворот толпы во главе с митрополитом. Словно ожили давнишние сны, а может, и это был сон?..
Рюрик рассмеялся, подергал себя за ухо — нет, не сон это; и впрямь встречает его Киев праздничным перезвоном колоколов, а церковные служки несут на золотом подносе святые дары. И рядом с ним жена его Анна в белом шелковом платье и кокошнике, осыпанном слезами крупного жемчуга, а позади дружинники — богатырь к богатырю, — все высокие и ладные, все в дощатой броне.
На радостях выставил Рюрик киевлянам несколько бочек вина и меда, сам со своею дружиной пировал на Горе.
Но за нежданной удачей да за пирами не забывал он о сидящем в Новгороде Святославе, ухо держал востро. Знал Рюрик — ни за что не уступит ему Святослав старшинства, за киевский стол и он много положил пота и крови. Вот замирится со Всеволодом — и придет под Киев. На горожан у Рюрика надежды нет, одна только своя дружина, да еще братья, да половцы, да берендеи. А что, как опередит его Святослав? Степнякам ведь все равно, чей князь, — лишь бы долю не уступить в добыче, лишь бы вернуться к себе с золотом и рабами.
Рано удалился Рюрик от своей пирующей дружины, кликнул Давыда. Брату не понравилось, что его оторвали от веселья. Пришел хмурый. В нетрезвых глазах прыгают шальные бесы.
Разговор с ним Рюрик начал издалека. Но пьяный Давыд, икая и ухмыляясь, никак не мог взять в толк, с чего бы так беспокоиться брату. Небось и сам раньше любил попировать, а нынче оставить дружину ради постной беседы и вовсе смешно.
— Не пойму я тебя, брате, — выслушав длинную речь Рюрика, сказал Давыд, — По моему разумению выходит, будто и не рад ты вовсе, что сел на Горе. Ежели боишься Святослава, уступи Киев мне.
— Язык говорит, а про что — голова не ведает, — оборвал его Рюрик. — Али позабыл, как ловил тебя Святослав на Днепре?
— Не дрозд я, чтобы лететь в его силки.
— А про то не знаешь, что сидишь на чужой ветке.
— Это как же? — встряхивая налитой хмелем головой, спросил Давыд.
— Ежели не поостережемся, не нынче, так завтра придет Святослав, спихнет нас с Горы — в степи уйдем к Кончаку?
— Святослав далече, — улыбнулся Давыд, — А дружина на тебя в обиде.
— Совсем тебе мед голову вскружил…
— На то он и мед.
— Взяли мы Киев, удержим ли?
Давыд поднялся с лавки, сладко потянулся. Не вовремя затеял с ним Рюрик свой разговор. Но брат подошел к нему вплотную, уперся настойчивым взглядом в его лицо, заговорил ласково, быстро, проглатывая слова:
— Единой мы крови с тобой, брате. И отступать нам друг от друга никак нельзя. С утра посылаю я гонцов за помощью к князьям луцким, Всеволоду и Ингварю, войско буду просить у Осмомысла, а тебя отпускаю в Смоленск к Роману. Без Романа Святослава нам ни за что не одолеть.
— Стар уж Роман, да и немочен…
— Войско даст.
— А ежели не даст?
— Знает Роман: и ему без нас в Смоленске не усидеть. Даст.
Давыд не любил Романа, редко встречался с ним, а встречаясь, дивился его мягкости. Много зла причинили брату смоляне, посмеиваясь над его набожностью. На старости лет окружил себя попами, с утра до ночи бьет поклоны перед иконами. Лучшие земли роздал монастырям. Жена его, Святославна, в доме хозяйка — не он. Сухая и скаредная баба.
Бывал Давыд у Романа в гостях, надивился вдоволь. Даже пира в честь приезда брата не справили, а уж из палат без жены — ни ногой. Всем заправляет в Смоленске Святославна: снаряжает дружинников, шлет гонцов, нос сует в каждый котел.
— Как хошь казни, не поеду я в Смоленск к Роману, — отводя глаза в сторону, проговорил Давыд.
— Не серчай на брата, — мягко упрекнул его Рюрик. — Старший он в нашем роду. Меня не послушается, Мстислава уж нет в живых. На тебя одного надежда.
Льстивые речи Рюрика поколебали твердость Давыда.
— Уговорил ты меня, — сказал он. — Только нынче уж боле не тревожь. Допирую я с дружиной, а там и в путь.
Прослезившись, Рюрик трижды облобызал его.
Но за полночь в ложнице, прижимаясь к мужу, Анна наполнила его новой тревогой.
Всегда спокойная и рассудительная, на этот раз она взволнованно и сбивчиво шептала:
— Страшно мне, ох как страшно. Не к добру оставил ты Белгород. Да и худо ли нам жилось?.. Неуютно на Горе, все чужое. Не верю я киянам. И Давыду не верю. Не поможет тебе Ярослав — у него, чай, и своих хватает забот. Рыскает сын его Владимир в чужих уделах, на Олега кует крамолу…
Рюрик молчал, уткнувшись лицом в подушку. Анна вздыхала.
— Все вы, бабы, прикипаете к своему гнезду, — сказал князь.
— А чем худо тебе было в Белгороде? Чем Киев лучше?..
— В Киеве я — старший князь.
— Старший-то князь за лесами…
— Ты Всеволода не прочь, — приподнялся на локте Рюрик, вглядываясь в мокрое от слез лицо жены.
— Ох, не к добру это все. Чует мое сердце, что не к добру.
— Накаркаешь…
— Сам на себя беду накликал.
Рюрик выпростал из-под одеяла руку, погладил жену по голове. Анна вздрогнула, отвернулась. Вздохнув, села на кровати.
— Недобрый сон мне вчера привиделся. Будто едем мы по полю, а Давыд впереди. Ты окликаешь его, а он не слышит. Солнце красным пожаром все опалило вокруг, дышать нечем, кони храпят, не хотят идти, земля дыбится, булькает и лопается, как каша в медянице…
Рюрик сел рядом с женой, поставив локти на колени, подпер ладонями подбородок.
— Не верь Давыду! — вдруг быстро прошептала Анна и зарыла лицо в подушках.
Рюрик встал, отошел к окну. За Днепром серел рассвет. Из гридницы еще доносились пьяные голоса. Внизу, у всхода, фыркали кони, на дворе, подложив под головы седла и попоны, лежали захмелевшие вои. На скамеечке, съежившись, дремал воротник.
Анна стонала и всхлипывала. Потом она затихла. Рюрик вернулся на цыпочках к постели, склонился над спящей женой, задумчиво опустился на лавку.
Так и просидел он до рассвета в исподнем, большой и обмякший, опустив между колен длинные худые руки.
Глава третья
1
В знойные летние дни, когда палило солнце и разморенные люди неприкаянно бродили по улицам города в поисках спасительной тени, Мария выезжала в Суздаль.
Здесь был простор, над зелеными холмами дули привольные ветры, от берегов Нерли наносило запах созревающих трав. Лодия княгини, украшенная деревянным узорочьем, с высокой кормой и красными ветрилами, всегда стояла в затоне на Каменке — подле самого княжеского дворца. Вечерами, когда солнце склонялось к земле и по мягким зеленям стлались длинные тени, Мария в сопровождении дворовых девок отправлялась на прогулку.
Досада всегда была вместе с ней.
Кормщик подымал ветрила, легкий ветер вздувал их, и лодия ходко шла к устью Нерли. Обратно возвращались на веслах.
Иногда в Суздаль наведывался Всеволод с дружиной. Тогда в городе сразу становилось тесно, празднично и шумно. На воду спускались еще две лодии, дружинники, истосковавшиеся от безделья, садились на весла и устраивали на реке гонки, которые обычно заканчивались многодневным пиром. В полях за Каменкой жгли костры, прыгали через огонь, соскучившиеся по парням девки до утра водили хороводы.
На одном из таких хороводов и повстречал Досаду Кузьма Ратьшич. Не видел он ее с той поры, как привез во Владимир радостную весть о Всеволодовой победе на Влене.
После того Ратьшич был надолго оставлен князем в Переяславле, а когда вернулся, Досады во Владимире не застал — уехала она с княгиней Марией на лето в Суздаль.
Вскоре наведался в Суздаль и Ратьшич — наказал ему князь проведать чернеца Чурилу, узнать, как продвигается летописание. У Чурилы Кузьма не задержался, тем же днем примчался на княжий двор, но ни Досады, ни княгини в тереме не было. Тогда и поскакал он в поля, где горели уже костры и слышался девичий смех.
Княгиню заметил он еще издалека, а когда подъехал поближе и спрыгнул с коня, увидел и Досаду.
Мария сидела на скамейке, застланной красным трапезундским ковром, и веселилась, глядя на резвящихся вокруг костра молодиц; Досада стояла рядом — тоже веселая и румяная: или это костер бросал на ее лицо свои горячие отблески?
Оставив коня пастись в ложбинке, уже затянутой вечерней дымкой, Кузьма поднялся на пригорок, и Мария сразу признала его. Глаза ее заблестели, она даже привстала, надеясь увидеть и князя, но Ратьшич был один, и взгляд княгини наполнился грустью.
Кузьма приблизился к ней, поклонился и глухим от волнения голосом передал, как велено, поклон от Всеволода: князь-де жив-здоров, но приехать не может, потому что ждет известий из Новгорода.
— Садись, Кузьма, будешь моим гостем, — сказала Мария, указывая на лавку рядом с собой, но Кузьма остался стоять.
Досада заметила устремленный на нее настойчивый взгляд княжеского любимца. Она вспомнила Ратьшича (да и не забывала вовсе!), вспомнила вечер, когда прибыл он из Переяславля с доброй вестью, и почувствовала вдруг, как сами по себе щеки и шея ее наливаются жаром.
Еще жило в ее памяти расставание с Юрием, еще не прошла старая боль, поднимавшаяся в ней сильными ударами сердца, едва только вспоминала последнюю встречу, когда уговаривал ее Юрий с ним вместе покинуть Владимир. Где он сейчас, жив ли, в какие его забросило края?.. А может быть, и нет его уже, может, только и остался он в ее сердце, и кости его, умытые чужими дождями, белеют посреди нелюдимой степи?
Сказывали страннички, будто видели молодого князя в Рязани, по другим слухам — подался он с дружиной к половцам. И уж не раз жалела потом Досада, что не послушалась своего сердца, не покинула отчий дом — как знать, а вдруг помогла бы она любимому, удержала его от опрометчивого шага, уберегла в минуту опасности…
Нет, не о Ратьшиче думала все эти дни Досада, не до него ей было, да и что ей в Кузьме? Вон сколько вокруг молодых да ладных парней — любому только намек подай, в тот же день зашлют к отцу сватов. Только не до сватов ей нынче — свербит незаживающая рана, спать мешает по ночам, потому что и ночью все то же: то Лыбедь приснится, то стог, то мчится она с Юрием на коне по бескрайнему белому полю.
— Грустный ты что-то сегодня, Кузьма, — сказала Мария, разглядывая Ратьшича и догадываясь о причине его грусти. — Пошел бы к девкам в хоровод. Вона как стрижет тебя глазами Краса. Аль девка не по тебе?
— Другая у меня на уме.
— Про другую и думать забудь, — строго сказала Мария.
— Как знаешь, княгиня, — покорно отозвался Кузьма. — Я бы и сам рад, да разве сердцу прикажешь?
— Экий ты, Кузьма. Девку бы пожалел. Горе ведь у нее…
— А счастье рядом ходит.
— Тебе — счастье, а ей?
Вздохнул Кузьма, поглядел на Марию печальным взглядом и, поклонившись, собрался уходить — княгиня остановила его:
— Не серчай на меня, Ратьшич.
— И ты не серчай, княгиня. Не передать ли что Всеволоду?
— Поклон передай. И еще скажи: жду я его в Суждале, — помешкав, добавила: — Соскучилась я по князю, так ему и скажи.
В последний раз взглянул Кузьма на Досаду — она же даже не обернулась в его сторону — и спустился с пригорка. Поймал коня: стиснув пятками ему бока, помчался, вздымая пыль, по светящейся среди лугов дороге.
Ветерок с Ополья принес раннюю прохладу. Ратьшич поежился и подумал, что зря пустился на ночь глядя в путь, но поворачивать коня ему не хотелось, да и думы были невеселы: нет, не полюбит его Досада, зря он старается, зря надрывает сердце. А брать ее в дом без любви — только маяться. Где уж ему тянуться за боярской дочерью!
Гнал он коня по пустой дороге, стегал его плетью. Сердился конь, вскидывал голову, недоуменно взглядывал на седока: аль подменили ему хозяина или бес в него вселился? Но, устав от скачки, Ратьшич сам придерживал его, а то и вовсе опускал поводья — ехал тихо, не видя и не слыша ничего вокруг.
Так наехал он за полночь на одинокий костер, удивленно остановился. У костра полулежал, опершись на локоть, небольшого росточка мужик, рядом пощипывал траву оседланный конь.
Услышав топот, мужик вскочил на ноги, вгляделся в темноту.
— Эй, кто там? — крикнул Ратьшич с коня.
— Подъезжай, увидишь, — сказал мужик.
«Смелый», — подумал Ратьшич и приблизился к костру. Приглядевшись наметанным взглядом, сообразил, что под кафтаном на мужике кольчуга; в траве лежал шлем. Длинные русые волосы крупными прядями спадали мужику на плечи.
Кузьма сам себе не поверил:
— Да никак, Словиша?!
— Он самый и есть. А ты Кузьма.
— Верно.
Ратьшич проворно спрыгнул на землю, обнял дружинника. Пригляделся: вроде бы все такой же, только лицом потемнел, да заострились скулы. Глаза глядят по-прежнему молодо.
— А сказывали, что сидишь ты у Владимира в порубе, — опустился на корточки возле огня Ратьшич.
— Верно сказывали, — кивнул Словиша. — А нынче вот — ко князю гонцом, везу от Святослава гостинцы.
— Порадуешь Всеволода…
— А ты-то как? — спросил Словиша.
— Живу, не жалуюсь.
— Да-а, — неопределенно протянул Словиша и сломал о колено сухую валежину, сунул ее в огонь под красные уголья. — Еду вот я на коне, гляжу вокруг, и сердце радуется. Дай, думаю, разложу костерок. В ночи все равно не ждет меня князь. А то соскучился по родному дымку, когда-то еще посижу у огня?..
Ратьшич тряхнул головой, засмеялся.
— Ты что? — удивился Словиша.
— Вот ведь какие чудеса случаются, — сказал Кузьма. — Скакал я нынче и думал: велико Ополье, а ни живой души на дороге. Хоть бы кто повстречался…
— Тебя тоже в ночь понесло.
— А! — Ратьшич махнул рукой.
Словиша достал из брошенной рядом с плащом сумы хлеб и кусок жареного мяса, разломил, половину протянул Кузьме, мясо разрезал узким засапожным ножиком.
— Видел я вчера на переправе через Нерль булгарских купцов, — сказал он, уплетая за обе щеки. — Едут не нарадуются: тихо стало, бояться некого. Не шалят на дорогах разбойнички, твердой рукой правит Всеволод.
— Он и зипунников с Волги потеснил, — согласно кивнул головой Ратьшич.
— А на юге все враждуют из-за Киева. Попал я по пути в Рюриков стан. Да, не скоро вернется Святослав на свою Гору. Объединятся Ростиславичи — не видать ему Киева.
— Зря старый князь поддержал Романа.
— Думал, силы за ним неисчислимые.
— На Новгород понадеялся…
Словиша хмыкнул.
— Новгородцам голову в костер совать ни к чему. Вон и нынче уже поговаривают: зачем нам Владимир, позовем другого князя. Не сядет Святослав в Киеве — не видать и сыну его новгородского стола, — сказал он.
— Умен князь Всеволод. Даром что молод, — кивнул Ратьшич.
— Умен, — согласился Словиша.
Небо на востоке начинало сереть. В траве вспорхнула и защебетала ранняя птаха.
Костер догорел.
Когда Ратьшич со Словишей подъезжали к Владимиру, солнце уже озарило купола многочисленных церквей.
У самых Серебряных ворот навстречу им попался юркий мужик с перекинутым через плечо мешком. Сзади плелась молодуха и что-то кричала ему вслед. Мужик сплюнул и остановился.
Ратьшич улыбнулся: от вчерашних пасмурных мыслей не осталось и следа. Молодец Словиша — сам бог послал его Кузьме.
Все вдруг высветилось вокруг: и сбегающие налево к Клязьме зеленя, и широкая речная пойма, и лес, укрывший сплошной стеной муромскую сторону, и крытые щепой беспорядочно раскинувшиеся на косогоре избы посада.
Кузьма пришпорил коня и нагнал Словишу под высокими сводами ворот.
2
— Ну скажи, ну что ты за мной увязалась?
— Захотела и увязалась, — бойко ответила Злата и, подоткнув сарафан, села с ним рядом.
Закончив роспись Успенского собора, — неделю тому назад это было, — Зихно снова загулял у клобучника Лепилы. Злата все дворы обегала, выплакала все глаза. Никитка, как мог, успокаивал ее:
— Да никуды не денется твой Зихно. Дорогу домой знает.
Зато Аленка подливала масла в огонь:
— У непутевого все по-непутевому. Поди, пристроился к какой вдовице под бочок.
Злата — в слезы. Едва успокоила ее Аленка.
— А не поискать ли богомаза у судовщиков? — предложил Никитка, вспомнив, как однажды рассказывал ему Зихно о знакомом своем Яшате.
Пошли к судовщикам. Нашли Яшату.
— Не, у нас его не было, — сказал судовщик. — А вы загляните-ка к златарю Толбуге.
Постучались к златарю. Толбуга, распухший с перепоя, с покорябанным лицом и подбитым глазом, шепнул Никитке, что Зихно был у него, пил, но жена проводила богомаза ухватом.
— Злючая она у меня, — сказал Толбуга. — Ну ровно пес цепной.
Сказал и опасливо нырнул за дверь. В горнице послышались возня и глухие удары.
— Я те покажу цепного пса! — слышался за дверью басистый женский голос. — Я те покажу!..
Перепуганные, Никитка со Златой выскочили за калитку. Отдышались. Постояв на солнцепеке, решили искать Лепилу. Едва достучались до клобучника.
— Чо грохочете, людям спать не даете? — спросил Лепила, отворяя дверь. Узнав Никитку, вымученно улыбнулся.
Из темноты раздался знакомый голос богомаза:
— Высока у хмеля голова, да ноги жиденьки.
— А ну-ка, покажись на божий свет, — просунулся в дверь Никитка.
Зихно выполз из-под рваной ферязи, уставился на него пустыми плазами. Никитка схватил богомаза за шиворот.
Лепила отступил за порог, завопил истошно;
— Режут!
Протрезвев от крика, Зихно уперся в притолоку обеими руками.
— Ты меня, Никитка, не трожь, — сказал он заплетающимся языком. Увидев Злату, осклабился. — Вот и голубка на порожек присела: гули-гули…
Злата заплакала, отвернувшись. Никитка упрекнул богомаза:
— Креста на тебе нет, Зихно.
— У баб у всех глаза на мокром месте, — буркнул богомаз, но заметно попритих и покорно поплелся за Никиткой. Злата, всхлипывая, шла сзади.
Встречные мужики на улице останавливались, узнавали богомаза, подшучивали:
— Снова взяли Зихно в полон.
— Ведут, как быка на поскотину…
Два дня богомаз отсыпался. На третий, попарившись в баньке, сказал, что сговорился с игуменом и идет в Суздаль расписывать монастырскую трапезную.
— Да что ж тебе во Владимире не сидится? — удивился Никитка.
— Скучно у вас, — виновато улыбаясь, сказал Зихно.
— А ты все веселья ищешь?
— Душа на простор просится…
Больше ни о чем его расспрашивать Никитка не стал. Ушел в свой сруб, заперся, до обеда не выходил. Днем, когда позвала Аленка, молча похлебал уху и снова исчез.
Зихно с вечера собрал краски и кисти, сложил в мешок. Злата незаметно сунула ему туда же кусок хлеба и две репы. Утром, ни свет ни заря, была уже на ногах.
— Ты куда это собралась? — спросила ее Аленка.
Злата, будто и не слыша, молчала.
— И не смей с ним ходить, — догадалась Аленка, — Ишь, чего выдумала.
В горнице появился Зихно, стал прощаться с хозяевами:
— Спасибо вам, добрые люди, за хлеб, за соль.
Никитка сказал:
— Моя изба — твой дом, Зихно. Ежели надумаешь, возвращайся. Всегда рады будем.
Зихно поклонился ему, поднял мешок, взвалил на плечо:
— Не поминайте лихом.
Только тут Аленка заметила, что Златы нет в избе. Туда, сюда сунулась, выскочила во двор.
— Ты чего суетишься? — спросил ее Никитка.
— Никак, ушла девка с богомазом.
Никитка засмеялся:
— А где же ей еще быть?!
Выбежала Аленка за ворота — ни души на улице…
…Ковыряя пальцем лапоть, Зихно сказал:
— Нет, не возьму я тебя с собой, Злата. Возвращайся лучше к Никитке. Пропадешь ты со мной…
Опустив взгляд, Злата молчала. Зихно поморщился, почесал со старанием пятерней в затылке. И с чего это вдруг она привязалась к нему — ну, словно собачонка.
Сроду не бывало такого с богомазом. Привык он жить сам по себе. Нынче в брюхе пусто, завтра — пир, нынче — сена стог, завтра — пуховая постель, нынче попадья, завтра — боярыня. Неужто пришел конец его привольной жизни?!
Из ворот, вихляя колесами, выползла телега. Понурая лошаденка мотала головой, отмахиваясь от мух, мужик, свесив ноги с передка, клевал носом.
— Тпру, — подошел Зихно к телеге.
Мужик проснулся, вскинул на него мутные от тоски глаза. Покосился на Злату.
— Не подвезешь ли до Суждаля? — спросил его Зихно.
— Отчего ж не подвезти, — сказал мужик, — Садись.
Богомаз бросил на дно телеги мешок, сел позади мужика. Телега тронулась.
Не оборачиваясь, мужик спросил:
— А девка не твоя ли?
— Тебе-то что? — сказал Зихно.
— Да мне-то ничего. Только девка, кажись, твоя.
— А хоть и моя?
Зихно осерчал. Мужик взмахнул кнутом, ожег лошаденку по тощему заду. Телега затряслась, затарахтела на выбоинах. Злата все так же неподвижно сидела на обочине. Зихно поморщился.
— Стой, — сказал он мужику.
Телега остановилась. Зихно спрыгнул с задка, подошел к девушке.
— Ты чего? — спросил, оборачиваясь, мужик.
— Пойдем, что ли, — сказал Злате Зихно и взял её за руку. Рука у нее была холодной и влажной. Богомаз улыбнулся, и лицо девушки медленно осветилось встречной улыбкой.
Держась за руки, они вернулись к телеге, сели спи ной к мужику, свесив ноги с задка. Сняв кафтан, Зихно набросил его Злате на плечи:
— Холодно.
Телега покатилась под уклон. За поворотом город скрылся из виду. От клязьминской поймы потянул свежий ветер. Серебряной лентой сверкнула за развесистыми ивами река. А там, где Клязьма сходилась с Нерлью, на низменном лугу, то исчезая, то снова показываясь из-за деревьев, открылась их взору нарядная, как невеста, белая церковь Покрова.
3
Сильно сдал за последние два года Чурила. Хвастался он могучим здоровьем, буйная сила была в его руках, да и сейчас гнул он подковы, но однажды, возвращаясь в свою келью с заутрени, вдруг почувствовал, как заволокло туманом монастырский двор. Остановился Чурила, протер глаза — думал, надуло ветром соринку, — но туман становился все гуще, и уж не мог он идти, а присел на дубовую колоду, удивленно поводя во все стороны большой кудлатой головой.
Шел мимо него трапезарь с зажженной от лампады лучиной, удивился:
— Эк перевернуло тебя, Чурила. Уж не пьян ли?
— Пьян, да не от вина, — сказал Чурила, слепо протягивая к трапезарю руку. — Помоги добраться до кельи.
Принюхался трапезарь — не пахнет от чернеца вином, перепугался:
— Ровно слепой ты…
— Слепой и есть. Ни двора не вижу, ни святой церкви, ни креста на ней. Солнышко на небе аль ночь темна?
— Солнышко, Чурила.
— Припекает лицо… Да и голос твой вроде знакомый, а кто такой — не угадать.
— Трапезарь я.
Подхватил он Чурилу под руку, повел ко всходу. А на всходе монах ступеньки переступить не может: что ни шагнет, то спотыкается. Едва добрались до кельи.
Посадил трапезарь Чурилу на лавку, что дальше делать — не знает.
— Зови игумена, — надоумил его Чурила.
Опрометью выскочил трапезарь во двор, переполошил монахов, разыскал в соборе игумена. Когда привел его, в келье у Чурилы уже толпился народ. Вздыхали монахи, дивились:
— Еще вечор здоров был.
— Никак, обет нарушил…
— Чурила — чернец праведный, — заступались за него другие. Кто зло, а кто участливо, но все глядели на него с испугом: что, как нечистая сила вселилась в их собрата? Сопели, крестились, с недоверием рассматривали толстые книги, расставленные на сосновых досках вдоль стен. Уж не от них ли вся и беда?..
Игумен, войдя, застучал посохом, закричал тонким голосом:
— Кшыть на вас, бездельники!
Трапезарь стал выталкивать монахов из кельи, напоследок его и самого вытолкал игумен.
Оставшись один, игумен перекрестился, перекрестил Чурилу, сел рядом с ним на лавку, стал пытать его, не грешен ли, не сотворил ли чего, порочащего святую обитель.
— Да не грешен я, не грешен, — мотал головой Чурила. — Вот те крест, говорю, как на духу: чист я и перед богом и перед людьми.
Увидев слезы на его незрячих глазах, игумен смягчился, совсем уже по-отечески тепло сказал:
— Да уймись ты, дай-ка взгляну на очи.
Чурилу игумен любил, чтил его за книжность и за то, что навещали его в монастыре княжеские мужи: раз даже сам Всеволод приехал, переполошил монахов, долго беседовал с Чурилой в его келье, а уезжая, пожаловал две монеты. Другой бы монах закопал их в кубышке или пропил в миру, а этот отдал на святой храм для обновления почерневших и пооблупившихся икон. Нет, не жаден был Чурила, и мирских грехов за ним не водилось, — то, чем раньше славился, нынче не в счет. Было: бражничал он в миру, во многих драках и непристойных делах замечен был, но приласкал его князь, доверил летописание, освободив от прочих монастырских повинностей, — и преобразился Чурила. Он и помочь, ежели надо, не отказывался: то дров нарубит в лесу, то дорожки расчистит от снега…
Любил, любил игумен Чурилу, и надо же — такая беда.
— Давно ли слепнуть стал? — участливо спросил он монаха.
— Разом затмило…
— Эко оно. Да не тужи, Чурила. Неспроста в народе сказано, что после грозы — вёдро. Отдохнул бы ты.
Ласковые слова игумена немного успокоили монаха. А вечером пришла к нему знахарка, в соборе служила за него молебен. К утру полегчало. Пробился сквозь молочную пелену солнечный свет, через неделю снова прозрел Чурила, но прежняя зоркость так и не вернулась. Теперь не мог уж он писать при свече, да и в пасмурные дни буквы прыгали перед его взором, сливались в единую полосу. Лишь близко склонившись к листу, мог он разобрать написанное.
И без того неразговорчивый и угрюмый, стал Чурила еще молчаливее. Но совета игуменова послушался: все чаще выходил он за монастырь — бродил по берегу Каменки, а то выбирался и за Нерль. Помогал мужикам ловить бреднем рыбу.
И, сидя на пеньке, уставившись пасмурным взором в утекающую к горизонту зеленую даль, перебирал он в памяти минувшее. Свежий ветер обдувал его лицо, трепал волосы на начавшей лысеть со лба могучей голове. Вся жизнь предстала перед Чурилой — всплывали забытые встречи, сказанные мимолетно слова; лица, стертые временем становились отчетливее. А после складывалось все в единую пеструю картину.
Краски еще были беспорядочны, но мысль уже пробивалась сквозь них, прорастала, как стебель из брошенного в пашню зерна.
А потом настал день, когда он понял, что уж больше не может молчать. Рождались слова, разрывавшие скупые строки летописи, и он, сначала робко, а потом все увереннее, стал записывать их для себя на смытых листах старинного «Шестоднева»…
Нет, не сломала жизнь упрямого Чурилу. Могучая, неведомая и страшная сила все чаще и чаще толкала его к заветному труду. Глаза его, хоть и не стали зорче, но обрели просветленную ясность, счастливая улыбка неожиданно одухотворила его лицо.
4
Не доезжая до Суздаля, мужик остановил лошадь и сказал:
— Я тут на Городищи сверну.
С холма хорошо были видны городские укрепления, над которыми тут и там торчали купола соборов и островерхие кровли теремов. Зихно соскочил с телеги, помог спрыгнуть Злате. Телега тронулась и скрылась за кустарником.
Богомаз забросил на спину мешок и стал спускаться к реке. Шагал он широко, размашисто, и Злата едва поспевала за ним.
В реке, под нависшими над водой деревьями, голые мужики ловили раков. На пеньке сидел монах и басовито покрикивал им:
— Куда глядите, лешие? Под бережком, под бережком пощупайте.
Мужики покорно шарили под берегом, вытаскивали раков, бросали их в ведро, которое нес за ними по берегу белобрысый и тоже голый мальчуган с выпирающими из-под кожи ребрышками.
— Ты погоди, а я потолкую с мужиками, — сказал Зихно Злате и сбросил на траву мешок. Злата, застеснявшись, отвернулась, села, надвинув на лоб пестротканый платок.
Зихно спустился к берегу.
— Эй, мужики! — сказал он.
— Чегой-то?
Мужики выпрямились, стоя по колено в воде. Монах на пеньке пошевелился и обратил в сторону богомаза бледное лицо с жидкой бородой и выцветшими глазами.
Зихно замешкался, кашлянул, неторопливо приблизился к нему. Поклонившись, спросил:
— Ты, чернец, не из монастыря ли?
— Оно и так видать.
— Иду я из Владимира в Суждаль, — пояснил Зихно, теряясь под его пристальным, насмешливым взглядом.
— Суждаль у тебя под боком, — ответил монах, — Вона шапочки церковные горят…
— Небось и сам вижу, — буркнул Зихно, — Я тебя про что спросить хочу?
— Говори…
— Не знаешь ли ты чернеца Чурилу? Сказывают, пишет он летопись, обитает в монастыре, а меня к нему шлет камнесечец Никитка. Богомаз я…
Заулыбался монах, от краешков глаз к вискам побежали мелкие морщинки.
— Я Чурила и есть, — сказал он, тыча себя в грудь перстом. — А ты, никак, Зихно?
— Угадал! — обрадовался Зихно, что так быстро нашел нужного человека. Но тут же засомневался:
— А ты и вправду Чурила?
— Сроду не брехал.
— Что-то не очень чтобы похож ты на него. Про Чурилу рассказывали: богатырь-мужик.
— А я?
— Да щуплый ты какой-то, — замялся Зихно.
Голые мужики смеялись:
— Да Чурила, Чурила он! — кричали они. — В Суждали все его знают.
— Фома ты неверующий, — сказал Чурила и встал. Тут уж все сомнения отлетели прочь: Зихно едва доставал монаху до плеча.
— Ведро-то раков мне принесите, — наказал Чурила мужикам, — Гость у меня нынче.
— Принесем, как не принести, — весело пообещали мужики. По всему видно было: любили они монаха, считали своим человеком.
Чурила и Зихно поднялись на взлобок, где сидела Злата. Девушка, увидев их, встала.
— Никак, и баба с тобой? — сильно окая, удивился монах.
— Златой зовут, — сказал Зихно.
— Женка?
Зихно мотнул головой, нет, мол. Чурила насупился, пронзил Злату строгим взглядом.
— А ведаешь ли ты, богомаз, что девица, коя в распадение впадает, неугодна пред отцом своим является?
— Нет отца у нее, чернец, — ответил богомаз. — Сирота она. А идет со мной оттого, что любит.
— Любить — не грех, — сказал Чурила, — но законная женитьба перед богом законна.
У Златы слезы навернулись на глаза, и монах, заметив их, смягчился:
— Не гневись на меня. Ибо так в «Палее толковой» сказано, а не мной.
И обернувшись к Зихно, спросил:
— Так с чем послал тебя камнесечец?
— Иду расписывать трапезную в твоем монастыре, — сказал Зихно. — А тебя об одном прошу: не гони Златушку, приюти ее у добрых людей.
— Добрыми людьми мир держится, — ответил, подумав, монах, — Есть у меня на примете давнишний мой друг. Нешто к нему податься? Сам он стар уже, а сын его Артамоха в сотниках…
— Не сотворил бы чего? — усомнился Зихно.
— Артамоха-то?
— Чай, не старик.
— Артамоха нынче во Владимире. А старичку-то, Еноше, смышленая баба в доме — клад. Покормить, водицы подать али еще что…
Так подошли они к городским воротам. Воротник, крепкий парень с мечом на поясе, приветствовал Чурилу с почтением. Широко улыбаясь, спросил:
— Наловил ли, чернец, раков?
— Нынче мужики расстарались.
— А енти чьи? — указал парень на Зихно со Златой.
— Из Владимира они. От камнесечца Никитки. Богомаз вот с женкой.
Парень важно кивнул:
— Ну, проходи, коли так.
Чурила шел неторопко, с достоинством. Вел гостей по шумным улицам, как по обжитой келье. Все знали в Суздале монаха, и он знал многих. Мужики, останавливаясь, заговаривали с ним. Чурила охотно выслушивал их, давал, ежели просили, советы. Так вышли к самому валу на северной стороне посада.
Чурила постучал кольцом в калитку приземистой, в три косящатых окна, избы.
— Ишь ты, слюда в окнах-то, — заметил Зихно. — Богато живет твой Еноша. Уж не боярин ли?
— Бояре здесь не живут, — сказал Чурила. — А Еноша — мостников староста.
Долго ждать хозяина не пришлось. Еноша оказался низеньким скрюченным старичком с мешками под глазами и острой бородкой на нездоровом худощавом лице.
— В гости к тебе, староста, — сказал монах, кланяясь.
Лицо Еноши расцвело:
— Чурила?!
— Сам зришь.
— Входите, входите, милые гости, — пролепетал хозяин, забегая вперед и распахивая перед ними двери в избу. — Вот здесь садитесь. На лавочку. Под образа. А я сейчас медку… Я быстренько…
— За медком не спеши, — остановил его Чурила. — Мед от нас не убежит. А ты наперво взгляни-ка на эту отроковицу… Что? Приглянулась?
— Справная девка, — оторопев от прямого Чурилиного вопроса, в смущении сказал Еноша.
— Ты вот что, — напомнил Чурила, — ты мне давеча жаловался, что стар стал, а дочерью бог не порадовал: водицы подать некому…
— Говорил, говорил, — закивал Еноша, — было такое.
— Ну а коли говорил, вот тебе и девка. Дочкой будет.
Еноша ласково смотрел на Злату. «Быстро и складно», — подумал Зихно, с благодарностью глядя на Чурилу.
Потом пили мед, и монах рассказывал о своих странствиях. Прощаясь со Златой, Зихно сказал:
— Ты без меня со двора ни шагу.
Злата, тиская узелок, который так и держала все время в руке, согласно кивнула головой.
5
Полюбилась Злата Еноше. Старик был совсем слаб, но, окруженный ее заботами, скоро повеселел и весь словно бы распрямился.
Бывало, встанет утром раненько по-стариковски, а Злата уже хлебы испекла, на столе дымятся в горшке щи. Вечером ляжет, покряхтывая, на лавку, скажет:
— Ты бы уж спать шла, Златушка.
А она только отмахнется — где там: вода не припасена, полы не метены, и еще надо поставить опару. Зато стала Еношина изба чистой да нарядной, другой такой во всем Суздале не сыскать. А все почему? А все потому, что в доме хозяйка.
Ходит Еноша по городу, всем мостникам уши прожужжал: никак не нахвалится Златой. Те, кто полюбопытней, приходили на нее поглядеть: и что это, мол, Еноша расхвастался?! А как отведают Златиной похлебки да попробуют ее пирогов — и сами разносят по всему посаду о ее гостеприимстве и ловких руках.
Стали похаживать к Еноше и молодые парни — вроде бы по делу, совета попросить, а сами со Златы глаз не спускают.
— Вот кобели, — добродушно посмеивался над ними Еноша. — Гляди, доченька, еще боярские сыны начнут за тебя свататься.
— У меня Зихно есть.
— Зихно — богомаз, человек ненадежный, а боярский сын — гора.
— Ты что это такое говоришь, Еноша?! — негодующе набрасывалась на него Злата. — Уж не просватал ли кому часом?
— А коли и просватал, так ведь любя…
Не нравились Злате Еношины разговоры. Чего это разошелся старик? Еще беду накаркает.
А он все похаживал вокруг нее да подмигивал. Ох, не к добру это.
Пожаловалась Злата богомазу:
— И что это Еноша проходу мне не дает?
— От старости, Злата, от старости. А ты прости его. Человек он добрый.
Редко захаживал к ней Зихно. Если же захаживал, то ненадолго: нетерпеливый, отчужденный, весь в краске. Выпьет медку с Еношей — и снова в монастырь. Говорил: хвалит его игумен. Расписал он монастырские палаты — что тебе в Печерской лавре. Еще киевляне-то позавидуют, еще призовут его снова к себе, еще докатится слава о нем до самого митрополита.
— Вот тогда заживем, Златушка. Тогда и придут к концу мои странствия.
Не верила ему Злата:
— Не кончатся они и вовек. Не такой ты породы, Зихно. Не усидеть тебе в покое да довольствии.
— А ты отколь знаешь? — удивлялся богомаз, тараща на нее глаза.
— До сей поры не догадался?.. Взгляни-ко на себя. На лице-то вся твоя судьба и записана.
Чурила тоже ему говорил:
— Не в довольствии счастье, не в кунах да гривнах. Набей ты хоть три скотницы золотом, а все одно потянет в мир. Вот кабы был ты боярином…
— Боярское житье сладкое.
— От лукавого оно, а не от бога, — наставлял Чурила неугомонного богомаза.
Игумен же искушал его:
— Смири гордыню, Зихно. Мастерство даровано тебе, чтобы возвыситься над людьми. А злато хоть и тлен, но и сам человек не вечен. Ждут тебя, Зихно, и богатство и почет. Всем ли дано видеть то, что видишь ты в своих красках?
— Прости мя, господи, — шептал Зихно, запрокинув голову и разглядывая своих святых и апостолов.
И видел он то, чего не видел старый игумен: вот это Чурила, а это Никитка, а вон там, в толпе, Еноша и рядом с ним — тот парень-воротник, который первым встретил их в Суздале…
Чурила, забравшись к нему на леса, всматривался близорукими глазами в причудливые линии, украсившие своды трапезной, поглаживал бороду и лукаво щурился. Уж он-то, хоть и незряч почти, а все разглядел и все понял.
Уронив кисти, Зихно в отчаянии сжимал голову: нет, никогда не научится он писать, как византийские мастера, — не возвышали его лики, не обращали взоры людей к богу, а опускали на улицы, на торговые площади, в избы плотников и в землянки безродных холопов. Не было в душе его трепетного восторга, не было вечной тайны…
И тогда возвращался он к Злате сам не свой. Молча хлебал щи, молча пил мед, молча глотал пироги.
— Или посетовал на тебя игумен? — приставал к нему Еноша.
— Игумен доволен, — коротко отвечал Зихно.
— Отчего же на челе твоем скорбь?
— Оттого что в душе сомнение.
Еноша облегченно вздыхал, по-своему понимая его слова.
— Не тревожься ты за Злату, — говорил он. — Все это пустое. А ежели что и услышишь, то так и знай: у Еноши глаз вострой, он за всем углядит.
— О чем ты? — удивлялся Зихно.
— Молодо-зелено, — посмеивался Еноша. — А ты подобрее к ней, а ты поласковее. Ласковое слово и кость ломит.
— Ну и говорун ты, Еноша, — краснела Злата, подавая на стол и нежно поглядывая на Зихно.
Раз под вечер у Еношиной избы остановился странник с хворостинкой в руке. У странника было безбородое длинное лицо с провалившимся ртом, острый подбородок и лукавые зеленоватые глазки; на плечах болтался пропотевший, латанный во многих местах кафтан с деревянными потертыми пуговицами, на ногах — почерневшие от пыли и времени лыковые лапти.
Еноша вышел на крыльцо и пригласил странника в избу. Перекрестившись на торчащий над крышами крест Рождественского собора, странник поклонился Еноше и, тщательно выбив из лаптей пыль, вошел вслед за ним в горницу.
— Здрав будь, добрый хозяин, — сказал он Еноше, снимая облезлую шапку и снова крестясь, — Бог в помощь, — оборотился к занятой у печи Злате.
Злата улыбнулась ему через плечо и выхватила ухватом стоявший на углях горшок с кашей. Странник, потянув носом, вдохнул в себя идущий от горшка пар, сглотнул слюну.
Еноша пригласил его к столу, стал выспрашивать, откуда он и куда идет. Странник рассказывал охотно.
— Зовут меня Клетькой, а иду я на Ростов от Мурома и вот уж третий день, как не жевал и хлебной корочки.
Еноша окликнул Злату:
— Скоро ли каша поспеет?
И, обернувшись к страннику, приготовился слушать дальше. Страсть как любил Еноша рассказы бывалых людей. Самому-то ему за всю его жизнь не довелось побывать нигде дальше Владимира.
— Всю Русь исходил я, был и в Новгороде, — говорил Клетька. — Повидал великое множество людей и чудес. Молился в киевских пещерах, сидел на цепи в половецком плену.
— Да неужто на цепи?! — удивлялся Еноша.
— Как есть на цепи, — кивал головой Клетька. — Ровно пес. А у булгар хотели меня обратить в ихнюю веру. И уговаривали, и угрожали. Чего только не выдумывали. А когда уж бросили в яму, решил я притвориться. Бог единый и истинный-то у меня в душе, а поганым сказал я, будто уверовал в их бога и на Русь возвращаться не хочу. Нет-де мне на Русь дороги, потому как у меня там ни кола ни двора…
Еноша пошамкал ртом, удивленно почмокал губами.
— Да как же это ты? — осуждающе произнес он.
Клетька сказал:
— В том греха нет.
— Поди ж ты…
— Обрадовались булгары, — продолжал странничек, — выпустили меня из ямы, стали в свою веру обращать. Тьфу ты, — сплюнул он. — Поганые, они и есть поганые. Один страм у них, а не вера.
Клетька и впрямь три дня ничего не едал: съел кашу, похлебку, живот раздулся под кафтаном, а он все глядит, не подаст ли Злата еще чего на стол.
Сварила Злата гороховой каши — и ее умял странничек. Сидит, отдувается, с носа капельки смахивает. У Еноши глаза расширились от изумления.
Злата стала ворчать:
— И куды в такого маленького лезет?
— А ты свари-ко ухи, — сказал Еноша.
Сварила Злата ухи. Тогда только Клетька угомонился. Повалился на голую лавку, уснул. Утром снова ел кашу, потом снова спал. На третий день Еноша собрался навестить мостников.
Только вышел он во двор, только хлопнула калитка, Клетька вскочил с лавки — будто и не спал, и — к Еношину кованому ларю. Хвать за крышку, а она на запоре: опасливый хозяин.
— Дай-ка ключик, молодица, — сказал Клетька вкрадчиво.
— Подь отсюдова, — пригрозила Злата. — Не то гляди, шумну. Ел, пил, а теперь ишшо чего надумал…
— Золотишко, сказывают, у Еноши-то в ларе. Дай ключик, уважь старичка…
— Как есть ошалел, — обмерла Злата. — Может, и есть золотишко, да только, знать, не про тебя.
Изловчился Клетька, прыгнул ловко, как кошка, повалил Злату на пол. И откуда только сила такая в нем взялась, не зря откармливался два дня.
— Не доводи до греха, отдай ключик.
Закричала Злата, да кто услышит? Зажал ей Клетька грязной ладонью рот.
Все силы собрала Злата, изогнулась, скинула с себя странничка, дрожа, попятилась в угол за печь. Мокрой от пота рукой нашарила Еношин плотницкий топор.
Набросив на дверь щеколду, Клетька сдавленным голосом сказал:
— Погублю я тебя, голубица. Непокорлива ты.
— Не подходи, — предупредила Злата.
— Придушил я воя на Нерли…
— Убью.
— Ищут Клетьку князевы послухи…
— Христом-богом молю.
— Нехристь я…
— Кормила тебя, пса.
— А!
Кинулся на нее Клетька, да так на полпути в броске и повис. Сверкнул в руке у Златы Еношин топор, схватился странник за голову, пошатнулся, из-под пальцев брызнула кровь.
6
Зихно проснулся в келье у Чурилы от яркого света, упавшего на его лицо. Потянулся, зевнул, повернулся на бок.
Согнувшись над столом, монах водил писалом по желтому листу пергамента, бормотал себе что-то под нос. Услышав шорох, оторвался от работы, близорукими глазами уставился на богомаза.
Зихно сказал:
— Всю ночь просидел, старче?
— Неработный хлеб аки полынь во устах… Вставай и ты, богомаз.
— Мягка у тебя сукманица…
Чурила отложил писало, перекрестился на образа.
— Скоро ударят к заутрене.
Зихно спустил ноги на чистые полы, отволокнул пошире доску в оконце. Узкая полоска света раздвинулась, в лицо пахнуло утренним свежим ветром. Богомаз взмахнул руками, словно собирался взлететь, улыбнулся.
— Хорошо бы стать птицей, Чурила.
— Человек ты.
— Поднялся бы я высоко-высоко — к самому солнцу, — продолжал Зихно, глядя на раскинувшиеся за стенами монастыря поля. — Поднялся бы и оглядел всю землю с высоты. Хороша ли земля, Чурила?
— Эк что задумал, — добродушно пробормотал монах: нравился ему богомаз — не походил он ни на чернецов с постными лицами, похотливых и жадных; ни на посадских, молчаливых на работе, буйных во хмелю. Жил и мечтал озорно, с лукавой ухмылочкой разглядывал расписанные своей быстрой кистью стены. Словно знал он что-то, чего не знал никто, знал да хранил про себя, о том никому не рассказывал.
Когда-то и Чурила был молод и мечтал о крыльях. Да и сейчас в неспокойных снах чудилось ему не раз, будто парит он над родным Суздалем. Глядит с высоты — и сердце замирает от страха и от восторга. Проснувшись, думал: к чему бы это? С чего вдруг в руках его неведомая сила? Не от растревоженной ли памяти, когда и впрямь летали люди, аки ангелы?..
За окном раздались удары била, и тотчас же за дверью послышались осторожные шаги монахов, поспешающих к молитве. Смиренно потупившись, шли они через двор к церковной паперти. Так было заведено испокон веков, так было и сегодня.
После молитв и завтрака в присутствии игумена все разбрелись по своим кельям. Чурила и Зихно отправились на Каменку.
Было у них на реке заповедное место за тальниковыми зарослями. Здесь они раздевались и, поеживаясь, шли в воду. Чурила плавал поближе к берегу, высоко, по-собачьи, задирая голову и бурно шлепая ногами; Зихно забирался на середину и даже переплывал на другую сторону. Ложился на песок, подсунув под затылок руки, смотря на светлые облака. Потом, согревшись, отфыркиваясь, плыл обратно.
Нынче же, еще в трапезной, монах заметил в глазах богомаза неожиданную грустинку. Вспомнил, что вчера еще Зихно закончил работу; игумен осматривал трапезную, водил пальцем по расписанным сводам, качал головой; богомаз шел рядом, тихий и неразговорчивый. Вечером они пили в келье у Чурилы меды, но и здесь Зихно не разговорился, а утром вдруг сказал, что хотел бы стать птицей, чтобы взглянуть на всю землю с высоты.
Разнежившись на солнцепеке, Чурила подумал: «Никак, снова потянуло богомаза в дорогу? Наскучило ему монастырское житье». А расставаться с ним не хотелось. Привык он к богомазу, привязался к нему.
Зихно вылез из воды, сел рядом с Чурилой и снова молча уставился на шевелящуюся у ног тихую Каменку. Казалось, мысли его текли вместе с рекой и были уже далеко отсюда, — к какому берегу прибивался он сердцем?
Пришла пора расставаться с богомазом.
— Как-то там Злата? — сказал Зихно.
— А что ей сделается? — удивился монах грусти, послышавшейся ему в голосе богомаза. — У Еноши она как у Христа за пазухой…
Зихно не ответил ему. В реке метнулась рыба, глаза богомаза оживились.
— Дивлюсь я тебе, Чурила, — сказал он. — И не чернец ты вовсе. И вся смиренность твоя — не от души.
— Богохульствуешь, — сказал Чурила и строго посмотрел на богомаза. — От мира ты, в мир и уйдешь. Я же до смерти останусь с богом.
— Не о боге ты скорбишь — о человеке.
— Сам есьм человек.
— А вера?
— Она как посох в пути…
Сказал и вздрогнул. Зихно с улыбкой покачал головой:
— Посох — больному и убогому. А молодому, полному сил?
— Конь о четырех ногах, а спотыкается.
— Читал я твое поучение, Чурила, — сказал, помолчав, Зихно. — Глумишься ты над собратьями своими и в том — прав. Но гоже ли глумиться над тем, во что веруешь?
— А кто безгрешен? Не о себе пекусь. Кто рёк, что вознесся над миром, а сам погряз в невоздержанье, нечистоте, блуде, хуленье, нечистословье и болезни телесной, — вправе ли тот называться мнихом?.. И все ли от бога, что боговым называется? Не горший ли грех творит тот, кто взывает к чистоте, а сам пребывает в пороках? Блудница, не таясь, блудит, пьяница пьет, а мних творит и то и другое и говорит: во славу божию.
Чурила широко перекрестился. На лбу его легла глубокая поперечная складка, губы сложились в узкую щель, на загорелых скулах проступили твердые комки желваков. «Нет, не смиренник он, — подумал Зихно, с уважением разглядывая монаха. — Чурила — богатырь. И не легко свалить такую гору».
Сам он был и грешен, и слаб. На радостях, что кончил работу, забрел в ремесленый посад, где завелись у него среди мужиков такие же бражники, как и он. Ночь проспал на чужой постели. Утром, не похмелившись, с тяжелой головой, мрачный, как туча, отправился к Еноше. Удивился, что калитка не заперта, а дверь в избу на щеколде. Услышал Златин голос — чужой, охрипший, потом что-то хрястнуло, не то захрипело, не то застонало, и снова стало тихо.
Липким холодом обдало богомазу спину. Навалился он плечом на дверь. Заскрипела щеколда. Навалился еще раз — вырвал запоры. Шагнул в избу, споткнулся о мягкое, упал посреди горницы, ушиб колено. Поднялся, скверно ругаясь, и только тут увидел, что лежит у порога незнакомый мужик, а под ним — красная лужа.
Злата стояла у печи с топором в руках, лицо ее белело в полумраке.
Тряхнул Зихно головой, думал — наваждение, привиделось все с похмелья. Но мужик все так же лежал у порога, а Злата стояла у печи.
Подошел к ней Зихно, выдернул из онемевшей руки топор, бросил на пол. Топор звякнул, и Злата вздрогнула. Расширенные глаза ее медленно оживали.
Зихно наклонился, перевернул мужика на спину, — нет, сроду такого не встречал. Выпрямился, встряхнул Злату за плечи.
— Откуда мужик?
— Странничек, — выдавила девушка. — К Еноше за золотишком наведался.
— А где Еноша?..
Злата вдруг вскрикнула и упала на колени.
— Бей меня, Зихно, казни, — завопила она. — Душу невинную погубила!..
— Оно и сразу видать, что голубь, — с усмешкой сказал Зихно. Помолчав, спросил:
— Насильничал?
— Не, — девушка покачала головой. — Все ключик просил от ларя…
— А ты его и… — удивился Зихно.
Злата опустила голову. Сел богомаз на лавку, провел пятерней по лицу.
— Бежать надо, — сказал он.
— А ентово? — размазывая слезы по щекам, спросила Злата.
— Без нас отпоют…
К полудню они уже были далеко от Суздаля.
Глава четвертая
1
Кто скажет, что есть зло, а что — добро?..
Тихо сидел Роман Ростиславич в Смоленске, тихо жил с кроткой и некрасивой Святославной, на соседние княжества с мечом не ходил, чужому прибытку не завидовал, братьев своих младших любил и почитал.
Был Роман хил от рождения. Когда принесли его показать отцу его Ростиславу, когда увидел его князь — гневно отшатнулся. Говорят, будто сказал он своему мечнику, Гавриле:
— Не сына мне принесла княгиня, а лягушонка.
Но так только говорят, а чего не выдумают в народе! Сам князь любил своего первенца, княгиню никогда не корил и не вспоминал про то хмурое ненастное утро, когда в ее опочивальне раздался натужный детский плач. Может быть, и сказал тогда эти слова Ростислав, потому что вернулся он из похода с тяжелой раной в бедре, потому что полдружины осталось в непроходимых лесах, потому что лил дождь и раскисли дороги. Все может быть. А может быть, придумали про это его недруги, как знать? Но Гаврила, к которому приставали с расспросами, ни разу не подтвердил этих слов, даже когда был пьян и буен, даже когда был обижен князем и ушел к Давыдовичам в Чернигов.
Любил Ростислав Романа, приставил к нему здоровых и краснощеких кормилиц, водил к нему знахарок и византийских лекарей — не дал умереть, выходил, взлелеял его, брал с собою в походы и на охоту, сам учил стрелять из лука, метать сулицы и рубить мечом на скаку лозу. Сам выбирал невесту, сам женил его на дочери Святослава Ольговича — не красавицу брал, а няньку, верную подругу.
Умна была Святославна, не ошибся в своем выборе Ростислав. Приняла Романа из рук отца, стала ему второй матерью. Всю любовь отдавала ему, всю нежность. Прощала мелкие обиды, была ему надежной подпорой в трудный для него час. И так привязала его к себе, что все дивились: не искал молодой князь на стороне юных любовниц, не утешался с красивыми наложницами.
Князья не раз посмеивались над кротким Романом:
— Уж не опоила ли тебя Святославна колдовским зельем. Раствори-ко свои очи, никак, тьма тебе их застила. И ростом мала твоя княгиня, и лицом пугало-пугалом, и ноги у нее колесом, и живот провис… Пойдем с нами на пир. Будем пить меды, уложим тебя спать с красоткой боярышней.
Но, слушая их срамные речи, бледнел Роман, вскакивал со скамьи, хватался за меч:
— А ну, скажи кто еще хоть слово!
Отступались от него князья, расходились, хихикая — вовсе, мол, ума лишился; но с годами преисполнялись к нему все большим уважением. И прошла о Романе молва по Руси, как о самом умном и справедливом князе. Слали к нему гонцов за советом, просили помочь в беде.
И всюду — в походе ли, на пиру ли, или на сборе дани — была Святославна у него под рукой. Не навязывалась, не встревала в мужской разговор; если и наставляла его, то только оставшись наедине. Любила она князя, щадила его самолюбие. И если случалось, что поступал он не по своей воле, а по ее совету, то и не догадывался даже, что это с вечера нашептала ему жена, а утром выдала за его решение.
Умна была Святославна, умна и осторожна. Верными людьми окружила себя и князя. И так, бывало, говорила ему:
— Какову чашу другу налил, такову и самому пить. Большую обиду другу прости, врагу не прощай и малой.
Привечала она чернецов и странников. А особо любила и оставляла при себе тех, кто разумел грамоте. Выучила она князя греческому языку. Свозила в свой терем дорогие книги в толстых, обитых кожей досках, по вечерам читала Роману жития князей и святых, защитников слабых и немощных.
— Ты, князь, холопам своим отец и кормилец. Не обижай их, и они тебя не бросят в беде. Будь справедлив — и сам возвысишься в своей правоте…
Но неспокойная отцовская кровь иногда прорывалась в Романе неудержимым буйством. И тогда пряталась от него Святославна, запиралась в своем тереме, обливаясь слезами, молилась за мужа перед многочисленными иконами.
Как-то раз на охоте, после бессонной ночи, проведенной с дружиной за трапезой, когда меды и вина лились рекой, наехал Роман в лесу на одинокую избу монаха-отшельника. Постучался в дверь, монах вышел на порог, спокойно посмотрел на князя, улыбнулся и на вопрос, есть ли у него еда и мед, ответил, что дал обет и ничего, кроме хлеба и воды, в келье не держит.
— Все вы, чернецы, большие обманщики, — сказал со злорадной ухмылкой князь. — Даете обет безбрачия, а прелюбодействуете; в великий пост едите скоромное…
Монах побледнел, но ничего на это не сказал, только отступил в сторону и дал князю с дружинниками войти в избу. В избе было студено и сыро, скупой свет едва цедился в узенькое оконце почти под самым потолком. На домотканом коврике перед дверью нежился, свернувшись клубком, большой белый кот, в клетке под окном посвистывали дрозды. Роман пнул сапогом кота, задевая длинным мечам за лавки, прошел в красный угол под образа, сел и потребовал, чтобы монах прислуживал дружинникам за столом.
Чернец покорился ему, вынул из ларя сухие хлебные корки, зачерпнул из кадушки воды и, сложив руки на животе, смиренно отошел к печи.
Позеленев от гнева, князь приказал ему нести все, что есть в погребе. Не подымая глаз, монах спокойно объяснил, что погреба у него нет, а все, что есть, уже подано на стол.
Князь ударил в гневе кулаком по столешнице и встал.
— Ну, чернец, — сказал он, — молись богу. Ежели найдем у тебя хоть кус солонины, висеть тебе на осине.
И велел дружинникам обыскать избу.
Согрешил монах, был у него припрятан на дне ларя кусок сала — про черный день берег: оно ведь и верно — одним хлебушком зиму не пропитаешься.
Через то сало и выслушал он суровый приговор. Выволокли дружинники чернеца из избы, посадили на коня, набросили на шею петлю.
— Видит бог, — сказал Роман, — не желал я твоей смерти. А нынче гляди, как обернулось. Не гоже мне отказываться от своего княжеского слова.
И сам стеганул коня. Рванулся конь, дернулась веревочка, стянула чернецу горло. Повис он под осиной, дрыгая ногами, глаза выкатились из орбит…
Было такое. Даже дружинники ужаснулись его жестокости, дивились: нет у Романа сердца. А то, что добрым был, — только прикидывался.
И пошла о нам дурная молва. Докатилась до Святославны.
— Да неужто правда это? — выспрашивала она у Романа. — Скажи, что наговаривают на тебя люди.
— Правда, — ответил Роман. — Не наговаривают на меня люди. А греха того не смыть мне до скончания дней своих.
К вечеру того же дня почувствовал он тягучую боль под ложечкой, а ночью стало еще хуже. Метался Роман на влажной постели, выкрикивая молитвы, безумными глазами глядел на спокойное пламя свечи. Целую неделю выхаживали его знахарки, но выходить так и не смогли. Хиреть стал князь с той памятной ночи. Осунулся, побледнел, надрывный кашель разрывал его немощное, костлявое тело.
— Знать, бог меня покарал, — говорил он заботливой Святославне. — Страшную беду накликал я на себя, вот и отметил меня господь. Не подняться мне, так и сойду в могилу, в кромешный ад…
Но время и не такие хвори исцеляет, не исцеляет только душевных ран. Через месяц поднялся князь, стал бродить по терему, словно тень, пугая дворовых девок. Сторонились его люди, набожно крестились, детей пугали его именем.
И стал Роман отмаливать свой великий грех. Монастырям и церквям щедро жертвовал золото, земли и угодья, привечал убогих и странников, часами простаивал на коленях перед иконой божьей матери. Сам наложил на себя строгую епитимью. Сам был себе и судья, и палач. Не жалел он грешной плоти своей, совсем иссох, а духом возвысился. И снова пошла о нем молва, как о самом добром и справедливом князе.
Улыбался Роман, светлел лицом, слушая, как пересказывают ему приятные вести, а то, что говорят на торговых площадях мужики, он не слышал. И Святославна о том молчала и никому сказывать не велела. Это монахи разблаговестили о его богоугодных делах, а в народе не любили Романа. Пожинали плоды его мягкосердия да про себя посмеивались: «Какой же это князь, коли только и печется, что о спасении своей души. И про охоту забыл, и про ратные подвиги, окружил себя чернецами, словно воронами…» И про отшельника того забыли, что вздернул он на осине: им не привыкать, и до Романа были князья, будут и после него. На то он и князь, чтобы суд вершить да расправу. И ежели после каждого повешенного чернеца накладывать на себя епитимью, то не лучше ли совсем податься в монастырь?..
Берегла его Святославна — от дурного слова и дурного глаза. Молилась за его спасение и того не заметила, как вдруг снова захирел Роман. А случилось это после того, как наведался к нему Рюрик — молодой, стройный, краснощекий. Пришел он в ложницу к старшему брату, остановился на пороге.
— И правду про тебя сказывают, брате, — проговорил он. — А я-то не верил. Ладно еще, что не кончается на тебе наш корень. Есть еще кому держать холопов в страхе — вон младший наш Давыд без удела. Прими схиму, отдай ему смоленский стол…
— Что ты говоришь, — удивился Роман. — Любят меня смоляне, потому как зла я им не творю.
— А добро твое пахнет ладаном…
— Да знаешь ли ты, что есть добро?! — возмутился Роман.
— Того и ты не ведаешь, — остановил его Рюрик. — Смеются над тобой смоляне, дурачком меж собой прозывают. Не князь-де у нас, а поп. Стыдно перед соседями.
Удивился Роман.
— Да разве доблесть в том только, чтобы проливать реки невинной крови?!
— Так не от нас, так от бога повелось.
— Бог милостив…
— Богу — богово, князю — князево, а что холопу на роду написано, тому так и быть. Рушишь ты вековой закон, сам того не ведая.
Неприятный у них был разговор, смутил он Романа. И подумал князь: «Может, Рюрик и прав?» И вселилось в него сомнение. И сомнения того не смог он избыть никакими молитвами.
Так и умер в безумстве, оплаканный одной лишь женой своей Святославной. Так и в колоду положили его с вопросом на лице: что есть добро, а что — зло? Так и в церкви отпели, так и опустили в могилу.
— Господин мой добрый, смиренный и правдивый! Вправду было дано тебе имя Роман: всею добродетелью похож ты был на святого Романа; много досад принял ты от смолян, но никогда не видела я, чтоб ты мстил им злом за зло, — причитала по мужу убитая горем Святославна.
А людишки, собравшиеся к собору, молчали и нетерпеливо почесывали затылки: отпели князя — и ладно. Ждали их неотложные дела: ковать железо, мостить дороги, собирать урожай, обжигать горшки…
2
Трудный путь от Киева до Смоленска был позади. Уже замаячил над Днепром стольный град князя Романа Ростиславича, уже Давыдова дружина, пересев с лодий на коней, выехала на большак, по которому в предутренней сини тянулись в город крестьянские возы.
Мужики торопливо съезжали на обочины, снимали шапки, со страхом разглядывая вооруженных воинов, запоздало кланяясь проезжавшему в голове отряда князю.
У Днепровских ворот, на зеленом спуске, показалась фигура одинокого всадника, нетерпеливо погонявшего коня.
Узнав во всаднике сотника Рюрика Ростиславича — Летягу, Давыд поднял руку, и отряд остановился.
Лицо Летяги было взволнованно, из большого рта вырывалось частое дыхание. Вскинув за уздцы разгоряченного скачкой коня, сотник остановился и снял с головы шапку. Обнажив в ухмылке подгнившие широкие зубы, сказал:
— Со счастливым прибытием, княже.
Давыд улыбнулся в ответ, прочитав в глазах Летяги недосказанное. Сотник дергал удила, оглядывая воинов.
Неторопливым жестом князь приказал ему отъехать в сторону, коротко выдохнул:
— Говори.
— Преставился брат твой Роман Ростиславич, — сказал Летяга, глядя в лицо Давыду настойчивым взглядом. — Вчера предали земле. Княгиня велела тебе кланяться. Ждет не дождется.
— Мир праху его, — покраснев, широко перекрестился Давыд. — Долго ли мучился?
— Помер в одночасье, — живо ответил Летяга и тоже перекрестился.
— Мир праху его, — повторил Давыд, поворачивая коня.
Дружинники, привстав на стременах, выжидательно глядели на молодого князя. Давыд молча выехал на дорогу; воины тронули коней.
У Днепровских ворот стояла толпа, мужиков не пропускали в город.
— Пошто озоруете? — возмущенно выкрикивали они, наступая на копейщиков. — Чай, не половцы мы — свои же, русские.
— Мать-княгиня не велела пущать, — отвечал им с коня кривоглазый вой, в котором Летяга сразу признал знакомого ему тысяцкого Ипатия.
— Это как же так? — удивлялись мужики.
— А вот так, — важно подбоченясь, объяснял им Ипатий. — Вчерась поозоровали, сожгли избу боярина Горши — и будя. Нынче княгиня шибко осерчала. Креста на вас нет!
— Христиане мы…
Тут к воротам подъехал Давыд, и толпа расступилась. Давыд резко осадил коня. Ипатий удивленно вытаращил на него глаза.
— Шапку, шапку скинь, — зашипел, приблизившись к нему, Летяга.
Ипатий проворно снял шапку, и вся толпа тут же обнажила головы. Хмуря брови, Давыд недовольно спросил:
— А енто что за народ?
— Посадские мы, — зашелестело в толпе, — Есть среди нас и торговые люди…
— Пошто не пущаете? — обратился Давыд к тысяцкому.
— Так ведь… — заикаясь, пробормотал Ипатий и повернулся за подмогой к Летяге. Но сотник отвернул голову и смотрел в сторону, будто не слышал тысяцкого.
— Так ведь… — еще больше заикаясь и обмякая, повторил Ипатий.
Давыд рассмеялся и весело сказал:
— Не забижай, тысяцкий, моих людишек. Пусти их в город.
— Так княгиня ведь… Горшу, боярина, спалили…
— Это не они, тысяцкий, это мед ему избу запалил, — рассмеялся Давыд. — Верно говорю, мужики?
— Верно, чего уж там, — послышалось из толпы.
— Не углядели…
— Шибко по князю тужили…
— Раствори-ка им, тысяцкий, ворота, — приказал Давыд, — Проезжайте, мужики!
— Благодарствуем, — заулыбались обросшие бородами рты. — Добрая ты душа, князь.
— Дай-то бог тебе здоровья.
Под восторженные крики толпы, разрумянившийся и счастливый, Давыд въехал в город. Дружинники вплотную следовали за ним. Летяга торжествовал.
— Пусть знают наших!.. Это им не князь Роман.
— Цыц ты, — одернул его Давыд. — Романа, брата моего, не тревожь. Праведник он был, святая душа.
— Да что ты, княже, — пробормотал, смешавшись, Летяга, — я о Романе ни слова. Знамо дело, правдивый и добрый князь.
Давыд скосил глаз на сотника. «Им только волю дай, — подумал он. — Нынче Романа поносят, завтра примутся за меня».
Тысяцкий Ипатий, с которого мигом смыло всю значительность и величавость, трусил в самом хвосте дружины. Не по душе ему пришлась уклончивость Летяги. Вчера только вместе распивали они меды, и сотник взахлеб расхваливал своего князя Рюрика Ростиславича, а нынче переметнулся к Давыду. Такой, чего доброго, и княгине донесет про то, что сказывал Ипатий о Романе. Старую побасенку Летяге пересказал про лягушонка, — ох, и смеялся сотник.
— И вправду лягушонок, — говорил он, икая. — Да нешто такому князю править в Смоленске?.. Мужики и не такое про него сказывают.
Не дело это — плохо говорить о покойнике. Да так уж вышло. Хорошим человеком показался Ипатию Летяга. Пел сотник песни, рассказывал старины. Плясал на крепком дубовом полу. «Эх, и простофиля ты, Ипат, — корил себя тысяцкий. — Совсем очи-то затмило. Дальше носа своего глядеть разучился».
Святославна встречала молодого князя возле терема с лицом, распухшим от слез. Давыд спрыгнул с коня; приняв скорбное выражение, обнял княгиню; бережно поддерживая за плечи, повел ее на всход. Дружинники спешились, поставили коней к коновязям, сгрудились, скаля зубы, вокруг дворовых девок.
Летяга сразу пробился к востроглазенькой разбитной Марфушке — еще вчера, вернувшись от Ипатия, стучался он к ней в каморку, но Марфуша его к себе не пустила.
— А нынче пустишь? — пристал к ней сотник, щекоча девушке маленькое ушко окладистой бородой.
— Да чегой-то? — хихикнула она, отстраняясь от Летяги. — Ишь какой прилипчивый…
— Это ты сладкая, — шепнул сотник, снова прилаживаясь к ее ушку. — Отродясь краше девки не встречал.
— Жена небось дома заждалась.
— Не женат я. А приглянешься, возьму в жены. Вот те крест возьму.
Девушка замахала руками и спряталась за подружек.
— Давай, сотник, выкуп! — закричали подружки.
— Да какой же вам выкуп нужен? — смутился Летяга.
— А хоть запону подари.
— Запона — княжеский подарок.
— Тогда перстень.
Делать нечего. Снял сотник перстень с безымянного пальца, протянул девушкам. И тотчас же Марфуша оказалась в его объятиях. Крепко держа девушку, Летяга сказал:
— Я за тебя выкуп дал. Теперь ты моя.
— А маменьке выкуп дашь?
— И маменьке…
— Тогда жди нынче вечером за теремом, — сказала Марфуша и юркой змейкой выскользнула у него из рук.
Смеялись дружинники:
— Ну как, провела тебя Марфуша?
— А где же твой перстень, Летяга?..
И верно, жаль стало Летяге перстня.
— Возвращайте подарок, — сказал он девушкам.
— Не подарок это, а выкуп, — сказали девушки. — Мы тебе нашу Марфушу отдали.
— Да где она?! — рассердился сотник.
— То не наша вина, что руки у тебя дырявые.
Сплюнул Летяга и пошел к коновязи, где уже, сгорая от нетерпения, поджидал его Ипатий. Нервно кривя рот, спросил сотника:
— Аль обиду на меня затаил?
— С чего это? — удивился Летяга.
— Да вроде бы не признал у ворот, — осторожно напомнил ему Ипатий.
— Ишь ты, — загадочно улыбаясь, покачал головой Летяга. — Нешто не видел, что я с князем?
— С князем, — протянул Ипатий. — А как с вечера пили меды, про князя ты и не вспомнил.
— С вечера другой был разговор.
— Про тот разговор ты забудь, — дрожа от страха, заискивающе попросил Ипатий.
Летяга задумчиво уставился на тысяцкого.
— Видал, как девки перстень у меня выманили? — сказал он.
— Шалуньи, — кивнул Ипатий.
— А ты мне свой отдай, — сказал Летяга, нагло глядя в глаза тысяцкого. — Вот этот…
— Женой подаренный, — растерянно пробормотал Ипатий и снова изменился в лице.
Летяга засмеялся, глядя поверх головы тысяцкого, будто вспоминая приятное, нараспев сказал:
— Ехали мы давеча возле болота, слышу: никак, лягушата расквакались. К чему бы это?
— Бери, бери, — торопливо пробормотал Ипатий, всовывая ему перстень в ладонь.
— Чего это ты? — удивился Летяга, поднося перстень к глазам.
— Не поминай лихом, — помертвевшими губами прошелестел Ипатий.
— Хорош перстенек, — сказал Летяга, насаживая его на свой палец. — И где это только жена твоя его раздобыла?
— У нашего златокузнеца, где же еще, — сердито проговорил Ипатий.
— Ну, спасибо тебе, — сказал Летяга.
— И тебе спасибо, — поклонился ему сотник.
— Глядите, какой мне перстенек подарил тысяцкий, — похвалился Летяга перед дружинниками. Те удивились:
— Дорогой перстенек.
— Чистого золота.
— Отчего же такой подарок?
— По дружбе. Друзья мы с тысяцким, — сказал Летяга. Ипатий покраснел и отошел в сторону.
— Жди нынче на меды! — крикнул ему Летяга вдогонку.
— Чтоб ты подавился, — процедил сквозь зубы Ипатий и сочно сплюнул.
Теперь он уже жалел, что смалодушничал и сделал такой щедрый подарок. Про лягушонка все забылось, а жена дома нынче же спросит, куда дел перстенек.
На крыльце княжеского терема показались Давыд со Святославной. Давыд был важен, княгиня обессиленно опиралась о его руку.
Князь ликовал: не зря спешил он в Смоленск — святая Богородица надоумила. В самый раз поспел. Нынче другому князю здесь делать нечего. По праву перешло ему Романово наследство. А Рюрик пусть подождет — не время ему сейчас ссориться со Святославом. Небось брат и сам за себя не хуже постоит.
Уж прикидывал в уме Давыд, как начнет распоряжаться Смоленским княжеством. Перво-наперво уберет с глаз долой всех Романовых людей. Избаловались они при слабом князе, распустили языки. Он их им укоротит. Отымет все, что щедро раздарил Роман. Отдаст землю верным дружинникам. Бояр тоже умаслит, бросит и им по куску — те уже сейчас глядят ему в рот, чуют, откуда ветер подул.
Только что выхвалялись в тереме:
— Род Ростиславичей не посрамим!
— Ты на нас положись, княже.
— В беде не оставим.
От одного взгляда на бояр кисло становилось у Давыда во рту, но вида он не подавал, елейно улыбался важным старикам, говорил тоже льстивые речи. Боярину Горше, у которого мужики по пьянке сожгли усадьбу, тут же, не сходя с места, подарил две золотые гривны. Пусть не думает, что Давыд скуп. А ему — не в тягость. Все равно пока не свое дарил, а Романово. Святославна надула губы, не понравился ей щедрый жест князя, но возражать ему она побоялась — еще нужно было устраивать свою судьбу. Хоть и знала она, что путь ей теперь один — в монастырь, но еще цеплялась за ветхую надежду.
Только на что ей надеяться? С Давыдом никогда не жила она в мире. Да и Роман не очень-то жаловал брата. Больше любил младших — Святослава с Мстиславом. Но Святослав умер еще в малолетстве, а с той поры как Мстислав скончался — и года еще не прошло. Сильно плакал Роман, когда принес ему гонец известие о смерти его любимца, подолгу стоял в церкви, молясь за спасение его души, ставил ему пудовые свечи.
Давыд был дерзок и груб, и это не нравилось кроткому Роману. Сколько раз он его увещевал, сколько раз пытался наставить на путь истинный, но все его старания пропали даром. Добился он только одного: возненавидел его Давыд, отшатнулся. Приласкал его Рюрик — к нему и льнул непутевый братец, от него и набирался житейской мудрости. Жаден был Давыд и в жадности своей неукротим.
Говорил Роман:
— Зоб у тебя, Давыд, полон, а глаза голодны. Какими бы руки длинными ни были, все равно всего к себе не загребешь.
Думал ли он, что загребет Давыд его княжество, что, сидя на его стольце, будет задабривать бояр золотом из его, Романовых, скотниц?..
Не думала об этом и Святославна. Ударило ей горячей волной в сердце, лишь когда увидела въезжающего на княжеский двор Давыда. Вот отчего снились ей неспокойные сны, вот отчего томило предчувствие. Нет, не миновать ей монастыря, да, может быть, оно и к лучшему? Все равно без Романа не видать ей жизни в миру, все равно не выплакать ей всех своих слез…
Гордо шел Давыд через двор, ловил устремленные на него заискивающие взгляды. Всем дарил он широкую улыбку, потому что радость в нем била через край и скрывать своего торжества он не намеревался. Все равно никто не поверит, будто скорбит он по усопшему Роману. Пусть знают, пусть чувствуют: появился в Смоленске новый хозяин. Молодой. Надежный. На долгие времена.
Увидев князя с княгиней, Летяга всполошился, бросился помогать Давыду сесть на коня. Он тоже уже смекнул, что настала пора менять хозяина: по всему видать, как ненадежно сидит Рюрик в Киеве. Собирается на границе с Новгородом гроза, приближается к волоку. Того и гляди, спустится не сегодня-завтра вниз по Днепру окрепшая Святославова рать.
3
Отшумела гроза. Большая туча, волоча за собой длинный подол дождя, уползла за лес, на западе выглянуло солнце, бросило в разрывы облаков, еще застилавших окраину поля, косые лучи, взорвало на листьях берез тысячи маленьких ослепительных брызг — над речкой выгнулась многоцветная радуга.
Святославна вышла на крыльцо трапезной, окинула взорам расстилающуюся за деревянными стенами монастыря необозримую даль. Вот уже вторую неделю она в обители, вторую неделю выходит в один и тот же час на крыльцо и напряженно всматривается, словно ждет кого-то. Ждать ей некого, но тоненькая нить, связывающая ее с прошлым, еще не разорвалась, еще волнует ее сердце музыка теплого дождя, шорох листвы, плеск невидимой реки. Еще живы воспоминания, да и умрут ли они, хоть и истязает она себя, хоть и пытается смирить изнуряющими молитвами.
Еще недавно казалось Святославне, что сердце ее окаменело для жизни, что чужая беда не тронет ее и чужая радость не наполнит светлой завистью.
Но молитвы не смогли стереть в ее памяти воспоминаний. Они живуче шевелились в ней, как запретный плод, они рвались на свободу и вдруг непрошенно вставали перед ней в своей осязаемой обнаженности — в келье ли перед сном, или в церкви на молитве, когда она обращала свой взор к образу скорбящей богоматери с ребенком на руках. У нее было трое сыновей, и один из них умер еще во младенчестве. Она вспоминала детский натруженный крик, видела устремленные на нее вопрошающие глаза, в которых замер испуг перед неведомым: ребенок не знал, что смерть уже третий день витала у его изголовья. Неслышной тенью входил в ложницу Роман, вставал за спиной Святославны. Его присутствие прибавляло ей силы перед лицом неминуемо надвигающейся беды, и она благодарила его взглядом.
— Ты устала, — говорил ей Роман. — Иди, отдохни.
Он трогал ее за плечо, и она безвольно подчинялась его жесту; она уходила, но не могла все равно заснуть, прислушивалась к отдаленным шорохам и боялась, что заснет, что проспит тот миг, когда к холодеющему тельцу младенца прикоснется костлявая рука смерти.
Он не должен был быть одинок в этот последний в его жизни миг, когда жизнь и небытие, сплетясь, отрывали его от ясности и простоты всего земного, ради чего человек и приходит в этот мир.
Святославна садилась на постели и, затаившись, ждала приглушенного расстоянием крика кормилицы. Но проходила ночь, а маленький Борис все еще жил. С первым рассветным лучом лицо его вновь розовело.
Тогда Роман покидал ложницу, на цыпочках, стараясь не шуметь, входил к жене и ложился рядом, но тоже не мог уснуть, и она слышала его учащенное дыхание.
Борис умер ночью — умер тихо, так тихо, что никто не заметил его смерти. Когда они пришли к нему утром, маленькое тельце было уже холодно. Свеча оплыла, кормилица сидя дремала возле его постели…
В день похорон шел длинный и нудный дождь. С деревьев опадали мокрые листья и прилипали к плащам дружинников. Один мокрый лист упал на колоду, другой — на лицо Бориса. Святославна протянула руку, чтобы снять его, и замерла: ей вдруг показалось, что молодой княжич открыл глаза и быстро закрыл их снова, словно хотел ее обмануть, как это бывало раньше, когда он ложился спать, но спать не хотелось…
Со старшими сыновьями она тоже хлебнула немало забот, но теперь они выросли, возмужали — лицом оба в отца, но совсем разные и непохожие друг на друга. Самый старший весь пошел в деда — такой же угловатый и стремительный, такой же смелый и вспыльчивый. Средний был любимцем матери — спокойный и рассудительный, с большими голубыми глазами навыкате, с застенчивой улыбкой.
Они оба провожали ее в монастырь, шли молча, с непокрытыми головами, словно были в чем-то виноваты перед нею — а чем они могли ей помочь?
Старший и позже навещал ее в монастыре, ждала она его и сегодня. Но солнце клонилось к закату, а дорога была все так же пустынна, разве только проедет мужик на телеге или проскачет гонец.
Сгущались сумерки, холодало, Святославна зябко ежилась и возвращалась в келью. Здесь все ей уже было знакомо: и узкое ложе под грубым шерстяным одеялом, и стол на толстых пузатых ножках, и перекидные захватанные руками монашек скамьи, и темные образа в углу за спокойно тлеющей скромной лампадкой.
Три стертые ногами ступеньки из белого камня вели в ее келью, перед кельей стояла темная фигура с высоким посохом в руке. Из-под низко надвинутого платка виднелся клок седых волос и кончик длинного, заостренного носа.
Игуменья Нектария каждый день навещала Святославну перед отходом ко сну.
— Что, загрезилось, княгинюшка? — спросила она ее скрипучим, надламывающимся голоском. — Снедает тоска-кручинушка или ждешь сыновей?
— И тебе не спится, матушка? — ласково откликнулась Святославна.
— Нет сна ни в глазу, дай, думаю, взгляну на послушниц.
— Заходи в келью, — пригласила ее княгиня и вошла первой.
Мелко семеня ногами, игуменья последовала за ней, села на краешек перекидной скамьи, быстрым, хищным взглядом окинула келью. Святославна опустилась на ложе и, покорно сложив руки на груди, приготовилась слушать. Однако Нектария молчала.
— Приходил нынче к нам человек от Давыда, князь велел кланяться, — сказала она наконец и пошевелила бровями.
— Передай князю и мой поклон, — тихо ответила Святославна.
— Наказал спрашивать, не прислать ли тебе чего, — все тем же ровным голосом продолжала Нектария.
— Спасибо за внимание и заботу, — поклонилась Святославна. — А нужды у меня никакой нет. В монастыре у вас тихо и хорошо.
Губы игуменьи растянулись в довольной улыбке. Но то, что знала старая, с языка у нее не сорвалось. А знала она вот что.
Приезжал на той неделе, как раз под мокриды, человек из Чернигова от Ярослава и Игоря. В Смоленск он не наведывался, с Давыдом не встречался, а виделся со Святославной — верные люди Нектарии об этом донесли. Что задумали князья, про то никому неизвестно, но задумка их против Давыда — об этом и гадать нечего. Что до Святославны, то она в монастыре, проку от нее тоже немного; что же до сыновей Романовых, то о них вся и речь. Не иначе как подговаривали княгиню Ярослав с Игорем наставить сынов против Давыда, а с ними вместе и недовольных новыми порядками бояр.
Говоря с Нектарией, почувствовала Святославна, что неспроста зачастила к ней в келью игуменья: должно, наказ получила от шурина — следить, глаз не спускать с княгини. И, вспомнив о встрече с посланным от черниговских князей человеком, забеспокоилась, хоть беспокоиться ей не было никакой причины.
Приехал тот человек, Нефедом его зовут, разыскал Святославну во время прогулки на берегу Днепра, стал намеками выпытывать, не обижает ли ее Давыд, не гнетет ли монастырское житье, про сыновей вызнавал, покачивал головой.
— Справедливый и добрый был князь Роман, с нынешним-то смоляне еще хватят горюшка. Да и сынам твоим под дядькой несладко придется. Давыд-то, сказывают, крутенек будет…
— Сыны не жалуются, — сказала Святославна.
— Это они тебя беспокоить не хотят, — живо подхватил Нефед. — А уж какая у них жизнь.
— Кличет Давыд их на совет…
— Пока, пока, — с лукавой улыбкой на губах кивнул гонец. — А бояре, бояре-то? — вдруг спросил он.
— И бояре…
— Тоже небось не нарадуются? — хихикнул Нефед. — Выходит, не шибко-то по нраву им был Роман?
— Ты что это такое говоришь?! — возмутилась Святославна, и лицо ее покрылось бледностью. — Ты куда это гнешь?
— О тебе и сынах твоих пекутся князья, Святославовы братья.
— А им-то какая от этого польза? — удивилась княгиня. Нефед не нравился ей: скользкий, вертлявый, глаза блудливые, а губы мокрые, говорит — брызжет слюной.
— Зря стараешься ты, Нефед, — сказала гонцу Святославна. — Дала я обет посвятить остаток дней своих богу, и в мирские дела ты меня не вмешивай. С сынами моими сам говори. Слава богу, не дети.
— Сразу видать, от кого набирался Роман благочестия, — осклабился гонец, но от задумки своей не отступал.
Подкараулил он ее у Днепра и на следующий день, повел все тот же разговор. Но на этот раз Святославна не стала его слушать, велела воротиться к князьям и сказать, чтобы впредь не тревожили ее в святой обители.
— Хоть здесь от вас отдохну. Дайте спокойно беседовать с богом.
Обиделся Нефед:
— Экая несговорчивая ты, княгиня. А того не знаешь, что все накопленное Романом пускает шурин твои по ветру. Смолянам-то каково?
— Как запрягли, так и поехали, — оборвала его Святославна. — Не шибко скорбели они по муже моем Романе.
— Дети они. Дети неразумные.
— Отца своего не чли. За то и мука.
— Ох, и несговорчива ты, — отчаялся Нефед. — Дай хоть весточку сынам…
— Сам ищи…
На том они и расстались. А нынче дошли до Святославны слухи, будто послали черниговские князья за половцами, будто и Всеслав Василькович полоцкий, и брат его Брячислав витебский с Ярославом да Игорем заодно. Знать, туго придется Давыду, коли навалятся на него сообща, да еще Святослав с новгородцами подоспеет, не задержится на волоке. Туго придется и Рюрику, не удержаться ему на киевском столе.
4
Прощаясь с сыном своим Владимиром, Святослав сказал:
— Ты с новгородцами-то ухо держи востро. Народ они вольный и хитрый. Ежели что, припугни.
Крестя сына, Васильковна пустила слезу:
— Покидаю я тебя, душа моя. Да ты не робей. Ты Пребране не шибко давай хозяйничать. Баба, она и есть баба. Коли что — топни ногой, брови-то сдвинь, прикрикни: смирится…
Пребране она говорила:
— Береги Владимира — слабенький он у меня. Без дела не обижай. И не гневись на нас: как-никак — свое дите.
Владимир водил пальцем под носом, шмыгал, поглядывал на жену. Молодая княгиня стояла будто каменная, на уговоры Васильковны отвечала надменной улыбкой.
Святослав сел на коня, Васильковну суетливые девки усадили в крытый возок. На Волхове уже стояли готовые к отплытию лодии. Кочкарь встретил князя с княгиней низким поклоном, разговаривая с ними, косил одним глазом на толпу — там, среди других боярышень, стояла Мирослава. При виде ее Кочкарь млел от волнения: никто не знал, что прошлую ночь провел он не на княжеском дворе, а на мягкой перине в чужом терему. Лишь только заутра, едва занялся рассвет, явился во дворец, упал на лавку и заснул, как мертвый. Едва добудились его отрока.
Мирослава махнула Кочкарю рукой — ах ты, господи, до чего же сладкой была эта ночь. При воспоминании о боярышне у Кочкаря и по сию минуту прокатывался по спине горячий озноб. И чтобы не выдать себя, он старался вовсю угодить княгине. Но от Васильковны не скрылся брошенный им в толпу пылкий взгляд. Поняла она и к кому он был обращен, опытным глазом оценила красоту девушки. Сердце царапнула ревность: «Поди ж ты, старый кобель, а еще любится». Допустили бы ее к Мирославе, все лицо ей исцарапала бы, но Кочкарь, занятый приятными воспоминаниями, не заметил перемены, случившейся с Васильковной.
Долог путь до волока, на волоке задержались еще дольше. Дружина и войско ушли вперед, предоставив мужикам самим управляться с лодиями. Ночью, сидя на бревнышке перед шатром, Святослав слушал посланных вперед лазутчиков.
— Не знаем, князь, верить тому али нет, но сказывали нам, будто пришли на смоленскую землю к Друцку твои братья Ярослав с Игорем, а с ними половцы и толпы ливов и литвы. Привел их с собою Всеслав Василькович полоцкий. А еще с черниговцами витебский князь Брячислав, — говорили лазутчики.
Два дня прятались они в болотах, уходя от погони, высланной Давыдом смоленским. Едва живы остались.
Радуясь добрым вестям, Святослав щедро одарил лазутчиков. И тут же велел подозвать к себе Кочкаря.
— Братья мои подступили к Друцку, — сказал он. — Давыду нынче не до нас.
— А верны ли сведения, князь? — спросил осторожный Кочкарь. Новость, доставленная лазутчиками, обрадовала и его: кажись, судьба снова улыбается Святославу? Только бы не промахнуться и на этот раз. Урок, преподанный Всеволодом на Влене, научил Кочкаря заглядывать вперед. А что, как все это Давыдовы козни?
Святослав отмахнулся:
— Давыд — не Всеволод. Умом его бог не наградил.
— Добро бы так, — сказал Кочкарь, — да вдруг не доглядели?
— Половецкая кровь тебе покоя не дает, — ехидно заметил Святослав.
— В степи ухо держи востро. Дай самому взглянуть, князь…
— Моим воям не веришь?
— Свой глаз всегда надежнее.
— Ну что ж, — сказал князь. — Отговаривать тебя не стану. Лучших воинов дам.
— Сам отберу…
— Ступай с богом.
Ночь — лихому молодцу попутчица. Спал Святославов стан, когда на берег Днепра выехал Кочкарь с Мартюхой, Сташком и Васякой. Все — испытанные в сечах вои. До утренней зорьки вплавь переправились через реку, углубились в леса. Когда солнце встало, добрались до глухого починка.
Поглядели из кустов: никого. Только на кокоре перед избой сидел старик и чинил бредень. Древний старик, борода белее снега.
— Здесь и пообсушимся, — сказал Кочкарь.
Подъехали ближе:
— Здравствуй, дедушка!
— И вы здравы будьте! — приветливо откликнулся дед, близорукими глазами разглядывая воев. — Кто такие будете?
Кочкарь сказал:
— Заблудились мы в лесу, ищем к Друцку дорогу, а найти не можем.
— Э, милые, — протянул дед. — Вам совсем в другую сторону. Иль впервые в этих местах?
— Раньше бывать не доводилось.
Дед скинул с колен бредень, встал, и вои увидели, что не так уж он и стар, что у него прямая спина и крепкие мускулистые руки.
— Нельзя ли у тебя, добрый человек, пообсушиться? — спросил Кочкарь.
— Можно и пообсушиться, — сказал дед. — Солнышко на небе, ветерок в лесу. Скидывайте платье, а я пока погляжу, нет ли чего, чтобы попотчевать дорогих гостей.
— Может, и медок сыщется?
— Может, и сыщется, — лукаво улыбнулся дед и вошел в избу.
Вои спешились, раскинули на поляне мокрые кафтаны. Сели в исподнем на кокору, поджали под себя ноги — зябко. Кочкарь насобирал на опушке леса валежин, свалил их в кучу, высек огонь. Валежины были сухие, костер принялся разом. Загудело тугое пламя. Мужики еще насобирали дровишек, тепло стало.
Дед вынес из избы ковш с медом, разостлал на траве чистую холстину, нарезал хлеба и мяса:
— Угощайтесь, добрые люди.
— Хороший ты человек, — сказал Кочкарь, прихлебывая мед и уплетая мясо.
Щурясь, дед разглядывал воев.
— Что так глядишь, дедушка? — спросил его Мартюха. — Аль давно людей не видывал?
— Как же, как же, — сказал дед. — Оно и верно: не ежеден ко мне гости наведываются. А одному — тоска.
— Небось рыбку ловишь? — поинтересовался маленький кривоногий Сташок.
— Ловлю и рыбку.
— И зверя бьешь? — спросил Васяка.
— Всего помаленьку.
— И князя не боишься?
— А лес у нас обчий, — сказал дед, обводя вокруг себя рукой. — Болота, топь непролазная.
— И бояре не наведываются?
— Да кому охота? — удивился дед. — Вон давеча прискакали ко мне на конях, показывай, говорят, куды запрятал татей. А я видал?.. Утопили в трясине вороного да так и вернулись ни с чем. Еще посулились наведаться. Уж не вас ли разыскивали?
— Не, — сказал Кочкарь. — Мы по другому делу.
— Оно и видать, — кивнул дед.
Должно, не впервые его стращали, вот и попривык. А в хибаре ни золота, ни серебра. Чего бояться старику?
— Ты вот давеча, дедушка, про воев сказывал, — повернул разговор на старое Кочкарь. — А еще про что не слыхивал ли? Не заходил ли кто, не поминал ли про войско?
— Про войско-то? — прищурился дед. — Про войско-то слыхивал. Был тут у меня с девкой богомаз. Зихно его кличут, прости его бог, почитай, чуть ли не весь мед выпил, еще бы неделю погостил, и вам бы ничего не осталось. Так вот он сказывал, будто видел, как шел из Друцка, много воев пешими и конными…
Святославовы дружинники переглянулись. Значит, не соврали лазутчики. Должно быть, они и отсиживались в болоте, когда их искали вои.
— Спасибо тебе, дедушка, за хлеб-соль, — сказал, подымаясь, Кочкарь, — а нам уж время приспело в дорогу. Да и кафтаны пообсохли.
— Счастливого вам пути, — напутствовал их дед.
Дальше ехали с предосторожностями: Васяка впереди, остальные — чуть поодаль. На опушке леса, под самым Друцком, чуть не столкнулись с разъездом. Дожидаясь темноты, притаились в чаще. Тронулись, когда совсем стемнело. К городу приблизились за полночь. Издалека увидели горящие на поляне костры. Осторожно объехали стан; оставив коней в лесу, спустились к реке.
На берегу, у огня, сидели вои. Один из них, чернобородый дядька с шишкой на лбу, точил на камне меч, другой, помоложе, натягивал на лук тетиву.
— Бог в помощь, — сказал, подходя к ним, Кочкарь. Вои взглянули на него, но не ответили на приветствие. Кочкарь кашлянул.
— А неразговорчивы вы, мужики.
— Тебе-то какая забота? — спросил чернобородый.
— Мне-то никакой заботы нет.
— Вот и ступай мимо.
— Ишь ты. Поди, во всем Чернигове злей тебя мужика нет.
Чернобородый отложил меч и уставился на Кочкаря. Молодой тоже удивленно вскинул брови.
— Да ты-то откуда взялся, что все про меня знаешь? — спросил чернобородый и потянулся к мечу.
«Не черниговцы, Давыдовы это люди», — запоздало сообразил Кочкарь и повернулся, чтобы идти.
Твердая рука легла ему на плечо.
— Э, нет, погоди-ка, мил человек, — врастяжку проговорил чернобородый. — Да ты, кажись, заблудился, али что вынюхиваешь?
— Не собака я.
— А вот сейчас кликну сотника. Макушка, — обратился он к молодому вою. — Зови Ермоху.
— Макушка испуганно попятился от костра. Кочкарь по-волчьи осклабился.
— Прыток ты.
— Беги, Макушка, — поторопил чернобородый паренька.
Кочкарь отшатнулся и, пригнувшись, ударил чернобородого головой в живот. Мужик икнул и сел на землю, выплевывая из рта слюну.
Макушка закричал, тотчас же в лагере поднялась суматоха. Кочкарь с воями вымахнули на взлобок берега — в лес, вскочили на коней. Справа и слева от них упало несколько стрел. На дороге послышался торопливый топот.
— Гони, гони! — взревел не своим голосом Кочкарь. Острая боль обожгла ему бок. Голове сразу стало тяжело, как от сильного удара…
Очнулся Кочкарь на той же поляне, где они были утром. Увидел морщинистое лицо, белую бороду деда. Сначала подумал: «Поди-ко ж, привидится такое», но по скорбным лицам стоящих поодаль воинов догадался, что это не был сон.
— Метко зацепила тебя стрела, — говорил дед, перевязывая рану. — Еще бы чуток повыше — и поминай как звали.
— Ты, дед, мне панихиду не пой, — оборвал его Кочкарь. — Принеси лучше взвару — все изнутри горит.
— Испей-ка вот водицы, — сказал дед и поднес к его губам деревянный ковш.
Кочкарь сделал несколько глотков, обессиленно откинулся.
— Не помогает мне вода.
— А взвар давеча еще весь выпили…
— И на том спасибо.
Только к вечеру следующего дня добрались вои с раненым Кочкарем до Святославова стана. Увидев своего любимца на носилках, Васильковна побледнела, приказала нести его в шатер. Склонившись над изголовьем, улыбаясь и кусая губы, хрипло сказала Кочкарю:
— Кобель ты и есть кобель. Велела бы казнить я тебя, Кочкарь, да где злобы занять?.. Легче достать стрелой твою ладушку…
И вышла из шатра.
Задрожал, побледнел Кочкарь.
5
В Друцке в ту пору сидел союзник Давыда князь Глеб Рогволодович. Узнав в том, что идут на него ратью черниговские князья, он растерялся и хотел уж покинуть город, но посланный Давыдом Летяга отговорил его; смоляне, мол, в беде Глеба не оставят, только бы не растворил он до их прихода ворот.
Летяга улыбался и весело посмеивался, рассказывая, как чуть не пленили его на переправе через Дручу дружинники Всеслава полоцкого, как он потом едва не утонул в реке, но выбрался, а теперь, под защитой высоких стен, смерть ему не страшна.
— Большое войско собрал Давыд, — успокаивал он перетрусившего Глеба. — Не сегодня-завтра будет на Друче. С божьей помощью одолеете черниговцев.
— Вот кабы не половцы с ними, — пробовал робко возражать Глеб.
— А половцев мы не бивали? — останавливал его Летяга. — Под вашим-то стягом…
Уверенность Летяги успокоила Глеба. Он даже выехал с Давыдовым сотником за крепостные ворота — взглянуть на приближающееся к городу черниговское войско.
Устроившись в кустах над Дручей, они наблюдали, как на другом берегу реки разбивали шатры, зажигали костры, купали коней. Глеб узнал Игоря и, совсем расхрабрившись, вывел своего белого жеребца на бугорок.
— Вот метну стрелу… — прошипел за его спиной Летяга. Но Глеб отмахнулся от него. С Игорем Святославичем они ходили не в один поход. Молодой князь нравился Глебу. Бывало, спорили они на пирах — кто кого перепьет. Игорь был крепче, на ногах держался увереннее, Глеб же кончал пировать под столом. Зато на охоте стрела его метко разила зверя, а кривой на правый глаз Игорь почти всегда бил мимо.
Увидев вершников, черниговцы всполошились. Игорь подвел своего коня к самому берегу и, приложив руку ко лбу, стал всматриваться в противоположный берег.
— Ты ли это, князь Глеб? — крикнул он, узнав своего соперника.
— Я и есть, — гордо отвечал Глеб, горяча молодого жеребца.
— Так ступай ко мне в гости.
— Нет, ты ступай.
— Скоро буду, — весело кричал Игорь. — Шире ворота отворяй!
Воины, смеясь, слушали их перебранку. Летяга, не на шутку обеспокоенный, дергал князя за рукав. Краем глаза он заприметил, как по знаку Игоря несколько всадников скрылись за бугром: не иначе, что-то задумали, может, уже переправляются через Дручу за ее крутой излукой… Но, увлеченный перепалкой, Глеб не обращал на него внимания, привставал на стременах, поднимал коня на дыбы, красовался перед Игорем. «Ровно петух», — подумал Летяга — и похолодел. Не ошибся он, угадал: от лесочка, что вверх по течению, скакало в их направлении с десяток конных воинов.
— Бежим, князь! — заорал не своим голосом Летяга. Глеб осекся, замотался в седле, как чучело, краска вмиг сошла с его лица. Непокорные руки рванули поводья, и белый жеребец, призывно заржав, устремился не к крепости, а в противоположную сторону, навстречу быстро приближающемуся неприятелю.
— Куда?! Куда ты?! — захрипел Летяга, чувствуя, как отяжелели его ноги, стиснувшие потные бока коня.
Князь, выронив поводья, размахивал руками. Почувствовав свободу, жеребец пошел размашистой рысью — и все ближе к тем, что мчались ему на перехват.
— Стой! Стой! — закричал Летяга, разворачивая своего коня. Если Глебов жеребец не пойдет быстрее, князя еще можно спасти.
— Господи Исусе, — прошептал сотник, вонзая шпоры, — не дай погибнуть рабу твоему…
Уже пропели над головой первые стрелы, уже забелели впереди хорошо различаемые лица черниговцев, уже донес встречный ветер натруженное дыхание их коней, и Летяга обостренно уловил запах конского пота, как опущенная рука его подхватила поводья Глебова жеребца, рванула их на себя.
Городские ворота распахнулись, из Друцка вырвался отряд с обнаженными мечами. С валов послышались крики, Летяга обернулся и увидел, как растерявшиеся черниговцы спешно разворачивают коней.
— Ну и горячка ты, князь, — проговорил он облегченно, когда почувствовал себя в безопасности. — И как это тебя только угораздило?
Посрамленный Давыдовым сотником Глеб ехал молча, опустив голову.
— Этак-то и вовсе просто в поруб угодить, — попрекал его Летяга.
— Конь вот… — пробормотал князь и ожег плетью жеребца.
— Коня не вини, коли сам оплошал, — сказал Летяга.
Долго еще после того посмеивались над незадачливым Глебом в Друцке, хлопали Летягу по спине:
— Кабы не ты, остались бы мы без князя.
— А коли так, служите за меня молебен, — отшучивался Летяга. Никому и невдомек было, что вышел он из этого происшествия с хорошим прибытком; подарил ему князь серебряную запону с украшенной крупными бирюзовыми камушками птицей Сирин.
Но как ни выпытывали у него хлебосольные дручане, откуда запона, никому не сказал про то Летяга: умел он хранить важные тайны, а от этой тайны многое зависело в его судьбе. Хоть и не от него, а слушок-то все равно не остановишь: от деревеньки к деревеньке, от починка до починка докатился он и до князя Давыда. И поймет тогда Давыд, что не обманулся он в своем сотнике, потому что, если бы не он, ни за что бы не спасти Глеба, а без Глеба Друцк на второй же день отдался бы черниговцам. Вот и получается, что, не послав ни единой стрелы во врага, даже не обнажив меча, спас Летяга не только незадачливого Глеба Рогволодовича, но и Давыда, а с ним вместе все Смоленское княжество.
Он увидел вытянутое лицо тысяцкого Ипатия, его белесые испуганные глаза и подумал, что и ему теперь недалеко до тысячи — в самый раз Давыду отблагодарить своего преданного воя за верную службу.
Летяга представил себе, как едет он во главе воинства на таком же, как и у Глеба, белом жеребце, как похлопывает над его головой алый прапор, как приятно оттягивает пояс на боку украшенный золотой на сечкой меч. Хорошо, что не вернулся он к Рюрику, а остался в Смоленске. Хорошо, что выехал навстречу Давыду, перед Днепровскими воротами. Хорошо, что напросился в Друцк…
Перед простыми людишками в посаде хвастался Летяга:
— Сижу я у князя Давыда в палатах рядом с боярами.
Или так говорил:
— Не глядите, что Летяга сотник. Иная сотня и тысячи стоит.
Слушая его, мужики выставляли на стол меды. Диву давались: и откуда в мужике такая бесовская силища?! Сказывают, сокрушил он на поединке не одного дружинника. Потому и ходит в милостниках у Давыда, потому у него и княжеская запона на груди.
Летяга хитро улыбался, того, что говорили, не отрицал, лишнего не болтал. Верно замечено в народе: слово — серебро, молчанье — золото.
Когда дарил ему Глеб запонку, об одном только просил:
— Давыду про нашу беду не сказывай.
— Так ведь все равно выведает, — сказал Летяга. — О том, почитай, весь город говорит.
— На Друце мы с тобой были…
— А на валах?
— Мало ли что на валах привидится.
Летяга поклонился:
— Вот тебе мое слово, князь. Понапрасну не печалуйся.
— Взял бы я тебя в свою дружину, — сказал Глеб, — да боюсь, как бы Давыд не обиделся.
Лестно было Летяге слушать про себя такие слова. Гордостью переполнялось его сердце.
А жизнь в городе текла своим чередом. Все так же бойко торговали на улицах купцы, все так же постукивали кросенные станы и звонкие кузнечные молоты, все так же поскрипывали гончарные круги и дымились домницы.
Изредка сторожа на башнях гремели в била. Тогда горожане и воины высыпали на валы, пялились в густеющий сумрак ночи. Но тревога была ложной, черниговцы стояли за рекой, и мужики, ворча на сторожей, возвращались в свои избы.
Прошли грозовые ливни с молнией и громом, потом установилась ясная и жаркая погода.
К концу недели в город вошел передовой отряд Давыда.
6
Узнав о прибытии смолян, черниговцы решили через Друцу не переходить, а подождать Святослава. Пока же конные разъезды их рыскали по окрестным лесам. Один из таких разъездов и натолкнулся на богомаза Зихно со Златой.
Бежав из Суздаля, надумали они было податься в Ростов, но подзадержались в Москве. Тут оказался на их беду проезжий купец из Смоленска по имени Синько, коренастый, молодой еще мужик с окладистой рыжей бородой и нагловатыми карими глазами в лукавом прищуре — добрый, веселый и хлебосольный.
Злата навещала в Москве своих подружек, а Зихно, обрадовавшись случаю, денно и нощно бражничал с купцом.
Синько рассказал ему, что отец его недавно умер и оставил ему свое хлопотное хозяйство: деньги в кованом ларе да груды товара в кладовых. Деньги Синько промотал с дружками — два года прогуливали, а когда протрезвел да поглядел вокруг себя, то понял, что если не хочет идти по миру, то самое время заняться делом. Товар был в полной сохранности, и Синько подался сначала в Киев, из Киева отправился в Новгород, и из Новгорода — в Булгар. На всем пути ему сопутствовала удача: товар шел хорошо. Завидовали ему другие купцы — среди них были и хожалые людишки, и никто не мог взять в толк, какое такое выучил Синько петушиное слово, что нет ему отбоя от покупателей. Последнюю выгодную сделку провел он во Владимире и вот теперь возвращался домой, чтобы отдохнуть от опасных дорог, а главное — жениться. Была у него на примете невеста, да вот дожидается, нет ли, он не знал.
— На баб-то я шибко не надеюсь, — говорил Синько богомазу, — но сердце мое — вещун. Чует оно, что ждет меня Елечка, все глаза проглядела, выходя на дорогу.
— Да кто ж она такая, что жить без тебя не может? — опрашивал Зихно.
— Купеческая дочь. Как уходил я с товаром, отец ее соляник Прокл на кресте божился, что не отдаст ее никому окромя меня.
— Счастливый ты, Синько, — нахваливал его богомаз. — Все-то у тебя есть. Ни в чем-то ты нужды не ведаешь.
Польщенный купец колесом выпячивал грудь:
— Ум да разум надоумят сразу.
С утра Синько долго сидел на лавке и громко стонал:
— Ой, лихо мне. Ой, сердце заходится. Говаривал мне батенька: не пей меды, да нет на меня плети.
Злата тормошила распухшего богомаза:
— Проснись, леший. И кто только наслал на меня столько бед. Мало что ни кола ни двора — еще и жених горький пьяница.
— Бога не гневи, — ворчал Зихно, протирая глаза, — Нешто мне велика от того радость?
— Так зачем же меды пьешь?
— Синько вон угощает.
И он кивал на исходящего от телесной муки купца.
— Ой, лихо мне, — покачивался Синько.
Хозяйка, улыбаясь, внесла и поставила на стол корчагу меда. Выпив по чаре, мужики оживились; выпив по второй, снова пустились в разговоры.
Едва выбрались из Москвы к концу недели. Еще на дорогу взяли бочонок меду, но пока к нему не притрагивались: на первых порах довольно часто попадались деревеньки, а в деревнях выпить всегда было что.
Потом потянулись глухие леса да болота — вот тут-то и пригодился им заветный бочонок. Но и бочонок не без дна. Скоро и он опустел.
— Слава те господи, — крестилась Злата, глядя на притихших мужиков.
Но пьяные мозги у них еще не просохли, и на развилке свернули они не на ту дорогу. Заехали на гать, а гать была старая, давно уж ею никто не пользовался. Вот и провалились кони в болото. Едва успела Злата с мужиками соскочить с телеги, как уж забулькали вокруг да около пузырьки, и лошади пошли ко дну. Закричал Синько, схватил коренника за хвост, едва сам не утоп в ненасытной трясине. Оттащили его богомаз со Златой в безопасное место, за руки держат, чтобы чего не натворил. А у купца глаза полезли из орбит. Да и было от чего закручиниться: кованый-то заветный ларь с деньгами тоже пошел на раскорм лешему.
Стал заговариваться купец: все про змия какого-то поминал, заклинал нечистую силу. Намаялись с ним Зихно со Златой — вот ведь как судьба-то с человеком распорядилась. Был Синько веселым мужиком, мечтал, вернувшись в Смоленск, справить свадьбу, все о невесте рассказывал, а кому он теперь нужен?..
Долго ли коротко ли они шли, часов не считали — набрели на глухую деревушку в три двора. Постучались в крайнюю избу, попросили напиться. Добрая хозяйка, сжалившись, пустила их переночевать. Накормила, спать уложила, а когда проснулись они — Синька в избе не было. Стали кликать его — не докликались. Все огороды облазили — нет Синька. Вот ведь какая задача: не сквозь землю же он провалился. Ладно бы рядом какое болото, а вокруг сухмень.
— Синько! — кричала Злата. — Где ты, отзовись!
Ни звука в ответ. Пошли в лес. А купец, вот он — рядышком, даже и в чащу не забирался: висит себе на сосне, веревочка вокруг шеи обернута, руки, как плети, брошены по бокам. Плохо начал Синько — кончил еще хуже. А ведь ежели умом пораскинуть, то и правда — куда было ему податься?
Схоронили они незадачливого купца и побрели дальше. Теперь все равно им было куда идти. Решили править на Смоленск — туда и Синько их звал с собой, обещал слово замолвить за богомаза. Теперь слово замолвить за Зихно было некому, но возвращаться в Москву, а оттуда снова идти на Ростов было ни к чему. И тут и там чужбина, а мир не без добрых людей.
Первым добрым человеком на их пути был седобородый старик с лесной заимки.
— Да где вас, милые, нечистая сила носила? — удивился он, разглядывая болтающиеся на их телах лохмотья. — Куды ж ты девку-то ведешь, гляди, как умаялась, сердешная? — набросился он на богомаза.
— Заплутали мы, — объяснил Зихно, — а идем из Суждали и путь держим на Смоленск.
— Далеко же вас занесло.
— Да все попутным ветеркам, — пошутил Зихно.
— Оно и видно. Знать, ветерок вас и пообтрепал, — улыбнулся дед.
Два дня гостили они у старика. Он им и одежду справил, и еды дал на дорогу, но богомазом остался недоволен.
— Не ветерок тебя обтрепал, мил человек, а пьянство и беспутство твое, — сказал он Зихно.
Едва весь мед не выпил у него богомаз, сам лазил по кадушкам, когда старик уходил на рыбалку. Но заветную, самую последнюю корчагу так и не сыскал.
Пошли они со Златой лесом, вышли к реке. У реки стояли стога. Чем стог не постель? Зарылись в сено, уснули.
Утром разбудил их чей-то разговор. Разгреб Зихно сено, выглянул — да так и замер с открытым ртом. На поляне перед рекой отдыхали всадники: кони паслись у воды, а вои грелись вокруг костра. Чернобородый дядька с шишкой на лбу, увидев торчащую из стога богомазову голову, поманил его к себе пальцем.
Зихно икнул и покорно выполз на поляну. Следом за ним выползла Злата.
— И девка с тобой?! — удивился чернобородый. — Кто такие будете?
— Тутошние мы, — быстро нашелся Зихно.
— Из деревни, — сказала Злата.
— По обличью вроде беглые…
— Не, тутошние, — мотнул Зихно головой.
— А коли тутошние, — продолжал чернобородый, — то вас-то нам и не хватало. Сказывайте, да живее, где через речку брод.
— Здесь брода нет, — сказал Зихно, — брод повыше будет.
— За излукой али ближе?
— За излукой. Как увидите березнячок, тут вам и переправляться…
— Ну, гляди мне, — пригрозил чернобородый, — ежели соврал, не сносить тебе головы.
— А чего врать-то? — ясными глазами посмотрел на него богомаз. — Где сказано было, там и есть брод. Сам с вечера коров перегонял.
Едва только скрылись доверчивые вои за бугорком, Зихно закричал:
— Ну, теперь давай бог ноги!
И они припустились к лесу. Но не успели добежать до опушки, как сзади послышался конский топ.
— Э-эх! — выкрикнул чернобородый и, перегнувшись с седла, огрел богомаза голоменем меча по спине.
Повалился Зихно в траву, потерял сознание…
7
Крепко перепугался Давыд, узнав, что идет Святослав с волока к Друцку, призвал к себе Летягу, велел собирать войско.
— Покидать надумал нас, князь? — пришел к нему растерянный Глеб.
— Ты уж сам боронись, — смущенно посоветовал ему Давыд, — а мне Смоленск мой спасать надо.
— Да где же мне одному-то супротив Святослава устоять, — пробовал усовестить его Глеб. — Вся надежда была на тебя.
— Своя рубаха ближе к телу.
— Да как же это?
— Запри ворота и жди. Надолго Святослав у Друцка не задержится, — сказал Давыд. — Ему в Киев поспешить надо. А как двинется он к Киеву, тут и Ярослав с Игорем снимут осаду.
— Спалит Святослав Друцк…
— Господь тебе поможет. Своего же слова я не порушу. Мне перед смолянами ответ держать.
С тем и ушел. Провожали его горожане злыми взглядами, вслед Летяге бросали голыши:
— Экой с виду-то храбрый был. А как дошло до дела, зайцем оборотился.
— Не вои вы, а бабы. Квашни вам ставить — не в чистом поле силой меряться.
— Наши-то бабы и то посовестливее будут.
Остался Глеб в Друцке один. Запер ворота, стал высматривать Святослава. А Святослав тут как тут. Долго ждать себя не заставил. Едва прибыл он — черниговцы тоже зашевелились.
Раньше-то только перестреливались через Дручу, а тут полезли на валы. Отогнали их дручане, приготовились отражать новый приступ.
Но вместо приступа явился перед воротами боярин Святослава Нежир. Осадил коня, сложив руки у рта, крикнул сторожам, чтобы звали Глеба. Есть, мол, к нему разговор, а какой — про то скажет только князю.
Вышел Глеб к частоколу, перегнувшись, спросил:
— Почто кличешь?
— Боярин я, Нежир. Послан к тебе князем Святославом.
— Ну так говори, с каким делом.
— Горло у меня не луженое, а дело тонкое. Ступай за ворота, здесь и поговорим.
Выехал Глеб к Нежиру на белом жеребце, остановился поодаль. Боярин поклонился князю.
— Ну так сказывай, с чем прислал тебя Святослав, — сказал Глеб, стараясь держаться с достоинством, потому что знал: глядели на него с валов горожане. А то бы деру дал.
Нежир, оглядывая валы, улыбнулся.
— Подгнил у тебя частокол, князь Глеб, — намекнул он словно бы мимоходом. — Да и ров обмелел.
— Не твое дело, — оборвал его князь. — Сказывай, с чем пришел.
— Оно-то так, — продолжал, улыбаясь, боярин. — К слову только сказано. Стар я, разговорчив, а ежели что замечу, то не по злобе говорю. Пожил бы ты с мое, князь, поглядел бы мир, тогда бы и смекнул, что твои ворота и часу и не устоят перед Святославовыми пороками.
— Может, и дольше устоят.
— Может, и дольше. А уж кровушки прольется…
— Не по моей вине.
— По твоему упрямству.
— Уж ежели ты так о дручанах моих печешься, — сказал Глеб, — то времени бы на слова зря не тратил, а поворотил к Святославу и посоветовал ему идти куда идет, а город мой оставить в покое.
— Складно все говоришь, — похвалил его боярин. — Да как посоветую я Святославу? Смоленский-то князь Давыд много ли с тобой советовался?
— О Давыде молчи, — налились негодованием глаза Глеба. — А Друцк — мой город. Я за него и в ответе. С Давыдом говорить поезжайте в Смоленск.
— Давыд нам пока не к спеху.
— А Друцк — костью в горле застрял?
— Э, князь, — покачал головой Нежир, — да с тобой, как я погляжу, нам не столковаться.
— Города я не сдам.
— Разгневаешь Святослава.
— Бог простит.
— Прощай, князь.
— Прощай, боярин.
Поклонился Глебу Нежир, повернул коня. Глеб тоже поворотил своего жеребца. Ехал довольный собой. Улыбался. Не струсил-таки перед Святославом, теперь бы в бою не оробеть.
Молод был Глеб, жил с оглядкой на старших. Учился у них степенности, а прорывало его, как петуха; учился умные речи сказывать, а говорил не к месту; учился храбрости, а сам не раз показывал врагу спину. Нынче впервые не оробел, даст бог, не в последний раз.
У Святослава дыхание перехватило от гнева, когда услышал он от Нежира сказанное Глебом.
— Ах ты молокосос! — вскочил он со скамьи. — Нешто драться со мной задумал?!
— Упрям молодой князь, — сказал Нежир. — Я и сам подивился. Вроде бы он смирен и покладист. А тут ишь как распетушился.
— Я ему перья-то повыдергиваю, — пообещал, оттаивая, Святослав. — Да вот беда: не гоже нам стоять под Друцком, когда Рюрик собирается с силой.
Донесли Святославу, что спешат на помощь киевскому князю луцкие князья, Всеволод с Ингварем, а галицкий князь Ярослав послал к нему свое войско с боярином Тудором. Не останется, знать, в стороне, и Мстислав Владимирович, приведет с собой трипольские полки.
— Ты под Друцком, князь, не медли, — нашептывал ему Кочкарь. — Веди войско свое к Рогачеву. Нынче принял я гонца — уже второй день дожидаются там наши лодии.
И Васильковна говорила:
— Пусть сводят счеты с Глебом князья черниговские. То их дело.
Не расставалась она с мечтой о Горе. Не терпелось скорее въехать в Киев, подняться по знакомому всходу в терем, сердцем отдохнуть над полноводным Днепром, каким открывается он из окон ее ложницы.
Нет, не время нынче Святославу стучаться в ворота затерянной среди лесов маленькой крепости. И хоть дерзок Глеб и достоин примерного наказания, счеты свести с ним никогда не поздно. Пусть думает, что одолел могучего Святослава, пусть радуется и пирует со своей дружиной — вина у него всегда в достатке, не то что воинов. А чтобы очень не расходился на радостях, велел Святослав Кочкарю спалить вокруг Друцка деревни.
Среди ночи заполыхали за крепостными стенами города зловещие пожары, застучали на стрельнях сигнальные била, высыпали дручане на валы, торопливо крестились, охали и вздыхали. А утром обрадовались: слава те господи, пронесло.
Ушел Святослав под покровом темноты — и след его простыл. Князь Глеб, узнав об этом, обессиленно опустился на лавку. Когда за полночь донесли ему о пожарах, снова почувствовал он, как наливаются свинцом его ноги и немеют руки, страх сковал тело, и уж приготовился он встречать погибель свою или позорный плен. Но счастье в который уж раз улыбнулось молодому князю.
Вышел он на крыльцо, подбоченясь, оглядел столпившуюся на площади ликующую толпу. Широким жестом пригласил к себе виночерпия, велел ставить всем меды и брагу.
Сам пировал с дружиной до глубокой ночи, слушал угодливые речи бояр. К утру совсем одурел от радости, рубил мечом столы и лавки, звал Святослава на поединок.
Едва увели его дружинники в терем, едва уложили спать. А как коснулся он головой подушки, так и затих, будто умер.
С утра снова лились меды и брага. И так целых три дня. На четвертый день прямо за столом пошла у князя горлом обильная кровь.
8
Зихно очнулся от сильного холода. Руки и ноги его были связаны. Рядом мирно жевали траву стреноженные кони, воины сидели у костра и с любопытством смотрели на него.
Зихно изогнулся и сел. Чернобородый с шишкой на лбу, тот, что ударил его мечом, отошел от костра и опустился перед ним на корточки.
— Ну как? — спросил он.
— И пьяно и сытно, — ответил, с трудом шевеля разбитыми губами, Зихно.
— Ладно ли воев обманывать?
— А ты уж тут и за меч…
— Чуть воев моих не перетопил.
— Кабы знал про брод…
— Так сам же сбрехнул. Грешно это, — покачал головой чернобородый.
— Не тутошный я, — признался Зихно. Мирная беседа с чернобородым немного успокоила его.
— Не тутошный, а брод указал.
— С перепугу.
— Знамо, с перепугу, — улыбнулся чернобородый и, вынув из-за пояса нож, пересек путы. — Вставай, богомаз, да садись к костру. Злате поклонись, это она тебя выручила. А не то изрубил бы в куски, шибко зол я был на тебя…
Только тут Зихно увидел сидящую у огня Злату. На плечи ее был накинут чужой кафтан, из-под высокой шапки змейкой выскользнула русая коса.
Зихно сел к костру. Кто-то сунул ему в руку краюху хлеба, кто-то протянул кружку с крутым кипятком, Зихно отхлебнул из кружки, ожегся, виновато взглянул на внимательно наблюдавших за ним воев.
— Вот, рассказала нам молодица, — сказал, стоя за его спиной, чернобородый, — что ехали вы в Смоленск с купцом Синькою, да попали в беду.
— Хуже и не бывает, — согласился с ним Зихно, на спуская со Златы благодарных глаз.
— Болот здесь вокруг не считано, — заметил один из воев. — Давеча-то и наш чуть не утоп. Едва вытащили.
— А конь пропал, — с грустью сказал другой.
— Вот так и у Синька, — подхватил богомаз.
— Добрый был конь, — будто не слыша его, продолжал воин. — Большая подмога в хозяйстве.
— То верно! — сразу подхватил чернобородый. — Конь в хозяйстве — все равно что баба в избе.
— А нынче что получается, — повернулся к нему воин. — Забрали нас от земли, пустили рыскать по болотам. Чего в болотах-то мы потеряли?
— Не наше это дело, — прогудел над ухом богомаза чернобородый.
— Да как же не наше-то? — всполошился воин. — Детишки-то наши с голоду пухнут.
— Не у тебя одного пухнут. Судьба у нас обчая.
— Судьба обчая, да не все пополам.
— Ишь, чего захотел, — засмеялся чернобородый. — Чего ж князем-то ты не уродился?
— Мамка виноватая.
— Был бы князем, спал на перине.
— Мне и на земле мягко.
— Потому как она нам кормилица.
— А что мужику надо?..
Все замолчали, занятые своими мыслями. Вспоминали воины брошенные семьи, думали об оставшихся в деревнях женах. Нынче им одним управляться с урожаем. А осенью князь приедет за податью.
— Что-то не пойму я, — сказал Зихно, прервав молчание, — Не то пленники мы ваши, не то гости?
— Ишь, чего захотел, — улыбнулся чернобородый. — А как потопли бы мои вои, с кого спрос?
Мужики тоже заулыбались.
— Так бы уж и потопли, — вставила словечко Злата. — Мужик ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
— Ловка на язык!
— Догадлива!..
— Хорошая у тебя баба, богомаз.
Злате понравилась похвала, осмелела она и — снова к чернобородому:
— Светает уж. Отпустил бы ты нас, Христа ради. А?
Мужикам понравилась настойчивость девушки.
— И верно, отпусти их, Евтей, — попросил молодой вой.
— Шибко добрый ты, Макушка, — нахмурив брови, сказал чернобородый. — А что, как нынче подадутся они к Святославу?
— Богомаз он…
— На лице не написано.
— Девка врать не будет…
— Ан и девка с ним.
Евтей упирался — нравилось ему, что его упрашивали. Давно ли стал он десятинником, а уж не простой воин. С него и спрос не такой, как с Макушки. А то ведь после сами же донесут сотнику.
— А смолчите?
— Будто не знаешь…
— Ну, ладно, — решился чернобородый. — Ступайте, страннички, куда путь наладили, да больше мне не попадайтесь.
Злата тотчас же вскинулась у костра, сбросила чужой кафтан и шапку.
— Ой, спасибо тебе, Евтеюшка, — радостно проговорила она и поклонилась чернобородому. Зихно тоже поклонился ему:
— Сколь ни идем, все на пути добрые люди встречаются.
— Попадутся и злые, — предостерег Евтей.
Сказал не задумываясь, да будто в воду глядел. Беда стряслась под Смоленском, когда уж обрадовался богомаз, что все самое трудное осталось позади.
Откуда было знать им, что той же самой дорогой возвращался из-под Друцка в вотчину свою под Смоленск с дружиной и челядью Святославов боярин Нежир? Откуда было знать им, что задумал боярин? Да и сам Нежир ни о чем не ведал, а просто был в хорошем настроении и велел привести к себе схваченных в лесу подозрительных странничков. Попотешиться хотел да и отпустить их с богом, а все бедой обернулось.
Привели странников к боярскому шатру пред очи млеющего от истомы и выпитого вина Нежира. Открыл боярин один глаз, открыл другой: подивился на девку. Стал дразнить Зихно:
— Эка рожа у тебя. Как есть свиное рыло.
— Чай, не воду пить, — пробовал отшутиться Зихно.
Боярин не отставал:
— Балаболка ты, мужик неотесанный.
— Двумя топорами тесали, да оба сломали.
— Уж не скоморох ли ты?
— Богомаз.
Обрадовался Нежир:
— Богомаз-то мне как раз нынче и нужен. Церковка у меня при усадьбе. Распишешь?
— Чего ж не расписать, — сказал Зихно. — Дело это мне привычное.
— Вот и ладно.
— А как платить будешь? — поинтересовался Зихно.
— Платить-то? — ухмыльнулся Нежир. — Платить-то буду щедро, не обижу.
— А хлеба?
— И хлеба мои.
— А одежа?
— И одежа.
— А мед?
— Ненасытное твое брюхо, богомаз! — рассердился боярин. — Эй, люди! — крикнул он. — Вяжите этого молодца, да покрепче. С девки тоже глаз не спускайте. Беглые они.
Кинулись на богомаза боярские служки, повалили на землю, скрутили. Злату втолкнули в возок.
— Ну как? — спросил, издеваясь, Нежир. — Может, теперь столкуемся?
— Не подходит тебе моя цена, боярин, — сказал Зихно. — Жаден ты.
— Вот посидишь в порубе, — пообещал Нежир, — станешь сговорчивее…
— Своим товаром я не торгую.
— Не торгуешь, так даром возьму…
— Воля твоя.
— На то я и боярин, — важно сказал Нежир и велел сворачивать шатры.
Держал он свое слово, зря на ветер не бросал: по приезде в Смоленск посадил богомаза в поруб. А Злату отправил на кухню, перед тем наказав отмыть ее хорошенько в баньке да попарить с веничком. Разобрала его, старика, охотка взглянуть на девичье молодое тело.
Глава пятая
1
Прибыл Дато в Олешье — и удивился: картлийских купцов хоть пруд пруди. Куда ни пойдешь, везде слышишь грузинскую речь.
— Словно в Тбилиси попал, — грустно сказал он Зоре. — Товар мой в Олешье не пойдет, а осень на носу. Не возвращаться же обратно.
— Верно рассудил, купец, — согласился с ним Зоря. — А не попытать ли тебе счастья в Киеве?
Разгорячился Дато:
— Хороший совет даешь, кацо. Пусть дураки сидят в Олешье.
И тем же вечером они двинулись вверх по Днепру. Скоро приплыли в Киев. Но и в Киеве было много картлийских купцов.
Совсем потерял Дато голову. Тут подвернулся ему возвращавшийся из Галича Ярун.
— Не грусти, купец, — сказал он картлийцу. — И окромя Киева много городов на Руси. Поехали со мной во Владимир.
О Владимире Дато никогда не слышал.
— Еще услышишь, — пообещал Ярун. — А то, что вернешься к себе домой с хорошим прибытком, я тебе твердо обещаю.
Призадумался Дато: все-таки странно. Далеко забрался он от родного Картли. А заберется еще дальше. Но и возвращаться с пустыми руками ему тоже не хотелось. Согласился.
— Порадую я князя Всеволода, — сказал Ярун. — Охоч он до нашего брата. Встретит и проводит тебя, как сына родного.
На том и били по рукам. И Зоря чуть не плясал от счастья: нет нужды ему искать попутчиков, да и к картлийцу он привязался, не хотел с ним расставаться.
В ту пору как раз Рюрик Ростиславович сел на киевском столе. Примазывался к киевлянам, пировал с ними, на пирах меды и вина лились рекой. Но, как ни угождал киевлянам новый князь, те были себе на уме. Не очень-то доверяли ему, не могли забыть старого Святослава. Хоть и был он прижимист, и пиров не пировал, и киевлян не задабривал, а было им спокойно за его спиной. Что до Рюрика, то, может быть, он и лучше, да что-то не очень-то верится. Вон и слухи уже потекли: мол, идет Святослав на Киев с новгородцами и черниговцами, хочет стол себе вернуть. А как вернет да спросит у киевлян: так-то вы блюдете клятву, даденную мне в бытность великим князем. Чуть пошатнулся подо мной стол — и кинулись к первому попавшемуся: иди княжить к нам, а Святослава мы забыли.
Нет, не забыли киевляне Святослава, и хоть хороши у Рюрика меды, хоть и поит вволю, а веры ему нет. Нет и не будет. И на том стоят киевляне, и на том держится преподанный им Андреем Боголюбским урок. Не хотят они, чтобы снова жгли их посады, не хотят идти в плен, а из плена в рабство. Давно уж мечей не держат они у себя во дворах, заржавели в подвалах кольчуги, боевые топоры зазубрились от черной работы, а булавы пошли для гнета на капусту.
Нынче Рюрику присягают киевляне, завтра снова присягнут Святославу, а ежели побойчее сыщется князь, то и ему отворят ворота.
На купецком подворье шумно, слышится разноязыкая речь, русские и булгары, немцы и грузины сидят рядышком, играют в кости, за игрой да за разговорами не забывают и о делах: хвалят свой товар, чужой хулят, выторговывают друг у друга по ногате. Никому не хочется оставаться в убытке. На то они и купцы. Обиды друг на друга не таят, нож за спиной не прячут. Из беды друг друга выручают, княжеским мытникам спуску не дают.
Свой мир у купцов, свои законы, своя дорога. С разных концов земли пришли они в Киев, и хоть говорят на разных языках, а понимают друг друга. Такие они люди. Всем на зависть и всем на удивленье.
Казалось бы, что общего у Дато с Яруном? А вот на же тебе: сидят рядышком, как родные братья, и цель у них одна, и оба хитры, хоть один пришел из Тбилиси, а другой из Новгорода. Оба пойдут во Владимир, а ежели нападут на них разбойнички, встанут рядом спина к спине и будут драться до последнего издыхания.
Купцы не только ловкие, но и самые отчаянные люди. А без этого лучше в дорогу и не собираться. Потому что дорога — и риск, и вечная опасность, которая поджидает на каждом шагу. Вышел на нее богатым человеком, а вернешься в лохмотьях с клюкой в руке, вышел без гроша в кармане, а вернешься в бархате и жемчугах. А то и вовсе не вернешься и не сыщут костей твоих до скончания века.
Только раз прошел Зоря купецким трудным путем, а словно прожил две жизни. Сколько же таких жизней прожил Ярун, если борода у него бела как лен, если вышел он с первым товаром, когда еще пробивался под носом ранний пушок?!
Нетерпеливый Дато поторапливал старого купца:
— И чего сидеть нам в Киеве? Так-то всю зиму просидим. Сгниет мой товар, кому тогда будет нужен?
— Товар твой не лежалый, ничего с ним не станется, — успокаивал картлийца Ярун, — а нынче, когда на дорогах шумно, лучше сидеть за надежными стенами. Вот разберутся Рюрик со Святославом, тогда и тронемся. Вои — народ озорной, оторвали их от земли, от родного крова, приучили к безделью, а человек без дела хуже лесного зверя. Куда спешить?
— Не кровь у тебя в жилах, а водица, — возражал ему горячий Дато. — Если всего бояться — зачем жить?
— Экой ты нетерпеливый, — смеялся Ярун. — А вот мы привыкли жить с оглядкой. Раз оглянешься, два оглянешься, в третий раз пригнешься, а стрела-то над головой и пролетит.
— Оглядываться — только шею крутить. Если твоя стрела, все равно смерти не миновать. А два раза в землю не ложиться.
— Ложился я и два раза, а в третий охоты нет. Впервой было, когда ходил к Дышечему морю, а во второй раз совсем недавно, под самым Галичем…
Слушая Яруна, покачивал Дато головой:
— А напугал ты меня, купец. Может, повернуть, пока не поздно? Товара жалко, да своя голова дороже…
— Со мной не бойся, — рассмеялся Ярун. — Иль невдомек тебе, что я завороженный?
— Ты-то завороженный, а меня детки дожидаются.
— Чай, и мне еще белого света поглядеть охота.
— Отчаянный ты человек.
— Отчаянный, да не сорви-голова, как ты. Если бы не я, завтра же пустился бы ты в дорогу.
С того дня Дато немного попритих. Оставив его на подворье, Ярун с Зорей отправились на торг, выспрашивали, что слышно на Горе.
Однажды поднялся в городе сильный шум. Тут уж сразу смекнул Ярун, что неспроста зашевелились оружейники. Дни и ночи дымились в посаде домницы, бойко стучали молотки.
— Чей наказ? — интересовался Ярун у оружейников. Отрываясь от наковален, оружейники говорили:
— Князев.
Шел Ярун к щитникам и к бронникам. И их про то же спрашивал. И они отвечали, что наказ у них князев.
— Дождались, — сказал Ярун картлийцу. — Не нынче, так завтра идет Рюрик на Святослава.
2
Сгущались сумерки. Митрополит киевский Никифор, сидя в кресле перед столом на толстых дубовых ножках, молчал. Смуглое лицо его с темными, как маслины, глазами было непроницаемо.
Перед митрополитом, склонившись, стоял горбатенький ромей с большими оттопыренными ушами — верный слуга его Агапит. Облаченный в просторную хламиду из серой шерсти, горбун сливался с погружающимися во мрак стенами: лицо его, плоское и невыразительное, являло собой олицетворение покорности.
Никифор вздохнул и потянулся рукой к писалу, брошенному поверх большого пергаментного листа.
О чем писать?
За дверью митрополита ждал гонец из Царьграда, привезший послание патриарха. Патриарх выговаривал Никифору за молчание, жаловался на скудость даров. Или так обеднела Русь, что перестали водиться в ее лесах соболя и черные лисы? Или обленились холопы и не доставляют на митрополичий двор стерлядей и осетров?..
«Обмельчал патриарх, — с неприязнью подумал Никифор. — Погоня за роскошью погубила царьградский двор, тлетворный дух коснулся и церкви».
А митрополита волновали дела земные.
Совсем недавно, здесь же, у этого самого стола, принимал он облеченного его особым доверием греческого купца Ириния. По поручению Никифора ходил тот во Владимир и Ростов, встречался с епископом ростовским Лукой.
Не очень-то радостные вести привез Ириний. Епископ Лука произвел на него тягостное впечатление.
— Болен старец, доживает свой век, — распевчиво говорил он. — Немощен и запуган. Нет в нем уже былой твердости. Ростовские бояре раздавлены Всеволодом. Не на кого положиться епископу. Да и соборы в Ростове хиреют, отобрал у них владимирский князь лучшие земли, отдал своим людишкам. Слышал я, — перешел он на полушепот, — будто замышляет Всеволод перенести епископию во Владимир…
Вот где нужно искать причину, рассуждал Никифор. Киевские дела уже не волновали его. На Горе меняются князья, а жизнь идет своим руслом. И русло это, возникнув далеко на севере, пробивает себе путь в самые отдаленные уголки Руси. Вон и Святослав, на что мудрый и хитрый князь, а жить стал с оглядкой на Всеволода. Ищут дружбы его и новгородцы, и галицкий князь Осмомысл. Твердая рука владимирского князя простерлась и на Рязань, и на Муром, и на Новгород-Северский, и на Чернигов, и на Смоленск.
Что толку в том, что Рюрик сел в Киеве? Завтра снова сядет Святослав. А Всеволоду все на пользу. Не ратью берет он, а умом. Не в битве решает споры, а использует княжескую вражду. Повергнув Святослава, не стал добивать его. Выждал. Теперь смотрит из своего далека, как Святослав расправляется с Давыдом и Игорь с Ярославом идут на Рюрика.
Выжидает Всеволод, ждет своего часа, а когда пробьет он, вся Русь будет под его дланью. Тогда и киевский митрополит окажется на окраине земель русских, тогда ослабнет и воля царьградского патриарха.
Но разве обо всем это напишешь на обыкновенном листе пергамента, разве вместит он тревогу и раздумья Никифора? И разве не призван он сам крепить единую веру, которая держится не на одних только молитвах?
Не в доброе время оказался Никифор на Руси. Здесь он одинок и беззащитен. И не в его силах остановить или изменить то, что рождено в самой глуби народной, к чему зовут отбившиеся от Царьграда безродные и исступленные в правоте своей попы.
К единству призывают не только протопопы и игумены, к единству зовут вечевые колокола в богатых городах и железные била в городах победнее. И дальновидные бояре, и простой люд давно уж разглядели в княжеских усобицах грозящую им большую беду…
Нет, не напишет обо всем этом патриарху Никифор, все равно не понять его убеленному сединами, изнеженному старцу, как не понять этих грубых и мужественных людей, способных спать на голой земле и создавать величественные храмы.
Русь, Русь… Извечная тревога и загадка. И не измерить ее царьградскою куцею мерой. Чтобы понять русского человека, нужно родиться на Руси. Родиться в бедной избе под белесым небом, впитать в себя шорох ее степей и лесов, журчание воды в ее могучих реках, вдыхать запахи дыма и хлеба, весенних цветов на опушках, ходить с рогатиной на медведя, орать пашню, корчевать пни, сражаться с булгарами, уграми, чудью и половцами, издыхать под плетьми, пройти дорогой рабства и все-таки остаться свободным.
Ничего этого сделать Никифор уже не мог. И, обмакнув в краску писало, он начертал патриарху о церковных доходах, о житье монастырей, о дарах, которыми был так озабочен Царьград и которые были уже в пути.
3
Сняв осаду с Друцка, Игорь с Ярославом и с половцами направился впереди Святослава к Киеву и стал на Долобском озере. Навстречу ему вышел Рюрик с Мстиславом Владимировичем. В пути Рюрик задержался, войском командовал Мстислав, при котором находились Рюриков тысяцкий Лазарь с младшею дружиною, воевода Борис Захарыч с людьми молодого княжича Владимира и Сдеслав Жирославич с трипольскими полками.
Войско устало после длительного перехода, но Мстислав не давал ему отдыха: лазутчики донесли ему, что выдвинувшийся вперед Игорь встал на реке Черторые, что пришедшие с ним половцы не ждут нападения и даже не выставили заслонов.
Подбили Мстислава Черные Клобуки, примкнувшие к его войску, на отчаянный шаг: напасть на половцев врасплох, когда они будут спать.
Тысяцкий Лазарь, прослышав об этом, предостерег князя:
— Не верь, князь, Черным Клобукам. Ненадежные они вои. Шуму наделают много, спугнут Игоря, а как дойдет дело до сечи, пустятся наутек.
Прямодушный Мстислав посмеялся над его осторожностью:
— А мы-то с дружиной нашей зачем?
— Сомкнут нас Черные Клобуки.
— Даст бог, выдержим.
Покачал головой тысяцкий: кому неведомо, что Мстислав Владимирович — отчаянная голова? Оттого и прозвали его Храбрым. Да не всегда храбростью одной красна победа. Иной и храбр и ловок, и силушкой не обделен, а сложит буйную голову — и никто не помянет его добрым словом. Другой же хил и осторожен и сам не лезет в сечу в челе дружины своей, а бьет противника, и с малой силой.
Нет, не послушался Рюрикова тысяцкого Мстислав, радовался легкой победе: вот-де рассеем Игоревых мужиков, потопчем половцев — и повернет Святослав обратно в Новгород, а Рюрику и делать будет нечего.
Но осторожный тысяцкий не привык доверяться слепому счастью: ему ведь тоже хотелось победы, но только верной. Послал он дружинников на Черторый — проведать, не замышляет ли Игорь какой-нибудь уловки.
А Игорь весь день пировал в стане у половцев и отрывался от чаши для того только, чтобы узнать, не подошел ли к Долобскому озеру Святослав. Самому ему, как и у Друцка, не хотелось добывать чужую победу. Не ему — Святославу сидеть на Горе, пусть Святослав и кладет за Киев свою дружину.
Половцы тоже не спешили — худо ли им жилось на чужих-то хлебах? Набили они сумы захваченной без риска добычей, пожгли немало смоленских деревень, теперь озоровали по Днепру. Выпустят отряд, как стрелу из лука, — вечером возвращаются в Игорев стан, гонят перед собой мужиков и баб. Ухмыляются. Хорошо им гулять по Руси, хорошо, когда ссорятся друг с другом князья.
Принимали они у себя Игоря, как дорогого гостя, хвалили, похлопывали по спине, скаля белые зубы:
— Хорош русский хлеб.
— Хороши русские детки.
— Бабы русские хороши.
И плакали пленницы, топча босыми, изодранными в кровь ногами свою заскорузлую землю. Плевали Игорю под ноги, шли, проклиная его, в ненавистную степь.
Своими людьми откупался Игорь от половцев, и не терзала его неразбуженная совесть.
Не он один продавал в рабство русских людей — не свое отрывал, чужое. Так испокон веков поступали князья: то не мое, что не в моей вотчине.
Пил Игорь меды с половецким ханом Есыром, обнимался с ним в шатре, измывался над Рюриком. Поддакивал ему, щелкал языком хитрый Есыр:
— Будешь братом моим, Игорь.
— А я и есть твой брат, — пьяно бормотал огрузший от выпитого князь.
— Приезжай в степь — будешь гостем моим.
— Нынче ты мой гость.
— Много в степи у меня кобылиц, еще больше красавиц.
— Зачем мне твои красавицы, Есыр? — удивлялся, недоуменно уставившись на него Игорь. — Погляди-ка вокруг: разве мало у меня красавиц?
— Хорошие женщины у тебя, князь.
— Бери любую.
И брал Есыр все, что хотел.
Погуляли, славно погуляли половцы по Русской земле. Да только не все возвратились в степь. И не в битве пали они, а за дележом добычи. Защищали себя люди, как могли — от князя помощи не ждали.
Нагрянули как-то половцы в деревню, согнали баб на околице, удивились:
— А где же ваши мужики?
Молчали бабы, хоть и знали, что корчуют мужики недальний лес под роздерть.
Стали половцы над ними глумиться:
— Видим, нет у вас мужиков. Верно, прячутся они под вашими подолами.
Нет, не расшевелили баб. Согнали их в кучу, повели на просеку, а сами со страхом на лес поглядывают. Половец в степи молодец, а в лесу он сам себя боится. И неспроста: посыпались из леса на тропу меткие стрелы. Заметались половцы на просеке, кричат, саблями размахивают, рассекают воздух. А когда положили их всех до единого, вышли из-за кустов мужики, похвалили баб. Но, зная коварство степняков, в избы свои не вернулись: тем же вечером оставили деревню и скрылись в леса — новое место отправились искать, драть новину под пашню…
Отгуляв в шатре у Есыра, возвращался Игорь в свой стан. Обмякшее от вина тело князя заваливалось на сторону, заботливые отроки с двух сторон поддерживали Игоря. Ночь стояла тихая и звездная, рядом шуршала, набегая на откосы, река, кони шли понуро. Князь бормотал что-то, изредка вскидывал голову и снова опускал ее на грудь. Отроки, тоже подпившие, ехали молча.
За болотистой низинкой едва белеющая в темноте тропа взбегала на бугор, поросший мелким березняком. За бугром были свои.
На счастье, Игорь не торопился; на счастье, отроки были пьяны; на счастье, кони то и дело сходили с тропы и тянулись губами к сочной траве. Если бы ехали они чуть быстрее, то увидели бы людей, осторожно пересекавших тропу в том месте, где начинался березняк. Люди выходили из березняка, как бесплотные тени, и исчезали за крутым изгибом Черторыя. При скудном свете звезд тускло поблескивали их обнаженные мечи и копья, слышался приглушенный шепот, позвякиванье металла о металл, сливающийся шорох шагов.
Потом все стихло, и, когда последний человек, замешкавшись, скрылся под берегом, отроки с князем Игорем взобрались на взлобок и остановились на том месте, где только что проходили люди.
Один из отроков, тот, что был моложе всех, склонился с седла и стал внимательно разглядывать непонятный след. Но тот, который ехал с ним рядом, засмеялся и сказал, что это пастухи еще вечером прогнали на водопой коров. Отрок приподнялся на стременах, вытянув шею и прислушиваясь, посмотрел по сторонам. До него еще донесся какой-то отдаленный шум, но выпитые меды бродили у него в голове, и он подумал, что шум ему примерещился, и облегченно опустился в седло.
Если бы отрок не пил у половцев медов и если бы, увидев загадочный след, не послушался своего друга, беды не стряслось бы. Стоило бы ему ударить плетью своего коня, стоило бы подъехать к Черторыю, и он ужаснулся бы открывшейся перед ним картине.
В половецком стане догорали костры, степняки беспечно спали, накрывшись войлочными одеялами, а со стороны болота в полной тишине подбирались к ним русские воины. Вот один из них приподнялся, оглянулся на товарищей и, коротко взмахнув рукой, свалился, будто сокол с неба, на дремлющего дозорного.
Пронзительный крик раздался в ночи. Подкравшиеся воины разом встали и бросились на стан.
4
Застигнутые врасплох половцы бежали. Напрасно пытался остановить их Есыр, напрасно метался среди них на вороном жеребце, напрасно стегал плетью по спинам бегущих.
Черная, зловеще гудящая лавина русских надвигалась со стороны болота. До слуха Есыра доносился звон мечей, стоны раненых и вопли тонущих в трясине людей. Чей-то конь с рассеченной шеей вырвался из темноты, волоча зацепившегося ногой за стремя убитого половца. Краем глаза Есыр увидел серебряное оплечье и оправленный лисьим мехом воротник. Он узнал своего верного оруженосца Урусобу. Конь заржал и остановился возле хана. Нога Урусобы выпала из стремени, он запрокинул голову и напряженно приподнял мертвеющие веки. Рот приоткрылся, но вместо слов из него раздалось хриплое клокотанье. Есыр вздрогнул и отвернулся.
«Где Игорева дружина?» — подумал он, судорожным взглядом окидывая горбящиеся по берегам Черторыя холмы. И только тут вспомнил, что Игорь совсем недавно был у него в шатре, они мирно беседовали, сидя на ковре, а потом отроки водрузили князя в седло…
Русские приближались. Оставшиеся в живых верные воины хана сгрудились вокруг Есыра. Он слышал за спиной их взволнованное дыхание, прикинул, что воинов не менее трех сотен и что, если он сейчас прикажет им следовать за собой, они пойдут без звука, даже если это будет безумно и бессмысленно, потому что сзади была река и всех их ждали смерть или позорный плен.
Нет, не пощадят их русские, не сыщется у них жалости к степнякам: у каждого из них либо сын, либо жена, либо отец, либо близкий родич порублены, сожжены, проданы половцами в рабство.
И отчаявшийся Есыр выхватил из ножен саблю, взмахнул ею над головой, и три сотни сабель сверкнули в сереющем небе.
С гортанными криками ринулись половцы на русских. Русских было немного, их было еще меньше, чем степняков, они положились на ночь, внезапность и удачу. Они были храбрыми воинами и дрались ожесточенно. Но силы их иссякли, и, когда Есыр, разделив отряд, накинулся на них со стороны болота, дрогнули русские, отступили, а потом, побросав копья и щиты, бросились в свой тыл.
На поле брани осталась лишь горстка смельчаков, и среди них — тысяцкий Рюрика Лазарь. Горы трупов положил вокруг себя Лазарь, громкий голос его, пытавшийся остановить бегущих, перекрывал грохот мечей.
И, пробиваясь к нему на вороном жеребце, Есыр звал за собою половцев. Но половцы отошли, и хан оказался с Лазарем лицом к лицу. Могучий, как дуб, тысяцкий тоже увидел хана, и злорадная улыбка скользнула по его бледным губам.
Он крякнул, поднял над головою палицу, и воины, стоявшие за его спиной, отпрянули.
Солнышко уже пробилось над краем леса, высветило бронзовые скулы Есыра, когда сошлись они в смертельной схватке. Взвизгнул Есыр, охнул тысяцкий. Гулко хрястнула Лазарева палица по щиту хана, ханская сабля распорола тысяцкому синее корзно.
Разъехались они, развернули коней и снова ринулись навстречу друг другу. Во второй раз скользнула палица тысяцкого по половецкому кожаному щиту, Есырова сабля распорола Лазарю кафтан.
Разъехались они в третий раз и в третий раз сошлись. И лопнул Есыров щит, и, обливаясь кровью, скатился хан с коня в желтый прибрежный песок.
Много половцев побили в то утро русские, еще больше врагов утонуло в реке.
Лишь одному из трех сотен степняков удалось спастись, но и его достала на бугорке метко пущенная русским лучником стрела. Пошатнулся половец, схватился за грудь, но верный конь вынес хозяина к Игореву стану.
Едва продрав распухшие веки, уставился Игорь на свалившегося к ногам его конника, недоуменно оглядел отроков.
— Разбиты мы, князь, — прошептал половец немеющим ртом и стеклянно уставился на него помертвевшими глазами.
Ни слова не сказал Игорь, будто льдом сковало ему ноги. Хмель вышибло из головы, но сдвинуться с места он не смог. И если бы не расторопные дружинники, попал бы он в плен к Сдеславу Жирославичу, потому что конница Сдеслава уже врезалась в Игорев стан.
Подхватили дружинники князя под руки, потащили одеревяневшее тело его к реке, перенесли в лодию, оттолкнулись от берега. И только на середине Черторыя пришел в себя князь, стал ругаться и требовать, чтобы гребцы повернули обратно к стану.
— Да погляди-ко, князь, мыслимо ли это? — стали уговаривать его дружинники.
— Трусы! — кричал им князь и раскачивал лодию. — Кому велено поворачивать?
— Что ж поворачивать-то? — дивились дружинники. — Али не видишь ты, что нет уже твоего воинства?
Поутих Игорь, сел на лавку и громко зарыдал.
— Подвели меня поганые, — причитал он. — Ежели бы не они, ни за что не дался бы Сдеславу.
— А и половцев потопили в реке.
— Туда им и дорога, — сказал, успокаиваясь, Игорь.
Столпившиеся на берегу воины Сдеслава метали в них стрелы. Но быстрое течение Черторыя подхватило лодию, дружинники налегли на весла и скоро скрылись из виду.
К полудню весть о разгроме Игоря дошла до Святослава, к вечеру Рюрик вернулся в Киев, а утром следующего дня примчался на запыленном коне в Святославов стан посланный великим князем гонец.
Рюрик писал, что больше не хочет крови, что уступает ему старшинство и Киев, а себе берет остальные города. Так сели на великом столе два князя.
Свершилось задуманное Всеволодом. Теряло свое значение поделенное между князьями великое Киевское княжество.
И взоры всех удельных князей изумленно поворотились на север, где высился над Клязьмой украшенный лучшими мастерами белокаменный город Владимир.
Глава шестая
1
Мир между Мономаховичами и Ольговичами был скреплен двойным родственным союзом: выпущенный Всеволодом из поруба сын Святославов Глеб женился на Рюриковне, а другой его сын, Мстислав, — на свояченице владимирского князя.
Укрепившись за пределами своего княжества, Всеволод занялся делами внутреннего его устройства.
Уже давно и серьезно волновало его то, что духовная власть в лице епископа Луки, как и прежде, оставалась в Ростове. И он не мог успокоиться, не свер шив задуманного еще братом его Андреем Боголюбским.
Предстояла долгая и трудная поездка в бывшую столицу княжества, которую он так не любил. Но дело, однажды начатое, требовало завершения, и Всеволод не стал его откладывать.
Зимним путем, с небольшой дружиной, оставив во Владимире княгиню, отправился он на север. В тот год повсюду стояли большие морозы и глубокие снега.
Не доезжая Москвы, княжеский обоз был задержан сильным снегопадом и разыгравшейся после него метелью. Кони, надрываясь, вытаскивали из сугробов возки, снег залеплял глаза и уши, вокруг висела непроницаемая мгла, и Всеволод, подозвав Ратьшича, стал советоваться с ним, что делать дальше. Ратьшич настаивал на том, чтобы переждать непогоду, Всеволоду не терпелось поскорее попасть в Москву.
— Дороги перемело, князь, — сказал Ратьшич, закрывая лицо от ветра рукавицей. — Такого снегопада я еще отродясь не видывал. Что, как собьемся с пути? На обратный след не выйдем, того и гляди, заплутаем в лесу.
— А провожатые на что?
— Мужики и сами всполошились.
— Чай, уж заплутали?
— Все может быть.
— Велю гнать мужиков. В своей-то округе им хоть глаза завяжи…
Всеволод нервничал. Бледное лицо его со смерзшимися снежинками в бороде было взволновано. Он откинул пошире полсть и вышел из возка. Ледяной ветер сорвал с него шапку, он едва успел поймать ее на лету. Кузьма тоже соскочил с коня и встал рядом с князем по пояс в сугробе. Впереди слышались крики и отчаянная ругань.
В снегу замаячили темные фигуры. Шли трое, сгибаясь под ветром и придерживая руками распахивающиеся полы шуб.
— Должно, возницы, — сказал Ратьшич.
Всеволод всматривался в приближающихся людей. По обличью они не походили на возниц, а другому некому было быть в голове обоза. На переднем, том что погрузнее и пошире в плечах, была дорогая шапка из лисьего меха. Полы шубы оттопыривал длинный меч.
Кузьма шагнул вперед, властным жестом остановил людей:
— Кто такие? Почто оставили возы?
Шедший с краю низенький мужичонка, весь залепленный снегом, сорвал с головы треух.
— Да вот, — сказал он, заикаясь, — наткнулись на людишек. Возы у них застряли в лесу. Сказывают, купцы.
Всеволод разглядывал кряжистого мужика. Лицо его показалось ему знакомым.
— Как зовут? — резко спросил он.
— Яруном кличут, — не опуская глаз, спокойно ответил мужик.
— Ишь ты, — вспомнил Всеволод, раздвигая губы в улыбке. — Бывал и ране во Владимире?
— Доводилось, — сказал купец. — И с тобой беседовал, княже, как отправлялся к булгарам.
— К Дышучему морю ходил?
— Хаживал… Да ты-то отколь про то ведаешь, князь? — удивился Ярун.
Всеволод улыбнулся:
— Устюжский воевода доносил. А это кто с тобой? — повернулся он к его соседу.
— Зоря я, — склонился тот, — дружинник князя Юрия.
— Да тебя-то откуда бог принес? — изумился князь.
— Пристал я в Тмутаракани к картлийскому купцу Дато. Вместе дошли до Киева. А в Киеве встретили Яруна…
— Почто ж бросил ты своего князя? — нахмурился Всеволод. — Донесли мне, будто подался Юрий в Царьград, а с ним дружина.
Зоря наморщил лоб.
— Не гоже русскому человеку жить на чужбине, — смущенно проговорил он. — Уж и в половецких вежах чуть не помер я от тоски, а как увидел море, да как подумал, что обратно его уже не переплыть, так и вовсе покой потерял. Женка у меня осталась в деревне…
— Не вини его, князь, — вступился за своего попутчика Ярун.
— А где же ваш картлиец? — оборвал его Всеволод.
— Замерз дюже. С возами остался.
— Ну-ка, ведите меня к нему, — приказал князь. «Вот порадую я Марию», — подумал он, садясь на подведенного Кузьмой коня.
Ветер бросал в лицо колючий снег. Деревья скрипели и раскачивались. Конь под князем хрипел и закидывал на сторону морду.
В голове обоза, чуть в стороне, под сникшей от налипшего на ветви снега сосной горел костер. У костра на обрубке дерева сидел человек, протягивая к огню озябшие руки.
Услышав храп коня, человек пошевелился, обернулся, и Всеволод увидел устремленные на него поверх воротника внимательные темные глаза.
Опережая князя, Ратьшич ловко выпрыгнул из седла, торопливо приблизился к незнакомому и тронул его за плечо.
Человек вздрогнул, удивленно посмотрел на Ратьшича и встал. Всеволод спрыгнул с коня у самого костра, бросил Кузьме поводья. Темные глаза купца блеснули так знакомо, что у Всеволода вдруг защемило сердце: у Марии были такие же глаза, с лукавинкой, такое же тепло струилось из них, когда она, выбежав на крыльцо, провожала князя в дальнюю дорогу. Он еще долго вспоминал этот взгляд и думал потом, что зря не взял Марию с собой в Ростов — в пути она не была бы ему обузой, и он не чувствовал бы себя сейчас так одиноко.
Дато приложил руку к груди и склонился перед Всеволодом. Внимательно разглядывая гостя, князь сказал:
— Какие пути привели тебя в наши края, купец?
— Шел я в Киев, — ответил Дато, — но в Киеве встретил своих собратьев. Как торговать купцу, если товар его не в ходу? Попались мне добрые люди, пригласили с собой во Владимир. Тебя нахваливали, говорили, во Владимире мне будут рады.
— Попутчики твои правду сказали, — кивнул головой Всеволод. — Но еще больше меня обрадуется тебе наша княгиня.
Дато улыбнулся:
— Слышал я, будто она родственница князя нашего Сослана? Верно ли это?
— Верно, купец, — сказал Всеволод, — и потому ты — мой гость.
— Спасибо тебе, княже, за приглашение, — обрадовавшись, поклонился ему Дато.
Всеволод порывисто обнял картлийца.
— До Владимира тебе нынче добраться не просто, — сказал он. — Можешь ехать со мной в Ростов.
— Смею ли отказаться? — растроганно улыбнулся Дато. — О Ростове я тоже наслышан. А в княжеском обозе путешествовать надежнее.
— Пойдем к моему костру, — предложил Всеволод, — Люблю я послушать бывалых людей. А ты, чай, много чего повидал?..
Подошли Ярун с Зорей, услышали последние Всеволодовы слова.
— Так, может, и меня возьмешь с собой, княже? — стал напрашиваться Ярун. — И мне есть что порассказать…
— Не хвастаешь?
— Вот те крест, — подстраиваясь под шутливый тон Всеволода, оказал Ярун.
— Ну, коли так, делать нечего. Ступай и ты со мной в Ростов.
Он повернулся к Зоре:
— Нешто и тебя взять?
— Не, — смущенно сказал Зоря. — Мне в Ростов не по дороге. Благодарствую на добром слове, княже. Но путь мне нынче один выпал — в родную деревню.
— Ишь ты, — быстро взглянул на него Всеволод, — Да ты не из робких.
— Чай, ведомо: мы володимирские…
— Хорош, — засмеялся Всеволод. — Ну а коли так, вот тебе мое слово: наскучит дома — приходи ко мне. Возьму в свою дружину.
Зоря, как стоял, так и бухнулся ему в ноги:
— Как благодарить тебя, княже?
— Вот придешь, так и отблагодаришь верной службой. Смелые люди мне нужны.
— Вовеки должник твой буду.
— С богом.
Зоря попятился и скрылся в снегу…
2
Когда епископу Луке сообщили, что в Ростов прибыл Всеволод и уже сидит в трапезной, он побледнел и велел всем выйти. Приезда князя Лука не ждал.
Раньше, бывало, впереди Юрия или Андрея скакали биричи, бояре загодя собирались на совет, думали-гадали, какой устроить прием. К городским воротам выходил епископ с клиром, на улицах толпились празднично разодетые горожане, за два дня до приезда кня-зя все готовилось к пиру: сокалчие варили уху, жарили лебедей и уток, подрумянивали на вертелах лосиные туши, медовары свозили на княжеский и епископский дворы брагу и меды.
Теперь все переменилось. Князь наезжает не как гость, а как хозяин. Наезжает в полночь-заполночь, подымает бояр с постелей, велит держать отчет. Возражений не терпит, сидит на стольце нахмуренный, недовольно поджимает губы, если сказанное боярином слово не нравится, распаляется гневом, стучит об пол ножнами меча.
Нет, не на радость прибыл Всеволод в Ростов. И неспроста. Давно уж не жалует он бывшую столицу, а если и заглядывает, то затем только, чтобы собрать дань, или потребовать людей для войска, или привести в чувство иного зарвавшегося боярина.
Виделись они после смерти предшественника его Леона только раз, но и тогда сразу не понравились друг другу. Нынче князь, кажись, приехал по его душу.
Лука неторопливо надел темную однорядку, перепоясался простым власяным пояском.
Пока одевался, кряхтел и часто вздыхал: немочен был он последнее время, кашлял, задыхался. А тут еще простудился после баньки, щеки его пылали, в голове стоял жар. Ноги подгибались в коленках и вздрагивали.
Оправив на груди однорядку, Лука перекрестился на образа, вздохнув, вышел в переход. У двери лежал большой рыжий пес с обрезанным коротким хвостом и гноящимися глазами.
Увидев Луку, пес поднялся с рогожной подстилки и радостно заскулил, прижимаясь к ноге епископа. Лука рассеянно улыбнулся, нагнувшись, потрепал пса за ухом.
В переходе было холодно. Часто семеня непослушными ногами, Лука прошаркал к двери трапезной, еще раз перекрестился и толкнул высокую резную створу. Пес проскочил впереди него и, крутясь на ковре, громко залаял на незнакомого человека.
Всеволод сидел на лавке сбоку от окна. Белый свет, падавший в трапезную, скрывал в тени его лицо. Увидев Луку, он встал, быстро подошел к нему и, слегка поклонившись, жестом пригласил к столу.
Кровь бросилась в лицо епископа: князь не принял от него благословения, и рука Луки, сложенная щепотью, повисла в воздухе.
Всеволод заметил его жест, заметил смущение на его лице и улыбнулся. Заметил он и нездоровый румянец, разрисовавший щеки епископа, и лихорадочный блеск его глаз.
Небольшая заминка у порога еще больше смутила епископа. Свежее, пышущее здоровьем лицо Всеволода вызывало в нем неприязнь. Но, отправляясь сюда, он дал себе слово быть сдержанным и не выдавать своих чувств. В присутствии Всеволода сделать это было очень трудно.
Лука подошел к столу, сел, молча глядя на князя. Всеволод тоже молчал.
Пес крутился по ковру, гоняясь за своим коротким хвостом. Шум его возни раздражал епископа, Всеволод же, казалось, с любопытством наблюдал за игрой.
— Вот так и человек — та же подлая возня. А зачем? — произнес он, не подымая головы.
— О чем ты, князь? — удивился Лука.
— О жизни. О нас с тобой. О боярах и о холопах наших…
— Жизнь дана от бога, — покашляв, сказал Лука с достоинством, — ибо сказано в писании…
Всеволод оборвал его:
— Писание чёл. И не единожды.
Леон подобрался на лавке. Всеволод сказал:
— Худо живешь ты, отче.
— Худо, да не хуже других, — кичливо отозвался Лука.
Всеволод усмехнулся, посмотрел на пса, на однорядку епископа, грустным взглядом окинул потускневшие стены трапезной, попорченные молью ковры.
— Ровно на краю земли стоит, захирел Великий Ростов, продолжал князь, глядя прямо в глаза епископа. — Ехал вот я и дивился: купола собора давно не золочены, стены источила сырость.
— В том беда наша, князь.
— Не беда, отче, не беда, — покачал головой Всеволод.
— А коли не беда, то что же? — спросил Лука, уже догадываясь о несказанном.
— Упрямство.
— Упрямство? — нахмурился Лука, чувствуя, как дрожат пальцы его покоящейся на столешнице руки. — Перекрестись, князь, — не ты ли еще при Леоне отнял у наших церквей доходы? А загляни-ко в монастыри: чернецы пухнут с голоду. Рушишь веру, князь. Грех на душу берешь превеликий…
— Гордыню твою смиряю, отче, — сказал Всеволод. — О чем печешься ты на своей окраине?
— О благе паствы.
— Так почто же отвернулся от тебя бог?
Лука покраснел, растерянно пожевал губами. Усмешливый взгляд князя сбивал его мысли.
Всеволод встал, придерживая за ножны меч, прошелся по трапезной. Пес откатился от его ног в угол, уставился из темноты желтыми лешачьими глазами.
— Псы и те у вас одичали, — ровным голосом, без раздражения, сказал Всеволод.
Вернувшись к столу, он сел на лавку, прилип прищуренными глазами к смятенному лицу епископа. Губы Луки дрогнули.
— Хулу возводишь на меня, князь.
— О благе общем помышляю.
— Помышляешь, да токмо о своем…
Глаза Всеволода потемнели. Но он сдержался. Отвернувшись, посмотрел за окно. Неужто зря ехал? Неужто не сломить старика?..
Лука молчал. Успокоившийся пес снова стал возиться на ковре. Всеволод покачал головой:
— Умер Микулица — осиротели мы.
— Леон тоже умер, а велика ль ему честь? — с ехидцей в голосе проговорил Лука.
— Честь по заслугам… А нынче мы тебя ждем, отче, во Владимире. Быть ему и моим и твоим стольным городом.
Вот оно! Главное сказано. Не ошибся Лука, угадал: к нему только и ехал в Ростов Всеволод.
Не решаясь прямо отказать князю, Лука попытался вывернуться:
— О чем толковать? Митрополит все равно не даст позволения.
— То забота моя, — оживился Всеволод, уловив в его голосе колебание. — Решись.
Лука молчал. Зря подал он князю надежду.
Не первый год сидит Лука в Ростове. Как умер Леон, так его и избрали. Привезли из дальнего монастыря, не посмотрели, что стар. В тревожное время доверили паству… В жизни-то много чего повидал Лука и понял. Люди приходят и уходят, времена меняются. Великий Ростов — столица боярская. Нынче вознесся Владимир, завтра сгинет в небытие. Не обрести Всеволоду покоя, покуда жив и тверд в своей воле Лука. Покуда жив он, жива и старая вера… Неспроста любил Луку милостями своими жаловал в былые времена Леон.
Терпелив был Всеволод и умен. Знал, что победа над Святославом еще не победа, коль прорастает сорняк на его собственном поле…
Бился ветер в слюдяные окна, потрескивали от мороза бревна, на ковре возился желтоглазый пес.
— Решись, отче, — проговорил Всеволод, вперив в епископа настойчивый взгляд.
Но было ясно — Лука не уступит, не переедет в новый Владимир крепить Всеволоду власть. Вытащил его Леон из смрадной кельи, заметил, приласкал; бояре ростовские тоже постарались — не зря золотишком сорили, не зря будоражили чернь.
Вскочил Всеволод вне себя от гнева.
— Врагам моим потатчик! — закричал, выкатывая из орбит глаза. Губы сжал до синевы, стиснул зубы.
Отпрянул Лука, в испуге перекрестил грудь:
— Свят, свят…
Взвизгнул и, сев на задние лапы, протяжно заскулил пес.
Всеволод вышел, бухнув тяжелой дверью.
Беззвучно разевая рот, Лука отрывал скрюченными пальцами пуговки однорядки. Пес подпрыгивал и лизал ему руки.
3
Нет, не усидела Мария одна во Владимире. Вскоре после отъезда Всеволода приснился ей нехороший сон: будто идет князь по ровному полю, по обледенелому насту, а спина у него в крови, кровь на шее и на плечах. Проснулась Мария вся в слезах, разбудила кормилицу, утром рассказала про сон Досаде.
И решили они, что со Всеволодом приключилась беда. Мало ли что могло случиться на зимней дороге?… Вон дружинник Юриев Зоря, встретивший Всеволода в лесу под Москвой, сказывал, в какую они попали метель. А с тех пор больше недели прошло — и ни весточки.
Велела Мария запрягать возки и пошевни, быстренько собралась и на крещенье уже была в Ростове.
Всеволод удивился ее приезду, упрекнул, что не послушалась его, а после обрадовался. Надоели ему ростовские бояре, чуть не каждый день приходившие к нему с жалобами друг на друга, надоели их кислые меды и недожаренные лебеди.
Мария привезла из Владимира сокалчих, умевших готовить просто и вкусно. А еще потчевала она его своими блюдами, от которых у Всеволода все горело во рту, а из головы вышибало дурные мысли.
Едва ли не больше Всеволода обрадовался приезду Марии Кузьма Ратьшич. Еще когда сгружали возы, еще когда сенные девки, хохоча и повизгивая, сносили в терем княгинины лари и шкатулки, увидел он Досаду в беличьей душегрее — увидел и обмер от счастья.
А нынче утром скакал он рядом с ее возком на прогулке по озеру. Скакал и поглядывал на медвежью полсть: не покажутся ли в щелочке девушкины глаза. И верно — увидел он, как откинула тонкая рука в вязаной рукавичке пушистый мех, как блеснули в улыбке белые зубы. Не кому иному — ему была назначена улыбка. Не могла же не заметить Досада не отстававшего от возка княжеского милостника!
Снегопады, поозоровав, сменились морозами, а потом вдруг наступила оттепель, солнце вскарабкалось на небесную синеву, поля засверкали, и чуть ли не весь город высыпал на валы и на озеро.
Лихо несли украшенные лентами кони княжеские и боярские возки по белоснежной озерной глади, лихо покрикивали возницы, лихо скакали рядом с возками дружинники.
Ветер, посвистывая в ушах Ратьшича, напевал ему веселую песенку, сердце его радовалось, и не заметил он, как свернул возок с Досадой в сторону, как выросла на краю дороги крутая льдина. Взлетел возок одним полозом на льдину, перевернулся, кони дернулись, сорвали постромки. Вознице размозжило ногу; волоча ее по льду, заскулил он по-щенячьи. Но его видел Ратьшич одним только глазом — сам он мигом слетел с коня и бросился к возку, приподнял его плечом, поставил на полозья. И из-под меха прямо на руки ему вывалилась бесчувственная Досада.
Подхватил ее Кузьма, прижал к себе, сам не свой от страха, кинулся к коню. Бережно придерживая девушку, привез ее в окружении зевак и сочувствующих к княжескому терему. Мария заохала, захлопотала, велела звать знахарей. Досаду уложили в постель, растерли тело жгучими травами, пустили кровь.
Всю ночь не сомкнул Кузьма глаз, прислушивался к шорохам, долетавшим с женской половины. А утром, ни свет ни заря, первым делом отправился к Марии: все ли ладно с Досадой?
Улыбнулась княгиня, глядя в осунувшееся лицо Ратьшича:
— Не казнись, твоя ли в том вина?.. Досаде нынче совсем хорошо.
— Да спала ли в ночь?
— Как дите.
— Слава тебе господи, — перекрестился Кузьма, и Мария шепнула ему на ухо:
— Тебя вспоминала.
Обрадовался Ратьшич. А Мария масла подлила в огонь:
— Хочу, говорит, видеть Кузьму. Кабы не он, лежать бы мне во сырой земле.
— Вот оно… — снова испугался Ратьшич. — Неужто так и сказала?
— Аль не веришь? — сдвинула брови Мария.
— Прости меня, матушка, — спохватился Кузьма. — Совсем, знать, отшибло у меня разум.
— А ты разум-то не теряй, а ступай к Досаде, — смягчилась Мария и взяла Ратьшича за руку.
— Не пойду я, матушка, — вдруг уперся Кузьма.
— Да что же ты?! — удивилась Мария.
— Стыдно мне…
— Экой ты стыдливой, — засмеялась Мария и настойчиво потянула его за собой.
Противиться княгине Ратьшич не смел.
В ложнице, куда они вошли, горела свеча на столе, и всюду еще лежал полумрак. Мягкие половички заглушали шаги, но Досада услышала их, повернула голову, и слабая улыбка коснулась ее губ. Ратьшича удивила бледность лица боярышни и грустные глаза ее, устремленные на Марию.
На Кузьму Досада только взглянула и тут же отвернулась.
— Вот, привела тебе твоего спасителя, — сказала Мария, подталкивая перед собою Ратьшича.
— Спасибо тебе, — сказала боярышня, стараясь глядеть мимо Кузьмы, — кабы не ты, придавило б меня возком.
— Да что возок, — чувствуя переполняющую его радость, воскликнул Кузьма, — я бы крепостные ворота поднял, даром что окованы железом.
— Эка, — засмеялась Мария. — Ну и хвастун же ты, Ратьшич. Где же тебе поднять ворота?
Досада тоже засмеялась, и это еще больше раззадорило Кузьму. Посмотрел он вокруг себя, увидел брошенную у печи кочергу, схватил, скрутил в узел.
— Ну и здоров ты, Кузьма, — удивилась княгиня.
Кузьма промолчал с достоинством и, поклонившись, стал прощаться с девушкой.
— Ровно навсегда уходишь, — добродушно заметила Мария. — Небось завтра свидитесь.
Кузьма еще раз поклонился Досаде, повернувшись, поклонился княгине.
— Добрая ты душа, — сказал он с благодарностью в голосе. — Ежели бы не ты, княгинюшка, не знаю, что бы со мною сегодня было.
На следующий день Досада уже гуляла по двору, и Кузьма шел рядом с ней. Дивился, глядя на своего любимца, Всеволод:
— Совсем не узнать стало Ратьшича. А нынче взял я в толк: влюбился.
И шутливо погрозил Марии пальцем:
— Испортишь ты мне доброго воина.
Радовалась княгиня, что все так хорошо обернулось. Ведь и не думала, не гадала она, что полюбится Кузьма Досаде. А то, что полюбился, по глазам видать.
Все хорошо нынче, все ладно. И Всеволод рядом. На охоту не ездит, пиры не пирует, не собирает бояр. Сидит целыми днями в трапезной, босой, в одном исподнем, листает книги. Морщит лоб, водит пальцем по строкам, шевелит губами.
А в мыслях у него — Лука.
Упрямый старик. Ни на лесть, ни на угрозу неподатлив. А неподатлив оттого, что труслив.
— Без Луки мне во Владимир хоть не возвращайся, — говорил он вечером Марии.
— Да что тебе дался Лука? — удивлялась княгиня.
— Печать на нем патриаршая. В Чернигове испокон веков свой епископ, то же и в Новгороде, и в Смоленске. А во Владимире, хоть и выше он всех городов, своего епископа нет. Вроде бы на стороне занимаем. Вроде бы от бедности. А ведь и Чернигов тот же, и Новгород, и Смоленск под моей десницей. Неужто не смягчится Лука?
— Смягчился бы, кабы не Киев, — догадалась Мария, — А в Киеве Никифор. А над Киевом — сам патриарх. Нешто непонятно?
— Боятся они меня, — мотнул Всеволод головой.
— Тревожатся…
Глаза Марии излучают улыбку. «Ишь ты, во всем уже разбирается», — с уважением подумал Всеволод о жене. И, обняв, нежно привлек ее к себе. Ластясь к нему, княгиня говорила:
— Хоть бы посватал ты Кузьму.
— Рано еще, — отвечал, целуя ее, Всеволод.
— Отца ее, боярина Разумника, кликни.
— Почто ему ехать в Ростов?
— Как услышит, небось сам прилетит. Пошли ему весточку.
— Другие дела у меня на уме.
Да разве Мария отступится?..
Поторговав в Ростове, ехали во Владимир Дато с Яруном. Им и наказала она разыскать боярина.
— Все исполним, как велено, — сказал Ярун. — Ты на нас положись.
— Та на меня положись, батони, — приложил руку к груди Дато. — Хорошо у вас на Руси, но все-таки лучше в Картли. Приезжай к нам в гости, рады будем. Из Владимира путь мой снова лежит на Киев, а оттуда в Тбилиси. Не передать ли поклон от тебя Давыду Сослану?
— Обязательно передай, — попросила Мария. — И горам нашим поклонись.
— И горам поклонюсь. Хорошо у нас в горах.
— Прощай, Дато.
— Прощай, батони.
Ушли возы с купцами на юг, и, проводив их, взгрустнула Мария.
4
Ох, и круто меняет жизнь человеческую судьбу. Вчера еще только поглядывал боярин Зворыка свысока на Разумника, а сегодня — первый у него на дворе:
— По всему городу слухи прошли, будто кличет тебя в Ростов сам князь Всеволод.
Гордо подбоченясь, Разумник отвечал:
— И верно — кличет.
— Да что ж ему от тебя надо?
— А то и надо, что кличет, — уклончиво объяснил Разумник, потому что и сам не мог взять в толк, зачем понадобился он князю. Человек он вроде бы незаметный, на совете у Всеволода голоса его сроду не слыхивали. Да и что взять с худого боярина, который все хозяйство свое пустил по ветру?! И не из-за разгула, а по доброте и доверчивости. Другой бы с его-то деревеньками да землями в первые люди вышел. А Разумник на том же все потерял.
И вот — на ж тебе, вспомнил про него князь. И Разумник делал вид, будто знает что-то, да не может сказать. Это еще больше подзадоривало Зворыку.
Вечером он выговаривал сыну:
— Дурак ты, дите неразумное. Сватали тебя за Досаду, а ты сопли распустил. Нынче был бы при князе первым человеком. Глянь, как распетушился Разумник.
— Что мне Разумник, ежели Досада не мила? — хмуро ответил Василько.
— Опять же дурак ты, — проворчал Зворыка. — Аль девки от тебя убегут? Так и любился бы, ежели кто по душе. Нешто отец тебе добра не желает?..
— Да как же это — не любя?
За день до отъезда принесли Разумнику новый кафтан, клобучник Лепила сшил ему знатную шапку. Заказал себе боярин и сафьяновые синие сапоги.
В дороге Разумник все погонял возницу, если где и останавливался, то только на ночь. Прибыл в Ростов и — сразу на княжеский двор. Удивился, что принял его не Всеволод, а княгиня. Еще больше удивился, узнав, зачем звали. Но, поразмыслив, понял — породниться с Ратьшичем тоже великая честь.
Вечером выпытывал у Досады:
— Да чем же тебя пленил-то Кузьма?
Ничего не сказала ему на это Досада, и показалось почему-то Разумнику, что вовсе и не рада она предстоящей свадьбе.
Откуда было знать старому боярину, сколько слез пролила его дочь, прежде чем призналась во всем Марии.
— Не люб мне Ратьшич, — говорила она, стоя на коленях перед ложем княгини. — Не за милого иду, по нужде, а не по сердцу.
— Да как же тебя понимать? — удивилась княгиня. — Не ты ли мне давеча сама признавалась, что нет никого для тебя краше Кузьмы?
— Сама себя обманывала. А нынче вижу — не люб он мне.
— Про то и думать не моги, — осерчала на девушку Мария. — Зря, что ли, звали в Ростов Разумника?
— Батюшке моему радость…
— Не батюшке за Кузьму идти. Чай, никто тебя не принуждал. Сама надумала.
— Надумала-то сама, от слов своих не отказываюсь, А тебе, княгиня, признаюсь, как на духу.
— Ты про Юрия-то забудь, — догадавшись о ее мыслях, строго сказала Мария.
— Вовеки не забуду.
— Пути ему обратно нет.
— Ране-то и я думала: куда мне с ним на чужбину? А нынче только бы кликнул…
— Глупая ты…
— А кто уму-разуму научит? Любит меня Кузьма — знаю. Да мое-то сердце холоднее льда. Намается он со мной…
— Стерпится — слюбится.
— И про то знаю. Потому тебе и открылась.
Смягчилась княгиня, прижала Досаду к груди, стала ее успокаивать: ведь и ее за Всеволода отдавали — не спрашивали; привезли за тридевять земель.
Так и справили свадьбу. На свадьбе три дня и три ночи пили меды за молодых. Сидел Кузьма рядом с Досадой счастливый. А охмелевший Разумник плакал от восторга и лез к нему целоваться.
5
На грачевники Всеволод с Марией, со двором и с дружиной прибыл во Владимир и тем же днем призвал к себе Никитку.
Давно уж не был Никитка в княжеском тереме, робел дюже. Но Всеволод принял его ласково. Стал выведывать да выспрашивать, каково живет, не соскучился ли по работе. Обещал побывать в гостях, а нынче посылал его в Суздаль — поглядеть на Рождественский собор: подправить стены, подновить купола.
— Сказывали мне, будто ветшает божий храм, заложенный дедом.
Вспомнил исхлестанные дождями и снегом ростовские соборы, подумал со злорадством: «Пущай Лука и упрям, пущай кичится. Пущай молится в своих церквах. Сам собой захиреет Ростов — небось тогда и поклонится». И еще про дивную Никиткину мечту спросил:
— Не забыл ли?
— Во славу твою, князь, поставлю храм, — сказал Никитка. — Когда прикажешь?
— О том сам скажу, а покуда езжай. Понадобишься — призову.
Сборы были недолги. Через два дня обоз с каменщиками и инструментом уже въезжал в гостеприимно распахнутые городские ворота Суздаля.
На переднем возке рядом с Никиткой ехал Маркуха. Паренек с любопытством озирался по сторонам.
Остановились в ремесленном посаде.
В тот же день отправился Никитка осматривать собор. На берегах Каменки уже виднелись рыжие проталины, лед на реке потемнел и стал рыхлым. Грачи в этом году прилетели прямо на свои гнезда, и, по приметам, это означало, что весна будет ранней и дружной.
Пока Никитка с Маркухой простукивали стены, к собору подошел высокий монах в серой рясе, сел на бревнышко, подставив лицо горячему солнышку.
Никитка уж несколько раз взглядывал на него — вроде знакомый монах. Не Чурила ли?
И правда Чурила.
— Да как же ты обо мне проведал? — удивился Никитка, обнимая монаха.
— А хитрости в том никакой нет. Узрел в слободе возы, подошел к каменщикам, чьи, говорю?
— Вот радость-то! А я думал — доведется ли ещё свидеться.
— Никак, хоронить меня собрался? — пошутил Чурила.
Никитка сел на бревнышко рядом с монахом, стал расспрашивать о Зихно.
— Зря в бега подался богомаз, — сказал Чурила. — Порешили-то они со Златой великого грешника, и через то вины на них никакой нет.
Пока они так разговаривали, вспоминая прошлое, на поляну поднялся от реки дед с длинной — до пояса — бородой, со сморщенным, будто лежалая репа, маленьким лицом. Почтительно поздоровавшись с Чурилой, он со вниманием пригляделся к Никитке.
— А енто кто такой? — спросил монаха.
— Князев камнесечец, Никиткой его зовут, дедушка Поликей, — почтительно ответил Чурила.
— Уж не храм ли подновлять прибыл? — улыбнулся Поликей.
— Угадал, дедушка, — сказал Никитка, вставая с бревнышка.
— А тут и гадать нечего. Храм-то наш давно не подновляли, — кивнул старик.
— Сколь уж лет стоит…
— Да, почитай, лет шестьдесят, а то и боле, — наморщил лоб Поликей. — Я тогда совсем еще молод был, а князь Владимир Мономах, дед нынешнему-то, как раз прибыл в Суждаль с дружиной…
— Сколько же тебе лет, Поликей? — удивился Никитка.
— Лет-то? — он смущенно покашлял и растерянно посмотрел на Чурилу. — Не чёл я, сколько мне лет, а — много. Живу вот и живу, а смерть моя все где-то по другим ходит. Знать, заблудилась, безносая… Да-а, — задумчиво поглядел он на купол собора. — Будто сегодня это было, а жизнь-то и вытекла, словно из дырявого корыта. Плинфу мы вона там в печах обжигали, — указал он скрюченным пальцем на отлогий берег Каменки.
— Свои ли мастера возводили собор? — спросил Никитка.
— Не, — покачал головой Поликей. — Шибко много людей привел с собой из Киева князь. Были средь них и камнесечцы, и богомазы. Наши-то только что у печей…
На воле захолодало. Дед поежился, потуже запахиваясь в просторный кафтан.
— Пойдем с нами, дедушка, — пригласил Никитка старика. — В избе у нас тепло и просторно.
— А отчего ж не пойти? — сразу согласился Поликей.
Маркуха убежал вперед, а Никитка с Чурилой, взяв старика под руки, повели его в посад.
— В старые года это было, в стародавние, город-то наш тогда еще невелик был, — принялся за свой неторопливый рассказ Поликей. Начал с присказки, а засиделись, слушая старика, далеко за полночь. Никитка уж целое полено лучин сжег, Маркуха, разморившись, спал на лавке. Чурила тоже клевал носом.
Родители-то Поликея пришли на берега Каменки из-под Киева. В ту пору в здешних краях про христиан и слыхом не слыхивали. Поклонялись поганым идолам и слушались волхвов. На храм божий плевали. Срам да и только.
— Раз приехал к нам на Каменку дружинник, по имени Бяндук. Сказывают, шибко любил его Мономах. Поглядел, как мы делаем плинфу, поманил меня к себе пальцем. А не пойдешь ли, говорит, в дружину каменщиков? Ловкой ты, да и силой тебя бог не обделил, а каменщиков у нас нет. Работа у печей тяжкая. Прикинул я — чего ж не пойти? Пошел. Стал работать на соборе. Вскарабкаешься, бывало, на самый верх, поглядишь вокруг — дух захватывает. И чудо такое, ровно лезешь ты в небо, протяни руку — и достанешь до звезд.
Слушал Никитка Поликея и вспоминал, как сам первый раз поднялся с Левонтием на собор Успения божьей матери, что во Владимире. Снизу глядишь на него — и то видится он тебе непомерной высоты, а сверху и вовсе кажешься себе птицей. И померещится, что не облака плывут по небу, а купол вместе с тобой рассекает прозрачную синь, будто чудесная лодия. Людишки внизу крохотные, и избы прилепились друг к другу, словно игрушечные. И весь город под тобой — от края и до края: слева Золотые ворота, справа — Серебряные, а за воротами дорога вьется желтой лентой: то за деревья нырнет, то выползет на пригорок. Катится по дороге клубок белой пыли — то скачет дружина.
Тихий голос Поликея выводил его из задумчивости:
— Ловкость-то моя меня же и подвела. Прыгал я по лесам, будто козел. Говорили мне мастера: ох, свернешь себе, Поликей, шею. Куда там! В те поры я сам себе всех умнее казался, всех догадливее. Вот и свалился с купола…
— Жив-то как остался? — удивился Никитка.
В прошлом году у него тоже сорвался мужик с купола, так, почитай, только мешок с костями и собрали, чтобы уложить в домовину.
— Бревнышко меня выручило, бревнышко, — сказал прищурившись на пламя лучинки, Поликей. — Торчало такое бревнышко из окошка, резчики там работали.
Повис я на нем, а после уж во второй раз сорвался — к земле поближе.
— А ладно ли жили мастера? — выпытывал у него Никитка. Всё хотелось ему знать, обо всем выведать. Да только разве Поликею все припомнить? Слаб он стал на голову, забывчив, а все после того, как ходил с Монамаховой ратью на половцев.
— Много тогда собрал князь народу, ох, и много. И то: доколе же степнякам на нашей земле хозяйничать? Во второе воскресенье великого поста дошли мы до реки Сулы, а скоро были и на Хороле, где Мономах велел нам бросить сани. Долго шли мы по степи, много переплыли великих и малых рек, а когда увидели Дон, прослезились от радости: отсюда до половецкого города Шаруканя было рукой подать.
— Нешто есть у половцев города?
— Шарукань — город. Только не такой, как наш. Нет там ни валов, ни частоколов, ни изб. Стоят посреди степи половецкие шатры, а в шатрах тех — бабы, дети старики. Вышли они к нам с дарами, поднесли рыбу и вино, и князь строго-настрого наказал никого не трогать. А была у нас на половцев великая злость, но князева наказа ослушаться никто не посмел. Так и рыскали мы по степи, покуда не собрались степняки с силою. Тут и приключилась великая битва…
Поликей замолчал. Никитка терпеливо ждал его. Где сейчас мысли старика? В каких далях витают?.. Вспоминает Поликей свою молодость и будто весь распрямляется — славное было это время, железной стеной отгородился Мономах от степи. Мирно пахали селяне свою землю, пасли скот, любили жен и растили детишек. Не смели половцы и носа показать из-за Дона, сидели в становищах своих тихо, как полевки.
— Весело отпраздновали мы Лазарево воскресенье, — продолжал, вспоминая, Поликей, — а пошли дальше…
— Ты про битву не рассказал, дедушка, — остановил его Никитка.
— Про битву после. Битва-то после была, — недовольный тем, что его перебили, поморщился Поликей.
И снова зазвучал в избе его срывающийся хриплый голос:
— В страстной понедельник обступили нас половцы на реке Салнице. И когда столкнулись мы, то словно раздался великий гром. Сеча была лютая, и много людей пало с обеих сторон. Но наша рать стояла покрепче половецкой. Да еще ангелы были вместе с нами. Вот те истинный крест: своими глазами видел я, как ссекали они невидимой рукой поганым головы… Много взяли мы тогда скота, лошадей, овец и колодников. А после спрашивали пленных: «Как это вас была такая сила, и вы не смогли бороться с нами, а тотчас побежали?» Те отвечали: «Да разве могли мы с вами биться? Другие ездят над вами в бронях светлых и страшных и помогают вам».
Далеко Суздаль от половецких степей, а и до него долетают смертельные стрелы. Вон у Поликея какие рубцы на плече — следы копья и сулицы. А еще секли его саблей — и от сабли метка есть на шее: синяя полоска с нежной цыплячей кожицей. Сколько лет прошло, целая жизнь, а все свербят раны: то к дождю, то к снегу, а то и к хорошей погоде. Проснется Поликей в ночи на своей холодной лежанке, поглядит во тьму — и содрогнется от ужаса: увидит будто наяву беспомощно бьющихся окровавленных коней, оскаленные узкоглазые лица, сверкающие смертельным холодом мечи и сабли, услышит крики и топот копыт…
Как уснешь от таких видений? Разве заглушишь встающую изнутри боль торопливой молитвой?..
Будто исповедался перед Никиткой Поликей, будто душу облегчал: глядишь, и переложил кусочек своей боли на чужое сердце, глядишь — и легче нести непосильный груз воспоминаний.
Но были воспоминания и другие — были приятные воспоминания; их Поликей берег, людям на суд не выносил, и Никитке, на что уж дотошен, так и не пришлось услышать их от старика. Унесет их с собой Поликей в свою продутую ветрами избу.
Только там, в темном куту у битой печи, в которой догорают подернутые белым пеплом дровишки, словно бражник, дорвавшийся до меда, будет перебирать он в памяти дни и часы, проведенные в княжеской дружине — на зеленых просторах возле Кидекши.
Тогда уж не Мономаху он служил, а сыну его, князю Юрию. Тогда уж не было Мономаха в живых.
Стар Поликей, ох как стар. А ведь был он молодым и по-молодому резвым. И не только нынешним парням — когда-то и ему улыбались красные девицы. Славное было это время, никогда его не забыть. У веселой Боянки остался от него сын и нынче он — при князе Святославе в Киеве. А кто знает об этом? Никому нет до этого дела, потому что и сын не знает своего отца, в думает, будто он боярин, будто течет в его жилах и дедовская и прадедовская боярская кровь. Пусть думает, а он-то, Поликей, глядит себе со стороны и радуется: не боярская это кровь, а простая, крестьянская. Его кровь.
— А что ж с головой твоей, откуда у тебя отметина? — спросил его Никитка.
— Это ли? — провел Поликей по голове. — Это половецкий шрам. Это еще от того похода.
— А ничего не сказывал…
— Что сказывать-то? Тут и сказывать нечего. С половцем рубиться — не траву косить. А все с того и началось, как полоснул меня половчанин по шлему. Шлем наискось развалил… Да-а… О чем я?
— Да о половце.
— Зело злой был. Верещал, как я его на копье поддел, а после что было, ничего не помню. В забывчивость впал. Едва выходили…
— Знатная отметина.
— Куда уж знатней. Отвезли меня, слышь-ко, в Киев. На боярском дворе отлеживался. Так бы и помер, кабы не дочь боярская, добрая душа… Высмотрела меня, сжалилась — то водички подаст, то хлебца.
Вот-вот, с того-то все и началось. Сквозь потухшую память прорывались обрывки света. Многое забылось, а это помнилось. Этого до смерти не избыть.
— Добрая душа, — повторил Поликей и снова замолчал. Глядел на догорающую лучину. Никитка нетерпеливо шевельнулся на лавке.
«Молодо-егозливо, — подумал Поликей. — Ишь ты, все ему выложи, как на духу. И так разговорился…»
Ворошить старое он не любил. А то, что было с Боянкой, только при нем и останется.
Рассвет уж начинал брезжить за окнами. На лавке пошевелился Чурила. Потянулся, встал.
— Еще не наговорились?
— Ах ты, монах, спи, спи, — ласково проговорил Поликей.
— Куда спать?… Вы-то все сумерничаете.
— Утро давно.
— Неуж? — удивился Чурила.
Никитка вынул лучину из светца, утопил ее в бочке с водой. Лучина зашипела и погасла.
По избе разлился бледный свет. Из-под двери потянуло холодом.
Никитка запахнул кафтан, зевнув, прислонился к бревнам. От источенных червем лесин пахло трухой.
Вот так же и время точит нашу жизнь. Была изба — остались развалины. Был храм — остались камни. Что вечно в этой жизни? Летопись Чурилы, которую смоет переписчик, чтобы занести на дорогие меха свою плутоватую сказочку? Значит, и она не вечна.
Не вечна память Поликея, и Никиткина память не вечна. Забудется череда похожих друг на друга дней — останутся шрамы. И останется то, что не сохранит ни бумага, ни камень — любовь. Она — в крови. И холоп, всю жизнь проходивший согбенно над оралом, и зело обученный грамоте монах несут ее в себе — от сына к внуку, от внука к правнуку.
И если не видевший на свете иных чудес остановится перед Никиткиным храмом и, заломив шапку, замрет перед ним, — значит, понял Никитка его душу, значит, уловил неуловимое, значит, и в нем жива эта любовь, а коли жива — жить вечно и творениям рук его.
Не так ли и он с сердечным трепетом притрагивается к холодной плинфе и мысленно воскрешает в своей памяти весь храм — от основания до золотом сверкающего креста?
И если не дал он разорваться невидимой нити, если продлил ее в будущее — пусть ненадолго, дальше подхватят и продлят ее другие, — значит, не зря долбил он белые камни, мерз на лесах, надрывался простуженной грудью от кашля…
Хрупка и ненадежна человеческая жизнь — пресечь ее можно копьем, и мечом, и болезнью, сжечь ее можно в огне, и в воде утопить ее можно. Но нет перед ее концом ни безнадежности, ни страха.
И, вытянувшись на лавке, подложив ладонь под голову, спокойно уснул Никитка.
Глава седьмая
1
Выдав Досаду за Ратьшича, уважил Всеволод и отца ее — подарил ему отобранную у бежавшего к половцам князя Юрия деревеньку его Поречье. Обрадовался Разумник княжескому подарку, едва дождался отъезда из Ростова. А как прибыл во Владимир, на следующий же день отправился осмотреть свое владение.
Мужики встречали нового хозяина с должным подобострастием, прикидывали, каково-то будет под ним житье — Юрий их особенно не тревожил, а как уехал он, и вовсе хорошо стало, без надзору-то. Избаловались, разленились.
Про то же самое подумал и Разумник, разглядывая явившегося на его зов толстого и рыхлого, безбородого старосту Самошу. Лицо у старосты оплывшее, под глазами мешки, взгляд сонный, будто только что подняли его с лавки.
— Почто не сразу явился на зов? — строго спросил Самошу Разумник.
— Дык покуда достучались, покуда порты надевал, — медленно, растягивая слова, проговорил староста.
— Чай, боярин звал, — раздражаясь, сказал Разумник.
Самоша почесал затылок, поддернул руками штаны:
— Дык отколь же мне знать-то? Прибег мальчонка, собирайся, говорит, кличут тебя, староста, в попову избу. А почто кличут, того, мол, не ведаю, и кто кличет — тоже не сказывали…
— Ишь ты — ловок, — рассердился Разумник. — А как возьму я тебя да из старост-то — в ратаи? Как тогда запоешь?
— Не горазд я петь, боярин, — глупо улыбаясь, сказал Самоша. — Вот Варнавка у нас — тот какую хошь песню споет. Позвать не то?
— Дурак ты, — оборвал его Разумник. — Ступай да на глаза мне больше не попадайся. А старосту я другого сыщу.
Побледнел Самоша, заелозил перед боярином на коленях.
— Смилуйся, кормилец, — заголосил он бабьим голоском. — Почто гонишь раба своего?
— Не раб ты, а червь, — отпихнул его Разумник и велел позвать к себе стариков.
Пришли старики, вертя шапки в руках, смущенно остановились у порога.
— Почто звал, боярин?
— Звал я вас по делу, деды, — ласково сказал Разумник. — А дело мое яснее ясного. Прогнал я старосту вашего Самошу — дурак он. Сказывайте, кого по вашему разумению ставить на его место?
— То, что Самошу ты прогнал, — выступил вперед самый старый из дедов, — на то твоя боярская воля. А то, что советуешься с нами — премногая благодарность.
— Кого же присоветуете мне, деды?
Старики пошушукались.
— Окромя Зори ставить некого, — сказали они.
— Да что ж такой за удалец ваш Зоря? — спросил Разумник.
— Мужик он крепкой. Опять же — хозяин. А еще — дружинник князя Юрия Андреевича.
— Князев дружинник, говорите? — недоверчиво покачал головой боярин. — А где нынче его князь?
— В бегах, батюшка.
— То-то же, — наставительно произнес Разумник, — И дружинник его — того же гнилого семени.
— Не, — сказали мужики, оглаживая седые бороды, — Зорю мы знаем.
— Ну — глядите, — пригрозил Разумник, — ежели обманули да ежели какая неправда от него пойдет, вам же и несдобровать.
— Ты верь нам, боярин, — сказали старики.
Зоря понравился Разумнику. Мужик расторопный и услужливый. А еще — рассказчик, каких свет не видывал. Есть о чем рассказать Зоре. Много разных разностей насмотрелся он на своем веку. Но больше всего любил Разумник послушать о ратных делах нового старосты, о тех днях, когда он сражался бок о бок с князем Юрием в его дружине. Сам Разумник жизнь свою прожил тихо — в драку не лез, мечом размахивать не научился. Дивился Зоре — и чего не сиделось мужику на своей земле?!
— Вот, поставил я тебя старостой, — ворчал он, стирая с лица пот убрусом, — а сам небось живешь и ждешь случая. Пропоет труба — только мы тебя и видали. И жену бросишь, и землицу — пойдешь искать счастья в чистом поле.
— Мое счастье в твоей деревне, боярин, — степенно отвечал Зоря. — Нынче никакая труба меня из Поречья не сманит.
— Все вы на слова горазды. Походная-то жизнь куда как легка.
— Хлебнул я походного лиха.
— Покуда не зарекайся.
— Да чтоб провалиться мне на этом месте!
— Знаешь, что не провалишься, оттого и смел…
Но Зоря так лихо, с таким рвением принялся за дела, что Разумник и впрямь ему поверил. Хорошего старосту присоветовали ему деды.
Приглянулась боярину и Малка. Скромна, на глаза, коли не велено, не лезет, а еще — работяща. Любого мужика за пояс заткнет, хоть и баба. И Надей понравился Разумнику. В первый же день наловил он к боярскому столу стерлядки, сварил уху: не уха — объедение. Впору ставить его на боярский двор сокалчим.
— Ты, боярин, лучше Малку к себе возьми, — посоветовал Надей, — она стряпать ловчее меня мастерица.
Снова призвал к себе Разумник Малку. Разглядывая смущенную бабу, спросил, не горазда ли она печь пироги с грибами.
— Горазда, как же не горазда, батюшка, — поклонилась ему Малка, — и с грибами, и с луком, и с рыбкой, и с моченой клюквой…
— Ишь ты какая, — улыбнулся Разумник. — Ну а коли горазда, то вот тебе и наказ. Приезжает завтра в Поречье дочь моя с мужем — княжеским милостником Кузьмой Ратьшичем — буду пир пировать. А ты к тому пиру спеки пирогов. Понравятся твои пироги гостям — оставлю тебя на своем дворе.
— Спасибо тебе, кормилец, — поблагодарила его Малка. — А когда велишь печь пироги?
— Заутра и приступай.
Утром Малка, чуть зорька высветилась, была на боярском дворе. А заквасочку она поставила еще с вечера. Утром опара едва не потекла из корчаг. Обрадовалась Малка — хорошими пирогами угостит она боярскую дочь с муженьком. И не зря радовалась — пироги вышли на славу. Давно не пекла уж она таких пирогов, сама удивлялась.
Гости тоже дивились, нахваливали мастерицу.
— Покажи-ка ты мне ее, батюшка, — попросила отца Досада.
— Чего ж не показать. Вот и она, — кивнул Разумник на появившуюся в дверях Малку.
— А и не только мастерица твоя Малка, — сказала нараспев Досада, подымаясь из-за стола. — Лицом-то как хороша.
Разумник согласно кивнул, радуясь, что угодил дочери.
— Да чья же ты, такая красавица? — спросила Досада у Малки.
— Старосты вашего жена, — отвечала, потупясь Малка.
— А староста у меня — бывший Юриев дружинник, — ухмыляясь, подсказал Разумник.
Тут уж поднялся из-за стола и Ратьшич.
— А не Зорей ли его кличут? — спросил он.
— Верно, Зорей, — удивился боярин. — А тебе отколь его знать?
— А на что я у князя Всеволода правая его рука?
Оно и верно: милостник самого князя про все должен знать. Смекнул боярин, что вопрос его был не к месту. Совсем запамятовал, кто у него зять.
— Ты уж прости меня, старика, — сказал он Ратьшичу — совсем ошалел от счастья.
Кузьма слушать его не стал, только рукой махнул: болтай, мол, коли хочется, а сам велел кликнуть Зорю, Зоря на клич его явился сразу, будто давно ждал, будто стоял у терема.
— Экий ты богатырь, — сказал ему Ратьшич. — И охота тебе орать землю? Пойдем лучше в дружину.
Как услышал эти слова Разумник, так и побледнел: ну, что он говорил-сказывал? Уйдет нынче Зоря, видит бог, уйдет, а другого старосту боярину уж не хотелось, новый староста любой будет плох. Он и Малку заберет с собой во Владимир, кто тогда станет печь боярину пироги!?
Но Зоря слову своему остался верен. Не подвел он боярина. На прежнем решении стоял твердо.
— И чем прельстил тебя мой тестюшка? — удивился Кузьма. — Ведь куда зову, какое житье сулю?
— Я тем житьем сыт, — спокойно возразил Зоря, — Не злата нынче хочу, а счастья.
— Чудно ты говоришь, однако, — понизил голос Кузьма. — А разве злато не счастье? Разве не во счастье одежа вот эта, пироги на столе, меды, брага и холопы?
— Кому во счастье, кому на беду, — сказал Зоря.
Слова его не понравились Разумнику.
— Ты, знать, умом худ, — накинулся он на старосту. — Нешто зря я тебя ставил над мужиками?
— Почто зря?
— Да рази злато было кому во вред?!
— Ты, тестюшка, помолчи-ко, — остановил Разумника Ратьшич. — Мужик не прост. Хоть и хитро говорит, а яснее не скажешь. Знать, не сладко было ему в Юрьевой дружине. А другой жизни хлебнуть не случилось.
— Князь Юрий был ко мне справедлив, — сказал Зоря.
— Ишь каков! — снова запетушился Разумник.
Ратьшич остановил его взглядом, молча вернулся к столу, плеснул в кубок меду, протянул Зоре.
— Выпей за Юрия, староста. Не боись, выпей, но боле его не поминай. Нынче и отец твой, и благодетель — боярин Разумник. А за боярина выпьешь по второму разу.
Поклонившись, принял Зоря чару, перекрестил лоб, выпил. Налил ему Ратьшич вторую чару, выпил Зоря и ее. А третью чару выпили все вместе за нового старосту.
Малка облегченно вздохнула. Разумник повеселел. А Ратьшич задумался. Но о чем он задумался, про то никто не узнал. Да и кому была охота пытать Всеволодова милостника?
2
Будто подменили Надея. Не узнать его. Мужики покачивали головами: раньше-то рыбака и не слышно было, а нынче никому не стало от него проходу — только и разговоров, что о его зятьке. Всем понавяз Надей в зубах. С утра ли, за полночь ли, стучится в любую избу. Придет, сядет на лавку, поглядывает, не гостем — хозяином, ждет, когда выставят угощение. А только выпьет бражки — и понес: и такой Зоря и рассякой, и у князя-то он едва ли не самый первый человек. Улыбаются про себя мужики, почесывают затылки, а остановить Надея побаиваются: еще нашепчет чего боярину, после греха не оберешься.
А кроме того, стал его привечать да обласкивать любимец Ратьшича молодой дружинник Пашок. Тот выслушивал рыбака терпеливо, поддакивал и кивал, подливал в чару медку. С чего бы это? Невдомек было Надею, почему вдруг выделил его Пашок среди прочих мужиков. А у Пашка была на то своя причина.
Так и проходили в Поречье день за днем, — тихо, мирно. Да во Владимире, сказывают, было не веселее. Всеволод обновлял свой терем, улаживал дела да зорко приглядывал за князьями. О том рассказывал Разумнику чуть ли не каждую неделю заезжавший в Поречье Кузьма Ратьшич. Досаде же такая жизнь была по душе. Хоть и шла она за нелюбимого, но ласковость и обходительность Кузьмы притупили старую боль, и уж вовсе поверила она, что так ей на веку и суждено. А еще почувствовала она, что стала тяжела, и с этой приятной тяжестью в теле пришла еще большая успокоенность.
Все реже и реже стала она наезжать во Владимир, все больше влекло ее в Поречье. Здесь, сидя на скамеечке во дворе усадьбы и глядя на открывающуюся взору заклязьминскую даль, она любила слушать Малкины рассказы. Привязалась Малка к молодой боярыне, не стесняясь, поверяла ей свои думы. Досада понимала ее с полуслова, в скупых словах улавливала то давнее, что потушило в ней время — вот так, наверное, и она могла любить Юрия. Да только где он сейчас? Сколь уж времени пролетело, а нет о нем никаких известий. Только раз пронзила ей сердце ревнивая боль, когда неведомый странник с черными блестящими глазами рассказывал на княжеском дворе о каком-то русском княжиче, призванном в Грузию ко дворцу царицы Тамары. Называл он княжича Георгием и сказывал, будто советник царицы князь Абуласан прочил его в мужья Тамаре. «Уж не Юрий ли это»? — подумала Досада, но тут же отогнала от себя нелепую мысль… Однако на следующее утро она послала своих людей разыскать незнакомца, его же и след простыл. Жалела Досада, что не расспросила странника подробнее, но подробнее расспросить его в тот день она не могла, потому что в сенях кроме нее и Марии был Кузьма, и Кузьма, видать по всему, заметил ее волнение. Не он ли и спровадил странника?..
Зато в Поречье на усадьбу Разумника часто наведывался Зоря, любимый дружинник князя Юрия, и уж с ним-то она могла говорить сколько вздумается.
Рассказывал он, как спас князя от булгарского меча, — и Досада вздрагивала от страха.
— Гляжу я, — делая страшные глаза, говорил Зоря, — насели на князя нашего три булгарина. Рубится с ними князь, а силы его на исходе. Вот-вот посекут поганые…
— Да как же это? — приподымалась на скамеечке Досада. — Да как же это? А дружина-то где?… Как же князя-то бросили?..
— Мы-то? — довольно прищуривался Зоря. — Мы-то подле князя. Где же нам еще быть?.. Вот только конь подо мной пал, а пешим много ли навоюешь?.. Да-а. Гляжу я — совсем худо князю. Тот-то, что позади, все норовит ткнуть его мечом промежду лопаток — беда!.. Изловчился я, схватил коня булгарского под узцы и ножичком засапожным булгарина — в бок. Тут уж не зевай. Свалил я его и уже через миг — в седле. А из седла достал и второго. Третьего-то князь сам кончал. Все было.
Жестокие были сказывал Зоря. Ночью снились Досаде страшные сны. Но утром она снова спешила увидеть словоохотливого старосту.
Разумник ворчал на дочь:
— Ты мне мужика-то вовсе от работы отвадила.
— Нешто землю ему пахать?
— Не пахать, так поглядывать. На то он и староста.
Не нравилось Разумнику, что все не расстанется дочь его с прошлым.
— Нет твово Юрия, — говорил он. — Сгиб молодой князь. Чего уж память-то ворочать. Погляди, какой у тебя нонче муж.
— Муж мой, моя о нем и забота.
А порой ей и самой казалось, что отец ее прав: прошлое-то не вернешь, а под сердцем будущее нет-нет да и шевельнется. И тогда разбирало ее раскаяние. И тогда молилась она перед образами за здоровье Кузьмы. И тогда, выходя на дорогу, подолгу вглядывалась в даль — уж время приспело появиться Ратьшичу, а его все нет.
Но Ратьшич приезжал в срок, как и было обещано. Спрыгивал с коня, крепко обнимал слабеющую в его руках боярыню, нес ее на руках в сени, целовал на ходу, обжигая щеки горячим дыханием.
На этот раз Кузьма приехал с Пашком, когда Зоря был на полях, а Малка дома, в своей избе, где спал на лавке пьяный с утра Надей.
Встретив Ратьшича, Разумник поглядел, кого бы послать за поварихой, чтобы раздувала печь. Тут Пашок ему и подвернулся. Его он и отправил за Малкой, не догадываясь, как порадовал молодого дружинника. Еще и упрашивал его, а упрашивать было ни к чему.
Кинулся Пашок к своему коню, вскочил в седло — только его и видали.
Покачал головой изумленный Разумник: ай да парень, чисто огонь. Покряхтел и поплелся за молодыми в сени.
А Пашок тем временем был уже на лугу у Надеевой избы. Дверь в избу была приоткрыта. Пашок спрыгнул с коня и, поигрывая плеточкой, взошел на крыльцо.
— Ой! — вскрикнул кто-то в сенях.
Пашок нервно засмеялся и подтолкнул ткнувшуюся в него Малку обратно в избу. Малка выронила бадейку, попятилась. Пашок торопливо шагнул вслед за ней через порожек.
— Испугалась? — спросил он, кривя пересохшие губы.
Лица Малки не было видно. Свет падал из окна позади нее и золотил ей волосы.
Пашок приблизился к спящему в углу на лавке Надею.
— Аль снова напился? — спросил охрипшим голосом.
— Как пришел с вечера, так и спит.
— Пора бы и на свет божий взглянуть.
Пашок окинул Малку похотливым взглядом.
— Ты это что? Ты пошто на меня этак-то глядишь? — отодвинулась она от него.
— Ишь ты, недотрога, — сказал Пашок. — Ровно и мужика отродясь не ласкала.
— А то не твое дело.
— Значит, мое, коли сказываю.
— Много вас, прытких-то…
— Прытких-то много, да я один.
— А как не один?
— Дури, да не заговаривайся, — осерчал Пашок. — Муж у тебя строгой.
Надей на лавке закряхтел, перевернулся на другой бок. Пашок отскочил от Малки.
— А, старый леший, — выругался он. Склонившись, потряс Надея за плечо.
— Вставай-ко. Слышишь, вставай-ко, — сказал с нетерпением, оглядываясь на Малку, чтобы не вздумала прыснуть за дверь.
Надей открыл один глаз, почмокал губами, открыл другой. Уставился на дружинника непонимающим взглядом. Долго соображал, уж не приснился ли ему Пашок. Дернул себя за бороденку, ойкнул и сел, шевеля босыми ногами.
— Ты кто?
— Пашок.
— А отколь взялся?
— С боярского двора.
— А пошто здесь?
— Пришел дочь твою кликнуть.
— Эвона, — сказал Надей, косясь на дочь, — нонче боярам без нас не прожить.
— Ты вот что, — оборвал его Пашок, — ты поди-ко проветрись.
— Похмелиться бы…
— Тебе что выпить, что похмелиться. Поди во двор-то. Поди, поди. К седлу-то у меня сулея приторочена. — Пашок улыбнулся. — Тебе от князя подарочек.
Надей живо вскочил с лавки:
— Да неуж?!
— Вот те крест.
— Ты бы не ходил, батя, — попросила Малка. Пашок усмешливо поглядел на нее, похлопал Надея по плечу:
— Ступай, ступай.
Надей, хихикая, выкатился из избы. Бледнея, Малка отступила к окну.
— Ты ко мне не подходи, — предупредила она Пашка. Дружинник отстегнул пояс, бросил на лавку.
— Не подходи, нелюбый, — Малка сдвинула у окна заслонку. — Закричу.
— Дура.
На воле заржал конь. Чуть подальше отозвался другой. Возле окон избы послышался стук копыт.
3
решил он выследить баловника и примерно его наказать, чтобы зариться на чужое впредь было неповадно.
Кто бы это мог быть? Ясное дело, кто-то из своих же, пореченских мужиков. А кто? Народ вроде тихий, покорный.
Разумник сказал Зоре:
— Приведешь баловника на боярский двор, а там уж не твоя забота. И чтобы ни-ни, не вздумай руку приложить.
— Как придется, боярин.
— Ты меня слушай, — нахмурился Разумник, не любивший, чтобы ему возражали.
Уехал Зоря в леса на другую сторону Клязьмы. Места здесь были ему знакомы, не раз уж езживал он по этим тропкам.
Ехал Зоря по лесу, цепко вглядывался в деревья и кусты, прислушивался к далеким шорохам — не появится ли кто, не услышит ли за разноголосым гомоном птиц осторожные шаги чужого. Посматривал на влажную тропку — авось оставил на ней свой отпечаточек лыковый лапоток баловника. Ничего. Только солнышко пробивается сквозь стволы, да у самого уха зудит нудливое комарье.
Много нынче пало дождей, хорошо пошли травы, а еще лучше пошли грибы и ягоды. На взлобке стелется по обе стороны от тропинки черника — ведрами носи, чуть пониже капельками крови алеет земляника.
Зоря улыбнулся, вспомнив, как ходил по ягоды с Малкой. На той неделе это было. Собрались еще затемно, а не успело солнышко подняться к полудню, были уж у них ведра полными. Но хоть и полны ведра, а уходить не хочется. Вышли они в соснячок — вокруг черным-черно. Как уйдешь от такого изобилья?.. Стали собирать ягоды Малке в подол, а потом сели с краю полянки и принялись есть.
— Это тебе, — говорила Малка, отправляя пригоршню Зоре в рот, — а это мне, — и следующую пригоршню ела сама.
Хорошо было вокруг них в лесу. Из подсохшей травы пробивались лисички и темноголовые подберезовики, в перелесках красовалась бузина. На болотах зацвела росянка, а на старицах желтым пламенем загорелись кубышки.
С полными ведрами черники возвращались Зоря с Малкой домой, когда на полпути, уже перед самой Клязьмой, настигла их гроза. Внезапно налетел ветер, поднял пыль и лесной мусор, сорвал с деревьев пожухлую листву. Стало темно и страшно, словно в погребе. Ударил гром, да так сильно и раскатисто, что Малка в испуге схватилась за голову. Зоря подтолкнул ее к раскидистому кусту — и вовремя: только успели они скрыться под его широкой кроной, как хлынул дождь, такой проливной и крупный, что сейчас же на лесной полянке вспучились стремительные потоки.
Такая же гроза застала их однажды на самом подъезде к Владимиру, и они оба, почти сразу, вспомнили о ней, вспомнили, как почти так же прятались от дождя и смотрели на пузырящиеся пенистые лужи. Зоря обнял жену, привлек ее к себе, и в эту минуту случилось страшное: белесое небо раздвинулось, словно его пересекла глубокая трещина. Черная молния сверкнула и упала в глубину леса. Разное доводилось видеть Зоре, но черной молнии он еще не видывал никогда. Малкины губы побелели, она ткнулась ему в плечо, ища под его рукой надежной защиты. Но Зоря и сам перепугался, быстро перекрестил лоб: что бы это значило? Уж не дурное ли предзнаменование?!
О той грозе Зоря совсем уж было забыл и вспомнил только сейчас, проезжая на коне мимо того места, где они собирали чернику.
От овражка к овражку — путь его прямехенько лежал к липняку, где в боярских бортях вызревал янтарный мед. А когда до липняка осталось совсем немного, Зоря спрыгнул с коня, стараясь не шуметь, повел его за собой в поводу. Неслышно ступая по мягкой тропинке, поднялся на пригорок, с которого хорошо было видать всю пасеку. Зато самого его в кустах на за что не приметишь. Отогнул Зоря веточку, поглядел вокруг — никого. Стал ждать. Чуяло его сердце, что сегодня тот баловник непременно придет полакомиться боярским медком. Сердце — вещун, редко кого обманывает. Не обмануло оно и Зорю. Только стала его смаривать жара, только набрякли веки, и уж подумал он, не вернуться ли в деревню, как на тропинке, что пониже бугорка, появился мужик с палкой в руке и торбицей, перекинутой на ремешке через плечо. Стряхнул с себя Зоря дрему, пригляделся и тут же признал в мужике Надеева давнишнего приятеля Иваку, того самого, с которым мерился однажды силой.
Идет Ивака в своей душегрее мехом наружу, припадает на левую ногу, а вместо правой руки болтается у него пустой рукав.
— Ах ты, леший, — выругался Зоря и вскочил в седло. Не уйти теперь от него Иваке, будь у него хоть заячьи ноги.
Заслышав топот Зориного коня, Ивака обернулся, увидел приближающегося всадника, выронил торбицу, метнулся в густой липняк.
— Стой! — крикнул ему Зоря.
Обернулся Ивака через плечо, зыркнул голубыми глазами, но не остановился, а побежал еще шибче. Тут-то и сшиб его Зоря с ног, спрыгнул на землю, склонился над мужиком.
— Ишь, ловкий какой, — сказал Зоря. — Даром что с перебитой ногой, а бегать приучен. Ну-ка, вставай, не в баню пришел веничком париться.
— Знамо дело, не в баню, — сказал Ивака, смущенно улыбаясь. — Здорово, кум.
— Здорово, кума, — ответил Зоря. — Никак, по грибочки сподобился.
— Ага, — кивнул Ивака, отряхивая с полосатых штанин сухие листья. — А ты пошто конем валишь?
— Животина неразумная.
— Оно и видать.
Зоря усмехнулся:
— А много ли грибочков набрал?.. Чтой-то не припомню я — в липняке-то какие водятся?
— Да всякие, — уклончиво ответил Ивака и потянулся рукой к валяющейся в траве торбице.
Зоря опередил его, зажал торбицу между колен, сунул руку вовнутрь, вынул, облизал пальцы.
— Сладко.
Ивака молчал.
— Ну, — встряхнул его Зоря за плечо, — что ткнулся лбом в землю?
— Не губи ты меня, Зоря, — попросил Ивака. — Отпусти душу на покаяние.
— Ишь, чего надумал, — сказал Зоря. — Зря я за тобой по лесам рыскал?
— Запорет меня боярин, в порубе сгноит.
— И поделом.
— Не крал я…
— А кто по чужим бортям шарил?
— От нужды это…
— Не от нужды, а от баловства, — нахмурился Зоря. Не понравилось ему, как его Ивака уговаривает. Прикидывается овечкой, а только отвернись, трахнет по голове дубиной — и был таков.
— Отпусти, — продолжал нудеть Ивака.
— А ну, нишкни! — оборвал его Зоря, — Нынче мне с тобой разговаривать недосуг. У боярина в тереме договорим…
Ивака пошевелил безруким плечом, две крупные слезины скатились по его щекам. «А ведь и вправду запорет боярин», — подумал Зоря, но отогнал от себя жалость: нынче он поставлен стеречь боярское добро, мужики сами старостой выбирали, чтобы был в деревне порядок. Ивака тоже выбирал, тогда еще сказывал: «Крепкий порядок житью нашему голова…» Сказывать-то сказывал, а сам баловал, хитрый; думал, Зоря свой человек — попужает и отпустит.
— Повернись-ко спиной, — сказал Зоря и потянулся к Иваке. — Этак вязать сподручнее. А ты помалкивай. Ну-ко!..
Глаза калеки блеснули.
— Ирод ты! — выкрикнул он срывающимся голосом и отшатнулся от Зори.
Занес над головой дубину:
— Не подходи, пришибу!..
Зря замахнулся Ивака на Зорю, лучше бы еще слезу пролил — у Зори сердце доброе, пошумел бы, а боярину все-таки не выдал. Но Ивака замахнулся, и Зоря, озверез, ударом кулака повалил его наземь. А что было ждать? Ивака — мужик крепкий, ежели бы зацепил дубиной, тут бы и конец. Вовремя опрокинул его Зоря.
Сел он на мужика, скрутил пояском, встряхнул, поставил на ноги.
Возвращались они в деревню по той же тропке, мимо тех же березняков да ельничков, но сердце Зори теперь не радовалось лесной красе. Пробовал он разговорить Иваку, но тот молчал. Теперь уж не просил отпустить, не молил о пощаде. Шел впереди Зориного коня, ссутулясь, опустив большую кудлатую голову, сильнее прежнего припадая на левую ногу.
Еще несколько раз подумал Зоря о том, чтобы отпустить мужика, но так и не решился, привел Иваку на боярский двор.
Разумник встретил их на крыльце, подбоченясь.
— А мы-то думали, а мы-то думали, — сказал он со смешком, разглядывая Иваку, — уж не медведь ли повадился борти зорить, уж не косолапому ли захотелось отведать сладенького. А косолапый-то — к нам на двор. Экое страшилище!.. Ты где его, староста, выловил?
— Известно где, — угрюмо ответил Зоря, — в липняке, на бортях.
— Да как же ты его не испугался?
— Мы пуганые…
Разумник довольно потер руки.
— И торбица при нем?
— И торбица.
— Знать, про запас собирал, деток малых полакомить…
— Нет у него деток.
— Сам сластена. Уж мы его уважим, еще как уважим, — пообещал Разумник и приказал отрокам: — Вы медведя-то этого посадите на чепь. Экой свирепой зверь, еще сбежит.
— Не сажай его, боярин, на чепь, — попросил Зоря, — все одно бежать ему некуды.
— Как это некуды? — удивился боярин. — А в лес?
— В лесу ему делать нечего. Безрукий он…
— Безрукий, а все одно — медведь. Един раз лапу отгрыз, отгрызет и другой.
Все это время Ивака молчал и только, когда поволокли его отроки в поруб, обернулся, плюнул себе под ноги и сказал Зоре:
— Еще отплачутся тебе, староста, мои слезки.
Говорил — будто в воду глядел.
4
бледная, едва живая от страха, с криком бросилась к мужу.
— Эт-то что такое? — недоуменно спросил Зоря.
Пашок ухмыльнулся и поднял с лавки пояс. Зоря отстранил жену, схватил дружинника за плечо:
— Ты кто таков?
— Пашок. Аль не признал?
— Дай-ко взгляну на свету, — сказал Зоря и повернул Пашка лицом к окну.
— Экая рожа, а еще князев дружинник, — процедил он сквозь зубы и сгреб ручищей Пашка за подбородок. У того синие жилы надулись на шее.
Зоря еще не остыл после разговора с боярином, и Пашок оказался в его избе не ко времени. В другой раз староста бы, может, и сдержался, но нынче все в нем кипело и клокотало.
В руке у Зори была плеть, он внезапно вскрикнул, отскочил и наотмашь ударил упруго скрученной жилой дружинника по лицу. На щеке Пашка тут же вздулся синий рубец. Второй удар располосовал другую щеку. А потом, ослепленный соленым потом, Зоря бил и топтал что-то мягкое, со стоном ворочавшееся на полу, пока повисшая на плечах Малка не оттащила его от растерзанного дружинника.
Услышав крики, в избу ввалился Надей, тоже принялся оттаскивать рычащего Зорю, пьяно падал и ползал по горнице.
— Да что же теперь будет-то? Что же будет? — причитала Малка.
— А то и будет, — сказал, отдышавшись Зоря, — что отвезу я Пашка на боярский двор и сдам Кузьме. Дружинник его, пущай сам и наказывает.
— Да кого наказывает-то, кого? — растерянно спрашивала Малка.
— Ясное дело, не меня. Почто к чужой бабе подваливается?
— Ох, быть беде.
— Была бы беда, коли бы вовремя не поспел, — сказал Зоря. — Чем кудахтать, принесла бы ты воды.
Малка быстро закивала и кинулась с ковшом в сени. Принесла воды, протянула Зоре.
— Да не мне воды-то, — упрекнул ее Зоря. — Аль вовсе разум потеряла? На него плесни чуток, на него, чтобы очухался…
Он кивнул на распростертого Пашка. Малка склонилась, плеснула на голову дружинника воды. Пашок пошевелился.
— Плесни еще, — сказал Зоря.
Пашок застонал, схватившись руками за голову, сел на полу.
— Ишь, как разукрасил ты его, — покачала головой Малка.
— Ничего, — усмехнулся Зоря. — Теперь ученый будет.
Знать, нынче такой уж выпал день, что старосте дел невпроворот. Провез он мимо разинувших от изумления рот мужиков Пашка на боярский двор. Велел отроку кликнуть Кузьму.
Ратьшич вышел на крыльцо, поглядел на Пашка, не узнал своего любимца.
— Тебе что? — удивленно спросил он Зорю.
Низко поклонившись Ратьшичу, Зоря сказал:
— Не вели казнить, вели миловать.
— Да в чем беда?
Оторвал Зоря Кузьму от сладкого утреннего сна. Ратьшич был раздосадован и злился на слишком расторопного старосту. Ежели дело какое, звал бы боярина.
А боярин тут как тут. Вышел, потягиваясь и позевывая, близоруко уставился на сникшего в седле Пашка.
— Да кто же его эдак-то? — всплеснул он руками.
Тут и Ратьшич догадался, что неспроста поднял его Зоря с постели, сбежал со ступенек, подошел к дружиннику.
— Не вели казнить, вели миловать, — поворачиваясь к нему, повторил Зоря.
— Да что ты заладил! — оборвал его Кузьма. — Сказывай, кто поднял руку на моего любимца?
Пригляделся к Зоре к вдруг все понял:
— Да, кажись, ты и есть?
— Винюсь, — поклонился Зоря. — Забрался Пашок к моей жене в избу, хотел снасильничать…
Глаза Кузьмы налились кровью, Разумник испуганно закудахтал на крыльце.
— Разбойник!.. Как есть, разбойник, — закричал он петушиным голосом. — Эй, отроки! Вяжите старосту, да поживей!
Отроки кинулись к Зоре, но он положил руку на меч, и все отступили.
— Пришел я за правдой к тебе, Кузьма, — сказал староста. — И к тебе, боярин, — обратился он к Разумнику. — Почто не хотите выслушать?..
— Правда твоя на лице Пашка написана, — проговорил Кузьма. — Поднял руку ты на князева дружинника, а у нас ищешь защиты.
— Не слаб я, — ответил Зоря. — Себя защитить и сам смогу. А кто защитит жен наших?
— Князь всем нам и судья и защитник. А ты князева дружинника плетью посек, — сказал Ратьшич. — Еще давеча выслушивал я тебя и думал: нешто ослеп наш боярин? В порубе тебе только и место. Берите его! — приказал он оробевшим отрокам.
— Нет и у тебя правды, Кузьма! — воскликнул Зоря и снова положил руку на рукоять меча. И снова отступили отроки.
— Трусы вы, — сказал им Ратьшич и шагнул к старосте. Но Зоря не стал дожидаться, когда Кузьма подойдет к нему, вскочил в седло и дал шпоры коню. Взвился конь на дыбы, прянул за ворота боярской усадьбы.
И не к избе своей, а во Владимир помчался Зоря. К великому князю Всеволоду. У него одного надеялся он найти защиту.
А Всеволод только что принял Святославова посла. Советовался с ним Святослав: какому князю какую отдать вотчину. Нынче без Всеволода не решал он ни одного важного дела. Во всем искал его поддержки. Надолго запомнилась Святославу Влена, до самой смерти достанет ему этой памяти.
Посла Святославова Всеволод принял ласково, о великом князе киевском говорил почтительно, угощал медами и заморскими винами, жареными лебедями и диковинными плодами, доставленными булгарскими купцами из далекого Хорезма. Выспрашивал о здоровье великого князя, подносил послу богатые дары.
Потом Всеволод спал, потом чинил суд и расправу. Сидел в высоком кресле, выслушивал истцов и ответчиков.
Зорю он узнал, кивнул ему, спросил, какая беда привела его на княжеский двор. Рассказ старосты о случившемся в Поречье выслушал внимательно, не перебивая, склонив набок голову и полузакрыв глаза.
Бывший Юриев дружинник нравился ему, но Ратьшич был любезнее. Досадливо поморщился князь и так сказал ведшему дознание боярину:
— За самоволие, учиненное в усадьбе Разумника, старосту связать и отправить к боярину.
— Да как же это, князь? — изменился в лице Зоря. — Я за правдой к тебе, а ты — к боярину?..
— В вотчине своей боярин тебе и отец и судья, — сказал Всеволод, глядя на Зорю немигающим взглядом.
Зябко стало Зоре, оглянулся он вокруг себя, ища защиты, но рядом уже стояли воины, а ко князю вытолкнули из толпы нового мужика, и боярин гудел над площадью густым басом:
— А сей мостник, по имени Петр, украл у тысяцкого Ондрея кадь пшеницы…
Так и привезли Зорю в путах на боярский двор. Со всей деревни сбежалась толпа поглядеть на связанного старосту. Бабы причитали, Малка умывалась слезами. Из-за плеча вышедшего на крыльцо Ратьшича выглядывало разукрашенное синяками лицо Пашка.
— Что, — спросил Ратьшич, — нашел у князя правду?
— Далеко она спрятана, — сказал Зоря. — На дне моря не сыскать…
— То-то же.
И Ратьшич велел отрокам бросить старосту в поруб.
Встретились в порубе Ивака с Зорей.
— Сладок ли боярский хлеб? — спросил Ивака старосту.
— Молчи, — недобро огрызнулся Зоря.
— С утра ты меня, — сказал Ивака, — а нынче нам вместе околевать.
Глава восьмая
1
нали они в Великом Новгороде, а после Кирша ушел на юг, к теплому солнышку, к обильным хлебам да так там и осел. Женился, сказывали страннички, обзавелся хозяйством, срубил себе избу. Поминали жену и по имени — будто звали ее Ликой. Добрая и набожная баба, говорили вездесущие странники.
— Кирша нам поможет, — сказал Зихно Злате. — Было время, не раз и я его из беды выручал.
— Поможет, как же, — отзывалась Злата. — Боярин Нежир так помог — едва живы остались.
— У богомазов свой обычай.
Наскучило Злате ходить за непутевым Зихно из города в город, наскучило прятаться по оврагам от людей.
— Не воры мы, а бредем по ночам, — ворчала она, семеня рядом с богомазом. У Зихно широкий шаг, у Златы шажок маленький.
— Идешь, будто землю месишь, — устав приноравливаться, упрекал он ее иногда.
— За тобой угонишься.
— Неча было тащиться. Оставалась бы у Никитки.
— Ишь ты, сноровистый какой! — выговаривала Злата. — Аль мало поозоровал?
— Не бабье это дело. Тебе пироги печь да детишек нянькать.
— Как же, с тобой наняньчишься, с жеребцом-то…
— Тьфу ты, — отплевывался Зихно, — Право дело, не язык у тебя, а сущее помело.
Долго ли, коротко ли шли, а все же добрались они до Новгорода-Северского. Спрашивая на торговище у мужиков, разыскали Киршу.
Правду говорили странники, справно жил богомаз. Залюбовались они, остановившись перед его избой. Не изба, а резной пряник.
— Чо глядите не наглядитесь? — окликнул их мужик с палючими, навыкате, глазами.
— Шибко красивая изба, — сказала Злата. — Глазу загляденье, а жить в ней, поди, еще лучше.
— Как жить, ты меня спроси, — сказал мужик с улыбкой.
— Не Киршей тебя зовут? — живо обратился к мужику Зихно.
— Верно, — ответил мужик и вытаращил на богомаза глаза. Долго глядел так, онемев от изумлении. Слова выговорить не мог.
Зихно сам поспешил ему на помощь:
— Нешто забыл?
— Зихно?!
— Он самый.
— Да каким тебя ветром занесло? — обнял Кирша богомаза.
— Идем мы из самого Суздаля, — сказал Зихно. — Малость в Смоленске подзадержались, не хотели отпускать, хозяева хлебосольные оказались.
— Экой смешливый ты, Зихно, — улыбнулся Кирша.
— Какова погудка, таковы и сани, — ответил богомаз. — Без шутки нынче и дня не проживешь.
Вошли в избу. Хозяйка в окошко увидела их, поджидала у самого порожка. Толстая, рыхлая, носик в пухлых щечках утонул, как в белой булочке, короткие ручки на запястьях будто ниточкой перетянуты.
— Встречай, Лика, дорогих гостей, — сказал Кирша. — Зихно к нам, вишь, пожаловал. Сколь уж лет не виделись…
Хозяйка поклонилась, закудахтала невнятно, всплескивая ручками, засуетилась по комнате. То одно схватит, то другое. Не знает, куда усадить гостей.
— Садитесь в красный угол, — указал им на лавку Кирша.
Устали Зихно со Златой с дороги, сели на лавку без сил.
— А худющий ты стал, Зихно, — сказал, усаживаясь напротив, Кирша.
— Небось похудаешь, коли три дня не едали.
— Да что же это я?! — бросилась к печи Лика.
Скоро перед Зихно со Златой появились пироги с рыбой, с черникой, жареное мясо, огурцы, широкие ломти черного хлеба. Лика принесла из ямы холодного квасу в запотевшем глиняном жбане. Поохала и тоже села с краю перекидной скамьи, подперла щеку пухлыми пальчиками.
Наевшись пирогов и напившись квасу, Зихно размяк, срыгнул и распустил на животе кушачок. На сытое брюхо и беседа хорошо складывается. Разговорились два богомаза. Рассказал Зихно хозяевам о своих скитаниях, Кирша поведал о своих.
Чего уж там, и его не шибко баловала жизнь. Всякого довелось хлебнуть: и горького и сладкого. Горького-то больше.
— Беспокоят нас на окраине половцы, — говорил он глухим голосом. — Ты вот только с кистями да с краской, а мне и с мечом хаживать довелось. Не мирное у нас порубежье. Огнем опоясано.
Он понизил голос до шепота:
— Лика-то моя… Да что там говорить, спас я ее от половецкого полону. Почитай, у смерти отнял. Сирота она. И отца и мать ее пожгли окаянные.
— Пошел бы обратно в Новгород…
— Назад дороги мне нет, — вздохнул Кирша. — Прирос я сердцем к здешним краям. Как бросишь нажитое?..
— Изба у тебя ладная.
— Да разве я о том? — удивился Кирша. — Я о людях. О том, что в сердце своем нажил, о том, что выстрадал. И Лику от родных могил в какую даль уведу?
— Что верно, то верно, — согласился Зихно. — Каждому из нас своя дорога.
— И тебе бы осесть, — осторожно заметил Кирша.
— Не осяду, — сказал Зихно. — Вот только Злату жаль. Измаялась она со мной.
Долго говорили мужики. Наутро Кирша привел в избу вертлявого, с острым, как у мыши-полевки, лицом, низенького монаха. От монаха попахивало бражкой, и Зихно, блаженно зажмурил глаза, потянул в себя хмельной дух. Монах тихо и юрко двигался по комнате, улыбался, растягивая узкие губы, из-под которых виднелись частые и острые зубы.
— Нифантий, — назвал его Кирша.
Монах быстрым взглядом окинул богомаза, сел на лавку и жадными глазами обшарил еще не убранный стол. На столе валялись объедки пирогов, стоял жбан с недопитым квасом.
— Ты на стол-то не гляди, не гляди, — предупредил его Кирша. — Не будет тебе нынче меду. Уже с утра хмелен.
— С медком-то на душе благостней, — пропищал Нифантий. — Как же его не пить?
— Ты пей, да дело разумей, — строго сказал Кирша. — А дело к тебе вот какое. Мужик, что напротив тебя сидит, богомаз, Печерскую лавру расписывал. Нынче пришел к нам, и отпустить его нам совестно. Пущай оставит по себе добрую память.
— Пущай, — согласился монах.
— Об том и разговор. Ступай с ним в монастырь и скажи игумену, что я его заместо себя посылаю… Еще кланяться будете, еще попросите остаться. Мое слово верное — другого такого богомаза вам не сыскать.
— Что тобой сказано, — кивнул Нифантий, — то для нашего игумена закон.
Кирша довольно улыбнулся, разгладил бороду.
— Вот и ладно. А теперь в самый раз и медку.
Выпили. Закусили. Вышли со двора, монах — впереди, Зихно — чуть поодаль.
По улице валила густая толпа.
— Пожар, что ли? — удивился Зихно.
— Не, — сказал Нифантий, останавливаясь у ворот. — Сказывают, князь наш в поход на половцев собрался.
Над толпой высились всадники, гудели рожки и дудки. У городских ворот алел княжеский прапор.
— А князь-то где, князь-то? — вытянул шею Зихно.
— Вона он, — кивнул монах. — Ты под прапор, под прапор гляди.
Среди поднятых копий покачивались шеломы. Воинство втягивалось в ворота, и здесь было совсем не протолкнуться. Работая направо и налево локтями, Зихно едва поспевал за юрким Нифантием. Оглядываясь на них, мужики огрызались. Громко голосили бабы.
Воинство прошло, и толпа, давя друг друга, хлынула вслед, подхватив монаха с богомазом. Тут уже не зевай, тут уж только перебирай ногами. Не то упадешь — затопчут.
Слава тебе господи, живыми вынесло за ворота! Перевел Зихно дух, высмотрел в толпе Нифантия: на монахе ряса смята, скуфья сползла на ухо.
Воинство двигалось от ворот по полю, растянувшись на добрые две версты. Пыля ногами, следом за ними бежали ребятишки. Бабы, стоя на пригорке, утирали слезы.
— Ужо поплатятся за все поганые, — говорили мужики. — Будет им озоровать на нашей стороне.
По дороге в монастырь Нифантий рассказывал:
— Еще нынешней весной ходил Кончак на Русь, послал сказать Ярославу черниговскому, будто хочет мира. Коварен степняк. Посла-то отправил, а сам задумал недоброе. Поверил ему Ярослав, снарядил на Хорол своего боярина, — дескать, ежели Кончак просит мира, то и мы о том же радеем. Нам половецкие степи не нужны, своей земли в полном достатке. Добр Ярослав, сердцем — ребенок, злого умысла не разгадал. А когда прислал к нему великий князь Святослав своего человека сказать, чтобы не верил он Кончаку, поздно уже было. Тогда-то и решил Святослав идти на половцев всею силой. Пристали к нему и другие князья: Рюрик Ростиславич, Владимир Глебович и Мстислав Романович. Владимир и Мстислав — те молоды были, все рвались в сечу, но Святослав решил сперва все разведать: что да как. Привели к нему купцов, стал он их расспрашивать: где ехали да что приметили. А приметили они многое. Пришли, мол, половцы с самострельными луками, такими тугими, что натянуть их могут только пятьдесят человек. А еще похваляется Кончак басурманином, который мечет живой огонь…
— Это еще что за невидаль такая? — удивился Зихно.
— А леший его знает, — сказал монах и перекрестился. — Никак, спутался басурманин с нечистой силой. Говорят, будто метал он этот огонь далеко впереди войска… Вот и задумался Святослав, как тут быть. И решил он напасть на половцев врасплох, когда все спали. И место ему указали купцы. Сказано — сделано. А раз рвутся молодые князья в бой, их-то он вперед и послал. А еще наказал: схватите, мол, того басурманина живым и невредимым — поглядим, что у него за живой огонь.
— И басурманина схватили, и половцев прогнали с Хорола, — сказал Нифантий. — Тогда еще князь наш Игорь хотел идти со Святославом против поганых, да припозднился — наши-то были уже далеко. «По-птичьи нельзя перелететь, — сказала ему дружина. — Приехал к тебе боярин от Святослава в четверг, а сам он идет в воскресенье из Киева. Как же тебе его нагнать?» Упрям был Игорь, не послушался дружины, пошел за Святославом короткой дорогой возле Сулы-реки, да помешала оттепель. Так и воротился ни с чем…
— А нынче один собрался?
— С младшими князьями. Идет с ним брат Всеволод из Трубчевска, племянник Святослав Ольгович из Рыльска, сын Владимир из Путивля. Да еще, сказывают, выпросил он у Ярослава черниговского боярина с ковуями…
— Не шибко надежное войско.
— Зато вой к вою.
— Половцы, те тож рубиться ловки.
Нифантий вздохнул:
— Дай-то бог нашему князю удачи.
— Удача — половина победы, — согласился с ним Зихно.
Они подошли к монастырю. В святой обители их принял игумен, еще не старый, еще не седой и очень бойкий на вид. Звали его Аскитреем.
Он проводил богомаза в свою келью, усадил на скамью, стал выспрашивать ласково, откуда Зихно родом, где довелось ему побывать и что повидать. Тихий голос игумена западал в душу, вкрадчивая речь располагала богомаза к откровенности. Но привыкший к неожиданностям, всего игумену он не рассказал, кое-что и утаил. Не поведал и того, за что изгнал его Поликарп из Киева. Зато говорил по-книжному и складно, и это понравилось Аскитрею, который сам был книжником и грамоту в людях почитал за самую великую добродетель.
На скромном дубовом столе в его келье лежали книги и пожелтевшие пергаментные свитки, здесь же стояла чернильница с писалом — ночами Аскитрей допоздна трудился, переводя наиболее интересные, по его разумению, произведения греческих авторов на русский язык.
Домой Зихно вернулся поздно, когда все в избе Кирши легли спать. Одна Злата не спала, а только притворялась. Но Зихно пришел трезвым, брагой от него не пахло, и она, повернувшись на бок, тоже уснула спокойно и сладко.
2
Расписывал Зихно стены в церкви, а краски растирал на дворе. Когда он выходил и начинал колдовать с терками и кистями, его окружали монахи, покачивали головами и вслух дивились:
— Эко хитрость какая! Вразумит же господь…
— Господь-то господь, — спокойно отвечал им Зихно, — а мозоли мои. Семь потов сойдет, пока насидишься под сводом.
— Кисть-то легкая. Кисть не топор и не лопата, — улыбались недоверчиво монахи.
— На-ко подержи, — совал Зихно кому-нибудь чашу с готовой краской и подавал кисть. — А теперь ступай да распиши мне апостола Петра. За то ставлю тебе корчагу меда.
— Экий ты ловкий, — отстранялся монах и тут же петушился: — А ежели и распишу, меда-то у тебя все одно нет.
— Распишешь апостола, найдется и мед…
— Хитер. Апостола расписывать ты поставлен, а я лучше прочту «Аллилуйя», — смущенно прятался монах за чужие спины.
Зихно смеялся и уходил в церковь. Там он поднимался на леса, запрокидывал голову и любовался работой, сделанной за день. И каждый раз ему казалось, что ничего лучшего в жизни он уже не сможет создать.
Зихно долго вздыхал и не решался взять в руки кисть, чтобы сделать первый мазок. С первого мазка начиналась дальняя дорога, которую он так или иначе одолевал до вечера и, изможденный, ложился на доски без сил.
Ночью ему снились кошмарные сны, нарисованные за день лики являлись к его изголовию в безобразном виде, с рогами и мохнатыми ушами, с глазами, горящими как уголья, с разверстыми зубастыми ртами. Он вскрикивал, просыпался и будил лежавшую рядом с ним Злату.
Злата склонялась над ним, вытирала ему влажный лоб, встревоженно спрашивала:
— Что за невзгода с тобой? Что за напасть? Уж не простыл ли часом?
Предлагала:
— Попарься заутра в баньке.
Зихно стихал, прижимал к щеке ее прохладную руку, но едва только смежал глаза, как снова являлись ему безобразные рожи.
Утром он парился в бане, подолгу лежал на полке, вдыхал живительный запах веников и, выпив квасу, отправлялся в монастырь. Здесь он со страхом карабкался на леса, разглядывал придирчиво сделанную накануне работу и снова радовался тому, что сделана она хорошо, и снова боялся прикоснуться к кистям, потому что сделать лучше или даже так же, как вчера, уже не мог.
Ночью его опять мучили видения. С утра все повторялось сначала.
А церковь под его рукой дивно преображалась, заполнялась живыми образами, словно рыночная площадь с утра, когда на зорьке здесь почти никого нет, разве что мелькнут две или три невзрачные фигуры, но через час-другой все заполняется, движется и живет, радуя глаз выраженьями таких несхожих друг с другом лиц…
Так шли одинаковые, как близнецы, дни, а время катилось к лету. Спали талые воды, на обрывах появились стебельки мать-и-мачехи, замелькали на пригреве бабочки, распустила пушистые, желтые, как цыплята, цветы ива, запылил орешник.
Все дольше задерживался Зихно на дворе, сидя перед церковью, глядел на пробивавшуюся сквозь камни, выстилавшие двор, молодую траву. Сидел он так же и в тот день, когда вдруг показалось ему, будто заволокли небо тучи, потому что все вокруг потемнело и с реки потянуло холодом. «Уж не снег, не град ли?!» — подумал Зихно и взглянул на небо. Но небо было чистым и ясным, как всегда, только самая кромка его словно бы утонула в синеватом туманце, какой случается на самом закате дня.
А когда глянул Зихно на солнце, то чуть не обмер со страху. Круглый солнечный диск вдруг превратился в полумесяц, и полумесяц этот становился все уже, пока не стал совсем тоненьким, как стаявшая льдинка.
«Господи помилуй, да неужто наяву пригрезилось?» — перекрестился Зихно, вспомнив свои чудные и страшные сны.
Он дернул себя за ухо, почувствовал сильную боль и снова поглядел на небо. Солнце не стало круглым, оно все так же высвечивалось лишь узкой краюхой, словно остальную его часть заглотнуло неведомое чудовище.
— Что это, игумен? — крикнул он появившемуся на всходе бледному Аскитрею.
— То божие знамение, — сказал Аскитрей.
На дворе собирались монахи, послышался гул множества голосов. По всему Новгороду-Северскому завыли собаки. Люди выходили на улицы, молились, недоуменно глядели на небо.
— Грядет страшный суд! — кричали одни. Другие подсказывали:
— Не будет князю Игорю в его походе удачи. Не в доброе время собрался он на половцев.
И речи эти слышала в своем тереме Игорева жена — княгиня Ярославна. Она стояла у окна и тоже видела, как черный круг застил солнце, как прокатилось по земле холодная ночная тень.
Защемило княгине сердце, вспомнила она недавний разговор с Игорем, когда прискакал в Новгород-Северский гонец от князя Святослава с предостережением не идти против степи одному, дождаться, когда соберутся князья с силой.
Посмеялся тогда Игорь:
— Святослав стар, а всю славу хочет забрать себе. Ходил он счастливо на реку Хорол, неужто ж я не изопью шеломом воды из Дона?
Ярославна была дочерью умного и хитрого Осмомысла и старалась предостеречь безрассудного мужа.
— Послушайся старого князя, — говорила она. — Хан Кончак зализал свои раны. Нынче он снова в силе, справишься ли с ним один?
— У меня кони сытые, — со смешком отвечал Игорь, — стрелы у меня острые. Да и бабье ли это дело — делить с мужиками их труды и заботы?..
Отослал он Ярославну в терем, а сам весь день и всю ночь пировал с дружиной.
Собравшись все вместе, бывалые вои и безусые юнцы похвалялись своей удачей. Подогревали смелость вином, разжигали в себе ратный дух. То, что было и чего никогда не было, — все валили в одну кучу.
— Побьем Кончака! — кричали они.
— Кзу приведем на цепи!
— Порушим половецкие становища!
— Вернем из рабства своих сестер и братьев!
— Устелем вражьими костьми половецкую степь!..
А Ярославна, слушая долетающие до терема пьяные голоса, истово молилась за мужа перед иконами, лбом касалась холодных досок пола, шептала:
— Дай бог Игорю, мужу моему, разум. Просветли его, наставь на путь истинный.
Освещенное лампадами лицо Христа глядело на нее отрешенно, словно не доходили до него ее молитвы. И так решила, подымаясь с колен, Ярославна: не Игорем, а богом задуманное уже не повернуть вспять. Видно, выпало ей такое испытание, и крест свой назначено ей нести до конца.
И все-таки еще раз попробовала она усовестить мужа:
— Нешто слава тебе дороже воев, что полягут за Доном от половецких сабель? Подумал ли ты о их матерях и женах?
Засмеялся ей князь в лицо:
— Мне ли о том думать? Да и зачем? И до меня ходили князья в степь, и до меня победители возвращались, а побежденные оставались на поле брани. И до меня пролились реки крови и слез. Что от того, если добавлю я к этому морю еще одну малую каплю?.. Разве ты не слышала, как радуются вои, как рвутся поскорее сразиться с врагом?!
Плохо спала в ту ночь Ярославна, совсем почти не спала, приподнявшись на локте, глядела в красивое лицо мужа, обрамленное полукружьем мягкой бороды. Упрям Игорь, в храбрости своей безумен. Но, может быть, потому она и любит его, может быть, потому и боится потерять?.. А если бы он был другим, если бы был тихим и сговорчивым?.. Больше или меньше любила бы его Ярославна?
И, выплакав за ночь, утром она уже не проливала слез. Молча собрала она князя в поход, прощаясь на виду у глазастых бояр и боярынь, степенно поцеловала его в лоб, спокойно перекрестила, словно и не на брань провожала, а на веселую охоту.
То-то же сейчас наревелась она вдосталь. Вот оно — предзнаменование. Поглотила солнышко тьма, заслонила черным крылом ее милого.
Дворовые девки, испуганно дыша, жались друг к другу на всходе.
— Чего перепугались? — спросила их княгиня.
— Нечистая сила солнышко-то заглотала…
— Заглотит, так поперхнется, — сказала Ярославна. — Гляньте-ка, вот уж и снова оно ярче разгорается.
— И правда! — обрадовались девки.
На улице стало светлеть. Тьма серела и рассеивалась. Скоро снова заблистали жарким пламенем купола церквей и соборов…
Обсуждая непредвиденное и странное событие, монахи расходились по кельям. Постояв еще немного рядом с богомазом, побрел в свою келью и Аскитрей.
Зихно вскарабкался на леса, перевел дух — да-а, такого еще отродясь не было. Почесал затылок, подумал о Злате, улыбнулся: уж она-то, ясное дело, перепугалась. Поди, и впрямь подумала, что конец света. Он представил себе прильнувшую к окну Злату, мечущуюся по избе толстую Лику, кудахтающих кур во дворе Кирши, и весело засмеялся. Вот потеха так потеха. Много нынче будет выпито меда за спасение души, не опоздать бы.
Зихно оглядел своды, остановился на картине страшного суда, где на голубом шатре неба, прямо над головой несгибаемого и сурового Христа светил желтый кружок солнца, и взял в руки кисть.
Постоял, склонив голову набок, подумал и быстрым мазком закрасил черной краской половину желтого круга.
3
Гонец примчался под вечер. Всполошив собак, постучал рукоятью меча в уже закрытые на ночь створы ворот.
Молодой парень-воротник откинул смотровое оконце и, узнав княжеского посланца, тут же торопливо загремел засовами.
Не слезая с коня, гонец вихрем промчался под сводом. Пропуская его, люди на улицах жались к заборам и плетням, испуганно глядели ему вслед. Отчего такая спешка, с какими новостями прислал его в город князь?
Одежда на гонце была заляпана темными шмотками грязи, на черном от степного загара лице блестели белки глаз, по щекам, размывая пыль, струились ручейки пота. Гонец ощеривал рот и стегал взмыленного коня. Конь храпел и, надрываясь от натуги, рвал удила.
Много дней и ночей трудного и опасного пути лежало у гонца за спиной. За спиной его лежала вздыбленная тревогой степь и глубокий Дон с водоворотами и быстрым течением, за спиной осталась половецкая погоня, и сейчас еще слышал он посвист пролетающих справа и слева красных половецких стрел. Метко били из своих луков степняки, но гонца хранила удача — ни одна из стрел не коснулась его кольчуги, ни одна не задела коня. Вынесла его на другой берег и упругая донская волна.
На ночевках в курных избах, ворочаясь на кислой овчине, вспоминал гонец, как шел он с Игоревым войском на юг, как пришли они к реке Сююрлию и встали на берегу. На противоположном берегу встало половецкое войско со стрелками впереди.
Памятный это был день, вовек его не забыть, потому что следующим утром свершилось самое страшное. Но пока о том, что должно случиться, никто ничего не знал, не знал о том и князь Игорь.
— Ударим на половцев, — сказал он и приказал строить войско.
Игорева дружина встала посередине, по правую сторону — дружина брата его Всеволода, по левую — племянника Святослава, впереди — дружина сына его Владимира с отрядом черниговских ковуев. А перед всем войском, у самого берега Сююрлия, выстроились стрельцы, отобранные ото всех дружин.
Не ждали, знать, половцы русских, потому и растерялись. Едва успели они пустить по одной стреле, как тут же бросились бежать. Переправившись через реку, ударили по ним русские со всею силой, рубили растекающихся по полю врагов, гнали их в степь, не давали им пощады. Разорили они половецкие становища, захватили много добычи и пленных. И, встав на три дня у Сююрлия, праздновали великую победу. Пили меды, веселились и посмеивались над старшими князьями:
— Братья наши с великим князем Святославом ходили на половцев и бились с ними, озираясь на Переяславль, в землю половецкую не смели войти, а мы теперь в самой земле половецкой, поганых перебили, жены и дети их у нас в плену, теперь пойдем на них за Дон и до конца истребим их. Если и там победим половцев, то двинемся в Лукоморье, куды и деды наши не хаживали.
Скоро вернулся из погони передовой отряд, и, когда Игорь узнал, что половцы бегут, не оказывая сопротивления, преисполнился еще большей гордости и совсем уверовал в свою победу. Знать, счастливым было предзнаменование, когда еще в самом начале похода стояло солнце на небе серпом, словно месяц. Тогда сказали ему князья: «Не на добро это знамение. Не повернуть ли нам наших коней назад?» А Игорь ответил им: «Тайны божией никто не знает, а знамению всякому и всему миру своему бог творец. Увидим, что сотворит нам бог, на добро или на зло наше». И велел переправляться через Донец и идти к Осколу, где должен был встретиться с братом Всеволодом, вышедшим на встречу с ним из Курска.
Упрям был Игорь, умел стоять на своем, и, когда на Сальнице пришли к нему сторожа, посланные ловить языка, и предупредили, что половцы собираются с силой, снова не послушался он осторожных братьев, уговаривавших его возвращаться домой.
— Ежели мы и теперь возвратимся, не бившись, то стыд нам всем будет хуже смерти.
Радовался Игорь, что оказался прав, и теперь звал князей идти, не отдыхая в ночь:
— Самое время сейчас ударить на половцев и кончить с ними разом.
Кто знает, как бы еще все обернулось? Но Святослав Ольгович и Всеволод воспротивились ему.
— Подождем до утра, — сказали они. — Кони наши притомились.
Крепко спало Игорево войско в ту ночь, не слышали дозорные, как, тихо ступая копытами по мягкой степной траве, сходилась к Сююрлию половецкая конница. Приятные снились воям сны, снились родные деревни, жены и дети, ждавшие их из похода с победой. Снились им полноводные и тихие русские реки, и грибные дожди, и горько пахнущие черные пашни, ждущие семенного зерна. Снились веселые праздники и девичьи хороводы, где девки одна краше другой и где веселые песни не смолкают до самого рассвета.
Но нынешний рассвет уготовил им уже другую участь. И о той участи никто из них не знал, хотя слепая судьба еще задолго до восхода солнца каждому выдала свое: одному — смерть, другому — позорное рабство.
И когда рассеялась ночная мгла, с удивлением протерли глаза дозорные: да наяву ли это, да не привиделось ли им? Куда ни глянь, со всех сторон по широкой степи стояло в безмолвии половецкое войско — словно из-под земли выросло, как опята после летнего щедрого дождя.
Жестоко просчитался Игорь, плохо знал он своего врага, зря положился на слепую удачу.
Вышел он из шатра и, сев на седло, брошенное в траву, задумался. Но как ни думай, как ни гадай, а обратного пути не было. И не было другого пути, как только драться до последнего издыхания. Поверни он войско — сядут половцы на загривок, вцепятся мертвой хваткой, ни одному не уйти. А в честной битве — лицом к лицу — победа на стороне бесстрашного. И если уж смерть написана на роду, то со славою.
Страшная была это битва, до самого последнего часа не забыть ее гонцу. Бились русские с половцами и день, и вечер, и ночь. А утром дрогнули и побежали ковуи.
Как сейчас, видит гонец Игоря, скачущего им наперерез. Как сейчас, видит половцев, окруживших князя.
Зажмурив глаза, чтобы не выдать слепивших его слез, вспоминал гонец, как вели их в плен, как смеялись над ними половецкие конники:
— Что, испили, мужики, шеломами нашего Дона?
— Нынче и князь ваш у нас в плену — то-то будет подарочек хану.
Гнали их через сожженную солнцем и высушенную суховеями степь. Гнали днем и ночью, хлестали плетьми по согбенным спинам, покрикивали, чтобы шли бойчее — радовались, торопились сбыть поскорее живой товар, отпраздновать победу.
Великим позором, как черная борозда, пролегла через сердце гонца суровая дорога рабства.
Как вырвался он из плена? Какая счастливая звезда освещала ему путь? Почему не изрубили его саблями, не проткнули копьями, не изрешетили стрелами?..
Но кто бы тогда донес до Ярославны печальную весть?
Темной ночью выбрался он из загона, неслышной змеей прополз к табуну. Не всполошил чуткого табунщика, не разбудил задремавших стражей, не дал коню с ржаньем и топотом устремиться в степную бескрайность. Тихо вывел его в поводу, тихо выбрался за ручей, тихо затянул подпругу и, только когда уж был далеко от стойбища, вихрем взлетел в седло и ожег коня сыромятной плетью.
Вот почему он стался жив — резвый попался ему конь, лучший половецкий конь попался ему. А еще потому, что крепко спали половцы со своими женами под войлочными пологами шатров. И еще потому, что, вскочив спросонок, не сразу нашли свои луки, не сразу выловили в табуне расседланных коней. И еще — не думали они, что в этом истерзанном голодом и дальней дорогой теле хватит силы перегрызть стянутые на руках крепкие путы…
Не с радостной вестью скакал в Новгород-Северский чудом уцелевший вой и не знал он, как скажет Ярославне о великой беде.
И не в бедную избу свою, где заждались его жена и двое желтоголовых ребятишек, свернул он, возвратившись в город, а к княжескому терему, потому что позже, попав в избу, он упадет и два дня будет лежать на лавке в беспробудном и тяжком сне. Потом он будет ходить по избе в исподнем, есть и пить и подолгу стоять на крыльце, вглядываясь в зелень садов, словно видит их впервые, а раньше никогда не видел и не знал, что есть дубы и березы и что мирный шелест их листвы может наполнять его всего таким необъятным счастьем. Потом он придет в свою мастерскую к гончарному кругу и будет завороженно прислушиваться к его мерному стуку и с необъяснимым блаженством погружать руки в прохладную покорную глину.
Все это будет потом, а пока, не умывшись с дороги, пропыленный и грязный, шел он по княжескому двору, окруженный молчаливыми и встревоженными людьми, к высокому всходу, на котором уже стояла и ждала его прямая и бледная княгиня.
4
Весть о поражении Игоря застала Святослава на пути из Корачева. И принес ее не княжеский вестник, а монах, случившийся по дороге из Новгорода-Северского в Дорогобуж.
Монах рассказывал всем на церковной паперти о предзнаменовании, ниспосланном богом упрямому князю, и о жестокой каре, которая уготована и здесь, на земле, и на небесах темной и неразумной пастве.
Грозя толпе перстом, он кричал срывающимся голосом:
— Грядет судный день! Молитесь за спасение души своей, ибо придут язычники и порушат божии храмы, избы ваши предадут огню, жен — поруганию.
Монаха приметил Кочкарь, привел его, упирающегося и брызжущего слюной, к Святославу.
— Пошто пугаешь народ? — хмуря брови, спросил его князь. — Пошто вопишь о судном дне? Кто накаркал тебе в уши непотребные речи?
Узнав Святослава, монах упал на колени.
— Не вели казнить, великий князь, вели выслушать. Никто не накаркал мне непотребных речей, а говорю то, что сам видел. Горят села по Сейму. Великой силой идут Кончак с Кзаком на Русь. А привел их за собою северский князь Игорь.
— Совсем разум тебе застило, старик, — недовольно оборвал монаха Святослав. — С чего князю вести за собою поганых?
— А с того, — ответил монах, — что не послушался он твоего совета и, взяв с собою Святослава Ольговича, Владимира, сына своего брата Всеволода, и Ярослава боярина Ольстина Олексича с ковуями, отправился воевать половецкую землю, да вместо того сам попал к Кончаку в плен.
— То ложь! — вскинулся Святослав. — Не верю я тебе, монах. И впрямь лишился ты разума.
— Вот те крест святой, — повернувшись к образам, быстро перекрестился монах. — Сам говорил с человеком, бежавшим из-за Дона. Весь Новгород-Северский плачет по князю.
— Так нешто ведет за собою половцев неудачливый князь?
— И про то говорят.
— Ступай прочь! — брезгливо морщась, прогнал Святослав монаха. А Кочкарю он сказал:
— Не все врет монах. Есть и правда в его словах. Неспроста присылал ко мне Игорь послов, неспроста звал на половцев. Знать, не послушался он моего совета и нынче сидит у Кончака на цепи. Открыл он дорогу половцам в Русь, и за то нет ему моего прощения.
В тот же день, оседлав коней, Святославова дружина двинулась к Новгороду-Северскому. Шли на рысях, сокращая стоянки, не давая себе покоя и отдыха.
От города выехала к нему навстречу княгиня. И когда увидел Святослав плачущую Ярославну, когда прижал ее упавшую ему на плечо голову, только тогда понял: стряслась беда и теперь дорога ему легла не на Киев — в Чернигов, звать князей, собирать войско, спасать от поганых свое порубежье.
— Нет в князьях согласия, — в сердцах раскрылся он Кочкарю. — Думал, сяду на киевский стол, признают во мне старшего среди всех. Не силой, а по древнему обычаю мечтал собрать вокруг себя младших князей. Да только что из этого вышло? Как ходили брат на брата, так и поныне идут. Смута великая, рознь и кровь…
И вдруг подумал: «А сам? Не сам ли и ранее и все эти годы хитрил и изворачивался? О том ли радел, так ли жил?»
Впервые такое подумалось. А вслух проговорил задумчиво:
— Как вразумить князей?
— Всеволод вразумляет, — сказал Кочкарь и вздрогнул.
«Вот оно, вот!» — похолодел Святослав и резко оборвал Кочкаря:
— Ему хорошо, за Мещерскими-то болотами…
Нет, не то, совсем не то сказал. Совсем другое было на языке, да разве такое выскажешь? Не промелькнула ли в этот миг перед ним вся его жизнь? Сам-то, сам-то он о единении ли Руси пекся все эти годы? С малолетства мечтал о славе, о почтении к нему, старшему из князей. За свое радел — не за общее. Только и всего, что сидел в Киеве, а как был удельным князьком, так им и остался. Жил в страхе: как бы чего не отняли, как бы не потерпеть убытка. Рушил клятвы, хитрил. А главное проглядел…
Но голос разума затмевало привычное: так было, так и будет во веки веков. Он ли подымет руку на древние обычаи предков? Князья что дети малые, и Святослав всем им отец.
Ярослав встречал его в Чернигове посрамленный.
— А ты-то? — кричал раздраженно Святослав. — Ты-то почто польстился? Почто дал ему ковуев? Почто, как старший, не охладил, не удержал, не прислал мне весточки?
Смущенно сминая в кулаке полу синего корзна и не глядя на отца, Ярослав пытался оправдываться, говорил невнятно и тихо. Святослав кашлял и хватался за грудь.
— Дал бы мне бог притомить поганых, — говорил он, — но вы не сдержали молодости своей и отворили им ворота в Русскую землю. Воля господня да будет. Как прежде сердит я был на Игоря, так теперь жаль мне его стало.
Не теряя времени, он приказал Кочкарю немедля слать гонцов к сыновьям своим Олегу и Владимиру, чтобы ступали они в Посемье. Просил он и Давыда смоленского:
— Мы было сговорились идти на половцев и летовать на Дону, а теперь вот половцы победили Игоря, так приезжай, брат, постереги Русскую землю.
За Игоря молились в черниговских церквах, Ярослав срочно собирал войско.
Теперь, рядом с отцом, он чувствовал себя тверже и делал все, чтобы искупить вину. А тогда, ранней весной, когда Игорь слал ему посла за послом, когда укорял его в трусости и нерешительности, боясь разгневать Святослава и не решаясь отказать новгород-северскому князю, он вдруг обрадовался, найдя, как ему казалось, умное решение. Сам он в поход не пойдет, слова, данного великому князю, не нарушит, но не обидит и Игоря: так появились ковуи и боярин Ольстин Олексич.
На следующее утро Кочкарь отправился двумя лодиями в Киев — Святослав наказал ему собирать войско, а сам остался в Чернигове.
Погода была безветренная, солнечная, Днепр величаво катил свои воды. Стоя на корме, Кочкарь глядел на проплывающие мимо берега и, опережая в мыслях лодии, уже сходил на пристань в виду киевского предградья. Давно он не видел Васильковну. Когда в последний раз они отъезжали в Корачев, княгиня была больна.
Сгорая от нетерпенья, Кочкарь погонял гребцов. Но те и так выбивались из последних сил, жесткие мозоли на их руках ныли, горели обожженные солнцем плечи и спины.
В Киев прибыли на закате солнца, когда уже длинные тени легли на тесные улочки Подола, только на Горе еще сверкали купола соборов и ярко вспыхивали слюдяные оконца теремов.
Все было так бережно сохранено в памяти Кочкаря, что, проезжая ворота, он вдруг поймал себя на мысли, что проезжает их как проезжал каждый день и день изо дня словно последний год не прошел в непрестанных разъездах и ночевках, словно совсем недавно он не был в Чернигове, а еще раньше в Корачеве, где постели были жестки и набиты клопами.
Воротник узнал Кочкаря, улыбнулся ему, и Кочкарь улыбнулся воротнику, хотя раньше всегда проезжал мимо него гордый и неприступный, и воротник в страхе пучил на него выцветшие большие глаза.
Кочкарь ожидал, что княгиня выйдет на крыльцо или хотя бы в сени, но ни в сени, ни на крыльцо она не вышла, и это обеспокоило его. Ему показалось, что у дворовой девки, посторонившейся от него в переходе, были растерянные глаза.
«Не беда ли стряслась?» — обеспокоенно подумал он, но тут же сообразил, что если бы стряслась беда, гонец давно был бы в Чернигове. Значит, просто княгиня не выздоровела.
Так он шел по переходу широким и торопливым шагом, когда увидел в конце его княгиню и рядом с ней веснушчатую Панку, державшую под мышкой обтянутую алым шелком подушку.
Кочкарь склонился перед княгиней, Панка тут же шмыгнула в боковую дверь.
— С приездом тебя, воевода, — сказала Васильковна низким грудным голосом, прерывающимся от волнения. — Какие вести привез от князя?
— Вести худые, — сразу сказал Кочкарь. — Но князь в добром здравии и велел тебе низко кланяться.
— Какая же спешка случилась, ежели бросил ты князя, а сам в Киеве?
— Князь Игорь попал к Кончаку в полон, и половцы пожгли в порубежье наши города и села. Нынче кличет Святослав князей, чтобы идти с ними против поганых. Сам он остался у Ярослава в Чернигове, а я прибыл собирать войско.
Он говорил так и разглядывал княгиню, которая показалась ему помолодевшей — и полнота с нее сошла, и на лице разгладились морщинки. Только в глазах мутным облачком повисла усталость, так это от болезни и скоро пройдет.
Но вечером, когда они остались одни, когда ласковые слова были все сказаны, а свечи, оплывая воском, догорали на столе, он вдруг понял, что усталость эта не пройдет, что княгиня больна и что не дождь, на котором она промокла, виновник ее болезни, а годы, стремительно уносящие и былую красоту ее и здоровье.
Княгиня говорила медленно, через силу, ей не хватало дыхания, и она невольно протягивала руку к груди, словно стараясь помочь ей вобрать в себя побольше воздуха.
И Васильковна догадалась, что он знает о ее недуге и что румяна, которыми она старательно натирала свое лицо, со дня на день ожидая его приезда, не в силах скрыть того, чего уже не скроешь никакими румянами. И потухающий взгляд Кочкаря пронзил ее всю острой болью.
Она отвечала ему тихо и грустно, свыкшись с тем, что должно случиться. И зеркала не врали ей, потому что лицо Кочкаря говорило о том же.
С утра Кочкарь ушел к собранным на совет боярам и тысяцким, и Васильковна осталась одна. Она сидела на постели, смотрела на разгорающийся за окнами рассвет, слушала щебетанье ласточек, свивших гнездо под карнизом терема, но ничто уже не радовало ее, не наполняло счастливым ликованьем, как это бывало раньше, в годы ее молодости, и еще совсем недавно, когда она плыла в Новгород, ревновала Кочкаря и думала о встрече с ним.
Теперь в ней поселились усталость и покой. Не хотелось вставать с постели и двигаться, не хотелось, как прежде, спешить на кухню, чтобы поторопить девок и заодно понюхать, что варится в котлах и жарится на огромных черных сковородах, не хотелось поспешить на зорьке в мовную избу, похлестать бедра крепкими вениками, вдохнуть пахучего пару, сполоснуть лицо настоянной на травах водой, чтобы потом сесть перед зеркалом, распустить по плечам косу и любоваться выступившим на щеках молодым и свежим румянцем.
Она ощущала свое тело, как бремя. И медленно текущие дни не оставляли больше надежды.
Кочкарь вернулся в Чернигов к концу недели. Прощаясь с Васильковной, он улыбался через силу и прятал глаза.
5
Пока еще стояла хорошая погода, пока еще не пошли дожди и не раскисли дороги, пока еще не оправились после разгрома Игоря русские князья, Кончак спешил закрепить победу.
Предстоящий поход сулил большую добычу. Однако, идти на Русь один Кончак не решался. Он пригласил к себе хана Кзу, алчного и коварного человечка с большой головой и тоненькими кривыми ножками, с которым их связывала давняя дружба и давняя вражда — и тот и другой мечтали о первенстве среди половецких племен.
Кончак послал ко Кзе гонца и ждал ответа. Вместо ответа хан явился сам.
Уже полчаса они сидели друг против друга на широком ковре, пили кумыс и молчали.
Кза знал о предложении Кончака, его передал ему гонец, и Кончак ждал, когда заговорит гость. Но гость, кроме обычных приветствий, так и не произнес ни слова. Он пил большими глотками кумыс, ел, чавкая, поджаренную над костром конину и с любопытством смотрел на Кончака глубоко утопленными в глазницы узкими глазками.
И Кончак, сдерживая раздражение, начал первым. Он рассказал о победе над русскими, о пленении Игоря и предложил, не теряя времени, идти на Переяславль, где, как донесли ему лазутчики, сидел Владимир Глебович с небольшой дружиной.
— Князь Святослав в Корачеве собирает с вятичей дань, — сказал он. — Ярослав в Чернигове, а Давыд в Смоленске. Если ударим скоро и вместе, никто не сможет нам помешать.
Кза кивал головой и, казалось, соглашался с Кончаком. Это взбодрило хана, и он принялся соблазнять гостя, рисуя ему одну картину заманчивее другой.
— С тех пор как стоит половецкая земля, не было счастливее случая, — продолжал он.
Посасывая мозговую косточку, Кза кивнул. Стоявшая рядом Болука долила ему в чашу кумыса. Хан вожделенно покосился на нее и снова обратил свой взор на блюдо, в котором дымилось мясо.
Кончак едва сдержал себя. Зачем ехал к нему Кза? Или у него нет в табунах молодых жеребят, чтобы сделать жаркое? Разве не проще было ответить с гонцом, что поход не состоится? Тогда Кончак рассчитывал бы только на собственные силы.
Кза обглодал вторую кость и снова икнул, посмотрев на Болуку. Негритянка с готовностью подняла сосуд, но он не пододвинул свою чашу.
Кончак облегченно вздохнул. Кза сказал:
— Мои люди пойдут на Сейм. Там нет воинов, там только их жены и дети.
— Переяславль — ворота на Русь, — возразил Кончак. — Больше золота, чем в Переяславле, нет нигде.
— Золото есть, — согласился Кза, — но оно спрятано за крепкими стенами. Поднимутся ли на них твои воины?
— Мы поднимемся вместе.
— Я не пойду на Переяславль, — Кза отрицательно покачал головой. Закрыв глаза, он долго сидел в неподвижности.
Кончак откинулся на подушки. Он не верил ни одному слову Кзы. Хан хитрит. Он уже прикинул в уме свою долю добычи и хочет вытянуть из Кончака кусок пожирнее. Ловкая лиса, но и Кончак не прост. Ему есть чем гордиться. Это он, а не Кза, разбил русских, это у него, а не у Кзы, сидит в плену русский князь. И он не уступит наглым домогательствам алчного карлика. Пусть хитрит. Лисе не обвести вокруг своего хвоста опытного степного волка. Кончак тоже умеет молчать.
На воле перед шатром потрескивал костер. За открытым пологом было видно, как летят и гаснут на фоне звездного неба большие красные искры. Молчал Кза, молчал Кончак. Глядя на повелителя и на гостя, молчала черная Болука.
И все-таки первым нарушил молчание Кза.
— У тебя красивая наложница, — прокашлявшись, сказал он. — Откуда она?
— Из далекой страны, лежащей за морем, — ответил Кончак, догадываясь, к чему клонит гость. — Она красива и покорна, как рабыня. Когда она мне наскучит, мне дадут за нее много золота.
— Ты добудешь золото в Переяславле, — заметил, улыбаясь, Кза. — Зачем тебе продавать рабыню?
— Что же мне с ней делать? — удивился Кончак.
— Отдай ее мне, — сказал Кза.
Болука с мольбой в глазах посмотрела на Кончака. Уродливый карлик внушал ей отвращение и страх.
— Она нужна мне, я возьму ее с собой в Переяславль. Чего ты хочешь? — спросил Кончак.
— Отдай Болуку, и я пойду с тобой на Переяславль, — распаляясь от похоти, проговорил Кза.
Так вот к чему клонила коварная лиса!.. Кончак понял: теперь Кза в его руках.
— Я пойду с тобой, — продолжал Кза, — если сегодня увезу Болуку в свое становище.
«И совсем он не прост», — подумал Кончак. Но соблазн был слишком велик. Велика была и печаль: он соврал, он совсем не думал избавляться от негритянки. И про то, что собирается продать ее, сказал всего лишь для красного словца и для того, чтобы позлить Кзу.
Кончак думал, откинувшись на подушки. Кза сгорал от нетерпения. Почему медлит Кончак? Почему молчит? Неужели он прочитал его мысли?.. Откуда он может знать, что Кза уже отдал своим степнякам приказ идти на Сейм?
Кончак приподнялся на подушках и вдруг сказал:
— Хорошо, будь по-твоему.
Глаза Кзы сверкнули, и он встал. Кончак остановил ретивого гостя:
— Не здесь, не сейчас.
— Почему не здесь? Почему не сейчас? — возмутился Кза.
— Ее привезут к тебе на рассвете. Ты хан, а не простой табунщик.
Кза выругался и стегнул себя по голенищам мягких сапог привязанной к запястью плетью. Как случилось, что он дал повод Кончаку напомнить ему о его происхождении? Кза действительно когда-то пас лошадей у своего хана, а потом зарезал его и стал ханом сам. Его не любили за это и боялись, зная о его жестокости. Один Кончак не боялся Кзы, потому что и сам был жесток и коварен.
Так они сговорились, и Кза уехал. А утром вслед за ним уехала и Болука.
Теперь, заручившись поддержкой Кзы, Кончак решил довести задуманное до конца. Во все края земли, принадлежащей ему, поскакали гонцы с приказом готовиться к походу.
Огромное войско двинулось к Дону, где их уже должны были ждать люди Кзы.
Но ни Кзы, ни людей его на Дону не оказалось. Посланные в его становище лазутчики сообщили Кончаку, что еще три дня тому назад Кза ушел на Сейм.
6
Осень в тот год была холодной и ранней. Бабье лето отошло в три дня, а потом полили дожди.
Духовник великого князя Всеволода Иоанн возвращался из Ростова, где снова по поручению Всеволода вел переговоры с епископом Лукой.
Ехать на поклон к Луке Иоанну не хотелось, но такова была воля князя, и переступить ее он не мог. Вместе с тем, он догадывался, что послал его Всеволод неспроста, не потому что сам болен, а потому что хотел подчеркнуть еще раз: пусть он и вынужден подчиниться воле митрополита, но истинная власть была и останется не в руках дряхлеющего Ростова, а в его, Всеволода, руках и волю Всеволодову вершить будет не Лука, а твердый и решительный Иоанн. Иоанна мечтал Всеволод посадить в епископское кресло.
В Москве меняли лошадей и заляпанные грязью возки. Иоанн сидел в избе, смотрел за окно на падающий безостановочно серый дождь и вспоминал, как призвал его к себе князь и как ехал он к нему, безвестный игумен, гадая, что бы это могло значить.
Была зима, дороги перемело сугробами, и Иоанн боялся, что не прибудет в срок. Во Владимире он был до этого только раз, и то проездом, осматривал Боголюбово и долго молился в соборе Успения божьей матери.
Иоанн приехал под вечер, насквозь продрогший и вымотанный дорогой, но отдыхать ему не дали. Тотчас же в келью явился розовощекий отрок и сообщил, что князь ждет игумена в своем тереме у Золотых ворот.
Иоанна с отроком пропустили во двор, обнесенный частоколом — за частоколом на расчищенных от снега дорожках толпились люди, чадно горели факелы.
Отрок ввел игумена в низкую комнату, обшитую темными досками. В тишине за стеной, за оконцами слышались приглушенные голоса и храп лошадей.
Дверь позади скрипнула, и Иоанн, обернувшись, увидел князя. Всеволод вошел быстро, легкой, стремительной походкой, встал против игумена, в упор разглядывая его веселым испытующим взглядом, кивнул, очевидно, оставшись доволен первым осмотром, и пригласил гостя к столу. Тотчас же вслед за князем в комнату вошли слуги и внесли блюда с едой и ендовы с медом.
— Не устал ли с дороги? — спросил Всеволод игумена. — Не замерз ли в пути? Не обидели ли злые люди?
— С дороги я устал и замерз, — ответил, не скрывая, Иоанн, — но злые люди меня не обидели. Стараниями твоими, князь, избавлены мы нынче на дорогах наших от всяких опасностей.
Ответ игумена понравился Всеволоду, он улыбнулся и кивнул слугам, чтобы не мешкали и разливали мед.
— Согрейся и отдыхай, — сказал он просто. — А после поговорим о деле, по коему зван ты во Владимир.
И так они ели и пили и мирно беседовали о разных разностях, и Иоанн вскоре понял, что Всеволод знает о нем почти все, а чего не знал, незаметно выведал за столом.
И еще рассказывал ему князь о Микулице, о его светлой душе и твердой воле, и о мягком и податливом Леоне, о Луке, который стал слепым орудием в руках ростовского боярства.
Дивился Иоанн — как умеет князь читать его мысли?
— У умной головы сто рук, — говорил Всеволод. — Знаю я, много у меня врагов, но еще больше друзей. Однако Михалка умер, Микулицы тоже нет, и вот решил я пригласить тебя во Владимир, потому что тебе только могу поведать сокровенное, ибо знаю — мыслями ты со мной.
— Да откуда ведомо тебе это, князь? — не вытерпев, удивился Иоанн.
— Земля слухами полнится. И из твоего монастыря растекаются по стране пути-дорожки. Кто со злом, а кто с любовью, но сказывали о тебе, что радеешь ты за русского человека, что ретивым боярам ты не потатчик…
И часа не прошло, как разговорился Иоанн. Чудно было — впервые в княжеских палатах, а чувствовал себя в них игумен, как дома, как в родном своем монастыре.
С того дня он и стал Всеволодовым духовником, с того дня и прикипел всем сердцем к его делу.
И всюду Всеволод возил его с собой, и всюду Иоанн, где только можно было, отстаивал князя, уговаривал сомневающихся, гневным словом карал врагов и отступников…
Сидя перед окном в московской избе, вспоминал Иоанн минувшее и мысленно благодарил господа бога за счастливую свою судьбу.
А в это время во двор впустили человека. И, взглянув на него, Иоанн вздрогнул. Откуда он на Москве, какие пути-дороги привели его на этот двор?!
Человек был в продранном синем полукафтанье, в рваной заячей шапке, на ногах его были потемневшие от времени лапти, и одна онуча, развязавшись, волоклась за ним по жидкой грязи.
Но не одежда его поразила Иоанна, а лицо — безносое, все в темных шрамах и подсыхающих струпьях.
— Ты кто? — спросил его Иоанн. Человека ввели в избу, и он топтался у порога. Под ногами его растекалась грязная лужа.
— Человек.
— Нешто нет у тебя имени?
Человек не ответил ему. Он смотрел на Иоанна и молчал. И в молчании этом чудилось что-то зловещее. «Может, он лишился разума?»— подумал Иоанн. Но человек не был похож на сумасшедшего. В его голубых глазах, которые словно светились на его лице, было написано страдание, которое недоступно безумцам.
— Откуда ты идешь? — снова спросил Иоанн, чувствуя неловкость.
— Путь мой лежит издалека.
— И много дней ты в пути?
Этого можно было и не спрашивать. Одежда человека, пропитанная потом и грязью, сама говорила за себя.
Человек сказал:
— Путь мой далек и труден. А иду я с Донца.
— Что же привело тебя в Москву?
— Дорога.
— Дороги выбирают люди, — наставительно заметил Иоанн. — Почему же ты выбрал эту дорогу, а не пошел в Новгород или в Галич?
Человек усмехнулся.
— Я выбрал ее, потому что здесь схоронены мой отец и деды.
Он сказал не все. Иоанн понял это.
— Какая беда постигла тебя? — спросил он. — Почему у тебя такое черное лицо? Ты болен?
— Моя болезнь страшнее, чем ты думаешь, — сказал человек и покосился на лавку.
— Садись, — предложил Иоанн. Человек закрыл глаза, покачнулся и сел. Он устал и был голоден.
Иоанн кликнул сокальчего и велел накормить незнакомца. Мыча и чавкая от удовольствия, человек набросился на еду.
Иоанн снова заговорил.
— Господь милостив, — сказал он. — Но ты не ответил на мой вопрос?
— Ты видел когда-нибудь согнанных в табун людей? — спросил незнакомец.
— Ты вырвался из плена?
— Нас было много, — сказал человек. — Мы пришли в Переяславль, и каждый отправился в те края, откуда он был родом. Одни пошли в Смоленск, другие в Новгород, третьи — в Киев. Я пошел во Владимир, потому что я родом из Владимира.
— Почему ты не лечишь свои раны?
— Люди должны видеть их. Я был в дружине Ярослава, и мы дрались с половцами. Но половцев было больше, и они стали одолевать нас. А рядом стоял Давыд со своими людьми, но, видя, как мы погибаем, он не тронулся с места. Тогда послали за помощью к Святославу, и Святослав ответил гонцу: «Не могу идти от Днепра: земля моя далеко, а дружина изнемогла». И половцы порубили нас, а те, что остались живы, уведены в полон. Эти раны, — он показал на лицо, — я получил не в бою. Меня избивали плетью за то, что я хотел бежать.
Человек замолчал. Иоанн смотрел на него с удивлением. Вот оно — простой крестьянин, полжизни тащившийся за оралом, а остальные полжизни воевавший со своим князем земли других князей, — взывающий к совести и возмездию. Что там, в его смутном мозгу? Не та ли же самая мысль, которая мучит и Всеволода?..
А сколько еще грядет опасностей, сколько битв впереди. Булгары с востока, угры и немцы с запада, шведы…
Иоанн глядел в окно. Мокрый ветер лепил к слюде желтые листья, стучал в косяки пальцами невидимых ветвей.
Глава девятая
1
Душный летний полдень висел над узкими улочками Царьграда. Даже у моря не ощущалось облегчения, люди ходили размякшие и безразличные ко всему окружающему. Они искали тени и, сев в тени, не торопились снова выходить на пыльные улицы.
Пристроившись на каменных ступенях лестницы, ведущей в дом друнгария, приютившего его и терпевшего его беспокойное присутствие вот уже несколько лет, князь Юрий, обрюзгший, с желтым, словно восковым, лицом и темными мешками под глазами, смотрел на красного бойцового петуха. Петух был привязчив, как собака, и всюду сопровождал князя.
Сейчас он издалека подбирался к куску не доеденного Юрием черствого пирога — вытягивал шею, вбирал ее в туловище, делал шаг вперед и, подняв черную когтистую лапу, подолгу замирал, разглядывая князя. Князь был не в духе, и петух чувствовал это.
Юрий хмурился и ждал. Сейчас петух не выдержит и кинется к пирогу. И тогда случится то, что повторялось изо дня в день. Князь загонит петуха под лестницу и будет ловить, а петух будет вырываться, разбрасывая по двору красные и золотые перья. Петух надоел князю, как надоело ему все, чем он жил все эти годы. То, что было вчера, будет и завтра: вино, драки. И еще будет каменная терраса, нависающая над морем, с которой он каждое утро смотрит на восток.
Когда это началось? В тот год, когда он ушел от Кончака и сел на судно в Тмутаракани? Или позже, когда был принят при византийском дворе? Или еще позже, когда внезапно появился в Царьграде посланный грузинским князем Абуласаном человек с приветливым, улыбчивым лицом и черными блудливыми глазами?
Абуласан сочувствовал Юрию, звал его с дружиной в Грузию и давал в вечное пользование одно из своих пограничных селений. Юрий обрадовался — у него не было другого выбора — и согласился на переезд.
Нет, пообещав в своем послании райскую жизнь, Абуласан не обманул его. Селение Руствиси, где обосновалась дружина, было поистине райским уголком.
А потом случилось самое невероятное. Однажды весенним утром в Руствиси прибыл сам эристав над эриставами. Сидя с кубком вина под виноградными лозами, Абуласан сообщил Юрию, что князь Георгий умер, оставив на троне свою дочь Тамару, славящуюся необыкновенной красотой, и что Государственный совет, думая о будущем страны, постановил отдать юную царицу за русского князя. Согласен ли Юрий на брак?
Абуласан ошибся, думая, что Юрий, живя в своем отдаленном Руствиси, не знает о той борьбе, которая шла вокруг Тамары. Знал он и о нежных чувствах, которые питал к молодой царевне воспитывавшийся вместе с ней при дворе царя Георгия осетинский царевич Сослан, близкий родственник жены владимирского князя Всеволода — княгини Марии. Но то, что Государственный совет отвергнет Давида Сослана и остановит свой выбор именно на нем, Юрий не знал и не мог знать, хотя покровительство, которое оказывала ему тетка Тамары, хитрая и ловкая Русудан, могло бы заставить его над этим задуматься.
Князь принял предложение Абуласана, патриарх Микель и брат эристава над эриставами архиепископ Василий благословили брак, и вскоре Юрий во главе своей дружины торжественно въехал в Тбилиси.
Так он стал грузинским царем Георгием.
Первое время Юрий вел себя тихо, во всем слушался Государственного совета, с царицей в ссоры не вступал и большую часть времени проводил в войсках, укрепляя границы своего царства.
Это устраивало Тамару, устраивало и Юрия, лелеявшего далеко идущие честолюбивые планы. Беседуя вечерами с Нешей, неизменно сопутствовавшим ему во всех поездках по стране, князь говорил:
— Дай срок, Неша, настанет и наш час. Не век же ходить мне в покорности под этой бабой. Хоть и хороша царица, а я для нее чужак. До сих пор мысли ее не со мной, а с Сосланом. Видел я у нее ладанку с портретом осетинского царевича. Шибко любит она его.
— А тебе-то что, князь? — удивлялся Неша. — Пусть себе любит. Живем мы привольно и сладко. Чего же боле?
— Тебе бы только вино пить с азнаурами да горланить их песни, — недовольно обрывал его Юрий.
Да разве это дело слушаться во всем царицу? Словно и не царь он, а обыкновенный мхевале. И разве не он обороняет Грузию от чужестранцев, разве не в его руках все грузинское войско?..
Бесстрашен, как барс, был молодой царь, и воины любили его за храбрость. А враги, заслышав о его приближении, уходили, не вступая в битву.
И вдруг холодком потянуло из Тбилиси. Письма Тамары стали короче и суше, не давал знать о себе и Абуласан.
— Или беда какая стряслась? — встревожился Юрий. Призвав к себе Нешу, он отправил его к царице.
День прошел, прошла неделя — от Неши ни звука. И вскоре дошли до Юрия слухи, будто Государственный совет объявил брак его с Тамарой расторгнутым, а его низложенным с престола.
С малой дружиной князь отбыл в Тбилиси. Дождливым осенним днем прибыл он в свою столицу. Тамара была в Исани, князя встретил Абуласан. Эристав над эриставами елейно улыбался и разводил руками: ему-де самому неясно, почему царица решила расторгнуть брак.
— Тамара молода, — грязненько намекнул он, — а царь в постоянных трудах и походах.
— Я ли в том виноват?! — воскликнул Юрий, понимая, что речь идет совсем о другом. — Не по своей воле был отослан я к войскам, а царица развлекалась с Сосланом.
— Сослана давно нет в Тбилиси, — спокойно заметил Абуласан.
Государственый совет постановил выслать Юрия за пределы Грузии, сказал эристав над эриставами. Лучше, если он выедет в Византию.
— Как бы не так, — вспылил Юрий. — Русский терпелив до зачина.
Абуласан улыбнулся и хлопнул в ладоши. Тотчас же отворились двери, и в комнату вошла стража.
Недолго пожил князь в обещанном эриставом над эриставами раю. Ночью под охраной его отвезли на берег моря и посадили на корабль. Через неделю он снова был в Царьграде.
Но мысль о том, чтобы вернуться в Грузию, не покидала его ни на минуту. Через год, заручившись поддержкой Византии, он неожиданно вновь появился в пограничных с Трапезундом районах, где стояли верные ему войска. Возвратившийся в Грузию Юрий был принят всеобщим ликованием.
Теперь у него были развязаны руки, и он немедленно отдал приказ двигаться к Самцхве, а оттуда через Кларджетию на Кутаиси. В Герути Юрий снова провозгласил себя царем.
Помнил, хорошо помнил Юрий, как наливалось радостью его сердце, когда, сидя на коне, он смотрел со скалы на проходившее перед ним войско. Воины оборачивались в его сторону, потрясали оружием и выкрикивали приветствия.
Юрий жаждал отомстить Абуласану. Ночами ему часто снилось, как он войдет во дворец, объявит Государственный совет распущенным, а самого эристава над эриставами повелит заковать в железа и бросить в подземелье. Царицу и Русудан князь решил помиловать, он даже согласен был остаться мужем Тамары, но отныне и навсегда вся власть в стране должна принадлежать ему одному.
Однако сладкие сны развеяли суровые горные ветры. Переход через перевалы истрепал войска, к тому же разведчики, побывавшие в стане врагов, сообщили ему, что Тамара с верными людьми, уклонившись от битвы и открыв ему дорогу на Тбилиси, двинулась через Боржом в Самцхве.
Услышав про это, Юрий впервые оценил ум и хватку своей бывшей жены. Самцхве был опорным пунктом его войска, и Тамара хорошо нацеленным ударом разила его в самое сердце. Бросить Самцхве и продолжать поход на покинутый царицей Тбилиси князь не мог. И после долгих раздумий он повернул свои войска назад.
Здесь, в долине Нигала, у истоков Куры, он наконец-то встретился со своей женой. Бой был коротким и жестоким. Тамара победила, Юрий был схвачен и с позором отвезен в Тбилиси. И воины, которые еще совсем недавно горячо приветствовали своего любимого полководца, так же восторженно теперь приветствовали Тамару.
Возврата не было. Униженный жестокой народной молвой, Юрий стоял, опустив голову, перед царицей и ждал решения своей участи. Теперь уже не было Абуласана, не было Государственного совета, и коварная тетка Русудан прятала от присутствующих свое лицо. Зато рядом с троном Тамары вновь появился сияющий и счастливый Сослан.
Царица радовалась победе, она не жаждала крови и позволила Юрию с дружиной беспрепятственно выехать из страны.
Нет, не под счастливой звездой родился князь Юрий, сын могущественного Андрея Боголюбского. Изгнанный из родной земли, не нашел он счастья и на чужбине.
Петух крутил головой и ласково копошился под его рукой.
— А подь ты! — рассердился Юрий и отшвырнул петуха на середину двора.
— Поклон светлому князю, — сказал, появляясь в калитке, Неша. На нем был чистый кафтан, перепоясанный широким кожаным ремнем, борода пострижена, лицо умытое, розовое.
— Садись, — указал ему ступеньку князь.
Неша снял шапку и сел рядом. По лбу его струился пот. Неша обмахивался шапкой и улыбался.
— Ну что? — спросил Юрий.
— Нонче отплываем, — ответил, хмурясь, Неша. Он избегал смотреть князю в глаза и нервно покашливал.
— Один я остаюсь, — сказал Юрий.
Неша молча кивнул.
— С петухом вот, — усмехнулся князь.
Неша взглянул на петуха и снова опустил голову. По щеке его прокатилась и застряла в бороде слезинка.
— Ехал бы и ты со мной, князь.
— Куды ехать-то? Изгой я. Нет у меня ни своей земли, ни родины.
— Поклонился бы дядьке. Глядишь, и помиловал…
— Дядьке не поклонюсь, — твердо ответил Юрий.
— В родной бы земле погребли…
— Земля везде пухом.
Неша вздохнул и встал, сминая шапку в руке.
— Прости меня, князь, ежели что не так. Остался бы я с тобой, да сердце исходит тоской.
— Чего уж там, — кивнул Юрий. — Ступай.
И, тяжко выпрямившись, поплелся по лестнице в дом. Глядя вслед ему, Неша перекрестил князя:
— Прости ему, боже, все его прегрешения.
Надел шапку, одернул кафтан и вышел на улицу.
2
Летний полдень поднимал над болотами густые испарения.
Святослав сошел с коня и сел на поваленное дерево. Его подташнивало, слегка кружилась голова. Князь расстегнул воротник рубахи, обнажил поросшую седыми волосами грудь.
Это был второй приступ. Первый раз ему стало плохо, когда еще только выехали из Карачева. Тогда обеспокоенный Кочкарь настоял на том, чтобы князь вернулся. И он вернулся и три дня отлеживался в избе у распахнутого окна.
Лекарей в Карачеве не было, врачевала его бабка, и то ли от ее травок, то ли от свежего воздуха князю стало легче, и он велел седлать коней. Кочкарь противился, но Святослав был упрям, и воевода уступил ему. Теперь он жалел, что уступил, и, стоя над князем, выговаривал ему, как малому ребенку:
— Кому сказывал я переждать день али два? Не молод, поди. А дел всегда невпроворот, можно бы и потерпеть.
— Не хочется помирать на чужбине, — тоскливо сказал князь, растирая под рубахой грудь. — Ой, как жжет, ой, как саднит-то…
— Прилег бы, — посоветовал Кочкарь и велел дружинникам принести попону.
Дружинники исполнили приказ, расстелили попону на траве, и князь лег на нее лицом вверх.
— Не полегчало? — заботливо спрашивал сидящий в ногах у Святослава Кочкарь.
— Куда уж там.
— А ты, знай, лежи да гляди в небушко-то, — приговаривал Кочкарь.
Святослав лежал на спине и глядел в небо, и боль постепенно отпускала его.
По небу плыли белые комки облаков, деревья подпирали его своими лохматыми вершинами, и пронзительная синева проливалась в широко открытые глаза князя.
Загостился он на этом свете, другие-то, его же лет, покоятся в земле. Нынче молодые пришли им на смену, горячие и непоседливые, и справляться с ними старому князю становилось все тяжелей. Может быть, потому и о смерти думалось спокойно, как о неизбежном? Может быть, потому и не тосковал он, прощаясь с жизнью?
Хотел он помирить князей, хотел на старости лет утешиться мыслью, что жил не зря. Сколь помнит себя, все мечтал о высоком киевском столе, много зла сотворил на пути к нему, думая добром искупить содеянное. Убивал, обманывал, льстил. А что из того? Разве уменьшится на земле зла после его смерти?.. Кто, кроме Кочкаря, уронит по нему слезу. Да и Кочкарь взгрустнет оттого лишь, что со Святославовой смертью кончится и его беззаботная жизнь. Отомстят Кочкарю обиженные сироты, припомнят князья всю его покрытую Святославом вину, поведут его на суд, как разбойника с большой дороги. Да и не разбойные ли дела творил Кочкарь?.. Только что с княжеской печатью… За такие-то дела простых людишек сам Святослав карал без милости…
Тихо смотрел князь на небо, жадно впитывал в себя последнюю синеву, словно в могилу хотел ее унести с собой, чтобы после того, как спустят его в землю, черной мглой подернулся небосвод и люди, оставшиеся после него, содрогнулись от страха.
Лежал Святослав на попоне и вспоминал, как отходила Васильковна. Не надолго пережил он ее, а еще в прошлом году, стоя у ее изголовья, думал, что жить будет вечно. С нетерпением ждал ее последнего дыхания, потому что томились во дворе оседланные кони, готовые унести его в Чернигов, где снова собирались князья на половцев.
И Васильковна, словно читая его потаенные мысли, глядела на него жалостливо и мудро, как умеют глядеть только прикоснувшиеся к смерти люди. И он вдруг взорвался нестерпимым отчаянием, опустился у изголовья ее на колени, молился, и плакал, и просил у нее прощенья.
Свезли Васильковну, схоронили, и на княжеском дворе навсегда поселилась тревога.
Ночами снилась Святославу княгиня. Приходила к нему в белом подвенечном платье, тихо садилась рядом и ласкала его, гладя неторопливой рукой по голове.
— Ты пошто живая? — спрашивал он ее.
— А разве я умерла? — спрашивала она.
— Не тебя ли схоронили на мокриды? — спрашивал он.
— Ты не рад мне? — спрашивала она.
— Страшно мне, — говорил князь. — Страшно и холодно.
— Это от меня, — говорила княгиня. — Это могильный холод. Так холодна земля. Но ты не бойся. Я тоже боялась, но теперь я не чувствую холода. Теперь мне тепло и спокойно.
Святослав стучал зубами и дрожал всем телом.
— Изыди, — шептал он. — Свят-свят.
И княгиня медленно подымалась и уходила. Он чувствовал дуновение ветерка от ее подвенечного платья.
Святослав сидел на ложе, опустив на пол высохшие тонкие ноги. Так сон это был или это была явь? И не сон ли то, что он сидит и смотрит в мокрые от дождя окна? Что сон и что явь? И разве сон — не частица жизни, разве то, что происходит во сне, не влияет на дела и судьбы людей? Разве он не велел в то утро выпустить из поруба всех своих врагов, и разве не молился он за них в Софийском соборе?!
Князь лежал на спине и смотрел в небо. Такого неба он не видел еще никогда. Такое небо бывает только раз в жизни, потому что его нельзя унести с собой, нельзя выпить глазами всей синевы. Как нельзя дважды родиться.
А если бы он родился во второй раз? Разве он смог бы жить иначе? Разве научила его чему-нибудь жизнь? И зачем ему синева, если прожил он, уткнувшись в землю, и только сейчас увидел, как прекрасно небо, и все земные дела его — только тлен и прах?..
Кочкарь пошевелился у его ног, и князь вздрогнул. Он обратил свой взор на воеводу и сразу же забыл про небо. Боль прошла, можно было трогаться в путь. Он должен прибыть в Киев к сроку. В Киеве ждут его родной брат Ярослав и двоюродные братья Игорь со Всеволодом. Он созвал их на совет, чтобы решить, когда выступить против рязанских князей, с которыми опять возникли споры за пограничные с Черниговом волости.
Святослав приподнялся на попоне, взглядом подозвал Кочкаря.
Кочкарь склонился над ним.
— Вели седлать коней, — сказал князь.
Воевода посмотрел на него с изумлением.
— Аль полегчало? — спросил он, разглядывая бледное лицо Святослава.
— Я не о том, — поморщился князь. — Время ли нынче отлеживаться на попоне? Иль запамятовал, куда спешим?
— Чай, князья и подождут. Молоды еще.
— Рязанцы — те подождут, — сказал Святослав.
Кочкарь не смел его ослушаться. Он помог князю сесть на коня, сам ехал рядом, заботливо глядя на Святослава.
— Шибко-то не гони, — сказал князь. Он чувствовал, как в нем снова подымается нестерпимая боль.
Кони шли шагом. Покачиваясь в седле, полузакрыв глаза, Святослав думал. Идти на рязанцев без согласия владимирского князя Всеволода было опасно. А что, как снова вступится он за них? Братья-то горячи, а он помнит Влену, помнит, как уходил от Всеволода в Новгород.
Так-то оно так. И все-таки еще силен Святослав — оттого и неспокоен Всеволод. Иных-то соперников у владимирского князя давно уже нет.
Тихо двигалась дружина, тихо покачивался Святослав в седле. Зоркий Кочкарь трусил с ним рядом.
В Чернигове Святославу снова стало плохо. Три дня отлеживался он на Ярославовом дворе. Немецкий лекарь пустил ему кровь, и князю полегчало. Но лекарь не советовал ему продолжать путь.
Князь не послушался его, велел снаряжать лодии. Бережно перенесли больного Святослава в лодейную избу. С богом тронулись. Лекарь сидел у изголовья князя, поил его травами, менял на груди примочки.
Под самым Киевом Святослав потерял сознание.
3
Свершилось. Жарким летним полднем призвал к себе Всеволод Никитку и сказал ему:
— Великая тебе честь и слава, Никитка! Видел я твой собор, зело приглянулся он мне. И вот тебе мой наказ: ставь свою церковь на моем дворе.
— Неужто настало время, князь? — обрадовался мастер. — Долго ждал я этого часа, думал, и не дождусь уже.
— Ан дождался, — пошутил Всеволод. — Всему свое время, свой срок. Ставь собор, а мастеров я тебе подыщу. Лучших мастеров со всей Руси. Не будет тебе ни в чем отказа — только скажи. Но и спрошу строго.
И привел Никитка мастеров на высокий холм, что над самой Клязьмой, невдалеке от Успенского собора. Согнанные из окрестных деревень мужики откопали рвы, а мастера стали класть стены. И не простые клали они стены, а все из узорчатого камня. И поднималась церковь над городом в тонких каменных кружевах.
Приходили любоваться на работу мастеров люди со всего Владимира. Приезжал любоваться на работу народ со всей Руси. И по всей Руси разносилась весть о прекрасном соборе, краше которого нет на земле.
Дни и ночи стучали по белому камню осторожные и ловкие зубила, при свете солнца и при свете факелов, в великом множестве зажженных на холме, возводили мастера свой храм. И не чувствовали они усталости, и забывали про еду и сон. И сами дивились: неужто могут они сотворить такое? Чуткая душа была у мастеров. И не руками творили они свое чудо, а сердцем.
И на самой вершине, там, где стены сливались с небом, стоял Маркуха — рослый, плечистый, облитый солнечной бронзой, — первый помощник и любимый ученик Никитки.
Нет, никогда не сгинет мастерство. Врастая в землю, дает оно, как могучий дуб, крепкие молодые побеги.
Смеется Маркуха, постукивает зубилом по белым камням, глядит, зажмурясь, на разбегающийся под его ногами деревянный город. Глядит на толпящийся повсюду пестрый люд, на новый княжеский дворец, на лесные дали за Клязьмой и лихо покрикивает на расторопных мужиков, подносящих готовые каменные плиты. Верный у Маркухи глаз, добрый выйдет из него камнесечец.
— Хорошо-о, ах как хорошо-то, — шепчет Никитка, подставляя лицо набегающему от Мещеры влажному теплому ветру.
А в Суздале, в монастырской келье, слепнущий Чурила старательно выводил писалом на чистом листе хрустящего пергамента:
«В лето 6702 заложена во Владимире Всеволожа дворцовая церковь. В тоя же лето скончался в Киеве премногими благодетелями украшенный великий князь Святослав Всеволодович».
Большое Гнездо
Часть первая Новгород
Пролог
1
Давно это было. Шел год 6676 [2].
Молодых князей Михалку и Всеволода, возвращавшихся на Русь после долгого изгнания, встречали без пышности, но во Пскове их ждал боярин Полюд, присланный Лукой, новгородским владыкой [3].
В избе, где они ночевали, было душно, однако Полюд не снимал шубы, потел, вытирал лицо и шею влажным убрусом [4], осыпая крошки, ел пироги, чавкал и протяжно жаловался:
— Осерчал, шибко осерчал владыко на киевского князя Ростислава… А как было не осерчать? Ходил он к покойному ныне митрополиту Иоанну, просил отдать под его длань смоленскую и полоцкую епископии — упрямился Ростислав. Сказывают, шумел при передних мужах, у митрополита выхватил посох, кощунствовал, владыку (прости ему господи!) называл хитрой лисой и собакою и велел тем же вечером возворачиваться в новгородские пределы…
— Да как же это? — недоумевал юный Всеволод. Михалка (тот был постарше) слушал боярина молча.
— Шибко, шибко осерчал владыко, — не отвечая, продолжал вздыхать и потеть Полюд. — Но ведомо: сила — она завсегда сверху… Только в чем сила-то? Не о себе пекся владыко — о земле русской, о селянах и о купцах, коих обирают по всем дорогам: много нынче развелось неспокойного люда — опять же чудь голову подняла, шатучие [5] тати зашевелились. Нет в сердце людском бога — ну и что?! Бог-от, он видит, где правда, а где кривда. Высоко он — посох у него не выхватишь. А как все впереди обернется — на то его воля. Но только одно скажу: Святославу, сыну Ростиславову, долго в Новгороде не усидеть. Широк у него зад, а — не усидеть. Спихнут его вечники. Нынче Мстислав Изяславич в Киеве, на него и надежа. К нему и пошлем за князем. Вота как!
Боярин даже прихлопнул ладонью по столу и, прищурившись, хитро, припухлыми глазками, поглядел на князей.
— Вы-то небось тоже Юрьева корня, а — намыкались. Зело своеволен братец ваш Андрей, не поглядел, что родная кровь, сослал за тридевять земель. Нынче хоть и смягчился, а близ себя не подпустит — не-ет. Даст городки на окраине, тощой же овцы — ни мяса, ни шерсти. Худо вам в бедности вашей, ой как худо-о…
— Погоди отпевать-то, — оборвал его Михалка. — Дай родным воздухом надышаться.
— Все в руце божьей, — согласно закивал Полюд. — Дышите, покуда дышится. Но помните: не принял вас ни Полоцк, ни Смоленск. Один владыко и пекся. Езжай, говорит, Полюд, встреть гостей с честью. Поспрошай, не обидел ли кто в пути, стражу возьми надежную, доставь на двор ко мне ночью ли, днем ли — завсегда, мол, рад видеть у себя в палатах молодых Юрьевичей. Натерпелись они от Андрея — нам же о том печись, дабы не очерствели у них сердца, не копилась обида на землю русскую.
— Благодарствуй, боярин, — сказал Всеволод. — Да и мы тож не забывчивы. А на брата нашего Андрея обиды у нас нет. Приедем в Новгород, примем благословение от владыки, а там как бог даст. И на том рады, что не чужая — своя земля под ногами. На своей земле, хоть и в малом городке, а — на родине.
— Хорошие слова говоришь, княже, — заулыбался Полюд. — Молод ты, да умом крепок. Подсказок тебе не занимать. Поглядишь вокруг — все сам поймешь…
Находчив боярин — вона как выскользнул! — но заметили молодые князья, что беседою он остался не очень доволен.
Ночью Всеволоду плохо спалось: донимали клопы. Накинув на исподнее кожух [6], молодой князь нашарил на кадушке возле двери берестяной ковшик, отпил водицы, вышел на крыльцо. Ночь была студеная, лунная, голубо поблескивали на дворе промерзшие лужицы. Возле баньки похрумкивал сеном чужой конь, в тени избы под крыльцом разговаривал с кем-то боярин Полюд. Всеволод сразу признал его по гнусавому, распевному голосу.
— Ты, Кухта, шибко-то не своевольничай! — наставлял он собеседника. — То, что сговорено, на том и я, и владыко стоим крепко. Остальное не твоего ума дело.
— Или мне своя голова не дорога! — басовито отвечал Кухта. — Про что толкуешь, боярин?
— А про то и толкую, — перебил Полюд, — что промеж нами сказанное не для чужих ушей. И перечить не смей — худо будет. Тебе же мой наказ таков. Ни часа не мешкая, скачи в Новгород, собирай народ супротив Святослава. Пущай так говорят: продался-де князь Андрею суздальскому, тщится порушить святую вольницу, а сам творит богомерзкое: хулит церковь, не почитает владыку, пирует в монастырях со сластолюбивыми черницами…
— Не поверят, боярин…
— Пирует в монастырях с черницами, — возвысил голос Полюд, обрывая Кухту, — шлет челядинов [7] своих на дороги ко Пскову, и те, останавливая своих и заморских купцов, грабят и убивают их. И пришла-де пора спросить с князя за все… Так ли понял?
— Понял, боярин.
— Да не забудь, чтоб говорили на вече: просим, мол, всем миром ехать посаднику нашему в Киев к Мстиславу Изяславичу — пусть отпустит к нам своего сына князем. Мы же учиним с ним ряд [8] по обычаю, дабы жить в мире и добром согласии.
Полюд помолчал.
— С теми же, что почнут народ мутить: мы-де Святослава знаем, князь он доброй и справедливой, — проговорил он строго, — с теми вожжаться неча: на Великий мост их, да и — в Волхов. Вота как!
Зябко сделалось Всеволоду от случайно подслушанного разговора. Хорош боярин: не затем только, чтобы встретить молодых князей, направил его во Псков Лука — лживостью и коварством связала их одна забота. Ране-то и не думалось, как выкликают на вече угодного Новгороду князя…
— А теперь — ступай! — проговорил под крыльцом Полюд, и Кухта зашагал вразвалку к коню.
Долго не мог надивиться слышанному и виденному Всеволод. И, вернувшись в ложницу [9], опять не спал, ворочался с боку на бок — и не оттого, что жалили алчные клопы; виделось в полудреме: стоял перед его глазами сладкоречивый боярин Полюд — то распухал, то уменьшался, то склонялся над лежанкой, а то глядел из угла из-под теплой шубы горящим, как уголь, глазом…
Утром Полюд вошел в ложницу, как всегда, бодрый и улыбчивый.
— Вставайте, князья. Солнышко на дворе, а нам в путь-дорогу!
И верно: в приоткрытые оконца били золотые лучи; в соседней комнате мелькал распашной сарафан — хозяйка накрывала на стол; полы и лестницы поскрипывали — по избе взад и вперед ходили занятые люди, слышались близкие и далекие голоса.
Всеволод сел на лежанке, кулаками протер заспанные глаза: что за наваждение, да, никак, все привиделось?
Но Полюд стоял прямо перед ним, раздвигал в улыбке обросший неопрятной бородою рот, глаза его были внимательны, и мутным облачком висела в их глубине тревога.
Нет, не приснился Всеволоду странный сон: все, как помнит он, все так и было.
2
К Новгороду подъезжали на исходе дня. На дороге было людно: смерды [10], ездившие в город, возвращались в свои деревни, — свесив с телег обутые в кожаные поршни [11] ноги, без любопытства глядели на встретившихся всадников. Да и чему дивиться! В Новгород со всех сторон земли стекается разный народ — оттого на улицах его не протолкнуться даже и в обычные дни.
Сдерживая играющего под седлом коня, Всеволод с волнением всматривался в бусеющее за островками голых березняков небо: вот-вот, по словам трусившего рядом Полюда, должны были показаться шеломы Софийского собора.
— Ты, княже, о правую руку гляди, — ласково наставлял боярин. — Вона, видишь, будто кто костерок зажег…
— Да где же, где? — нетерпеливо переспрашивал Всеволод, а сам уже видел и костерок, и разбегающиеся в стороны бревенчатые стены детинца [12], и крепкие избы, прилепившиеся у самого того места, где детинец могуче врастал в раскинувшиеся от края и до края земли, светлеющие под солнцем поля.
У Михалки глаза тоже блестели, и он тоже восторженно глядел по сторонам: вот оно, диво дивное!
Много стран исходили князья, но такого не видывали нигде, разве что только в Царьграде, а немецким городишкам, к примеру, до Новгорода вовек не дотянуться — велик, зело велик, и срублен добротно, и хозяин, по всему видать, живет здесь крепкий и заботливый.
У немцев, бывало, едешь — грязи коню по самое брюхо, а в Новгороде и главная и боковые улочки выстланы широкими деревянными плахами, по бокам вычищены и выметены канавки, у изб стоят на случай пожара врытые в землю бочки с водой. На одном из шумных перекрестков плотники, потеснив толпу, сидели верхом на расколотых вдоль кряжах и выдалбливали в них желоба. Чуть подале четверо мужиков, наложив выдолбленные половинки друг на друга, старательно запеленывали их в мягкое лыко. Много таких запеленутых стволов лежало вдоль всей улицы.
Дивясь увиденному, Всеволод даже попридержал возле мужиков коня.
— Али громом поразило? — оторвавшись от работы, добродушно спросил его один из плотников. Остальные посмотрели на князя приветливо — гордились тем, что удивили чужака: ишь как вперился, морщит лоб, а невдомек ему, пришлому, что ведут они от Ярославова дворища в Волхов отвод для лишней воды, скапливающейся на улицах и на вечевой площади по весне после таяния снегов…
— Чудеса-а! — качал головой Всеволод, радуя Полюда. — Ну и хитрецы у вас мужики.
— Один к одному, — щурился от удовольствия боярин. И тут же омрачал молодых князей:
— Оттого все и глядят алчным взором за Ильмень-озеро, что — чудеса. Не своим горбом добыто, а — сладко. Ничего, — он резко дернул удила, и конь его часто застучал по деревянному настилу, — и Святослава пристегнем, и Андрею озоровать не позволим…
Вчерашнее уже стало забываться за разговорами (дорога была далекая), а тут боярин сам воротил к тому ночному недоброму наваждению. Когда бы сон — еще полбеды, а и вправду кажется, будто сон (много раз ловил себя на этом Всеволод), — да разве забудешь идущего вразвалку к своему коню свирепого Кухту!
Почувствовал Полюд — не то сказал. Всеволод, хоть и молод, а не простак, боярин сразу об этом смекнул. Сызмала не уготовили ему ни высоких хором, ни сладких яств, ни книжной мудрости — все брал у жизни сам, и брать будет (оно по всему видно — упрям), оттого и морщина старческая пересекла высокий лоб. Где уж было догадаться боярину о том, что подслушал Всеволод его беседу с лихим Кухтой!
Меж тем кони, будто чуя предстоящий скорый отдых, легко одолели подъем к детинцу.
Вдруг обитые медью высокие створы ворот распахнулись, воротник, испуганно прикрывшись локтем, отскочил в сторону, под сводами загрохотало, заржал взвившийся на дыбки серый конь, и мимо князей вихрем промчался небольшой отряд. В голове его промелькнуло синее корзно [13], кто-то крикнул обидное — Полюд замотался в седле, в сердцах сплюнул в сторону.
Темнело быстро. В детинец, за высокую стену, уже не доставали солнечные лучи; с низинки, от реки, поднималась прохлада; лужицы, разлившиеся от стаявшего снега по всему двору, кое-где подернуло тонким, как паутинка, ледком.
У крыльца Владычной палаты боярин и молодые князья спешились и кинули поводья в руки подоспевших служек. Поднялись по сложенному из крепких дубовых кряжей всходу.
— Да благословит вас бог, отроки! — раздался густой бас, и из полутемных сеней навстречу молодым князьям вышел сам владыка. Лицо его, иссеченное многочисленными мелкими морщинками, все светилось елейной улыбкой, на груди, впалой и немощной, болталась тяжелая, украшенная драгоценными каменьями панагия [14], но одежда была проста, как у мужика; большие жилистые руки, соединенные на животе, перебирали кипарисовые четки.
— Будь здрав, владыко, — сказал Михалка, выступая вперед и склоняя голову. Всеволод встал под благословение с ним рядом. Лука мелко перекрестил их и трижды, по обычаю, облобызал, касаясь их щек сухими теплыми губами.
— Каково дошли до Новгорода? — спрашивал он, давая князьям знак следовать в покои.
— С божьей помощью, — отвечал Михалка за обоих.
Всеволод метнул беглый взгляд в сторону присмиревшего боярина. Владыка в Новгороде — всему голова, и, ежели Полюд в чем виноват, пусть благодарит князей за мягкость их, забывчивость и доброту. Еще не один день и не два обитать им на берегу Волхова, еще будет время оглядеться да прикинуть что к чему.
Меж тем у Михалки с владыкой завязалась добрая беседа. Лука был любознателен, выспрашивал, допытывался о виденном и слышанном, радовался, что новгородских купцов принимают на чужбине с почетом и лаской.
— Богата, зело богата земля Новгородская, — удовлетворенно кивал владыка. — Да и мастера у нас искусны: мечи куем всем на зависть, а новгородских замков хитрее во всей земле не сыскать. Щедра земля наша — мехами кого хошь удивим, зверя в лесах наших видимо-невидимо…
Хвалился Лука перед князьями, ровно перед чужестранцами. А какие же они чужестранцы? Землю свою покинули не по доброй воле, а вернулись сами. Никто их не звал, посулами не заманивал. Что ждет их здесь, одному богу ведомо, а не прельстило их ни чужое богатство, ни чужая слава. Ведомо ли это владыке?
«Ведомо», — прочел по его прищуренным глазам наблюдательный Всеволод.
Лука перехватил его пристальный взгляд. И потом, продолжая беседовать с Михалкой, все чаще вскидывал на Всеволода вопрошающие глаза.
«Ох, прилипчив княжич, — думал он с тревогой. — Одно слово: крепкий мономахов [15] корень».
И бог весть еще какие мысли рождались в его голове! Но в одной утверждался владыка: с этим держи ухо востро.
«Змееныш», — думал о Всеволоде Полюд; вдруг ослепило его догадкой: знает, чертяка, боле, чем говорит. На языке-то у него добро, на устах улыбка, а что за пазухой?
Но Всеволодовы хитро прищуренные глаза не давали проникнуть в его мысли. Глядел он на Полюда ясно, а слова были чудные:
— Есть лукавый, который ходит согнувшись, в унынии, но внутри он полон коварства.
— Сии слова из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова», — одобрительно качал головой владыка.
«О чем он?» — удивлялся Михалка, глядя на брата. Полюд хихикнул. Ни один мускул не дрогнул на лице Всеволода. Поудобнее устроившись на лавке, он стал рассказывать о том, как они добирались до Колывани. Путь их лежал в распутицу, ночевать приходилось на грязных дворах. За коней брали втридорога.
Владыка слушал внимательно. Полюд поддакивал и мотал головой.
Служки внесли в палату подносы, на столе расставляли блюда с яствами, кувшины с дорогими винами. Глаза Всеволода заблестели, иссякла речь: внезапно он почувствовал сильный голод. Владыка пригласил их к трапезе.
Пока ели гусей и уток, пока пили меды и вина (Михалка, притомившийся с дороги, совсем почти не ел и не пил: зато Всеволод ел и пил за двоих), пока вели неторопливую беседу, на дворе стемнело; в горнице запалили свечи.
От сытости и разговоров, от запаха горячего воска и сладкого хмеля по телу растекалась приятная истома, клонило ко сну. Владыка заметил это, улыбнулся и сказал, что жить князьям определили у боярина Полюда, и ежели они того желают, то могут хоть сейчас отправиться за Волхов — кони их кормлены и поены.
Боярин проворно поднялся из-за стола и поклонился князьям:
— Все так и есть, как владыкой сказано. Для меня сие — великая радость.
Лука благословил дорогих гостей, проводил до двери, что делал не часто, и тем оказал им еще раз немалую честь.
За Волхов князья с Полюдом перебрались уже в полной темноте.
3
На дворе у Полюда по утрам — шум и гвалт. В распахнутые, железными полосами обитые ворота въезжали заляпанные грязью возы с добром из боярских ближних и дальних деревень. Расторопные юркие мужики в драных штанах и латаных рубахах споро переносили в кладовые мешки и кадушки, осклабясь, увертывались от плети краснорожего городского служки с маленькими, утопленными в щеки глазками. Служку звали Порфирием, был он из пришлых с юга и слыл на усадьбе Полюда верным псом… Молодым князьям Порфирий говаривал:
— Кто меня изручь кормит, тому из рук гляжу. В день страшный вся милостыня, тобою сотворенная, соберется в чашу твою.
Два добрых коня у князей: у Всеволода — белый, в желтых яблоках, у Михалки — каурый. Выезжая по утрам на прогулку, в который раз уж князья примечали: живут новгородцы прочно, избы новые, крытые не щепой, а досками, церкви нарядные, всему свету на удивление (есть чем похвалиться!), но за деловитостью и праздничным многоцветьем, которое наперед всего пленит пришлого человека, нет-нет да и промелькнет настороженный взгляд, проникнут холодом в душу высверкнувшие из толпы усмешливые, а то и злые глаза. То, что Полюд говорил, что Лука сказывал, — все верно: возвысился над северной Русью древний город на Волхове, но вот что высказывал Михалка Всеволоду, брату своему:
— Жиреют бояре, мнихи [16] тоже не знают забот, купцы набивают сумы, а про то не мыслят, что едва обороняется юг от половецкой напасти, умывается русской кровушкой. Придет время — окровавится восход и над Ильменем, и волей своей новгородцы не похвалятся: порубят ее кривые мечи, пеплом развеют древнюю лепоту [17]… Отсель далеко смердит: Андрей тож натерпелся от бояр, от них вся смута расползлась по Руси. Жить хотят сладко и без хлопот.
Не ведомо, однако ж, было ни Михалке, ни Всеволоду, что в ту же пору, стоя на крыльце Владычной палаты, Лука говорил Полюду:
— Вся беда у нас от князей приключилася: не живется им в холе и достатке, а ведь в вотчинах у них всего хоть отбавляй. Да нет же, свое-то под боком, никуды не денется, а пялят глаза на чужое. Узду бы на них боярскую — небось присмирели бы, небось поостереглись. В нашем-то Новгороде какой ни князь, а шибко не разгуляешься!..
— То верно, владыко, — вторил ему Полюд, — но узды такой еще не изготовили, чтобы каждому в пору пришлась. Покуда и умишком своим худым, и хитростью пробавляемся, а то и в ножки поклонимся — про то ты и сам ведаешь.
— Ведаю, — сдвигал на переносье брови Лука. — И то ведаю: новгородская вольница и Андрею суздальскому и Ростиславу киевскому все равно что кость поперек горла. Им только послаби — мигом очистят наши скотницы [18]. А мы, как пчелки, — резану [19] к резане, гривну [20] к гривне — и так-то всю жизнь: что дед, что прадед… Ох-ох. И молодые князья, как смекнул я, тож в ту сторону глядят. Польги [21] нам от них не сыщется никакой.
А Порфирий тем временем принимал на боярской усадьбе гостя. Не знатный был гость, а такой, без которого мужики на вече все равно что стадо без быка: коровы мычат, да не телятся.
У боярина — свои людишки во всех новгородских концах [22]. Оттого ему и послабленье от Боярского совета, оттого и не засадили еще в поруб [23], а надо бы.
В конуре у Порфирия под красным крыльцом — дубовые лавки вдоль стен, в углу, на иконах, святые угодники десятками глаз пялятся на гостя сквозь желтые огоньки лампад.
Неторопливы речи Порфирия, губы служки растянуты в ласковой и страшной улыбке:
— Не туды поворотился, Кухта. Тебе наказ от боярина был: сбивать людишек против Святослава. А ты как рассудил? Боярские денежки-де далеко, когда еще возьмешь, а на дорогах купчишек что гусей на лугу — один другого жирней да податливее… Не все тебе ножичком-засапожником играть — индо все и по-другому обернется: как бы тогда тебе не умыться кровавыми слезами, Кухта. Полюд правду любит. За верность щедро одаряет казной, за ложь — карает. Где твоя черная осиночка, Кухта, — плачет не наплачется, зовет не назовется?.. Аль позабыл уговор? Аль память медами отшибло?
— Не позабыл я наш уговор, — уставившись глазами в землю, неохотно отвечал Кухта, — людишки мои свое крикнут. Вече-то, чай, не впервой на нашу сторону поворачивать. А про купчишек сказывают тебе, Порфирий, зря — не мое енто дело…
— Перечить не моги! — подскочив на лавке, будто рассерженный петух, сорвавшимся голосом прикрикнул Порфирий. — Днесь прибег в Боярский совет кончанский староста от суконщиков: взломали-де амбары, недосчитаемся лучшего сукна, а к воскресенью должны прибыть гости от немцев, по уговору менять сукно на мечи. Куды дел краденое, сказывай?
Кухта молчал. Порфирий загнул палец:
— Нынче Перенег, златокузнец [24], едва ума не лишился, да и есть с чего: пришли ночью зверообразные люди, взломали лари, над дочерью надругались, самого Перенега били палками по животу, пытали, где прячет золото и каменья…
У Кухты потная капля повисла на кончике носа. Порфирий гневно постучал сухим костистым кулаком по столу:
— Кару на твою голову, тать! И кабы не снадобился ты ныне боярину Полюду, велел бы тебя вязать, да с каменьями в мешок, да на дно Ильмень-озера. Туды тебе и дорога. Но, видать, родила тебя счастливая мамка, коль сидишь ты в боярском тереме…
Совсем уже извелся Кухта, тесный зипун [25] прилип к влажной спине — не отдерешь, ноги отяжелели от страха: а что, как кликнет Порфирий своих людей да велит бить Кухту за все его грехи неисчислимые?.. Случалось такое на усадьбе Полюда, ходили о том страшные слухи по Новгороду. Сказывали и про то, как выжигал боярин своим холопам глаза, вырезал языки, а после топил замученных в озере — не зря проговорился Порфирий про мешок с каменьями: небось он-то и вершил расправу.
— Ты уж меня прости, Порфирий, батюшка, — заговорил Кухта онемевшим языком, — вели не казнить, а миловать. И про что сказывал ты, про то мне ведомо, но не все моих рук дело. Кончанский староста — то моя работа, а Перенега в глаза не видывал, зря коришь. Что же до боярина, кормильца нашего, то все, что повелит, тем же мигом исполню…
— Ишь, какой покорливый стал, — смягчился Порфирий. — Аль испужался?
— Боярский суд короток…
— И то.
Совсем помягчал Порфирий, велел даже медов принести, стал угощать Кухту, а между чарами говорил, как надобно ходить по дворам и тайно склонять новгородцев против Святослава.
— Владыко про то проведает, еще хуже не сносить мне головы, — осторожничал Кухта.
— Перед владыкой не ты в ответе, — довольно попугав, успокаивал его Порфирий.
Дело было сделано.
А Святослав тем часом, вернувшись с охоты, беседовал в терему со своими людьми. Знал он уж о возвращении с чужбины Андреевых братов и послал своего меченошу [26] на Полюдов двор кликнуть их к себе в гости на Городище [27], но не успел меченоша и порога переступить, как попятился от двери и в сени вступили сами князья.
Встал Святослав со стольца [28], облобызал истово Михалку и Всеволода и просил князей сообща разделить трапезу.
Меды и брага лились рекой, гости хмелели, но приметили молодые князья, что сам Святослав почти не пил и средь общего веселья нет-нет да и бросал в их сторону встревоженные взгляды.
Когда все ушли и слуги, неслышно скользя между столами, быстро убрали остатки яств, князь угрюмо сказал:
— Про то не ведаю, о чем вели с вами беседу владыко с Полюдом, но хочу вам сказать, чтобы не верили вы ни единому их слову. Не други они вам, а враги заклятые и для того только сманили в Новгород и принимали со всею честью, чтобы усыпить Андрея…
— Не верим и мы Полюду, — ответил Святославу Михалка, — и не для того возвратились мы на Русь, чтобы гневить своего брата.
— Истинно вы Мономашичи, — обрадовался Святослав. — Дедова мудрость не даст вам прельститься щедрыми дарами новгородцев, ибо зрите недостойные дела, творимые владыкой и Боярским советом.
Тогда поведал Всеволод о тайной встрече Полюда с Кухтой.
— Значит, правду сказали мне, дабы поостерегся я, ибо не знаю всего коварства, на кое способен владыко, — грустно проговорил Святослав.
Потрескивали щедро расставленные по всему столу свечи, на дворе, позвякивая оружием, прохаживались вои, а князья все сидели и думали свою думу.
Поздней ночью ехали Михалка со Всеволодом на Полюдов двор. Не хотелось им возвращаться к боярину, слушать его льстивые речи, за улыбками прятать истинные свои мысли, благодарить за приют и за яства. Ехали не таясь, а самое время было бы поостеречься. Не достигли они еще и Волхова, где пролегал их путь, самое темное было место, как пропела у Всеволодова уха стрела и впилась острым жалом в шею Михалкова коня. Вскинулся конь, рухнул наземь — едва выбросился князь из седла. А от черного сруба метнулась за угол сгорбленная лохматая тень.
Не ушел тать от Михалки, настиг он его у Полыньи [29]. Тут и Всеволод подоспел. Связали они брыкающегося людина [30], приволокли на Полюдов двор.
— Ахти мне! — вскрикнул, размахивая руками, Порфирий. — Наказывал боярин не пущать вас одних, нынче не оберусь греха. Да как же ты, тать, посмел руку поднять на князей?! — накинулся он на людина, но приметил Всеволод, что гнев его был притворен.
И людин, видать, глупый попался. Упасть бы ему князьям в ноги, молить о пощаде — ан нет: стоит себе, глядит на беснующегося Порфирия да подмаргивает черным глазом.
Совсем осерчал Порфирий, кликнул слуг. Во дворе поднялась возня, от запаленных факелов светло стало, как днем. Уволокли татя в поруб, князей ввели на всход [31], в теплые сени, где уже стоял в исподнем не на шутку перепуганный Полюд.
— Куды глядишь ты, нечистая сила?! — накинулся боярин на Порфирия. — Этак-то привечаешь ты наших дорогих гостей?! Кому я наказывал боронить [32] князей пуще глаза, сказывай.
— Моя вина, боярин, — потупился Порфирий. — Да только разве за князьями углядишь? Резвые они, и кони у них резвые, а как поехали ко Святославу на Городище, тут я своим людишкам и сказал: князь наш оглядлив, беды не допустит, велит сопроводить гостей до самой твоей усадьбы. Да вот оно как обернулось… Уж не Святославов ли человечек озоровал?
Понял Полюд, к чему клонит догадливый Порфирий.
— Веди-ко мужичонку сюда, — гневно распорядился он. — Нынче же спросим с него, кто таков и почто метнул стрелу…
Порфирий поклонился и вышел за дверь.
Потея и угодливо кланяясь, боярин проводил князей в опочивальню.
— Неспокойно нынче стало в Новгороде, — говорил он, забегая вперед и распахивая услужливо двери. — Скорбит владыко, а управы на шатучих татей нет. Святослав, князь наш, молод, не блюдет векового закона, сеет смуту, а о том не знает, что только на твердой боярской воле и стоит древняя наша вольница. Да простятся ему все грехи, а вам вот мой наказ: впредь без воев со двора ни шагу. Боярский совет за вас перед Андреем в ответе…
— Ишь како запел, — сказал Всеволод, когда они с Михалкой остались одни.
— Кшить ты! — внезапно оборвал его Михалка. Всеволод осекся — и вовремя: дверь распахнулась, на пороге появился растерянный Полюд.
— Сбежал мужичонко-то, сбежал, — пролепетал он ссохшимися губами. — Как повели его в поруб, так и сбежал… — И, чуть помолчав, добавил — Да только от нас разве сбежишь?
— Поймали? — вскинулся Всеволод.
— Настиг его вой — уж у ворот был, уж полез на частокол, — да и рассек топором-от. От шеи до брюха развалил — силен…
4
Лука гневно ударил посохом в пол.
— А я что сказывал?! — взревел он. — Я что тебе, Полюд, сказывал: гляди за Святославом в оба. Не досмотришь оком — заплатишь боком.
— Смилостивись, владыко, — лебезил растерянный боярин. — Како за ентим кобелем доглядишь? Меды пьет, охотой балуется — везде мое ухо.
— Оглохло оно, ухо-то…
— Оглохло, — совсем падая духом, согласился Полюд.
— Очеса-то ослепли…
— Ослепли, владыко, — покорно вторил боярин.
— Нынче в Великие Луки подался князь, завтра жди во Владимире у Андрея.
— Далеко глядишь…
— Еще дале вижу. Пошумели твои мужики на вече, иных покалечили, иных покидали в Волхов, а что толку?
— Не возворотится Святослав. Чай, то нам и на руку. Кликнем иного князя. Иной-то посговорчивее будет.
— Кабы кликнули.
— Кликнем, — уверенно кивнул Полюд. — А Святославу неча в Луках сидеть. Покуда он в пределах новгородских, то вроде бы и наш князь…
Остыв от гнева, владыка водворился на лавку. Понятливо поглядел на Полюда, ухмыльнулся.
— Аль задумка какая, боярин? Сказывай.
— Да уж что и сказывать, коли все сказано, — все более успокаиваясь, начал Полюд. — Вече решило: не быть Святославу у нас князем. Творил он богу неугодное, Новгороду во зло — каково сидеть ему на столе? Донесем Константину, митрополиту, сам-де ушел князь, не пожелал служить Великому Новгороду. На том и клятва наша, даденная отцу Святослава, Ростиславу, кончается. Хоть и не поклонился князь вечу, а во всем с ним согласен, коли так и поступил, как вече решило… Но, покуда сидит он в Луках, еще висит над нами беда. А как изгоним — возврата уж нет. Пошли посадника, пусть объявит ему нашу волю..
— Умен ты, боярин, — похвалил владыка. — А как поступим с братами Андреевыми?
— Тут другой сказ, — подумав, сказал Полюд. — Сердить Андрея нам ни к чему. Глядишь, братов его приласкаем, он и смягчится: не держит-де Новгород супротив него зла, а все Святославова неуступчивость. Пущай не гневается…
— Ишь ты каков, — проговорил владыка, — да неспроста, знать, про Андрея заладил: пущай не гневается… Андрей-то и на братов не поглядит — изгнал уж было.
— Нынче возвращению их не противился.
Помолчав, владыка встал.
— Быть по сему, Полюд, — сказал он. — Вели-ко кликнуть ко мне молодых князей.
С трудом разыскали Полюдовы служки Михалку со Всеволодом, привели во Владычную палату.
Лука встретил их приветливо, сажал на крытые мягкими коврами лавки, выспрашивал, всем ли довольны, не чинят ли им в Новгороде каких неудобств.
— Всем довольны, владыко, — спокойно отвечал Михалка. — Неудобств нам никаких не чинят. Спим, едим сладко, Полюдовы людишки стерегут нас на каждом углу.
А Всеволод сказал:
— Ждет нас брат наш Андрей во Владимире, не шибко ли мы у тебя задержались, владыко?
Вопрос этот Луку застал врасплох. Наслышан он был о встречах молодых князей со Святославом. Уж не подвох ли какой во Всеволодовой простодушной речи?
Но глаза Всеволода были ясны, и Михалка глядел на владыку ясными глазами.
И принялся Лука жаловаться на Святослава. Думал про себя: отпущу молодых князей, донесут они о моей печали Андрею. Не супротив него замыслил Новгород изгнать Святослава — неугоден князь вечу, поелику не печется о новгородцах, хиреющих от княжеской немилости. И ежели то Андрею угодно, то посадят они на новгородский стол любого из его братьев. Потому как знал: братьям своим Андрей благословения не даст, не верит еще им, боится, не таят ли они еще на него обиду. Пройдет время, много воды утечет в Волхове… Хитер, ох и хитер владыка.
— Неволить я вас не стану, — сказал Лука. — Коли не лежит у вас душа к Новгороду, ступайте во Владимир. Поклонитесь князю Андрею, передайте ему мое благословение…
Поблагодарили князья владыку, помолились вечером в Софии и следующим утром, чуть свет, отправились в путь.
Ехали с обозом, часто останавливались в деревнях, с волнением ждали, когда минуют новгородское порубежье. Чуяли, и в обозе стережет их недреманное Полюдово око.
Разные были людишки в обозе, все больше купцы, и ехал с ними вместе в крытом возке до Великих Лук новгородский посадник. Нелюдимый был он человек, неразговорчивый — и двух слов не вытянули из него князья за всю не короткую дорогу.
В Великих Луках, не дав встретиться со Святославом, коней их быстро перепрягли и погнали дальше — в весеннюю распутицу, по раскисшим дорогам и мокрым от непереставаемого дождя лесам.
Смутно было у князей на душе: каково-то встретит их старший брат? В недобрую годину возвернулись они на Русь, издерганную усобицами. Поверит ли Андрей в их непричастность к заговору, учиненному лживыми новгородцами, выделит ли им уделы или снова отправит в изгнание?..
Деревушки на их пути стояли словно вымершие, по сирым полям гулял разбойный ветер.
Но смыло тревогу, едва только въехали в пределы владимирского княжества, — на первой же стоянке, где выпрягали загнанных лошадей, встретил их Борис Жидиславич, любимец князя Андрея, дородный боярин с красным, обветренным лицом, весельчак и балагур. Встретил о двух конях под богатыми седлами и с малой дружиной, передал, что давно уже ждет их старший брат в стольном граде, что меды перебродили в бочках и будет по случаю их возвращения веселый пир.
Еще пуще размякли князья и даже прослезились, когда знакомо заблестела в стороне от дороги полноводная Клязьма, а на вершине холма сверкнула позолоченным куполом церковь Успения божьей матери.
В городские ворота въезжали степенно, сдерживая жеребцов, вглядывались с волнением в избы и терема, будто вчера оставленные, радостно улыбались встречным дружинникам.
На всходе своего дворца князь Андрей братьев облобызал троекратно и всенародно, благодарил Бориса Жидиславича за верную службу, в тереме сажал их по правую руку, угощал винами и жареными лебедями.
Постарел Андрей, обрюзг, седина пробилась в густую бороду, но живые глаза глядели, как и прежде, пристально. На пиру говорил с князьями так, словно и не было меж ними размолвки, жалел Всеволодову мать и даже смахнул слезу, а после велел звать скоморохов, смеялся, слушал песни, подперев кулаком кудлатую голову.
Приметили князья, как морщился он при появлении Кучковичей, не обласкивал взглядом когда-то любимую жену свою Улиту. В переходах терема попадались им пришлые люди, в углах слышался шепот, слуги ходили на цыпочках, скрипом половиц боясь потревожить князя.
То и дело, глядя на бояр, гневно сводил Андрей выцветшие брови, вино и мед пил без меры и будто не хмелел — только глаза наливались кровью да чаще вздувались крылья широкого носа. Напряженная рука его слепо шарила по столу, и слуги спешили наполнить до краев его быстро пустеющую чару.
Изменился Андрей и все больше походил на отца их Юрия в последние годы его жизни, когда объезжал он во хмелю своих бояр и дружинников…
Нет, не вовсе поверил князь своим меньшим братьям. За пирами да забавами не допускал он их к своим делам и мыслям. Втайне сносился Андрей со Святославом, дал ему войско, и тот, разорив Торжок, двинулся жечь и топтать новгородскую землю. Дорого заплатил Новгород за строптивый свой нрав. Присылали владыка и бояре послов своих к Андрею, но тот не то чтобы выслушать, а вовсе не допустил их к себе. Руками Святослава и братьев его Мстислава и Романа нес он свое отмщение. И поделом зипунникам. Как ни стояли на своем, а пришли, поклонились владимиро-суздальскому князю.
Тогда только призвал к себе снова младших братьев своих Андрей. И так им сказал:
— Ныне верю вам и потому повелеваю: ты, Михалка, ступай в Торческ, а ты, Всеволод, в Городец Остерский. Аминь.
Прошли годы. Погиб от руки холуя своего Кухты Полюд, скончался от удара владыка Лука, преставился, недолго побыв великим князем, Михалка, сел на владимирский стол Всеволод и вот уже двадцать лет копил силу на своем далеком северо-востоке, изумляя и ввергая в трепет некогда могучих киевских, рязанских и черниговских князей.
Один только Новгород еще независимо стоял над Волховом, изворачиваясь и хитря, но Всеволодова длань уже простиралась и над его продутыми ветрами лесистыми просторами…
Глава первая
1
Водя пальцем со скусанным ногтем по Библии, бледнолицый и чернобородый владыка Мартирий читал нараспев:
— «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже; он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен…»
Владыка был могутен и басовит. Сидящий напротив него новгородский посадник Мирошка Нездинич выглядел совсем невзрачно: покатые, жиром облитые плечи, круглый мягкий живот, ноги с толстыми ляжками, не достающие до пола. Мирошка, напрягаясь, вытягивал носки, внимательно слушал владыку, щуря умные серые глаза, прикрытые белесыми ресницами.
— «За то, что ты не служил господу богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, — продолжал владыка, поднимая перст, и, оторвавшись от книги, многозначительно поглядел на Мирошку, — будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя господь, в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя…»
В дверь просунулась простоволосая голова сестрицы Нездинича — разбитной девки Гузицы.
— Ну чего тебе? — всполошился Мирошка.
Владыка, недовольно морщась, оторвался от книги, но, увидев веселое лицо Гузицы, вдруг высветлился, растягивая губы похотливой усмешкой.
— Вечерять будете али как? — спросила Гузица.
Мартирий торопливо убрал улыбку, кашлянул два раза в кулак, другой рукой суетливо перекрестил грудь: чур-чур меня.
— Чего спрашивать-то, — буркнул Мирошка. — Вели на стол накрывать… Ты уж, владыко, не побрезгуй, — повернулся он к Мартирию.
Дверь захлопнулась. Гузица кинулась по переходу подымать девок. Мартирий еще раз кашлянул и захлопнул книгу. Задумчиво глядя перед собой, щелкнул застежками.
— Зело мудра книга, ох, зело мудра, — сказал он. — Все, что записано, ровно про нас с тобой сказано…
Нездинич похлопал светлыми ресницами, ответил со смятением:
— О чем говоришь, владыко, о том не разумею. Просвети!
— Аще обрящещи кротость, одолееши мудрость, — проговорил Мартирий, с сомнением глядя на посадника. Мирошку знал он давно, в непонятливость его не верил: взгляд у Мирошки востер, ум изворотлив. В нынешние-то, неспокойные, времена лучшего, чем Нездинич, посадника не сыскать.
— Все загадками норовишь, владыко, — продолжал придуриваться Мирошка.
— А ты в корень зри, — начал сердиться Мартирий. — Почто оглядываешься на Всеволода? Аль забыл, как отец твой был убит за приверженность свою к Ростиславичам смоленским?
Мирошка побледнел, откинулся на лавке.
— Душу пытаешь, владыко…
— За вольный Новгород… У Всеволода хватка покрепче Андреевой будет. На что хитер был убиенный князь (прими, господи, душу его), а младшенький всех братьев перемог.
«Ишь как ухватист владыко, — усмехнулся про себя Нездинич. — В терем влез — ладно, льстится на Гузицу (все вижу!) — и то ладно. А в душу, в мысли потаенные, заветные — не пущу». И ответил, дерзко глядя в глаза Мартирию, любимой присказкой:
— Мясное в мясоед, а постному свой черед.
Осерчал владыка, даже ногой дрогнул от гнева, но воли себе не дал, не стал пугать Мирошку. А только покачал головой и грустно так проговорил, себе вроде бы, но чтобы и Нездинич услыхал:
— В одной шерсти и собака не проживет. Что умен Мирошка, то никому не секрет. Да как бы, со Всеволодом заигрывая, сам себя не перехитрил.
Тут вошли девки со снедью и питием. Гузица набросила на стол скатерть рытого бархату — дорогую, ту, что в ларе хоронится для самого желанного гостя.
Запалив свечи, Мирошка и Мартирий сели вдвоем к столу — друг против друга. Владыка перекрестил еду. Посадник шмыгнул носом и запустил пятерню в блюдо с жареным гусем, извлек подрумяненную лапку, стал грызть, сочно причмокивая губами. Сало стекало по бороде, капало на рубаху; временами, подмигивая владыке, Мирошка утирал рот тыльной стороной ладони.
Сначала владыка сдерживался, ел мало, старался блюсти чин, но, подзадоренный посадником, скоро тоже разошелся — позволил себе даже испить вина, повеселел, все чаще и чаще, теряя над собою власть, поглядывал на дверь. Мирошка хитро улыбался, знал, отчего воротит владыка гривастую голову: ждет, не появится ли вдруг опять Гузица — приглянулась она ему, не впервой это, оттого и зачастил к посаднику, а то по нонешним временам самому бы посаднику дожидаться у крыльца Владычной палаты, когда выйдет служка и, глядя поверх головы, выкликнет Мирошкино имя.
Не сестра у Нездинича, а огонь: любого опалит, только сунься. На что уж Невер — всех девок в посаде перепортил, а у Гузицы часами стоит под светелкой, ждет не дождется, когда приотволокнет она оконце. Один только Мирошка и знает ее зазнобу, но про то никому не скажет ни полслова. Зато и Гузица умеет хранить Мирошкины тайны. Когда выбирали себе новгородцы владыку на место помершего Ильи, кого только не заносила забота на двор посадника. Были среди заходивших молчуны, но и им Гузица умела развязать языки. О многом проведал Нездинич через свою сестру, без нее не сидеть бы и Мартирию во Владычной палате. Сперва ведь поставили архиепископом брата Ильи — Гавриила, но был Гавриил немощен и слаб, страдал худой грудью, оттого и зачах через шесть годов; последнее лето вовсе не показывался перед народом, а за месяц перестал показываться и перед боярами и перед попами. Мирошка, увидев его незадолго до смерти, ужаснулся — сделался он прозрачен, яко мертвец, и ликом звероподобен. Отошел. Успокоился. И как схоронили его, то и учинилась во избрании нового владыки великая распря. Князь, бояре и попы хотели Мартирия, игумена вежицкого, другие, среди коих тоже было немало бояр и богатых купцов, — игумена Евлавия, а людины — Ефросима.
Собирался народ на мосту через Волхов; привезли Ефросима, в простом одеянии, с железным крестом на шее. Игумен кланялся на четыре стороны, кричал о райском житье, ежели хватит новгородцам силы поставить его владыкой, перемочь коварных бояр и попов. Сходились новгородцы стенка на стенку, скидывали друг друга с моста, били кольями, кровью багрили белый снег. И, не найдя в спорах согласья, положили избрать владыку жребием.
Ох, ох — струсили в ту пору боярские сынки. По всему посаду жгли ночами костры, темные людишки нашептывали страшное — будто грядет на Новгород великий мор. Сказывали: как изберете Ефросима, так и настанет беда — это он только прикидывается смирным да всеобщим радетелем, а взойдет во Владычную палату — и прорастут на голове его рога…
Люди крестились:
— Да неужто?
Темные людишки растворялись во мраке. Пламя костров высвечивало испуганные глаза, перекошенные страхом лица. Утром шли выборные к софийскому попу Благодару, вопрошали его, вправду ли, что игумен Ефросим — антихрист?
— Вправду, — сохраняя достоинство, отвечал Благодар и степенно крестился на образа.
Так ли было, а может, и не так. Один только Мирошка знает, как старались бояре. Ефросим приходил с толпой к Мирошкиному двору. Размахивая факелами, мужики грозились поджечь усадьбу, ежели Нездинич не одумается и не перестанет мутить растревоженный люд. Пошумели, побросали камни, а испугать не испугали. И не таких видывал Мирошка. Зато в назначенный день взял Благодар с престола един жребий, и на жребии том стояло имя Мартирия.
Вот он каков, посадник Мирошка Нездинич, и владыка хорошо знает про это. Ему ли не знать, коли всем он обязан посаднику, но среди попов и бояр был он и с Нездиничем строг, как и быть подобает пастырю. И еще что нравилось Мартирию в Мирошке: едва отшумела распря, едва откричались мужики да разошлись по своим избам, так и попритих Нездинич, будто его и прежде было не слыхать. Скромно отсидит на Боярском совете, коли нет в том нужды, то и голоса не подаст. Отъедет в санях, а летом — верхами на усадьбу, пирует со скоморохами, а то ругается с Гузицей: жена-то у него померла, а все, что ни сделает сестрица, — все не по нему…
Сидел Мартирий в гостях у Мирошки, таял от блаженства, наблюдая за Гузицей, грыз косточку, а сам про себя думал:
«Хитер же ты, ну и хитер, Мирошка. И хитрости твоей хватит тебе до конца дней твоих. В тебя и в ступе пестом не угодишь. Ловок. Да не беда, коли ты на стороне Новгородской Софии. А коли переметнешься ко Всеволоду…» — Тьфу ты! — выругался Мартирий.
Мирошка, будто читая мысли владыки, вскинул на него прищуренные глаза; помолчал, протянул руку на середину стола за кувшином, плеснул Мартирию в чашу темного вина.
— Нынче заприметил я: мураши завелись в доме — к счастью. Да и кони ржали — тоже к добру. Выпьем, владыко, за нашу удачу.
Мартирий не уклонился, выпил свою чашу до дна. Выпил до дна и Мирошка. Приятное тепло растекалось по телу. Веселые рождались мысли.
Мирошка совсем уж было рот отворил, чтобы кликнуть дневавших и ночевавших у него скоморохов, да вовремя спохватился. Догадываясь о скрытых мыслях Нездинича, Мартирий собрался уходить, чтобы не довести посадника до греха; стряхнув с бороды крошки, он встал, перекрестился на образа и двинулся к выходу. Тайная была надежда встретить в сенях Гузицу. Но Гузицы в сенях не было, перед владыкой заметалась нерасторопная мышка, пискнув, нырнула в щель под порогом, и это еще больше развеселило владыку.
Прощаясь с Нездиничем на дворе, он даже растрогался и чуть не облобызал посадника, но, так как сие не пристало ему по сану, сдержавшись, лишь размашистее обычного перекрестил хозяина.
Возок отъехал. Мирошка Нездинич долго глядел ему вслед. Улыбка стекала с его лица, в уголки плотно сомкнутого рта вонзались острые морщинки. Поняли они с владыкой друг друга.
На правобережье Волхова набежала тучка, просыпала суетливый мелкий дождь. Мирошка поежился, втянул голову в плечи и устало поднялся на крыльцо.
2
Четыре сына у князя Всеволода — четыре ясных сокола: Константин, Юрий, Ярослав и Святослав.
И дочерьми не обидел его бог (иные уже замужем), и все дети ему одинаково дороги.
Константину — десять лет, Юрию — семь, Ярослав — помладше: смугл, черноглаз, телом хрупок — весь вышел в красавицу мать. Святослав был самый младший.
Константин крутолоб, широкоскул и дерзок, а Юрий в бабку, видать, вышел — сильна была в нем греческая кровь. Но любил их обоих одинаково князь Всеволод, а мать в них души не чаяла, холила и баловала, как могла. За то и ворчал на нее князь добродушно:
— Гляди, изнежишь ты мне сынов.
И, волнуя Марию, брал их с собою в поход ли, на охоту ли: приучал к походной нелегкой жизни, не для услад готовил их — для бранного дела.
— Умру, оставлю сынам свою неустроенную землю. Им продолжать начатое, — говаривал Всеволод.
Не сразу и взглядом окинешь такую семью за столом. А еще кликнет князь на трапезу любимца своего Кузьму Ратьшича с женой его Досадой да с дочерью — и вовсе становится тесно.
Текут за трапезой спокойные речи: вспоминают Всеволод и Ратьшич, как бились с недругами или выслеживали в лесу сохатого, — и мальчики тянутся к ним, возбужденно блестя глазами. А вздумает Мария сказки сказывать — девочки не отрывают от нее восхищенного взгляда.
…Нынче с утра привез Кузьма Всеволоду тревожные вести: сел Рюрик после смерти Святослава на киевский стол, кликнул из Смоленска в гости к себе брата своего Давыда, дабы учинить порядок в своих владениях.
— Эко скорой какой, — сказал Всеволод, добродушно забавляясь с сидящим на коленях Святославом.
Кузьма нетерпеливо покашлял в кулак.
— Аль еще какую новость приберег? — вскинул на него глаза князь. — Что-то не узнаю я тебя, Кузьма.
— Предостеречь хочу тебя, князь, — сказал Ратьшич взволнованно. — Неспроста пируют вместе Рюрик с Давыдом. Донесли мне, что делят они промеж собой землю русскую, а у тебя про то не спросили. Дали они Роману Мстиславичу, Рюрикову зятю, города, а також сыновьям Рюриковым…
Насторожился Всеволод, снял Святослава с колен, посадил на лавку, сам резко встал.
— Чем ближе к устью, тем шире. Вижу по глазам твоим, Кузьма, что не все еще ты сказал.
— Верно, князь, угадал, — ответил Ратьшич. — А еще на пирах на тех поносили они тебя и сыновей твоих. Припугнул-де Всеволод Святослава, пусть с нами потягается. За нами — сила.
— Сила силу перешибает. Нешто и впрямь лишился Рюрик разума?
— Сел высоко в Киеве и Вышград прибрал к себе. Речется старшим князем на Руси, — спокойно заметил Ратьшич.
— О том, что речется, про то я ведаю, — сказал Всеволод. — Да старейшинство ему не по плечу. Старший град на Руси нынче наш Владимир. И по-иному не бывать.
— Про то и Давыд ему сказывал.
— Ну?
— Не внемлет князь добрым советам. Упрямится. А пуще всего подстрекает его Роман.
Вошла Мария, приветливо улыбнулась Ратьшичу. Увидела на лавке Святослава, ласково позвала:
— Иди ко мне, сыночек.
— Ступай, ступай, — поморщился Всеволод. Ратьшичу сказал:
— Вели кликнуть ко мне Словишу.
Мария с сыном на руках и Кузьма вышли. Всеволод в задумчивости сел к столу.
Знал он, чуяло его сердце, что и после смерти Святослава не одумаются князья. Но надеялся, что еще успеет свершить главное — привести к покорности новгородский Боярский совет. И нынче за сказанным Ратьшичем видел большее. Разрозненные ниточки сплетались в тугой узел — вот они, и в Киев протянулись руки владыки Мартирия. Еще на прошлой неделе говорил ему вернувшийся из Новгорода Словиша, что отрядил Боярский совет в Киев своего посла. Ехал посол не один, а с крепкой охраной — знать, важная была у него грамотка. Теперь грамотку ту Всеволод будто по буковкам читал: знал все, что в ней написано: склонял владыка Рюрика к новой великой смуте, чтобы отвлечь владимирского князя от давно задуманного — положить конец новгородской вольнице. Не шибко умен Рюрик, на худость ума его и рассчитывал Всеволод, деля между ним и Святославом киевское княжество; а нынче по худости же ума прислушивается к сладким речам Мартирия…
Словиша не заставил себя долго ждать: явился перед князем, как всегда, румяный, с улыбкой во все лицо, одетый в нарядный бархатный светлый кожух.
«Ишь ты красавец, да молод-то молод!» — с завистью подумал Всеволод, разглядывая дружинника. Свои-то уходят, вон уж поседели виски от забот. А у Словиши все впереди. Хоть и скудного он роду, а солнышко всем одинаково светит: что князю, что холопу. Придет срок — зароют Всеволода в землю, а почто жил?.. Почто жизней столь загубил, кому на пользу?
У Словиши нет перед собой загадок — все ему ясно, все как на ладони. Живет — радуется, помрет — и нет его. А Всеволод после себя оставит не просто память. Ежели был он не прав, вся жизнь поворотится по-иному; ежели прав был, сохранят ли добытое сыновья и внуки? А ежели канет в безвестность, то кому на радость или на горе вершил суд, казнил и миловал, хитрил и изворачивался? Сам себя лишая сна и покоя, ни тела своего не щадил, ни духа?.. Близок, близок час, но и в страхе перед божьим судом отступится ли он от начатого? И покорностью ли, завещанной в святом писании, мягкостью ли, ангельским ли терпением заслужит он потустороннюю райскую жизнь? Кто ведает, кто придет и скажет ему: я знаю, выслушай меня и отбрось сомнения; и тогда счастливы будут окружающие тебя, и сам ты будешь счастлив, и правда восторжествует во всех пределах твоей земли?..
Кашлянул Словиша, переминаясь с одной ноги на другую, с тревогой подумал: уж не захворал ли князь? Эвон как сошел с лица: щеки впали, под глазами мешки, судорожным взглядом ушел в себя.
Всеволод стряхнул оцепенение, встал, положил руку Словише на плечо.
— Эко вырядился ты, — сказал усмешливо. — Девок, чай, по всему городу присушил. Отдохнул ли с дороги?
— Благодарствую, князь, — молвил Словиша с легким поклоном. — А по твоему наказу я завсегда тут. Почто звал-кликал меня?
— Без дела бы не тревожил, — сказал Всеволод. — Заслужил ты хорошего отдыха, но нет у меня пока на примете другого такого человечка, как ты.
— Приказывай, князь.
— Велю я тебе завтра же скакать с грамотой в Киев. Дам людишек, даров не дам. Передашь грамоту князю Рюрику и тем же часом возвратишься ко мне с ответом. Зело важна сия грамота и в чужие руки попасть не должна… Все ли так разумел?
— Все, княже.
— Ну так ступай покуда. Пей-гуляй, а завтра — в путь.
Словиша поклонился и вышел. Всеволод снова сел к столу, придвинул к себе пергаментный лист, задумался.
О чем отпишет он Рюрику?
А вот о чем.
«Брате, — напишет он в грамоте киевскому князю, — вы меня нарекли во всем племени Владимирском старейшим. Ныне ты сел на стол киевский и роздал волости младшим во братии, а мне части не уделил, якобы я участия не имел, то я увижу, как ты с ними можешь себя и землю Русскую охранять».
И скажет Всеволод Словише:
— Спросит тебя Рюрик: чего хочет князь ваш. И ты ответишь ему так: «Отдай Всеволоду и сынам его Торческ, Триполь, Корсунь, Богуслав и Канев, которые отделил ты Роману и ротою [33] с крестным целованием утвердил».
Хорошо придумано, ладно. То-то заелозит киевский князь — ему ли тягаться со Всеволодом? Побоится не отдать. А отдаст — отринет от себя Романа и всю свою братию… Вот тогда-то и развяжет себе Всеволод руки.
«Ишь ты, — весело подумал он о Мартирии. — Теперь каково?»
Писало быстро заскользило по пергаменту. Закончив грамоту, Всеволод довольно потянулся и встал. Усталости как не бывало.
— Мария! — приотворив дверь, крикнул он в переход. Стуча по полу босыми пятками, выскочила навстречу князю дворовая девка.
— Княгиня-матушка сынка кормит, — пропищала она тонким голосом, сгибаясь перед князем в низком поклоне.
— Кликни Констянтина с Юрием, — сказал князь.
Юрий явился сразу: «Звал, батюшка?», старшего искали по всему терему.
Когда прибежал Константин в разодранной на животе рубахе, с царапиной на носу, Всеволод усадил их чинно за стол и велел по очереди читать Евангелие.
— Начнете отсель, — провел он ногтем по листу. — Ты, Юрий.
Мальчик поерзал на лавке, поковырял пальцем в носу и начал нараспев:
— «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно…»
— Будя! — прервал его Всеволод с недовольством. — Почто гнусишь?
— В носу свербит…
— Утрися и чти дале: «Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному…»
— «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, — подхватил Юрий, незаметно корча Константину рожу, — да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого».
— Худо, — сказал Всеволод. — Будто по каменьям громыхаешь на разбитом колесе.
Он легонько шлепнул Юрия по макушке (тот откатился на лавке) и велел читать Константину:
— Отсель.
Собирая на животе разорванную рубаху, Константин склонился над книгой, упираясь носом в желтые страницы:
— «Истинно, истинно говорю вам: наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас сына божия и, услышавши, оживут…»
— Куды глядишь? — гневно спросил Всеволод. — Клюешь, яко петух… Эй, Четка! — кликнул он в приотворенную дверь.
Ни звука в ответ.
— Четка! — громче позвал князь.
— Тута я, — просунулась в щель растрепанная голова. Узкое лицо попа с синими прожилками на щеках болезненно морщилось и строило гримасы.
— Входи, входи-тко, — пригласил Всеволод.
Поп испуганно вполз, остановился у двери, полусогнувшись со скрещенными на впалом животе руками. Был он худ и несуразен: одно плечо выше другого, ноги в высоких чоботах повернуты носками вовнутрь.
Всеволод, ткнув пальцем в лежащее на столе Евангелие, спросил:
— Сколь раз чел с отроками Святое писание?
— Чел, княже, — пробормотал Четка в испуге.
— Юлишь небось?
— Вот те крест, — размашисто перекрестился Четка.
— Не богохульствуй.
— Как повелишь, княже…
— Дерзишь!..
Всеволод передернулся, вскочил с лавки. Задрожав, Четка попятился.
— Не наказуй, княже!
— Я вот те покажу! — рассердился Всеволод. Схватил попа за бороду, гневно потряс, откинул к двери. Четка взмахнул рукавами просторной рясы, со стуком грохнулся на пол.
Княжичи засмеялись. Всеволод обернулся к ним, шагнув к столу, развязал крученый поясок.
— Посмеетеся у меня!
Схватил Константина за шиворот, ожег пояском поперек спины; Юрий вспрыгнул на лавку, засучил босыми ногами. Достал пояском и Юрия. Отдышавшись, сказал:
— И медведя бьют, да учат. А ты, Четка, — опалил он попа быстрым взглядом, — гляди у меня. Посажу в поруб на железную цепь, еще навоешься.
— Смилостивься, княже, — скорбным голосом попросил поп. — Како мне с княжичами? Малы еще… Ослобони.
— Про то и в мыслях держать не смей, — сказал Всеволод. — А сыны мои чтоб и читали и всей прочей грамоте разумели. С тебя спрос. Понял ли?
— Как не понять, — обреченно шмыгнул Четка носом.
— Ну — гляди…
3
Утром разбудил Марию причудливый перезвон колоколов. «Динь-дон, динь-дон», — вливалось вместе со свежим воздухом в приоткрытое оконце.
«Что это?» — не сразу поняла она вначале. Лежала на постели, разнежившись, с открытыми глазами. И во все существо ее, еще скованное дремой, медленно вливалось сладостное ликованье.
«Динь-динь, динь-дон», — манили и призывали колокола.
Мария провела ладонью по лицу и счастливо улыбнулась. Вспомнилось ей пронзительно-холодное и светлое зимнее утро — то первое утро, когда поднимали на звонницу колокола. То было чудо, перед началом которого тянулась длинная вереница дней, наполненных суетой и тревогой.
Однажды Всеволод привел на двор мужиков — нечесаных, в лаптях и посконных рубахах, с лицами, разъеденными серой копотью, — долго беседовал с ними в сенях, а после ворвался в ложницу, обнял Марию и сказал, что будут и у них во Владимире колокола не хуже киевских.
Тогда она подивилась: чему так радуется князь? И разве худо жилось им до этого без колоколов?..
«Динь-дон, динь-дон», — пело за оконцем. Нынче-то без колоколов и день начинать тошно. А вызвонят — словно душу вольют, наполнят всего тебя солнечным светом.
Отпели колокола к заутрене, замер в небесной глубине, в синей бездонности последний серебряный колокольчик. Пора и за дело.
Кормилица, грудастая девка с глуповатым лицом и маленьким, как пуговка, носиком, ввела в ложницу Святослава, держа его за руку, тонким голоском пропела:
— А вот и матушка. Кланяйся матушке, княжич.
— Подойди-ко, подойди-ко поближе, — улыбаясь, позвала мальчика Мария.
Княжич оглянулся на кормилицу, потупился и, шаркая ножками, обутыми в аккуратные сапожки, приблизился к матери.
— Да что же ты хмурой-то? Аль мамка обидела? — привстав, обняла его Мария.
Святослав помотал головой.
— Сон ли какой пригрезился? — продолжала допытываться мать.
— Нонче с утра невеселый, — сказала кормилица. — Должно, и впрямь во сне напужался.
— То пустое, — покрывая поцелуями лицо мальчика, успокаивала его Мария. — А погляди-ко в оконце: солнышко на дворе, птички поют… Хочешь, возьму тебя с собой в монастырь?
— Хочу, — прояснилось обрамленное светлыми кудряшками лицо мальчика.
— Эк обрадовался, — льстиво вставила кормилица. — И то верно сказывают: у кого есть матка, у того голова гладка.
Марии понравились к месту сказанные слова кормилицы. Она улыбнулась и, повернув мальчика спиной к себе, легонько подтолкнула в плечико.
— Ступай, ступай к кормилице, да однорядку [34] надень, да шапочку соболью.
День обещал быть безветренным и ясным. Сидя с княжичем в открытом возке, Мария смотрела по сторонам светлым взором. Мужики и бабы на улицах останавливались, низко кланялись княгине, ребятишки, пяля глаза, бежали за возком.
Исполненный важности возница-мужик в красном зипуне и заломленной на затылок шапке осторожно правил лошадьми, беспокоясь, чтобы на ухабах не растрясти княгиню и княжича. Лошади, покорные его руке, шли ровно, возок покачивался, оставляя за собой белые облачка пыли. Ярослав ерзал на покрытом мягким полавочником сиденье и бросал завистливые взгляды на бегущих позади возка ребятишек.
— Куды глядишь-то, куды? — одергивала его мать. — То холопы, ты им не чета.
В бархатной однорядке было жарко, новые сапоги жали, а шапка, отороченная соболями, то и дело сбивалась Святославу на нос. Вот бы пробежаться сейчас так же, босому, за возком, а после окунуться в речку, где в заводи быстро бегают по воде длинноногие жуки. Но делать этого княжичу не велено, мать строга, и кормилица зорко стережет его с утра до вечера, водит за руку по детинцу, а ежели и зазывает ребятишек, то для того только, чтобы потешить Святослава, но играть вместе — ни-ни…
Резвые лошаденки спустились к Лыбеди. Колотившие белье на мостках бабы выпрямились, приставив ладони ко лбу, залюбовались княжеским расписанным золотыми петухами возком.
— И-и, милые! — прикрикнул возница, взмахнув кнутом. Лошади захрапели, резвее побежали на пригорок, где за рощицей виднелись стены монастыря, а из-за них выглядывали купола собора.
Княгиня быстро перекрестилась, локтем подтолкнула в бок княжича — Святослав тоже перекрестился. У ворот их уже поджидала игуменья. Две юркие монашки с быстрыми, угодливыми глазками подскочили к возку и, бережно придерживая Марию за руку, помогли ей сойти. Игуменья взяла на руки княжича.
— А тяжеленькой-то какой, — сказала она, прижимая его к груди. — Славной вырастет молодец, на радость тебе, матушка.
Откровенная лесть старухи пришлась Марии по душе. Приветливо улыбнувшись, она сказала:
— Твоими устами да мед пить, Досифея.
— Ибо сказано во Святом писании, — потупив взор, ответствовала игуменья: — «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего!»
— Аминь, — пролепетали монашки.
— Здоровы ли детки твои, Константин и Юрий? — неторопливо продолжала Досифея.
— Слава богу, здоровы.
— И дщери?
— И дщери, — так же неторопливо отвечала Мария.
— И муж твой, великий князь наш Всеволод?
— Здоров и князь.
— Счастливая ты, Мария, — сказала Досифея. — Народила сынов и дщерей, и все пребывают во здравии — то воля божья. Под единой крышей живете, творите мир и благодать. Не зря нарекли князя нашего Всеволода в народе Большим Гнездом.
Чудные речи распевно сказывала игуменья, и Святослав, прижимаясь к матери, слушал ее с открытым ртом.
— А теперь пожалуй в мою келью, матушка, — пригласила Досифея и, опираясь на посох, пошла впереди, указывая дорогу.
На монастырском дворе было чисто: травка прибрана, дорожки подметены. Монашки робко толпились возле трапезной.
— Сюды, сюды, матушка, — бормотала игуменья, поднимаясь по выскобленной лесенке в келью. — Тут я и молюсь господу нашему, тут и живу четвертый десяток лет, уйдя от мира и от людей. Присаживайся, княгинюшка. А ты, агнец, батюшка наш, садись вот сюды — к окошечку… Ладно ли?
— Ладно, ладно, Досифея, — успокоила ее княгиня.
Монашки между тем неслышно удалились из кельи и скоро появились снова, неся в руках подносы с дымящимися мисами и деревянными кубками. Накрыв на стол, молча встали у двери.
— Ступайте, сестрицы, да кликните сюды Феодору, — сказала им игуменья.
А Марию попросила:
— Ты, княгинюшка, добра, яко голубица, — поговори с ней. Постриглась в монастырь наш на той седмице [35], а все не утвердится духом, ходит сама не своя. Может, тебе откроется?..
Мотая под столом ногами, Святослав лениво похлебал монастырскую ушицу, облизал ложку, отложил в сторону.
— Аль не по душе тебе наши яства? — спросила его игуменья. — Живем мы в обители нашей скромно, укрепляем дух, а не тело. Поди, княжич, погуляй, не то — тебя сестрицы во дворе позабавят.
Святослав вопросительно посмотрел на мать.
— Поди, поди, — разрешила княгиня.
Не успел он выйти, как дверь в келью снова отворилась и на пороге появилась монашка.
— А вот и сестра Феодора, — сказала игуменья.
Феодора поклонилась Марии низко, до самого пола.
Княгиня успела заметить блеснувшую на ее ресницах слезу.
— Встань, — сказала игуменья. — Почто снова скорбишь? Почто звана, а не радуешься?..
— Спасибо, матушка, что не забыла, навещаешь нас, грешниц, — покорно пролепетала монашка, не подымая на княгиню глаз.
— Не грешниц, а смиренниц, — строго поправила ее игуменья.
С улыбкой разглядывая монашку, Мария невольно залюбовалась ею: стройна, русоволоса, глаза большие, с пронзительной синевой.
— Откуда ты родом? — спросила она ласково.
— Из Поречья. Малкой звали меня в миру.
— И что же привело тебя в обитель?
— От хорошей жизни к нам не идут, — скорбно заметила игуменья.
Монашка бросила в ее сторону благодарный взгляд. И, успокоившись, поведала Марии свою историю.
Родилась она в деревне. Отец ее, Надей, ловил рыбу и поставлял ко княжескому столу. Жили они мирно, никого не беспокоили, и их никто не тревожил. Но приехал однажды в деревню лихой дружинник князя Юрия Андреевича Зоря, и полюбила она его всем сердцем и стала вскорости его женой. Но тут случись такое — уехал Юрий из владимирских пределов, и пожаловал князь Всеволод деревеньку и холопов, в ней обитающих, боярину Разумнику, дочь которого Досаду отдал незадолго до того за своего любимца Кузьму Ратьшича. Шибко приглянулся Зоря боярину, вот и порешил Разумник сделать его своим старостой.
— Постой, постой, — остановила ее Мария. — Что-то такое, кажись, я уже слышала. Уж не тот ли это твой муж душегуб, что едва не порешил Пашка?
Монашка побледнела.
— Про все-то ты знаешь, княгиня! — воскликнула она. — Почто же тогда пытаешь? Почто не даешь смиренно возносить молитвы господу богу за упокой души невинно убиенного супруга моего Зори?..
— О чем говоришь ты? — удивилась Мария. — По словам твоим поняла я, что мужа твоего уже нет в живых?.. Когда это случилось? И отчего винишь ты в несчастье своем других?
— Оттого и виню, что не было на нем никакого греха. И Пашка он не убивал, а лишь вступился за честь жены своей: хуже кобеля был Пашок, одно слово — зверь лютый. Избил он его и сам искал у Ратьшича справедливости.
— Нешто не поверил ему Кузьма? — перебила ее княгиня. — Пошел бы ко князю. Всеволод милостив…
— Был и у Всеволода Зоря, да не захотел его выслушать князь.
— О чем бормочешь ты, холопка! — вскипела Мария. — Почто хулу возводишь на Всеволода?
Губы ее задрожали, щеки покрылись бледностью. Феодора отшатнулась, закрыв лицо руками.
— А дале, дале? — впилась в нее глазами княгиня. — Дале-то что?
— Велел бить Зорю батогами Ратьшич… Люто били его, ох люто. Так и забили до смерти. Отца тоже прибрал господь. Куды было мне податься?..
Мария с трудом перевела дыхание. Испуганная игуменья, хлопоча возле нее, обмахивала ей лицо убрусцем.
— Да что же ты, княгинюшка? — лепетала она. — Испей водицы вот… Ликом-то, ликом сошла. А ты изыди! — прикрикнула Досифея на черницу. — Изыди, говорю. Будет тебе нынче епитимья… Бесовское отродье…
Монашка отняла руки от лица, глаза ее были сухи, губы крепко сжаты.
— Почто лаешь меня, игуменья? — сказала она, без жалости глядя на изнемогающую от скорби Марию. — Почто хулишь?
— Почто? — вскинулась Досифея, гневно стуча об пол кипарисовым посохом. — По то и хулю, что змею пригрела в сердце своем. Нет в ней ни жалости, ни сострадания. Княгиню, матушку нашу, речами непотребными извела… Да слыханное ли это дело?!
Во дворе монастыря громко загрохотало било. Феодора быстро перекрестилась и вышла из кельи. На лестнице послышались шаги монахинь, спешащих на дневную молитву. В затянутое слюдой окошко бился надоедливый шмель…
4
День князя с утра до позднего вечера полон забот. Сразу же после трапезы отправился он на конюшню — смотреть подаренного булгарским ханом коня.
Еще издали услышал Всеволод возбужденные голоса людей, крики и смех. Челядины, конюшие и «молодшие» дружинники собрались в толпу, и взгляды всех были устремлены вовнутрь конюшни, откуда доносилось возбужденное ржанье, стук копыт о деревянный настил и неспокойная возня. Вдруг из ворот выскочил парень с разбитым в кровь лицом, злобно выругался и остановился как вкопанный перед князем. Подначки и смех затихли, люди, пряча улыбки, низко склонились.
Старший конюший, крепкий мужик с длинными, свисающими до подбородка усами и черными точечками маленьких глаз, смущенно сказал:
— Зверя подарил хан, а не коня. Не подступишьси…
— Экой ты нескладный какой, — упрекнул Всеволод. — Честишь доброго коня, а хан прислал его мне с любовью. Лучшего выбирал в табуне.
— Да погляди-ко, княже, — стал оправдываться конюший, — у него и глаза бесовские. Одно слово — нечистая сила.
— Третьего гридня [36] облягал, — послышалось в толпе. — Верное слово — зверь…
Всеволод прошел через расступившуюся толпу, остановился в воротах. Еще вчера, когда проводили перед крыльцом подаренного ханом коня, в богатой сбруе, был он прекрасен в своей дикой нетронутости: сам серый, в белых яблоках, ноги тонкие, стройные, шея выгнута, морда длинная — с глубокими, трепещущими от возбуждения ноздрями… И так поразил Всеволода подарок, что снился конь ему и ночью. Будто наяву это было. Вел коня в поводу кривоногий булгарин с рассеченным наискось лицом, с вывернутыми губами, в которых застыла злорадная усмешка. Страшно и сладко было князю во сне: гладил он коня по вздрагивающей холке, положив левую руку на луку, ногу вставлял в тонкое стремя… А дальше не видел себя Всеволод. Дальше все во сне путалось и переплеталось.
— Поостерегись, княже, — послышалось за спиной. — Не ровен час — скакнет. Вона как глазищами-то косит…
Конюший дышал над ухом лучным перегаром, качал головой.
— Зови булгарина, — сказал кто-то. — Пущай выводит сам свово беса.
— Ишь ты, — дернулся Всеволод, — а мы, чай, вовсе оробели?
И твердо шагнул в конюшню.
Конь вскинулся на поводке, замесил воздух острыми копытами, заржал, откидывая красивую голову. В толпе охнули.
— Держи его, держи, — сквозь зубы прохрипел Всеволод. Конюший, весь красный от напряжения, вцепился, изогнувшись, в поводок. Грузное тело князя мотнулось в воздухе — и вот он уже в седле. Конюший отшатнулся, кинул Всеволоду повод — князь поймал его в воздухе, потянул на себя. В толпе разом выдохнули, люди раскинулись в стороны от ворот. Кого-то сшибли, кто-то закричал по-заячьи. Конь вымахнул на простор, на миг замер, ослепленный ярким солнечным светом, — малиновый кожух распахнулся у Всеволода на груди.
Ему бы годков десять сбросить с плеч, ему бы ловкости в теле и прежней силы в ногах — тогда бы не одолел его булгарский конь. Но время берет свое, не поворотишь его вспять, не стряхнешь, как дорожную пыль с корзна, — и рухнул Всеволод с коня, покатился по мягкой траве.
— А-а! — заорал, страшно выпучив глаза, конюший. И было с чего орать: нынче он за князя в ответе.
Люди, забыв про коня, кинулись к Всеволоду. Однако князь уже был на ногах. Потирая ушибленное колено, он добродушно улыбался:
— Чего гомозитесь? Аль впервой падать?..
Мужики засмеялись — сначала тихо, потом все громче и громче.
— А и верно, — раздались крики. — Чего испугались?!
— Доброго коня подарил князю булгарский хан.
— А ну, Еська, — подначивали иные конюшего. — Теперь твоя очередь!
— Лови его, братцы!..
Гридни заулюлюкали, погнались за конем — вертелись, прыгали вокруг него, задорно смеялись.
Князю подвели его любимого вороного скакуна. Все еще чувствуя боль в ноге, Всеволод вскочил в седло, повел по двору краем глаза — конюший уже вертелся на взлягивающем булгарском коне, — и в сопровождении двух дружинников выехал за ворота детинца.
Много городов повидал на своем веку Всеволод — был и в Новгороде, и в Чернигове, в Городце и Киеве, в Ростове и Рязани, бродил мальчишкой по улицам Царьграда и Аахена, но во Владимире при виде деревянных изб, могучих валов и церквей его охватывало особое чувство. Сюда въезжал он явно и тайно, под пение церковного клира и в ночной тиши, в украшенном золотом и серебром княжеском одеянии и в кольчуге простого воина. Сколько раз трепетало его сердце при виде Золотых ворот, сколько раз останавливался он в задумчивости, глядя на огненно горящий на солнце крест Успенского собора. Здесь, под сводами протопоповых палат, прощался с отходящим в мир иной Микулицей, а вон там, за углом, высилась ныне сгоревшая усадьба боярина Захарии, дочь которого Евпраксию сватал он за своего удалого дружинника Давыдку. Умер Захария, снесли его, как простого смерда, на погост, исчезла в безвестности удалившаяся в монастырь Евпраксия, Кузьма Ратьшич казнил предавшего князя Давыдку. Казалось, давно ли везли по этой улице на красных санях умершего в Городце на Волге брата Михалку и Всеволод, обливаясь слезами, припадал щекой к его почерневшему, неживому лицу. Двадцать лет минуло с того скорбного дня. Двадцать лет минуло с того дня, когда вели дружинники в поруб плененного Глеба со Всеволодовыми племянниками Мстиславом и Ярополком и горожане, придвигаясь к пленникам, кричали и требовали суровой расправы. И по сей день еще звучит в ушах князя возмущенный гул толпы, и по сей день видит и не может забыть искаженные ненавистью лица людей… Сюда возвратился он после победы над Святославом, отсюда уходил в поход против непокорной Рязани. Видел он здесь и блеск и разорение, казнил Андреевых убийц, с берегов тихоструйной Клязьмы грозил непокорным князьям. И здесь прикипело его сердце к привезенной из далекого далека асской княжне, которую он нарек своей женой.
Причудливо переплетались в жизни быль и небыль. И сказки и песни, пропетые ему матерью его в колыбели, оставили в сердце князя незабываемый след.
Но все меньше и меньше возвращался Всеволод мыслями своими к былому. Все больше ожесточалось сердце. Израненное алчностью и коварством князей и близких, все чаще молчало оно, подчиняясь рассудку. Все чаще замирали на языке слова, дарующие милость побежденным. И думалось Всеволоду: уйдет он из жизни, не исполнив своей мечты. Рухнут своды Золотых ворот, захиреют, покроются плесенью стены соборов, обветшают крепостные валы, сгниют избы, и волки устремятся стаями на опустевшие улицы города. И потому, спеша, как он думал, творить добро, все чаще творил он зло. А сотворив, каялся и отмаливал грех у иконы Владимирской божьей матери.
И все-таки верил князь: объединится Русь в едином порыве, ибо другого пути для нее нет. И в том находил себе оправдание.
Верен он заветам деда своего Владимира Мономаха, который говорил: «В доме своем не ленитесь, но за всем присматривайте сами; не надейтесь ни на тиуна [37], ни на отрока, чтобы гости не посмеялись ни дому, ни обеду вашему».
Ехал Всеволод к кузнецу Морхине — поглядеть, как кует он дивные свои мечи. Нет таких мечей ни у греков, ни у немцев, ни у шведов. Оттого и предлагают за них заморские купцы самые дорогие товары. С одного удара рассекает Морхинин меч кольчугу, разваливает надвое крепкие щиты.
Неугасаемый огонь денно и нощно пылает в кузне у Морхини, вздыхают меха, стучат по наковальне тяжелые молоты.
Сам Морхиня — не богатырь, низок он и худощав, но рука у него цепка, свита будто из одних только жил. Бугрятся крепкими корневищами мускулы у Морхини под рубахой, пот крупными каплями стекает по его лицу.
— Здравствуй, княже, — кланяясь с достоинством, приветствовал Всеволода кузнец. — Куды уж и посадить тебя, не ведаю. Черно у меня в кузне, и лавки не прибраны.
— О чем речь твоя, Морхиня? — отвечал князь. — Не меды-брагу пить приехал я на твой двор, а взглянуть на колдовскую твою работу. По всей земле говорят про тебя: нет-де на Руси искуснее мастера. Да и мой меч с твоею меткою. Вот крестик, а вот и буковка…
Расцветая от похвалы, кузнец улыбнулся:
— Без крестика и без буковки вижу — мой. Дай-ко сюды его, княже.
Всеволод вынул из ножен, протянул Морхине меч. Тот принял его с уважением, провел черным пальцем по тонкому лезвию, легким взмахом руки рассек упругий воздух.
Юноты [38], стоя спиной к пылающему в горне огню, глядели на князя восторженно. И еще дивились они кузнецу: всяко говорили про Морхиню, иные-то мастера и поругивали его за глаза, а у кого гостил Всеволод, с кем вел ласковые беседы? То-то же…
— Нынче есть у меня и получше мечи, — задумчиво сказал вконец размякший Морхиня. — Сбегай-ко, — обратился он к одному из юнот, — принеси-ко тот, что висит у меня над лавкой…
А пока юнота, быстроного выскочив за дверь, отсутствовал, стал показывать князю свою работу.
В тот день проковывал он новую пластину для лезвия: складывал вдвое стальную полосу, указуя молоточком, подбадривал второго юноту — бей сюды, не жалей силы. Громким звоном отвечала на каждый удар тяжелая наковальня.
У Всеволода вспыхивали глаза:
— Веселое ремесло у тебя, коваль. А и сноровка какова!..
— Не трудно сделать, а трудно задумать, — откликался Морхиня. — Чай, не в одних руках сила.
— Всякий спляшет, да не как скоморох, — вторил ему князь. — Вижу нонче и сам: не зря про тебя байки складывают.
— В байках что правда, а что и ложь. Куды метишь?! — заорал вдруг Морхиня на юноту, разом забыв, что рядом с ним князь.
— Сюды бей, сюды, — отходя так же быстро, как и вспыхнул, постучал он по пластине молоточком.
Понравился Морхиня князю, в кузне, у жаркого огня, отлетали прочь тревожившие его с утра недобрые мысли. И все больше утверждался он в правоте замысленного и содеянного. И выплавлялось из хаоса мыслей: объятая пожарами Русь, распластанная как этот меч под ударами молота. И выйдет она из горнила краше прежнего — голубою сталью сверкнет в глаза заносчивому чужеземцу. А пришелец думал из своего далека: лепят на Руси горшки, обжигают в печах податливую глину…
Вбежал с сияющими глазами юнота, посланный Морхиней, онемев от восторга, протянул князю в обеих руках тяжелый меч.
— Вот мой тебе подарок. Не обижай отказом, возьми, княже, — сказал, отрываясь от работы, Морхиня. — А вместе с подарком низкий тебе поклон. Не в одной дружине — и в наших руках сила твоя. Сослужит добрую службу сей меч — вспомнишь володимирского коваля.
— Спасибо тебе, коваль, — растрогался Всеволод, принимая подарок. — И за дорогой подарок спасибо, а еще боле — на добром слове.
Объехал Всеволод до полудня почти всю ремесленную слободу: побывал и у городников [39], и у мостников [40], и у древоделов [41], заглянул к стеклянникам, бочечникам, судовщикам и опонникам [42]. Все ему были рады, всюду показывали свое умение и мастерство.
Вечером он пир пировал со своей дружиной. Ласков был и добр — многим сам подносил чашу с вином, одарял мехами и золотом.
Глава вторая
1
Спроси любого во Владимире: кто не знал бывшего заморского купца Веселицу?
Славный был купец, отчаянный — хаживал он с товаром за тридевять земель и всегда возвращался с прибытком. Такой уж был он удачливый: там, где другой берет ногату [43] и рад, Веселица возьмет гривну. И не шибко старался — счастье само его искало. Двор его был не то чтобы самый большой во Владимире (у иных купцов хоромы тягались с боярскими), а ладный: стулья [44] под избой из крепкого дуба, чело [45] любовно украшено резьбой, по углам аккуратно выдолбленные потоки [46], резные подзоры [47] и полотенца [48] останавливали изумленных прохожих; останавливались прохожие перед избой, дивились, покачивали головами. А Веселица поглядывал на них из оконца и улыбался от счастья, в гости зазывал, угощал щедро, ни медов ни яств для добрых людей не жалел.
Самый веселый дом во Владимире был у Веселицы: с утра до вечера толпились на его дворе скоморохи, для убогого и сирого было здесь надежное пристанище.
Разносили гусляры славу о Веселице, девки заглядывались на него, смущенно вспыхивали, встречаясь с купцом на улице. И многих из них одаривал Веселица своим вниманием.
Собирал молодой купец в тереме друзей, пил с ними привезенные издалека сладкие вина, добродушно слушал их похвальбу, полуприкрыв глаза, накручивал на палец черный ус. Водил друзей по дому, показывал погреба и скотницы. Ничего не таил от людей и не ведал еще тогда, что приглядывается к нему боярин Одноок, паучьим взглядом оценивает выставленное напоказ добро.
Хоть и тучен боярин и неповоротлив с виду, да слуги у него поворотливее поворотливого: все выведают и в точности донесут боярину.
Примечал Веселица на пирах в своей избе незнакомых мужичков, но разве могло прийти ему в голову, что каждый круг воска, каждая беличья шкурка и каждый мешок зерна занесены уж Однооком в секретную перепись и что по переписи той выходило: нет у молодого купца за душой ни резаны, а как надумает он отправиться с обозом на далекие края, тут ему и не обойтись без оборотистого и ловкого боярина. Через подставных лиц ссужал боярин деньги под товар, договор скреплял крестоцелованием в присутствии посадника.
Время быстро течет, это только кажется, что с утра до вечера без конца. У Веселицы же за пирами и громкими забавами текло и того быстрее.
И вот уж стоял он в терему у Одноока, ждал, когда проснется боярин, мял в руках лисью шапку.
Не спешил резоимец [49], давал помучиться молодому купцу, с коварной усмешкой поглядывал на него в дверную щель. Вышел к полудню, рыгая от обильной трапезы, с удивлением рассматривая гостя: а это кто, мол, такой, почто пожаловал не зван?
— Не прогневись, отец мой, что оторвал тебя от важных дел, — униженно обратился к нему Веселица, — а без твоей подмоги мне ноне никак не обойтись…
— О чем тужишь? — успокоил купца Одноок. — Слава о тебе идет по всему городу, и в тереме моем ты — желанный гость. Садись да сказывай, какая одолела тебя кручина.
Сел Веселица, долго не тянул, хоть и сказывал по обычаю степенно. Внимательно выслушал его боярин, покачал головой.
— Знал ты, к кому идти, купец. Не тужи. Деньгами я тебя выручу, велю открыть заветную кубышку, а ты мне вернешь все, до третьего реза [50], а ежели не вернешь, то взыщет с тебя посадник, как и записано будет в книге…
На том и били по рукам. И счастливый Веселица отправился с обозом, а Одноок прикинул, сколько выручит с товара. Богато выходило — молодой купец любил размах.
А вернулся из дальних краев ни с чем. Приехали боярские людишки на двор к купцу, стали отбирать и складывать в возы собольи меха, грузиться воском и медом. А посадник следил, чтобы все было по сговору. Две лишние лисьи шкурки прихватил Одноок — пришлось вернуть. Да не шибко убивался по ним боярин.
— Приходи еще, Веселица, — прощаясь, сказал он молодому купцу. — Авось в другой раз повезет. Счастье переменчиво.
Но и в другой раз не повезло Веселице. И так раз от разу все меньше и меньше оставалось в его скотницах добра; все больше и больше становилось добра в скотницах у боярина.
Скоро совсем уж нечем стало купцу торговать. Поутихли на его дворе пиры, нищие и те обходили стороной: что возьмешь у задолжавшего боярину изгоя [51]?!
Настал день, когда и саму избу взял за долги Одноок, выгнал Веселицу.
— Прощай, купец, не поминай лихом. Отвернулось от тебя счастье — назад не воротишь.
— Пустил ты меня по миру, отец мой, — грустно сказал Веселица и отправился жаловаться на Одноока посаднику. Но посадник, хоть и был ему молодой купец по душе, ничем не смог помочь. Только и присоветовал:
— Поклонись еще раз боярину. Может, смягчится, может, и оставит избу, а по книгам выходит, что правда на его стороне…
Горд был Веселица, к боярину кланяться не пошел, а вырыл себе землянку на окраине посада под берегом у Клязьмы и стал побираться с нищими у Золотых ворот.
Видя бывшего удачливого купца грязного и в рубище, нищие потешались над ним:
— А каково попировал, Веселица?
— Не кажной реке своим устьем в море впасть. Мелок ты на быстринке. Вот тебя Одноок всего и вычерпал.
А по вечерам, деля добычу, били его и отбирали последние медяки. Плакал Веселица ночами в своей землянке, копил в себе злобу. Хмурым сделался и неразговорчивым.
Стали его нищие побаиваться. А после того, как погладил он суковатой палкой одного из их собратьев, и вовсе перебрались из-под Золотых ворот поближе к детинцу.
— Страхолюд, а не человек, — говорили про Веселицу в городе. Матери пугали им своих детей: «Нишкните, не то позову Веселицу!», и дети испуганно затихали.
Дочери богатых купцов, коих звал он, бывало, к себе на пиры, нынче, проезжая мимо, глядели в другую сторону. Горько думал Веселица: «С высока полета вскружилась голова. Ходил с перышком в хвосте, да выщипали». Никому теперь он был не нужен.
2
Ночью отшумела над Клязьмой гроза. Лежа на рубище в своей землянке, Веселица вздрагивал, просыпался и, крестясь, вглядывался в темноту.
Крупный дождь пробил верх землянки, и грязные потоки его, журча, сбегали по откосу. Река внизу ворочалась и плескалась в берега, в кустах шуршало и хлюпало.
Протянув руку, Веселица почувствовал, как она погрузилась во что-то мягкое и теплое, лежавшее на рядне под самым его боком. Мягкое шевельнулось, во тьме блеснули два зеленых глаза, послышалось уютное урчанье. Перепугавшийся было Веселица облегченно вздохнул и вспомнил, как, возвращаясь вечером домой, подобрал на перевозе выброшенного кем-то грязного кота.
Кот упруго выпрямился под его ладонью и, тыкаясь холодным влажным носом, полез под рядно. В землянке было сыро и холодно.
Веселице не хотелось вставать, но и лежать ему тоже надоело. Помедлив, он все-таки поднялся, ступая босыми ногами по склизкому полу, подошел к выходу, откинув мешковину, выглянул из землянки.
На склоне горы бушевала вода; у перевоза метались огни факелов, грудились трудно различимые фигуры людей, доносился гул голосов, всполошные крики баб.
«Что-то случилось», — подумал Веселица. Торопливо намотав онучи и подвязав на щиколотках лапти, выскочил из землянки.
Мужики, подбадривая друг друга, тащили из воды крючьями груду какого-то тряпья. Из груды торчали безвольно свесившиеся ноги, голова утопленника была облеплена мокрыми листьями.
Веселица кинулся помогать, но его оттолкнули. Из толпы вырвалась молодуха, заголосила, упав грудью на мертвое тело. Мужики стояли, понурившись, бабы всхлипывали, прикрывая рты платками.
— Сказывают, богатый был купец, — проговорил над ухом Веселицы приглушенный волнением голос. Веселица узнал в говорившем кузнеца Морхиню.
— Да чо понесло его в этакую пору на перевоз? — спросил кто-то.
— Домой поспешал, — пояснил Морхиня, — оскользнулся, должно, ударился о бревно темечком. Перевозчики-то и подняли сполох…
Веселица склонился над телом и тут же отпрянул: в утопленнике он признал Вукола, купца, с которым и сам не раз хаживал торговать, — все так, не соврал Морхиня.
— Мир праху его, — пробормотал, быстро перекрестившись, Веселица. Мужики вокруг тоже перекрестились. Глядя на Веселицу, Морхиня сказал:
— А тебя я, кажись, где-то встречал?
— Вместе меды-брагу пили, — неохотно отозвался Веселица. — Пусти-ко, недосуг мне.
— Э, нет, — попридержал его за рукав Морхиня.
— Пусти…
— Почто бежишь?
— Уж не ентот ли купчишку стукнул? — послышались голоса.
— Он и есть…
— Экой прыткой. Держи-ко его, кузнец, да покрепче.
— Дурни, — сказал с миролюбием в голосе Морхиня. — Аль Веселицу не признали?
— А и верно, — тут же поутихли вокруг. — Веселица и есть. Ты что здесь делаешь, Веселица? — спрашивали с участием, потому что среди простого владимирского люда бывший купец слыл блаженным.
— Услышал, как егозитесь. Вот и прибег поглядеть…
— Жаль купца, — сказал Морхиня, провожая взглядом мужиков, тащивших в гору утопленника.
«Меня никто не жалеет», — с горечью подумал Веселица и собрался уходить. Но тут поднялся все это время сидевший на опрокинутой вверх днищем долбленке [52] человек в грязном, с подвернутыми до локтя рукавами зипуне, тронул его за плечо.
— Постой, Веселица. И ты постой, кузнец, — проговорил он сдавленным голосом. — Вуколу мы уж ничем не поможем, а мой струг стоит на исаде [53] совсем недалече. Помянем раба божьего по нашему старому обычаю. Прибыл я недавно от булгар, есть у меня и меды и сидша [54]. А зовут меня Гостятой…
— Ежели так, — сказал Морхиня, — то вот мы с тобой. Веди на свой струг.
Исад в ту пору находился у самых Волжских ворот. Кроме струга Гостяты было там еще много других лодей, больших и малых.
Дождь поутих, забрезжил рассвет. Гостята проводил Морхиню с Веселицей в лодейную избу [55], а сам удалился.
«Богатый купец, — подумал о Гостяте Веселица. — Ишь какая изба. Иконы в золотых и серебряных окладах, на лавках ковры…» Но хоть и знал он всех купцов во Владимире наперечет, а Гостяты не припоминал.
Дверь, ведущая в избу, скрипнула, появились люди. Тихо, со скорбными лицами стали рассаживаться по лавкам.
«Вот Спас, а вот Нехорошка», — дивился Веселица старым знакомым. Многие из них в прежние-то, светлые, времена бывали в его дому завсегдатаями. После того, как разорился, перестали его признавать, — нынче же снова кланялись с уважением, как и Морхине.
Кормщики внесли братины [56] с медом, на столе появились блюда с мясом, серебряные кубки. Вошел Гостята и сел во главе стола. Присутствующие все так же молча разлили черпачками мед. Подняли кубки, выпили, зашевелились на лавках, стали поминать Вукола — говорили, кто что знал, и все хорошее. Вздыхали, покачивали головами.
По мере того как пустели братины, беседа становилась оживленнее. Порозовели лица, заблестели глаза.
Веселица ел с жадностью — давно уж не сиживал он за таким изобильным столом. Таясь от соседей, прятал за пазуху куски мяса и обглоданные кости — себе и коту, облизывал жирные пальцы, счастливо улыбался и прислушивался к общей беседе.
Купцы — народ бывалый. Все, что ни творится на белом свете, — все им ведомо. Говорили наперебой.
— Пришел я нонешней весною в Галич, — степенно сказывал Нехорошка, — вокруг смятение. А почто, спрашиваю? Беда, говорят, зять великого князя киевского Рюрика — Роман — сызнова ищет над нами старшинства, сносится с изгнанным из Польши князем Мечиславом, потакает ему в борьбе против Лешки, малолетнего сына умершего в прошлом году Казимира Справедливого. Поставили бояре над собою Лешку, потому как много бед и невинно пролитой крови стоил им Мечислав… А Роман себе на уме. Шлет к Владимиру галицкому ласковые письма, уверяет в дружбе, но как ему верить, ежели уж однажды садился он на стол в Галиче, да не удержался — ныне, знать, снова замыслил неладное. Хоть и не в ссоре Мечислав с Владимиром, но коварству Романову нет границ…
— То, что ты о Романе сказывал, все правда, — вступил в беседу неторопливый и рассудительный Спас. — Знавал я сего князя и ране. Завистлив он и невоздержан. И ежели бы не угорский король Бела, который поддержал бежавшего к нему с сыновьями, золотом и дружиною Владимира, сидел бы и поныне Роман на галицком столе. А как бы это для Галича обернулось, одному богу известно. Но добра бы с ним галичане все равно не нажили — то верно. Однако, сдается мне, иные у Романа задумки…
Спас отпил из кубка сладкого меду, провел ладонью по бороде и, будто забыв про только что сказанное, уставился на стену перед собой отрешенным взглядом.
— Что-то не договариваешь ты, купец, — сказал со своего конца стола Гостята. — Коли уж начал, то не томи. Кое-что и я слыхивал о Романе…
— Сидит он нынче на Волыни, яко ястреб, — усмехнулся Нехорошка, — головой крутит, глядит далече.
— У всех князей одно на уме, — встревоженно заговорили купцы. — И за Владимира галицкого ты не заступайся, Нехорошка. Владимир, хоть и князь, а все равно не радетель — привел угров [57] с собой… Не то землю будут ему угры орать [58]? Не простаки, чай. Пожировал Бела в Галиче и ушел восвояси — вот и весь сказ.
— Я о Романе, — обидчиво сказал Нехорошка.
— А вот послухайте-ко, купцы, — склонился над столом Спас. — Слово мое верное, сам недавно из Киева. Помер великий князь Святослав (про то вам ведомо), и Рюрик поделил землю русскую промеж родичей. Самый жирный кусок Роману достался…
— Да ну?! — раздались голоса.
— Знать, шибко любит Рюрик свово зятя.
— Для дочери старается…
— Может, так, а может, что и другое, — сказал Спас. — Только отдал Рюрик Роману (и Давыд с ним согласился) лучшие города в земле Черных Клобуков [59]. Торческ, Триполь, Корсунь, Богуслав и Канев — все по границе со степью.
— Славные города, — кивнул Гостята. — Хаживал я в тех краях. Земли богатые, плодородные… Эвона какой кусище отхватил волынский князь! И верно, нынче Роману не до Галича.
Новость всех поразила. Поразила она и Нехорошку, затеявшего разговор. Однако он быстро оправился:
— Новость твоя поистине удивительна, Спас. Дошла ли уж она до Всеволода, не ведаю, кажись, твои гонцы быстрее Князевых. Но только сдается мне, что не конец это, а начало большой беды.
— Не каркай, Нехорошка, — оборвал его Гостята. — Нешто не рад ты, что восстановились на нашей земле мир и согласие?..
— О каком согласии ведешь ты речь? — осерчал Нехорошка. — Разве не известно тебе, что ни одно дело не решается отныне без ведома владимирского князя? А Рюрик в гордыне своей вершил все с одним только Давыдом. Не-ет, не обойтись им без Всеволода — нрав у него крутой, рука тяжелая. Не поступится он своим правом. И городов, кои назвал ты, Спас, Роману не видать. Вот и выходит, что радоваться ему рано…
Дальше серьезная беседа не клеилась. Приуныли купцы, чаще застучали черпаками о края братины. Кормщики едва поспевали носить меды и вина.
Веселица пьянел быстро. Сидевший рядом с ним Морхиня прилежно следил, чтобы чара его была полна.
Кто-то вспомнил про Одноока. Снова расшумелись купцы. Многие из них уже сидели в сетях у оборотистого боярина. Стали жалеть Веселицу. Лезли к нему целоваться.
Морхиня говорил:
— Загубил паук добра молодца. А каков был купец!
— Он и до вас доберется, — мрачно предсказал Нехорошка.
Спас возразил:
— Неча слюни развешивать. Веселица сам виноват. У доброго купца не то что куна — каждая резана на счету. Гулял-веселился — вот и по миру пошел. Для нашего купеческого братства сие — великий позор.
— Позорить ты молодец, — пожурил Спаса Гостята. — Сам прижимист, так другим не указ.
— Эка радетель какой нашелся! — вскинулся Спас. — А коли такой ты добрый, то и отдай ему половину товара. Поглядишь, как наторгует, — сам пойдешь без портков…
— Цыц вы! — прикрикнул Нехорошка, который хоть и был в гостях, но считал себя здесь за старшего. — Аль позабыли, почто меды пьем?
— Кто позабыл? — заворчали купцы. — Ты первый и позабыл, а мы поминаем Вукола.
И снова стали пить, истово крестя лбы.
Веселица совсем одурел от меда. Спасовы упреки чудовищно роились в его разгоряченном мозгу. Сидевший напротив него лысый купец все больше походил на Одноока — Веселица мотал головой, стряхивая наваждение, но образ резоимца неотступно стоял перед глазами. За столом снова завязалась беседа, отдельные слова сливались в ушах Веселицы в сплошной гул.
Неожиданно гул оборвался.
Веселица вскочил из-за стола и, опрокидывая посуду, бросился по сходням со струга.
Всполошившиеся купцы, крича и размахивая руками, сгрудились на палубе.
3
Попарившись в баньке, боярин Одноок отдыхал в исподнем, сидя на лавке в горнице. Красное одутловатое лицо его с большим крупным носом и блеклыми, навыкате, глазами было все в крупных горошинах пота. Расставив толстые ноги, боярин пил квас, чмокал губами и жмурился. Неподалеку от двери стоял, полусогнувшись, тощий мужичонка со сбитой набок пегой бородой и нудливо читал по свитку:
— А Есифа, бежавшего с починка холопа твово, схватили и доставили на двор и секли, как велено было, и оный Есиф кричал, что-де был не один, а с Димитром, подстрекавшим его идти в Новеград. А Димитр тот мостник и вину свою отрицает: мол, о Есифе и слыхом не слыхивал, а все это злой наговор. Как прикажешь быть, боярин?
— Что сказывают послухи [60]?
— Послухи показывают, Димитр-де был пьян, что говорил, не помнит. А Есиф повадился в ремесленную слободу, хотя и не зван. И долга за ним тебе, боярин, две резаны.
Лицо Одноока посуровело.
— А ты куды глядишь, нечестивец? — накинулся он на тиуна. — Почто позволяешь непотребное? Этак-то и вовсе пустишь меня по миру с сумой: Есифу резану простишь, другому, глядишь, и гривну. Не за то я ставил тебя, что ликом смирен, а чтобы глядел за моим добром… Ну, как повелю я тебе всыпать батогов — в другой раз будешь сноровистее…
— Помилуй, батюшка! — упал на колени тиун. — Не оставляй меня своей милостью. Должок за Есифом не пропадет — все как есть верну в твою скотницу по осени. Три шкуры спущу с холопа, куды ему от меня деться?..
Одноок, попыхтев, важно кивнул:
— Читай дале. Почто поперхнулся?
— Жду твоего повеления, боярин.
— Читай, читай.
Сидел боярин на лавке, попивал квасок, благодушно слушал тиуна. Одолевала его истома. Но из того, что сказывал тиун, не пропускал ни слова. Радовался: что ни день, то прибыток, что ни сказ, то гривна али ногата. Хорошо повернулись его дела, опять же резы — надоумил его господь, знать, полюбил за скромность и набожный нрав: дал гривну купчишке — и гривну вернул, и еще полгривны. Другие-то бояре знай веселятся на князевой охоте, пиры пируют, а Одноок меды пьет только по праздникам; у других-то — на полах ковры из Трапезунда, парчовые занавеси, посуда из золота и серебра, а у боярина Одноока по всему терему — домотканые половички, на столах — деревянные мисы: почто ему снашивать ковры, почто слизывать золото с чар: то, что вытоптал да слизал назад не вернешь, в оборот не пустишь… Корят его иные бояре да дружинники: холопы, мол, у Одноока пообносились — дыра на дыре, а на что холопу праздничное платье — баловство одно! А от баловства разные мысли заводятся, от баловства опять же пьянство — угодно ли сие богу?…
Подумав так, Одноок тяжело поднялся с лавки и, повернувшись лицом к иконе, размашисто перекрестился. Тиун попятился, толкнул задом дверь и исчез в темном переходе.
Одноок накинул на плечи потертый кожух, вышел вслед за тиуном на крыльцо. Еще в сенях он услышал на дворе крики мужиков и скрип колес. Так тоже было заведено уже много лет: за полдень съезжались на боярский двор обозники.
Поглядев, как сгружали с возов добро, как набивали и без того полные скотницы, Одноок подумал, что пора приглашать мастеров — рубить новые срубы: бочонки с мукой, меха и воск не помещались под старыми крышами. Когда ставил он новый терем, и в мыслях не было, что потекут к нему со всех концов земли владимирской золотые и серебряные реки. Только нынче понял, как много еще на Руси простаков — душа-то у народа широка, нрав-то веселый, сердце-то доверчивое, все стерпит, всему найдет оправдание и достойную причину, покуда рука сама не потянется за топором. Но пока дело до топора не дошло (а дойдет — и это не страшно Однооку: стоят на страже его добра из рук его кормленные и поенные мужички), будет он рубить новые одрины [61] и на дубовые крепкие створы ворот вешать пудовые новгородские замки: попробуй сбить — все кулаки расшибешь… Нет, прочно держался на земле Одноок, страхами себя по ночам не изводил, тело не иссушал раскаяньем. А если и грустил иногда, то оттого только, что помирал задолжавший купчишка или не возвращался из похода дружинник, взявший у него в долг, чтобы купить своей милой украшенные драгоценными каменьями подвески, — такие дни выпадали боярину не часто. И еще грустил Одноок, что сын Звездан весь вышел в мать — такой же иконописный и тихий. Ему бы невесту сыскать — чтобы с приданым, да чтобы крутого нраву: бабы, они норовисты, а ежели попадет с огоньком да с норовом, то и Одноок тут как тут — глядишь, вместе-то его и приберут к рукам, научат железной хватке.
Солнце слепило боярину глаза. Гримасничая и жмурясь, Одноок покрикивал на обозников:
— Полегче, полегче, мужики! Небось не камни таскаете, небось не глину в мешках!..
— Ты, боярин, не боись, — отвечали обозники. — Все сделаем справно. Не впервой…
— Как же, — ворчал боярин, — за вами только недогляди. На прошлой неделе пшенички полкади просыпали — мне-то каково?
— Твои же курочки поклевали….
— Как же, а то воробьи окаянные и повадились на двор. За воробьями-то не набегаешься. Так по зернышку, по зернышку… Сколь зернышек за год склюют?..
Не-ет, за мужиками глаз да глаз нужен. Одноок спустился с крыльца.
— Онаний! — закричал он пронзительно, призывая тиуна. — Онаний, где ты, слышь-ко?
— Тута я! — выскочил из подклета [62] тиун. — Почто кличешь, боярин?
— Ты, Онаний, в подклете с девками не прохлаждайся, — выговорил Одноок. — Ты за мужиками гляди. На прошлой неделе воробьи зерно склевали… Что-то обозники мне не по душе — народ шибко веселый.
— Пущай веселятся.
— Я те повеселюсь! — сердито прикрикнул Одноок.
Тиун побледнел и мелкой рысцой затрусил к возам.
Тут в воротах случилась заминка.
— Эй, кто там? — повернулся на шум боярин.
Побросав мешки, обозники кинулись врассыпную, Онаний юркнул под телегу, а сам Одноок так и обмер: прямо на него через двор шагал, нетвердо держась на ногах, Веселица, и в руке его, откинутой за спину, угрожающе поблескивал топор…
Боярин беспомощно оглянулся: скуластая повариха высунулась из подклета, пискнула и с грохотом захлопнула дверь, до скотниц было далеко (а там-то крепкие ворота — их и за неделю не прошибешь!). Двор опустел, и, пятясь под прилипчивым взглядом Веселицы, Одноок чувствовал, как медленно деревенеет все его тело.
И уж встали дыбом редкие волосы на голове боярина, уж занес над его головой свой сверкающий топор Веселица, как вдруг со всхода коршуном свалилась на двор старая клетница Макрина, с воплем кинулась навстречу Веселице, и Одноок бросил свое многопудовое тело к подклету, рванул на себя дверь, впихнул животом в подклет заверещавшую повариху.
— Щеколду-то, щеколду! — завопил не своим голосом. И тут же без сил повалился на пол.
Один только этот миг и спас боярина.
Оттолкнув Макрину, бросился за ним вслед Веселица к подклету, но дверь уж была заперта.
— Выходи, боярин! — неистовствовал Веселица, ударяя в дверь топором.
Щепки летели от двери, но недаром Одноок сам подбирал на свой терем дубовые плахи. Выдержали они приступ, не подвели боярина, а то бы не жить ему на этом свете.
Долго еще буйствовал во дворе Веселица. Разогнал мужиков по углам. А после сел, обессилев, на нижний приступок крыльца и вроде бы задремал.
Тут-то и накинулись на него осмелевшие боярские слуги. Били батогами и кольями, пинали ногами и плевали в лицо. И не защищался Веселица, ни на кого из слуг не поднял руки.
Выбравшийся из подклета боярин ругался громче всех и топал ногами. Но и на него не взглянул Веселица.
А когда он потерял сознание, бросили его в телегу, отвезли за Лыбедь и оставили там под речным откосом — подыхать.
— Собаке — собачья смерть, — сказал Одноок.
От страха у него до самого вечера дрожали коленки…
Глава третья
1
Поделив со Святославом великое киевское княжение, Рюрик Ростиславович долгих двенадцать лет жил тайной мечтою: единовластно утвердиться на берегах могучего Днепра. Святослав был стар и хвор, но дни тянулись за днями, шли годы, а князь не спешил умирать. Когда же свершилось, когда же после долгого ожидания, казалось бы, все препятствия остались позади и можно было наслаждаться, сидя над всеми князьями на киевской Горе, когда отшумели богатые пиры и все князья, принимавшие в них участие, разъехались с богатыми дарами, могучий владимиро-суздальский князь Всеволод Юрьевич покачнул под Рюриком высокий стол.
И сразу померкла недолгая радость. Приуныл Рюрик, к дружине не выходил, все дни проводил в ложнице, глядя потухшими глазами на пасмурные лики святых. На что уж был податлив на ласки жены своей Анны, но тут и ее выпроводил за порог:
— Не до тебя мне ныне.
— Ты бы с дружиной посоветовался, призвал бояр, — со слезой в голосе уговаривала его жена. — Сходи к митрополиту…
— Отстань.
— На себя-то погляди. Почернел весь, сошел с лица.
— Отстань, — приподнялся с лавки князь. — Эко взялась твердить одно и то же — кшить!
Завывая в голос, вышла Анна за дверь, прислонилась к косяку:
— Господи, услышь мои молитвы, не лишай ты князя разума. Смири гордыню его, смягчи сердце…
«Крепко держит нас всех владимирский князь, — рассуждал Рюрик наедине с собою. — Все кормимся с рук его. По праву-то старшинства и киевский стол Всеволодов. И города, отданные мною Роману, Всеволоду не нужны, а замыслил он поссорить меня с зятем».
Три дня не показывался князь из терема, удивляя дружину, на четвертый отправился к митрополиту.
Никифор выслушал его внимательно и так ему сказал:
— Послушайся меня, князь. Ежели не уступишь Всеволоду, добра не жди. Пошли немедля гонца к Роману и все ему объясни. Дай ему другие города.
— Осерчает Роман.
— С Романом ты всегда договоришься, а Всеволода тебе не уговорить. И зря надумали вы с Давыдом, не спросясь у Всеволода, делить Русскую землю. Верь мне, нет на Руси сильнее владимирского князя. Не послушаешься его — потеряешь Киев и вовсе останешься без удела…
Вечером собрал Рюрик дружину, пригласил Словишу и в его присутствии объявил о своем решении.
Бояре роптали, но Рюрик оборвал их:
— Брат мой, владимирский князь, помог мне сесть на киевском столе. Так отплачу ли ему за содеянное черной неблагодарностью? Ослепила нас с Давыдом гордыня, так нынче хочу исправить ошибку.
С радостным сердцем спешил Словиша донести до Всеволода добрую весть. Скакал, загоняя коней, вдоволь не ел, сладко не спал, выпрыгнул из седла у дворцового всхода, взбежал в сени, весь серый от дорожной пыли, а Всеволод, стоявший на коленях перед иконами, выслушал гонца в пол-уха, даже головы не повернув в его сторону.
Да и что нового мог ему сказать Словиша — и так уж все знал князь наперед. Тогда еще знал, когда снаряжал в Киев с грамотой верного человека. Знал он и то, что будет после, о чем не догадывались ни Словиша, ни Кузьма Ратьшич, ни Рюрик и ни Роман. Тайно родился в голове Всеволода верный замысел — в тайне до времени и останется: не возьмет он городов, отнятых у Романа для своих сыновей, пошлет в них посадников, а Торческ из своих рук отдаст сыну Рюрика Ростиславу. И посеет вражду и недоверие между самыми сильными и опасными князьями, чтобы самому еще тверже стоять на Руси. Давно уж понял он: зря взывать к совести и разуму князей, одними призывами Русь не сплотить, увещеваниями алчности их не пресечь (на что уж словоохотлив был Святослав Всеволодович, а нынче кто вспомнит его добрым словом? Да и то, если правду говорить, сам был жаден и хитер)…
Когда захлопнулась дверь за Словишей, истово перекрестился Всеволод. И на сей раз надоумил господь: нынче Киев ему не страшен — то-то взбесится Роман, прослышав новую весть, то-то ополчится против Рюрика. А Всеволоду только того и нужно. Скупо сказывают старики, а вернее не скажешь: разум — душе во спасение, богу на славу. Аминь.
Выйдя от Всеволода, обескураженный Словиша остановился на крыльце: ехал — радовался, хорошо-де справил князево поручение, а теперь и не в догадку — никак, осерчал на него князь (откуда было знать ему, что только что подумал Всеволод о его преданности и решил заутра пожаловать деревеньку под Суздалем?).
Почесал дружинник пятерней за ухом, хлестнул плетью по голенищам сапог и направился к коновязи, как откуда ни возьмись вывернулся навстречу ему из-за ворот сын боярина Одноока Звездан.
Остановил его Словиша радостным окриком, обнял за плечи.
— Вовсе забыл ты старых друзей, Звездан. Идешь, в землю глядишь, вроде меня и не замечаешь.
Был Звездан недавно взят во Всеволодову дружину, но Словиша приметил его сразу: не хвастлив, не норовит князю попасть на глаза, в седле держится ловко, смелости ему не занимать. Одно только смущало: молчалив, тих, в княжеских пирах воздержан. Но зато книжной премудрости хватит и на десятерых. Бывало, в лесу на привале начнет такое рассказывать, что и у старых воев рты сами по себе раскрываются: да неужто все это случается на свете?
Увидев Словишу, Звездан разулыбался, стал виновато оправдываться: шел-де от батюшки с тяжкой думой, снова скаредничает Одноок, стыдно ему за отца перед дружинниками. А вчера побил он до смерти Веселицу — сегодня ходит мрачнее тучи, все мерещится ему, будто пригляделись к его усадьбе лихие люди, задумав дурное, хотят взломать бретьяницы [63]. На Звездана кричал, грозился спалить ларец с книгами…
— Да, — сказал Словиша, — суров Одноок. Только ты, Звездан, не робей. Ежели что, пожалуемся князю — Всеволод за тебя вступится.
— Дело ли это — ходить ко князю с жалобами на отца? — испугался Звездан, отстраняясь от Словиши.
— Экой же ты еще молодой да доверчивый, — успокоил его дружинник. — Ну, коли не хочешь, быть по сему. А думу свою брось, по-пустому не отчаивайся. Пойдем ко мне в гости.
— Отчего ж не пойти, — согласился Звездан. Словиша тоже нравился ему: был он хоть и близок ко князю, а близостью своей не кичился; в словах неразборчив, зато умен. И себя защитить сумеет, и слабого в обиду не даст.
Поехали с княжеского двора верхами. По дороге, лениво подергивая коня за узду, Словиша рассказывал о поездке в Киев.
Звездан завидовал ему, то и дело перебивал его речь вопросами. Самому-то ему еще не доводилось надолго покидать отчий дом, а ежели и отъезжал с князем на охоту, то все в своих же лесах — вокруг-то Владимира знал он каждую тропку и каждое болотце. Но уж очень хотелось взглянуть на мир. Много дорог пролегло по земле; а чтобы по каждой проехать, не хватит, поди, и трех жизней.
Словиша искоса поглядывал на него: золотое время — молодые лета. Молодо-зелено, погулять велено.
— Хочешь, замолвлю за тебя словечко? — вдруг предложил он. — Покажешь прыть — станешь у князя на виду.
Но со Звезданом шутки плохи: сразу уловил он в речах Словиши усмешку.
— Буде потешаться-то…
— Не серчай, — успокоил его Словиша. И, помолчав, спросил:
— Ну а коли вправду?
— Вправду-то? — прищурился Звездан, прямо глядя перед собой. — Вправду-то сразу и не скажешь… Да и невзлюбишь ты меня, Словиша, ежели правду скажу.
— Это почто же? — удивился дружинник, и в голосе его послышалась обида. — Аль не в радость тебе служба у князя?
— Чего ж в радость-то? — сказал Звездан. — Сам разве ничего не видишь? Признаться себе стыдишься?
— Мне стыдиться нечего, — нахмурился Словиша. — Князю я служу верой и правдой, и уже много лет. И обиды на него не знаю никакой…
Сказав так, он вдруг вспомнил, как торопился с доброй вестью из Киева и как сухо принял его Всеволод. Больно защемило сердце.
Звездан заметил быструю перемену, происшедшую с дружинником, но понял ее по-своему.
— Окружил себя князь наш льстецами и сребролюбцами, — сказал он. — Не по делам судит о людях, а по словам. Вот и спешат наперебой: кто слаще слово вымолвит, тот ныне и в почете, тому и гривны и первое место на пиру. Кто правду молвит, того отринет князь. Бояре алчные набивают лари свои златом, а холопы их, о коих им печись надлежает, ибо нет у них иной защиты, пухнут и мрут в деревеньках от голода. Иной-то боярин и ума худого, а в чести: приноровился ко Всеволоду, слова поперек не молвит, встречает его поклонами и улыбками. Да и сам-то князь сытного пирога не пропустит: сколь уж добрых людей пошло в разор. Воистину: не имей себе двора близ княжа двора и не держи села близ княжа села: тиун его яко огонь, и рядовичи [64] его как искры. Если от огня устережешься, то от искр не сможешь устеречься — останешься без портов… Верно ли молвлю, Словиша?
— Эк довел тебя Одноок, — покачал головой дружинник, разглядывая Звездана с недоумением. — Так ли уж плох великий князь?.. Иные, слышь, по-другому молвят, а умишком бог тоже не обошел. Собирает Всеволод Русь в единый кулак, к миру зовет князей. Оно и видно: в лихой сече не довелось тебе мечом помахать, не видел, как разваливают оскордом [65] людишек надвое. Нынче поганые в нашу сторону и путь позабыли…
— Отыщут сызнова, — сказал Звездан убежденно. — На одном Всеволоде Русь не устоит. Думцы ему нужны, преданные люди.
— Снова бояр нам на выю прочишь?
— Будто ныне на вые не сидят? Не станет Всеволода — каждый потянет в свою сторону. И пойдет опять великая смута…
Словиша, осклабившись, дернул коня за уздцы, взмахнул плеточкой.
— Как погляжу, нынче не попируем мы с тобой, Звездан, — сказал он с сожалением. — Поворачивай-ко к себе на двор, попарься в баньке — авось дурные мысли парком вышибет. А я веселиться хочу.
И ускакал к Серебряным воротам.
Звездан поглядел ему вслед, понурился: перед кем рассыпал он бисер, кому доверил сокровенное? И, тяжело вздохнув, повернул своего коня в противоположную сторону.
2
У зятя Рюрика Ростиславича, волынского князя Романа, с утра сидел в гриднице [66] боярин Твердислав, только что прибывший из Киева. Покашливая, выкладывал недобрые вести. Говорил глухим голосом, гнусавил в бороду:
— Я тебе еще когда сказывал, княже: Рюрику не верь. А ты гнал меня за порог, на думу не звал, поносил всякими словами.
Роман, подобравшись на стольце, морщился, нетерпеливо теребил длинный ус.
— Ты дело говори, боярин, — наконец оборвал он Твердислава. — Про обиды твои выслушаю после. Зачин твой был про плохие вести…
— С зачином аль без зачина, плохие они и есть, — обиделся боярин, любивший все говорить и делать обстоятельно. — Прибыл я, как велено было, в Киев…
— Ну? — снова оборвал его Роман.
Боярин вздохнул.
— Уступил ты Рюрику, — сказал он, — думал, отдаст он отобранные у тебя города Всеволоду, а Рюрик хитрил, вступил в сговор с владимирским князем…
— Что-то ходишь ты вокруг, яко лис, — усмехнулся Роман. — Никак в толк не возьму, к чему клонишь, боярин?
— Скоро поймешь, — мрачно пообещал Твердислав.
— Дале, дале, — подбодрил его Роман.
— А что дале? Отдал Рюрик твои города Всеволоду…
— То и мне ведомо, — хмыкнул Роман.
— Отдать-то отдал, и Всеволод те города принял, а после посадил в Триполь, Корсунь, Богуслав и Канев своих посадников, — одним духом выпалил боярин.
— Почто? — удивился Роман. — Ведь для сынов просил.
— То присказка, княже, а сказка еще впереди…
— Ты не про все города помянул, Твердислав, — вдруг обеспокоенно спохватился Роман.
— О том и речь, — сказал боярин. — Лучший город твой, Торческ, отдал Всеволод через свои руки Рюрикову сыну, а своему зятю Ростиславу…
— Врешь! — взревел Роман и, бледнея, вскочил со стольца.
— Вот те крест святой, — побожился Твердислав, в растерянности ища глазами икону. — Ты посуди-ко, княже: ну не хитрец ли Рюрик?! Эко что выдумал. Торческа, лучшего своего города, ты бы Ростиславу никак не уступил, сам взять его у тебя Рюрик остерегся. Зато через владимирского князя получил, что хотел.
Боярин помолчал, пристально глянул на притихшего Романа.
— Нынче, поди, все над тобой потешаются.
— Потешаются али нет, — медленно приходя в себя и понизив голос до гневного шепота, проговорил Роман, — то не твое дело, боярин. А весть ты мне принес и впрямь недобрую.
Исполненный достоинства, Твердислав встал с лавки и медленно приблизился к стольцу. Выставив перед собой посох, сказал:
— Не мне указывать тебе, княже. Но Рюрику ты своевольничать не давай…
— Сегодня же снаряжу гонца в Киев, — быстро согласился Роман.
— И скажи тестю, княже, — продолжал боярин окрепшим голосом: — «Не гоже это — заводить смуту в своем племени. Женат я на дочери твоей, а ты не блюдешь родственного союза. Что подумают о твоем своеволии и коварстве другие князья?..»
— Все так и скажу, боярин, — почти не слушая его, рассерженно кивал Роман.
— И еще скажи: «Верни мне мои города, коли хитростью их у меня отнял. Уступил я их по доброй воле, по доброй же воле беру назад. А иного мне ничего не нужно…»
Ушел боярин, гремя посохом, а зловещая тень его осталась в гриднице. Весь день до вечера буйствовал Роман. И над юной женой, Рюриковой дочерью, издевался:
— Вскарабкался отец твой на Гору, так нынче глядит не иначе как свысока. Глаза-то завидущие, руки-то загребущие. Дай срок — и Волынь под себя загребет.
— Ты батюшку не ругай, — со слезами на глазах защищала отца Рюриковна. — Доброй он.
— То-то от добра его и распирает, как квашню. Тесно стало тестюшке в Киеве.
— Не его в том вина…
— А чья же? — зло прищурил глаза Роман. — Уж не моя ли? Я клятвы не нарушал.
— Отца наперед выслушай…
— Слушал уж. Ирод клянется, Иуда лобзает, да им веры неймут!..
А вечером у Тверди слава собрались передние волынские мужи — бояре Чудинович, Судислав и Жидята.
Пир был не велик, велика была беседа. Прислуживал боярам за столом немой Оболт, обрусевший ковуй [67], привезенный еще отцом Твердислава из Чернигова. При нем бояре говорили смело.
Первым начал хозяин дома. Рассказал гостям о поездке в Киев, о встрече с Рюриком и сыном его Ростиславом.
— Крепок, зело крепок Всеволодов корень, — сказал он между прочим. — Сам Рюрик слаб духом и немочен, и Святославна ему плохая подпора. А вот Ростиславова жена, дочь Всеволода Верхуслава, вся в отца и в деда — дерзка, учена, на язык остра.
— То ж и Михалкова дочь Пребрана, — вставил Чудинович. — Владимира-то, Святославова сынка, как был он в Новограде князем, водила на коротком поводке. Даром что баба.
Похихикали бояре, выпили по чаре, закусили стерлядкой, и опять слово брал Твердислав.
— Нынче имел я беседу с Романом. — сказал он. — Не по нраву пришлось князю мое известие. Шибко осерчал он. И так я думаю, бояре. То, что ссорит Всеволод меж собою князей, то не только ему на руку… Всем нам ведомо: у Романа десница [68] тяжела, нрав крутой, и, ежели будет ему не с кем землю делить, ежели установится промеж князей согласие, нам с вами, бояре, несдобровать: начнет он наводить на Волыни порядок, прижмет нам хвосты не хуже Всеволода.
— Вот и выходит, что нет нам от мира никакой выгоды, — вставил тощий Судислав и с опаской стрельнул юркими глазками по сторонам.
— Слово твое верное, — поддержал боярина Твердислав.
— Да как же это? — не понял Жидята. — Опять же холопов сымет Роман с земли…
— Пущай, — глядя на него тяжелым взором, сказал Твердислав. — Тебе ли о холопах печись?
— Жатва на носу…
— А бабы на что? Хлебушко соберем, — хихикнул Чудинович.
Жидята обиженно замолчал, взял с блюда огурец, впился в него источенными зубами, почмокал, отер тыльной стороной ладони бороду. Больше слова от него никто не слышал.
— Набрался я, бояре, страху, как услышал, что отдает свои города Роман, — сказал Твердислав. — Гляжу на князя и глазам своим не верю. Нешто, думаю, вселился в него ангел?
— Да ну? — удивился Чудинович.
— Я ведь его, почитай, с каких лет помню. А такого отродясь не бывало. Зато, как прознал я про Всеволодову задумку, тут сразу и понял: проймет князя. Рюрику коварства его не простит. А заодно припомнит и давнюю неприязнь свою к Юрьевичам. Это ведь его отца, Мстислава, побил Андрей Боголюбский, а Киев взял на щит — не так уж мал был тогда Роман, чтобы не помнить позора. Да и другое подымет память — хоть и далеко Волынь, а руки Всеволода и до Галича дотянулись…
— Про то нам ведомо, — сказал Судислав.
Будто не слыша его, Твердислав продолжал:
— Помогла богородица — разгневался князь. А как дальше все повернется, тут и гадать нечего. Пойдет Роман на Рюрика. Вот вам мое слово…
Внимательно слушавший его Чудинович вставил недоверчиво:
— За Рюрика Всеволод вступится. Не для того забирал он города… А на Всеволода у Романа рука не подымется — уймется быстро.
— Еще когда уймется, — сказал Твердислав. — Не для того Всеволод кашу заварил, чтобы ее всю разом и расхлебали. Еще помашут ложками-то, еще набьют себе синяки да шишки.
— Ох и умен ты, боярин, — с уважительной завистью сказал Судислав. — Быть бы тебе самому князем…
— О чем толкуешь? — нахмурившись, оборвал его Твердислав. — Воистину говорят: борода выросла, а ума не вынесла. Какой же я князь?
Но лесть приятно пощекотала его. И потом, когда уж перестали судить да рядить, когда навалились на меды и яства, нет-нет да и бросал он в сторону Судислава ласковые взгляды.
Жидята, смакуя сладкую брагу, облегченно вздыхал: не по нутру ему были умные разговоры. Голова от них наливалась тяжестью, смежались веки — оттого и в думе у князя порой раздавался в уголке его тихий храп. Нынче Жидяте сон был не в руку: пока беседовали бояре, привиделось ему, будто напоил его Оболт не медом, а горьким рассолом. Со страху разомкнул он глаза как раз на том месте, когда Судислав прочил хозяина дома в князья. «Свят-свят», — мысленно перекрестился Жидята и вместо блюда с жареными гусями запустил пятерню в полную братину. Ошибки его, слава богу, никто не заметил, а то бы подняли на смех…
Кончился недолгий пир. Выпито было немного, домой бояре возвращались верхами и еще долго говорили промеж собой. Но о том, что поведал им Твердислав, не сказано было больше ни слова.
3
И Одноок, и сын его Звездан, и все из челяди, чинившей расправу, думали, что Веселица, брошенный за Лыбедью, давно уж мертв и схоронен монахами — без имени и без креста, как неведомый никому бродяга.
Но не умер Веселица от страшных ран: очнулся под откосом в густом бурьяне, окунул голову в студеную воду, напился, постонал и пополз по тропке в березовый перелесок, что вздымался у самой реки. Долго полз; вечер опустился на землю, холодными каплями росы усыпало травы, тонким белым серпиком выплыл в еще не потемневшее небо месяц. Перевернулся Веселица на спину, посмотрел вверх, и так ему жаль стало себя и всей своей загубленной жизни, что слезы сами потекли из глаз, а грудь сотрясли рыдания.
Как начиналось-то все красиво, какая дорога лежала впереди! Шагать бы да шагать ему по ней, не уставая, радоваться солнышку, птичьему щебету, вдыхать щекочущие ноздри ароматы земли; а утопил он счастье свое в вине, думал, в браге найдет желанное. Бурлил в нем хмель, а думалось: это от силы. Пели ему застольные товарищи хвалебные песни, а думалось: это от сердца. Приходили к нему на двор толпами бражники, а думалось: это друзья… Развеяло по миру его богатство — и не стало никого вокруг. Отвернулись друзья и красны девицы, опустела душа, как дом, покинутый хозяевами: наросла в углах паутина, ветры врываются в разбитые окна, знобит январская стужа, и негде отогреться — вокруг ни огонька. Лежит он с перебитыми руками-ногами на темной лесной тропе, глядит на ущербный месяц, глотает соленые слезы…
Много крови потерял Веселица, ослаб, забылся на тропе. И лежал бы он здесь до рассвета, а может, и раньше отлетело бы его последнее дыхание, но шел в ту пору по тропе отшельник Мисаил, и бежал впереди Мисаила, вертя обрубком хвоста и приподымая заднюю ногу у каждой хворостины, верный пес его и неразлучный друг Теремок.
— Экой ты надоедливый, Теремок, — добродушно выговаривал ему Мисаил. — Вот бы мне твои быстрые ноги, а то нынче в них ровно тяжесть какая небывалая. Или оттого, что с утра не было во рту ни маковой росинки? Придет время, и в тебе поубавится прыти. А пока веселись, пока твой час…
Бежал впереди доброго своего хозяина Теремок, фыркал, ероша носом траву, и вдруг остановился, тявкнул, отскочил в сторону, попятился назад, боязливо прижался к ноге Мисаила.
— Чего всполошился? — проворчал отшельник. — Аль пригрезилось что?
Вгляделся во тьму, пригнулся — нет, не пригрезилось Теремку: лежит поперек тропки человек бездыханный, ни рукой, ни ногой не шевельнет.
Склонился Мисаил над телом, приложил ухо к груди — сердце, кажись, бьется. Провел рукой по волосам — волосы липкие. «Эк надругались над человеком, — подумал он и с опаской огляделся по сторонам. Лес темный, неприветливый. — Да кто ж его так?»
Могуч был Мисаил, это старость его притомила, а силушка еще осталась в руках, — крякнул, взвалил незнакомца на плечи, поволок в свою домушку, что прилепилась на краю уремы [69], неподалеку от женского монастыря.
Осторожно опустил отшельник Веселицу на лавку, сам сел рядом, с трудом перевел дух. Отдохнув, вскипятил в котле воду, набросал в нее пахучих травок и, засучив рукава, принялся за дело. Раздел Веселицу, обмыл ссадины, положил руки и ноги в лубки, потом, когда тот очнулся, напоил его бодрящим отваром и, накинув на плечи его овчину, устроился на перекидной скамье, чтобы, ежели понадобится, быть под рукой. Так и просидел Мисаил до ранней зорьки, а чуть посерело в оконце, сидя заснул.
Не день и не два пробыл у отшельника Веселица — раны заживлялись медленно. А пока, коротая дни, вели они душеспасительные беседы.
— Ожесточился ты на мир, — терпеливо вразумлял бывшего купца Мисаил. — А про заповедь Христову забыл: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас».
— Пустое говоришь ты, старче, — отвечал Веселица. — Почто отнимаешь у меня исконное право? Не в силах возлюбить я Одноока. Лучше сердце вырву из груди, нежели прощу ему содеянное.
— Слеп ты еще, — улыбался Мисаил. — Стремишься к добру, а того не ведаешь, что зло рождает зло, а за добро не взыскуют платы. Ибо сказано: «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают».
Не ладился у них разговор, не поддавался отшельнику Веселица — люто жгло у него в груди. Сотрясая лавку, надрывался он смертельным кашлем и впадал в забытье.
И снова ухаживал за ним Мисаил, снова варил в горшках травы, смазывал раны целебными настоями, сидел по ночам у изголовья.
Полюбил он молодого купца; выслушав его историю, увидел в ней и свою жизнь.
Был и он когда-то красив и молод, и по нем когда-то вздыхали боярышни, красовался и он на лихом скакуне в дружине князя Юрия Владимировича. Да, знать, не судьба ему была, иное было начертано ему на роду. Разорил князь усадьбу его отца, и оставался Мисаилу путь один — в монастырь. Но недолго пробыл он в святой обители — и за монастырскими стенами творил игумен суд неправый, обирал чернецов и бранил их гнусной бранью. «Так есть ли в мире сем правда? — вопрошал себя Мисаил. — И почто — одному дозволено все, а другому не отпущено и самой малости?»
Было, все было. И когда восстал он против игумена, защитив униженного, никто не вступился за него, хоть только что и подстрекали его все; пряча глаза, смиренно удалились в свои кельи.
И изгнан был Мисаил из монастыря, и ходил по миру, как и Веселица, прося подаяния.
И понял он, что прошлая жизнь его была прожита зря и что, лишь духом приблизясь к Его престолу, обретет он и покой и былую веру.
Выбрал он тихое место за Лыбедью, сам срубил из бревен домушку, жил смиренно в трудах и молитвах.
Поначалу все складывалось, как задумал: надел власяницу [70], ушел от мирской суеты, никто его не беспокоил в уединении.
Но скоро пошла о нем людская молва. Раз как-то набрела на него древняя старушка, прослезилась от умиления, выслушав отшельника, рассказала соседкам; потом мать принесла свое больное дитя — выходил его Мисаил; потом остановились неподалеку на привале купцы — народ любознательный; после наехала боярская охота, а там уж все его стали узнавать; встретят на тропе — кланяются, появится Мисаил в деревне — показывают пальцами. Искушали его боярские сынки медами и брагой, зазывным смехом прельщали молодые боярышни.
Все стерпел Мисаил, устоял перед грехом. И ежели серчал поначалу, то скоро понял: послал ему господь испытание, дабы укрепить его в вере и добровольно принятом смирении.
И святость увенчала его чело, и дух возвысился над мирскою юдолью. Счастлив был Мисаил.
Но нынче, глядя на страждущего, разметавшегося в жару Веселицу, неотступно думал он: «Уж не господь ли послал ему и этого юношу?.. А что, как суждено ему и Веселицу обратить в святую веру?.. Что, как смирит он и эту плоть — зачтется ли сие на страшном суде?..»
Дни шли за днями. Веселица поправлялся.
Радовался старик: молодая кровь все переборет.
А солнце уже стояло на исходе лета.
4
В зарев [71], в самую жаркую пору жатвы, объезжала Досифея монастырские земли.
Радовали глаз игуменьи хорошо поднявшиеся в тот год хлеба. Выходила она из возка, опираясь на длинный посох, срывала колоски, растирала в ладонях, пробовала твердые зернышки на вкус.
Под синей безоблачной вышиной вызванивали в полях перепела, мужики и бабы, с трудом разгибая затекшие спины, глядели на проезжавший по пыльной дороге возок.
В деревнях игуменью встречали старосты, звали за накрытые под деревьями столы.
Разглядывая щедро выставленные пития и яства, Досифея ворчала:
— Этак-то все богатство пустите по ветру. Почто излишествуете, окаянные?
Сама она ела мало. Послушницы, сопровождавшие ее, переговаривались:
— Жадна стала матушка. Ровно мышь-полевка, все тащит в свои закрома.
Старосты удивленно разводили руками:
— Знать, у игуменьи от скупости зубы смерзлись…
Сами же елейно улыбались Досифее, покрикивая, велели слугам убирать со столов.
Дошли слухи о приезде игуменьи до других деревень. Там уж столов не накрывали, медов и яств не подавали.
И снова была недовольна Досифея:
— Сладкого не досыта. Почто встречаете меня, яко последнюю черницу, старосты? Аль не хозяйка я вам?
И несли расторопные слуги на столы лебедей и брагу. После корила игуменья послушниц:
— Мирские-то обычаи черницам не пристали. Жрете, ровно пузо дырявое. И куды в вас столько лезет?.. Вот возвернемся — наложу епитимью.
Богат был монастырь. Жаловала его княгиня Мария многими землями и угодьями, ласкала и одаривала Досифею. Ломились в монастыре от припасов кладовые, а черницы ходили в рясках латаных-перелатанных, досыта не ели, не пили, спали на досках, зимою коченели от холода.
В одной из самых дальних деревенек на Колокше встретился Досифее обоз боярина Одноока — возвращался боярин с зерном, собранным у холопов, сам восседал на последнем возу.
— Экой удачливый ты, боярин, — с завистью сказала ему игуменья. — Мужички у тебя трудолюбивые, как пчелы. Вона уж обоз наладил, а я еще не свезла в закрома ни кади [72]…
— Твое дело божеское, матушка, — хитро прищурясь, отвечал Одноок. — А я мужичкам баловаться не позволяю. Все выбил до зернышка — нынче с исада на Клязьме отправляю хлебушек в Великий Новгород…
— Надоумил бы меня, неразумную, каково получать с уборка половник, а с половника оков [73]?
— Батожком, матушка, батожком.
— Лукавишь, боярин, — улыбнулась игуменья. — С виду ты смирен и ласков, яко агнец. Неужто не жаль тебе твоих холопов?
— Холопа жалеть — самому идти в закупы [74]. Не нами сие заведено — все от бога.
— Набожен ты, боярин, — сказала Досифея. — Истинному христианину дорога прямая — в рай.
— Да и о твоем благочестии, матушка, я зело наслышан.
— Мы к богу ближе….
Так беседовали они ласково и с почтением на обочине, а солнышко подымалось все выше и выше, а когда стало припекать, Одноок велел слугам разбить на берегу реки полстницу [75] и пригласил к себе игуменью полдничать.
Тотчас же поднялась вокруг них суета, у воды запылали охватистые костры.
Под покровом просторной полстницы было прохладно: игуменья с Однооком сидели на коврах, пили квас. С берега доносилось повизгиванье послушниц: мужики озоровали, и Досифея недовольно хмурила брови.
Пока не поспел обед, слово за слово, завязался у Одноока с игуменьей доверительный разговор.
Жаловался боярин на сына своего Звездана:
— Вовсе отрок отбился от рук. Дерзит, отцовых наставлений не слушает, о князе и боярах говорит непотребно, ровно сам не боярский сын, а родился у холопа или рядовича под дырявой крышей… Все есть у добра молодца: и пуховая постель, и нарядная одежа, и обличьем не урод: боярыня-то, помилуй мя господи, какая красавица была!.
— Как же, как же, помню Радмилу, — кивала Досифея, попивая квасок. — И станом стройна, и с лица бела. А скажи-ко, померла в одночасье — почто такое, боярин? — вдруг спросила игуменья. — Поветрие разве какое?..
— Уж и забыла, матушка, — сказал, внезапно побледнев, Одноок. — В тот год многих призвал господь. Люди-то, не то что в своих домах, прямо на улицах падали…
— Припоминаю, припоминаю, — кивнула игуменья. — Да как же ты не уберег ее, красавицу нашу, боярин?
— Все во власти божьей, матушка. Ей бы, Радмилушке-то моей, сидеть-посиживать в тереме, а она привечала больных да сирых. Вот и захворала — три дня маялась, ни есть, ни пить не могла, все только молитвы шептала… Уж больно убивалась по Звездану, родименькая.
Боярин сморщился, пальцем смахнул со щеки слезу — ишь как растрогался. А Досифея слышала совсем другое. От людской молвы не спрячешься, сокровенного не утаишь. Разносили люди, будто сам боярин уморил Радмилу. Пришлась она ему не ко двору: отзывчивая была и добрая — стекались к ней со всего города калики и нищие. Кормила она их и поила, одевала и обувала — оттого и прослыла святой, оттого и невзлюбил ее Одноок. У него ведь каждая ногата на счету. Скареден был боярин, ни себя, ни близких не жалел — лишь бы набить добром свои бретьяницы да скотницы. Бил он Радмилу нещадно, в подклет сажал на хлеб и воду…
— Трудно отлетала Радмилушкина душа, — всхлипывая, ворковал Одноок. — Хоть и прошло с того дня не мало времени, а сердце и поныне кровью запекается. Жжет в груди-то, ох как жжет, матушка.
— Успокойся, боярин, — сказала игуменья. — Душа ее нынче на небесах. А то, что убиваешься, то, что жалеешь, мне ведомо: доброй ты человек, о том все говорят.
Ох, согрешила Досифея, неправду вымолвила! Слово медоточивое вылетело, а в мыслях было иное…
Но Однооку понравилась ее лесть. Он и ухом не повел, не покорежился — слезы высохли на его щеках, как ни в чем не бывало принялся поругивать Звездана:
— Экое учудил: убег с конюшим [76]со двора, а куда — не ведаю…
— Что ты такое говоришь, боярин? Куды убег Звездан? Да слыханное ли это дело!
— Куды убег, у него спроси, матушка. А только осрамил он меня на весь город. И к протопопу ходил я, и ко князю… Князь зело разгневался. Но сыскать обещал. А сыщу, сказал, отроку твоему несдобровать. Худо, совсем худо…
— Да что же ты ему такое сделал, Одноок, — пристально посмотрела на него игуменья, — что ушел твой сын из дому без отчего благословения?
— А мне отколь знать, — нахмурился боярин.
— Может, в каком монастыре объявится? — предположила Досифея.
— Может, и объявится. Князь уж послал людишек пошарить по обителям.
Говоря так, Одноок вздыхал и охал. Игуменья тоже вздыхала и охала, но про себя думала: «Не от сладкой жизни сбежал боярский сын. Знать, довел его Одноок, эко прижимистый какой. Звал гостьей быть, а угощенья пожалел».
Она оглядела накрытый слугами стол, поморщилась: мясо постное, всего на кус, в жбанах кроп [77] пожиже монастырского. Даже хлеба пожалел боярин.
Хотела уж она кликнуть своих послушниц да велеть им нести дорожные припасы, но вовремя спохватилась, а после похвалила себя за рассудительность: свой-то хлебушко еще сгодится — дорога дальняя, а боярское брюхо черевисто [78].
Так и сидели они друг против друга, попивали разбавленное теплой водою вино.
Не дождался Одноок угощенья, а думал: расщедрится игуменья. Досифея посмеивалась: «Оттого и богат боярин, что из блохи сапоги скроит. Да меня не проведешь».
Разъехались они после полудня. Свернули слуги полстницу, поклонился Одноок игуменье:
— Прощай, матушка. Дай бог тебе здоровья.
— И ты прощай, боярин. Спасибо за угощенье.
Рванули кони, взяли с места возок, покатили его к перевозу. Под скрип колес Досифея задремала.
5
Утомительная дорога в возке, верхами и на лодиях была позади. Только что прибывший из Ростова епископ Иоанн, бывший Всеволодов духовник, заступивший на место почившего в бозе дряхлого Луки, еще переодевал дорожное пропыленное платье, как в дверь постучали, и, отстраняя от прохода служку, в горницу вступил Кузьма Ратьшич.
— Входи, Кузьма, входи, — запоздало пригласил его Иоанн, оправляя полы просторной рясы и добродушно улыбаясь.
— С прибытием тебя, отче, — поклонился епископу Кузьма и тоже улыбнулся. — Шел мимо, гляжу— возок на дворе. Давненько ждали тебя, давненько. Должно, не ко времени я — притомился ты, да вот не утерпел. Дай, думаю, взгляну на Иоанна: сколь уж времени не виделись…
Епископ по-простому обнял дружинника и усадил на лавку. Глядя ему в глаза, медленно покачал головой:
— А ты все не стареешь, Кузьма. Будто время обходит тебя стороной…
— Льстишь, отче.
— Радуюсь. Старость не красные дни. Нынче ехал, думал: в былые-то годы всю дорогу от Ростова с одним привалом бы отмахал.
— Ишь, чего захотел, — засмеялся Ратьшич. — По сану тебе не пристало шибко-то гнать. Небось не отрок — духовный пастырь. Суета — дело мирское.
Говорили они так весело, потому что знакомы были давно, и годы у них были равные, и думы были одинаковые — оба служили князю Всеволоду, и Всеволодовы мысли были их мысли, и воля князя была их воля. И иной жизни они не желали.
Еще совсем недавно Кузьма ездил в Киев к митрополиту добывать Иоанну епископию. Трудное это было дело, много положил Ратьшич на него трудов и терпенья, ибо знал: от того, кто сядет в Ростове, будет зависеть многое. Сколь уж лет с благословения ростовских епископов плодилась за спиной владимирского князя боярская вражда, сколь уж раз перекидывался Великий Ростов то к Ростиславичам, то к новгородцам.
Упрям был митрополит, но и осторожен: прямо против Иоанна не высказывался, а время тянул, сносился с Рюриком. Но Рюрик был плохою ему подмогой, а до патриарха в Царьград за неделю не доскачешь.
Богатые дары привез Ратьшич от своего князя на двадцати возах — не только грозил, но и задабривал митрополита Всеволод. И еще знал митрополит, что и в Царьграде есть у владимирского князя заступа, что течет в его жилах и византийская благородная кровь, а терять свое добытое с трудом место в Киеве ему не хотелось. Да и не до Руси было в те дни патриарху: стояло у самых царьградских ворот огромное войско сумасбродных крестоносцев…
Уступил митрополит Всеволоду, утвердил Иоанна в Ростове — так и кончилась там боярская вольница.
С тех пор жил Иоанн и в Ростове и во Владимире. В Ростове больше, потому что нужен еще был там Всеволоду строгий присмотр. Нынче явился епископ к князю после более чем полуторагодовой отлучки.
В замыслы Всеволода он был посвящен и уже догадывался, с чем связана предстоящая встреча.
— Всей смуте новгородской начало — владыко Мартирий, — сказывал Иоанн засидевшемуся у него Ратьшичу. — Посадник ихний Мирошка Нездинич нам не в опаску, хотя и за ним глаз да глаз нужен. А Мартирий напорист и хитер. Бояре, что мечтают, как и прежде, сажать в Новгороде князей по своей воле, глядят на него с надеждой. Оттого и Ефросима отвергли, что был Ефросим разумен и понимал: не время нынче Новгороду ссору заводить со Всеволодом. Купцы, те уж возопили: не стало на земле порядка. И не вижу я иного исхода, как посадить князю нашему сына своего на новгородский стол, а с ним послать дружину…
— Не примут дружину в Новгороде, — выразил сомнение Ратьшич.
— Податься им некуда — примут. Ране-то, ежели что, обращались они к киевским князьям, теперь же Рюрику не до них: Роман, волынский князь, на него в великой обиде. Самое время обуздать строптивых.
— Ты князю-то про то и скажи.
— Почто же во Владимир-то я прибыл? — улыбнулся Иоанн. — И еще хочу сказать Всеволоду, чтобы поспешал. Донесли до меня верные людишки, что не без помощи Мартирия обхаживают Мирошку бояре, коим не по душе пришелся поставленный к ним Всеволодом Ярослав Владимирович, — хотят крикнуть на вече Мстислава Давыдовича. Ярослав-то тих и послушен, а Мстислава я знаю — от него иного и не жди, кроме как новой смуты — он ведь единого с Рюриком корня… Мирошке-то Нездиничу нашего бы человечка под бок. Ему ведь и тех, что за Мстислава, обидеть не хочется (как-никак, а с их помощью сделался посадником), и противу Всеволодовой воли идти опасается. А Ярослав, как смекаю я, всем не по душе…
— Любит Всеволод Ярослава…
— Знаю. Оттого и думаю, что нелегкий нам предстоит разговор.
Иоанн потер виски, решительно прошелся взад и вперед, остановился перед Ратьшичем, покачал головой.
— Мы у князя первые советчики, — сказал он. — С нас и спросится. Так почто должны мы молчать?
— Вот бы Нездинича надоумить… Нездиничу лучшего не придумать, как только что отказаться и от Ярослава, и от Мстислава також. Пусть сам и просит Всеволодова сына в Новгород. Тут уж боярам деться некуда.
— Умен ты, Кузьма, — засмеялся Иоанн. — Недаром полюбил тебя наш князь.
— Да и ты у него в чести, — сказал Ратьшич. — А что до верного человечка, то есть у меня один на примете…
— Уж не Словиша ли?
— Угадал. Он самый…
— А я повидаюсь с Ефросимом, — задумчиво произнес Иоанн. — Шибко любят его в Новгороде. Мартирия-то клянут, а Ефросима любят. Пущай подбирается к Нездиничу… Словиша-то с одной стороны, а Ефросим с другой. Крепко обложат посадника — никуды ему не деться. Дело выдумали мы с тобой, Кузьма.
— Не копьем побивают, а умом.
— Ишь ты, яко возгордился, — улыбнулся Иоанн, — а про то запамятовал, что все в мире от бога.
— Разум — богу во славу, — быстро нашелся Кузьма.
Иоанн перекрестил его и поцеловал в лоб.
— Ступай покуда.
Кузьма вышел. В дверях он снова столкнулся со служкой. Тот отступил в полутьму перехода, быстро скользнул по лицу Ратьшича пристальным, нехорошим взглядом.
Глава четвертая
1
Одноок, наверное, не так убивался бы, если бы сын не увел у него со двора двух лучших коней.
Сейчас Звездан радовался своей сообразительности, потому что ежели надумал бы идти пешком до самого Новгорода, то и его и ушедшего с ним конюшего Вобея схватили бы давным-давно.
В пути никто их не обгонял, лишь на подъезде к одной небольшой деревеньке повстречался длинный епископский обоз. В переднем возке Звездан увидел Иоанна, было с ним много челяди и служек, гарцевавших на обочине, но за кустами беглецов не заметили, и к вечеру те благополучно прибыли в Ростов.
У Вобея здесь были знакомые, приняли они путников с лаской, накормили, напоили, уложили спать, а утром снарядили в дорогу с хорошим запасом съестного, которого должно было хватить до конца путешествия.
Вобей оказался говоруном; сначала Звездан слушал его с охотой, но скоро он ему изрядно надоел. Историю его он знал уже почти наизусть и сам мог рассказать любому не хуже самого конюшего.
Сказать по правде, так только одного никак не мог взять он в толк: что заставило Вобея бежать с ним вместе от Одноока. Боярин его не обижал, хоть и не щедро, но одаривал — не то что других челядинов, которым и еды-то не каждый день перепадало досыта.
Брал с собой Вобея Одноок, объезжая деревни, — и конюший исправно помогал боярину обирать холопов: был он пронырлив и вездесущ, знал, у кого где и что лежит, ведал и про то, что припрятано от зоркого глаза боярского тиуна.
Вот и про тайные мысли Звездана проведал Вобей, а как — одному богу ведомо.
Ночью уходил Звездан из дома. Прокрался мимо житни [79] к конюшне, отворил ворота заранее припасенным ключом, и тут — Вобей: заговорил быстро, глотая слова:
— Ты меня не бойся, Звездан. Не серчай, а перво-наперво выслушай. Знаю я твою думу, но про то никому не скажу… Только не дело ты задумал — одному пускаться в дальний путь. Много злых людей нынче бродит по Руси. Не приведи бог, повстречаешь татей. А вдвоем — не страшно. Глядишь, и подсоблю тебе в чем. Возьми меня с собою…
— Куды же тебе со мною, Вобей? — удивился Звездан. — Да знаешь ли ты, каково тебе будет, ежели настигнет батюшка?!
— Нынче Одноок далеко. И покуда возвернется, нас уж не догонишь.
— Да почто решился ты на такое? Али худо тебе жилось у Одноока? Любил и жаловал тебя боярин.
— Мило волку теля, — сказал Вобей, ухмыляясь. — Отколь тебе знать про мою кручину.
И верно, подумал Звездан. Иному ведь и его, Звезданово, житье покажется райским. Но воля всего дороже. Не выдержал, должно, Вобей, не по душе ему ни честь боярская, ни ласка, коли вокруг одни только слезы.
Взял он с собой Вобея и не пожалел. В пути без него пришлось бы Звездану туго: и хворосту на костер соберет, и живность какую добудет в лесу. Ловко брал Вобей стрелою быстрого зайца. Меткий был у него глаз, твердая рука. И байки сказывать был он великий мастер — повидал Вобей большой мир, было ему что рассказать боярскому сынку. Потешался конюший над попами и монахами, хулил их грешное житье.
— У твово батюшки тож божьи лики во всех углах, — говорил он, — а праведности ни на грош.
Не любил Звездан своего отца, но Вобеевы откровенные прибаутки его коробили.
— Ты бы уж чем другим меня потешил, — останавливал он разошедшегося мужика.
Вобей лукаво улыбался и начинал низким разбойным голосом старину [80] о лихом ватамане. В пляшущих бликах лесного костра лицо Вобея обретало зловещую лихость. Растрепанная борода, широко разинутый круглый рот с сочными красными губами и поблескивающие глаза конюшего подымали в Звездане волну необъяснимого ужаса. Со страхом вглядывался он в обступившие их со всех сторон деревья, улавливал шорох чужих шагов, свистящий шепот, затаенное дыхание крадущихся к привалу людей.
Конюший смеялся:
— Вот и старина моя тебе не по душе. Или за сердце взяла, оттого и гомозишься?
— Хороша твоя старина, Вобей. Только подумал я: а что, как услышит твой трубный глас посланная за нами охота [81]?
— В лесную глушь мужики зазря не попрут, — убежденно успокаивал его конюший. — Им своя голова дорога. Проедут мимо…
Спали они рядом. Под ухо подкладывал Вобей прихваченный в боярской усадьбе мешок; ни днем ни ночью не расставался он со своей поклажей. Уж за Ростовом стал примечать Звездан: с чего это стережет свой мешок Вобей? Не золото ж у него в мешке, отколь золоту взяться у конюшего?
И раз как-то на ночлеге, когда отправился Вобей к реке зачерпнуть в котелок водицы для ухи, не утерпел, развязал Звездан мешок. Заглянул вовнутрь — и отпрянул: так вот почему увязался за ним Вобей, вот почему бежал от Одноока, — ограбил он боярина, сложил в мешок золотые колты [82] и обручи, даренные боярином Звездановой матери да после отобранные и припрятанные с прочим добром в дубовые, железом обитые лари. Как добрался до них Вобей, о том Звездан не стал его спрашивать. А спросил совсем о другом:
— Знаю теперь я, Вобеюшка, верой и правдой служил ты боярину. А совесть куды схоронил?
— О чем ты? — удивился Вобей. Но, глянув в глаза Звездана, все понял.
— Темная ночь — татю родная мать, — сказал Звездан с горечью. — Отныне я с тобой вроде одной веревочкой связан.
— Хоть молод ты, а верно угадал, — криво усмехнулся Вобей, — не сына ищет боярин, а хитителя. Несдобровать тебе, Звездан. А потому хлебай ушицу [83] да помалкивай.
И еще пригрозил:
— Хитрить со мною не моги. Ежели где проговоришься, мне все с руки: ножичек под ребро — и в воду.
Так с того вечера и легла между ними неприметная с виду вражда: едут рядом — улыбаются, лягут спать — глаз не сомкнут, стерегут друг друга. Позеленел весь Звездан, отощал, последними словами клял себя за доверчивость. А Вобей скоро снова ожил. Снова стал шутить и хорохориться. Не таясь, рассказывал о вольном житье-бытье. О друзьях своих татях и об их гнусных делах.
И так смекнул Звездан: Вобей бы и сам ушел от боярина, да случай помог ему. А то, что прилип он к боярскому сыну, то и ясного дня ясней: был он при нем в полной безопасности — без нужды никто не остановит, пытать не станет, куда и почто путь наладил, не бежал ли от своего господина.
Лишь на подъезде к Новгороду расстался Вобей со Звезданом. Сел на одного коня, другого привязал к луке. Ощерился:
— Не поминай лихом! А то, что остался ты пешим, то не горюй: добрые люди помогут. Да и до Новгорода тебе два дни пути.
Крикнул так — и ускакал. И остался Звездан один на лесной запутанной дороге.
Был он теперь мало чем похож на боярского сына: кожух в дороге пообтрепался, красные сапожки пооблиняли, в шапке из куньего меха вырваны клочья, торчат хвойные иголки и сухие травинки, лицо обгорело на солнце, нос облупился…
Но недолго горевал Звездан: коней ему было не жаль, и дальняя дорога не страшила его. Ноги молодые, до места доведут.
Долго ли, мало ли он шел, а вышел к перевозу на большой реке.
Шумел перевоз. Мужики столпились с возами на отлогом берегу, ругали пьяного перевозчика, сидевшего на завалинке перед своей избой.
— Эк тебя угораздило, проклятого, — говорили мужики. — И доколь еще ждать тебя? Куды подевал дощаник? [84]
— Ась? — пьяно ухмыляясь, приподымал перевозчик треух. — Куды ж он мог подеваться?
— Ты встань-ко, встань, — напирали мужики. — Почто сидишь, яко под иконой?
— А мне чо? — невозмутимо улыбался перевозчик.
— Узнаешь чо. Вот намнем бока, тогда и пошевелишься.
— Нету дощаника, мужики, — развел руками перевозчик.
— Како нету?
— Уплыл…
Из избы вышла жена перевозчика, сухопарая женщина с острым носом и усталыми желтыми глазами на морщинистом лице. Поглядела с укором на толпу, потом на мужа, покачала головой:
— Вот те крест святой, мужички, — сказала она. — Не врет Ерошка мой: дощаник и впрямь к излуке отнесло. Оттого нехристь и пьян с утра.
— Нонче праздник, — робко вставил Ерошка и громко икнул.
— У тебя ежедень праздник, — оборвала его жена. Ерошка замолчал и обессиленно замотался на завалинке из стороны в сторону.
— С его что возьмешь, — зарокотали мужики. — Не ругай его, баба. А мы сами притянем дощаник. А ну, кто с нами?
Вызвалось человек десять. Пошли гурьбой вдоль берега, кричали, размахивали руками.
К перевозу подъезжали все новые возы, подходили страннички с котомками из лыка, в лаптях и реже — чоботах. Останавливались верховые.
Звездан присел на корточки возле воды, напился, обмыл лицо, лег, откинувшись на спину. Глядел в голубое небо, жмурился.
— Гей-гей! — послышалось на опушке. Звездан встрепенулся от знакомого голоса. В животе у него сразу сделалось тоскливо и пусто.
По проселку от леса спускались на резвых конях по дорожному, но богато одетые всадники: яркие зеленые и малиновые кожухи, высокие шапки, у иных через плечо небрежно переброшены яркие коцы [85]. И в переднем всаднике, широкоплечем и рослом, тут же признал Звездан Словишу.
Ему бы податься от перевоза вдоль бережка, откатиться за избу, притаиться на время, да члены занемели. Едва распрямился, едва встал на ноги, как тут же высмотрел его зоркий Словиша.
— А ты отколь тут, Звездан? — направил он к нему приплясывающего коня.
Неловко Звездану снизу вверх глядеть на Словишу, а тут еще солнышко в глаза. Заслонился он рукою, попятился.
— Стой! Да куды же ты? — спрыгнул с коня Словиша.
2
Не стал ничего таить от Словиши Звездан, рассказал все как было. И про Одноока, и про Вобея, и про коней.
— Ловко обвел тебя хитрец, — выслушав его, посмеялся Словиша. — Да ты шибко-то не убивайся. Кони — дело наживное, а боярин тебя простит. Поедем со мною в Новгород.
— Туды и путь держу, — сказал Звездан, теперь уже радуясь, что повстречал дружинника.
Были при Словише три запасных коня (не в ближнюю пускался он дорогу), одного отдали Звездану.
— Скажи-ко, повезло тебе, — самодовольно улыбался дружинник. — Разом и коня добыл, и веселого попутчика. Со мной нигде не пропадешь.
Мужики тем часом пригнали дощаник, и все вскоре переправились на другой берег. Дальше пошли новгородские пределы, а еще через день отряд выехал к серебристому Волхову. Отсюда до Новгорода рукой подать.
Словиша был человеком важным, посланным от великого князя Всеволода (сам он знал это и соблюдал степенность), и потому определили ему постой на дворе у посадника Мирошки Нездинича. Сопровождавшие посла дружинники расположились поблизости, а Звездан был вместе со Словишей.
— Нынче я тебя никуды от себя не отпущу, — сказал тот серьезно. — А то сызнова сбежишь. Мне же искать тебя по Новгороду недосуг. Дело, с коим прибыл я сюды, зело важное.
Что дело важное, Звездан и сам понял по тому, как засуетились вокруг Словиши разные людишки, как обласкивал их в своем тереме Мирошка, как суетилась Гузица, Мирошкина сестрица, а на дворе разжигали костры и жарили на вертелах разделанные бараньи туши.
Дело не шутейное — встревожил Мирошку внезапный приезд Всеволодова посла.
На пиру держался посадник с достоинством, подымал чашу за здоровье владимирского князя, но серьезных разговоров не заводил. Серьезные разговоры были оставлены до утра. А еще предстояло посоветоваться с Мартирием, потолкаться среди бояр, выведать, что думают купцы.
Вот почему, когда все, утомленные пиром, легли спать, Мирошка не лег, а велел седлать коня и тем же часом отправился в детинец повидать владыку.
Поднятый с постели Мартирий был неразговорчив. Сидя, как сыч, на просторной лавке, он перебирал четки, зевал и почесывал поясницу.
Что мог он сказать Мирошке? Сам-то еще пребывал в неведении, хотя и пытался изобразить на лице приличествующее сану глубокомыслие. И сонливость его была личиной — на самом деле Мартирий еще с вечера знал о прибытии Словиши, долго не мог уснуть и Мирошку ждал — вздрагивал при каждом шорохе и стуке в сенях. Когда же посадник прибыл, выйти к нему не спешил, нарочито громко стонал, охал и покашливал в своей ложнице.
Нездинич хитрость Мартирия разгадал. Не верил он, что владыка ничего не ведал о приезде Словиши. Куды уж там, глаз у посадника наметан: ему ли было не заметить, как шныряли во дворе вокруг да около простоватые мужички с повадками владычных служек…
Быстро ли, коротко ли, а беседа понемногу склеивалась.
— Князь Всеволод мудр, — говорил, прикрыв глаза темными веками, Мартирий. — О Словише еще покойник Илья сказывал: умен и коварен. Да и на твоей памяти то было, Мирошка: прибыл он в Новгород с обозом Владимировой жены Пребраны; много бед в ту пору мы от него натерпелись. Нынче снова он у нас. Смекаешь ли?
— Тут и смекать нечего, — подхватил Мирошка. — Тут и так все ясно. Опять же будет прочить нам Всеволод в князья свояка Ярослава Владимировича.
Владыка пристально посмотрел на посадника: взволнован Мирошка, по лицу видать. Да и есть от чего: мерещится ему великая смута. Не крепко под ним, захваченное лукавством и хитростью, высокое место. Свергали новгородцы до Мирошки и Завида Неревинича, и Михаила Степановича. Родного-то брата Завида, Гаврилу, сбросили с моста в Волхов, да и Михаил Степанович едва избежал той же участи, когда свергнут был Мстислав Давыдович и бояре снова послали к Всеволоду просить к себе на княжение Ярослава. Помнит Мирошка и то, как разъяренная толпа забила до смерти отца его Незду — и за что? Все за то же: за приверженность к смоленским Ростиславичам.
Теперь сам Мирошка меж двух огней. Не прими он Ярослава — разгневается Всеволод, не прими Мстислава — разгневаются Ростиславичи, а вместе с ними и те бояре, которые заодно с Михаилом Степановичем. Промахнись он — и быть ему на дне Волхова, подобно Гавриле Неревиничу.
Тяжкая дума опечалила Мирошку Нездинича.
«Нелегко ему, — мыслил про себя владыка. — Но не время нынче предаваться скорби». Мирошка выкрутится — и это больше всего беспокоило Мартирия. Покоряться Всеволоду он не хотел, ибо видел в том начало великих бед. Дошли до него слухи, будто собирается ростовский епископ Иоанн встретиться с Ефросимом, коего обманом не выбрали во владыки. Ефросим не смирился, чернь новгородская за него — терпенье ее иссякло: частая смена князей несет с собою смуту и нищету. Мартирий же лелеет давнишнюю мечту: смирить Боярский совет, самому безраздельно утвердиться в Новгороде как великому князю — тогда бы наступили на обетованной земле мир и благоденствие. Тогда бы и чернь была за него, тогда бы и Всеволод был ему не помеха — хоть и длинные руки у владимирского князя, но до Новгорода не дотянутся. Однако Боярский совет был своеволен и строптив, а Ефросим, глаголя с паперти Никольского собора, сотрясал бурливое вече. Так в чьих же руках истинная власть, кто истинный хозяин Великого Новгорода?..
В Мирошке покуда видел Мартирий союзника. Но и боялся его, опасался выдать посаднику свои мысли. Время еще не приспело.
— Ты, Мирошка, Словишу-то попытай, — посоветовал он Нездиничу. — Ты его потряси — авось что и вытрясешь. Тоже ведь человек. Плоть немощна, а душа грешна. Гузица-то при тебе ли?
— А где ей еще быть? — догадался о помыслах владыки Мирошка.
— Вот и поговори с ней, с голубицей-то, — проворковал Мартирий, вспоминая с истомой, как прислуживала она ему за столом в избе у посадника.
— Грешно сие, — сказал Мирошка.
— Грех сей я прощаю. Не о себе пекусь — то тебе ведомо.
Знал бы Мирошка, с чем прибыл к нему Словиша, не ездил бы к Мартирию, не выслушивал лишний раз его наставлений, не хитрил бы и не изворачивался, не подпалял бы Гузицу, чтобы вскружила голову Всеволодову послу… Упрям был Всеволод. Не послушался он Иоанна, сына своего дать новгородцам не согласился.
— Не захотят сами принять Ярослава, — говорил он рассерженно, — посажу силою. И Мирошка пусть не бодается. Ведомо мне, что стоит он за Мстислава, но тому не бывать.
— Принял бы от тебя Мирошка Ярослава, да боится своих бояр, — ровным голосом вразумлял Всеволода Иоанн. — Не враг он тебе — руки у него связаны. Скинут его новгородцы, другой посадник кликнет другого князя, а ежели Ярослав им не по душе, то почто не посадишь сына?
— Сегодня им Ярослава уступлю, завтра придут ко мне скликать вече.
— Почто так говоришь, князь? — удивился Иоанн. — Сам знаешь: правит Новгородом не вече…
— Бояре им прикрываются. И поступлю в Новгороде, как у себя в Ростове. А тебе, Иоанн, тако скажу: не звал меня Микулица к смирению. Теперь же оглянись-ко: встало владимирское княжество над всею Русью. Так отступлюсь ли от содеянного…
Иоанн побледнел. Впервые говорил с ним так Всеволод — сверлил безумным взором, подавшись вперед, сжимал подлокотники стольца.
— Воля твоя, княже, а я свое слово молвил, — сказал епископ и вышел.
Вечером делился он со Словишей невеселыми думами. И, слушая его, вспоминал дружинник о своей встрече со Звезданом. Неужто прав был боярский сын, неужто и впрямь возгордился князь, ежели не пожелал иметь беседу с Иоанном?..
Но мысль эта только мелькнула в его голове, и он тотчас же ее забыл. Да и полно: ему ли судить князя? И не о Русской ли земле печется Всеволод денно и нощно?..
3
Не надолго опередил Вобей Звездана — всего на день, а коней уж успел продать, хоть и не за бесценок, а дешево, но о том не жалел: и золота и серебра при нем было много — до конца дней, почитай, хватит. Однако не о спокойной жизни мечтал Однооков конюший.
Про то никто не знал, не ведал — ни боярин, ни сын боярский: пришел Вобей во Владимир не из Двинской земли, как сказывал, а из Новгорода. И не по своей воле, а с умыслом — бежал от неминуемой расплаты за содеянное. Служил он в ту пору при дворе Завида Неревинича, за ловкость свою жалован был посадником в доверенные, ездил с его поручениями и в Киев, и в Смоленск, и в Чернигов, подговаривал на вече темных людишек кричать то Владимира Святославича, то Мстислава Давыдовича, но раз позарился на богатый куш: предал своего хозяина, переметнулся к Незде, звал Ярослава в Новгород, брата Завидова, Гаврилу, топил в Волхове.
Тайное и страшное то было дело. Тихой ночью звал его к себе Незда, угощал медами и брагой, говорил свистящим шепотом:
— Золотом тебя награжу, Вобей, дорогими каменьями. Где много воды, там больше будет. Избу поставлю тебе на Славенском конце — заживешь припеваючи. И девку в жены сыщу — первую красавицу новгородскую. Только сполни все, как велено.
— Отчего ж не сполнить, боярин, — сказал Вобей и бухнулся Незде в ноги: — Не оставь только меня, сирого. Не дай кончанам на растерзание.
— О том и не печалуйся, — пообещал посадник, обласкивая Вобея ясным взором.
Мягко стлал Незда, приятные сказывал речи, да по-иному все обернулось. Завсегда не верь боярину велеречивому.
Не сразу понял это Вобей, а той ночью, сгорая от нетерпения, отправился к верным своим дружкам: Ряпухе, Лыню и Влазню. Все они были первыми крикунами на вече. Но выкрикивать на вече то, что кончанам любезно, совсем другое дело. Порешить же человека страшно показалось Вобеевым дружкам. Стали они упираться и набивать себе цену.
— Ладно, — сказал Вобей. — Про то, что сказывал я вам, забудьте и никому ни слова. Поищу в другом месте приятелей. В другом-то месте посговорчивее будут.
Признаться, так и ему было в первый-то раз не по себе, но виду он не подавал, держался молодцом. Выхлестнул одним духом чару крепкого меду и хотел уходить. Дружки его остановили.
— Скороспелка до поры загнивает, — молвил за всех Ряпуха. — Согласные мы. Да не обманет ли нас боярин?
Вобей заверил их, что боярин не обманет. Сдались мужички.
Утром отправились на вече. В суете-то среди посадских были они как все. И не громче других кричали, и на Великом мосту дрались, как все. А только свистнул Вобей, как было условлено, стали его дружки, размахивая кулаками, оттеснять Гаврилу с закадычным его приятелем Ивачем Свеневичем к перилам.
— Наших бьют! — закричал Гаврила, заметив, что оказался по другую сторону моста.
Тяжелые у него были кулаки. От его кулаков у Вобея звон стоял в ушах. Ряпуха покатился по настилу и чуть не угодил в реку, зато Влазень так приложился Гавриле по скуле, что у того глаза закатились от боли. Ивач Свеневич, тот уж висел над водой, вцепившись в решетину моста, и рыжий Лынь, утробно рыча, бил его по пальцам острым засапожником.
Пожалел Гаврила своего друга, кинулся к нему на выручку, а зря: и другу не помог, и сам подставил Вобею затылок. Ударил его Вобей по голове свинцовым грузилом — пошатнулся Гаврила, выпрямился, побледнел и вместе с перилами обрушился в реку. Ивач до него еще отправился в Волхов — одолел-таки его напористый Лынь.
Черное дело было сделано — и пустились дружки наутек. Явились к боярину.
— Ах вы зипунники-оборванцы! — встретил их разгневанный Незда. — Почто явились ко мне на двор? Аль и я грязный вор и тать?! Почто убили друга моего Гаврилу?..
Опешили дружки от такой неслыханной наглости. Стали меж собой перепираться.
— Это ты во всем виноват! — накинулись они с кулаками на Вобея.
— Почто обижаешь, боярин? — отбиваясь от дружков, кричал Вобей. — Служил я тебе верой и правдой. А нынче хочешь ты меня наказать без вины.
— Вина за тобой великая, и прощенья от меня не жди, — сказал Незда. — Эй, слуги, вяжите лихованных, да поживее, чтобы другим было неповадно поднимать руку на боярских сынов.
Остолбенели мужики, один Вобей не сплоховал: прыгнул на частокол, подтянулся, дрыгнул ногами — и был таков.
— Держи вора, держи! — неистово заорал боярин.
После уж вызнал Вобей: дружки-то его так и сгинули в порубе. Но и самому Незде бог греха его не простил. Не зря он тогда от всего отрекался, не зря запрятал мужиков под замок — пронюхали еще до убийства Гаврилы о всех его кознях Степановичи. Неспокойно жил боярин, из терема носа не показывал, ворота держал на крепком запоре. Вооруженная челядь сопровождала его в собор и из собора. Раз только недоглядел Незда, раз только сплоховал — вышел на улицу скоморохам порадоваться, и двух шагов не ступил, как откуда ни возьмись наехал на него воз. На возу были тяжелые кади с медом, а кони будто взбесились. Боярину-то кадью голову и прищемило — через час отлетела душа его в рай…
Долго прятался Вобей, человеческий облик утратил, просил с каликами подаянья, воровал в огородах репу. Трусоват он был, сам дивился: как подвигнул его господь на убийство Гаврилы. Видать, алчность одолела.
Трусость и во Владимир его привела. Почудилось ему как-то, будто пристал к каликам человек от Степановичей, дружком прикинулся, а сам следил за ним, шагу не давал без себя ступить — ждал, окаянный, удобного случая.
Сбежал Вобей от калик на ночлеге, чью-то суму прихватил (тяжелая она была), а когда вытряс в лесу, увидел: в суме-то одни камни. Знать, наложил на себя тот калика покаяние: носить камни от деревни к деревне, от города к городу, истязая грешную плоть. Во всем не везло Вобею.
Зато во Владимире повезло. Во Владимире нашел он близкую душу — приглянулся Вобей боярину Однооку. Теперь и не припомнит, с чего началось, а только обласкивал и возвышал его Одноок, как родного сына. И Вобей привязался к боярину — стал ему верным псом.
Да подлая душа все свербила, не давала спать по ночам. Случайно выведал Вобей про золото, что хранил Одноок в заветном ларе…
А в Новгород он подался по старым своим следам. Проведал, что Степановичи нынче не в чести и что стал Мирошка, сын убитого Незды, посадником.
Нет, ничего такого не подумал Вобей и не милости пришел искать у Мирошки — милости у бояр он больше не искал, а задумал он зажить тихо и неприметно в одном из новгородских концов.
Но, знать, не судьба была. Не ведал еще того Вобей, а беда ходила рядом. И не в рубище была она обряжена, и не в темной ночи кралась за ним с воровским топором в руке, а была беда его в шелковом полукафтане с дорогим оплечьем, в шапке с малиновым верхом, в сафьяновых мягких сапогах, восседала на высоком коне с посеребренными тонкими стременами. И явилась она ему в обличье боярского сына Звездана, а рядом с ним резво скакал зоркий Словиша, славный дружинник великого князя Всеволода.
Каждому свое на роду написано. А Вобею было написано в тот самый час не на Торговую сторону направиться к заморскому гостю Онанию, как с вечера было обговорено, а к Великому мосту. Подумал Вобей: спит еще Онаний, а дело, с которым шел он к нему, было зело важное — столковался Вобей обменять золотишко на дорогой товар, а с товаром тем выйти на Волгу, попытать торгового счастья в Булгаре. И мешок давешний с похищенными у Одноока колтами и брошами был при нем, приятно оттягивал руку…
Выйди он на час позже — и разминулся бы со своей судьбой. Но судьба на то и судьба — разве с ней разминешься?! Ждала она его на Великом мосту — и шел Вобей навстречу ей покорно, ни о чем не думая и не гадая, а только радуясь погожему осеннему утру, солнышку в ясном небе, добрым задумкам.
— Глянь-ко! — окликнул Звездан Словишу, скакавшего с ним рядом. — Уж не старый ли мой знакомец потряхивает вон там своим треухом?
И направил коня через толпу к Вобею.
— Здрав будь, добрый человек, — сказал Звездан, посмеиваясь и напирая грудью коня на отцова конюшего. — Мир тесен — вот и довелось свидеться.
Обмер Вобей, шапку потянул заскорузлой рукой с головы, так и прилип выпученными глазами к Звездану.
— Помилуй мя, боярин! — повалился он в ноги коню, заелозил по настилу моста в сухом навозе. — Нечистая попутала…
— А ответ тебе держать, — сказал Звездан и, спрыгнув на землю, взял Вобея за шиворот. — Ну-ко, поворачивайся.
Уперся Вобей, замычал, замотал головой, с места не сдвинулся.
— Хватайте его! — крикнул Звездан отрокам (были они приставлены к нему и Словише Мирошкой — всюду сопровождали дружинников).
Позеленел Вобей, вскочил на ноги, оскалил желтые зубы. Не успели отроки спрыгнуть с коней, как сверкнул в руке его короткий нож. Схватился Звездан за ужаленный бок, отпустил Вобея — тот и юркни в толпу, зачастил локтями и коленями, нырнул под возы, вскочил на перила и — бултых в воду. Быстро отнесло его холодным течением, жалко — мешок утопил. Невезучим был Вобей.
А у Звездана сквозь пальцы сочилась кровь — в жилу угодил ножичек; перевернулся в глазах мост, подкосились у дружинника ноги — едва успел подхватить его Словиша.
— Эк он, — возбужденно говорили в толпе, — жалом-то под бок. Лихо!
Мужики любопытствовали:
— Шибко молод, сердешный. Уж не княжич ли?
Бабы охали:
— А красивенький-то. Кажись, до смерти забил лихованный?..
Кто-то возражал хриплым басом:
— Какой он лихованный? Холоп он евонный. Ишь, как взъярился боярин… Тоже, поди, не от сладкого житья прыгнул мужик в Волхов.
— Испужался…
— Испужаешься, как поволокут на правеж.
Отроки оттеснили толпу.
— А ну, разойдись! Чего глаза вылупили?
Тот же бас перекрывал все голоса на мосту:
— Знамо, чьи это людишки. Мирошкины лизоблюды… Слышь-ко, мужики, Нездинич-то, сказывают, нашей волей торгует. Вместе с боярами за Ярослава на вече клятву давал, а нынче Мстислава нам в князья прочит.
— Свинью за бобра продали…
— Кол им в глотку!
— Бе-ей! — повисло над мостом.
Едва ноги унес Словиша с раненым Звезданом. Вдогонку им летели камни и палки. Толпа улюлюкала:
— Ату их!
— Айда, мужики, на вече, — подстрекал бас. — Ударим в сполошный колокол. Пущай бояре держат ответ: почто простому люду не стало житья в Великом Новгороде? Почто отроки озоруют?!
Забегали в толпе суетливые людишки с приметливыми глазами, уговаривали:
— Угомонитесь, христиане. Ни к чему воду мутить. Сиганул мужичок с моста — туды ему и дорога!
— Ступайте по домам мед-брагу пить…
Уступала толпа привычному ходу жизни. Баса уж никто не слушался. Даже те, что сгоряча потянулись на площадь, стали расходиться.
— Что же вы?! — надрывался бас. — Куды вы, братцы?
— Нам нечего ссориться, — отвечали разумные мужики. — Нам с миром жить.
Опустело на мосту. Жарко припекало солнышко. Бездомный пес, поскуливая, грыз оброненную кем-то кость.
Тихо в великом Новгороде. Благодать!..
4
— Колюч твой приятель, хуже ежа, — говорил Словиша, сидя на лавке у изголовья Звездана.
Бабка-знахарка, жившая в баньке при дворе Мирошки Нездинича, уже перевязала молодого дружинника и напоила для крепкого сна настоем душицы. Заговорила кровь такою присказкой:
— Да будет тело — древо, кость — камень. Кровь красна, не теки! Закреп-трава, пособи, кровушку сохрани во веки веков. Слово мое крепко, закреп-травою сильно. Чур, крови конец — делу венец. Аминь.
И велела Звездану трижды плюнуть через плечо.
Но не заговор старухи помог Звездану, а помогла ему молодость, да и рана, нанесенная Вобеем, была не глубока и не опасна. И еще помог ему добрый Словиша — верный он был товарищ, попусту не беспокоил, про жизнь говорил, про своеобычаи новгородские. Сказывал, как оберегал от недругов Пребрану, дочь почившего владимирского князя Михалки, как здесь же, в Новгороде, бросали его в поруб, а вот теперь совсем другое: теперь и владыка, и посадник Всеволоду перечить остерегаются, послов его привечают, пиры с ним пируют, в красный угол сажают, на мягкую постель укладывают.
— Да веры им только нет, — говорил он. — Владыка себе на уме, а Мирошка яко меж двух огней. Мартирий одно ему в уши надувает, бояре другое, а у купцов да посадских своя задумка.
Предостерегал Словиша:
— Приметил я, что Гузица, Мирошкина сестра, к тебе зачастила. Не верь ей, Звездан: ликом она красна, а хуже змеи. Братова воля для нее — закон. А еще подслушал я, как наставлял ее Мирошка выведать у меня Всеволодовы задумки: боятся они Иоанна, а Мартирий пуще всего велит посаднику глаз не спускать со старца Ефросима. Не по добру, а коварством отнял он у него владычное место, Ефросима же любит и почитает простой люд…
От чистого сердца сказывал Словиша, но Звездан прятал от него глаза. Ден-то немного всего прошло, как внесли его, раненого, в горницу Мирошки, а ровно вся жизнь под этой крышей протекла.
Не мог не поверить Звездан другу своему Словише, но образ Гузицы неотступно стоял перед ним.
Забудет ли он, как очнулся на лавке, как разомкнул слипшиеся веки, как приоткрыл в тяжком стоне уста, — и склонилось над ним девичье лицо, и прохладная рука остудила горячий лоб?!
Никто не звал, не просил Гузицу — сама пришла к молодому дружиннику, сладкой водой отпаивала, обмывала рану настоем заячьей капусты.
Трудно было говорить Звездану, а чтобы не тосковал, она ему сказки сказывала. Сядет напротив, поскучнеет лицом, подопрет рукой щечку — и говорит нежным голоском о весне-красне, о страшном лешем, сером волке и хитром старом лисе.
Вот так же распевчиво в детстве сказки сказывала Звездану его мать.
И, слушая Гузицу, ловил он себя на том, что в горле стоит острый комок, а глаза полны слез.
— Что же это я? — спохватывалась Гузица. — Заместо веселья эко тебя разжалобила.
Звездан мотал головой и просил сказывать еще. Но Гузица, приложив палец к губам, быстро шептала:
— Скоро братец вернется. Спи.
Словиша говорил Звездану:
— Вот приедем во Владимир, я тебе такую красавицу сыщу, что краше нет во всем нашем княжестве…
Говорила Гузица:
— Скоро заживет твоя рана, и улетишь ты, сокол мой, во свои края. Поди, заждалась тебя во Владимире твоя лада…
Отвечал Звездан Словише:
— Куды мне поспешать? Женитьба — не молотьба: не мышь зарод подъедает.
Гузицу успокаивал:
— Нет у меня лады. Один я, как перст. Да и душа не лежит возвращаться к Однооку…
Прознал Мирошка про тайные свидания, призвал к себе сестрицу, сурово выговорил:
— Ты почто к парню липнешь, почто кукуешь под его дверью? Аль плети отведать вознамерилась?
— Ты меня плетью, братец, не пужай, — смело отвечала Гузица. — Слов я твоих не шибко-то боюсь, а Звездана мне жаль. Нешто и посидеть возле него нельзя?
— Не знахарка ты… Да и есть кому возле него посидеть, сказки порассказывать. Старух-то полон дом.
Будто вожжа попала Мирошке под хвост. Никогда раньше с сестрой он так не говаривал.
— Сколь уж я тебе про Словишу толковал, — проворчал он.
— Что не по сердцу мне, того не выпытывай, — огрызнулась сестра. — Старый твой Словиша и неприветливый. А почто прибыл он в Новгород, про то и тебе все ведомо.
— Замкни уста, негодница! — вскинулся Мирошка и руку приподнял, чтобы ударить ее по щеке, но, глянув в глаза сестрицы, попритих, ворча, удалился из светелки.
Что тревожит Мирошку, что покою не дает ему ни ночью, ни днем, про то знать Гузице было ни к чему. И того даже не заметила, что не лезет брату кусок в горло, что сник он и поблек.
Последние дни посадник, что солнышко над частоколом, каждое утро у Мартирия на дворе.
Неспокойно и страшно стало в Новгороде. Собирались людишки в толпы, на Великом мосту вели тихие разговоры, настороженно оглядывались на воев, возок владыки провожали суровыми взглядами. Стекались в город калики, оборванцы приходили на паперть Софийского собора, стучали деревяшками вместо ног и юродствовали. Пьяные попы говорили непотребное о Мартирии и посаднике, вдруг вспомнили, как выбирали архиепископа. Ходили слухи о том, что выехал из своего монастыря игумен Ефросим.
Какой-то ражий поп, осеняя толпу железным крестом, рассказывал, будто сам видел, как в соборе упала наземь икона божьей матери.
— Сие знамение к покойнику, — разъяснял он. — А кто покойник, про то и сказывать нечего, людишки вы сметливые.
Сметливые людишки улыбались:
— Неспроста покинул Ефросим обитель. Сколь уж лет народу не показывался. Он и отслужит заупокой по Мартирию…
Как-то раз ночью слуги приволокли к Мирошке горбатенького мужика со свалявшейся бородой. Держа его сзади за руки, сказали:
— Вот пожогщик, боярин.
Мужик с двумя такими же оборванцами, как и он, раздувал огонь под углом боярского терема. Тем скрыться удалось, а горбатенький был неловок. Но, пойманный, держался гордо, прощения не просил, не унижался.
— Ты кто таков? — спросил его Мирошка.
— Человек.
— Почто жег усадьбу?
— А ты почто продался Мартирию? — дернулся горбатый. Слуги крепче перехватили его руки.
— Мартирий — владыко наш. Нами избранный и митрополитом посаженный, — нараспев произнес боярин.
— Мартирий — хичник, а наш владыко — Ефросим, — сказал, будто в глаза плюнул, пожогщик.
— Не разумен ты, оттого и смел, — возразил Мирошка. — А вот как велю я тебя, и жену твою, и детей твоих продать в рабство… Каково запоешь?
— Твоя сила, посадник, — ни мускулом не дрогнул горбатый. — Да правда моя. Еще отольются кошке мышкины слезки.
Увели пожогщика. В иные дни Мирошка о нем бы и не вспомнил, а тут как было не вспомнить, ежели, пробираясь верхами на софийскую сторону, то и дело слышал за спиной проклятья. Ознобом продирало посаднику спину, голова сама уходила в плечи — того и гляди, запустят сзади камнем, виновного не найдешь.
В то утро у Мартирия собрался весь Боярский совет. Лица бледны, глаза опущены, дрожащие руки перебирают посохи. Вести были разные, но всех тревожило одно:
— Возмутился Великий Новгород. Того и жди — ударят в вечевой колокол. Что делать будем, владыко? Как повелишь?
Мартирий сидел на возвышенном месте с неподвижным, в морщинах, словно вырезанным из темного дерева, лицом. Черные брови сошлись на переносье, орлиный нос навис над верхней выпяченной губой, борода расчесана частым гребешком.
— Молви слово, владыко! — все громче раздавались голоса. — Почто молчишь?
Сухо покашляв в кулак, к боярам обратился Мирошка:
— Отколь нынче вся смута пошла, мне неведомо. Но смекаю: неспроста волнуется народ. Ходят слухи про Ефросима…
— Про то и мы слышали! — зашумели вокруг. — Не глухие.
— Ты дело сказывай!
— Ефросим — старец смирной…
— Смирной, да с коготками.
— От него все и пошло.
— А не из Владимира ли ветерком потянуло?
Последние слова, сказанные полушепотом, враз прекратили шум. Бояре уставились на Мирошку. Мартирий вскинул голову, глаза его сверкнули.
— Послы-то Всеволодовы, никак, у тебя обитаются? — пропищал боярин Осока и погано хихикнул.
Владыка подхватил прислоненный к ручке кресла посох и гневно ударил им в половицы.
— А ты, Осока, бога не гневи, — сказал он, еще сильнее сводя брови на переносице. — Про то, что ты ратуешь за Мстислава, знаю. Мирошка тож не против него, из Нездиничей он. Отец его за наше дело пострадал. А Всеволод ставит нам во князья Ярослава. Ярослава ж требует и чернь. Ежели возьмем Ярослава, то и смуте конец.
— Не хотим Ярослава!
— Самим себя губить?
— Хотим Мстислава!
— Ефросима — в поруб!..
Прекращая споры, Мартирий снова постучал посохом.
— Се — Боярский совет, не псарня, — сказал он. — Како ответим Всеволодовым послам?
— А тако и ответим — Ярослава не хотим. Хотим Мстислава.
— Что на вече скажем новгородцам?..
— А то и скажем…
Мартирий встал. Задевая за лавки, бояре подались к выходу. Мирошка задержался в палатах.
Когда все вышли, владыка поманил его к себе. Приблизившись, посадник удивился бледности Мартириева лица. Щеки его лоснились, заострившийся нос сильнее прежнего нависал над верхней губой.
— Како мыслишь, Мирошка? — спросил Мартирий осипшим голосом, обшаривая бегающими глазами лицо посадника.
— Худо, владыко. Совсем худо, — сказал Мирошка.
Помолчал, покашлял, тихо добавил:
— Ефросим нейдет у меня из ума. Вот заковыка. Слухи-то о подлоге ползут. Неверно, кричат мужики, тянули жребий…
Глава пятая
1
Узнав о том, что Торческ, отнятый у него для Всеволода, передан сыну киевского князя Рюрика Ростиславу, разгневанный Роман, как и предсказывал Твердислав дружкам своим, перво-наперво (еще теплился в нем разум) направил в Киев гонца с грамотой, в которой требовал, чтобы Рюрик не заводил вражды, а вернул ему отписанные по уговору города.
До Киева и обратно на Волынь путь не близок. Долго скакал гонец, а Роман тем временем, не ожидая ответа, по научению бояр своих послал Судислава к черниговскому князю из племени Ольговичей, подбивая его объединиться против Рюрика и вместе идти на Киев, за что обещал ему великокняжеский стол.
Слухами земля полнится, а может, кто и намеренно оповестил (бояре волынские ухо держали востро), но стало Рюрику известно о заговоре. Еще только сходил Судислав с крыльца на Красном дворе в Чернигове, прощаясь с князем, а к Роману с его же гонцом летело предостережение из Киева. «Про все твои козни мне ведомо, — писал Рюрик, — а посему посылаю людей своих к Всеволоду сказать ему, чтобы думал о Русской земле, о своей чести и о нашей. Тебя же обличаю и бросаю перед тобою наземь крестные грамоты».
Испугался Роман, понял, что с черниговским князем Рюрика, за спиной которого стоял грозный Всеволод, ему не одолеть, и отправился за помощью в Польшу.
Громко плакала и причитала Рюриковна, когда отъезжал муж ее на чужбину.
— Кто же тебя приголубит, накормит-напоит? — стонала она. — Кто снимет с тебя обувь, обмоет белы ноженьки?..
— Полно, дура, — говорил Роман, отстраняясь от жены. — Не на веки провожаешь. Еще возвращусь я на Волынь с войском, еще потягаюсь с тестем своим. А тебе мой наказ: нет у тебя боле отца — ворог он мне. Буде узнаю, что сносишься ты с ним противу моей воли, отрину, яко холопку…
— Срам-то какой! — кричала Рюриковна, цепляясь за Романов кафтан. — Почто говоришь грозные речи, почто пред боярами своими, пред мамками и дядьками унижаешь? Аль не жена я тебе? Аль не раба я тебе?
Отшумели прощальные пиры, отревелась Рюриковна. Отъезжал князь в Краков гордо, словно не милости отправлялся просить, а воевать чужую землю. Купцы и ремесленники вышли на улицы, заполнили площадь перед дворцом, ребятишки висели на плетнях и частоколах.
Но сразу же за городскими воротами случилась заминка. Сроду такого не бывало, а тут вдруг сползло с Романова коня седло. Покатился Роман в дорожную колею, едва шею себе не свернул.
Побледнели дружинники, спрыгнули наземь, гурьбой, толкая локтями друг друга, поспешили ему на помощь.
— Не ушибся ли, княже?..
— Не повредил ли чего?..
Покрасневший от гнева Роман, поднявшись сам, стоял, расставив ноги, дергал шеей и велел надорванным голосом звать меченошу.
— Тута я! — протиснулся сквозь толпу парнишка с остреньким носом и светлым пушком над верхней губой.
— Кто коня снаряжал? — тихим шепотом спросил Роман.
— Я с конюшим.
— Почто седло сорвалось?
Меченоша глядел в побелевшие глаза князя и дрожал от страха.
— Про то не ведаю, княже, — пролепетал он едва шевельнувшимися пересохшими губами.
— А кто ведает? — прорычал Роман, развернулся от плеча, дал меченоше затрещину. Ловко бил Роман — от удара его паренек дернулся и затих, лежа плашмя на дороге.
— Ай пристукнул малого? — склонился над меченошей Твердислав. Глаза его улыбались, но лицо было серьезно.
Роман уловил насмешку в его словах.
— Эко жалостлив стал ты, боярин, — сказал он сквозь зубы. — Давно гляжу на тебя, слушаю речи твои, а все нутро супротив тебя подымается… С чего бы это?
Забыл Роман осторожность, высказал сокровенное. Прищурился Твердислав:
— Стал быть, не веришь мне, княже?
Роман повел головой, осклабился; но на вопрос боярина отвечать не стал. Вложив ногу в стремя подведенного ему нового коня, вскочил в высокое сарацинское седло, украшенное серебряной каймой с кистями.
— Плохая примета, — перешептывались суеверно за его спиной дружинники.
«Плохая примета», — подумал князь.
Беспокоила его смута, возникшая в польской земле после смерти доброго его приятеля великого князя Казимира, брата Болеслава Кудрявого. Последний из Болеславичей, Мечислав Старый, изгнанный недовольными можновладцами [86], тоже был хорошо знаком Роману, с ним он даже сносился через свою родную племянницу, Казимирову жену Елену, но последние слухи, докатившиеся через порубежье, заставляли задуматься.
Сомнительно было Роману, чтобы Мечислав снова сел в Кракове — сам палатин [87] Николай был против него. Можновладцы посадили на стол малолетнего сына Казимира Лешку, и мать его Елена была при нем.
К ней-то и надумал Роман ехать за помощью.
Скоро распрощалась дружина с родной Волынью. В последней русской деревушке, разбив шатры на берегу небольшой реки, пировали на славу.
Здесь-то и застал Романа посланный ему навстречу Мечиславов гонец.
В шатер ввели высокого юношу с непокрытой белокурой головой. Поклонившись князю и боярам, гонец сказал:
— Князь Мечислав, живущий с тобою в мире и дружбе, прослышав о твоем приезде, зовет тебя с дружиной к себе в гости, а в подарок посылает шубу и золотой обруч для жены твоей Рюриковны…
Польщенный вниманием, Роман принял подарок, велел кланяться Мечиславу, но уклончиво отвечал, что едет к племяннице своей в Краков и сворачивать с пути ему недосуг.
Гонца усадили за стол, наливали ему вина и браги, угощали жареной дичью, величали Мечислава великим князем. Утром едва усадили гонца на коня и отправили с богом. Немного спустя тронулись и сами.
Дальше путь Романа с дружиной лежал по польской земле.
На что уж невзрачно выглядели крытые бурой соломой крыши изб в своих, волынских, весях, — здесь картина, явившаяся их взорам, была еще безотраднее.
Да и с чего было жировать польскому крестьянину, если платил он со своего клочка земли и порадльное, и поволовое, и подворное, и подымное [88]. А еще тянули с него и нарез, и сеп [89]. А со всего ополья взимался оброк крупным рогатым скотом…
На берегу Вислы, неподалеку от Кракова (уж приземистые башни Вавеля были на виду, а над ними вздымалась дороманская капелла Девы Марии), Романову дружину встретил войт [90], посланный Еленой, которая беспокоилась, не причинил ли дядьке ее какого вреда коварный Мешка (так здесь все называли Мечислава).
Роман важно восседал на коне, смотрел на войта усмешливо. Дружинники фыркали в рукава.
— Пан Дамазий, — поклонился Роману войт. Когда он кланялся, шея его, казалось, гнется с трудом. Да и весь пан Дамазий был негнущийся и длинный, как жердь. Ноги его, засунутые в стремена, торчали едва не выше луки седла, нос был длинен и уныл, глаза безжизненны и желты, серые щеки свисали на воротник. Голос его был скрипуч, а непривычные слова, которые он произносил, еще больше смешили дружинников.
Внимательно выслушав войта, Роман сурово оглядел своих людей. Дружинники притихли.
— Ишь развеселились, — сказал князь с упреком. — Поди, не на своей земле. Нешто не нахрюкались на Волыни…
— Велишь ли купать коней, княже? — выехал вперед Твердислав. От долгой езды у него затекли ноги, ныла поясница. Не по возрасту боярину тягаться с молодыми — тем хоть бы что, привыкли дневать и ночевать в седле…
Взглянув на неприступного пана Дамазия, Роман кивнул:
— Купайте коней. Не гоже являться в Краков, яко в хлев.
Дружинники загалдели, расседлав коней, разделись сами, кинулись с берега в воду, подымая вокруг себя звонкие брызги. День стоял не по-осеннему жаркий, белые хлопья облаков, словно нарисованные, неподвижно висели в синем небе. Парило.
Расстелив корзно, Роман сидел на берегу, смотрел в подернутую дымкой даль.
Чуть-чуть скребла тоска, было жарко и томно, над головой монотонно гудели слепни, и мысли отодвигали Романа в прошлое. Не большую и не малую прожил он жизнь — и почти всю провел в седле. Носило его по Руси из конца в конец, а начало всему было в Киеве, в деревянном дворце, что и поныне высится над Горой.
Тогда казалось ему, что Гора и впрямь самое высокое место на Руси и что нет ничего крепче крепких стен отцова дворца. Лютые ветры обдували его со всех концов, бились о дубовые бревна холодные снега, врывались на крыльцо и обессиленно скатывались к Подолу людские толпы. Отсюда вершил отец его суд и расправу, отсюда отправлялся на веселую охоту и смертный бой. В просторных сенях собирались бояре, в горнице медами и веселыми песнями встречали вести о победах. Много людей прошло по натертым воском деревянным полам. Шли люди с радостью и с бедой, а дворец жил своей размеренной жизнью — и так изо дня в день, из года в год, пока однажды не встало под стенами Киева неисчислимое войско.
С того дня началась для Романа новая жизнь. И с того дня не было в его жизни уже ничего более прочного, чем эти воспоминания.
Взятый на щит Андреем Боголюбским, Киев пылал, черные дымы клубились у подножья Горы, а на Горе стоял отец Романа Мстислав, еще недавно гордый великий князь, стоял в изодранной кольчуге, с непокрытой головой, обреченно сжимая в руке ненужный более меч.
Владимирский князь, окруженный дружинниками, еще возбужденными после недавней сечи, медленно подъехал к нему на коне и окинул взглядом припавшую к плечу Мстислава княгиню и молодого княжича Романа, стоявшего рядом с бессильно опущенными вдоль туловища большими и сильными руками.
Взгляд этот врезался в память Романа, связавшись с горькой обидой и потерянной верой в прочность и незыблемость еще совсем недавно такого понятного и простого мира.
Был Роман от природы задирист и смел, скоро освоил он хитрую науку власти, но страх перед лежащим за дремучими лесами неведомым Владимиром то и дело леденил его в ту минуту, когда нужно было сделать последний, решительный шаг.
Мир, созданный детским воображением, распадался и таял, словно ком пушистого снега.
Ушел Андрей Боголюбский, пришел Всеволод. И снова дули с северо-востока холодные ветры. Озябшие под ними князья ворчали и забивались в теплые норы. Роптали бояре, возились по углам, жили слухами и пустыми надеждами.
Рюрик сидел в Киеве, но Русью правил не он. Качался под глухими ударами вечевой Новгород…
На что надеялся Роман, какую лелеял думу? На берегу чужой Вислы, вдали от родины, не о том ли мечтал он, чтобы возвысить и свою ставшую любимой Волынь?..
Не к Галичу ли, где сидел пропившийся и разгульный сын Ярослава Владимир, был обращен его ястребиный взор?..
Кто предскажет будущее? Кому дано прочесть его таинственные и непонятные знаки?
Не знает об этом и Роман, потому что сердце его сейчас полно обиды и горечи, а чужая земля наполняет чувством неизбывной тоски.
2
Свою племянницу Елену Роман помнил совсем еще девочкой. Была она свежа и румяна, большие глаза на узком лице ее почти всегда смотрели не то с испугом, не то удивленно, в крохотных мочках ушей поблескивали золотые серьги со светлыми камушками, словно это были капли холодного утреннего дождя…
Теперь ее нельзя было узнать. Князя встречала стройная женщина с усталым лицом и грустными глазами — черные брови были подведены краской, на шее красовалось тяжелое ожерелье, руки, унизанные кольцами и браслетами, покоились на животе, туго стянутом блестящим парчовым платьем. Подол платья был расшит золотыми и серебряными узорами, ножки княгини в золотых узконосых сапожках покоились на бархатной подушке…
Войт, проводив Романа во дворец, сам остался за дверью.
Елена сидела неподвижно, обратив взор свой в сторону забранного решеткой слюдяного оконца.
— Слава Иисусу, — произнес незнакомый голос, и князь, повернув голову вправо, увидел неторопливо приближающегося к нему старца с улыбкой, словно прилепленной к бледному лицу.
— Княгиня Елена и я приветствуем тебя на польской земле, Роман, — продолжал старец. — Хорошо ли доехал, не причинил ли кто тебе обиды в пути? Народ наш набожен и кроток, но прослышали мы, что присылал к тебе гонца своего Мешка, а ему веры у нас нет. Еще покойный Болеслав не любил его за строптивость и жестокий нрав. Теперь же, изгнанный из Кракова, стал он опасен, как дикий вепрь.
Роман быстро смекнул, кто перед ним: о палатине Николае был он немало наслышан, но представлял его себе совсем иным. Казалось ему, что первый советник князя и ростом могуч, и ликом прекрасен. Однако, приглядевшись, понял, что, несмотря на дряхлое обличье, влекло его к Николаю, — глаза, с легким прищуром, проницательные и умные.
Палатин говорил тихо, казалось, ему было все равно, слушают его или нет. Но время от времени он бросал на Романа острые взгляды: князь чувствовал себя под ними неуютно, будто нагой на широкой площади, полной людей…
Наконец Николай замолк, отступил с легким поклоном, и Роман, придерживая левой рукою меч и твердо шагая по половицам, приблизился к Елене.
Нет, не прежняя девочка сидела перед ним в глубоком кресле. Что случилось с Еленой? Почему румянец, как прежде, не зажигается на ее щеках, почему глаза смотрят в пространство и не видят Романа?
Почему не встанет она, не шагнет ему навстречу, не осветит лицо свое радостной улыбкой? Почему?!
Холодно на чужбине, безрадостно. Каменные своды давят на плечи, сыростью и безразличием веет от стен. Чужие лики смотрят с икон, чужие облака плывут за окнами…
— Будь здрава…
— Будь здрав…
И больше ни слова. Не о чем им говорить. Звуки голоса падают в гулкую пустоту.
А ведь когда ехал сюда Роман, совсем иначе представлял себе эту встречу. Не о пышных пирах думал он, не о ликующих криках толпы на улицах Кракова, но и не о таком безрадостном запустении.
Что гнетет Елену? Почему настороженно покашливает палатин за его спиной?.. Не верят? Боятся предательства?
Но только ли Мешка тому причиной?
Теперь лишь прозрел Роман: ни дорогое платье, ни драгоценные украшения не могут скрыть окружившей его захудалости. Только теперь увидел Роман, что кресло, в котором сидела Елена, давно уже не золочено, что нарядная обивка подлокотников стерлась, а на спинке темнеют сальные пятна. Ковры потрачены молью, стены и потолки облупились, решетки на окнах тронула прожорливая ржа…
— Мы знаем, мой друг, что привело вас в Краков, — донесся до Романа вкрадчивый голос Николая. — Но чем можем мы вам помочь? Князья наши не признают верховной власти, дерзят епископу Фулкону, ссорятся друг с другом, княгиня больна. Западное Поморье отошло под власть германского императора. Бранденбург навис над нами, подобно секире, а Мешка собирает войско. Казна наша оскудела, нивы опустели, крестьяне жгут панские усадьбы…
Слабым кивком головы Елена подтвердила слова палатина.
— Ты прибыл к нам со своей дружиной, у тебя храбрые воины, — продолжал Николай. — Помоги нам справиться с Мешкой, и тогда мы сможем помочь тебе.
Роман удивился:
— Разве палатину не известно, что Мешка мой друг?
— Он недруг твоей племянницы, — нахмурился Николай. — И, значит, тебе он тоже враг.
— Елена была его свояченицей…
— Но твоя жена тоже дочь великого киевского князя, — улыбнулся палатин, — однако это не помешало ему отнять у тебя лучшие города, а сам ты прибыл к нам просить помощи против Рюрика. — Николай был прав. Роман смутился и замолчал.
— Помоги нам, Роман, — сказала Елена.
«Всюду раздоры и скорбь», — подумал Роман, с участием глядя на племянницу. А маленький Лешка, ее сын, резвится где-нибудь во дворе и не ведает о том, что стал причиной кровавой усобицы.
Но разве и сам Роман, когда еще был малолеткой, не был посажен на княжение в Новгород отцом своим Мстиславом? Разве не помыкали им бояре?.. До сих пор не стерлось из памяти, как выводили его на степень [91] под знобящий гул вечевого колокола, показывали разъяренной толпе.
Забыть ли, как темной осенней ночью ехал он по раскисшей от распутицы дороге к отцу в Киев, оставив дружину, с одним только отроком, — трусливо, как загнанный охотниками варедной [92] зверь? Как выбирал глухие места, боялся заезжать в деревни, жевал в лесу размоченные в горячей воде сухари, и плакал от бессилья, и клялся, взяв у отца войско, вернуться и отомстить тем, кто подверг его позору и унижению. Как оставил у костра на мокрой попоне своего заболевшего спутника и не оглянулся назад, не согрел его прощальным взглядом и как встречал униженного сына разгневанный Мстислав, а мать утирала ему убрусцем мокрое лицо и громко причитала. И как после метался он из города в город, черствея душой и преисполняясь ненавистью к своим более удачливым сверстникам. Как сам стал жесток и неправеден, потому что мягкосердие и праведность рождали неудачников, а он был честолюбив и заносчив, потому что в жилах его текла гордая кровь его предков, привыкших судить и властвовать…
Не о клятве, данной изгнанному из Кракова Мечиславу, думал Роман, невпопад отвечая на коварные вопросы палатина. Клятвы дают и преступают их, когда это выгодно. Крестные грамоты рвут и бросают к ногам тех, кто нарушил клятву. Но небесные громы не низвергались на клятвопреступников, иначе не было бы уже на Руси князей.
Одного только страшился Роман: хватит ли силы у Елены справиться с Мечиславом? Потому что, ежели Мечислав, а не Елена одержит верх, то не только помощи не дождаться Роману, а еще обретет он у западных своих рубежей опасного противника.
Палатин Николай умел убеждать. Вкрадчивые речи его достигли цели. Роман поверил.
Если бы так же речист и настойчив был Мечислав, то, может быть, Роман поверил бы в Мечислава. И дружина, которую сейчас он отдал Елене, двигалась бы с Мечиславовым войском к Кракову, чтобы свергнуть Елену, и Елена, обливаясь слезами, ушла бы в монастырь или вернулась к своему отцу, а Роман, не вспомнив о ней, пировал бы под этими же самыми сводами, а палатин Николай сидел бы в темнице, закованный в железа.
Могло бы ведь и так быть? Но этого не случилось. И верх одержала Елена, и лицо ее уже светилось давнишней девичьей улыбкой, и Роман, отдыхая с дороги за пиршественным столом, с радостью узнал в ней ту застенчивую девочку, чей образ сохранился в его цепкой памяти.
Не знал он, что в то самое время, как палатин поднимал оловянный кубок, наполненный красным вином, во здравие волынского князя, у краковского войта пана Дамазия сидел чернявый юркий человечек с собачьими, преданными глазами и пан Дамазий, морща лоб, наказывал ему гнусавым голосом немедля скакать в Мечиславов стан с грамотой, скрепленной большой восковой печатью.
Ни палатин Николай, ни Роман, ни Елена так никогда и не узнали, что было в этой грамоте, — не знал об этом и юркий человечек, спрятавший драгоценный свиток за опушку своей лисьей шапки.
Посланец войта не любил лишнего шума и посторонних глаз: он вышел из Вавеля потайным ходом, вскочил за городской стеной на оседланного коня и, тронув его, тут же растворился во мраке.
Утром Мечислав уже знал об измене Романа и, приготовив войско, спокойно ждал волынского князя с дружиной.
3
Светало. Над Вислой еще клубился туман, а по мокрой от росы траве протянулись длинные тени. Солнце выкатывалось над лесом большим огненным шаром, лучи его коснулись вершин деревьев, заблестели в прибрежной осоке, посеребрили частые гребешки волн в реке.
Ночевавшие на берегу рыбаки, собравшись раскидывать невод, с удивлением прислушались к нарушившему утренний покой непонятному шуму. Вглядевшись в быстро редеющий туман, они увидели столпившихся на противоположном берегу всадников. По реке, высоко вытянув шеи, уже плыли кони, барахтаясь в скрытых под водой ямах, выбирались на отлогую песчаную косу и скрывались в березовом перелеске, подступившем с одной стороны к реке, а с другой — к дороге, ведущей на Краков. Сквозь плеск воды доносилось бряцанье снаряжения и оружия, тихие голоса, треск ломаемых в перелеске сучьев.
Бросив бредень и спрятавшись в высокой траве, поднявшейся на низменном берегу реки, рыбаки пролежали так около двух часов, наблюдая за переправляющимся через Вислу войском.
— Иезус-Мария, — вдруг прошептал побледневшими от страха губами Юзик, у которого на лугу осталась расседланная лошадь. — Пропала моя кобыла. Что скажу я пану Игнацию?
— Молчи, — ткнул его локтем под бок перепуганный товарищ. — Был бы сам жив. Не то увидят, тогда обоим несдобровать.
— Да как же я без кобылы? — удивился Юзик. — Все равно что без рук. Пусть лучше отрубят мне руки, но оставят кобылу. Что ты такое говоришь, Стась?..
— Заткнись, — сказал сквозь зубы Стась. — А не заткнешься, я сам заткну твою поганую глотку. Или забыл, как повесили Паневку, когда проезжал по нашей деревне тот толстый лавник [93] из Севежа?
— Как не помнить, — стуча зубами от страха, пролепетал Юзик.
Синее лицо повешенного стояло у него перед глазами. А еще вспомнил Юзик, каким веселым парнем был Паневка и как любили его девчата. Из-за одной из них, голубоглазой вертихвостки Амальки, он и угодил на осину. Приглянулась Амалька лавнику, — ну и бог с ней, — а Паневка стал дерзить, схватился за топор… Этак-то у кого хошь лопнет терпение… Мать после долго убивалась по сыну, а Амалька уехала с лавником. С тех пор ее больше не видели в деревне.
Что-что, а на осину Юзику не хотелось. Вспомнить жутко, как раскачивал ветер задубевшее тело Паневки, как поскрипывал сук, а ночью завывали под ним, вскинув острые морды, оголодавшие за зиму волки…
И все-таки кобылу Юзику было жаль. Как прокормить ему без кобылы большую и вечно голодную семью? Семь ртов, не считая самого. Стасю легко говорить, у него жена толста и бесплодна, а у Юзика ребятишки каждый день просят хлеба, и у жены снова брюхо лезет на нос.
Но товарищ его, наверное, все-таки был прав. Там, где много панов, Юзику делать нечего. Паны дерутся что ни день, забот у них не счесть: не успеет один пан покончить с соседним паном, как друзья соседнего пана, собравшись вместе, едут уже к нему, сжигают его усадьбу, забирают урожай и насилуют в деревне девок…
Много, ох как много войска переправилось через Вислу!.. Значит, опять паны в ссоре, значит, снова уходить крестьянам в леса, спасать свой скудный скарб. Хорошо хоть, что деревня Стася и Юзика на другом берегу. Смилостивилась хоть на сей раз пресвятая дева Мария, пронесла беду стороной.
А кобыла у Юзика пропала; ему уже казалось, что он слышит ее жалобное ржанье.
Стась тоже услышал ржанье. Но это была не Юзикова кобыла, это ржали совсем другие кони. Их было много, этих коней. И скоро топот сотен копыт сотряс под мужиками землю. Началось.
Выползли мужики, крестясь, из-под берега на пригорок, и Стась, встав на коленки, закричал от ужаса.
Две лавины схлестнулись на краковской дороге. Рухнула тишина. Звон мечей о кольчуги, скрежет, глухие удары, стоны, пыль до небес, а в пыли — ощеренные конские морды, окровавленные лица.
Померкло солнце над Вислой, темно стало, как перед грозой. Схватился Юзик за голову, зажал уши, ткнулся лицом в траву.
— Господи, господи, — шептал он.
Все было, дрались паны друг с другом, но прожил Юзик на этом свете ни много ни мало — сорок лет, а о такой лютой сече даже от бывалых стариков не слыхивал.
Время от времени вырывались из пыльного облака обвитые белой пеной кони без седоков, время от времени выползал окровавленный воин дыхнуть свежего воздуха и, разинув рот, оставался неподвижно лежать на берегу реки.
А потом крики стали еще громче, скрежет железа о железо рвал уши, потому что битва приближалась к Висле, и Юзик со Стасем, вскочив, пустились наутек к своим спрятанным в кустах лодкам. Быстро смотали бредень, взялись за весла и торопливо погребли к своему берегу. Вовремя надоумила их пресвятая дева Мария: на середине, оглянувшись, увидели они, что на том самом месте, где только что оба прятались в высокой траве, метались люди, размахивая руками, а воины в высоких шлемах били по головам и по плечам мечами, пронзали копьями корчившихся на земле раненых…
Долго сидели Юзик со Стасем в своих лодках под противоположным берегом, а когда на краковской дороге все стихло, Стась сказал:
— Пойдем посмотрим, что это было.
— Иди один, — ответил Юзик, — а у моей Марыси должен родиться ребенок. Если меня убьют, она не прокормит восьмерых…
— Дурак, — посмеялся над ним Стась. — То жалел ты свою кобылу, а сейчас на том берегу бродят десятки хороших лошадей. Нет у них хозяев. Не мы, так другие выловят и приведут их на свой двор.
Слова Стася поколебали Юзека.
— Хорошо, — согласился он. — Пойдем и возьмем себе по коню.
Они переправились через Вислу и осторожно сошли на берег. Первым увидел одиноко стоявшего на пригорке коня удачливый Стась.
— Видишь, — сказал он. — Я был прав.
И взял коня за уздцы. Юзик вскричал:
— Смотри, Стась, это княжеский конь!.. У него богатое седло и красивая попона.
Стасю жалко было хорошего коня. Но осторожный Юзик заставил его задуматься. Таких коней в округе немного. Каждый спросит себя, откуда у Стася такой конь. Наверное, он украл его, скажут одни. Другие подумают, что он ограбил богатого человека на большой дороге. Да если и возьмешь такого коня, то какой от него прок крестьянину? Не запряжешь его ни в соху, ни в телегу. Да и ест он, наверное, один только овес — оттого так и лоснится на его холке короткая шерсть.
Успокоил себя Стась и пошел дальше по полю, то глядя по сторонам, то склоняясь над убитыми.
Люди лежали в беспорядке по всему берегу. Кто был в простой рубахе, кто в кольчуге; кто сжимал копье, кто топор, кто меч.
Когда вошли в рощицу, Юзик, дергая Стася за рукав, закричал не своим голосом:
— Гляди, Стась, а вот и моя кобыла!
Стреноженная лошадь прыгала по лужайке, мирно пощипывая траву. Увидев приближающегося хозяина, она вскинула голову и приветливо заржала. Юзик даже прослезился от счастья и поцеловал кобылу в нос.
Он был вполне доволен и собрался уходить. Но Стась остановил его.
— Давай походим еще, — сказал он.
Теперь, когда кобыла нашлась, Юзик успокоился и подобрел.
— Давай, — согласился он, улыбаясь, — может, и тебе сыщем коня.
Но коней почему-то ни в рощице, ни на дороге, усеянной трупами, не было видно.
Тогда Стась пожаловался, что у него прохудилась обувь и он хочет обзавестись сапогами.
Сапог вокруг было много, глаза разбегались. Были красные сафьяновые, с серебряной стежкой по голенищу, были малиновые. Кожа у них мягкая, шелковистая, ласкает ступню. Встречались и погрубее — юфтевые.
Стась выбрал чоботы из сыромятной кожи, а Юзику приглянулись новые лапти. Брать господские сапоги они побоялись.
Жадный Стась не утерпел, сорвал с шеи убитого золотую цепочку, повертел ее в руках и тоже выбросил. А Юзик подобрал топор на длинной рукоятке. Таким топором удобно рубить хворост, решил он.
— Жалко, так и не сыскал я себе доброго коня, — вздохнул Стась. — И куда они только запропастились?
Совсем подобревший Юзик сказал:
— Поищем еще.
И они стали искать, продвигаясь по обочине дороги и перекликаясь друг с другом. Юзик вел в поводу кобылу, а на плече нес топор. Был он вполне счастлив, и бесплодные поиски скоро ему надоели.
Стась не хотел возвращаться домой.
— У тебя кобыла и топор, — говорил он, — а у меня ничего нет.
— Возьми и ты топор, — сказал ему Юзик. — Посмотри, — сколько их валяется вокруг…
Небо тем временем быстро темнело, воздух стал тяжел и влажен. Полил дождь.
Друзья бегом припустили к берегу. Юзик привязал кобылу к лодке, и они поплыли на свою сторону.
Всю дорогу до самой деревни Стась был хмур и не произнес ни слова. Возле хибары Юзика он внезапно остановился и сказал:
— Ты иди домой, а я все-таки вернусь и подберу себе топор.
— Почему ты не взял его сразу? — удивился Юзик.
Но Стась ничего не ответил ему, потому что пожалел он не только о топоре. Если бы не было рядом Юзика… Он вспомнил о выброшенной в траву золотой цепочке и чуть не заплакал от обиды. Дурак ты и есть дурак, Стась. Если бы ты не выбросил цепочку, а снес ее своему деверю в Краков, он дал бы тебе много денег, — сказал себе Стась. Деверь его состоял в ремесленной общине — гмине — и был известным повсюду золотых дел мастером.
«Там можно еще кое-что найти», — нетерпеливо думал Стась, пробираясь по раскисшей от дождя дороге.
Глядя ему вслед, Юзик покачал головой. «Плохо кончит Стась», — сказал он себе и ввел кобылу во двор…
Спустившись к реке, Стась отвязал лодку и переправился на другой берег.
Теперь он был умнее. Он сорвал с убитого большую кожаную суму и стал быстро наполнять ее разными вещами. Руки Стася тряслись от радостного возбуждения, сума тяжелела, и он не заметил приближающихся к нему от перелеска всадников.
Мечислав, подбоченясь в седле, сказал своему меченоше:
— Видишь этого крестьянина с сумой, обирающего моих воинов? Если ты поразишь его с этого места первой стрелой, я подарю тебе свой перстень. Вот этот.
Меченоша улыбнулся и снял через голову лук. У него был зоркий глаз, об этом знали все, но на таком расстоянии редко кто попадал в цель…
Услышав за спиной шорох, Стась разогнулся и, защищая лицо от дождя рукой, посмотрел вокруг. Боковым зрением он успел разглядеть всадников на опушке, молодого воина со вскинутым к щеке луком, хотел броситься в сторону, но не успел — стрела пробила его со спины, и острый конец ее с несколькими капельками крови на кончике вышел на его груди. Он удивленно посмотрел на торчащее возле сердца жало, потянулся к нему и упал затылком в траву.
— Меткий выстрел, — похвалил Мечислав и, улыбаясь, снял с пальца обещанный перстень.
Сегодня князь был в хорошем настроении. Дружина Романа позорно бежала. Как доносили лазутчики, сам он был ранен в плечо, и его едва успели унести с поля битвы.
Путь на Краков был открыт.
А Юзик, ничего не зная об этом, когда перестал дождь и снова выглянуло солнце, вышел во двор, поплевал на ладони и принялся тесать лесину, чтобы заменить в доме подгнившую слегу.
Топор был тяжел, но хорошо отточен; желтые стружки так и сыпались во все стороны из-под его острого лезвия.
Жена управлялась с ребятишками и иногда выглядывала во двор, чтобы посмотреть, что делает Юзик, а у плетня стояла тощая кобыла, хрумкала траву и смотрела на хозяина преданным взглядом.
4
Три дня и три ночи ждал Твердислав терпеливо, когда примет его киевский князь Рюрик Ростиславич. Была у него на руках грамота, в которой вернувшийся из Польши Роман просил прощения за великие обиды и смуту, посеянную на Руси.
Роман отказывался, уже навсегда, от Торческа, обещал верно хранить данную клятву и не замышлять зла против Рюрика ни с черниговским князем, ни с какими другими князьями, а жить с ним в мире и полном согласии.
Роман был тих и покорен, — казалось, урок, преподанный Мечиславом, сломил его гордый дух: жена ухаживала за ним с любовью, обласканные бояре стали его первыми советчиками. Целыми днями они толпились на княжеском дворе, выхваляясь друг перед другом, вытягивали у Романа новые земли, вымаливали подарки и посулы. Великая благость простерла свою длань над Волынью. Епископ в соборе и попы в больших и малых церквах молились за скорейшее исцеление князя.
Шли затяжные дожди.
Твердислав сидел у окна, смотрел, как проезжали по лужам возки, как бежали, накрывшись мешками от дождя, мужики и бабы, и на душе у него было благостно: свершилось задуманное.
Как и наказывал ему Роман, сразу же по приезде в Киев навестил боярин митрополита.
— Никифора слушает Рюрик, — говорил, тяжело дыша от сильного жара, князь (рана в плече наливалась гноем). — Езжай с великими дарами, пади митрополиту в ноги, без Рюрикова прощенья не возвращайся…
«Проняло-таки князя, — улыбнулся своим мыслям боярин. — Вняла нашим мольбам богородица, поставлю ей по возвращении на Волынь пудовую свечку».
Сознавая торжественность случая, Никифор встречал Твердислава в парадном облачении, допустил к руке, но разговаривал на расстоянии. Боярин стоял на коленях, избегая митрополитова взгляда. Говорил глухо, изъявляя глубокую скорбь и раскаяние:
— Вступись, отче, не оставь без внимания верного раба твоего, заблудшего агнца Романа. Не по своей воле, а по наущению диавольскому возмутился наш князь. За то и покарала его рука божия, за то и лежит он ныне прахом у ног твоих и взывает о пощаде.
— Много бедствий принес Роман Руси, — разомкнул уста митрополит Никифор. — Но в раскаяние его я верю, ибо сам Христос, спаситель наш, завещал нам любовь к ближнему и прощение. Ступай, боярин, к себе на двор и жди. Ежели уговорю я Рюрика, велят тебя кликнуть — явись тот же час. Ежели не уговорю, возвращайся восвояси, и да будет с вами всемилостивейший бог… Аминь.
Служки подхватили ослабевшего Твердислава под руки и вывели за дверь.
Остамел боярин: тяжкий дух стоял в митрополичьих палатах. Был Никифор худосочен и тощ, и кровь его была холодна — велел он с утра жарко топить все печи, а озноб не покидал его. Хоть и много золота стоило Никифору место киевского митрополита, но тосковала душа его по теплым берегам Босфора, по синему морю с белыми парусами корабликов, по оливковым рощам. Патриарх, похоже было, совсем про него забыл. Полгода не приходило вестей из Константинополя, полгода жил Никифор в полном одиночестве, общаясь только с книгами и враждующими между собой князьями.
Больно кольнуло сердце митрополита Романово своеволие. Испугался он, как бы не опутал волынского князя своими сетями святейший папа, как бы не наслал в его земли своих нунциев [94], не обратил православных в свою веру. Тогда разгневается патриарх, пришлет на Русь другого, более расторопного пастыря…
И так рассудил митрополит: если не помилует волынского князя, не помирит его с Рюриком, то другие позаботятся о нем — в Кракове. Зачем играть с огнем?!
Три дня сидел Твердислав в Киеве. На четвертый день утром явился отрок с Горы: Рюрик звал боярина к себе.
— Слава тебе, господи, — облегченно перекрестился Твердислав.
Но, пригласив на Гору, Рюрик и здесь не сразу принял боярина. В узком переходе перед гридницей сидели на лавках, поставленных вдоль стен, дружинники, купцы и прочий незнакомый Твердиславу люд, слышались приглушенные голоса, с кухни доносился перестук ножей, пахло жареным мясом и луком. Над головами надоедливо кружили большие зеленые мухи.
Обряженный в теплую шубу, в высокой меховой шапке, боярин потел и отдувался, недовольно скашивал угрюмые взгляды на суетящуюся вокруг княжескую челядь. Мягкий беззубый рот его кривился в недовольной усмешке, распухшие в суставах пальцы нервно перебирали четки.
Пробегавшие мимо отроки смотрели на боярина с любопытством, особого почтения не выражали, и Твердислав почувствовал сосущее под ложечкой одиночество.
На Волыни был он первым после князя человеком, на княжом дворе все падали ему в ноги, заглядывали в лицо заискивающе, искали его милости.
На Волыни по утрам отправлялся он со своей усадьбы в золоченом возке, лежал, откинувшись на подушки, зевая, лениво крестил рот и не глядел по сторонам. Там все его знали.
Строил князю козни Твердислав на Волыни, а в соборе было у него свое место, по правую руку от Романа, и место это никто не смел занять.
В Киеве Твердислав утратил все свое былое величие. Золоченого возка ему не подавали, в божьей церкви затирали спинами в задние ряды, простые отроки и гридни, проходя мимо, бесцеремонно задевали его локтями и скалили зубы.
Ничего, еще и не такое стерпит Твердислав. Шкура у него толстая, зато ум тонок. В другое время, может, и погладил бы он иного невежу посохом пониже спины, а здесь благоразумно воздерживался. Пусть унижен боярин на Горе — за все воздастся ему с лихвой на Волыни.
Только к вечеру попал Твердислав в гридницу ко князю — и на обед не был зван: проголодался зело, живот обмяк. Терпелив был боярин, ох как терпелив: ни словом, ни взглядом не выразил своего беспокойства.
Зря искал Рюрик смущения и следов усталости на его лице.
Был боярин улыбчив, речам княжеским внимал с почтением.
Долго поучал князь Твердислава, словно последнего слугу своего. Все обиды, что нанесла ему Волынь, припомнил и боярину говорил:
— Ты ближе всех ко князю. В том и твоя немалая вина, что неуступчив Роман и своеволен. Плохие у него советчики.
Проглотил упрек Рюрика Твердислав, все выслушал, ни в чем не возразил.
— Истинно так, княже, — вторил он с покорством.
Под конец, распетушившись от важности, Рюрик сказал:
— Ежели Роман просит и раскаивается в своей вине, то я его приму, приведу ко кресту и волость дам. Ежели он устоит в крестном целовании, будет вправду иметь меня отцом и добра моего хотеть, то я буду иметь его сыном, как прежде имел и добра ему хотел…
Ни слова не спросил князь о дочери — словно и не было ее на белом свете, словно и не родитель он ей. Зело подивился такому случаю Твердислав и сам сказал Рюрику:
— Дочь твоя жива и здорова, княже. Шлет тебе поклон и подарки.
Ничего не ответил на это князь. Выслушал Твердислава со скукой в глазах. Подняв грузное тело со стольца, дал знать, что говорить им больше не о чем.
С хорошей новостью возвращался Твердислав на Волынь. И хоть, как и в Киеве, по всему пути сопровождали его проливные дожди, хоть зима стояла на пороге и бросала в возок мокрые листья, а думалось светло и пронзительно-ясно: «Ай да боярин! Ай да Твердислав!.. Попотешу я нашего князя, как-то еще он у меня вывернется».
Но каково удивился боярин, когда, въехав в крепость, увидел скачущего ему навстречу Романа: рука в перщатой рукавице твердо опирается о луку седла.
— Батюшки-святы! — вытаращил глаза Твердислав. — Много ли ден минуло, как отъехал я в Киев, — лежал ты, княже, в жестокой трясце [95], а нынче глядишь сокол соколом.
— Твоими молитвами, боярин, — сверкнул белыми зубами Роман, — да бабьими заботами. Сказывай, каково Рюрик тебя встречал, не посылал ли грамоты?
Не такою представлял себе боярин встречу с князем — не на улице под дождем, а в тереме с накрытыми пушистыми коврами лавками, в присутствии бояр и дружины.
Замирая от счастья, мечтал он, как поводья коня своего кинет подбежавшему с почтительным поклоном отроку, как подымется неторопливой походкой на крыльцо, пройдет сквозь ряды смущенных бояр и робеющих боярских сынков, как встанет князь с золотого стольца, примет его в объятия и трижды облобызает по христианскому обычаю.
Взбалмошен Роман, не блюдет древнего ряда, посланца своего встречает, как простого смерда. За тем ли ездил Твердислав в Киев, чтобы сломал и торопливо бросил князь Рюрикову печать под ноги своему коню? За тем ли целый час простоял на коленях перед престарелым Никифором?
Прочел Роман грамоту, похлопал боярина по плечу:
— Кто добро творит, тому бог отплатит. Да и я тебя не обижу — знай. Э, да что-то скис ты, боярин. Уж не занемог ли в пути?
— До Киева — не рукой подать. И верно — неможется мне, княже, — проговорил Твердислав обиженным голосом. — Отпустил бы ты меня нынче. Худо, спина болит, ноет в пояснице…
Подумал: «Вот сейчас спохватится Роман, скажет: зову я тебя, боярин, на велик пир в твою честь. Соберу весь христианский народ и тако молвлю ему: глядите все — вот Твердислав, привез он нам добрые вести».
Совсем другое сказал Роман:
— Что неможется, то переможется. А и верно, ты хвор. Ну так ступай с богом!
И, повернув коня, ускакал вместе с дружиной.
Один остался боярин на дороге. Поглядел вслед князю и, дико вытаращив глаза, заорал на мужика, правившего лошадьми:
— Ну, чего встал? Тро-огай!..
Глава шестая
1
В тот самый день, когда Роман получил известие от Рюрика из Киева, в соседнем с ним княжестве, в древнем и славном городе Галиче, светило яркое солнце, к крепостным широко и гостеприимно распахнутым воротам съезжались возы, неся на своих окованных железом колесах прах [96] из Киева и Чернигова, из Новгорода и Смоленска, из венгерской столицы Эстергома и с берегов лазурного Босфора.
Возниц ждал в городе отдых после утомительной и опасной дороги, а купцов — богатое и бойкое торговище…
— Гей-гей-гей! — раздались властные крики.
Засуетились вынырнувшие из ворот воины; расталкивая людей, очистили дорогу, возы сгрудились возле моста, перекинутого через наполненный водою глубокий ров.
— Князь… Князь… — полетело над толпой тихо, словно дуновение легкого ветерка.
Князь Владимир Ярославич на трепетном арабском скакуне, подаренном ему владетелем далекого Трапезунда, в небрежно перекинутом через правое плечо алом корзне, схваченном на груди большою запоною, скакал впереди чуть поотставшей дружины — прямой и гордый. Но ни насупленные выгоревшие брови, ни спадающие по краям губ густые усы не могли скрыть играющую на его лице довольную улыбку.
Неделю тому назад, въезжая с княгиней в Холм, он еще был полон тревожных раздумий, щеки его были бледны, и под глазами лежали синие полукружия от бессонной ночи, проведенной в разговорах с ближними боярами.
Прибывший из Волыни преданный человек доносил, что давний враг его и соперник на галичском столе Роман Мстиславич, поссорившись с великим киевским князем, отправился в Польшу за помощью, грозясь вернуться с большим войском. Победа Романа неизменно несла Галичу новые бедствия.
Было время, о котором и вспомнить страшно, — уже садился однажды расторопный Роман на галицкий стол.
Случилось это не так уж и давно — в памяти людской беды той поныне не смыло.
Умирая, сказал отец Владимиров, Ярослав, роковые слова:
— Отцы, братья и сыновья! Вот я отхожу от этого света суетного и иду к творцу моему. Согрешил я больше всех. Но одною своею худою головою удержал я галицкую землю, а вот теперь повелеваю свою землю Олегу, меньшому сыну моему, отдать, а старшему, Владимиру, даю Перемышль.
Великую несправедливость совершил Ярослав, а о том не подумал, что не станет Владимир покорно ходить по Олеговой воле. Был Олег сыном безродной Настасьи, а в жилах старшего сына текла кровь сестры владимирского могучего князя Андрея Боголюбского Ольги.
Подстрекала его на княжение мать, и бояре, убившие во гневе Настасью, тоже не хотели Олега, страшась его мести. И еще не остыло тело Ярослава, еще не свезли его в собор для отпевания, еще в ушах звучало его последнее завещание, как, собравшись все вместе, изгнали они Олега и посадили Владимира на княжеский стол.
Думали, хорошего нашли себе князя, теперь заживут спокойно и без забот. Ан просчитались бояре!.. Не стал княжить по их наущенью Владимир, иную готовил себе судьбу. И назло самодовольным боярам стал насмехаться над ними, а иных притеснять. Дни и ночи пиры пировал, боярских дочерей приводил к себе в ложницу для ночных потех, отнял у попа Онофрия красавицу жену, поселил ее у себя во дворце и велел воздавать ей почести, как княгине.
И тогда возмутились бояре и стали тайно пересылаться с волынским князем Романом, дочь которого была за Владимировым старшим сыном. С боярами-то Владимир справился бы, да неспокойный попался родич. Страстно желая галицкого стола, подучил Роман бояр, как им освободиться от своего князя. И дьявол в аду такого бы не выдумал.
Пришли бояре к Владимиру и сказали ему так:
— Княже! Мы не на тебя встали, но не хотим кланяться попадье, хотим ее убить. И ты, где хочешь, там и возьми жену…
Не простая это была угроза, протрезвел Владимир. Вспомнил, как жестоко сожгли бояре на костре отцову полюбовницу Настасью, — забрал много золота и серебра, попадью, двоих сыновей и тайно отъехал с дружиною к венгерскому королю Беле.
А в Галиче, ликуя по случаю легко одержанной победы, сел на стол Роман Мстиславич.
Только верно в народе сказывают: кто лукавит, того черт задавит. Отъезжая в Галич, отдал Роман Волынь брату своему, думая: навсегда сбежал к уграм Владимир и обратно пути ему нет.
Тут-то и пришла на землю русскую великая беда. Недаром, чтобы утвердиться в Эстергоме, отправил Бела брата своего Стефана на тот свет при помощи яда, подсыпанного в кубок одним пронырливым монахом-иезуитом (монаха того Бела потом вздернул на городской стене, чтобы все видели, как ценит он родственные чувства). Принял он бежавшего из Галича неудачливого князя ласково, винами поил и девками баловал, а после собрал войско, поставил во главе его сына своего Андрея и двинулся на Галич, сжигая, насильничая и грабя на всем своем пути. Перевалив через Горбы [97], трупами стариков, женщин и детей устлал Бела дорогу к Днестру. Изгнал Романа, сына своего посадил на галичский стол, а Владимира, отняв у него золото и серебро, запрятал под запоры в высокую башню.
Побежал Роман обратно на Волынь, да не тут-то было. Укрылся брат его за крепкими стенами и в город не впустил.
— Ступай, откуда прибыл, — велел он сказать ему.
Но в Галиче хозяйничали угры, и, отправив жену свою в Овруч, где в это время находился тесть его Рюрик Ростиславич, поехал он за помощью в Польшу. Однако там было не до Романа — самих извела смута. Тогда вернулся Роман на Русь и стал просить Рюрика дать ему войско, чтобы сразиться с уграми за Галич.
Поддержал его и митрополит.
— Сквернят нечистые православную землю, — уговаривал он Рюрика.
Согласился князь, дал Роману войско, и Роман осадил порубежный город Плесненск, но войти в него так и не смог: разбили его угры.
Тогда во второй раз отправился он в Польшу, и Казимир, уладив свои дела, на этот раз помог Роману. Да и Рюрик за него вступился. Прогнали строптивого братца. Сел Роман снова на волынском княжении, однако мечты своей о возвращении Галича не оставил и ждал только удобного случая…
В ту самую пору бежал Владимир из венгерской неволи в немецкую землю к Фридриху Барбароссе, который, узнав, что по матери приходится он родным племянником Всеволоду, отправил его в Польшу к Казимиру.
Великое чудо явилось ему в те дни: куда б ни прибыл он, имя Всеволода повсюду открывало ему двери — далеко разошлась по миру молва о могуществе владимирского князя.
Так подошел он с польским войском к Галичу, и жители города с ликованием распахнули перед ним ворота — немало бед натерпелись они от жестоких угров. Прогнали Андрея, сына короля Белы, и снова посадили Владимира на отцов стол.
И первое, что сделал он, это отправил послов ко Всеволоду, прося его поддержки и защиты.
«Отец и господин! — взывала грамота. — Удержи Галич подо мною, а я божий и твой со всем Галичем и в твоей воле всегда».
Тогда обратился Всеволод ко всем князьям русским и в Польшу и взял со всех клятву не искать Галича под его племянником. Никто не посмел его ослушаться.
Прошло шесть лет. Много воды унес полноводный Днестр в Русское море. Затаился озлобленный Бела за Горбами. Буйные ветры бушевали в половецких степях. Не залетали в Галич каленые стрелы, расстраивались посады, расцветала торговля.
Но нет-нет да и доносились с Волыни беспокоившие Владимира вести: распростер Роман над Галичем свои ястребиные крылья; сдерживала его одна лишь клятва, данная Всеволоду. А когда прослышал галицкий князь о ссоре Романа с Рюриком, стало ему опять неуютно и знобко. Было с чего встревожиться: стоял за спиною Рюрика направлявший руку его Всеволод, а не испугался Роман, показал и ему волчьи свои клыки…
Так посчитается ли он с Галичем? Удержат ли его Всеволодовы крестные грамоты?… Ежели помогут Роману поляки, а Рюрик уступит Торческ, то не потянет ли снова волынского неспокойного князя по старому, испытанному следу?..
И вот теперь наступило облегчение. Слава тебе господи, — обломали волку клыки — нечем ему рвать добычу. Проучил Мечислав Романа — в другой раз будет осмотрительнее. Вона как все повернулось: не до Галича ему теперь — самому удержаться бы на Волыни.
Привычная жизнь текла своим чередом. Теплое солнышко баловало галичан. На улицах пахло житом и яблоками. В избах пекли душистые хлебы, в бочках бродило молодое вино. С Днестра несли в изобилии плетеные корзины с рыбой и раками. Во дворах забивали бычков, на вертелах шипело мясо, роняло в огонь янтарные капли жира.
В шуме и повсеместной веселой суете проходили осенние праздники. На торговище бойкие купцы разворачивали перед изумленными покупателями куски ярких тканей, наперебой предлагали медные, начищенные до ослепительного блеска котлы, тут и там высились желтые круги воска, мед расходился в бочонках, зерно в мешках, соль в рогожных кулях. Радовали глаз развешенные на шестах беличьи, бобровые и лисьи меха, завораживали взгляд изделия из золота и драгоценных камней: кольца, браслеты, колты, подвески.
Принаряжались в обновки черноглазые галичанки, звонким смехом заманивали парней.
Казалось, со всей русской необъятной земли съехались в ту осень в Галич гусляры и скоморохи — веселили честной народ, сами радовались тишине и покою…
Мечи и кольчуги не находили покупателей. Стрелы безмолвно покоились в тулах.
Кузнецы ковали орала [98]…
2
В тот самый день, когда Роман получил известие от Рюрика из Киева, в венгерском городе Эстергоме король Бела принимал только что прибывшего из Рима папского нунция.
Святейший двор, обеспокоенный усиливающимся влиянием Византии, требовал от короля гарантий для римской католической церкви.
Бела слушал нунция рассеянно, то и дело перебивал его высокопарную речь вопросами, интересовался здоровьем папы Иннокентия, шутил и кончил тем, что отложил серьезный разговор до следующего раза.
— Надеюсь, вам понравилась моя столица? — вежливо осведомился он у смущенного его бесцеремонностью нунция. И встал, не ожидая ответа.
Нунций поклонился королю и вышел.
Тотчас же, открыв боковую дверь, Бела хлопнул в ладоши, и на зов его, словно из-под земли, вырос высокий бородатый воин с рассеченным во многих местах лиловыми шрамами лицом.
— Сдается мне, что эта лиса привезла с собою не только папскую буллу [99], — сказал в задумчивости Бела. — Нет ли у него для нас подарка и от венецианского дожа?
— Будет исполнено, — почтительно поклонился воин и исчез так же внезапно, как и появился.
Король знал, что теперь каждый шаг нунция будет под неусыпным контролем его людей. А для самых худших подозрений у него были все основания: Венеция, уже несколько лет ведущая с Венгрией затяжную войну за Адриатическое побережье, стремилась разорвать союз Белы с византийским императором Мануилом.
Король был подозрителен. Сам жестокий и коварный, он ждал предательства и не доверял приближенным. Яд, бывший в его руках верным оружием в борьбе за власть, мог стать таким же сильным и надежным средством в руках его противников.
Дворец короля в Эстергоме походил на военный лагерь: во дворе день и ночь толпились вооруженные воины, каждый час сменялась стража; еду, которую подавали Беле, предварительно пробовал на его глазах привезенный из Коложвара немецкий повар, лечил его глухонемой лекарь из Валахии.
Кому-кому, а Беле было известно, что не только старший брат Стефан пал жертвой его коварства.
Когда сидел сын Белы Андрей в Галиче, то не все покорно склонили свою голову перед венграми. Простые галичане, купцы и ремесленники обратились за помощью к князю Ростиславу Ивановичу, который жил в это время в Смоленске у Давыда.
Услышав от своих воевод, что Ростислав захватил два пограничных города, что повсюду встречают его дарами и восторженными криками, как своего освободителя, Андрей струсил и собрался бежать из Галича. И как знать, не томился ли бы он сейчас в плену у русских, если бы отец его не предупредил бояр, что срубит головы заложникам, взятым в Венгрию, — боярским женам, матерям и детям.
Изменили бояре Ростиславу, отдали его дружину на растерзание венгерскому войску. Сам князь, тяжело раненный в битве, был доставлен в Галич. Но опасный противник Белы был еще жив, галичане волновались, и тогда, прислав к нему своего лекаря, тайно повелел король вместо целебных настоев прикладывать к ранам его яд…
Скончался Ростислав в страшных мучениях, растаял, как восковая свеча, на глазах у изумленных галичан.
…За толстыми стенами дворца в Эстергоме, сложенными из грубо отесанного известняка, всегда было сыро и холодно, как в крысиной норе.
Бела сидел в задумчивости, глядя перед собой в пространство пустыми, отрешенными глазами.
Вот уже почти двадцать лет находился он в этом добровольном заключении, двадцать лет страдал от истерических приступов страха, ночами бродил, босой, по гулким коридорам дворца, пугая своим внезапным появлением суеверных стражей. И почти каждый день приводила его непонятная сила к порогу опочивальни, в которой скончался брат…
Страдая мнительностью, Бела с каждым днем становился все мрачнее и нелюдимее. Даже старшего сына своего Емериха, заподозрив в связях с венецианцами, он отправил в Болгарию, в бессрочное изгнание.
Одна любовь у него осталась, единственная надежда — младший сын, выпивоха и бабник, беспутный Андрей.
Сейчас он, бежав из Галича, снова оказался на шее Белы в Эстергоме, и отзвуки его веселых оргий долетали до королевского дворца. Но король, сам воздержанный во всем, что касалось еды, питья и женщин, ни в чем не препятствовал сыну и относился к его похождениям снисходительно.
— Молодое вино должно перебродить, — говорил он приближенным, жаловавшимся ему на бесчинства, творимые сыном.
В мечтах он снова видел его на галичском столе. Плодородные русские земли давно влекли к себе взоры венгерских королей. Первую попытку покорить их предпринял Коломан, но войско его было разбито. Неудачами закончились и последующие походы за Карпатскую Русь.
Бела оказался счастливее своих предшественников. Он не объявлял русским князьям: «Иду на вы», а использовал их внутренние ссоры и усобицы. Так сделался послушным орудием в его руках князь Владимир Ярославич, и если бы он не бежал из венгерской неволи, поняв свою ошибку, к Фридриху Барбароссе, — если бы ему не помог Всеволод, то Андрей и по сей день сидел бы в Галиче, а не мозолил всем глаза в охочем до сплетен Эстергоме.
Из своего замка, из своей холодной крысиной норы, Бела зорко следил за всем, происходящим в подвластном его взору мире. Ссора волынского князя Романа с Рюриком, последующий уход Романа в Польшу и тяжелое ранение обеспокоили короля: любое ослабление Романа укрепляло власть галицкого князя Владимира. И еще обеспокоило короля усилившееся в последнее время влияние на дела Червонной Руси далекого суздальского князя Всеволода. Оказалось, что власть его реальна, если даже польский король Казимир присягнул ему в верности, а Фридрих Барбаросса слал ему богатые дары и называл своим братом…
За ужином в присутствии послов Бела иногда любил щегольнуть своим благородством.
— Князь Всеволод — достойный противник, — говорил он. — Сейчас он занят решением давнишнего спора с Новгородом. Но я бы счел за честь встретиться с ним на поле битвы…
— Или подсыпать ему в вино какой-нибудь мерзкой отравы, — шепнул нунций сидящему рядом с ним немецкому графу.
Заметив на себе пристальный взгляд Белы, граф улыбнулся и, быстро зашептав бескровными губами молитву, занялся четками.
Принесли жаркое. Потом подавали сладкое. Под столами бродили собаки и, жадно чавкая, грызли брошенные гостями кости.
Чинный ужин продолжался.
3
В тот самый день, когда Роман получил известие от Рюрика из Киева, по прибитой дождем тропинке с простой ореховой палкой в руках, одетый просто и скромно, шел из своего монастыря в Великий Новгород игумен Ефросим.
Шаг у Ефросима был размашист, рясу, чтобы не мешала, он заткнул за плетеный поясок, и послушник [100], семенивший за ним, то и дело стонал и присаживался на обочинку переобуть лапотки.
Игумен сердился на него, ругал всю дорогу. Был он во гневе невоздержан и зело суров. А случалось, что пускал в ход и свою палку. О том лучше всего могли поведать синяки и шишки, украшавшие нерасторопных монахов.
Остановившись в очередной раз над присевшим на пенек послушником, игумен разгневался небывало, так что лицо его, изрезанное мелкими кубиками морщинок, покрылось лиловыми пятнами.
— И почто взял я тебя, ирод, с собой, — говорил он готовым сорваться на крик голосом, — ежели ты немощен, яко разъевшаяся в миру толстая баба?.. И долго я еще буду зреть твою согбенную спину и внимать жалобным стонам?.. Чти молитву, раб, и оставь в покое свои онучи…
— Что ты, батюшка, разъярился? — быстро вскочил на ноги парень. — Моя ли в том вина, что лапти велики? Твой келарь [101] выдал их мне на дорогу, а тесемки оборвались.
— Вот отхожу тебя палкой-то, — сказал игумен, — тогда, глядишь, и образумишься. Да слыханное ли это дело — который час толчемся на дороге, а Новгорода все не видать…
Поостыв, продолжал:
— Умен ты зело, Митяй, оттого и взял я тебя с собой. Ровно околдовали тебя буквицы, кроме книг ничего вокруг не зришь. Но нынче разбирает меня великое сумление: задумывался ли ты о том, почто чтишь?.. То-то же. А ведь книга дана умному человеку для познания всего сущего… Иной-то — как? Ест хлебушко, пьет водицу из родничка, пашет землю и о том не думает, что век наш короток. Не успеешь родиться — уж и прощаться пора. Оглянулся назад, перед тем как лечь в домовину, — ничего не видать. Прожил свой век и покинул сей мир без сожаления. А другой, познав премудрость книжную, задумается: почто ем хлеб, пью водицу, иду по веретени [102]? Почто один человек помыкает другим? Почто у боярина брюхо жирно, а у меня тонко? Почто обидел тиун твою девку? Почто посадили в поруб мужика? Почто владыко Мартирий кует крамолу в Великом Новгороде, а Ефросим, в худой рясе, без панагии, с железным крестом на груди, идет к нему из своего монастыря, а такой олух, как ты, не дает ему засветло добраться до города, чтобы отстоять вечерню в святой Софии? Почто?..
Светлые глаза игумена затуманились от гнева, в горле его заклокотало, и голос снова перешел на крик.
— Что глядишь на меня, яко овца? Нешто и нынче не уразумел, что молодые ноги резвее старых? У тебя ж и ноги выросли в кривулину.
И замахнулся на послушника палкой. Митяй проворно отскочил на середину дороги и побежал, прихрамывая.
— Погодь ты, — смягчаясь, позвал Ефросим. — Куды зачастил?
— Дык сам про ноги сказывал…
— Ступай сюды.
Митяй боязливо приблизился.
— Нагнись-ко.
Митяй нагнулся. Игумен ударил его палкой по спине:
— Так-то.
Успокоенно высморкался в подол рясы и осенил себя крестом. Митяй протяжно заскулил.
— Чо — больно? — ласково спросил Ефросим.
— Больно.
— По то и бью…
Дальше шли веселее. Митяй старался не отставать от игумена. Ефросим посматривал на него с добротой во взгляде.
«Ишшо поотешется, — по-стариковски мудро размышлял он. — Сердцем отходчив, душою добр».
Вспомнил, как метельной зимней ночью прибился Митяй к монастырю.
Пришел обоз с припасами из Обонежья. А когда стали монахи перетаскивать с возов в кладовую мешки и бочонки, увидели спрятавшегося за кадью с квашеной капустой Митяя.
Озорной был малец, дикой. Чернецам в руки не давался, кричал и царапался, как кошка.
— Ну-ко, вылезай, покуда цел, — сказал Ефросим. — Не то кликну кикимору, она тя приберет.
Незнаемое слово поразило Митяя. Уставился он на игумена посоловевшими от страха глазами, запищал жалостливо и тоненько, покорно дался Ефросиму. Унес его игумен в свою келью, смазал отмороженные ножки гусиным жиром, напоил теплым коровьим молоком с медом. Выходил мальца.
Дивились монахи: Митяя растил игумен, как родное дите. Одевал-обувал его, грамоте учил, возил с собою по деревням и в город, сказывал ему сказки и пел надтреснутым голосом духовные стихи. Привязался малец к Ефросиму, за отца родного любил и почитал (родителей-то его унесло на льдине в Онего-озеро, там они и сгинули). Привольно и сытно жилось ему в монастыре. Великое множество книг было собрано в келье у Ефросима — скоро научился Митяй читать бойко, а чернецам, собравшимся после молитвы и трудов праведных на монастырском дворе, сказывал о прочитанном.
Неспроста, отправившись изобличать перед доверчивыми новгородцами давнишнего врага своего Мартирия, взял Ефросим с собою и Митяя, — беседовал с ним игумен, не таясь, о сокровенном, прикидывал, как падет на голову недруга его праведное и гневное слово.
— Шибко осерчал ты на владыку, батюшка, — говорил ему Митяй. — Нешто и впрямь николи не радеет он о своем стаде?..
Ефросим останавливался, и прямой взгляд его наливался возмущением. Густые брови игумена, как два вороньих крыла, нависали над немигающими серыми глазками.
— Али пастырь есть тот, кто не радеет о сохранности овец своих? — вопрошал он с угрозой. — Отдал Мартирий стадо изголодавшимся волкам — есть ли сие праведно?.. Праведно ли есть, ежели брат идет на брата, а купцам не стало ни житья, ни покоя и от лихих людей, и от иноземцев, и от своих же бояр, кои, сговорившись с татями, ограбляют их и награбленное прячут под замки в свои бретьяницы?.. Пастырь ли то есть, при коем приходят беспрепятственно на землю новгородскую свейские [103] рыцари, забыв, как взята была Сигтуна [104] и врата со священного храма ее свезены в Новгород и установлены мастером Авраамом в нашей Софии?.. Ныне некому оградить нас от грабежей и разбоя. Пастырь ли есть сие?..
Ни много ни мало, а целых десять лет, почитай, прожил Митяй в обители у Ефросима, и лишь однажды, весною нынешнего года, приходили под стены ее с берегов Варяжского моря шведы. Монахи своими силами отбили приступ, но села вокруг монастыря сожжены были дотла, и многие новгородцы угнаны в рабство.
— Пастырь ли есть сие?! — вопрошал громоподобным голосом Ефросим, стоя посреди лесной дороги. Налетевший с невидимого за кустами Волхова напористый ветер закинул ему за плечи длинные ржаные волосы, глаза его судорожно блестели, рот кривился.
Но, когда вышли к реке и задержались на отлогом берегу, любуясь широким водным простором с раскиданными по его темной глади белыми гребешками волн, игумен успокоился. Морщинки на его щеках распрямились, глаза подобрели.
— Ах, лепота-то какая, — прошептал он. — Славен мир божий, созданный нам во радость и успокоение. Велика его благодать, а человеци в неуемстве своем и всегдашней корысти оскверняют ее нечистым своим дыханием…
— Почто так страшно речешь, батюшка? — вдруг отшатнулся от него Митяй. — Почто хулишь равно правого и виноватого?
— Цыц! Сгинь ты, червь, — снова наливаясь гневом, оборвал его Ефросим и, запахнув откинутую ветром полу рясы, размашисто зашагал по берегу, выбрасывая далеко впереди себя тяжелую палку.
Перед самым Новгородом, в виду его белокаменных соборов и церквей, встречала Ефросима большая толпа горожан. Люди счастливо улыбались, кланялись ему низко и с трепетом подходили под благословение.
— Слава тебе, господи, — говорили, крестясь. — Сподобился старец. Явился заступник, теперь всем нашим бедам конец.
— Научи, отче, как быть…
— Устрой чудо, батюшка…
— Сжалься…
— Укроти владыку…
Высясь над толпой, довольный Ефросим окидывал людей ястребиным взглядом.
— Бог вас покарал, новгородцы, — изобличал он громко, но без негодования. — Погрязли в суете и довольстве, избрали себе негодных пастырей… Бог вас покарал!
— Прости, отче!
— Смилостивься. Скажи слово праведное владыке. Изобличи, окаянного, и всех, иже с ним.
— Ослобони от греха. Деток наших и сирот пожалей…
Обрастая все новыми людьми, распухая на новгородских улицах, толпа направилась к детинцу. Ефросим, вскинув голову, шел впереди.
— Мартирия!.. Мартирия сюды!.. — заорали мужики, собравшись у владычных палат.
Голос игумена перекрывал всех:
— Слышь, Мартирий, кличет тебя новгородский люд, — взывал он, повернувшись лицом к крыльцу, на котором грудились растерявшиеся вои. — Почто отгородился от своего стада? Выйди!..
— Выйди!.. Выйди!.. — кричал народ.
Бледное лицо владыки припало к зарешеченному оконцу и тут же боязливо скрылось.
— Выйди, пес! — повысил голос Ефросим. — Хощет говорить с тобой вольный Новгород.
— Выйди! — эхом откликалось в толпе.
— А-а-а! — протяжно взлетел исполненный муки крик: били послуха — по голове, по запрокинутому лицу. Тяжело дышали, злобно глядели на окна.
— Почто орете?..
На крыльце показался тысяцкий — рука на мече, гордый взгляд скользит над головами мужиков. Рот гневно скошен.
— Владыку нам, — сказал Ефросим.
— Владыка немощен…
— Врешь!
Толпа зашевелилась — к подножью крыльца выбросили окровавленное тело.
— Твой послух?..
Тысяцкий отшатнулся, осенил себя крестным знамением.
— Кличь владыку, — шагнул вперед игумен. Толпа придвинулась к крыльцу.
— Христьяне, люди добрые, да где ж это видано, чтобы послуха били?! Вовсе на вас креста нет, — взмолился тысяцкий. — Истинно говорю вам, немощен владыка…
Стихло над головами. Люди топтались растерянно. Глаза Ефросима блестели безумно.
— Покажь! — брызжа слюной, выкрикнул он.
— Бог с тобой, Ефросим, — сказал тысяцкий. — Почто срамишь святое место?
— Место это погано, — оборвал игумен. — Покажь!..
— Покажь!.. Покажь! — снова ожила толпа. Люди полезли на крыльцо, толкаясь и падая; обрушили перила, ввалились в переходы, в темные углы и закоулки палат.
Мартирий лежал на лавке, наскоро укрытый коричневой сукманицей [105], белый и прямой, как покойник. Вокруг него смиренно стояли, сложив руки на груди, испуганные служки. Свечи горели, воняло мочой и ладаном.
Ворвавшиеся в ложницу люди, самолично узрев скорбь и великую немочь владыки, отступили к дверям. Крики стихли, послышались жалостливые голоса.
Отодвинув в сторону служек, Ефросим приблизился к ложу Мартирия. Склонился над ним — лицо к лицу, уперся бешеными глазами в полуприкрытые дрожащими веками глаза владыки, про себя подумал: «Смердит, как навозная куча», откинулся, пригнулся снова, снова выпрямился. Сплюнул.
За окнами ударили колокола, сзывая новгородцев к вечерне.
— Чада мои, — сказал Ефросим. — Помолимся в святой Софии за господа нашего Иисуса Христа. Возвысим глас наш ко всевышнему, испросим у него прощения за грехи наши великие…
— Сам служи, отче, сам! — послышались голоса.
Вслед за Ефросимом покорная толпа направилась к собору…
4
В тот самый день, когда Роман получил известие от Рюрика из Киева, во Владимире в светлой горнице у князя Всеволода сидел старший сын его Константин и, рассеянно слушая отца, сжимал в кулачке только что пойманную большую зеленую муху. У двери, выставив одно плечо выше другого, переминался с ноги на ногу поп Четка. Глаза его преданно пожирали князя, корявые пальцы рук оглаживали поднесенную к груди книгу в тяжелых досках с позеленевшими медными застежками.
— Сколь уж говорено тебе было, — ворчал Всеволод, — княжича не баловать, проказ его не покрывать, а ежели нерадив, то и наказывать или же мне доносить…
— Сын твой зело сметлив, князь, — отвечал Четка. — А проказы его не от нерадивости и лени, а от живого ума.
— Вырастишь мне дурня, — сказал князь. — Дружки его, сыны боярские, одно только и ведают, что баловать. А после отцы их идут ко мне чередой с жалобами на своих чад. Срам!
— Тебе ли ровнять княжича с боярскими отроками? — отвечал Четка. — У тех уж девки на уме, до грамоты ли им! Констянтин же и Юрий, младшенький твой, преуспели и в латыни, и в греческом, читают не токмо Святое писание, но и Косму Индикоплова, и Георгия Амартола, и Романа Сладкопевца…
— Изрядно, — подобрел Всеволод, выслушав Четку. — Ступай покуда… А ты останься, — задержал он сына.
Вскочивший было Константин снова покорно опустился на лавку, смотрел на отца исподлобья.
Всеволод встал со стольца, приблизился и сел с ним рядом.
— Экой ты дикой какой, — погладил он Константина по жестким волосам. — Почто хмуришься? Аль не по сердцу мои слова?.. Аль дума какая закручинила?.. Погоди, уж не обидел ли тебя кто?
— Не, — мотнул Константин головой.
— Тогда почто отца бежишь, сердца мне не откроешь?..
Княжич промолчал, прислушиваясь, как бьется в ладони обезумевшая муха.
— Не ворона тебя в пузыре принесла, — грустно сказал князь, стараясь поймать сыновний взгляд. — Родитель я твой, и ты моя кровь. Помнишь ли, как сказано у прадеда твоего Владимира Мономаха в его «Поучении»: «Что доброго вы умеете, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь; вот как отец мой, находясь дома, овладел пятью языками…» Давал ли Четка тебе книгу сию?
Константин отрицательно мотнул головой.
— Ишь ты, — улыбнулся Всеволод. — Ромеев выучил наизусть, а о прадеде и слыхом не слыхивал…
Он встал, взял со стола и протянул сыну тоненькую книжицу с окованными серебром уголками.
— Ромеи зело учены, немцы тож и угры. Но и отцы наши, и деды, и прадеды во многих премудростях преуспели и были почитаемы не токмо на Руси, но и на чужбине. Вот зри, что сказано у Мономаха…
Он развернул книгу и, строго взглядывая на сына, прочитал нараспев:
— «Велик ты, господи, и чудны дела твои, и благословенно и славно имя твое вечно на всей земле! Поэтому кто не восславит и не прославит мощь твою, твои великие чудеса и блага, устроенные на этом свете; как небо устроено, как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет; и земля на водах положена, господи, твоим промыслом; звери разнообразные и птицы и рыбы украшены твоим промыслом, господи! Дивимся и этому чуду, как из праха создал ты человека, как разнообразны облики человеческих лиц; если и весь мир собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по божьей мудрости…»
— Книга сия, сыне, — сказал Всеволод, — всем нам во спасение, ибо начертана в ней праведная жизнь человека, какою ей должно быть…
Константин разжал ладонь — муха вылетела и громко забилась в стекла окна. Всеволод улыбнулся:
— Притомил я тебя нынче, но еще об одной книге не могу умолчать. Вот эта — показывал ли ее тебе Четка?
— «Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святослава, внука Олегова», — водя пальцами по буквам, пробубнил Константин.
Князь могучий, Всеволод великий! Прилетишь ли мыслью издалека Постеречь златой престол отцовский? Расплескать веслом ты можешь Волгу, Можешь Дон ты вычерпать шеломом… По ногате брал бы за рабыню, По резане за раба-кощея. Ты пускать живые стрелы можешь — Кровных братьев, Глебовичей храбрых…Вскинул Константин поголубевшие глаза на отца, открыл рот.
— Было, все было, сыне, — кивнул Всеволод с грустью. — Никому не ведомо, кто сие сложил — Святославов ли дружинник, или какой гусляр… А может, Игорев тысяцкий?.. Был такой книгочей, лихая головушка. И не все правда в книге сей — не был Святослав Всеволодович мудрым князем, и Игорь не без корысти ходил в степь… Но чем живу я и поныне — все здесь: пришла пора собираться князьям воедино, а не сводить родовые счеты. Что у себя проглядим, то врагам нашим на руку — знай…
Впервые говорил так Всеволод со своим сыном. Но не настала, должно, еще пора. Мал Константин, и Святослав мал, и Юрий. Однако время торопит — проснулся сегодня на зорьке князь, а встать с ложа своего не смог: свело ему левую сторону нестерпимой болью, железными обручами сдавило затылок. Встревожилась Мария, звала знахарей и дядек. Пускали знахари Всеволодову кровь, дядьки прикладывали к сердцу смоченные в горячей воде убрусцы… «Неужто призывает господь? — со страхом подумал князь, беспомощно лежа на спине. — Неужто не дано свершить задуманное?!» К полудню ему полегчало. Но звон в ушах держался до самого вечера, кружилась голова…
— Так все ли уразумел? — спросил Всеволод сына.
— Все, батюшка.
— Тогда ступай покуда и вели, чтобы кликнули Кузьму.
Ратьшич явился на зов:
— Звал, княже?
— Нет ли вестей каких из Новгорода? — спросил Всеволод.
— Нет, княже…
Ратьшич слышал уже о болезни князя, говорил тихо, боясь его потревожить.
— Не покойник в горнице, — нахмурился Всеволод. — Почто оробел?
— Дюже испугался я, княже.
— Под господом ходим, не по своей воле…
Кузьма сказал:
— Князь Рюрик доносит — ушел-де Роман в Польшу, ввязался в усобицу, ранен был…
«Наступил медведь на мозоль», — подумал Всеволод. Вспомнил князя Романа, каким знал его в детстве, — длиннорукого, с растерянным, наивным взглядом, стоящего рядом с отцом своим Мстиславом возле всхода в княжеский терем на Горе. Внизу, во прахе, угольях и золе, лежал поверженный Киев. Князь Андрей Боголюбский, сидя на жеребце, нервно подергивал поводья… Не верил он тогда брату, а нынче Всеволод продолжает Андреем начатое.
Умен Роман, хоть и горяч, — многому жизнь его научила. И на западной окраине задумал он то же, что и Всеволод у себя на северо-востоке. Мечтает Роман соединить под собою волынский и галицкий стол. И если не помешать ему, то свершит задуманное. Владимир галицкий слаб, скоро отдаст богу душу, извели его пиры и бабы. Рюрик стареет. Подпадет Киев под Романа — одному Всеволоду с ним не справиться…
Не просты думы великого князя. Перед глазами его вся Русь. И Новгород никак нейдет из головы.
Вчера снова был у него Иоанн, сидел допоздна, склонял отречься от Ярослава, успокоить Боярский совет:
— Не упорством единым берут города…
А если бы то же самое сказал ему Микулица?.. Всеволод долго не мог уснуть, сомневался: «Не упрямство ли это?» Но уступать не хотел, раз начатое привык доводить до конца. Сердился на Иоанна. Вставал, пил квас. Ворочался с боку на бок. Утром задремал — проснулся от сильной боли в груди. Слабым голосом позвал Марию…
Вспомнив жену, Всеволод невесело улыбнулся: многое, многое стало проходить стороной. Вот и у Ратьшича забыл спросить про жену его Досаду.
— На сносях она, — засмущался Кузьма.
— Сына тебе, Кузьма.
— Спасибо на добром слове, княже…
Оставшись один, Всеволод прилег на лавку. Закрыл глаза. Притих. Слушал верещанье сверчка за стенкой и мерные удары сердца. Думал.
Глава седьмая
1
Кто не знает во Владимире каменных дел мастера Никитку, любимого ученика знаменитого Левонтия, поставившего на крутом клязьминском берегу церковь Успения Божьей матери?!
Пройдись по улицам, спроси любого встречного. «Никитка? — скажет встречный. — А погляди-ко на этот собор, украсивший детинец. Это и есть Никитка».
Загляни в мастерские бронников, лучников и златокузнецов. «Никитка? — скажут бронники, лучники и златокузнецы. — Да кто же во Владимире не слыхал про Никитку?! Дивной резьбой украшены наши церкви. Это и есть Никитка!»
Войди в любой двор, в любую избу посада — и здесь расскажут о Никитке уважительно и с доброй улыбкой.
Много у Никитки друзей во Владимире и за его пределами, приезжали к нему зодчие из далеких стран — дивились его делам, разносили славу о владимирском камнесечце по всей земле…
Ехал к Никитке из Великого Новгорода в возке о трех лошадях известный мастер Авраам.
Наступали первые холода, ветры с Ополья несли ледяную крупу, подмерзшие лужицы похрустывали под колесами; словно исхлестанные плетьми, голые березки стыдливо жались друг к другу.
Возок мотало из стороны в сторону; накрывшись шубой, Авраам с тоской вглядывался в сгущающиеся сумерки: ни встречного на безлюдной дороге, ни огонька — поля, изрытые оврагами, речушки, хлипкие мосты, редкие перелески. Тишина.
Озябшая красная луна то ныряла в низко стелющиеся тучи, то сияла в черных разводьях отчужденно и таинственно.
Лошади поекивали селезенкой, широкая спина возницы покачивалась перед глазами Авраама из стороны в сторону. Час был поздний, пора было подумать и о ночлеге — до Владимира не близко, ночная дорога опасна, холод даже под шубой пронимает до костей.
— Стой! — крикнул Авраам, увидев блеснувший на пригорке огонек. Высунувшись из возка, замахал рукой.
— Тпр-ру-у! — остановил коней возница. Спрыгнул наземь, подковылял занемевшими ногами к возку.
— Видишь огонек? — сказал Авраам.
— Отчего ж не видеть? — отвечал возница, не оборачиваясь. — Места здешние мне ведомы…
— Ну так сворачивай, — нетерпеливо поторопил его Авраам.
Возница стоял нерешительно.
— Чего ж ты?..
— Не, туды я не сверну.
Авраам удивился:
— Почто?
— Не, — уперся возница, — и не проси, батюшка…
— Экой же ты чудной, — проворчал Авраам. — Аль на дороге нам ночевать?
— Хоть бы и на дороге, — отвечал возница. — Но только туды не сверну. Страшно.
— Чего ж страшно-то?
— Отродясь туды не сворачивал… Всего и слов-то: ведьмина россечь [106].
— Эко хватил куды, — сказал Авраам, почувствовав внезапную тревогу. Ему уж и самому расхотелось сворачивать. Но от рожденья был Авраам упрям и от сказанного не отступался. Однако замешкался, и молчанье его мужик расценил по-своему — неуклюже направился к лошадям.
— Погодь ты! — крикнул Авраам ему в спину.
— Ну чегой-то, батюшка? — неохотно вернулся возница.
— Будь то хоть ведьмина, хоть лешачья россечь, — сказал Авраам, — а зело продрог я, до косточек сиверком прохватило — невмоготу. Сворачивай!..
В иное время, может, и сбег бы от него мужик, да тут куда убежишь? Поскреб он в затылке, покачал головой, вздохнул и взобрался на коня. Возок дернуло, замотало еще сильнее, колеса загромыхали по смерзшимся комьям вспаханной земли.
Крупа перешла в снег, и скоро все вокруг сделалось белым-бело. Ветер бил им в лицо и срывал с возка меховую полсть.
«Вовремя свернули, — подумал Авраам. — В этакую-то снеговерть и с пути сбиться легко. Каково было бы добираться до города?..»
Кони стали. Мужик подошел к возку.
— Приехали, — сказал он.
Авраам выбрался на снег, поправил сползшую с плеча шубу. Огляделся.
Возок приткнулся боком к низкой изгороди; за нею виднелась осевшая набок избушка, на фоне светлого неба угадывалась корявая, словно сорванный с дерева, скрученный березовый лист, крыша. Из окошка просеивался свет.
Скрипнула на заржавленных петлях дверь. Возница перекрестился и попятился к возку.
— Эй, кто там? — спросил грубый женский голос. — Кого леший принес?..
Протаптывая сапогами дорожку в снегу, Авраам приблизился к двери.
— Я это, баушка, нечаянный путник, — сказал он, перешагивая вслед за старухой невысокий порожец. — Еду из Новгорода во Владимир, а на воле, сама видишь, какая стынь. Не пустишь ли переночевать?..
— Носит вас по миру. Разъездились, — сердито сказала старуха. — Проходи уж, коли вошел. Да только сам видишь, изба у меня мала — не хоромы.
Вдруг она зыркнула поверх Авраамова плеча и увидела возницу.
— А это еще кто с тобой?
— Мужик…
— Сама вижу, что не баба. Отколь взялся такой?
— Возница он. От самого Ростова везет меня… Смирной.
— Все вы смирные…
Мужик, шмыгая носом, смущенно постукивал лапотком о лапоток.
Авраам сел на зашатавшуюся под его грузным телом, кое-как сбитую из неструганых досок лавку, расстегнул на груди шубу, снял рукавицы.
— Дверь-то, дверь-то притвори, — заворчала старуха на замешкавшегося возницу. — Всю избу выстудишь…
Внутри было угарно и дымно, в очаге тлел умирающий огонь. На угольках стоял черный горнец [107], и в нем что-то клокотало и булькало.
Сбросив меховой, драный во многих местах кожушок, старуха достала с полки деревянную мису и поставила ее посреди стола. Охватив тряпицей горнец, вывалила в мису вместе с мутной водичкой подрумяненную, разваренную репу.
— Вечеряйте, страннички, чем бог послал, — сказала она и села бочком на перекидную скамью.
Авраам, глядя на стол исподлобья, велел мужику задать корма лошадям и принести холщовую дорожную суму. В суме у него был сукрой [108] хлеба и несколько вяленых рыбин.
Все это Авраам вынул и разложил на столе. Достав из-за голенища ножик, нарезал хлеб и рыбу.
— Ешь, баушка, — сказал приветливо.
— Ишь, запасливый какой, — шамкнула сморщенным, как куриная гузка, ртом старуха.
— Ты на меня, баушка, не серчай, — сказал Авраам. — Человек я не шибко справный, да и путь позади не малый: потощала моя сума.
— Чего уж казниться-то, — махнула рукой старуха и потянулась к хлебу.
Все проголодались, ели жадно; бледное лицо хозяйки залоснилось от удовольствия, глаза повеселели. Авраам, скинув шубу, глядел добродушно. Один только возница неспокойно посматривал по сторонам.
Хозяйка заметила это, оторвалась от еды и обмахнула рот кончиком черного убрусца.
— Что глядишь, миленький? — сказала она мужику. — Уж не свататься ли вырядился? Приданое мое — два таракана в подполе да паучок-крестовичок за божницей. Аль мало за себя даю?..
Мужик поперхнулся куском и замахал руками. Старуха залилась смехом, отрывистым, как собачий лай.
— Ты, баушка, возницу мово не спугни, — строго сказал Авраам и постучал деревянной ложкой по столу.
— А чо пужать его, пужаного? — удивилась старуха. — Я его сразу заприметила, еще порога не переступил. Тутошний он, с того и пужливый… Да ты ешь, ешь, — успокоила она мужика. — Не нужон ты мне, хвост овечий. А хозяин твой находчив и умен. Кем будешь, пришлый?
— Зиждитель [109] я. Авраамом меня зовут. А тебя как?
— Звали Любашей. А нынче не иначе как ведьмой кличут. И россечь, где изба моя стоит, прозвали ведьминой.
— Горемыка ты, а не ведьма, — покачал головой Авраам.
— Экой ты доброй человек. И глаза у тебя добрые…
— Не хвали, баушка, не то захвалишь, — смутился мастер. — Да как же ты одна-одинешенька на россечи оказалась? Кто избу тебе срубил?
— Про то долгий сказ, — промолвила хозяйка. — Да и нам не к спеху. Вся-то ночь, почитай, впереди…
И стала старуха сказывать свою жизнь. Покачиваясь на скамье, говорила глухо, задумавшись, замолкала надолго — и снова лилась ее неторопливая речь.
Эх, Любаша, Любаша — золотая коса!.. Поверит ли кто нынче, что была она первой девкой в Заборье? А певуньей, а плясуньей какой!.. И любила она не кого-нибудь, а первого Всеволодова дружинника, лихого и смелого Давыдку. Да выдал ее боярин Захария замуж за старосту своего Аверкия, слюнявого и подлого мужика…
Не откликнулся на Любашин зов Давыдка, оглох он от корысти, взял в жены боярскую дочь Евпраксию и погиб, добиваясь еще большей чести. А Захария велел за великую дерзость сурово казнить Любашу, но бежала она из Заборья — спасибо, спрятал у себя, помог ей скрыться от боярских холуев кузнец Мокей. Да вот беда — сам сложил гордую головушку от меча Захариева прихвостня Склира…
— Слухами земля полнится, — сказал возница, с удивлением разглядывая старуху. — Я ведь тоже заборский. Сказывала мне мамка про Любашу. Неужто ты та самая и есть?
— Не узнать меня нынче, соколик, — прошамкала старуха.
— Где уж узнать. От красоты твоей былой и малого следа не осталось…
— Помыкала я горюшка. Добрым людям спасибо — не дали с голоду помереть. А и злых людей немало повидала я на своем веку. Кожа моя задубела, сердце сделалось каменным…
— Да как же ты сызнова здесь оказалась?
— А так и оказалась. Прослышала я, что убил Всеволод Давыдку, — вот и возвернулась хоть глазком единым взглянуть на его могилу. Шибко осерчал на него князь, не велел хоронить во Владимире… Положила его Евпраксия во сыру землю в своем Заборье, а сама ушла в монастырь. Отыскала я могилку. Буйной травой заросла она и репейником. И не верилось, что лежит под нею ясный мой сокол.
— О Давыдке тож мамка мне сказывала, — снова прервал ее возница. — Не любят у нас Давыдку и слышать про него не хотят…
— Ох, миленький. Да что мамка сказывала! Сама я через него всю жизнь свою загубила…
Глаза старухи наполнились слезами. Авраам строго поглядел на возницу, ласково проговорил:
— Ты дале-то сказывай, баушка. Что дале-то было?
— А ничего и не было. Встренулся мне во Владимире один холоп, тож беглый. Сошлись мы с ним, две неприкаянные души, туды-сюды сунулись — нигде житья нет. Вот и перебрались на енту самую россечь. Избу мужик срубил, золотые были у него руки. Да недолго вместе прожили: задрал его, сердечного, медведь в уреме… Так и живу я одна сколь уж лет. Захариевы-то деревни и Заборье вместе с ними, сказывают, Кузьме Ратьшичу князь наш отказал. Про меня все и забыли…
Не спалось Аврааму в ту ночь, покряхтывал он, ворочался, лежа на шубе возле печи. Ворошил в памяти прошлое, задыхался, прикладывая руку к груди…
Вспоминал, как ехал по деревням, как униженно кланялись ему смерды, снимая шапки, как заглядывали в лицо исполненными тоски глазами. Чем богаче Русь, тем беднее… Вспоминал бойкие новгородские торговища, сваленные в груды шелка и парчу, дорогие меха и кожи — несметные сокровища проходят через руки простых людей, а где они?.. Утекают сокровища в заморские страны, скудеют леса и нивы, и все дальше на север, к самому Дышучему морю, идут купцы, везут на торговища белую моржовую кость, соболей и лисиц. И вслед за купцами ставят на новых землях бояре свои знамена [110]…
С укором вопрошал себя старый зиждитель: а сам ты, Авраам, сколь раз прохаживался сыромятной плеточкой по спинам изнуренных мужиков! Сколь раз впадал ты во гнев, когда, согнутые под тяжестью каменных глыб, едва поднимали их на стены храмов ослабевшие люди. Заглянул ли ты, Авраам, хо раз в землянки, где жили смерды, отведал ли хоть раз их жидкого хлёбова?..
Растормошил зиждитель сморенного крепким сном возницу, велел немедля запрягать лошадей. Со старухой простился коротко, пряча глаза, благодарил за хлеб-соль…
Еще до света возок умчал его во Владимир. А на пути ко Владимиру лежал в первых, нетронутых снегах белокаменный Суздаль.
2
— Никак, беда какая приключилась, — сказал возница, остановившись у городских ворот и приблизившись к возку, в котором подремывал Авраам. — Нынче Суждаля не узнать…
Разлепив тяжелые ото сна веки, Авраам повертел головой: Суздаль как Суздаль, на месте городницы [111], вежи [112] высятся по сторонам от ворот, над соборными крестами кружится воронье.
— Пригрезилось тебе все, — недовольно проворчал Авраам. — Трогай!
— Да куды ж трогать-то? Погляди, батюшка, народу-то сколь в воротах. Мужики хмуры, бабы в слезах — не пробьешься…
— Эй ты! — позвал Авраам оказавшегося возле возка посадского. — Почто народ в слезах, почто в воротах толпа?
Посадский поглядел на него удивленно.
— Да ты отколь такой взялся, что ни о чем не ведаешь?..
— Издалече я. Из Новгорода, — отвечал Авраам.
— Оно и видать, что из Новгорода…
— Про дело сказывай. Мор не то в городе?
— Отдал богу душу монах наш Чурила. Оттого и скорбит народ.
— Отродясь такого не видывал, — проговорил Авраам, — чтобы по чернецу убивались люди.
— Экой ты неразумный какой, — рассердился посадский. — Да кто ж не знает Чурилы?!
— Игумен, что ль?
— Сказывают тебе — чернец.
Посадский окатил зиждителя укоризненным взглядом, провел кулаком по глазам и исчез в толпе.
Авраам, вконец озадаченный, вышел из возка.
— Чего встал? А ну, съезжай с дороги! — завопил на возницу невесть откуда вынырнувший конный дружинник. — Кому сказано?..
Перегнувшись, поймал Авраамовых коней за уздцы. Кони попятились, возок качнулся и накренился надо рвом.
— Стой! Стой! — закричал возница. Дружинник оскалил зубы и, коротко взмахнув плетью, прочертил по лицу его белый рубец, тут же наполнившийся алой кровью.
Толпа поглотила Авраама. Сжатый со всех сторон, он то придвигался вместе со всеми к воротам, то откатывался к мосту. Облепившие валы и вежи ребятишки закричали:
— Несут! Несут!..
В воротах показался и тут же исчез за спинами людей высокий гроб. За гробом шли монахи и, широко разевая рты, пели псалмы.
Охваченный всеобщей скорбью, Авраам кланялся вместе со всеми и крестил лоб.
— Праведный был старец, — шептались вокруг.
— Бездомных и сирот привечал…
— За обиженных заступался…
— Шибко грамоте обучен был. Ослеп он…
— Сказывают, книг вынесли из его кельи видимо-невидимо.
— Сам князь приезжал, те книги смотрел и велел свезти во Владимир.
— Князь и нынче здесь… Ишшо вчерась прискакал с дружиною.
— Да вона он, вон!
— Кто?.. Где?..
— Князь… Князь… — поползло в толпе.
Всеволод, понуря голову, следовал за гробом рядом с игуменом. Позади него, смешавшись с монахами, шли дружинники…
Похоронное шествие, миновав ворота, свернуло на тропинку, ведущую к погосту. Люди двинулись следом. Голоса распевавших псалмы монахов удалялись, мешаясь с шумом толпы.
Авраам пробрался к возку, забился под полсть, затих. Всю дорогу до Владимира ехал, открыв глаза, но ничего не видя вокруг себя. В ушах его звучали еще только что слышанные псалмы, но внутренним взором своим он обратился уже к другому печальному шествию, когда хоронили в Новгороде воинов, павших в битве за шведский город Сигтуну.
Так же толпился на улицах народ, так же крестились и плакали мужики и бабы, за гробом шел владыка в скорбном облачении, а рядом с ним — посадник, молчаливый и нахохленный, как сыч, — в черной однорядке и с непокрытой головой…
Еще раньше, по весне, на этих же улицах царило радостное оживление, на Волхове, неподалеку от Великого моста, стояли насады [113] и струги, отплывавшие вскоре в Нево-озеро, а оттуда — в Варяжское море.
Шведское войско, внезапно появившись на северном порубежье, предало огню многие деревни и села, разрушило монастыри и, захватив большую добычу, растворилось в тумане…
В Упсале праздновали победу, а в Новгороде, стиснув зубы, корабельных дел мастера рубили лодии, устилая берега Волхова золотистой сосновой щепой.
Много дней и ночей плыли насады и струги по Варяжскому морю, много дней и ночей трепали их напористые ветры, ломали мачты, рвали паруса.
В столь далекие морские походы новгородцы не ходили уже давно. Но они искали мести и, привязавшись к мачтам, жадно оглядывали пустынный горизонт.
Авраам тоже был среди них. Шведы убили у него мать и сестру.
Ни владыка, ни посадник не отпускали мастера, стоял недостроенный собор, но Авраам был непреклонен.
— Собор дострою, когда вернусь, — сказал он.
«Собор достроят другие», — подумал Авраам, отправляясь в путь. Смерть на дальних берегах была ему не страшна.
Лучшие бронники сделали для Авраама кольчугу, лучшие кузнецы сковали ему меч, лучшие кожемяки выделали сафьян, чтобы усмошвецы сшили ему лучшие в Новгороде сапоги.
Был мастер Авраам знаменитым человеком. Провожали его в поход и Людинский, и Неревский, и Загородский, и Словенский, и Плотницкий концы — много было у Авраама в городе друзей и сподвижников…
Шли насады и струги по Варяжскому морю, кормчие правили их к шведским берегам. Бывалые были кормчие, набирали их у русских и немецких купцов, давали много золота, сулили большую добычу.
Пробирались насады и струги в ночной тишине у скалистых чужих берегов, высаживались вои на серые камни, неслышно карабкались по острым уступам, босые, скинув сапоги, без лишней одежды — в белых рубахах.
Словно выходцы с другого света, выросли они под стенами беззаботно веселящейся Сигтуны. Не успели закрыть перед ними ворота, не успели выставить на стены метких лучников…
Славно попировали новгородцы на шведской земле. Пусть поплачут и недруги, чтобы впредь неповадно им было опустошать русские берега!..
Уходили новгородцы из Сигтуны — увозили с собою много добра, щедро расплачивались с искусными кормчими.
И вез Авраам на своем струге врата от Сигтунского храма: то-то повеселит он новгородцев! Поставит он эти врата на святую Софию — и не для того только, чтобы радовать глаз, но и напоминать пришельцам с чужой земли о сожженной Сигтуне.
— Хвала тебе, мастер! — сказал, встречая его, растроганный владыка. — Бесценен твой дар Великому Новгороду.
— Хвала тебе, мастер! — сказали благодарные люди.
И поставил Авраам на святую Софию привезенные с чужбины врата. Строители их, магдебургские мастера Риквин и Вайсмут, для шведского короля из бронзы отливали створы, украшали затейливой резьбой, а в центре нижней части створа изобразил Авраам себя самого с клещами и молотом в руках и под латинскими буквами сделал надписи на русском языке… Приходили новгородцы любоваться вратами, радовались, как дети…
…Далеко отнесли Авраама мысли от разбитой дороги — ветер колол ему лицо острыми снежинками; по левую руку дымилась Нерль, а по правую высунулись из-за пригорка заметанные сугробами стены детинца. Только тут очнулся Авраам, дрожащей рукой откинул полсть, закричал вознице, чтобы поворачивал коней в объезд Боголюбова.
Не терпелось ему взглянуть на дивную церковь Покрова, коснуться ладонью шершавого камня, помянуть поставившего ее Левонтия…
Возок накренился, осторожно скатился в ложбину.
— Ы-ых, вы-и! — замотал возница кнутом. Лошади боком вынесли на отлогий пригорок.
Из кучерявых облаков выглянуло солнце, зажгло брошенным в пойму прямым лучом ранние снега…
3
Тем же вечером сидел Авраам в избе у Никитки, утомленный баней, пил квас и слушал хозяина.
— Порадовал ты меня, Авраам, — говорил Никитка. — Оказал большую честь. Зело наслышан я о твоем мастерстве — разносят молву о нем по земле странники…
— И меня привела во Владимир молва, — отвечал Авраам. — И так подумал я: живем мы в разных концах Руси, а творим единое. И вяжет нас воедино не токмо язык. Не токмо вера. Едиными помыслами связаны мы от Дышучего до Русского моря, от Волги и до Горбов. Те же песни поет мамка детям своим в Рязани и в Галиче, во Владимире и Новгороде. И святая София наша так же внятна русскому сердцу, как и София киевская, и собор Успения божьей матери, и Ильинская церковь в Чернигове…
— Все, что сказываешь ты, все верно, Авраам. Но шибко чего-то боюсь я. Баловала меня жизнь — про то ты ведаешь. Все задуманное мною легло либо в дерево, либо в камень. А нынче стою над Клязьмой, слушаю глас толпы, смотрю на божьи храмы — и гложет меня сомненье: дале-то куды?.. Ну, сложу еще церковь о пяти главах, и еще… Воздвигну собор, каких не бывало на Руси, — а дале-то?..
Авраам удивился:
— На то ты и мастер, а другому дело твое не по плечу. О чем скорбишь — того не разумею. Обласкан ты Всеволодом, у народа в чести…
— Связаны руки у меня, ноги в железах — не двинуться…
— Ноша у нас нелегка, — согласился Авраам.
— Не про то я, — сказал Никитка. — Разгневался, слышь-ко, епископ наш Иоанн, как привел его Всеволод во Дмитриевский собор…
— Глядел и я, дивился: зело вольна твоя церковь, зело вольна…
— Иоанн-то так же сказывал: «Испоганил ты, — говорит мне, — ликами безбожными святой храм. Не молиться в нем, а водить хороводы. Миряне пальцами в стены тычут, скалят зубы. Почто богохульствуешь?»
— И Всеволод за тебя не вступился? — насторожился Авраам.
— Вступился, но тих стал и задумчив. И новые хоромы каменные ставить на своем дворе мне не повелел.
— Могуч Софийский собор. И в том искусство великого мастера, — помолчав, заговорил Авраам, — смотришь издали — и чудится, будто вытесан собор из единой глыбы. В землю крепко врос, шеломами подпирает небо — не сдвинешь. Гордится своей Софией новгородец, трепещет недруг… Но народ наш не токмо воитель — душа в нем живая, открытая земной красоте. Ее-то и вижу я в твоих храмах, Никитка. Легки они и праздничны, как светлый утренник. Не печалуйся — ишшо призовет тебя Всеволод. Да разве доверится он мастерам от угров иль немцев?! Сгонят пастыри народ на молитву, но соединить христово стадо будет им не по плечу. Чужим не проникнется мужик, а ежели и поклонится, то только для виду. Вернется в капища, в родные леса и болота — там ему к богу ближе, а вокруг все свое… У собора твоего, Никитка, мужик не на чужбине, а в знакомом лесу. Оттого и верит… Любит он свою землю, ляжет за нее костьми, нищим пойдет с сумою, а — не предаст. Все это прочел я на твоих храмах, Никитка, — не печалуйся.
Хорошо говорить Никитке с Авраамом, хорошо сидеть за чистым столом, попивать квасок, а то и отвлечься от беседы, поглядеть на жену свою Аленку, уютно пристроившуюся в уголке возле печки с прялкой. Ловкие руки у Аленки, бежит волнистая пряжа из-под ее пальцев, как быстрый ручеек.
Годы прошли, а все не стареет ее красота. Не в силах избыть ее ни седеющие волосы, ни мелкие морщинки в уголках таких же, как и прежде, улыбчивых и добрых глаз.
Маркуха уехал от них с дружиной каменщиков в Юрьев, редко подает о себе вести — одной Аленке скучно: хозяйство у них не ахти какое, хоромы тоже не как у князя. Управившись до полудня, садилась Аленка за кросенный стан [114] или за прялку. Иногда приходили соседки, сказки сказывали или пели песни.
Иногда, потолкавшись на торговище, приносили всякие новости:
— У попа Овечки поросенок в Клязьме утонул…
— Сказывают, княгинюшка наша опять же балует игуменью Досифею — поднесла ей икону в золотом окладе и с каменьями. Сама наезжала в монастырь с сынами. Меньшой-то у князя ши-иб-ко хорошенький, а Констянтин вымазал боярину Однооку ворота дегтем. Почто бы это?..
— Про Звездана слухи дошли, будто он в Новгороде со Словишей..
— Слышь-ко, Оленка, что баба Агапья сказывала: лучше нет для росту волос, как отвар из ивовой коры и дедовника. Косища-то у нее в руку — средство верное…
— Ты Омелицу-то помнишь ли? Так она зубами завсегда маялась, сердешная. Нонче как рукой сняло. Заговор, говорит, дала ей убогая старушка. Хошь скажу? Перво-наперво возьми березову почку и над нею чти: «Первым разом, добрым часом, зубная скорбь, уймись, больше на зуб не ломись! Как этим сучьям на корнях не стоять, отроков не пущать и ветками не махать, так зубам не гнить, болезнь в себе не водить. Заговор мой крепкий по сей день, по сей час, на веки веков…» А после почку-то в воду окуни — и на зуб. Враз заживет!..
Скучно Аленке, не с кем душу отвести — сынок все больше с отцом да с отцом. Вот и ныне собирается с камнесечцами. У Никитки для него отказа никогда нет.
— Тебя как зовут? — спросил Авраам паренька.
— Улыбой, — серьезно отвечал он.
— А почто с матерью не сидишь?
— Баба она…
— А ты мужик?
— Ага, — живо кивал Улыба. — Возьми меня, дядька, заутра с собой.
— Ты у батьки спроси.
— Батька, возьмешь меня с собой? — спрашивал Улыба, весело скаля зубы.
— Куды уж без тебя! — махал Никитка рукой.
Улыбе уже двенадцать минуло. Это для мамки он малец, а Никитка разговаривает с сыном серьезно. Маркуха был не свой, но и того вывел он в мастера. Улыба оказался тоже смышленым. Не боясь высоты, карабкался он вслед за отцом по лесам, работал топором и тесалом, умел замешать раствор и пригнать на растворе камень. С виду хрупкий, Улыба был силен и вынослив. К материной юбке не жался, не хныкал и стойко сносил затрещины отца. «Корень учения горек, да плод его сладок», — приговаривал Никитка. Ему, чай, и самому перепадало от Левонтия…
На старом княжом дворе у Золотых ворот подновляли обветшавшую церковь. Сюда и привел Авраама Никитка.
Мужики, приметив мастера, живее застучали зубилами. Когда он подходил, вставали, снимали шапки, кланялись.
Улыба юркнул за кучу строительной трухи, которой забивали пустые полости стен, взбежал по жиденьким мосткам на леса, и скоро синий кожушок его замелькал возле самого купола, где, привязавшись веревками к кресту, работали позолотчики…
Людей из своей дружины Никитка знал всех в лицо, подходил к ним, заговаривал, иногда сам брал в руки тесало — показывал, как следует срезать камень.
Двор был весь заезжен подводами, в лужах валялись обрезки железа, в воздухе висела мелкая известковая пыль…
Под сводами церкви было сумрачно и пусто, как в бочке. Из прорезей в барабане, как в щели, цедился скупой свет. Никитка оглядел стены и остался доволен: мужики потрудились на славу. Пройдет еще совсем немного дней, и придут сюда богомазы, а к весне церковь будет не узнать — украсят ее росписи и позолота, засияет алтарь, затеплятся пред иконами лампадки и свечи…
Узнав о приезде Авраама, другим вечером в гости к Никитке нежданно-негаданно наведался кузнец Морхиня. Хоть был он и чист, и в белой рубахе, но едва только переступил порог, как повеяло в избе крепким запахом горелого железа. Бедовые глаза Морхини быстро ощупали гостя.
Авраам понравился ему — человек простой, бывалый, сидит спокойно, натруженные руки положил на столешницу, улыбается открыто, в глазах — любопытство.
— Входи, не топчись у порога, — пригласил Никитка.
Морхиня улыбнулся и сел на лавку. Вошла Аленка, молча поставила на стол корчагу с медом, так же тихо удалилась. На печи ворочался Улыба.
— Вчерась встретил на исаде купца из Новгорода, — сказал Морхиня. — Узнал от него, будто пришел в город игумен Ефросим, добивался Мартирия, бунт был велик. Тако ли?..
— Тако, — ответил Авраам.
Посоловев от выпитого меда, Морхиня рассматривал гостя в упор.
— Сказывают, будто в обиде Ефросим, что не его избрали владыкой…
Авраам почесал пятерней бороду, взглянул на кузнеца косо:
— Кто сказывал?
— Пришлые из Новгорода…
— Купцы?
— А кто же еще.
Авраам обмолвился:
— А про то не сказывали, что наведываются к Ефросиму в святую обитель Иоанновы послы ежедень?
— Про то не сказывали. А вот слыхал я, будто снарядил Мартирий своих людишек к Роману на Волынь…
— На то он и владыко. Ему дале видать…
— А людишек тех схватили и ко Всеволоду отвезли… Во дворе-то у Нездинича — крепкий князев надзор. Почто сносится владыко с Романом?..
— Новгород — моя отчина, кузнец. Да тебе-то что? Почто меня пытаешь? В Боярский совет я не вхож.
Морхиня удовлетворенно покашлял в кулак. Въедливый был он мужик. Кузня его — первая, если ехать в слободу от Золотых ворот. Кто ни появится, завернет к нему: одному коня подковать, другому обода на колеса новые наклепать, а иному просто водицы испить. О разном болтают люди, пока он занят работой. В кузне у него тепло, жаркий огонь трепещет в горне. А крепкий мед развязывает языки.
Но пытать и дале Авраама Морхиня не стал. Повернувшись к Никитке, вдруг весело спросил:
— Ты Веселицу-то знал, поди?
— Как же…
— Объявился в городе…
— Свят-свят, — перекрестиля Никитка. — Это как же его с того света занесло?
— Жив и здоровехонек. Вчерась в кузню заходил, грозился: пойду ко князю с жалобой на Одноока.
— Неймется ему…
— Обобрал его Одноок, а еще и бил до смерти. Возьмет с Одноока князь виру [115].
— С Одноока возьмешь…
Морхиня тоже усумнился:
— Про то и я сказывал.
— А он что?
— Все едино, говорит. А Однооку я обид своих не спущу…
— Худо кончит Веселица.
— Да хуже-то куды?!
Авраам слушал их с охотой. Кузнец все больше нравился камнесечцу.
Когда Морхиня ушел, с печки подал голос Улыба:
— Бать, а бать…
— Не спишь?
— А я тож Веселицу видал. Тощой он и страшный. Глазищи как плошки. Ребятишки в него камни бросали…
— Не твое это дело, — недовольно сказал Никитка. — Мал ты еще…
— Бать, а бать…
— Ну что?
— А Веселица святой?
— С чего взял?
— Так мамка говорила…
— Мамка у тебя добрая. Все убогие у ней святые…
Не нравились Никитке вопросы Улыбы — бередили они и его старые раны. Разве мальцу объяснишь, откуда берется горечь? Вырастет — сам поймет…
— Всюду не легок в жизни праведно добытый хлеб, — сказал, укладываясь спать на лавке, Авраам. — А нам не легок вдвойне: своя назола [116] свербит, от чужой сбежать нет мочи… Облика господня в людях не стало.
— Совестливый ты, Авраам. Да у других-то брюхо ровно дырявый куль: сколь в него ни сыпь — все мало. Спи…
Улыба уже тихонько похрапывал на печи. Аленка спала за перегородкой в закутке.
Ветер шуршал по крыше ледяной крупой.
4
Жизнь человека подобна проточной воде. Одна катится по равнине широко и спокойно; другая — шумит и пенится, сотрясая пороги; иная тоненьким ручейком струится в тени добрых дерев, а бывает и так, что, едва родившись, иссякает она вблизи своего истока — слаба ее жила, не хватает ей силы пробиться к морю, выпивают ее шершавыми губами жаждущие поля, набравшись живительной влаги, взрастают золотыми колосьями к синему небу…
Свой норов у каждой воды, своя судьба, но зря не пропадет и самая малая капля.
Схоронили чернецы Чурилу — и пусто сделалось в святой обители. Куда ни сунься, в какой угол ни загляни — всюду его следы. Кажется, вот-вот выйдет он, могуч и длинноволос, на выложенный плашками чистый двор, сбегутся к нему монахи слушать его чудные рассказы, разинут рты, замрут в изумлении. И умом господь наградил его недюжинным, и богатырским сложением. Казалось всем, что нет Чуриле изводу. Казалось, вечно пребывать ему на земле, как этим лесам, лугам и пажитям, что раскинулись за Каменкою в плодородном ополье.
А вот на ж поди — и его час настал, кончились и его силы.
Трудно расставался с жизнью своей Чурила. Стали примечать монахи, что сделался он не в меру задумчив и одинок. Бывало, раньше-то видели его и на трапезе, и во дворе, беседующим с игуменом, и на молитве в соборе, от коей не отступал он и тогда, когда совсем ослеп, и покорный отрок неторопливо водил его на службу и со службы обратно в келью.
— За грехи мои наказует меня бог, — говорил Чурила, уставившись в небо поверх головы игумена широко открытыми глазами.
— Почто хулу на себя возводишь? — отвечал игумен. — Жил ты, Чурила, по правде. А господь наш справедлив и милостив — заберет он тебя к своему светлому престолу. И тако скажет: «Был ты, Чурила, праведен и боголюбив. Оттого и уготовил я тебе на небесах вечное блаженство». Все мы гости на этом свете.
Ласков был игумен, сам одной ногою стоял в могиле. Подумывал и он о вечном царствии небесном. Тело его высохло и ослабело, посох едва удерживал готовую переломиться пополам спину, в груди стесненно клокотало дыхание.
Целыми днями (или ночами — то было ему неведомо) Чурила беззвучно сидел в своей келье, касался пальцами листов пергамента, ловил щекой дуновение проникшего сквозь неплотные задвижки окна ветра и думал, думал, как будто думы могли отсрочить неизбежное…
Вечное блаженство — а есть ли оно?.. Почему не хочет душа расставаться с телом? Не есть ли и ее удел — сырая яма с желтой лужицей на дне, мрак и опустение? Отчего тоскует она по крепким ногам, сильным рукам, большому красивому телу?.. Когда окружал Чурилу праздничный светлый мир, когда водил он писалом по листам пергамента и раскрашивал киноварью заглавные буквицы, тогда не скорбела душа, а теперь, накануне блаженства, скорбит и мается…
Что есть человек? Прах и глина. Безобразные кости, череп с пустыми глазницами… Не истлевает ли и душа, не истончается ли вместе с костьми и не растворяется ли в полых водах, не разносится ли по долам и весям с песком и пылью?
— Верую, господи, — шептал Чурила бескровными губами. — Верую, верую…
Но мысли его возвращались на круги своя, жесткой ясностью сжигали последнюю надежду.
Вся жизнь проходила перед взором Чурилы — своя и чужая. Большая жизнь, которая сейчас казалась ничтожной, как островок в безответном, безграничном мраке. Придут другие люди, начнут все заново — еще и еще. И они растают в безбрежности…
Лишь руки, касавшиеся теплых листов пергамента, напоминали ему что-то, но что?..
И вот однажды сверкнула молния, обожгла пальцы и разлилась внутри его спокойным светом: разве не вложил он душу свою в эти листы, в эти маленькие черные буковки? Разве не осенил его бог своей благодатью, ниспослав ему великое знамение? И разве не его избрал он среди многих, водя рукой его? И не свои ли помыслы вложил в пергаментные листы, которые останутся и будут жить вечно?..
— Господи, — шептал Чурила, — верую. Воистину душа человеческая бессмертна…
Так и умер он с этими словами на устах. Игумен закрыл его глаза и вышел из кельи. На всходе стояли плачущие монахи.
— Почто плачете? — спросил их игумен, глотая слезы.
— Жаль Чурилу, — сказали монахи.
— Возрадуйтесь, скоро душа его встретится с богом.
— Воистину так, — сказали монахи, но слез не могли унять. Тогда взошел игумен в собор, и следом за ним взошли в собор все. И повелел игумен, как в праздник, зажечь восковые свечи. И свечи зажгли, как он повелел, и встали на колени.
— Помолимся, братие, — сказал игумен.
— Помолимся, — сказали монахи. И долго молились и клали земные поклоны.
Спи спокойно, Чурила. Пусть не тревожат тебя земные сны. Прольются над тобой дожди, лягут снега, взойдут весенние травы, созреют на полях злаки. И снова прольются дожди, и снова лягут снега, и снова взойдут весенние травы…
Призовет к себе Всеволод обученного грамоте ратника и скажет ему так:
— Забудут ли внуки наши содеянное отцами и дедами? Умрет ли память о нас вместе с нами?..
— Нет, не умрет, — скажет ратник, и преклонит колена, и возьмет из руки князя твою летопись.
Пролетят годы. Придет лихолетье. И над могилой твоей, Чурила, подымет пыль до небес чужая конница. Принесет она с собой запах далеких становищ и горькой степной полыни. Рухнут городницы Владимира и Суздаля, вспыхнут, как свечи, белокаменные соборы, умоется кровью земля… Пронзенный стрелой, падет ратник на желтые листы пергамента.
Но разве люди дадут оборваться памяти?.. Темной ночью придут они и похоронят ратника, а бесценные листы, рискуя жизнью, унесут с собою в леса.
Спи спокойно, Чурила. Пусть не тревожат тебя земные сны. Не скоро придет на могилу твою страшная весть — далеко отсюда еще только собирается конница в бескрайние табуны…
А пока ни стар, ни млад не пройдут мимо — присядут у холмика, развернут тряпицу с нехитрой едой, помянут тебя, отдохнут и тронутся дальше в путь…
…Бродит русский мужик по земле — ищет себе лучшей доли. Проложил дороги во все концы, пробил тропы сквозь бурелом и болота. Но заветной тропы все никак не найдет. А от Дышучего моря, треща небывалыми морозами, идет с великими снегами суровая зима…
Глава восьмая
1
Все, что сказывал Морхиня про Веселицу, все истинно так и было. Не удержал его Мисаил — ни добротой своей не удержал, ни речьми праведными.
— Ища озлобления в сердце своем, — говорил Мисаил, — ступаешь ты, Веселица, на грешный и зело опасный путь. И в том я тебе не помощник, и благословения моего для себя не жди.
Горько было сознавать старцу, что не нашел он в сердце Веселицы отклика на свою доброту, но верил еще: не много пройдет времени, потолкается Веселица в миру — и вернется назад. Не сыскать ему правды — зарыта она глубоко, милости княжеской не добиться — нет у него послухов против Одноока. Посмеется над ним боярин и велит вдругорядь гнать со двора. А князь сурово накажет за наговор.
Предостерег бы Мисаил Веселицу, да по глазам прочел: падут слова его на бесплодный камень. Почто надрываться зря?..
Ушел Веселица. Придя во Владимир, перво-наперво заглянул к Морхине.
Кузнец вытаращил глаза:
— Покойничек не то ожил?
— Не хоронил ты меня…
— Другие хоронили…
— Хоронить-то хоронили, да в гроб положить забыли. Вот он я!
— Не серчай, Веселица, — мягко сказал кузнец. — Видеть тебя я рад.
— Одноока тоже порадую…
— Эко удивил!.. А в беде своей ты сам виноват. Одноок брал, что в руки шло: на то он и резоимец.
— Ко Всеволоду пойду.
— Вовсе помутился у тебя рассудок. Да нешто князь боярина даст в обиду?
Совсем отчаялся Веселица. Обессилев, прислонился к наковальне, опустил безвольно руки. Острые лопатки жалко торчали сквозь продранную на спине рубаху, грязные пальцы высовывались из худых лаптей.
Умолял Веселица:
— Ну, научи меня, Морхиня. Ты человек мудрой — про то все говорят. И князь тебя чтит. Как быть?..
— Купцы тебя к себе не примут, знаешь сам, — вслух рассуждал кузнец. — Идти тебе в закупы, а иного пути нет…
— Эко присоветовал! — ожесточившись, вскочил Веселица. — А из закупов — в холопы?..
— Почто в холопы? Откупишься — снова станешь свободным…
— Немощен я…
Жалко было Морхине Веселицу, но как ему помочь?
— Ты князю-то замолвил бы за меня словечко, — снова принялся за свое Веселица. Глаза его лихорадочно блестели.
— Не послушает меня князь…
— Куды ж мне?
Морхиня помолчал. Веселица перекатывал на худых скулах жесткие желваки.
— Пропал я, Морхиня, яко капустный червь, — сказал он.
— Сам на себя веревку свил, других винить неча, — укорил кузнец.
Веселица побледнел:
— На пиру много друзей…
— Не ярись. Эко явился — словно полымем тебя принесло. Послушайся моего совета…
— Ко князю пойду.
— Одно заладил…
— Прощай, Морхиня.
— Прощай.
Вышел Веселица на улицу — ослеп от яркого солнца. Шел, качаясь, как пьяный. И чем дальше он шел, тем все больше западали ему в душу слова, сказанные Морхиней. Не кривил душою кузнец — говорил то, что знал. Надежный он человек, и зря обругал его Веселица.
В закупы идти — все равно что на кривой и кособокой жениться. Но кривую жену не избыть вовек, а из закупов можно выкарабкаться…
Был у него еще смиренник — отец Мисаил. Но принимать суровый обет Веселица не хотел. Не чувствовал он в себе близости к богу и еще мечтал рассчитаться с Однооком.
Припекало осеннее солнышко Веселице спину, а в тени под заборами снег лежал.
Шел Веселица, не глядя по сторонам. У Медных ворот увязались за ним ребятишки. Поначалу дразнили незлобно, дергали за штаны, потом принялись кидать в него комья мерзлой земли.
— Весел Веселица, да рожа невесела! — кричали они, сбиваясь в озорную толпу.
Взрослые выходили из ворот — иные отгоняли ребятишек, другие тоже скалили зубы.
— Принесло его нам на лихо.
— Куды только посадник глядит?!
Бабы жалились:
— Не трожьте убогого.
Мужики со знанием говорили:
— Не убогой он, без понятия. Глупо рожено — не научишь…
Вдруг будто споткнулся Веселица. Поднял затуманенный взгляд и увидел, что стоит перед бывшей своей избой. На крыше — те же петухи, оконца облачены в кружевные наличники. Перед воротами стоит возок, одна к одной — белые лошади украшены нарядной сбруей. Выводят отроки красну девицу в высоком кокошнике, придерживают ее под локотки.
Ах ты, господи, ведь привидится же такое! И не красну девицу вовсе подсаживают в возок отроки, а боярина Одноока. Кланяются ему низко, ноги, обутые в мягкие сапоги, бережно укутывают ласковым мехом.
Тут-то и глянул боярин на убогого, вытаращил глазищи, разинул, набравши воздуха, рот, заорал:
— Гони!..
Взяли кони с места, понесли возок по разбитой дороге, ударили его задом в плетень, выровняли бег и скрылись за поворотом.
Веселица задрожал, кинулся вслед. Ребятишки веселой гурьбой бежали с ним рядом. Улица наполнилась беспокойной суетой и криками:
— Лови!
— Держи!
— Хватай вора!..
Шла навстречу монашка, испуганно крестясь, попятилась с дороги.
— Помогай вам бог, люди добрые, — обратилась она к бабам. — Не скажете ли почто шум?
— Здрава будь, Феодора, — отвечали ей бабы. — Нанесло на нас опять Веселицу. Сколь ден не показывался — думали, сгиб. Ан нет. Сызнова грозится Однооку…
— Чего грозится-то? — удивилась монашка.
— Аль не слыхала?
— Наше дело — богу молиться, — скромно отвечала Феодора.
— Пустил его Одноок по миру, все богатство отобрал, избу тож — вот эту самую… Да ты не печалуйся, матушка: сам Веселица всему виной и причиной. Жил неправедно, вот его господь и покарал… Одно слово, убогой он.
— Убогих бог любит, — сказала Феодора. — А мальцы ваши убогим помыкают.
— Неразумны ишшо, вот и скалятся…
Ребятишки наседали на Веселицу со всех сторон, со смехом валили на землю. Он отбивался от них, как мог.
На помощь мальцам поспешили замешкавшиеся было у ворот отроки. Отшвырнули ребятишек, прижали Веселицу к плетню. Стали размахивать кулаками.
Бабы запричитали в голос, принялись стыдить своих мужиков:
— А вы что рты разинули?
— Убого бьют — вам все нипочем.
— Нынче Веселицу — завтра за вас примутся. И так житья никакого от них не стало…
Мужики поначалу пересмеивались, отмахивались от надоедливых баб. Но, когда отроки сбили Веселицу наземь и взялись пинать лежащего ногами, забеспокоились:
— А и впрямь, доколь боярским прихвостням человека страмить?
— Эй вы, волки гривастые, будя вам колотить Веселицу!..
Отроки не слушали мужиков, занятые привычным делом. Кряхтели, посапывали, с удовольствием приговаривали:
— Будя тебе боярина нашего поносить.
— Раз проучили — проучим ишшо!..
Мужики загалдели, нестройно двинулись по улице.
— Кому сказано, оставьте убогого! — послышались смелые голоса.
— Ступайте, мужики, по избам, — дерзко отвечали отроки. — Не то и вам перепадет.
— Эко разохотились! — из толпы вывернулся кряжистый парень, с незлобивой улыбкой на бледном лице выдернул из плетня липовый кол.
— А ну, помогай, кто смел! — крикнул задиристо и весело. Размахнулся, огрел ближайшего отрока по ягодицам.
— Так его! — подначивали бабы.
— Бог в помочь! — закричали мужики и, поплевав на ладони, принялись расшвыривать и бить по загривкам боярских приспешников.
Потасовка перерастала в драку. Про Веселицу забыли. Вспоминали всяк про свои обиды:
— Это тебе, сивый мерин, за Агапку!
— А это — должок за порушенные борти!..
— За боярского кобеля. Покусал прошлым летом мово Ковдюшку…
— А вот получай за клин, что прирезал Одноок к своему огороду!.. Мой клин, моя земля!..
Наваляли отрокам на долгую память, загнали во двор, еще издевались под воротами:
— Сопляки желторотые!..
— Псы шелудивые!..
Тем временем, отделясь от толпы, Феодора уговаривала харкающего кровью Веселицу:
— Ты о меня обопрись, миленький… Ну-ко.
Веселица бормотал в беспамятстве:
— Убивцы, звери лютые… Ко князю пойду, ко князю…
— Ко князю? — усмехнулась Феодора. — Князь тя рассудит…
— Князь рассудит…
— Мужика мово рассудил…
— Да ты кто такая? Откудова взялась? — подозрительно воззрился на нее Веселица отекшим глазом.
— Не видишь, что ль? Черница я. Феодора…
— То-то что черница. Не твое это дело — мирское. Почто встряла? Пущай бьют… Пущай…
Терпеливо снося упреки, Феодора подталкивала Веселицу в спину, свернув за угол, вынула из холщовой сумы тряпицу:
— Ha-ко, лицо утри.
Стих Веселица, покорно вытер лицо, поплелся, прихрамывая, с ней рядом. Слово за слово, пока дошли до Медных ворот, Феодора узнала про него почти все.
Страж у ворот, улыбаясь, окликнул монашку:
— Помогай бог, сестра Феодора!
— Дай бог и тебе счастья, — отвечала монашка.
Стражу наскучило без дела. День ото дня — все одно и то же. Прислонив копье к стене, он сидел на скамеечке, расставив ноги рогатиной, грелся на солнышке, довольно жмурился.
— А ты куды, Веселица, путь наладил? — спросил воротник.
— На Кудыкину гору, — отвечал Веселица.
— А далеко ли гора-то? — скучая, переспросил воротник.
— Отселева не видать. Отчепись ты!..
Откинув голову, воротник зашелся неслышным смехом — над открытым вырезом суконника [117] прыгал обросший седыми волосами кадык.
— Шутник ты, Веселица, — сказал он, вытирая согнутым пальцем выступившие на глазах слезы. — А синяк у тебя откудова?
— Однооковы псы наваляли…
— Неуемен ты, Веселица.
— За правду завсегда наваляют…
— Суд людской — не божий. Бог — милостив.
Из-за ворот вылетела навстречу Веселице с Феодорой стайка ворон. Над Лыбедью сумеречно виднелись перелески. Темнело. Сиверко гнал на город сбитые над полями в лохматые кучи облака.
2
Из печи выносило струистый дымок, потрескивала береста. Теремок, вертя хвостом, стоял возле лавки и тыкал в щеку Веселицы холодным влажным носом.
— Ну, чего тебе? — сказал Веселица, все еще пребывая в спокойной дреме и не приподымая головы. Пес взвизгнул и присел на задних лапах. У него были смиренные, как у хозяина, глаза, в приоткрытой пасти мотался красный язык.
Веселица нехотя встал, напялил на плечи влажную одежду и вышел за тоненько скрипнувшую дверь.
Мисаил рубил дрова. Повесив на сучок однорядку, он стоял посреди припорошенной снегом поляны в застиранной нательной рубахе, заносил топор над лесиной и, с силой опуская его, громко выдыхал.
— Дай-ко мне, — попросил топор Веселица.
— Богу наперед помолись, — буркнул Мисаил, не глядя.
Веселица потоптался неловко, с виной в голосе промямлил:
— Не серчай, отче.
Мисаил продолжал молча рубить дрова.
— Крепок ты, — польстил смиреннику Веселица. — Силушка из тебя так и прет…
Мисаил опустил топор.
— Ну что пялишься? — спросил хоть и грубовато, но с потаенной добротой.
— Поразмяться бы…
— Ну-ко, — протянул Мисаил топор. — Передохну покуда.
Снял однорядку с сучка, набросил на плечи. Веселица обрадованно схватил топор, непутево зачастил легкими ударами. Лесина была тугая и влажная, топор отскакивал от нее, разбрасывая мелкую щепу.
— Слаб ты ишшо, — говорил Мисаил, стоя рядом. — Сока ишшо не набрал. А туды ж петушишься. Почто в город зачастил?
Веселица выпрямился, глядя в сторону, пощупал пальцем синяк.
— Душа истомилась, отче.
— Оттого истомилась, что помыслы все твои суета и тлен. В ночь-то стонал дюже, зубами скрипел. Думал, огневица у тебя…
— Помереть бы мне…
— Помереть — дело не хитрое.
— Что делать-то?
— Смирись и не богохульствуй.
Веселица в сердцах бросил топор.
— Все одно заладил: смирись да смирись… Нешто слов у тебя других нет, отче?
— Другие-то слова у других для тебя припасены. Ввергают помыслы твои в безумие, распаляют сердце. В смирении обретешь благодать, в смирении!..
Сорвался Мисаил на крик, глаза стали красны и неистовы — Веселица, испугавшись, даже отпрянул от старца. Таким не видел он его еще ни разу. Теремок тоже встрепенулся, дивясь хозяину, закружился с громким лаем на поляне.
— Ишь ты, божья тварь, — сам смутившись от неожиданного гнева, проговорил смиренник и торопливо перекрестился. — Господи, вводишь ты меня во грех, Веселица… Дай-ко топор!
Снова повесив на сучок однорядку, Мисаил с еще большим ожесточением принялся за лесину.
Неожиданно Теремок навострил уши, подобрал хвост, зарычал и вдруг, отчаянно залаяв, бросился в припорошенные снегом кусты.
Укутанная в меховую душегрейку, из-под которой выглядывали полы строгой монашеской ряски, на тропе показалась черница с плетенкой из луба за спиной и палкой в руке.
Остановившись над преградившим ей дорогу Теремком, она ласково проговорила:
— Собачка, собачка, вот тебе хлеба краюшка. Не ярись — пропусти к хозяевам…
Теремок не то понял ее, не то уловил ласковость в ее голосе — приветливо завилял хвостом, вернулся к Мисаилу и свернулся клубком возле его ног.
— Бог в помощь, люди добрые, — сказала монашка, выходя на поляну.
— Спасибо на добром слове, — ответил Мисаил и воткнул в лесину сочно хрястнувший топор.
Монашка подошла к Веселице, поглядела на него снизу вверх, улыбаясь, и певуче спросила:
— Не признал не то?
— Феодора это, — растерянно произнес Веселица, оборачиваясь к Мисаилу. — Вчерась — вместе из города шли…
Мисаил посопел и строго пробубнил:
— Проходи, что ль, коли пришла.
— Спасибо, дедушка, — поклонилась ему Феодора. — Дай тебе бог здоровья.
— Здоров покуда, — ворчливо сказал Мисаил.
В тепле Феодора расстегнула душегрею и скинула к ногам плетенку.
— А я вам монастырского угощенья принесла, — сказала она.
Мисаил поставил в печь горшок с водой, подул на тлеющую бересту, подбросил в огонь сухих сучьев.
Оглядываясь, Феодора говорила с улыбкой:
— Хорошо у вас, чисто, прибрано, а живете без бабы…
— Тоже люди, чай, — сказал от печи Мисаил. Сидя на корточках, он чистил широким ножом репу и бросал в горшок.
Веселица, не отрываясь, разглядывал Феодору. Вот ведь чудно — шли вечор рядом, а не заметил он ни ее глаз, ни губ; не помнил даже — молода она или стара: заслонила весь мир от него обида.
Сегодня начали таять коловшие сердце льдинки, отпускала тягучая боль.
— Откуда ты, Феодора? — спрашивал он изумленно, боясь шевельнуться на лавке.
— Из монастыря, — потупила она глаза.
— Не черница ты…
— Грех так говорить, — отвечала с упреком.
— Не ведал я таких черниц…
— А каких ведал? — вскидывала она ресницы.
— Пахнет от тебя землей и травами…
— От земли я, Веселица. Вот и пахнет землей.
— Как звали тебя в миру?
— Малкой.
— Беда к беде путь ищет. Должно, шибко обидели тебя, Малка?
— Ох как обидели!..
Затаенную боль прочел в ее глазах Веселица. Запнулся, замолчал. Опустил голову на руки.
— Ты не молчи, Веселица. Ты говори, — тихо попросила Феодора. — Ты про себя расскажи…
— Про меня сказывать нечего. Пропащий я человек.
— Ты его, Феодора, не пытай, — глухо проговорил смиренник. — Нет у него ничего на уме, окромя Одноока. Как выхаживал я его, читал Святое писание. Ничо. Покуда болен был, взывал к богу: спаси! А встал на ноги — и все заповеди забыл. Кощунствует и пребывает в постоянном грехе…
— Хочу смириться, а не могу, — сказал Веселица. — Бес меня оседлал…
— Не бес, но гордыня, — спокойно поправил Мисаил.
Не засиделась Феодора в гостях: ей еще в городе дел было невпроворот. Навязали монашки рукавиц для клобучника Лепилы. Они ему — рукавицы, он им — иное что.
— Тем и сыты, — сказала Феодора.
— Ваша игуменья тщится Одноока перебодать, — осудил Досифею Мисаил.
Феодоре понравился старец, старцу пришлась по душе Феодора. Но Веселице он сказал:
— Все одно — баба. И знаться с ней — грех.
Окуривая после ухода Феодоры избу, чтобы изгнать нечистую силу, он бормотал молитвы и качал головой:
— Зря приютил я тебя, Веселица. Отвернется от меня господь. Разгневается.
— Куды же мне?
— А вот куды хошь, туды и иди.
Но, когда Веселица собрал мешок и стал креститься на иконы, Мисаил вдруг обхватил его и, склоняясь к груди, заговорил сбивчиво:
— Прости меня, старого. Ей-ей, прости. Не ведал, что язык бормотал. Грешен, грешен еси…
Так и остался Веселица у Мисаила.
С того дня все реже вспоминал он Одноока и все чаще — Феодору. Подолгу сидел перед избой, смотрел на тропинку, ждал, когда мелькнет среди кустов ее знакомая душегрейка.
Но дни шли за днями, а Феодора не приходила. Крепкие легли снега, ударили морозы.
Однажды утром, взяв Мисаиловы лыжи, Веселица встал на них и отправился к монастырю…
3
Не зря беспокоился Веселица: с Феодорой и впрямь приключилась беда.
Еще на подходе к городу было ей недоброе знамение: у Лыбеди встретилась ей баба с пустым ведром, а у самой избы, где жил Лепила, перебежал дорогу черный кот.
Был клобучник навеселе и, пока раскладывала она на лавке перед ним разноцветные рукавицы (будто радугу, высыпала из своего лубка!), все норовил ущипнуть ее за бок.
Феодора ловко уворачивалась от него, не серчая, но распаленный Лепила не отставал.
— Ай да черница!.. Ай да лада! — хоркал он, щекоча бородой ее ушко.
— Куды лезешь, старой бес? — говорила Феодора, отдирая от груди его руки.
И раньше, случалось, Лепила приставал к Феодоре. Не пропускал он и других черниц. За себя-то она шибко не беспокоилась…
Тут вошла со двора жена клобучника и стала жаловаться Феодоре на мужа:
— Извели его меды-то. Вовсе ошалел, умишком тронулся…
— Ты, баба, не встревай, коли не смыслишь, — сердился Лепила, с неохотой отходя от Феодоры, но и издали продолжал ласкать ее блудливым взглядом.
— Ну, будя, поозоровал — так нишкни, — рассердилась жена. — Не то шоркну по спине коромыслом.
Так было всегда. Жена Лепилы положила Феодоре в луб съестного, поклонилась ей и выпроводила за ворота.
— Помолись за нас, грешных, — сказала на прощанье…
Шла Феодора по улице, глядела на поседевшие от снега крыши, улыбалась и вдруг встала как вкопанная: катилась навстречу ей, словно опавшие листья, густая толпа.
— Куды побегли? — сунулась любопытная Феодора к запыхавшимся мужикам.
— Изба горит!..
— Чья изба?
Голоса становились все внятнее:
— Подпалили Одноока!
— Беда!..
— Свое спасай, мужики!..
Толпа подхватила Феодору, поволокла с собой по за мерзшим лужам, по кочкам и колдобинам. Теперь увидела она поверх голов растрепанный столб дыма почти у самых Медных ворот. Натруженно грохотало било…
Сердце Феодоры сжалось в недобром предчувствии, в висках застучало. Обмякли ноги. «Кажись, Веселицына изба! — подумала она со страхом. — Эко место заклятое!»
…Гудело и било в окна яркими искрами откуда-то изнутри. Осклизаясь на подтаявшем снегу, по крыше ползали мокрые люди с ведрами, лили воду на дымящиеся доски. Воду вытаскивали из колодца во дворе, несли от соседних изб.
У ворот Феодора увидела на коне Одноока. Был он одет наспех, без шапки и без рукавиц, кричал, раздирая большой рот:
— Наддай, мужички!.. Ставлю бочонок меду!.. Два бочонка!.. Наддай, мужички!
Но пламя не сдавалось, оно уже вылизывало стены, подбиралось к причелинам, крыша курилась и корчилась; окна выстреливали горячими снопами огня.
Не выдержав жара, мужики покатились с крыши на снег. Крестились. Бабы причитали, стадно жались к плетням…
— Что же вы, мужички?! — взывал Одноок. — Почто отступились?..
— Была охота в полымя лезть, — отвечали ему из толпы.
— Своя жизнь дорога…
— Твоя изба, боярин, ты и лезь…
— Чужое-то к рукам не прилипло…
— Вона как полыхает — любо!
Мелькнули в толпе отчаянные и злые глаза.
— Ты поджег? — схватили какого-то мужика растолкавшие людей отроки. До хруста заломили руки за спину, бросили на дорогу, били кулаками и топтали. Глаза мужика, исполненные страдания, налились кровью. Голова безвольно моталась и вздрагивала от ударов.
Стоявшая ближе всех к нему Феодора отшатнулась, попятилась, закрыв лицо руками. Всплыло давнишнее, почти забытое, — так же били Зорю, мужа ее, на усадьбе у боярина Разумника. Звери, звери лютые!..
— Заступитесь, бабоньки! — завопила Феодора, не узнав своего голоса. Оглохнув от ненависти, ослепнув, вцепилась в кого-то — руками не отдерешь.
— Вовсе сдурела черница! — лопнул, как пузырь, у самого уха надсадный голос.
Феодора раскрыла глаза, увидела удивленное безусое лицо в крови, отшатнулась. Кто-то схватил ее за плечи, оттащил в сторону, встряхнул.
— Она это!.. Она! — завопил, приходя в себя, отрок. Наскочил, как петух, закружился вокруг Феодоры на одной ноге, на второй переломился в голенище сапог.
Из лубяной сумы на спине Феодоры вывалилась на дорогу краюха хлеба, бурачок и две луковки.
Бабы тоже ее признали:
— Куды ж принесло тебя, черница?
— То купчишкина зазноба! — кричал отрок. — Никак, и он здеся!..
— Не страми божьего человека, — осаживали его бабы. — Чо разорался?.. Не зазноба она, а смиренница.
— Веселица здеся, Одноок! — выслуживался отрок перед боярином. — Вот ента черница вчерась подле него кудахтала. Никто другой — он и поджег избу-то…
Тут все забыли про Феодору, да и она сама замерла с открытым ртом: горевшая изба закачалась, крышу словно приподняло знобящим ветром — она с грохотом провалилась, на толпу посыпались горячие головешки… Тихо стало, как на похоронах, кто-то всхлипнул, кто-то завыл в голос. Боярин, сидя на коне, смотрел остановившимся взором в дотлевающие желтыми и синими искрами угольки.
Слава богу, мимо соседних изб огонь пронесло. А то, что боярские хоромы сгорели, мужиков не очень опечалило. Иные только жалели:
— Бочонок меду ставил боярин…
— Дык ежели бы потушили…
— А жаль бочонок-то.
— Погуляли б…
— Своя бражка есть, неча кланяться…
— Пошли, мужики!..
Народ стал неторопливо расходиться. Феодора тоже сунулась за ними вслед. Отроки преградили ей дорогу:
— А ты погодь, черница.
Подъехал на коне Одноок. Подергивая дрожащей рукой опущенные поводья, вперил в Феодору колючий взгляд.
— Твоя игуменья — не Досифея ли? — спросил тихо.
— Она, боярин, — поклонилась Феодора.
Одноок сказал:
— Почто в городе? Почто людей моих страмишь?
— В город игуменья меня послала — рукавички снести клобучнику Лепиле. А людей твоих, боярин, я не страмила. Сами острамились перед честным народом.
— Это как же? — удивился Одноок.
— Не кормишь ты их, боярин. Вот и кидаются, яко псы голодные…
— Да что слушать ее? — вскипел отрок с поцарапанной щекой. — Она те наговорит… Смиренной прикидывается, а сама будто кошка. Вели брать ее, боярин, с Веселицей она заодно.
— Ты жгла избу? — наступал на нее Одноок.
— Окстись, боярин, — отступив, сказала Феодора. — Нешто я на пожогщицу похожа?.. Да и почто жечь мне твою избу? Мы с тобой отродясь не встречались…
— А вот сказывают отроки, что видели тебя с Веселицей.
— Веселицей его зовут али еще как, то мне неведомо. Били вчера твои отроки мужика — я его и пожалела. Нынче тож не могла утерпеть… Одно слово — псы голодные.
— Ты про псов-то и говорить позабудь! — рассердился Одноок. И, обернувшись к своим людям, сказал:
— Черницу и пальцем не троньте. А отведите ее в монастырь и сдайте игуменье Досифее с рук на руки. Скажите, Одноок прислал.
Феодоре пригрозил:
— Наложит на тебя игуменья епитимью, чтобы впредь неповадно было мешаться в мирские дела.
— Виданное ли дело — вести черницу под стражей в святую обитель? — подслушав разговор, вступились за Феодору любопытные бабы.
— Сороки вертлявые, — сказал Одноок. — Ступайте отседова. Не ваша это забота.
Феодору подтолкнули.
— Чо встала? — прикрикнул отрок.
Монашка обернулась, охладила его взглядом.
— Храброй…
Неторопливо подобрала выпавший из лубяной сумы хлеб, луковицы и бурачки, пошла гордо, вскинув голову.
4
С вечера внезапно наступила оттепель — поплыли снега, обнажая покатые ребра оврагов и желтые поляны. На дорогах шуршала и пенилась коричневая жижа, с крыш обрывалась буйная капель. А утром проснулась Досифея, сунулась к оконцу — обмерла: за ночь такие нанесло снега, что коням по брюхо…
У всхода, ведущего в покои игуменьи, костлявая, огромного роста баба в сдвинутом на затылок вязаном колпаке разгребала сугробы деревянной лопатой. Было свежо и ясно.
Двор лежал нетронут и чист, как выбеленный на солнце холст. Только к собору тянулись темные пятна шажков — словно вороны на белом снегу…
Досифея крепко зажмурилась, набрала в грудь пьянящего воздуха.
Сунув под мышку черенок лопаты, баба поклонилась игуменье. Досифея перекрестила ее и осторожно спустилась на очищенную дорожку.
В закиданном до середины снегом оконце под всходом показалось чье-то лицо.
Игуменья поджала губы и, гремя ключами, отворила ведущую в подклет тесную дверь. В ноздри ударило прокисшим запахом перепревшей соломы и старого дерева. Нога поскользнулась на мокрых ступенях, Досифея прикрыла ладошкой нос, чтобы не осквернять дыхания, и сошла вниз. Глаза медленно обвыкали во мраке.
Елейным голосом Досифея спросила:
— Скорбишь, Феодора?
— Скорблю, матушка, — отвечала монахиня, потупив глаза.
— Не таишь ли зла, не богохульствуешь ли?
— Зла я, матушка, не таю. Грехи свои отмаливаю по наложенной тобою строгой епитимье.
— Вечор, как привели тебя отроки, поносила ты Одноока, винила его в жестокосердии…
— Не в себе была, матушка, — повинилась Феодора. — Шибко осерчала я на отроков и на боярина, ныне — винюсь…
Игуменья кивнула и, постучав посохом, села в угол на лавку. Монахиня стояла перед ней, изображая смирение.
— Вступая в обитель нашу, давала ты перед богом клятву свято блюсти устав, — строго выговаривала Досифея.
— Давала, матушка, — вторила ей Феодора.
— Почто же скорбишь? Аль не приглянулось тебе в обители?
— Сестер я почитаю. Тебе ж молитвы возношу за великие твои благодеяния, — отвечала монахиня.
Игуменья прикрыла глаза веками, цепко сжала поставленный между колен посох.
— А не хитришь? — спросила вкрадчивым голосом. — Не грешишь ли вновь, принимая на себя лик ангельский?
— Не грешу, матушка. Все так и есть истинно. Согрешила я, потому и несу наказание со смирением и без ропота. А нынче не грешу…
— Княгиню, защитницу нашу, давеча обидела.
— Вина лежит на мне великая.
— Кайся!
— Каюсь, матушка…
Игуменья встала, перекрестила склонившуюся перед нею Феодору. Вздохнула, стуча посохом, вышла из подклета, затворила ключом дверь.
Раскаяние Феодоры понравилось ей. Поднимаясь по всходу к себе в келью, Досифея подумала, не настала ли пора приблизить к себе молодую смиренницу. Сестра Пелагея, коей доверяла доселе она свои тайны, стала болтлива и заносчива. Другие монахини были алчны и сребролюбивы. Иные даже прелюбодействовали.
Феодора пришла в монастырь от великой скорби. Смиряя плоть, ищет она себе не радости, а спасения…
Не проста была Досифея, лукава — видела сквозь землю на три аршина, а Феодориной души разгадать не смогла.
Когда еще была Феодора Малкой, когда еще не постригли ее в иноческий сан, ушла она из деревни, ослепшая от внезапно свалившейся беды.
Долго плакала она перед тем и скорбела на могилке мужа своего, бывшего лихого Юрьева дружинника Зори, стоя у хором боярина Разумника, прижимала стиснутые в кулаки руки к груди, слушала пьяные крики. Тогда не было в ней места для тихой скорби, как не было в ней тихой скорби и сейчас. Ночью, лежа на постели в своей избе, затыкала подушкой разинутый для крика рот.
Забыть ли такое, смириться ли?.. Под утро пришел к ней хмельной меченоша Кузьмы Ратьшича, ослабевшую, валил на пол, насильничал мстительно и зло. Хотела она от горя и стыда повеситься, да сил в себе не нашла: молодость смертную тоску поборола…
Ввечеру отправилась во Владимир, не зная, к кому и зачем. У Боголюбова повстречала ласковую старушонку.
С той встречи и началась ее новая жизнь. Нашептала ей старушонка в уши о тихом монастырском житье, о благости и смирении. На израненное сердце пали вкрадчивые слова…
Когда постригали ее, истинно верила она во спасение. Но, поселившись в монастыре, совсем иное увидела. Жили монахини завистливо и грязно. Усердно молясь, доносили друг на друга игуменье. Чтя бога, в миру богохульствовали. Обкрадывали сестер своих и глумились над слабыми. А в приписанных к монастырю деревнях творилось то же, что и в вотчине у Разумника — изнурялись холопы от непосильных работ, проклинали Досифею. Была игуменья злее злого тиуна. Жадна и сребролюбива.
Привела раз Феодору Пелагея к игуменье в келью, велела молчать. Откинула крышку ларя — и зарябило в глазах: полон ларь был золота и дорогих каменьев.
— Да как же это? — прошептала Феодора внезапно высохшими губами.
Пелагея смеялась над ней:
— Доверчива ты. Воистину святая. Да святость твоя — от беса, а не от бога. Жалеешь ты убогих, заступаешься за сирых. Сестер вразумляешь… Почто?
— Не за ради сладкой жизни пришла я в обитель, — сказала Феодора. — А нынче что зрю?
— Гляди, игуменье не промолвись, — предостерегла Пелагея, и глаза ее сделались неприступны и злы.
— Порушаешь ты во мне некрепкую веру, — прошептала Феодора.
— Слепа ты была…
— А прозреть — лучше?
— Ишь заголосила, — усмехнулась Пелагея. — Лучше — забота не моя. Но игуменью ты не тревожь…
— Чем прогневила я тебя?
— Покуда ничем. Однако чую: приглядывается к тебе Досифея. Мне на замену готовит.
— Страшно говоришь ты, Пелагея.
— Страшнее мыслю.
Жутко сделалось Феодоре. Сиротливо и холодно. Пелагея, дыша часто, говорила на ухо:
— Ты меня держись. Я тебе и кус какой, и печать [118], ежели что: вратарь — баба бедовая, да меня слушается.
Много соблазнов насулила ей Пелагея. А напоследок еще раз строго-настрого предупредила:
— Досифее не обмолвись. Гляди!
Предсказание ее скоро сбылось: перевела игуменья Феодору в особый чин. Теперь она так же, как и все, творила общую молитву и молитву келейную, читала с усердием божественные писания, но к заутрене ее будили позже других. Она вязала вместе с прочими такими же рукодельницами носки и рукавицы и относила их в город к Лепиле, а баба-вратарь пропускала ее в монастырь и из монастыря в любое время…
Сидя в подклете на воде и хлебе, о многом передумала Феодора. Хоть и винилась она перед Досифеей, а вины за собой не знала. И молитвы ее были пресны, и все чаще, обращаясь лицом к иконе, вспоминала она Веселицу.
Наяву, что во сне, на обоих беда напала. Не знала Феодора, что в тот самый день и час шел Веселица на лыжах к монастырю, объятый тревогой.
Бежали лыжи по рыхлому снегу, проваливались в сугробы, с отяжелевших сосновых лап падал на плечи его серебристый дождь. Но ничего не замечал вокруг себя Веселица, солнышку на синем небе не радовался, думал: «Хоть в монастыре, хоть на дне морском — сыщу Феодору, скажу, не таясь, что растревожила она меня, а почто — и сам не ведаю. Только бы взглянуть ей в лицо, только бы увидеться…»
Стены монастырские высоки, врата сбиты из крепких досок, за вратами — тишина. Растерялся Веселица.
— Кар-р! — вытянув шею, крикнул сидящий на вратах ворон. «Хорошо ему, — позавидовал Веселица. — Летит, куда хочет».
— Кар-р! — насмешливо подтвердил ворон и, свалив голову на сторону, посмотрел на Веселицу красным печальным глазом.
Веселица запустил в него снежком, угодил в икону божьей матери над вратами — ворон вздрогнул, взмахнул крыльями и полетел к лесной опушке.
Шла от опушки на пригорок неспешной походкой улыбчивая монашка. Остановилась возле Веселицы, оглядела с головы до ног.
— Что-то не встречала я тебя в наших краях, добрый молодец, — сказала она, продолжая улыбаться. — Да так смекаю некрепким своим умишком: привела тебя к нам не радость, а печаль. Почто стоишь у ворот, снег бросаешь в икону божьей матери?
— За икону — прости: в ворона метил. А привела меня сюда и впрямь не радость, — ответил обнадеженный ласковым обращением монашки Веселица.
— Так что же — сказывай.
— Да что сказывать-то? Сказ мой короток: живет в вашем монастыре сестра Феодора. Слыхала ли?..
— Как не слыхать, — живо откликнулась монашка. — Да нынче посадила ее игуменья на покаяние — грехи великие отмаливать. Согрешила она, ох как согрешила…
— Да что сотворила-то Феодора? Что сотворила-то? — забеспокоился Веселица. Сердце любящее — вещун: не зря спешил он к монастырю.
— Эвона как побледнел! — подивилась монашка. — Лица на тебе нет. Да не волнуйся шибко-то. Отмолит Феодора грехи — свидитесь…
— Нынче свидеться хочу, — схватил Веселица монашку за рукав.
— Ишь, чего захотел, — высвободилась она. — Прыткой ты, как я погляжу. Вот кликну людей — они те надают затрещин…
— Люба мне Феодора, оттого и сам не свой, — признался Веселица. — А ты на меня не серчай. Почто звать людей? Сам уйду…
И стал надевать лыжи.
— Погодь, не егозись, — вдруг смягчилась монашка. — Как звать-то тебя?
— Веселицей…
— Вот и ладно. Ступай-ко домой, Веселица. А про то, что был ты здесь, я сестре Феодоре шепну…
Глава девятая
1
Княгиня Мария пришла к Досаде на роды. Появился на свет мальчуган-крепыш, огласил ложницу пронзительным криком, — стоя за дверью, Кузьма Ратьшич слушал малыша с успокоением. Наконец-то!.. Долго ждал он этого часа.
Потом его впустили к роженице, он сам держал на руках маленькое, почти невесомое тельце ребенка, с тревогой заглядывал в личико, угадывал свои черты.
— Не урони, — слабо говорила Досада, следя за Кузьмой испуганным и счастливым взглядом. — Не тискай шибко-то, мал он еще…
Кузьма смеялся, баюкал ребенка, раскачивая его на руках, нежно посматривал на жену.
— Ничо, пущай привыкает, не девица, чай…
Вскоре на двор к Кузьме пожаловали гости. Услышав шум, ржанье и похрапывание многих коней, хозяин выскочил на крылечко, почти лицом к лицу столкнулся со Всеволодом. Князь обнял Кузьму, расцеловал его, впереди всех вошел в избу.
В сени набились дружинники, говорили наперебой и громко; шутя ударяли Ратьшича кулаками в бока и по плечам, возбужденно смеялись.
Кормилица вынесла им на показ новорожденного, маленький сверток бережно переходил из рук в руки.
— Весь в батьку, — говорили дружинники, чтобы угодить Кузьме.
— Веселой, ишь как глазками-то стрижет…
— Добрый сын всему свету на зависть.
— Вырастет — славный будет вой…
Кузьма светился от похвал.
В горнице тем часом нагнанные со всего двора слуги проворно накрывали на столы, стараясь не потревожить дружинников, пробегали мимо, гремели чашками, обдавали прилипшими к одежде запахами жареной рыбы, мяса и чеснока…
Застолье затянулось. Не жалея, в великом множестве палили свечи. В избе стало угарно и жарко — Кузьма велел отволочить оконца. Крики и песни дружинников полошили улицу, с улицы наносило в избу морозный воздух, над головами пирующих клубился пар…
Досада слушала шум и пьяные крики, покоилась на просторном ложе обессиленная, глядела в темноту, то радуясь, то грустя.
Жила она эти годы словно замороженная, но вот скатилась по ее щеке первая слезинка, теплой капелькой пощекотала губы, и впервые пробилось сквозь лед благодарное чувство к Ратьшичу.
Терпелив был Кузьма, любил ее крепко — жил с холодной женой, но словом злым ни разу не попрекнул. А мог бы!..
Бывало, замечала она, как удалялся он из ложницы белый от гнева. Сжимал до хруста зубы, тушил в себе внезапный гнев, уезжал надолго. Возвращаясь, снова ласкал ее, заглядывал с надеждой в глаза, но себя в них не видел.
Все замечала она, но холодности своей не могла пересилить. Мечтала о немыслимом, ждала, у окошка сидя, чуда: мерещилось ей, будто доносит ветер издалека частый перестук копыт. Вот сейчас распахнутся ворота, и, пригнувшись под вереей, въедет во двор долгожданный всадник. Спрыгнет с коня, бросит поводья отроку, взбежит на крыльцо. Скажет: «Здравствуй, Досада!», переступит через порог, прижмет ее к сердцу, и замрет она в его крепких руках…
— Принесли Всеволоду печальную весть из Царьграда, — сказала как-то Мария, глядя на нее из-под опущенных ресниц. — Будто помер Юрий Андреевич на чужбине…
Вспыхнула Досада — не захотела поверить княгине, дерзко заговорила шепотом:
— Не верю… Не верю… Злой наговор это. Жив Юрий. Жив!..
— Может, жив, а может, и вправду помер. Послал Всеволод гонца в Киев к митрополиту. Скоро вернется.
Две недели прошло, не возвращался гонец. И Мария будто забыла о разговоре.
Успокоилась Досада, но как-то вечерком кликнула ее к себе княгиня. Вошла Досада в терем — и сердце забилось подстреленной птицей: Мария сидела на лавке, а перед нею стоял молодой дружинник князя.
Тут вспомнила Досада, что видела на княжом дворе коня, что кто-то даже вроде бы обронил на всходе, что прибыл гонец из Киева. Но мало ли прибывает ко Всеволоду гонцов из разных концов земли!.. Тогда она и не дрогнула, проходя через сени, а тут подкосились ноги.
— Не верила ты мне, Досада, так выслушай гонца, — сказала Мария чужим голосом.
— Все истинно, боярыня, — кланяясь, молвил гонец. — Помер Юрий, схоронили князя на царьградском кладбище. Мир праху его…
— Мир праху его, — перекрестилась Мария.
Досада ойкнула и повалилась на пол. Гонец кинулся поднимать ее, княгиня кликнула бабок.
Много шума наделала Досада в тереме, еще больше всполошила Кузьму. Прискакал он с далекого погоста [119], где собирал для Всеволода дань, всю ночь просидел он у ее ложа.
Словно с другого света воротилась Досада в привычный с детства мир. Но хоть и был привычен окружавший ее мир, а многое в нем внезапно переменилось. Не стало у сердца холодного ледяного комка, отошла мучившая ее годами боль, мысли высвободились из бредового плена…
Неуж это с нею все было?! Неужто не видела она ране ни этого солнышка, ни этих снегов, ни звезд, ни месяца? Неужто не слышала доброго голоса кормилицы, ласкового шепота Кузьмы? Неужто не выходила на крыльцо, не любовалась плывущими в синеве корабликами белых облаков?..
И если грусть еще порою и застилала ее взор, то быстро проходила. Под сердцем шевелился живой комок, настойчиво и грубо напоминал о себе. Был он родной плотью, кусочком ее существа. Прошлое уходило, таяло, забывалось.
Новое рождалось в трепете и муках.
И когда она услышала детский крик, когда увидела склонившихся над нею озабоченных мамок и держащую в руках крохотное существо Марию, — откинулась на подушках и мирно ушла в тихий и светлый сон…
Славно погулял Всеволод с дружинниками у Кузьмы. Пили меды и брагу, песни пели и плясали, утром слушали гусляров. Гуслярам тоже наливали медов, охмелевший Кузьма щедро оделял их подарками.
Кланялись Кузьме и князю одуревшие от неслыханной щедрости гусляры, обещали песню сложить про боярина.
— Вы про боярыню песню сложите, про дите мое, — упрашивал их Кузьма.
— Не сумлевайся, сложим и про боярыню, — пообещали гусляры. — И про дите твое сложим. Дай-то бог вам, добрые люди, счастья и многая лета…
И снова наливали в чары гуслярам медов, и снова пели охрипшие гусляры, сменяя друг друга.
Сдержали слово свое гусляры — тем же утром, еще хмельные, сказывали на торгу о Кузьме Ратьшиче:
Ох ты гой еси, Кузьма, добрый молодец, Ручки белые, ножки резвые… Ты глядишь вокруг ясным соколом, В поднебесье бьешь черна ворона… Будь здоров, Кузьма, со Досадушкой, Со Досадушкой, с соколеночком, Со своим сыночком-робеночком…— Ай вовсе обробли, гусляры? — смеялись над ними мужики на торгу. — Ране-то вы иные песни сказывали…
— За иные-то песни, — говорили гусляры, — медов сладких не поднесут. Спины у нас не деревянные, битые-перебитые…
— Так ступайте отсель, — грозились мужики. — Не хотим про Кузьму слушать. Душегуб он и зверь. Не сокол, а худая галка.
Людская молва впереди человека бежит: кому трубит славу, а кому и позор.
Но не слышал слов тех Кузьма — радостью своей упивался. И, провожая Всеволода с дружиною, говорил князю:
— Милостью своей одарил ты меня, княже. Вовек доброты твоей не забыть.
— Полно тебе, Кузьма, — отвечал разомлевший Всеволод. — Еще и на других родинах попируем. Ты Досаду-то береги.
— Как не беречь ее, княже!..
Ехал князь через торговище, правил коня в толпе, слышал, как переговариваются за спиной дружинники:
— Не чает в Ратьшиче души наш князь. А меды-то у Кузьмы прокисли…
«Нет пропасти супротив завистливых глаз, — печально размышлял Всеволод. — Не вылакает собака реки, так всю ночь стоит над рекой и лает… Верны ли мне люди сии?.. Ежели другой поманит послаще куском — не переметнутся ли?..»
В Кузьму он верил. Не выдаст его Кузьма, на чужие дары не прельстится…
2
Давно не хаживал Никитка на княж двор. С той самой поры, как поставил он Дмитриевский собор, как осмотрели храм князь с епископом Иоанном, не звал его к себе Всеволод, сам к нему, как прежде, не наведывался.
Стали появляться в его хоромах другие мастера. Разные слухи доходили до Никитки. Будто видели на княжом дворе двух зиждителей из Галича, один приезжал из Царьграда, а одного привезли с собой доверчивые купцы из славного города Магдебурга.
Того, что из Магдебурга прибыл, повелел князь во гневе гнать от себя на все четыре стороны, даже коня не дал на дорогу. Вроде бы между делом, вроде бы просто так стал плюгавый немец склонять Всеволода в папскую веру, хаял византийский обычай, поносил божьи церкви. Златые горы ему сулил, называл почтительно «цесарем»…
Царьградский мастер оказался стариком с заносчивым нравом. Звал его Всеволод к себе на пир, угощал хлебосольно, ни вин, ни медов не жалел — наутро застали дружинники хлипкого старика в страшных корчах: схватило ему живот. Едва выходили ромея [120], едва увезли из Владимира. До сих пор сомневался князь, довезли ли его до Царьграда, не кончился ли по дороге. Беда!..
А двое из Галича оказались и не мастерами вовсе. Ели-пили себе в удовольствие, а потом потихонечку и сбежали. Говорят, далеко им уйти не пришлось — схватили добрых молодцев возле Рязани и отправили в Галич под крепкой стражей: пущай-де свой князь разбирается, у Всеволода и без них довольно забот…
Робел Никитка, ступая на княж двор. Думал, не допустит его до себя Всеволод. А тут еще Авраам — стыдно будет перед новгородским мастером.
Но князь допустил к себе и Никитку, и Авраама, ласков был и обходителен, угощал дивными плодами и сладостями из южных стран, до коих сам был великий охотник, слушал не перебивая и со вниманием.
В хоромах было жарко, князь сидел в рубахе, подпоясанной шелковым шнурком, в коротко подстриженной русой бороде блестели седые нити, волосы на голове гладко расчесаны на прямой пробор.
Глаза, устремленные на Никитку, были по-былому добродушны, но плавала в них едва заметная холодинка, которой раньше камнесечец не замечал.
— Слушаю я тебя, Авраам, и радуюсь, — говорил Всеволод. — Любовью к отчине исполнены твои слова. И так думаю: сидите вы оба передо мною — один из Владимира, другой пришел из Новгорода, а нет меж вами вражды.
— Просты и мудры слова твои, княже, — сказал Авраам, кланяясь. — Ехал я из далеких краев, страхов натерпелся на дорогах — самому захотелось взглянуть на дела рук моего собрата… Не отпустишь ли ты со мною Никитку в Новгород?
— Отпусти, княже, — робко вступил в разговор Никитка.
Всеволод смотрел на него с усмешкой.
— И не проси, — сказал, покачивая головой. — Но не потому не отпускаю я тебя, Никитка, что зло затаил. Есть у меня иная задумка. И знаю, будет она тебе по душе.
— Не томи, княже, — подавшись вперед, взволнованно проговорил Никитка. — Неужто счастье снова оборотилось ко мне ясным своим ликом?
— Шибко-то не радуйся. Прогневил ты Иоанна, — сказал, нарочито хмурясь, Всеволод. — Про то ведаешь…
— Да тебя прогневил ли?
Князь промолчал, тонкими пальцами постучал по изогнутым подлокотникам кресла. Лицо его оставалось невозмутимым.
— Вот тебе мой наказ, — снова заговорил Всеволод, упер немигающие зрачки в Никиткины глаза. — Поставишь новую церковь и монастырь заложишь над Лыбедью… Сможешь ли?
— О чем вопрошаешь, княже? — удивился Никитка. — И церковь поставлю, и монастырь заложу…
— Хочу княгиню порадовать. И собор тот и монастырь в честь ее нареку…
Что встревожило Никитку во Всеволодовом взгляде? Почему вдруг отступила мгновенная радость? Не быстры, как прежде, холодны и неприступны были глаза князя. Устало опустились веки, обмякла ладонь — пальцы лежали на подлокотниках кресла мертво и неподвижно.
— Вот и выходит, что нет тебе пути в Новгород, — сказал Всеволод со слабой улыбкой…
Ушли мастера. И снова тишина водворилась в тереме. С утра оглушила она князя: едва пробудившись, едва открыв глаза, почувствовал он на себе ее мягкое прикосновение.
Поздней ночью, разорванная на куски веселым застольем, пряталась она по темным углам и щелям, и князь не страшился ее. Вино колобродило в его жилах, вокруг сидели раскрасневшиеся бояре, скалили зубы дружинники, суетились слуги, бренчали гусли…
Потом тишина обрела плоть. Падая в пропасть на жесткой лежанке, откинув отяжелевшую голову, князь чувствовал, как она бесшумными волокнами набивалась ему в уши, в рот и в ноздри, залепляла глаза и, зловеще укачивая его, проникала внутрь сквозь кожу расслабленного, немощно распятого на шубе неподвижного тела…
В тишине проявлялись уродливые лики, без крика разевали рты, кривили губы и гримасничали, и из тьмы, из непроницаемого облака, стали сперва робко, а затем все настойчивее просовываться скрюченные пальцы, слепо шарили по его груди и лицу — холодные, неживые, враждебные…
Утром Мария спрашивала, держа голову князя в прохладных ладонях:
— Да что с тобою? Отчего не весел?..
— Снова худо мне, Мария, — отвечал Всеволод. — Совсем худо… Уж не приспело ли? Уж не призывает ли меня господь?..
— Еще что выдумал.
— Неможется мне.
— Отдохни.
— Слабость в руках и ногах: мочи нет… Людей видеть не хочу, — бормотал князь. — Лики страшные приходили в ночи…
— От медов это. Не молод ты — поостерегся бы…
— Сыновья-то неразумны еще, — говорил Всеволод с горечью, — На кого землю свою оставлю?
— Эко заладил одно, — успокаивала Мария, а сама пугалась случившейся в князе перемены. — Поехал бы на охоту… Виданное ли дело — все в пирах да заботах.
— В ночи-то смутно было. Нынче лики стал различать: будто Давыдку видел, будто Юрия… Не знамение ли это? Не кличут ли меня они на страшный суд?
— Пустое все это. Не верь снам, — угадывая его мысли, сказала княгиня. — Наговорили на тебя худое люди, вот и встревожился.
Глаза князя беспомощно скользили по лицу Марии, ища поддержки.
— Может, сыновей к тебе кликнуть?.. — улыбаясь, ворковала княгиня.
— Не до них мне…
— Иоанн в тереме, сам на беседу звал.
— Ты останься.
Мария осталась, слушала горячечную речь князя, прижимаясь лицом к его руке, гладила ему плечо и старалась заглянуть в глаза.
Всеволод избегал ее взгляда, но понемногу смягчился, былые страхи отступали, таяли в свежем утреннем воздухе.
— Добрая ты у меня, — говорил он, начиная отзываться на ласки жены. — Сколь уж вместе живем, а не слышал от тебя злого слова. Тяжко тебе со мной?
— Старость — не в радость. Годы-то так и бегут, — говорила Мария. — Давно ли привезли меня во Владимир, давно ли встречал на дворе, а уж детей-то сколь взрастили… Скоро внуки пойдут.
— Славных народила ты мне сынов… Только вот балуешь их…
— Да как же без баловства? И деревцо, ежели не холить, не баловать, засохнет на корню. Дети они…
— Княжичи.
В ложнице быстро светлело. Убранные морозным узором окна розовели. Мария встала, потушила свечи. Подняла небрежно брошенный на лавку кожух, укутала им плечи мужа, провела ладонью по влажным волосам князя.
— Зови Иоанна, — сказал Всеволод, распрямляясь.
— Поспать бы тебе еще…
— Будя, наспался уж, — отмахнулся князь.
Мария бесшумно вышла. На пороге появился Иоанн. Лицо свежо, в глазах — сытость и довольство. «Засиделся во Владимире-то», — подумал Всеволод, разглядывая епископа.
Иоанн прищурился, перекрестил князя, подбирая полы длинной однорядки, сел против Всеволода, сложил тяжелые руки на коленях. Ждал.
— Новостей не слышу из Новгорода, — сказал князь с раздражением. — Почто Словиша молчит?
— Ефросим пришел ко владыке, — медленно произнес Иоанн.
Всеволод вскинул глаза, тяжелым взглядом пронзил епископа:
— Позже всех узнаю…
Иоанн мягко сказал:
— Не серчай, княже. Вечор прибыл гонец. Тебя беспокоить не стали.
— Говори, — коротко бросил Всеволод.
Иоанн усмехнулся:
— Бунт велик был в Новгороде. Сказывают, толпы пришли на Владычный двор. Мартирий укрылся в хоромах. Бесновался игумен, обвинял владыку в подлоге. После сам молебен служил в Софийском соборе…
Всеволод оживился, вскочив, прошелся по ложнице из конца в конец. Сцепив руки за спиной, остановился перед епископом. Теперь, когда он стоял вблизи, лицо Иоанна уже не казалось ему таким самодовольным и сытым: синие подглазины, на лбу — мелко собранные морщины, выдавленная через силу улыбка печальна и слаба.
— О чем думаешь, княже? — обеспокоенно спросил епископ.
— Недолго осталось ждать, — словно не расслышав его вопроса, проговорил Всеволод.
— Чего ждать-то? — не понял Иоанн.
— Ты в Ростов скачи, — вдруг быстро заговорил Всеволод, пригнувшись почти к самому его лицу. Дышал тяжело и неровно. — Шли людишек своих к Ефросиму. Пущай беспокоят старца, пущай нашептывают: князь Всеволод, мол, за тебя. Мартирию не место во Владычных палатах, Рюрику не до него. А у иных князей и без того хватает забот… Мирошку Словиша побеспокоит. Скачи.
— Не угнездится Ефросим на Софийской стороне, — покачал головой епископ. — Без бояр на владычный стол ему не сесть. Людишки побунтуют и разойдутся по домам. Плохо кончит игумен.
— Про то и без тебя ведаю, — сказал Всеволод. — Нешто вижу я Ефросима на Софийской стороне?.. Он кашу заварит. Владыке ее расхлебывать. А Боярскому совету решать, кого брать к себе на княжение. Покуда на меня не обопрутся, не знать им спокойного житья. Придут, поклонятся. Я же дам им Ярослава…
— Сызнова ты за свое, князь, — попытался робко возразить Иоанн, но тут же испуганно осекся.
Всеволод наклонился еще ниже, приблизил к нему сузившиеся от сдерживаемого гнева глаза.
— Вижу я тебя насквозь, Иоанн, — прошипел он в лицо епископа. — Ежели бы не знал, что верен ты мне яко пес, подумал бы: а не хаживают ли на твой двор Мартириевы посланцы, не складывают ли к ногам твоим даров великих, дабы смущал ты князя в его твердых замыслах…
— О чем говоришь ты, княже?! — вскочил Иоанн, бледнея от страха и возмущения. — Почто возводишь на меня хулу? Иль не служил я богу и тебе верой и правдой все эти годы?
— Служил, — спокойно сказал Всеволод. — И ныне служишь. А того не разумеешь, что взбесившуюся собачью свору плетью укрощают, а не лаской. Единожды уступлю я Новгороду — после всегда придется уступать.
— Но ежели пошлешь ты сына свого на новгородский стол, нешто, как и прежде, не останешься хозяином?
— Останусь, — сказал Всеволод. — После, может, и пошлю. Но нынче от сказанного не отступлюсь. Не из рук Мартирия примут они сына моего — из моих рук.
Иоанн провел рукавом по мокрому лбу, сникнув, опустился на лавку. Сидел молча, перебирая на коленях однорядку. Всеволод дышал тяжело. В груди стесненно колотилось сердце. Верно он угадал, вона как всполошил Иоанна. И тупой болью откликнулось почти забытое: нет Микулицы, отлетела его душа, а как не хватало князю его мудрого совета!..
На том и кончился разговор Всеволода с епископом. Иоанн удалился растерянный. На прощанье вяло перекрестил князя, шевеля поблекшими губами. Синяки под его глазами стали еще темнее и глубже, щеки податливо впали…
«Ничего, переможется», — подумал Всеволод почти весело. Исчезла слепота и вялость в мыслях, сердце забилось ровнее и чаще.
И когда он беседовал после обильного обеда с Никиткой и Авраамом, от ночных, встревоживших его видений не осталось и малого следа.
3
Попы — народ недобрый и завистливый. И то, что Четка был взят из худого прихода и приставлен обучать грамоте Всеволодовых сыновей, вызывало в них недоумение и злобу.
Слыл Четка среди своих собратьем человеком серым и неприметным, службы справлял в старенькой церквушке на краю Гончарной слободы, ни за венчание, ни за отпевание мзды не брал. Еще недавно была у него жена, попадья Овдотья, — бог прибрал ее; Четка грустил, но воли себе не давал, не пьянствовал и не прелюбодействовал, как другие попы, а просиживал ночи напролет за книгами, ползая остреньким носом по загрубевшим листам. Великая грамотность, однако, добра ему не приносила: он часто вступал в споры с протопопом Успенского собора и даже с самим епископом Иоанном, по-своему толкуя те или иные места Священного писания, за что не раз наказуем был строгой епитимьей, а однажды даже бит посохом… Никто и в мыслях не держал, что может Четка привлечь к себе вниманье князя. Скажи такое — померли бы со смеху попы.
Вот почему и не встревожились они, когда приехал за Четкой Кузьма Ратьшич, а только еще раз позлорадствовали: знать, снова натворил невесть что непутевый поп, знать, снова срамил Иоанна — так пусть же получает за дерзость свою сполна…
Так-то гадали, да прогадали попы — привалило их худому собрату неслыханное счастье!.. Не зря сидел Четка над книгами, покуда пили они меды и брагу, не зря изобличал Иоанна — сам Иоанн его и приметил, сам и посоветовал Всеволоду взять ученого попа к своему двору.
Увез Кузьма Четку — и след его простыл. Лишь много времени спустя стал он появляться на улицах Владимира, сопровождая молодых княжичей на прогулках.
Путаясь в толпе, попы смотрели на Четку с завистью, старались попасться ему на глаза. Тайные мысли были у них: а что, как еще осталось на княжом дворе теплое местечко? Что, как признает их Четка да и шепнет Ратьшичу: мол, есть у нас и еще достойные — не пожелает ли князь и на них взглянуть?..
Смешные были попы, суетливые и недогадливые. Протопоп — тот больше знал и дале их всех глядел.
— Дураки вы, псы алчущие, — сказал он им. — Как пили вы брагу с прихожанами да прелюбодействовали, Четка времени зря не терял. Не токмо Святое писание знает он — зело учен ваш собрат и умом изворотлив. А вы и двух молитв выучить не смогли — куды же вам на княжой двор? Вас и из приходов гнать надобно…
Тут только просветлило попов, тут только поняли они все и тогда взъярились на Четку всею братией.
Да толку-то что — разве его ныне достанешь? Ныне ест-пьет он во Всеволодовом тереме — и не постную похлебку и не разбавленное водою вино: рядом с князем живется ему сладко.
Воистину дураки дураками и останутся, и многим то было невдомек: не на радость и не на сладкое житье забрал князь Всеволод в свой терем ученого Четку, а на еще большие унижения и муки. Бил Четку, случалось, во гневе протопоп; бил его и на княжом дворе Кузьма Ратьшич. Бил протопоп посохом, а Ратьшич бил его плетью. А еще бил Четку сам князь, ежели провинится. Вины же за Четкой ежедень — видимо-невидимо: то один княжич встал бледен, то другой не выучил псалтирь, то третий оцарапал щеку. Даже то, что числиться должно было за дядьками, все равно вменялось Четке в вину…
Больше всех изводил его Константин: был он вертляв и непослушен, дергал Четку за бороду, поджигал ему рясу и совал в постель холодных лягушек и жаб. На прогулке за ним глаз да глаз нужен: того и гляди — угодит в лужу или влезет на дерево… А жаловаться на него князю — ни-ни: с самого же Четки Всеволод и спросит. Никогда не знаешь, где и подстерегает тебя беда.
В то утро, снежное и солнечное, выехал Четка с княжичами на прогулку (дядька, приставленный к ним, заболел), сразу же после трапезы.
Княжичи ехали в возке, Четка — рядом на покорной кобылке.
Ехал, глядел по сторонам, радовался солнышку — подставлял под его прощальные лучи то одну, то другую щеку, вспоминал, как на той неделе еще поманила его на кухню толстая Варвара.
Робок был Четка, от Варвариных взглядов краснел и потуплял взор. К еде не притрагивался, отпив малинового кваску, стал кланяться и прощаться.
— Глупой ты, Четка, — сказала ему Варвара, убирая со стола гусиный бочок. — Не на то звала я тебя, чтобы и здесь читал ты свои молитвы. Тошно мне на тебя глядеть, и боле на кухне не показывайся… Ступай, отколь пришел.
Проглотил Четка слюнки, полюбовался еще раз издали на подрумяненный гусиный бочок, и так жалко ему стало себя, что хоть в рев.
Сжалилась Варвара.
— Экой же ты робкой да смирной, — ласково проговорила она. — Нешто все попы на тебя похожи?
— Не, — сказал Четка. — Я один такой. Другие-то попы и пьют и гуляют в миру, а меня бог не сподобил. Как померла попадья, шибко боюсь я вашей сестры…
— Ишь ты, — засмеялась, показывая ровные зубки, Варвара. — А почто же ты нас боишься? Не волки мы и не медведи, и кожа у нас бела… Гляди-ко!
И она, все так же улыбаясь, распахнула на груди сарафан — икнул Четка, попятился. Думал, бухнется на пол. Нет, устоял.
— Так похожа ли я на волчицу? — подступала к нему Варвара. Брала за руку и клала руку себе на грудь. — Видишь, ничего с тобою и не случилось. И рука цела, и бог не покарал…
И держала Четкину руку на груди своей, не отпуская…
После уж ей уговаривать его не пришлось: съел он и гусиный бочок, и кашу, облизывал ложку и еще поглядывал по сторонам.
— Тощой ты, Четка, в чем и душа держится, — жалела его Варвара. — Ты ко мне почаще приходи. Как ослобонишься от княжичей, так и приходи… Придешь ли?
— Приду, — пообещал Четка, краснея…
Краснел он и теперь, сидя на своей покорной кобылке. От воспоминаний приятно томило в груди, по телу растекалась нежная истома. Нынче вечером снова ждала его к себе Варвара…
Народ на улицах города покорно расступался перед княжеским возком, люди кланялись, снимая шапки. Слышался шепот: «Княжичи, княжичи». Иные, те, что полюбопытнее, норовили заглянуть внутрь возка, протискивались к самой дороге. Четка покрикивал на них:
— Остерегись!
Особенно старался он, когда замечал в толпе поповскую рясу — тужился изо всех сил, набирал в рот побольше воздуха, подбоченивался, старался глядеть не вниз, а поверх голов. Кобылка прядала ушами и, чувствуя хозяина, старалась идти ровно, на полшага впереди возка…
За Медными воротами — еще большая белизна и простор. В стороне от дороги, серой от навоза, вороны раздирали лошадиный череп, важно расшагивали по полю, лениво взлетали и снова плавно садились на снег.
— Тпру-у! — закричал возница, натягивая вожжи, спрыгнул с переднего коня, простоволосый, подскочил к возку. Княжичи сами вылезали на дорогу, перегоняя друг друга, бежали к рощице, за которой темнела только что схваченная первым льдом извилистая Лыбедь.
Неуклюже выдергивая ногу из стремени, Четка осторожно сполз со свой кобылки и заковылял за ними вслед. Возница прислонился спиной к возку и, достав из-за пазухи ломоть вязкого хлеба, стал медленно жевать его, лениво поглядывая по сторонам.
Княжичи кувыркались и кидались снежками. Потом, разогнав ворон, принялись пинать лошадиную голову. Четка едва поспевал за ними, размахивал руками и кудахтал, как наседка. Княжичи не слушались его окриков, разбегались в стороны; разгорячившись, стали забрасывать попа снегом.
Константин наскакивал на него сзади, валил в сугроб, Юрий прыгал вокруг, как задиристый кочет.
Четка смеялся, потому что ему тоже было весело, с утра у него все внутри ликовало и пело, а снег был теплым и ласковым, как перина. С чего бы стал он тревожиться? Нынче, как и каждый день, побарахтаются княжичи, нарезвятся, усадит он их снова в возок и тем же путем, через Медные ворота и через весь город, под взглядами многолюдной толпы, доставит на княж двор, отведет в терем и сдаст с рук на руки Марии, а после будет ждать вечера, чтобы пробраться по тихим переходам на кухню, где толстая и приветливая Варвара, раскачивая бедрами, поставит перед ним на столе наполненную золотистым варевом глиняную мису, сама сядет напротив, подперев пухлой ручкой подбородок и слегка обнажив ровный ряд белых, как чесночины, зубов…
Нет, ни о чем не тревожился Четка, даже и в уме худого не держал и, поваленный княжичами в снег, спокойно глядел, как бежали они к реке, опережая друг друга.
Поднявшись и стряхивая с себя рукавицами снег, Четка благодушно ворчал:
— Ишь, насмешники какие. Умаяли, а самим хоть бы что…
Нынче княжичи не раздражали его, и беды он не чуял, а потому безмятежно смотрел вокруг — и на возок, и на череп, который снова облепили крикливые вороны, и на противоположный берег схваченной тонким льдом Лыбеди, по которому медленно шел, высматривая что-то, незнакомый человек с длинной палкой в руке.
Беда приспела, наперед не сказалась. А то бы не улыбался Четка, и не вспоминал Варвару, и не смахивал бы не спеша с себя снег рукавицами. Поторопился бы, упредил бы, не дал хрупкому льду обломиться под вертким телом Константина…
Возница бежал к реке, опережая Четку: короткий полушубок не мешал ему, а Четка путался в полах длинной поповской однорядки и падал носом в снег…
Маленький Святослав метался, плача, по берегу, а Юрий лежал на животе, на самой кромке берега, и, стиснув зубы, тянул через лед ручонку к барахтающемуся в черной воде Константину.
Четка перепрыгнул через него, прокатился по льду, обрушился в мелкое крошево острых ледяных осколков, не нащупав дна, истошно заголосил: не умел он плавать, батька не научил, а после и совсем было не до этого. Стал Четка тонуть, хлебая холодную воду, взмахивал руками над головой, бил в стороны, расширяя полынью.
Возница тоже попался из робких (после уж узнал Четка, что и он не умел плавать), лег рядом с Юрием в снег, тянет руки, а до Константина дотянуться не может.
Что верно, то верно — погиб бы княжич, ежели бы не случайный мужичок с другого берега (тот самый — с палкой, которого еще ране заприметил Четка). Кинулся он на тонкий лед, обрушивая его, подобрался к Константину, обхватил сзади под мышками, выволок на берег. После, передав его вознице, помог выбраться Четке.
Не столько от холода продрог поп, сколько от страха. Беды теперь не оберешься — за Константина спустит с него князь три шкуры, а ежели помрет княжич, то и Четка не жилец на этом свете.
Бросил он свою кобылку на дороге, кинулся в возок, укутал Константина в мех, дыханьем своим согревал княжича, вознице орал, оборачиваясь:
— Гони!
Взяли кони с места, едва не опрокинули возок. Помчались в гору с отчаянным криком и посвистом — люди в городе шарахались с дороги, крестили лбы: не иначе как большая беда стряслась.
Счастье с несчастьем об руку ходят: утром еще был Четка ясен, как месяц, а вот и часу не прошло, и уж волокли его с кричащим и упирающимся возницей на конюшню, срывали с узкого зада портки, били плетьми до крови. Потерял поп сознание, упал в темноту.
— Сдох, собака, — сказал Ратьшич…
А мужичонка, спасший Константина, скоро смекнул, что к чему. Одежда на нем была мокра, в лаптях хлюпало, и морозец уж сковывал телогрею. «Возьму оставленного коня, — решил он. — Все равно попу он нынче ни к чему». Вскочил на кобылу и, переправившись через Лыбедь, на том самом месте, где сам же порушил некрепкий лед, — направился в глубь леса.
— Совсем ты ошалел, Веселица, — сказал ему Мисаил, выходя на поляну. — Сам мокрый, будто леший из болота, да еще чужого коня привел.
Продуло Веселицу на ветру, пока ехал он через лес, совсем задубела одежда, едва стянул ее с плеч. Поставил у огня телогрею — стоит, не валится.
— Да где ж тебя нечистая носила? — удивился Мисаил, разглядывая его с сомнением.
— Княжича спасал, — отчаянно сверкнул Веселица белками смешливых глаз. — А кобыла — князев подарок. Бери, старче, не сумлевайся.
4
Складные песни пели гусляры про Всеволодову доброту — еще давеча слышал их Четка, как проезжал в слободу мимо Золотых ворот. Еще монетку им бросил в треух, еще поблагодарил — кланялись гусляры ему вслед: «Щедрый поп — любит сирых да убогих, дай-то бог ему здоровья да многих лет». Из двух гусляров один, тот, что на гуслях бренчал, был слеп — белыми бельмами залепило ему оба глаза, а второй был зрячий, с костлявым лицом — он-то и пожелал Четке счастливой жизни.
Один только день после того и был Четка счастлив, а уж под вечер следующего дня извивался под жгучими плетьми, завывал по-звериному, зубами кровеня губы.
Еще услышал он сказанное Ратьшичем: «Сдох, собака!», дрогнул, вытянулся и затих на земле, в конском перепревшем навозе.
Очнулся во тьме, перевернулся на бок, попытался открыть глаза, да не смог; потянулся руками к векам — наткнулись пальцы на засохшие струпья. И вспомнил, леденея, Четка, что били его не только по спине, что какой-то ражий мужик стегал его по плечам и лицу и рот у него был искривлен в злорадной гримасе, а глаза, налитые лютой злобой, выкатывались из глазниц.
— Ох ты, господи, боже мой, — простонал Четка и встал на карачки. Где он? Почто вокруг тишина? Почто не идут люди на его стон? Почто никто не сжалится, не поднесет ему воды, не обмоет ссохшихся ран?
— Ох ты, господи, боже мой, — повторил он, вздыхая. Сел в навоз, подвернув под себя непослушные ноги, корчась, стал сдирать с век запекшиеся корочки. Кажись, постарался, проклятущий, совсем ослепил его кат [121].
Только тут вспомнил Четка, как волокли его с возницей через двор на конюшню, как сдергивали порты, как садились дюжие отроки на ноги, а руки прикручивали веревками к бревну.
Приподнялся Четка с земли, подтянул непослушными руками порты, завязал их тесемочкой, всхлипывая, побрел вдоль сруба к выходу. У самых ворот, во тьме, споткнулся о безжизненное тело, ощупал, признал в мертвеце возницу, задрожал, заскулил протяжно и безответно.
— Ты ли, Четка? — услышал неясный шепот.
Не ответил, побрел, вихляя, будто пьяный, через пустой двор. Варвара ухватила его за локоть — болью отозвалось во всем теле. Вырвался Четка, побежал, ступая в снег обмякшими ногами. Бормотал на бегу, задыхаясь: «Господи, помилуй!»
Откуда и сила взялась в таком хлипком теле? Из жирного возницы махом выпустили жизнь, а Четка жив. Ведь хвастался кат во дворе, что перебил ему становую жилу, — Варвара своими ушами слышала. Шла на конюшню прибрать его тело, схоронить по христианскому обычаю… На вот тебе. Щенячьей радостью всполошило ей сердце: жив Четка, жив!..
— Да куды же бежишь ты? Куды? — останавливала она его тихим окриком.
Пробился Варварин голос сквозь саднящую боль. Остановился Четка, задрав голову, слепо повел вокруг себя руками.
— Здесь я, здесь, — сказала, задыхаясь, Варвара.
— Ты ли это? — голос попа дрожал и ломался.
— Я это, Четка, я. Кому же еще быть! — плача, отвечала Варвара.
— Гляди-ко, покалечили меня каты, света белого не зрю…
— Ночь вокруг, ночь, Четка…
— Тебя не зрю. Голос слышу, а зрить не зрю…
Слезы душили Варвару.
— Пойдем, Четка, — уговаривала она его. — Пойдем отсель. Не приведи бог, кто увидит — обоим нам несдобровать…
— Куды идти-то? — вырывался Четка.
— Со мной иди. Я тебя умою, травки к ранам приложу. Со мной иди, Четка.
Так потихоньку свела она его к себе в подклет, усадила на лавку, высекла огонь, запалила лучину. А как запалила лучину да поднесла к лицу попа, так чуть не задохнулась от страха.
Потрудился кат над Четкой — силушку свою выверил: знал, куда бить. Все лицо посек, окаянный, живого места не оставил. Затекли у попа щеки, вместо глаз — синие пузыри. Ноздря разорвана, из губы, сквозь коросту, сочится черная кровь.
— Ты не кричи, ты потерпи, миленький, — приговаривала Варвара, обмывая раны теплой водой. — Под плетьми-то потяжельше было — и то стерпел. Нынче я тебя выхожу.
Слава богу, кажись, целы глаза — под синяком засверкал Четкин зрачок. Вздохнула Варвара облегченно, села на лавку рядом с попом и, ткнувшись в его плечо, заревела навзрыд.
Невдомек ей было, что совсем рядом — только руку вверх протяни, — за толстыми дубовыми досками, в княжеской ложнице, также навзрыд плакала Мария, сидя возле метавшегося в жару Константина.
Юрий стоял рядом, ковырял пальцем в носу и смотрел на запрокинутое чужое лицо брата темными немигающими глазами. Иногда он бросал взгляды на мать, и сердце его сжималось, когда он видел обильно струившиеся по ее обмякшему лицу слезы, темный плат, свисавший с ее плеч, руки, вцепившиеся в краешек лилового убрусца (таких рук у матери не было никогда — бледных и истонченных до восковой желтизны).
Константин не плакал и не жаловался, а лежал тихо, уставив лицо к потолку, как и обычно, когда спал, и розовый румянец на его щеках был обычен — только дыхание иногда стесненно прерывалось, и тогда мать наклонялась к нему и прислушивалась, как прислушиваются к отдаленно приближающимся шагам.
Чего ждала мать? Чего боялась?..
Время от времени в ложницу заходил отец, как всегда прямой и насупленный, тихо останавливался за их спиной, тихо дышал и так же тихо удалялся.
Потом пришла мамка, взяла Юрия за руку и увела с собой. Юрий хныкал и упирался, ему не хотелось уходить, хотелось еще побыть возле матери и брата…
Два дня провел Четка в подклете у Варвары, лежал на узенькой лавке, укрытый разноцветным тряпьем, отхаркивал из легких грязные сгустки крови, пил настои трав, захлебываясь от удушья, бредил и звал на помощь. Когда могла, Варвара всегда была рядом, когда не могла, — Четка боролся со своей болезнью сам.
На третий день кашель сделался чище, шрамы на лице подсохли, опухоль спала — Четка стал садиться, иногда ходил по каморке, поглядывал на божницу, крестился, шептал молитвы.
Заставая его на ногах, Варвара радовалась:
— Увечье — не бесчестье. Погляжу я на тебя, Четка, и думаю: скрипуче, да живуче.
— А я весь в отца, — мрачно отвечал Четка. — Отец тож на вид тощой был, а быка на хребтине подымал. Сама давеча сказывала — хотел перебить мне кат становую жилу, да не смог. Оттого как в роду у нас становая жила крепка… Ишшо поживем.
— Поживем, Четка. Ишшо как поживем! — вторила ему Варвара. — Не зря я тебя приметила-то: мужик ты справной.
— Во грех ты меня ввела, — хмурился Четка, хотя Варварина похвала была ему приятна.
— Какой же это грех, коли любя? Не кобель ты…
— Поп я…
— Попы тож люди.
— Заповедь нарушил… Бог меня за это не простит.
— На конюшне-то… под плетьми-то… все грехи искупил, — сказала Варвара, задыхаясь от негодования.
— Может, и искупил, — неохотно соглашался Четка.
— Такой епитимьи и епископ на тебя не возлагал.
— Где уж…
Мучило Четку, что княжича не уберег. Но Варвара его и здесь успокоила:
— Жив княжич. Ничего с ним не станется. Нынче утром сказывала княгиня, что огневица у него прошла, бегает уж по терему…
— Слава тебе, господи, — крестился Четка. — Сняла ты камень с моей души. Не то казнился бы до скончания века. Руки бы на себя наложил…
— Невдомек мне, что жалостливый ты такой.
— Молчи, дура, коли своего ума нет, — обрывал ее Четка. — Дите он. И, яко любое дите, безгрешен…
Время шло. Короткие дни сменялись все более длинными ночами. Буйствовали морозы. Приходили оттепели, но не успевали люди отдохнуть, как снова подступали с северными злыми ветрами трескучие холода.
Четка совсем уж окреп, когда однажды утром набухшая дверь в подклет широко распахнулась и на пороге показался Кузьма Ратьшич — широкий в плечах, просторная шуба распахнута на груди. В руке — привычная плеть, глаза нагловато улыбаются.
Попятился Четка в угол, под спасительные образа, лицо прикрыл локтем.
— Не боись, — сказал Кузьма, перешагивая через порог и заполняя своим грузным телом почти всю камору. — Долго отлеживался ты, Четка. Нынче, сказывают, здоров.
Заморгал Четка глазами, ласковому голосу Кузьмы не верит: стоит в углу, навстречу шагу сделать боится.
— Кому сказано, не боись, — прогудел Кузьма.
— Не боится он, батюшка, — выскользнула из-под руки Ратьшича невесть откуда взявшаяся Варвара. — Робеет…
— Где робей, а где держись соколом, — сказал Кузьма отстраняя Варвару. — Под плетьми не сробел, жив остался. Так нешто нынче оробел? Пришел я к тебе, Четка, с доброй вестью: снова кличет тебя князь.
Варвара часто закивала головой:
— Все истинно, Четка. Все — как Кузьма сказывает. Прощает тебя князь. Дай-то бог и ему и деткам его со княгинюшкой долгих лет и здоровья…
— Экая ты, Варвара, балаболка, — сказал Ратьшич. — Вот за нее молись, Четка. Пала она князю в ноги — просила помиловать. Да и жаль тебя: умная твоя голова, другого-то сразу и не сыскать… Били тебя, Четка, люто, а все ж таки щадя — не то изгнивать бы тебе во сырой земле. Попомни.
Глаза Варвары наполнились слезами.
— Иди, Четка, иди, — сказала она, крестя его издали. — И княжичи тебя ждут, и Всеволод…
— Ступай, коли зовут, — грубо оборвал ее Ратьшич. — Недосуг мне здесь с тобою разговоры говорить.
«Счастье, счастье-то какое! — радовался Четка, впервые за много дней выбираясь из подклета на морозный полдень. — Небо-то, а солнышко-то, солнышко!..»
Отроки, чистя скребницами коней, кланялись свободно вышагивающему, в развевающейся шубе, Ратьшичу, на Четку глядели со скрытыми усмешками, перешептывались между собой.
«А снега-то какие! — ликовал Четка. — А город — словно заново выстроен: купола на соборе словно угли из жаркой печи. А воздух-то, воздух!»
На княжом крыльце толпились бояре — все в нарядных, парчою и золотою нитью расшитых шубах с широкими воротниками, в дорогих, жемчугами усыпанных шапках. На поясах — мечи, в руках, унизанных перстнями, дорогие посохи.
Наперед важных бояр повел попа в княжеский терем Ратьшич. Дернул на себя обитую золоченой медью дверь, впустил в переход дымное облако пара, по-хозяйски, смело, потопал ногами, сбивая налипший снег. Четка неслышно пошаркал лапотками.
— Входи!
Посреди знакомых просторных сеней — княжеский столец (сколь раз бывал здесь Четка!), но Всеволода не видать. В полумраке теплится у смутно различимой иконы маленький огонек.
Едва держась на ослабевших ногах, Четка огляделся со страхом (снова стали одолевать его сомнения). Всеволод вышел из боковой низкой дверцы, следом за ним просунулся с сияющей улыбкой на лице розовощекий Константин. Остановился в нерешительности за спиной отца. Палец сунул в рот, в глазах — знакомые бесы…
— Прости, князь! — завопил, падая Всеволоду в ноги, Четка. — Прости и помилуй мя!..
Глава десятая
1
Большой переполох учинил Ефросим в Новгороде. Две недели шумело правобережье, на Великом мосту сталкивались буйные толпы, скидывали друг друга в холодные воды Волхова, вспарывали рогатинами животы, били по головам шелепугами [122] и кольями, раскачивали сполошный колокол, на вече кричали один громче другого:
— Не хотим Мартирия! Хотим Ефросима!..
— В воду Нездинича!..
— Шлите за Ярославом!
— Не хотим Ярослава!..
Купцы на Торгу шушукались, запирали товар под крепкие замки, заморские гости ставили на лодиях паруса, спешили до холодов убраться восвояси. На дорогах скрипели возы — и все на запад, на запад…
Затих в кузнях веселый грохот молотков о железо, потухли горны. Не слышно было перестука кросенных станов, топоры, недавно строгавшие древесину, берегли для кровавого дела. По ночам стали пошаливать тати, темные людишки нет-нет да и пускали под охлупы [123] боярских изб красного петуха…
Сильный стук в дверь поднял игумена с лежанки за печью. Ефросим закашлялся, повернулся на другой бок. Стук повторился.
— Эй, кто там? — спросил игумен, подходя к двери в исподнем. В неплотные доски пола дуло, обжигало холодом босые ноги. Во тьме встревоженно зашевелился Митяй.
— Отвори, хозяин, — сказал из-за двери осипший голос. — Мороз припекает, мочи нет…
— Кто таков будешь? — Но почудилось Ефросиму, будто торкавшийся был не один. Теперь снег явно похрустывал под ногами многих людей. Говорили друг с другом вполголоса.
— Странничек я, — донеслось снаружи. — Иду из Плескова на Нево-озеро, а город будто вымер. Не пустишь ли переночевать?
Встал Митяй, зачерпнул ковшиком из бочки воды, сказал полусонно:
— Впустил бы ты его, отче. Нынче и впрямь на дворе мороз…
— Цыть ты, — зашипел на него Ефросим. Приложил к двери ухо — тихо. Но давешний шепот был ему не по душе. Рука, лежавшая на щеколде, не торопилась открывать.
Дверь попробовали снаружи отжать плечом. Снова зашептались.
Ефросим испуганно отдернул руку от щеколды, бросился за печь, вытащил из-под лежанки топор. Вернулся, стараясь не шуметь.
— Эй, хозяин! — незнакомец подергал дверь. — Аль оглох?..
— Чего уж там — слышу, — ответил игумен.
— Ну так отворяй.
— Печь у меня не топлена. Ступай в соседнюю избу…
— Креста на тебе нет.
За дверью перестали таиться. Разговаривали во весь голос. Стучали в дверные плахи чем-то тяжелым. Дрожа всем телом, Митяй вцепился Ефросиму в спину:
— Беда, отче…
Игумен повел плечом, зло откинул его от себя. Поглядев по сторонам, придвинул к двери кадушку с водой.
— Не замай, Ефросим, — сказал охрипший голос. — Пущай, не то хуже будет. Нас много…
Лунный свет в узком оконце загородило бородатое лицо. Два горящих глаза уперлись в Ефросима. Повернувшись к невидимому во дворе, борода сказала:
— Один он…
— Мальчонка еще должон быть, — откликнулись от двери.
— Слышь-ко, Ефросим, — проговорил сиплый, прочищая громким кашлем забитое горло. — Отрок-то тут ли?
— Тебе-то что?
— Отрока жаль… Ежели сам не выйдешь, запалим избу.
— Не отворяй, отче, — стуча зубами, сбивчиво зашептал Ефросиму на ухо Митяй. — Боюсь я…
Ефросим сказал, упрямо глядя на дверь:
— Палите, коли так. И вам на небесах воздастся.
Мужики перепирались друг с другом. В оконце снова появилась борода.
— Отсель его не достать. Ино дело — стрелу бы метнуть.
— Достанем, — уверенно сказал осипший.
На дверь навалилось разом несколько человек. Доски выгнулись, затрещали. Мужики сопели, мешая друг другу.
— Этак его не возьмешь. Руби топором! — распоряжался сиплый.
— Шумно больно. Народ бы не всполошить…
— Как же, всполошишь. Нынче каждому своя жизнь дорога.
Топоры обрушились на дверь. Сиплый весело приговаривал:
— Погоди еще, Ефросим, — скоро доберемся…
— Навалились, соколики!
Истончаясь, доски поддавались под топором. На Ефросима посыпалась острая щепа.
Вдруг борода, маячившая в оконце, исчезла. Снег часто заскрипел под ногами, удаляясь. Во дворе послышался топот, глухая возня.
Стихло. Но погодя на дверь снова обрушились частые удары. На сей раз били не топорами.
По стуку человека от человека отличишь, словно по голосу. Стучавший не таился, колотил в дверь властной рукой.
— Да отворяй, что ли! — нетерпеливо потребовал зычный голос.
Ефросим перекрестился, отодвинул кадушку и сбросил щеколду. Топор на всякий случай держал в отведенной за спину руке.
Едва помещаясь в проеме, высокий человек, полусогнувшись, задержался на пороге. Глаза его не сразу привыкли к темноте. Но Ефросим узнал в вошедшем Словишу (доводилось им встречаться на дворе посадника Мирошки, когда приходил игумен с толпой обличать его в сговоре с Мартирием).
Следом за Словишей в избу вошел Звездан, подталкивая перед собой мужика без шапки с растерянным, дергающимся лицом.
Ефросим поднял над головой лучину. Огонек потрескивал, роняя ему на плечи легкие искры…
Словиша сел на лавку, расставив ноги; заправленный в ножны меч положил на колени. Звездан, поигрывая плеточкой, стоял у двери.
В избу набрался холод, игумен набросил на плечи овчину, сунул ступни в мягкие чоботы. Радостно возбужденный Митяй разводил в печи огонь…
— Э, — сказал Словиша, все время не сводивший взгляда с захваченного на дворе мужика. — А мы ведь давнишние знакомцы. Нешто ты не признал его, Звездан?
— Как не признать, — отвечал Звездан с улыбкой. — До сих пор меточку от него ношу…
— Вот и попался ты нам, Вобей, — сказал Словиша. — Стереги его зорко, Звездан, не то снова утечет…
— Не утечет, — проговорил Звездан и уверенно положил руку на меч.
Вобей усмехнулся.
— Кажись, спутал ты меня с другим, дружинник, — сказал он. — Лыткой меня кличут. А про Вобея я не слыхал.
— Ничего, — пообещал Словиша. — Свезу к посаднику — иное запоешь…
— Наше дело смирное.
— Оно и видать, — кивнул Словиша на порубленную дверь. Мужик вздохнул, отвернулся и стал глядеть немигающими глазами на красный огонек лучины.
— Странниками прикинулись, просились заночевать, — объяснил игумен.
— Ведомо. Нешто тать назовется татем?!
Еще немного прошло времени, и Ефросим стал обретать голос. Он то ерзал на лавке, то вскакивал и, нависая над Вобеем, обличал новгородцев в черной неблагодарности.
— Отвернулся от вас бог, ибо погрязли вы в воровстве и прелюбодеянии. Старших не чтите, тащите в скотницы злато и серебро, а о душе не мыслите. Руку подняли на Ефросима, а о том не подумали, что шел я из своего монастыря, дабы очистить вас от великих грехов и скверны. Храмы опоганили, ведете торг в виду святой Софии, собираетесь на вече, зубоскалите и тем порушаете древнюю веру. А о вечном спасении не мыслите, возясь, яко свиньи, в своем корыте, того и не видите, что уж разверзлась перед вами геенна огненная, что гневается господь и шлет вам тяжкие испытания…
Увеличенная пламенем лучины, лохматая тень игумена зловеще колыхалась на голых стенах избы.
Вобей, мигая, вжимал голову в плечи, Митяй крестился, притихли дружинники.
— Вотще! — рокотал игумен. — Покину Новгород и удалюсь в обитель. Не мое место среди вас. Плодитесь и подыхайте над своей блевотиной!..
И вдруг, приблизившись к Вобею, дал ему увесистую затрещину.
— За что, отче? — отшатнулся побледневший Вобей.
— Молчи, раб! — взвизгнул игумен и упал, тяжело дыша, на лавку. В избе сделалось тихо. Пряча улыбку в шелковистых усах, сказал Словиша:
— Благослови нас, старче.
— Бог с вами, — вяло отвечал Ефросим. Гнев уже миновал его, глаза потухли. Слабая рука поднялась для крестного знамения…
…Окутанный глубокими снегами ночной Новгород был тих и неприютен. Погоняя впереди себя связанного по рукам Вобея, Звездан говорил Словише:
— Нынче не понравился мне игумен.
— Осерчал старец, — кивнул Словиша, правя коня. — Мартирий на людях невнятен, но мстителен и коварен. Сдается мне, что неспроста наведались мужички к Ефросиму на двор. Верят простые люди старцу, а у владыки прежней силы уже нет…
— Потрясем Вобея, так кое-что и выведаем.
— Не наше это дело — Вобея трясти, — сказал Словиша. — Пусть Мирошка его трясет.
— Мирошка потрясет…
— Но и мы, чай, не во Владимире.
В конце улицы показались конные. Передний, в шлеме и смутно поблескивающей в скупом лунном свете кольчуге, поднял руку:
— Стой!
Словиша натянул удила.
— Кто такие будете?
У говорившего была гордая осанка и властный голос. Конь под ним приседал и взрывал копытами снег. Звездан разглядел взятых верховыми в окружение мужиков.
— Посланные мы великого князя Всеволода Юрьевича. А поспешаем к посаднику на двор, — обстоятельно отвечал Словиша.
Всадник стегнул коня и подъехал ближе.
— А ентого куды поволокли? — указал он черенком плети на Вобея.
— Татя взяли, — сказал Словиша. — Ломился в избу к игумену Ефросиму…
— Ишшо одного словили! — обрадованно воскликнул вой. — У нас вон тож богатый улов. Не его ли дружки?
— Может, и его.
Вобей, стоя меж коней, встревоженно прислушивался к их разговору.
— Житья от проклятых не стало, — пожаловался вой. И вдруг предложил: — Да вам-то он на что? Давайте сюда татя. Завтра потрясем их всех вкупе…
Звездану не понравился этот бойкий разговор. Но Словиша быстро согласился:
— Бери, коли так. Да гляди в оба: старого лесу кочерга.
— У меня не сбежишь, — хохотнул вой.
Звездан обиделся.
— Почто выпустил ты Вобея? — спросил он Словишу, когда они отъехали.
— А тебе и невдогад? — усмехнулся Словиша. — Я-то сразу приметил: из одного они куста. Да не с руки нам с ними сечись — все равно одолели бы…
Звездан решительно повернул коня.
— Куды? — схватил за поводья Словиша. — Куды, шальной?..
— Пусти! — задыхаясь, проговорил Звездан. Взмахнул плетью.
— Стой! — Словиша перегнулся с седла, едва не вывалился в сугроб. Кони храпели и фыркали. Отроки, не вмешиваясь, смотрели на них с недоумением.
Словиша был кряжистее и крепче — не одолеть его Звездану. Боролись молча. На крутом морозе быстро остывала кровь. Обмяк Звездан, мягко вывернулся из крепких объятий Словиши:
— Ладно уж… Будя гомозиться…
Словиша покачал головой:
— Не горячись.
— Обидно…
— Чья беда, того и грех. Нешто своя жизнь не дорога?
Похрустывал снег. Конь под Звезданом шел, раздувая бока. Над охлупами изб, над куполами церквей висело простеганное серебристыми нитями лунное сияние. Сладко попахивало свежим снегом и горько — растворенным в застывшем воздухе крепким дымком.
Город спал, не тревожась, досматривал теплые сны. А в стороны от него уходили в бескрайность нетронутые леса.
Не шелохнутся отягощенные снегом ветви дерев, не треснет сучок, птица не пролетит. Стылый воздух наполнен таинственной звенью, невидимо осыпающейся с оцепенелых небес…
2
Тишина. Лишь во Владычной палате не гаснет душное пламя свечей и лампад.
Длинноногий Мартирий взад и вперед вышагивает по дубовым, темным от времени половицам, встревоженно припадает к окну: не видать ли? Не едут ли?..
Двор был пуст. Пробитая в высоких снегах дорожка искрилась нетронуто, святая София стояла, словно высеченная из глыбы озерного матерого льда.
На лавке завозился пушистый кот, зевнул, потянулся, выгнулся, спрыгнул на пол, потерся о ногу владыки.
— Ишь ты, — ласково проговорил Мартирий, нагнулся, взял кота на руки, пощекотал за ушами, погладил по мягкой шерстке. Кот замурлыкал, потянулся холодным носом к лицу владыки, ткнулся в щеку, блаженно закрыл глаза…
Время в тишине бежало незримо. Шипели свечи, потрескивали на морозе толстые стены.
Вдруг чуткое ухо Мартирия уловило далекое похрустыванье снега. Не они ли?
Прижимая к груди кота, владыка пригнулся к оконцу. От ворот к палатам по метеной дорожке трусили впереди высившихся за их спиной всадников четверо мужиков. Поскальзываясь на льду, мужики падали, помогали друг другу встать, бежали, низко склонив головы.
Отворилась дверь — широко, просторно. Из тьмы сперва показался шлем, тысяцкий вошел и пал перед владыкой на колени. Выдохнул толстогубым ртом:
— Привел, владыко.
Один за другим в палату входили мужики, сдергивали с лохматых голов заиндевелые шапки.
— На колени, — приказал, не оборачиваясь, тысяцкий.
Мужики растерянно повалились перед владыкой, не подымая глаз, пугливо вздрагивали согбенными спинами, дышали надсадно.
— Выйди, — приказал тысяцкому Мартирий.
Дверь бухнула, мужики вздрогнули и еще ниже пригнулись к половицам. Владыка отбросил кота, заговорил глухо:
— Игумена обратать не могли, а ишшо похвалялись давеча: «Немочен Ефросим, нам ли с ним не справиться?»
Отвечал сам за мужиков, издеваясь:
— Где уж нам!… Едим за двоих, пьем за троих, а сердца у нас заячьи… Тьфу!
— Резвой он, Ефросим-то, — боясь разогнуться, робко оправдывались мужики. — А ты говорил — смиренник…
— Говорил, да что с того? — снова гневно повысил голос Мартирий. — Муха и та кусается. Знамо, не окуньков ловить отправлялись на Волхов. За то и плачу, за то и одариваю. Окуньков-то кто хошь наловит: заслуга не велика.
— Прости нас, владыко…
— Прости, — послышалось вразноголос.
— Простить-то прощу, а что с того?
— Ишшо послужим.
Спины мужиков медленно распрямлялись. Застучав коленками, подползали мужики к владыке, тянули руки:
— Прости, отче.
— Эко завыли, — брезгливо поднялся Мартирий с лавки. — Вот кликну тысяцкого. Да в батоги. Да в поруб. В землю. Навеки. Анафеме предам. Прокляну!..
Оторопели мужики, смотрели на владыку опаленными страхом сухими глазами, крестились.
Перевел дух Мартирий (сам устал от многих слов), снова сел на лавку.
— Ладно, — сказал, смиряясь. — Погожу звать тысяцкого-то. Живите…
— Дай бог тебе, владыко…
— Снял с души камень…
— Отходчивый ты…
— Доброй…
— Да мы за тебя… Да мы тебе… Женкам своим… Деткам… Свечку во святой Софии…
— Благодарствуем!
— Будя! — резким голосом оборвал их невнятное бормотанье Мартирий.
Мужики будто только и ждали окрика, смолкли все разом. Стоя на коленях, уставились на владыку, как на икону. Тщились узреть чудо. Всхлипывали, дышали прерывисто.
«С кем дружбу вожу?» — думал Мартирий, разглядывая их с презрением.
Ране-то, еще до того, как стать владыкой, жил он чисто и праведно. Поучал братию скромности и воздержанию. Уважал законы человечьи и божьи. Скоромного не едал, вин не пил, спал на жесткой лежанке, читал священное писание и умилялся подвигам Христовым. Мечтал и сам о подвиге на поприще православной веры. Готовил себя к вечной загробной жизни.
Но дьявол увертлив и многолик. Сбил его с пути истинного, и, когда пришли к нему бояре и посадник, когда стали просить владыкой в осиротевший без пастыря Новгород, не ответил отказом, не удалился гордо в свою келью. Думал так: нынче в монастыре своем навел он правильную жизнь, отчего не подвигнуться на угодное богу? Сам Христос выходил к народу, обращая его во святую веру, выходили к народу апостолы его. Что, как и над ним простерлась его десница? Что, как и ему выпала счастливая доля?… Придет он к несчастным и униженным, отверзнет им ослепшие очи, лицом обратит к сияющему свету божественной истины?..
Не прогнал бояр Мартирий, впервые тогда взалкал разрушающего душу невидимого яда. Разлучился с братией своей, уехал в Новгород, ища не спасения, но славы.
Апостольской славы жаждал он и так мыслил. А жил и дела свои творил по наущению коварного искусителя. Не по правде избран был во владыки, не по правде карал и миловал. Не по правде стоял на высоком месте в Софийском соборе, творил молитвы и исповедовал, служил обедни и всенощные.
И ненависть его к Ефросиму была ненавистью к себе самому, к своему чистому и праведному прошлому.
Так сидел Мартирий, прикрыв ладонью глаза, и думал. И мужики, стоя перед ним на коленях, недоуменно переглядывались: что случилось с владыкой? Не поразила ли его внезапная хворь?..
А заглянули бы к нему в душу — ужаснулись. Кинулись бы прочь с Владычного двора в страхе и беспамятстве.
Но не было мужикам дано столь высокого дара. Да и кому он дан? Все живем в незнании — и тем счастливы…
Счастливы были мужики, что не наказал их Мартирий, разве что заставил поползать на коленях, но на коленях мужикам ползать не привыкать: набили они себе давно уж крепкие мозоли. Перед богом — на колени, перед князем — на колени, перед владыкой — на колени, перед боярином — на колени, перед воеводой и перед тысяцким, перед сотником и тиуном, перед огнищанином и старостой — перед каждым на колени…
«Ишь как опечалили владыку», — подумали мужики, терзаясь нечистой совестью.
И сказал им Мартирий:
— Падет на вас проклятие, ежели задуманного мною не исполните…
— Исполним! — ответили растроганные мужики.
— Ефросима боле не тревожьте…
— Не потревожим, владыко, — вторили голоса.
— Сыщите случай и приведите ко мне отрока его Митяя…
— Приведем, владыко.
— Но сделайте сие тихо и незримо, аки ангелы…
— Аки ангелы… — подхватили мужики.
— Аминь, — сказал Мартирий и поднял руку для благословения. Но что-то вдруг смутило его, рука повисла в воздухе и опустилась.
Мужики, толкая друг друга, попятились к двери.
Выходя последним, Вобей успел разглядеть: Мартирий поднялся с лавки, бросился перед иконой, осеняя себя крестным знамением.
3
Мирошка с утра сидел у себя в горнице, будто неживой. Все-то ему вдруг сделалось немило: и день выдался ненастный (вьюжило), и печи худо протопили (истопника боярин бил поленом), и квас принесли из погреба прокисший («Что ты, батюшка, взъярился? Квас как квас», — сказала ключница. Мирошка замахнулся на нее пустой братиной), и мясо показалось непрожаренным (раньше сам любил, чтобы с кровью).
Сидел Мирошка, пригорюнившись, глядел из оконца во двор, вздыхал глубоко и скорбно закатывал глаза.
Нерасторопные мужики сгружали с возов кули с мукой и зерном из Владимира. С вечера был у посадника купец, торговались до перхоты в горле. Задешево взял у него Мирошка хлеб, а нынче показалось, что можно было бы, заупрямься он, и еще, хоть маленько, сбить цену. Купец был верткий и скользкий, как уж, — пока судили да рядили, выведывал у посадника разные разности. Но и Мирошка себе на уме — быстро смекнул, что к чему: нынче со Всеволодом ухо держи востро. В Новгороде обернулся человек купцом, а вернулся во Владимир — обернулся дружинником. Уж больно долго беседовал он со Словишей. О чем — не слыхать было, а только после повеселели у Словиши глаза.
Мирошка еще немного повздыхал, снял с гвоздика шубу, набросил на плечи, спустился во двор.
Заметив его на всходе, мужики забегали резвей.
«Глаз да глаз за ними нужен», — подумал боярин. Подошел к переднему возу, откинул рогожку, запустил пятерню в душистое зерно. Пересыпал пшеничку из ладони в ладонь, прикинул в руке на вес. Зерно было отборное — одно к одному.
Возница сидел на мешках, подвернув под себя ногу, улыбался и жевал хлебный мякиш.
«Тоже плут, — неприязненно определил посадник. — Недалеко от хозяина ушел. Радуется, что на чужом дворе, — вот и зубоскалит. Своему-то дал бы сейчас по загривку, а ентого не тронь».
Холодный ветер сметал с крыш мелкий снег, откидывал полы боярской шубы. Мирошка поежился, потоптался перед возами, притворно зевнул.
Сидевший на возу мужик пошевелился и открыл набитый мякишем рот с черными, проеденными гнилью зубами:
— Чтой-то невесело у вас в Новгороде. Ась?..
— Чай, не пиры приехал пировать, — буркнул Мирошка.
— Знамо, — протянул мужик. — Пришли в Новгород с товаром.
— Дело ваше торговое…
— А ишшо помолиться хочу во святой Софии. Баба моя на сносях…
— Что — баба? — не понял Мирошка. Глядя на суетившихся с мешками на спинах мужиков, он слушал возницу вполуха.
— Баба на сносях, говорю. Просила шибко: помолись, говорит, во святой Софии, чтобы сыночка нам бог послал… От дочки-то — одно озорство, а польги никакой. Сыночек как-никак в хозяйстве подмога…
Мужик говорил неторопливо и добродушно.
Мирошка поморщился, вспомнив про Гузицу. «А верно мужик сказывает, — подумал он. — Мозгами-то, как жерновом, ворочает, а все верно». Была до недавнего времени Гузица во всяком деле ему подспорьем. А нынче, как появился в тереме Звездан, переменилась так, что и не узнать. Бывало, пальца ей в рот не клади — откусит с рукой, теперь же ходит тихая и задумчивая. Сердце Мирошки дрогнуло: свят-свят, уж не отяжелела ли?.. Стал припоминать былые сестрины повадки, еще больше расстроился, наорал на мужиков:
— Ноги, что ль, вам укоротили? Куды старшой глядит?!
Подскочил старшой. Руки шапку мнут, зализанные волосенки косицами стекают на плечи. Нижняя губа мелко подрагивает, в бороде — остинки и мучная пыль.
— Како повелишь, боярин?
— До вечера возиться будете, али как?..
— Мигом управимся!
— То-то же…
Мирошка запахнул разъехавшуюся на груди шубу, медленно поднялся на крыльцо. Гузица не выходила у него из мыслей. Эко истомилась вся: что ни день, что ни утро — все перед зеркалом. То косу заплетает, то расплетает, то щеки румянит, то сарафан примеривает. А то еще в обычай взяла растирать бурачок с медом и мазать им лицо от веснушек. Девки только тем и заняты, что крутятся возле нее, глаза закатывают, хихикают, шушукаются. Мирошке и воды-то некому подать, не то что квасу. Вон и ключница стала дерзить — поделом пугнул ее посадник: пущай наперед остерегается.
За обедом в избе мрачные мысли Мирошки обратились к Звездану. Сидит, как молодица, глаз не подымет — чистенький да хорошенький. Не мужик, а херувимчик, только крылышек недостает. Рыбу ест осторожно, как кошечка, отставляет мизинчик, пальчики облизывает с улыбкой. Ямочки на щеках — одно загляденье.
Словиша, хоть и неприятен посаднику, потому как — око и уши Всеволодовы, а все ж мужик. В нем и сила, и стать, и умом гибок, и напорист в меру, и уживчив — куды не нужно, не лезет, знает свое место и дело. Ясно, в другие-то времена гнал бы и его Мирошка от себя куда подале (теперь-то язычок он прикусил), но, ежели бы Гузица вкруг него вертелась, он бы ярился помене…
Давеча застал он сестру свою со Звезданом в сенях. Темно было. Так, незамеченный, слышал Мирошка все почти — слово в слово.
— Ладушка моя, — шептал Звездан. — Как же без тебя-то буду?..
— Сокол мой ясный, — вторила ему Гузица.
— Брось Мирошку, вместе уедем к моему батюшке…
— Да по душе ли ему придусь?.. Нашел он тебе небось другую ладу, — отвечала Гузица.
— Свет мне без тебя не мил… Зорюшка ты моя ненаглядная!
— Обними меня крепче, Звездан.
«Ах ты, коза сладкоустая, — выругался про себя Мирошка. — Скольким уж мужикам про то же самое говаривала. Скольким уж голову кружила. Недаром идет про нее по Новгороду тайный слушок. Недаром…» Вспомнил посадник со стыдом, как однажды краснел на Боярском совете, когда намекнули ему близкие к Мартирию людишки про Гузицу: всем, мол, хорош Мирошка и через сестру свою породнился, слыхать, со всем Новгородом. Тогда не дал боярин спуску своему обидчику: припомнил, как воровали его холопы коней в чужом табуне. Замахнулся посохом. Едва их разняли. После Мартирий выговаривал:
— Ты, Мирошка, на себя много-то не бери. Даром что посадник — ан завтра захотят другого.
На что Мирошка тоже отвечал с достоинством (и нынче приятно вспомнить):
— Память у тебя коротка, владыко. Когда б не моя Гузица, еще како бы все обернулось… В твоем-то монастыре хлеба куды как погорчее будут. За меня держался ты, за меня и впредь держись. А людишек своих, что лижут тебя в ино место, призови к ответу и лаять меня принародно не позволяй…
Мартирий-то, он страшен издалека, а вблизи его и не видно. Как наведался в Новгород Ефросим, как приехал от Всеволода Словиша, так вся позолота с него сразу и сошла.
В прошлую бессонную ночь осенило Мирошку, будто железом каленым обожгло: неча отсиживаться, как слепому щенку, ждать, поскуливая, ясной погоды — самому настала пора ехать ко Всеволоду. Взять именитых да речистых людей с собой, богатых даров (не скупиться, не торговаться помалу — цена-то не какая-нибудь, а вся новгородская вольница!) да и повести с ним беседу умную и степенную. Для начала шумнуть за Мстислава, а после — как бог даст. Только на Ярослава не соглашаться — уж больно гневались на него новгородцы, — в случае чего просить у Всеволода сына. За родное дите у какого отца сердце не помягчает?..
К вечеру Мирошка оттаял. Укрепившись в своем решении, на сестру поглядывал почти милостиво, да и Звездан не бесил его, как совсем недавно за обедом.
Мысли собирались одна к другой — словно бусинки нанизывались на шелковую нить.
Кого взять с собой во Владимир? — рассуждал посадник. Перво-наперво Бориса Жирославича — в Боярском совете слово его весомо, да к тому же и книгочей (грамотных людишек любит Всеволод). Новгородский сотский одноглазый Никифор тож будет к месту — как-никак, а тонкий намек: и в Новгороде, дескать, водятся богатыри, не только во Владимире (глаз-то Никифор потерял, когда брали Сигтуну), так что за вольницу свою, ежели что, постоим. От купечества возьму Иванка, подумал Мирошка, — обходителен Иванок и хитер. Да еще Фому-чернеца, пущай беседует с Иоанном…
Когда за окнами совсем стемнело и повсюду в тереме зажгли свечи, у ворот послышался шум.
— Это кого еще на ночь глядя принесло? — проворчал Мирошка.
Дворский [124] Замятня постучал в дверь, вошел, кособочась, — следом за ним просунулась долговязая фигура Ефросима.
Вот так гость! У посадника лицо обмякло.
— Ты ли, отче?!
Борода у Ефросима разметана, глаза блуждают, никак не остановятся на Мирошке, на веках — струйками — не то слезы, не то растаявший снег.
— Собака, пес шелудивый! — в горле у Ефросима заклокотало.
Вскочил Мирошка, вытолкал дворского за дверь, остановился, прислонясь занемевшей спиной к стене. Только что радовался снизошедшему на него покою — так вот же тебе!
Ефросим плюхнулся на лавку, обмахнул лицо рукавом, шмыгнул, забормотал невнятно.
К брани его посадник давно уж привык, все привыкли в Новгороде. Но чтобы плакал игумен — такого еще никто не видывал, Мирошке первому довелось.
Оттого и стало ему неуютно и страшновато. В горнице полумрак, в дымоходе завывает ветер, — аж мороз подирает по коже… Глаза игумена сверлят Мирошкино лицо.
«Умом тронулся Ефросим, — подумал посадник. — Ей-ей…»
— Митяя мово, Митяя-то мово почто?! — уставился на него безумным взглядом игумен.
— Ты толком сказывай, отче, — дивясь, остановил его Мирошка. — Что-то никак я тебя не пойму…
— Заодно ты с Мартирием — знаю.
— Может, и заодно. Да Митяй-то при чем? — рассердился посадник.
И удивлялся, и сердился он искренне. Глаза Ефросима становились все более осмысленными.
— Ладно. Ишшо поглядим.
Он встал, выпрямился, лохматый и угрожающий, двинулся к порогу. Ударил дверью так, что зазвякали в углу иконы. Ветром, ворвавшимся в горницу, задуло свечу на столе. Рявкнули во дворе собаки и стихли. Все стихло.
Был — и нет Ефросима. У Мирошки только теперь от испуга подогнулись коленки.
Сел на лавку, ладонью растер онемевшее лицо. Ну и денек!..
4
Любил Митяй толкаться на новгородском торговище. Суету любил, разноцветье товаров, разноголосье толпы.
Празднично-призывны были и зычные окрики нахальных зазывал:
— Вот зеленые бусы из Хорезма!
— Обояр [125] и атлас!..
— Мечи из Багдада!..
Трясли бараньими пузырями с налитыми в них бобровыми благовоньями, торговали красным шифером и пряслицами [126], солью и пшеницей, конями и мастикой [127], золотым и серебряным узорочьем, обручами, колтами, перегородчатой эмалью, мечами, поршнями, лаптями и козьими шкурами…
— Кому кожушок?.. Продаю задешево!
— Возьми, мужичок, оберегу [128]…
Настойчивые руки отовсюду теребили Митяя — одни тянули в свою сторону, другие — в свою. Вертел головой Митяй, радовался, а путь держал, разгребая плечом толпу, к Софийскому собору. Хотелось ему еще раз взглянуть на чудесные Сигтунские и Корсунские врата, тихо постоять пред скорбным ликом Христа Вседержителя, полюбоваться строгими фигурами, со свитками в руках, пророков Соломона и Даниила, посмотреть хоть издалека на позолоченные потиры — сосуды для причастного вина, изготовленные златокузнецами Братилой и Костой. Много наслушан он был о их мастерстве, а недавно сам наведывался с Ефросимом в посад, сам видел, как работают мастера… Стоят перед их кузней в очереди бояре и купцы, боярские и купеческие жены и дочери, терпеливо ждут исполнения заказа: кому колечко, кому чашу, кому — украшения к мечу, а кому оклад на икону… Льется в затейливые формы расплавленное золото, тоненько постукивают молоточки. У Братилы на голове холщовая ленточка, чтоб не мешали волосы, Коста лыс и улыбчив, редкая бороденка острижена накоротко.
Шел Митяй через Великий мост, не оглядывался. Да и что ему оглядываться — ничего не оставил, ничего не потерял. А то, что крадется за ним мужик в драном зипунишке, то, что переглядывается с невидимыми в толпе другими такими же серыми мужичками, — ему и невдомек было. Молод был Митяй и доверчив, как дитё.
За Великим мостом у могучей стены детинца избы ютились на косогоре вразброд, тесная тропка в высоком снегу извивалась меж заборов и плетней, то терялась за хлевами и житницами, то выныривала вновь. Весь народ на торгу или в избах — ни души во дворах, струятся над крышами голубые дымки. Срубы кряжисты, в землю вошли до половины, на крышах кособоко громоздится снег — сползает, свесив почти до земли острозубые сосульки, запекается на солнце пузырящейся корочкой.
За одной из изб, там, где тропка поглуше, вышел из-за угла мужик с черной, прокопченной бородой. Оскалил зубы, положил руку Митяю на плечо. Сзади, из-за сугроба, еще двое вывалились — у обоих пар изо рта, как дым из лошадиной пасти.
Ослаб Митяй от страха, пал покорно в снег, взбрыкнул ногами:
— Не трожьте, дяденьки!..
Мужики долго не возились, сунули Митяю тряпицу в рот, руки скрутили за спину, поволокли на себе через сугроб, в крытый возок бросили. Тот, что с черной бородой был, сказал товарищам:
— Нынче будет доволен владыко.
Возок раскачивало, скрипели полозья, мужики молчали. Не видно было, куда въехали. Но скоро остановились.
Вытащили Митяя из темноты возка на слепящий снег, поставили на ноги, подталкивая сзади, погнали на высокий, чисто выметенный всход с резными перильцами.
Господи, да как же сразу-то он не признал: так и есть — Владычный двор! Вон и София рядышком тускло поблескивает свинцовыми своими шеломами.
Давно ли бранился перед этим крыльцом Ефросим, давно ли изобличал перед толпой Мартирия, давно ль следили мужики грязными лаптями и поршнями в ложнице у владыки… Тогда лежал архиепископ на лавке, прозрачный и немощный, шарил испуганными глазами по мятежной толпе. Нынче стоял он в шелковом одеянии до полу, с блестящей панагией на шее и тяжелым посохом в крепкой руке. Глядел насупившись, сурово. Властным взглядом пронзил затрепетавшего от робости Митяя.
— Пади! — возмущенно зашипели сзади державшие его за руки мужики. — Владыко пред тобой.
Опустился на колени Митяй, глаза потупил. Владыка ударил об пол посохом.
— А вы изыдите! — грозно повелел мужикам.
— Встань, отрок, — ласково сказал он Митяю. Протянул руку, выдернул кляп, брезгливо швырнул тряпицу в угол. Тонким ножичком ловко перерезал путы на руках Митяя. Сказал сдержанно:
— Страх из сердца изгони. Не тебе я ворог, а игумену твоему Ефросиму. Сядь.
Сидеть в присутствии владыки простому послушнику не пристало. Помялся Митяй, но сесть не решился.
— Хорошо, — сказал Мартирий. — Смиренье — богу угожденье, душе спасенье. Гордому бог противится, а смиренному дает благодать. Переломлю я твоего игумена.
Обидно стало Митяю за Ефросима, любил он своего старца и за праведность почитал.
— Почто ломать его, владыко? — робко спросил он. — К людям старец приветлив и справедлив. Душа у него чиста и непорочна.
— И твоими устами глаголет Ефросим! — вскричал Мартирий, вдруг сразу меняясь в лице. — Как я порешил, так и будет. Не позволю игумену мутить новгородский люд!..
— Меня-то зачем в путы взял? — удивился Митяй. — Я игумену не указ.
— Любит он тебя, — улыбнулся владыко. — Любит, вот и взял…
— Про то не ведаю, любит ли. Но слова твои к чему, никак не разгадаю…
— А вот, помысли-ко, — настаивал, хитро щурясь, Мартирий. — Сказывали мне, будто ты смышлен.
— Смутно говоришь, владыко.
— Кому смутно, а кому и яснее ясного.
Только тут осенило Митяя.
— Верно предсказывал Ефросим: коварен ты, владыко, и бога в душе твоей нет.
Вздрогнул Мартирий, поднял над головой посох, но вовремя пересилил внезапно вскипевший гнев.
— Дерзок, зело дерзок ты, отрок, — покачал он головой. — Едва не ввел меня во грех. Спасибо богородице — она, она остановила.
— Эй, слуги! — крикнул Мартирий и приказал явившимся на его зов людям: — В темницу его, да стерегите в оба!..
5
Вьется белый санный путь вдоль Волхова. Скользят по нему возки и розвальни, скачут воины, идет простой новгородский люд — кто в лаптях, кто в чоботах, кто в меховых сапогах. Идут на морозе, торопятся, набиваются на ночь в деревеньки переночевать под ветхим кровом у чужого спасительного огня.
Сидят в прокисших избах, тесня хозяев, хлебают жидкую ушицу, сгребают ложками в жадные рты горячее сочиво, храпят, раскидавшись по лавкам, рассказывают терпеливым хозяевам в благодарность за ночлег веселые, а чаще грустные байки — про свою неприкаянную жизнь, про соседей и земляков.
Заночевали поздним декабрьским вечером в одной из таких изб игумен Ефросим с Митяем.
Вышли они из Новгорода на рассвете, ни с кем не простясь, — тихо, как вороги. Впереди — Ефросим, Митяй — позади ковылял. Ворчал игумен:
— Нынче снова с тобою беда. Почто отстаешь, негодник? Почто вихляешь, яко неподкованная кобыла?..
— Ноги у тебя длинные, отче, — скулил виновато Митяй. — Погодил бы… Куды нам поспешать? Все одно домой путь держим.
— Оттого и поспешаю, аль невдомек? Стосковался я, Митяй, по родной обители. Тихо там, печи топлены, монахи кротки, пастыри усердны…
Остановился Ефросим на взлобке волховского высокого берега.
— Ужо вам! — погрозил он кулаком виднеющимся за морозной пеленою свинцовым куполам Софии. — Тьфу на тебя, Великий Новгород!..
Плюнул и зашагал, не оборачиваясь, с силой втыкая суковатую палку в твердый наст…
— Эко осерчал ты, отче.
— Небось осерчаешь… А ты, смиренник, почто на игумена своего скалишь зубы, — остановился он, разглядывая Митяя, словно увидел впервые. — Мало насиделся в темнице у Мартирия? Ишшо захотел?..
— Свят-свят, — перекрестился Митяй.
Вчера это было, все свежо в памяти — явился игумен, прямо от Мирошки, к Мартирию на Владычный двор.
Пропустили его в хоромы без лишних вопросов и разговоров — ждали. Держа прижатой ко груди рукою железный крест, вошел Ефросим размашисто, остановился, перешагнул через порог, дерзко взглянул на восседавшего в высоком кресле Мартирия. Служки, стоявшие по. бокам от владыки, в растопыренных зипунах (под зипунами надеты кольчуги, за поясами — короткие мечи), обеспокоенно зашевелились.
— Здрав будь, владыко.
— И ты будь здрав, Ефросим.
Глаза в глаза. Непотребные, злые слова клокотали у игумена в горле. Но выкрикнуть их он не посмел, сдержался, крепче сжал рукою железный крест.
Не за себя пришел говорить Ефросим, хотя и знал: за себя — тоже. Однако не было за его спиной разгневанных людей, не слышались крики и гул толпы. За дверью прохаживалась стража, сопели, изнывая под тяжестью кольчуг, готовые по первому зову поспешить на помощь владыке служки.
— С чем пожаловал, Ефросим? — нарушил затянувшееся молчание Мартирий.
Слабый голос его был исполнен ангельской кротости. Но глаза, как буравчики, остро сверлили игумена.
— Скажи прямо, владыко, почто держишь отрока моего в темнице? — сказал Ефросим.
— Коли знаешь про то, и разговор наш будет короток, — ответил владыка. — Взял я его, дабы тебя спасти от греха великого.
Тут бы, по нраву, и взорваться игумену. Но снова сдержал он себя, Мартирию не позволил над собою потешиться. Отвечал спокойно, по присказке:
— Где гнев, там и милость. Что хочешь ты от меня, владыко?
— Многого не прошу. Да малое придется ли тебе по душе?
— Сказывай, — согласно кивнул игумен.
— Митяя я тебе хоть сей же час возверну. Мне он не надобен, хоть и дерзок в словах и помыслах, но то не его вина, — сказал не спеша Мартирий. — Ты же поклянешься мне на кресте, что покинешь Новгород и навсегда удалишься в обитель…
— Милостив ты, владыко, — усмехнулся Ефросим. — Худшего ожидал. Прости. А клятва моя — вот она: во имя отца и сына и святого духа…
Он вдруг сорвался, перешел на крик:
— Не будет ноги моей в Новгороде!.. Проклят город сей и все, кто в нем! Холопы и рабы, лисицы многоликие — сгиньте!.. Пожирайте вольный хлеб свой и друг друга, топчите святыни, надругайтесь над слабыми, перед сильными ползайте на брюхе в грязи и навозе… Возрадуйтесь, что свободны, что нет над вами бога милосердного. Сгиньте!..
Кому высказывал он правду, в страданиях вымученную, перед кем метал бисер?!
Только улыбнулся Мартирий и хлопнул в ладоши. Служки привели Митяя, вытолкали их обоих за дверь, проводили за ворота и наглухо закрыли створы.
С тем и ушел Ефросим из Новгорода. Не нужен он был никому, и ему никто не был нужен. Остался у него Митяй, смышленый отрок, — ему и отдаст он остаток своих дней…
В избе, где ночевали, трое было случайных людей: пожилой скоморох, купец-удалец да седой мужичок без прозванья.
Скомороха звали Радко. Сказывал он про себя невеселую быль:
— Жизнь изжить — других бить, и биту быть.
Сам я из Новгорода родом, а много мотался по всей Руси. Дело наше не простое, хлеб горький. Бывал я и в Чернигове, и в Киеве, и в Рязани, и во Владимире. В Суждали бабу схоронил, Вольгой ее звали. Шибко болело у меня сердце, так свербило, что силы нет. Да только скомороху разве до слез?.. Ходили мы с Карпушей, сыночком моим, да с Маркелом-горбуном по деревням, тешили людей веселыми байками, кормились чем бог пошлет… Карпуша мой весь в матушку-покойницу вышел: красивенький был и шустрой. Вот и приглянулся он князю Всеволоду — взял он его к себе в меченоши. Последней радости меня лишил, последнего утешения. Маркел-то вскорости помер, а про Карпушу я долго ничего не слыхивал. Один остался, как перст. То к обозникам прибьюсь, то к купцам… А как встанем на отдых, скоморошины сказывал. Шибко любит народ наш веселое слово. Ты вот игумен, а и в твоих глазах бесы. Значит, правду говорю… Так-то и ходил я по Руси. Лаптей одних сколь истоптал — не счесть. Но тянут годы к родному порогу — не хочется спать вечным сном в чужой земле, своя душе ближе, да и к раю дорога, сказывают, со своей-то земли короче. Вот и решил я вернуться в Новгород, а перед тем сынка повидать. Думал, коли взял его к себе Всеволод, — нынче ходит он у него ежели не в передних мужах, то в важных дружинниках… Приплелся во Владимир, туды-сюды сунулся, сыскал знакомого камнесечца, Никиткой его зовут. Стал про Карпушу расспрашивать… Эх-ха, лучше бы не ходить мне ко Владимиру. Помер Карпуша-то мой, не дождался батьки своего, непутевого скомороха. Пил я, гулял на запоздалой тризне, чуть разума не лишился. Едва выпроводил меня Никитка из Владимира, дал припасов, одежу вот эту самую, чоботы и отправил в Новгород с купцами… Тако я здесь и сижу, в этой самой избе, а что дале делать — не знаю. Сила у меня уже не та, да и с памятью стало худо — перестали новгородцы слушать мои скоморошины. Иду вот на Нево-озеро, будто бы сестрица у меня в тех краях объявилась. Годков двадцать, почитай, не виделись. Признает ли?..
— Да, — сказал Ефросим, зажигая в светце новую лучину. — Давно это было, а помню я тебя, Радко. Вот ведь как свидеться довелось. Помню, как сшибался ты на Великом мосту с крикунами, про все помню. И скоморошины твои не забыл…
Купец-молодец сидел во время разговора на лавке, слушал внимательно, однако помалкивал.
Стал свою историю сказывать мужик без прозвания:
— С реки Юга я, что за Устюгом, из деревни никому не ведомой — всего-то она в три двора.
Горько тут скоморох говорил про свое житье. Мое житье тоже не слаще. Остался и я без жены, с малым сынком Офоней. Пристал к ватаге лихого ватамана Яволода. Озоровали мы на Волге, а после подались под Устюг, на вольные земли. Там ватага и распалась, ушли кто куда. Пристал я к тамошним мужикам, бежали они от боярина Захария, завели тут свое хозяйство. Не сразу приняли они меня, долго приглядывались. А у меня руки по земле стосковались — стал я пашню пахать, рядом с ихними избу свою поставил. Весеннему солнышку радовался, зимою не тосковал, сына растил да хлебушко жевал. Много ли мужику надо? Никто не трогал нас, не стояло над нами ни старосты, ни тиуна. Все, что ни возьму с поля, — все мое. Все, что в лесу ни добуду, — тож мое. Да только недолго так жили… Пришли и к нам боярские да княжеские люди, стали по лесам да пашням зарубки делать, заметки оставлять. Перегородили землю запретными знаменами, оброком да вирами замучили. И сделались мы снова холопами. Тиун наезжал к нам, как на вражью землю — опорожнял хлева и житницы, Офоню моего отвез в Устюг — там он и сгинул в безвестности… Был бы жив Яволод, вернулся бы я к нему снова, да порубили лихого ватамана под Городцом. Вот и бежал я из своей деревни, вот и мыкаюсь по белу свету, но нигде пристанища мне нет. Куда нынче податься — не ведаю…
— Бежал ты, мужик, от своего хозяина, — сказал Ефросим, — и сие — грешно. Ни солнышку всех не угреть, ни боярину на всех не угодить. А так уж положено на земле от бога: кому пашню орать, кому меды пить. За муки же твои, холоп, сторицею воздастся на небесах. Терпи — и вознагражден будешь…
— По третьему разу всегда вырубишь огня, — вступил в разговор молчавший досель купец-молодец. — Послушал я тебя, мужик, и тако скажу: не верь ты монаху. Бог не убог, а Никола милостив. Пойдем ко мне в обоз, не пожалеешь. Бывалые людишки мне нужны.
— Да ты кто таков? — рассердился Ефросим. — Почто человека смущаешь? Чему учишь?
— Не тебе, мних, встревать в мирскую беседу, — смело глядя ему в глаза, проговорил купец. — Ступай себе с богом в свою обитель, а мы обойдемся и без тебя.
— Да знаешь ли ты, кто я? — заорал Ефросим, хватая со стола глиняную мису и замахиваясь ею на купца. — Ефросим я, а ты коровья лепешка!..
И ударил по столу так, что черепки запрыгали.
Лишка хватил игумен. Переполох поднялся, ажно ветер по избе. Сроду таких надсадных гостей не видывали хозяева.
И очутились Ефросим с Митяем среди морозной ночи на улице. Сунули их в сугроб да там и оставили.
Глава одиннадцатая
1
Утром прибежал к Однооку свой человек из детинца, сдернул шапку и — с порога:
— Слышь-ко, боярин! Прибыл во Владимир из Новгорода Всеволодов дружинник Словиша, новгородцы тож, а с ними — Звездан.
Радуется мужик — за хорошую весть боярин пожалует его чарой.
— Брешешь, — буркнул для порядка Одноок, хотя сразу поверил. — Не просох ты после вчерашних медов.
— Светел был — то верно. Но Звездана видел, как тебя ныне зрю.
Тяжело поднялся с лавки Одноок, руками оперся о столешницу. Угрюмым взглядом осадил мужика, будто ноги подрезал, — тот и присел.
— Ну, ежели что не так…
— Так-так, батюшка. Кого хошь спроси…
— Ладно.
На княж двор идти — не к соседу лясы точить. Принарядился Одноок: лучшую одежду надел, с трудом просунул ноги в тесные сапоги, набросил шубу, на голову натянул шапку с беличьей опушкой, резвого коня велел седлать — да чтобы под дорогим седлом.
Пока наряжался да собирался, погоняя и без того расторопную челядь, зимняя ночь потерялась, солнышко взошло до половины Серебряных ворот. А прибыл боярин к детинцу — и вовсе разгулялся день: так и поливает блеском по матерым снегам.
Удивился Одноок: в любое время на княжом дворе — шум и суета, а тут народ так тесно стоит, что и коня направить некуда. Хорошо еще, что с высокого седла все далеко видать. Осмотрелся боярин, как в поле ратник, подбоченился, гневно ломая бровь, — не видит Звездана. Словиша тут, а сын ровно в землю ушел.
Стали приезжие на Одноока ворчать:
— Ты бы, боярин, коня-то поодаль оставил: все ноги нам оттоптал.
— Куды на людей-то правишь — чай, не трава…
— А вы кто такие будете? — спрашивает Одноок, вынимая ноги из стремени и спускаясь на землю.
— Из Новгорода с посадником Мирошкой ко Всеволоду прибыли.
— Да возов-то почто со сто?
— Дары с собой привезли, беседу ведут Мирошка с князем.
Стал Одноок, ворча, проталкиваться к теремному всходу: кого плечом оттирает, кого пузом. Пока добрался, вспотел — даром что на дворе мороз.
У всхода людей было помене, все нарядные — будто на праздник собрались. Важно стоят друг против друга, бороды чесаные солнышку выставили на обзор — одна другой краше. Словиша на самом верху спиной прислонился к точеной стоечке, нога за ногу перекинута, рука поигрывает плеточкой.
— Ты куды, Одноок? — отстранил он боярина. — Ко князю пущать никого не велено.
— Никак, глаза тебе застило, Словиша, — сказал Одноок. — Протри зенки-то.
— Не моги, боярин. Кому сказано?
Проглотил Одноок обиду, задержался на последней приступочке, покачал головой.
— До тебя с земли и шестом не досягнешь… В чем не уноровил, прости, — и поклонился ему шутейно большим обычаем [129]. — Да вот скажи-ко мне, Словиша, не видывал ли ты где сынка моего Звездана?
Отпрянул от стоечки Словиша, мутные, будто спросонь, глаза вперил в Одноока:
— Мать честна…
И заорал, оборачиваясь в сени:
— Звездан!
— Тута я, — появился Звездан на всходе.
Защемило у Одноока сердце, схватился он за грудь, покачнулся, едва посох не выронил. Поддержали его сзади служивые:
— Эко побелел ты, боярин.
— Никак, задохнулся от людности…
Слезы блеснули у Одноока на глазах, поздоровался он с сыном в охапочку, вскудрявил его мягкие, как шелк, волосы, а после отстранил от себя да как завопил надрывно:
— Ах ты, сучий сын! Вот ужо привечу я тебя, чтобы батьку гневить было неповадно!
Да и влепил Звездану затрещину, посох подъял над головой:
— Убью!
Повисли на его плечах отроки, Словиша посох вырвал из рук.
— Почто крик? — вышел на крыльцо Кузьма Ратьшич. — Кто смеет мешать князю думу с Мирошкой думати?..
Еще совсем недавно у каждого на дворе были свои дела, а тут подался народ ко всходу, не в силах перемочь любопытства: виданное ли дело — у князя свару домашнюю заводить?
— Не серчай, Кузьма, — остепеняясь, поклонился Ратьшичу Одноок. Одернул шубу, глаза отводя в сторону. — Виноват я, что не сдержался.
Кузьма быстро смекнул, что к чему. Пряча улыбку в пушистых усах, поглядел на Звездана:
— Сыскалась потеря… Глянь-ко, от счастья оторопел. Что стоишь, яко пень? Пади в ноги отцу, поздоровайся.
— Поздоровались уж, — буркнул Звездан, с опаской глядя на Одноока.
— Иди сюды, сынок, — ласково протянул боярин руку. — Приехал я на княж двор одвуконь. Заждался я тебя.
— Ты, Звездан, отца-то не гневи, — сказал Словиша. — Не упирайся, повинись. А я к вам ввечор загляну. Так ли, боярин?
— Все истинно так и есть, — с готовностью отвечал Одноок. — Приходи, Словиша. Завсегда рады будем.
Улицей ехали молча, не обронив ни слова, вошли к себе в избу. В избе тоже молчали, сидели друг против друга на лавках, положив на колени руки.
— Ты мне про себя, Звездан, не сказывай, — начал нелегкий разговор боярин. — Ты мне про Вобея скажи.
Понял Звездан, к чему клонит отец, вспомнил суму Вобееву, набитую золотом, вспомнил, как бросился на него конюший на Великом мосту. И горько ему сделалось, что не долгой радостью радовался Одноок и гневается не оттого, что сына едва не лишился, а потому, что пошарили в его заветном ларе.
— Чего нет, того уж назад не вернешь, — сказал он со спокойной разумностью, поразившей Одноока. — Пристал ко мне сам Вобей, как надумал я уходить. А про золотишко не ведаю. Не я его брал, не мне и ответ держать. Словил я Вобея в Новгороде, да упустил: сунул он мне ножичек под ребро. Вот погляди.
И, заголившись, показал заросшую тонкой кожицей отметину.
Снова, как на княжом дворе, защемило Однооку сердце.
— Не для себя старался я, не для себя копил — о тебе думал, Звездан, — сказал он, растирая ладонью грудь. — Но нет в тебе ни почтения, ни сыновней благодарности. Осрамил ты меня на весь Володимир и про то не ведаешь.
— Сам осрамил ты себя, Одноок, — отвечал Звездан, отцом его не величая. — А то, что скрал у тебя Вобей золотишко, то не беда. Ни радость не вечна, ни печаль не бесконечна. Ишшо утешишься.
— Не тебе меня утешать, — сказал, потупясь, боярин. — Не тобою нажитое куды как легко другому прощать.
— Прости — и сам прощен будешь…
— Эвон куды хватил, — усмехнулся Одноок. — Шибко рассудительный стал. Зря я тебя учил грамоте.
— Ученого не переучить. А с сего дни ты мне не указ, Одноок. Того, что на княжом дворе было — как кричал ты и поносил меня при народе, — в другой раз я тебе не спущу. Попомни.
— Како не попомнить, — прищурился Одноок. — Твори, бог, волю свою, а моя в доме крепка. Обронил ты паруса, Звездан, — плыть тебе все равно некуды. О мое плечо попросишь опереться.
— Твое плечо ненадежно. Жаден ты на всякое зло, на добро скуп.
— А куды ни ступлю, везде — первое место мне… С чего бы это?
— Не хвались, покуда жизнь-то иным боком не повернулась.
— У меня повернешься, — сжал Одноок ладонь в жилистый кулак. — Ты, сынок, в меру мою не дошел, оттого и хвалишься.
Голос его вдруг снова стал бархатным и ласковым:
— Ну да ладно. Неча ходить вокруг да около. Словиша обещался к вечеру быть, позови ключницу…
Зябко Звездану в избе. Но не оттого, что холодно (печи в морозы топили люто), — оживало в памяти недавнее…
…Мирошка пришел от Мартирия насупленный и злой. Кинул шубу на лавку, сидел, зажав руки в коленях, смотрел на Словишу решительным взглядом.
— Снова мужики ведут разговоры. Прознали про Ефросима. Тревожатся.
Было такое. Звездан сам видел, как скапливался на торгу народ. Жгли костры, грелись. Храбрились. Подстрекали себя разными слухами:
«Ефросим-то, слышь-ко, среди нас обитается. Зорили его избу Мартириевы людишки. Нынче прячется в посаде…»
«Не, старца на Волхове видели. Сказывали, будто спихнули его в полынью и мальца с ним заодно. Шибко плакал малец».
«Сидит Ефросим у владыки в порубе — никуды не делся. Жив он».
«Кабы жив был, так объявился… Весточку послал…»
«Стерегут его».
«Проклял Новгород Ефросим — вот и весь тут сказ. Ушел в свою обитель. Осерчал».
Гулкие голоса разрывали морозную неподвижность:
«С Мартирия спросить, куды подевал игумена».
«Мирошку потрясти. Он с владыкой заодно!..»
«Сговорились они старца извести!..»
«Всеволоду продались…»
Люди знающие говорили так:
«Слушок до нас докатился, будто звал к себе Мирошка на двор Бориса Жирославича, Никифора-сотского и Иванка с Фомою. Подбивает ехать ко Всеволоду, всем миром стоять за Мстислава Давыдовича. Ярослав-де нам не люб…»
«Не возьмем Ярослава!..»
Волновалась толпа — то на торгу гудела, то, зашевелившись разом, откатывалась на Великий мост…
— Все, — сказал Мирошка, — завтра же снаряжаю обоз ко Всеволоду.
— Пустое задумал ты, — пробовал отговорить его Словиша. — Князь наш Ярослава тебе нипочем не уступит…
То, что на крайний случай было припасено, Мирошка никому не сказывал. А ведь не кто иной, как сам же Словиша, его, по Иоаннову наущенью, на ту мыслишку натолкнул — брякнул про Всеволодова сына да и прикусил язык: будто бы случайно изо рта выпало.
А Звездан как услышал, что ехать пора настала, так и оробел — раньше-то только и было, что разговоров — когда-никогда, а возвращаться во Владимир, — нынче же всего одна ночка впереди осталась.
Не стал мешать ему Мирошка прощаться с Гузицей. Оно и видно, что парню не по себе, да и сестра словно бы остамела.
Сладко целовал Звездан девушку в податливые уста, крепко прижимал к груди, плакал, когда ночь была на исходе. Отступила тьма, прорезался в ставни узенький лучик.
— Прощай, Гузица.
— Прощай, Звездан.
— Когда-то еще свидимся?..
Вились-развивались по лесам да вставшим рекам длинные пути-дороги. Торжок проехали, а все не смолкает тоска. Слышится ему голос Гузицы: «Ой, лишенько мне. Ой, кровушка заходится».
В душной ли избе, у лесного ли огонька — стоит перед глазами Звездана Гузица: «Едва узнав, кинул меня, соколик».
На владимирском порубежье во сне приходила, кроткой улыбкой к себе заманивала, к щеке прикладывала жаркую ладошку.
Просыпался Звездан, вскакивал, шарил рукой по холодному ложу.
Гуляла метель по полям, по рекам — задувала робкие следы саней. Словиша радовался, горячил коня: «Сроду такого не бывало, чтобы стронулся на поклон сам новгородский посадник. Крепко припек его Всеволод. Да и нам хвала. Ловко обошли Мартирия — знамо, локти кусает владыко, да поздно».
2
Не пришел к Однооку Словиша, а ждали его с великим нетерпением. Всеволод призвал дружинника в свои покои, был озабочен, расспрашивал про дела новгородские; слушал внимательно.
Мирошка, бывший у него перед тем, юлил, заверял в верности Новгорода, жаловался на бедность, но на Всеволодовы прямые вопросы, возьмут ли они к себе Ярослава, отвечал уклончиво.
Князь быстро смекнул, что не зря тряс боярин свое брюхо по зимним неторенным дорогам, не зря навез с собою в дар столько мягкой рухляди [130], серебра и золота — думал его умилостивить, думал: кто-кто, а он, Мирошка, сможет уговорить Всеволода.
— Не бранись, княже, а выслушай меня со вниманием, — сказал он наконец, приступая к главному. — Не супротив тебя хочу говорить, а за людишек наших, коих ты, про то я ведаю, любишь, яко своих родных сынов. Совсем измучила их смута, великая ненависть пала промеж них, а заморские купцы правят подале от наших пределов — неспокойно стало на дорогах. Кому охота терять свой товар? Новгороду же без торговли не бывать. На том стоим издревле.
— Не только без торговли, — спокойно поправил Мирошку князь. — Не проживет Новгород и без опольского хлебушка. Ставили уж и брат мой Андрей, и я заслоны подле Торжка. Упрямы будете — поставлю сызнова. И не потому, что не люблю новгородцев и беды им желаю — все мы люди русские, — потому что пастыри их боле о своем радеют, нежели об общем благополучии…
— Что ты такое сказываешь, князь! — ужаснулся Мирошка. — Мы всегда ходили по твоей воле, а ежели кто и противился, то это не мы…
— Гонцов к Рюрику тож не вы посылали?
— Был грех, — признался Мирошка. — Но ежели дашь ты нам Мстислава Давыдовича, то и смуте конец.
— Ярослава берите, — нахмурился Всеволод. Не нравилось ему, как юлил Мирошка, как оглядывался на Никифора-сотского, сидевшого угрюмо в своем углу. Иванок и Фома жались на лавке, в беседу не встревали, но все слушали и мотали себе на ус. Хорошо это приметил Всеволод и копил на них смутный гнев — вот такие, поди, и орут на вече громче остальных, сбивают с толку простаков. Один только Борис Жирославич нравился ему. Глядит спокойно, глаз от князя не воротит…
Наскучило Всеволоду торговаться с Мирошкой. Дернул он плечом и встал.
— Не сложилась наша беседа, посадник.
Все тоже встали. Мирошка, пересилив себя, упал ему в ноги:
— Не отказывай нам, княже. Всем миром тебя просим. Не хочешь Мстислава, так и быть по сему. Дай нам сына своего во князья.
Вспотел Мирошка, светлая капля повисла на носу. Все завопили разом:
— Просим сына твово, княже. Пущай сын твой владеет Новгородом!..
Вона куды клонил посадник! Насторожился Всеволод. Речи вроде знакомые. Кажись, Иоанн склонял его к тому же…
— Куды как просто удумал ты, посадник, — улыбнулся Всеволод, снова опускаясь на столец. — Отколь ветер подул?
Мирошка вздохнул облегченно. Вздохнули и Иванок с Фомой. Никифор-сотский и Борис Жирославич остались стоять, как каменные. Мирошка сказал:
— Ниотколи ветер не дул. Самого только что осенило: будет у тебя в Новгороде свое неусыпное око.
— А ежели возвернешься ни с чем? — пригасил надежду Всеволод.
— Забросают новгородцы каменьями, — честно признался Мирошка. — Ни с чем возвращаться мне нельзя.
— Никак нельзя, княже, — впервые разинули рты Иванок с Фомой.
— Вона как ласково заговорили, — посмеялся над ними Всеволод. Помедлив, сказал раздумчиво: — Что до срока кручиниться? Слышь-ко, Кузьма, — оборотился он к стоявшему за его спиной Ратьшичу.
— Слышу, княже.
— Все ли уразумел?
— Как не уразуметь, княже, — проговорил с ухмылкой Кузьма.
— Ну так исполни, что ныне скажу: посадника Мирошку Нездинича да Фому с Иванком из города не выпущать…
— Все исполню, княже, — с готовностью откликнулся Кузьма. — В поруб кинуть али ино повелишь?
Медля с ответом, Всеволод хитро прищурился. У Мирошки вытянулось лицо, Фома с Иванком испуганно отпрянули.
— Да где это видано, княже, чтобы послов кидали в поруб? — пролепетал посадник, беспомощно глядя на неприступного Кузьму.
— Какие же вы послы? — удивился Всеволод. — Послы приходят с княжеской печатью, а вы — сами по себе…
— Дары принял по обычаю, встречал, како предками заведено…
— Дары, Кузьма, вернешь с Борисом Жирославичем и Никифором. Пущай везут, откуда взяли. У нас и своих мехов некуды подевать.
— Срамишь не меня, княже, — сказал, укрепляясь в правоте своей, Мирошка. — Срамишь Великий Новгород.
— Ростов тож был великим, — осадил его Всеволод. — А нынче кто в нем сидит?.. Ничо, совладал с Ростовом, с вами тож совладаю. Ишшо под скомороший гудок напляшетесь. Ишь, за какой обычай взялись: того хощем, а тот нам не по нраву. Ровно девка на выданье, которая ото всех нос воротила да так и осталась вековухой. Мартирий, владыко ваш, превыше князя себя возомнил. Так я и тебе, Мирошка, и ему напомню: не я из вашей руки кормлюсь, а вы из моей!.. Не будет вам князя, окромя Ярослава.
Грозно говорил с вольным Новгородом Всеволод.
— Верно сказываешь, княже! — не утерпел просиявший Кузьма. — Будя им воду-то мутить.
— Ты вот что, — сказал Всеволод, отдышавшись. — Ты Мирошку-то с ентими в поруб не суй. Пущай ходят на воле. А приставь к ним Словишу — они старые знакомцы… И нынче же снаряжай гонца к Ярославу: ступай, мол, в Новгород — так Всеволод повелел.
Уходили послы с княжого двора будто в воду опущенные. Словом друг с другом не перекинулись. Только в отведенной им избе подле Волжских ворот очухались, когда уж Кузьма вышел и топот его коня затих на бугорке.
— Лихая грядет година, братья, — говорил Мирошка, кляня себя за уступчивость и за то, что падал перед Всеволодом на колени. — Плохо просил я князя, не с того конца начал веревочку тянуть, старый дурак.
— Полно виниться-то тебе, — успокоил его Фома. — Како ни тянул бы, все едино бы вытянул. Не потому Всеволод упрямится, что плохо кланялись, а потому что задумка у него така: не тебя одного, боярин, зрит он на коленях, а всю нашу вольницу. И мыслю я, что ныне перечить ему срок не настал. Взбаламутил народ Ефросим, покачнул Мартирия, а окромя владыки опираться нам более не на кого.
— Вечер плач, а заутра радость, — вслед за Фомою принялся уговаривать Мирошку Иванок. — Перетерпим покуда — не год и не два еще простоит над Волховом Новгород. Не так уж много воды утечет, как все переменится. А покуда упрямиться нам нечего. Пущай Никифор с Борисом сами скажут слово на вече, пущай встречает народ Ярослава хлебом-солью. Переможем. Нам не привыкать…
Как пришел во Владимир обоз новгородский о ста возах, так и отправился в путь обратный. Сдержал свое слово Всеволод — не велел принимать даров. Сам следил, чтобы и шкурки беличьей где-нибудь не затерялось.
Отъехали новгородцы — и снова водворилась во Владимире благостная тишина.
Падали снега, заметали санные пути озорные ветры.
Скоро про Мирошкино посольство и думать все позабыли.
3
Сидя на низенькой скамеечке у ног Досифеи, Пелагея вязала носок и говорила елейным голосом:
— Праведна ты, матушка. Про то все вокруг сказывают. Была я давеча в городе, слушала, как про тебя в народе толкуют. Хорошим людям роток не заткнешь, а правда все едино наружу вылезет…
— Да что же там такое про меня говорят? — спрашивала, улыбаясь, игуменья.
— Ох уж и как сказать, не решаюся, — вздыхая, отвечала Пелагея. — Добра, мол, и доверчива. Молитвами себя иссушает, за черниц вступается, в обиду не дает, а про то не ведает, что пользуются ее кротким нравом, что иные из монахинь, отправляясь в мир, за спиною ее творят непотребное…
Сказала — и замерла, глазами стриганула по лицу игуменьи, но тут же снова уткнулась в вязание. Быстро замелькали в ее руке спицы.
— Что-то мне невдомек, Пелагея, — сказала игуменья с досадой и нетерпением. — Яснее выразись, да покороче. О ком речь твоя?..
Пелагея вроде и смутилась.
— Языце, супостате, губитель мой, — пролепетала она, еще ниже склоняясь над вязаньем. — Забудь, о чем сказывала, матушка.
— Нет уж, постой, — возвысила голос игуменья, — веди, коли начала, до конца.
На добрую ниву упало, будто случайно роненное, зерно.
— Ослобони, матушка…
— Сказывай!
— Да мало ли что бабы говорят…
— Растопырила слово, что вилы, так не молчи, — донимала Пелагею игуменья. Всполошилась она, теперь не унять.
— Говорить беда, а молчать другая, — кротко промолвила Пелагея. — Про кого сказывать буду, тебе и невдомек.
— Уж не на Феодору ли возводишь хулу? — догадалась игуменья.
Тут и вовсе сделала вид, будто застеснялась, Пелагея. Уронила спицы, спрятала в руки зардевшееся лицо.
— Ой, что наделала-то я! — запричитала с раскаянием. — Како Феодоре погляжу в глаза?
— Врешь ты все, Пелагея, — с трудом проговорила игуменья. — Напраслину возводишь. Нет пропасти супротив завистливых глаз. Давно приметила я, что не по душе тебе Феодора.
— Слепа ты, матушка, по доброте своей, — пролепетала Пелагея. — Да будь что будет — все, как на исповеди, скажу. Лик у Феодоры ангельский, веришь ты ей — про то я знаю. Правду сказывает тебе в глаза, а о главном помалкивает. Ты ее допроси-ко с пристрастием, не слыхивала ли она чего про Веселицу?..
— Вроде знакомо мне имя сие…
— Как же, как же, — заторопилась Пелагея. — Не раз, поди, слыхивала. Купчишка был во Владимире, да весь вышел. Нынче у Мисаила обитается…
— Не он ли избу жег у Одноока?
— Про то не ведаю. А будто бы так, на торгу болтают… Далеко ниточка-то вьется.
— Озадачила ты меня, Пелагея, — растерянно пробормотала игуменья.
— Феодору-то призови… А еще лучше — бабу нашу, вратаря-то, потряси.
— Ее-то трясти почто? — удивилась Досифея.
— А как же? — уже не скрываясь, подливала масла в огонь монахиня. — Все через нее и шло.
— Да неужто оскверняла Феодора обитель?! — так и привстала игуменья.
— Хаживал Веселица-то к нам на двор, хаживал…
Досифея задохнулась от гнева — экая срамота! А ведь едва не приблизила она к себе Феодору — хорошо, господь вовремя остановил.
— Кликни-ко бабу, — повелела она монахине. Пелагею словно ветром выдуло из кельи.
Явилась сторожившая монастырские врата высокая баба с костистым мужичьим лицом, поклонилась Досифее поясно. Глазки бегают затравленно, глядеть на игуменью не хотят.
— Куды воротишься, почто на меня не глядишь? — спросила Досифея.
— О чем ты, матушка? — притворно удивилась баба.
— Экая смирная какая, — сказала игуменья, — святее ангела…
— Загадками сказываешь, матушка, — прочистила горло баба. Не нравился ей ласковый голос игуменьи. Руки Досифеи хищно сложены на коленях, спина напряженная, прямая.
— Да уж не запирайся, сестрица, — проговорила стоявшая у двери Пелагея. — Чего там!
— А я ничего, — растерянно оглянулась на нее баба. Мужичье лицо ее вытянулось, над верхней губой выступили капельки пота.
— Ежели правду будешь говорить, то игуменья тебя, может, и простит, — сказала Пелагея.
Видать, не один только опознанный грех водился за бабой. Сморщив низкий лоб, она думала напряженно, беззвучно шевеля губами.
— Долго ждать-то ишшо? — спросила, теряя терпенье, Досифея.
— Дык я ведь… — потопталась баба. — Дык я ведь…
— О Феодоре сказывай, — помогла ей Пелагея.
— О Феодоре-то? — прищурилась баба. — Да что о Феодоре-то?..
— Как Веселицу водила, как отворяла ему врата обители в полночь-заполночь, — говорила за нее Пелагея.
— Отворяла ли врата? — допытывалась игуменья.
— Дык я ведь…
— Отворяла, сказывай?!
— Отворяла, — созналась баба и спешно перекрестилась. Лицо ее стало маленьким, с кулачок, — почернело, усохло, покрылось мелкими морщинами. И вся она осунулась и обмякла, так что одежда вдруг словно повисла на ней, как на огородном пугале.
— Не вели гнать, матушка! — вдруг завопила она, падая на колени. — Бес попутал. Явился во образе смиренной монахини, речьми сладкими совращал, услаждал слух мой серебром и златом.
— Единый ли раз отворяла Веселице врата, сказывай? — продолжала, как и прежде, неподвижно сидевшая Досифея.
— Многожды, многожды отворяла, — лбом колотила в половицы баба. — Прости заблудшую, матушка!..
— Бог простит, — сказала игуменья. — Изыди.
— Ась?
— Изыди, говорю, — повторила игуменья.
Баба еще раз приложилась лбом к половицам, встала и, часто моргая глазами, попятилась из кельи.
— Эй, погоди-ко, — остановила ее игуменья.
— Что велишь, матушка? — сминая в руках подержанный плат, вся обратилась во внимание баба.
— Про то, что была у меня, никому не сказывай, — строго-настрого наказала игуменья. — Феодоре не обмолвись.
— А я уж было в тебе изуверилась, — сказала она Пелагее, когда баба вышла. — Думала, из зависти наговор, а вот оно как обернулось. Знать, и меня ввела Феодора во грех. В смирение ее поверила, приблизить хотела…
«Вовремя я обмолвилась», — подумала Пелагея со злорадством.
— Нынче бы их не спугнуть ненароком, — забеспокоилась игуменья. — Как бы чего не пронюхали…
— Словечко-то промеж нас сказано. Упреждать Феодору некому, — успокоила ее Пелагея.
Взгляд у монахини прямой и преданный. Движенья легки и вкрадчивы. Голос понижен до шепота.
Ближе к вечеру наведалась она к Феодоре. Вошла неслышно, остановилась на пороге.
Феодора, не видя ее, по буквам, вслух, читала Евангелие. Прикусывая губы, старательно водила по книге пальцем, морщилась и сердилась на себя — плохо давалась ей грамота, да и мысли были далеко: близился назначенный час — скоро появится Веселица. До книги ли ей, когда сердце исполнено трепетного ожидания!..
Тонкая свеча на столе издымилась, ветер, задувавший в щелястое оконце, полоскал узенькую каемку пламени.
Стоя в дверях, Пелагея невольно залюбовалась Феодорой — хоть и в иноческом смиренном одеянии, а была она дивно хороша. Лицо — как спелое яблочко, брови вразброс, будто ласточкины крылья, светлая прядка волос выбилась из-под платка, затенила белый, как у боярыни, без единой складочки лоб.
Пристальный взгляд ее оторвал Феодору от книги и сладких дум. Ресницы ее дрогнули и, приподнявшись, отворили синь-глубину прекрасных доверчивых глаз.
— Ах ты, касаточка моя, — молвила Пелагея, бесшумно подступаясь к Феодоре. — На дворе-то месяц в снегах полощется — такая благодать!.. А ты сидишь, пригорюнилась, на лице печаль…
— Нечего мне печалиться, — ответила, пытаясь подняться, Феодора, но рука Пелагеи надавила ей на плечо. — Да нездоровится что-то.
— Уж не жар ли у тебя? — забеспокоилась монашка, прикладывая ладонь Феодоре ко лбу. — Горишь вся, спасу нет… А ну-ка, глянь сюды.
Но глаза Феодоры были чисты, а в прищуре еще и лукавы. Смешинка плавала в глубине зрачка.
«Радуется, — подумала Пелагея. — Час назначенный недалек…»
— Прилегла бы ты, отдохнула, — посоветовала она Феодоре. — К утру-то все и пройдет… Кваску бы испила.
«Не обмолвилась баба», — успокоенно думала Пелагея. Глядела на Феодору с нежностью. Ворковала в ушко.
— Да что это нынче с тобой? — удивилась Феодора.
— Весною снега запахли. Солнышко-то вычернило санный путь — скоро зиме конец…
О весне ко времени говорила Пелагея. И все в глаза Феодоре заглядывала, все в глаза.
Отстучало на дворе медное било — вздрогнула Феодора, со страхом поглядела на Пелагею. А ей только того и нужно, только взгляда этого она и ждала.
4
Кто скажет, на какой излучине, на каком повороте дороги ждет человека счастье? Иной раз кажется, беда накрыла тебя черным крылом — и нет просвета. Но вдруг пойдет валить удача — уж и некуда вроде, а она все прет и прет…
Веселице же на этот раз с самого начала только не везло.
Последняя была у него ветхая сермяга — и та ночью у печи прогорела: пали на нее с очелка [131] случайные угольки. Стал кобылу седлать — лопнула подпруга.
— А, чтоб тебя! — выругался Веселица и сел, пригорюнясь, на пенек. Мисаил в ту пору из лесу еще не вернулся — ушел пострелять зайцев, да припозднился что-то. Солнышко на ночлег собралось; из чащи потянуло холодком — не выбраться нынче Веселице к Феодоре: лыжи-то старец с собою прихватил.
Сидел Веселица на пеньке, почесывал затылок, но ничего хорошего не выскреб. И такая взяла его тоска, что выть захотелось. Все ему здесь опостылело, ни на что бы глаза не глядели.
Ломал он себе голову, что бы такое выдумать. А выдумывать ничего и не надо было. Ежели бы выдумал, то еще бог знает, как бы все повернулось. Досифея-то слов на ветер не бросала — ждали уж его на монастырском дворе нанятые мужики с кольями, баба-вратарь поглядывала на дорогу с нетерпением: хотелось ей выслужиться перед игуменьей, тяжкую провинность свою смыть чужой кровушкой…
Ехал по лесу, по извилинам да по кочкам, заплутавший в чаще княжеский возок. В возке княжичи сидели, а по бокам от возка скакали Четка и Ратьшич.
— Сызнова тебя не в ту сторону понесло, — ворчал Кузьма, пригибаясь под отяжелевшими от снега ветками.
— Куды ж ее увело? — дивился Четка, всматриваясь в нетронутый снег. — Была дорога — и нет. Сколь раз по ней проезжал…
— Послушался дурака — вот теперь и плошай, — сказал Ратьшич.
— Ничо, боярин, во Владимир и малая тропка приведет, — и себя и Кузьму успокаивал Четка.
По лесу расползались вечерние тени. Возок встал.
— Теперь куды? — спросил правивший лошадьми мужик.
Четка носом потянул воздух.
— Чо голову-то задрал? — разозлился Кузьма. — Ты под ноги гляди: аль не видишь, что забрались в болото?
— Дымком, кажись, нанесло, — сказал Четка. — Эй ты, — обратился он к мужику, — нет ли тут жилья поблизости?
— Жилье-то есть, — отвечал неторопливо мужик, — да место гиблое… Куды ни сверни, везде топь да вадеги [132].
— Нешто и дороги никакой нет?
— Как же, есть и дорога. Чуть ране свернули бы — тут тебе и Мисаилова изба. Да нам-то почто к отшельнику.
— Не твое дело, — сказал Ратьшич. — А ну-ка, поворачивай.
Свернули на тропинку. Недолго покувыркались на сугробах, выехали в реденький березнячок. Сквозь белые стволы вдали завиднелась избушка. Кони покорно объезжали молодые деревья. Увязая в снегу, возок мягко кренился, полозья с трудом продирались сквозь белые буруны.
Кузьма Ратьшич с Четкой, обогнав возок, первыми выехали на поляну. Возле избы на пеньке сидел грустный парень.
— Ты кто такой? — сдерживая коня, наехал на него Ратьшич.
Вскочил Веселица с пенька, захлопал глазами: сон это или явь? На всякий случай сдернул с головы шапку.
У коня пар идет из ноздрей, всадник — в дорогом полушубке, на боку — меч, в руке — верткая плеточка. Одна бровь строго приподнята, другая приспущена; глаза смотрят насмешливо.
А как глянул Веселица на другого вершника, так и голоса лишился от испуга: признал он в нем того самого попа, у которого увел кобылу. А про то и запамятовал, что вытаскивал его из воды.
«Вот и пришло время расплачиваться», — подумал он, оглядываясь по сторонам.
— Ты головой-то не крути, — остерег его Кузьма. — Ты на вопрос мой честь по чести сказывай.
— Веселица я…
— А что ж не весел? — пошутил Кузьма, спрыгивая с коня и перекидывая через переднюю луку поводья.
Четка, позадержавшись в седле, глядел на Веселицу со вниманием.
— Слышь-ко, воевода, — окликнул он Кузьму.
— Чего тебе?
— А парень, кажись, мне знаком…
— У тебя кажный второй во Владимире знакомец, — сказал Кузьма, однако тоже пристально посмотрел на Веселицу.
— И кобылка мне знакома, — продолжал Четка. — И седло… То княж конь!
— Натрясло тебя, поп, — вот и привиделось.
Веселица медленно попятился за угол сруба.
— Кузьма! — заорал Четка. — Хватай его, не то сгинет в чаще!
Сам кубарем повалился с коня, бросился Веселице под ноги. Переплетаясь, покатились оба в снег. Сел Четка верхом на Веселицу:
— Теперя не сбежишь…
И — оборачиваясь к Кузьме:
— Вот он самый и есть, что Констянтина из Лыбеди вызволил.
— Да неужто? — радостно удивился Кузьма, подходя поближе. — Ну-ко, Веселица, сказывай подобру, ты ли это?
— Ну я, — сказал Веселица, отряхивая с дырявой сермяги снег.
Четка прыгал вокруг, размахивал руками, наскакивал, легонько ударяя его то в бок, то в плечо.
— Он это, он, Кузьма!
— Ладно, — сказал Кузьма раздумчиво. — За то, что помог ты княжичу, честь тебе и хвала, а за то, что коня увел…
— Без надзору была кобылка, — занудил Веселица. — Ты уж на меня не гневайся…
— Всякому делу свой счет, — остановил его Кузьма. — И ответишь ты не мне, а самому князю. Садись-ко да перед нами правь, кажи дорогу ко Владимиру…
— Да как сяду-то я, коли подпруга лопнула? — сказал Веселица, еще надеясь, что Кузьма передумает. — Заутра сам приду, не сумлевайся.
— А нам опять плутать по лесу? Э, нет, — погрозил пальцем Кузьма. — Ты мужичок хитрой, а мы и того похитрей. Отдай ему своего коня, Четка, а сам ступай в возок.
Четка сунул в руки Веселице поводья, шепнул ему: «Не робей» — и сел в возок.
— Трогай! — шумнул Кузьма.
Веселица огляделся вокруг, надеясь увидеть Мисаила. Но старец все не шел, и на поляну уже опускалась ночь…
Когда они подъехали ко Владимиру, небо было усыпано звездами, и среди них яснолико красовалась полная луна.
Как раз в это время и должен был Веселица трижды, по-условному, постучать в ворота монастыря.
Пелагея только что покинула Феодорину келью, а игуменья в последний раз наставляла бабу, сторожившую у ворот:
— Ты шибко-то не суетись, откинь щеколду — да и в сторонку. Остальное дело не твое… Поняла ли?
— Как не понять, матушка, все поняла.
В подклете при лучине сидели трое нанятых мужиков с добрыми, простодушными лицами и тянули жидкое монастырское вино. Первую корчагу они прикончили и принялись за вторую. Когда вошла игуменья, встали и поклонились ей поясно.
— Глядите мне, третьей корчаги не поднесу, — проворчала Досифея, недовольная мужиками.
— Наше дело хрестьянское, — сказали мужики.
— Чрева у вас бездонные…
— Впрок запасаемся, матушка.
— Кликну, так чтоб сразу ко всходу…
— Колья-то у нас припасены, — плутовато заулыбались мужики.
— Бог в помощь, — сказала игуменья и вышла. Мужики, перекрестившись, снова сели к столу.
Долго придется ждать мужикам Веселицу, долго будет встревоженная Досифея выглядывать в окошко — так и утро наступит, а никто не придет к монастырю, не постучится условленным стуком, трижды, в глухие ворота…
Не в монастырь, а за Лыбедь повела за собою судьба Веселицу. На счастье повела или на горе — откуда ему знать? Но не свернуть с тореной дорожки, не ожечь плеточкой коня: зорко присматривает за Веселицей Ратьшич, едет, чуть поотстав, напевает что-то в обметанную белым инеем бороду.
Тихо на улицах Владимира, не видно ни души, попрятались люди в свои избы. Только в положенных местах прохаживаются ночные сторожа, постукивают нога о ногу, прячут озябшие руки в просторные рукава вывернутых мехом наружу шуб…
Быть бы худу, да бог не велел. Встречали Веселицу в княжом терему, как желанного гостя. В прожженной сермяге сажали на крытые рытым бархатом лавки, сама княгиня к нему выходила, держа за руки княжичей — Юрия и Константина.
Пьян был Веселица, но не от медов, улыбался, как дурень на чужом пиру. А пир-то был в его честь.
— Князь идет, князь, — прошелестело в переходе.
Ратьшич сбоку стал, положив руку на меч, Веселица с Четкой пали на колени.
А когда вошел Всеволод, запершило у Веселицы в горле, сперло ему дыхание.
Всеволод приблизился, руку возложил ему на плечо, велел встать. И все придвинулись, чтобы лучше слышать князя.
— Спас ты мое любимое дитя, Веселица, — сказал он. — За князем доброе дело не пропадет: проси, что хошь.
— Ничего мне не нужно, княже, — отвечал ошалевший от счастья Веселица — Дозволь только тебя зреть.
Все засмеялись. А Кузьма сказал:
— Смелые люди — опора твоя, княже. Возьми к себе Веселицу.
— Отчего же не взять? — подумав, согласился Всеволод.
На том и пили чашу крепкого вина.
Утром Варвара сожгла в печи Веселицыну ветхую сермягу. Дал ему Ратьшич одежду справную, острый меч и коня. А еще насыпал в шапку золота — князев душевный подарок:
— Гуляй, Веселица!
Глава двенадцатая
1
Не в добрый час прибыл в Новгород Авраам. Еще в Торжке почуял он неладное: на торгу скопились возы и телеги, на купецком подворье стояли шум и гвалт. А еще бросилось Аврааму в глаза, что стражи у городских ворот поприбавилось, а на валах трудились мужики, подновляя стрельни [133] и городницы.
— Не приняли новгородцы князя Ярослава, изгнали его из своей земли, — говорили знающие люди. — Владыко, слышь-ко, заупрямился.
— Быть беде, — подтверждали тревожные слухи другие. — Прислал Ярослав в Торжок своих воевод, самого ждем с дружиною со дня на день. Не отступится он от Новгорода.
— Всеволод за его спиной. Нездинича-то с дружками держит во Владимире неспроста. Куды Мартирию податься?
— Будто бы слал он в Чернигов гонцов, сына хощет просить у тамошнего князя…
— Вона что замыслил…
— Усобица княжеская — купечеству разорение… А на чем Новгород держится? Опять же на наших горбах.
— На дорогах грабеж. Вышли из лесов добытчики…
— Худо. Ох, как худо-то…
Про добытчиков верно на купецком подворье сказывали. На самом подъезде к Торжку едва унес от них Авраам ноги.
Ночевали в небольшом селе. Привыкнув к тишине и порядку во владимирских пределах, о беде и не помышляли, спали, не выставив сторожей. Стояли на дворе последние зимние холода, в избе было тепло и тесно.
Среди ночи вошли трое, остановились на пороге, дверь за собой не прикрыв. Из темных сеней доносилось похрустывание смороженных половиц. Там тоже были люди — по-хозяйски, шумно передвигали лари и кадушки.
Один из вошедших сказал:
— Во сне порубим али как?
— Все тебе, Вобей, кровушки мало, — отвечал другой. — Пущай сами перед нами казну вытряхивают.
— Эй, купцы!
Весь разговор их, от начала и до конца, слышал Авраам. Лежал он на дальней лавке, в углу, все не мог уснуть — давил надоедливых клопов, чесался, с мукой таращился в темноту: хоть бы утро поскорей. Мужиков он увидел сразу, но не сразу понял, что это чужие. Даже шумнуть хотел, чтобы прикрыли дверь.
Купцы после окрика зашевелились, заподымались с лежанок, ворча и протирая глаза. Иные переворачивались на бок, снова укладывались спать. Мужики пинками будили лежавших.
Кто-то деловито высекал огонь у печи, раздувал трут — высвечивалось бородатое, тронутое оспинками лицо. Со двора вошли еще двое.
Купцы стояли в исподнем, ежились на холоде, совали под мышки озябшие руки.
Все было благочинно и тихо. Обирая купцов, мужики пошучивали:
— Собирались кулики, на болоте сидючи, — они суздальцы и володимирцы…
— Грех да беда на кого не живет? Ничо, купцы, ишшо набьете свою мошну, а мы людишки бедные, у нас ножички вострые…
Все, что набирали, сваливали в мешок. Распахивали рубахи, срывали обереги и кресты. Шубы тут же на себя напяливали, примеряли сапоги и чоботы. На Авраамов кожушок никто не позарился. Образок у него нательный — из черного железа. Золотишко в суконную шапочку зашито.
Вытолкали его из избы:
— Ковыляй с миром, старче. По всему видать, в чужую стаю залетел.
Выскочил Авраам на двор, а там от факелов светло, как днем. Мужики подушки трясут — с ног до головы в перьях. Суетятся между возов, друг у друга тянут из рук добычу. Направился Авраам к тыну, а за спиною — окрик:
— Погоди-ко, мил человек. Дай-ко шапочку твою пощупать.
Подошел кривоногий малый, дернул шапочку к себе — Авраам к себе потянул.
— Глянь сюды, — сказал мужик и вытащил из-за спины топор.
Посунулся Авраам вперед да как хрястнет мужика промеж глаз. Никому невдогад было, что сила в его руках немалая, а с виду старец, — что зубилом, что кулаком, одинаково владел Авраам.
По опыту знал зиждитель — долго еще будут отхаживать мужика, а он за плетень мотнулся — и в чащу.
С утра-то, захотели бы тати, легко бы сыскали его по следу. Но кому приспеет охота тащиться в темень по сугробам? А вот купцам зато худо пришлось: озверев, иных из них посекли бродяги. Но в том вины Авраамовой нет…
Из Торжка до Новгорода ехал Авраам с другим попутным обозом. Едва пробились купцы на санный путь — долго не выпускали их за городские ворота. Пришлось раскошеливаться, не одного воротника задабривать, но и Ярославова сотника.
Торговался он из-за каждой ногаты. Купцы — народ прижимистый. Говорили, пытаясь его усовестить:
— Не стыдно тебе хоромы на горе нашем ставить?
— Как же, на вашем горе хоромы поставишь, — был сотник человеком знающим, зря денег не брал. — А не нравится, так сидите в Торжке.
В Торжке сидеть купцам не хотелось: разный был у них товар, иной терял силу — солодела на морозе пшеница, зацветали от сырости парча и бархат. Вот и развязывали кошели, отсыпали сотнику серебро и золото полною мерой, поругивали его, не злобясь (все-таки выпустил, как ни домогался!), а про то не догадывались, что и по дороге ждет их немало бед (сотник охрану им не дал).
Однажды утром появился на стоянке отрок на взмыленном жеребце, крикнул с седла:
— Люди торговые, помышляйте о себе: выставил Ярослав подле Ильмень-озера крепкую заставу. Всех, кто ни подойдет, обратно в Торжок возворачивает.
Опечалились купцы, стали крепкую думу думать. Но как ни крути, а Ярослава все равно не миновать.
Тот же отрок им подсказал:
— Ежели назад возвращаться не хотите, собирайте по две куны с воза. Так и быть, проведу вас кружным путем — есть тут потаенная тропочка.
Ишь ты, еще одного мытника [134] бог послал. Осерчали купцы, подступились бить расторопного отрока. Но кого-то надоумило:
— А что, как правду он нам сказал? Что, как и впрямь ждут на Ильмени Ярославовы дружинники?.. Две куны не ахти какое богатство, а все спокойнее будет. Не обедняем.
Еще немного поторговались купцы — без торговли какая сделка? — собрали отроку деньги всем миром.
Свернули со столбовой дороги, пошли лесом. Отрок впереди, обоз позади петляет. Долго шли. Наконец выбрались к незнаемой речке.
— Катите по льду, купцы, — сказал отрок. — А подле Новгорода — деревушка. Не доезжая, вправо свернете — вот вы и дома…
— Хитрой ты, парень, а мы тебя похитрее, — ответили купцы. — Взял ты с нас по две куны, так веди до самого места.
— Нет, — сказал отрок, — коли хотите, чтобы вел я вас до Новгорода, платите еще по куне с воза.
— Чего захотел! — осерчали купцы. — Мы не коровы, чтобы нас на каждой версте доить.
— А не согласны, так добирайтесь сами.
Взгрел отрок плетью своего коня — и только снежная пыль позади. Кинулись было за ним вослед, не догнали. Сошлись в круг задумчивые.
— Не печалуйтесь, купцы, — успокоил их Авраам. — Я здесь все вдоль и поперек исходил. Ежели доверитесь мне, доведу вас до самого места.
— Еще один выискался! — закричали купцы. — А ты по сколь возьмешь с воза?
— Не нужно мне ваших кун, — ответил Авраам. — Сам я с обозом иду, сам в Новгород поспешаю…
— Тебе что! Ты без товару, тебе Ярославовы дружинники не страшны — иди на все четыре стороны. Наведешь ненароком на заставу.
— Все может быть, — сказал Авраам. — Зазря обещать не стану.
— Вот видишь!
— А тут и глядеть нечего. Без меня вам только и остается, что поворачивать на Торжок.
Долго ругались и спорили друг с другом купцы. Но те, которых было больше на кругу, перебороли.
— Веди, — сказали Аврааму, — а кто не с нами, пусть ступает, как вздумается.
Только пять возов и повернули по старому следу. Остальные тронулись дальше.
Долго ползли по реке и через леса. На третий день выехали на опушку и глазам своим не поверили: вот он и Новгород.
— Ловко ты нас довел, старик, — хлопали купцы Авраама по спине и по плечам, — а мы тебе не верили.
— Погодите радоваться до поры, — остановил их Авраам. — Въедем в городские ворота — тогда и празднуйте.
— Да нешто и под стенами озорует Ярослав?
— Ему Мартирий не указ, ему Всеволод голова…
Ехали по чистому полю, растянувшись на полверсты, погоняли коней, переговаривались шепотом. С опаской поглядывали по сторонам.
Из города, одетые по-ратному, высыпали навстречу им пешцы. Спрашивали с изумлением:
— Да вы отколь будете, соколики?
— Из Торжка, — отвечали степенные купцы, радуясь, что без урона дошли до Новгорода.
— Давно ли снял заставы Ярослав?
— А мы с ним здоровкаться не пожелали.
— Как же так?..
— Шли лесочком-боровичком, впереди — старичок с палочкой… Эгей, купцы! — спохватились на возах. — А где же наш провожатый?
Стали окликать да искать Авраама — а его как и не бывало. Мужики суеверные переглядывались:
— Не сама ли богородица послала нам поводыря?..
2
Не приходили вести из Чернигова. Ярославовы разъезды сновали по дорогам, перехватывали гонцов.
Тощали новгородские житницы, а подвоза не было. В иных домах, что победнее, давно уж не пекли пирогов, даже вкус их позабыли.
Сошли наступившие было оттепели. Зима лютовала на исходе.
А во Владимире стояли теплые дни. Напористое солнце все сильнее и сильнее пригнетало осевшие снега, заполоскались в небесной сини первые кучевые облака.
Выйдя пополудни из избы, Мисаил гладил разогретые стволы берез, прислушивался к сорочьему стрекоту, примечал, как оплавлялся по верху сугробов крупитчатый снег, а по обращенным к солнышку скатам оврага верба осеребряла свои черные почки.
«Дивны дела твои, о господи!» — раздумывал Мисаил, сидя на поваленной осине и почесывая за ушами разлегшегося подле его ног Теремка.
Тут же рядом, на проталинке, ковырялся в прошлогодней траве неторопливый и важный грач, оценивал Теремка внимательным блестящим глазом. Но псу было не до птицы, беспокоил его понурый и неразговорчивый хозяин, вот уже второй день слонявшийся вокруг избы без дела. С того вечера это началось, как возвратились они из лесу с подстреленными зайцами.
Теремок вертелся вокруг отшельника, становился лапами ему на грудь, обнюхивал пахнущую теплой кровью добычу, а Мисаил, склоняясь, разглядывал оставленные на дворе следы.
— Не к добру это, не к добру, — говорил он, обращаясь к Теремку. — Много людей наведалось к нашему тихому месту, много было коней, и даже возок стоял неподалеку. Кого бы это занесло в такую глушь?..
Тревога хозяина передавалась Теремку, пес поскуливал и быстро шарил носом, обнюхивая следы. Наверное, он мог бы и побольше рассказать Мисаилу, но не дал бог ему языка.
— Тварь ты бессловесная, — вздыхал отшельник. — Ну что глядишь на меня, что уставился?
А про себя так размышлял: «Не князева ли кобылка навела на избу мою чужаков?»
Близко от истины был Мисаил, но до конца случившегося так и не разгадал. Да и кому бы в голову такое пришло, что скачет по дороге к его избушке Веселица на отменном коне — сам румяный и статный, — а с ним еще двое молодых гридней… Что сердце Веселицы поет от счастья, а рука в тонкой рукавице нетерпеливо подергивает поводья, ноги, обутые в ладные сапоги, крепко сжимают конские бока…
Такое и во сне не приснится. О таком и думать боялся Мисаил, а думал о том, как темно и холодно в княжом порубе, как плачет Веселица на мокрой соломе и смотрит в недосягаемое небо, которого осталось ему на этом свете всего-то с крохотный клочок.
Кабы все-то знал Мисаил, кабы мог заглянуть в княжеское переменчивое сердце, не перепугался бы так, услышав, как продираются сквозь дремучий сухостой разгоряченные от бега кони.
Вскочил, шерсть взлохматил дыбом на загривке Теремок, лая попятился за угол избушки, а из лесу прямо на Мисаила выехали трое верховых.
— Свят-свят, — прошептал старик, ища глазами, куда бы и ему схорониться. Да разве спрячешься где, ежели поляна перед избой всего-то с овчинку? «Вот и по мою душу прибыли», — свесил он обреченно вдоль туловища руки.
А тот, что первым выехал на поляну, с виду вроде бы и не гневлив, живо спрыгнул с коня и, ведя его под уздцы, приблизился к старику с поклоном.
— Здрав будь, Мисаил.
— И ты будь здрав, — отвечал Мисаил, глядя в сторону. Уж очень хотелось ему оказаться в эту минуту где-нибудь в самом кромешном уголке заледенелой чащи.
— Да неужто не признал ты меня? — удивился верховой. — Почто глядишь, как на незнакомца?
— Ты ли, Веселица? — удивленно замахал руками Мисаил и попятился от него, как от привидения.
— Я, старче, кому еще быть, — отвечал Веселица, улыбаясь открыто. — А это мои товарищи.
— Господи, — пригляделся старик, не веря своим глазам. — А и впрямь Веселица!..
И он неловко обнял молодого дружинника, отстранился, перекрестил ему лоб:
— А ну-ка сказывай, отколь раздобыл боевого коня?
— Отколь раздобыл, про то длинный сказ, а худого обо мне и думать не моги, старче, — шутливо погрозил ему Веселица пальцем. Проник он в потаенные мысли отшельника, по глазам прочел скрытую думу. — Не брал я чужого коня, на дороге не озоровал, а все, что есть при мне, все князев подарок!..
— С чего ж это так расщедрился наш князь? — все еще не доверяя ему, ехидно спросил старик.
— Ты лучше нас в избу кличь да вздувай пожарче огонь, — не отвечая на его вопрос, проговорил Веселица, — а беседа наша степенная впереди.
Теремок тоже признал своего старого знакомца, выскочил из-за избы, поскуливая, завертелся у его ног. Жмурясь от счастья, Веселица ласково гладил его, приговаривал:
— Ты гостей-то не тревожь, Теремок, ты на них не рычи — то люди добрые.
Пес ластился и к гридням, словно понимая сказанное.
За обедом рассеялись Мисаиловы страхи.
— Так вот куды тебя приподняло, — говорил он, угождая Веселице, как только мог. — Вот куды вывело…
— Нынче я большой человек, — хвастался Веселица. — Ежели что попросишь, исполню вмиг.
— А мне ничего и не надобно, — отвечал Мисаил. — Я богу себя посвятил. Почто срамишь меня пред людьми?..
— Не серчай, старик, — хлопал его по плечу Веселица. — Худа я тебе не желал, а все, что сказано, — от души.
Привезли с собой нежданные гости меды и мясо (на Мисаиловы-то припасы не шибко разгуляешься!), с дороги ели в охотку, пили во славу божию, стараясь не тревожить старика.
Мисаил пил мало (и то воду), ел и того меньше, глядел на Веселицу с удивлением, думал с грустью: «Чему радуешься, Веселица? Во славу чью пьешь меды?.. Была перед тобою открыта дорога ко спасению, а выбрал ты путь иной».
Много соблазнов в миру. Доведись Мисаилу предстать пред ясные очи князя, не стал бы он просить у него ни коня, ни одежды, ни денег. А так сказал бы ему:
— Все это, княже, суета и тлен. А о душе своей я сам позабочусь. Не сразу великое делается. Из малых ручейков наполняются живою влагой великие реки. Так и я своими молитвами очищаю себя от скверны, отсекаю зависть и злобу и, очищенный, предстану пред очи Его: «Великий боже, сделай так, чтобы все люди стали добры и бескорыстны. Чтобы богатый роздал богатство свое и надел рубище, а волк возлюбил ягня! Тогда и сбудется воля твоя, тогда и будет царствие твое — во веки веков…»
Хотел порадовать старика Веселица, а чувствовал — расстаются они навсегда.
— Прощай, Мисаил. Не поминай меня лихом, — говорил он, украдкой вытирая набежавшую слезу.
— Бог с тобой, Веселица, — отвечал Мисаил. — Почто плачешь?
— Шел к тебе — радовался. А нынче задумался… Праведный ты человек, старче, а мне другая пала судьба. Одному богу ведомо, где истлеют мои косточки. Прощай.
Вскочил он на коня, взмахнул плеточкой. И все друзья его — за ним вдогонку.
Поглядел им вслед Мисаил, перекрестил запоздало и снова побрел в свою избу. Что-то отяжелели его ноги. Сил едва хватило дотащиться до лавки, сел он да так и просидел без движения до самого наступления темноты.
А Веселица, выбравшись из чащи, не в город погнал коня, как было с гриднями сговорено, а поехал к монастырю.
Удивились товарищи:
— Куды понесло тебя, на ночь глядя?
— Есть у меня одна заботушка. А коли не хотите со мною ехать, то возвращайтесь, я и без вас справлюсь, — ответил им Веселица.
Гридням тоже ударила в голову сладкая брага. Были они люди смелые и до всякого нового дела охочие.
— Нет, в город мы без тебя не вернемся, — сказали они. — К Мисаилу ехали, ты нас не прогонял. Говори, что задумал.
Таиться от них не стал, доверился дружкам своим Веселица.
— А то и задумал, что раздумать невмочь. Живет в монастыре сестра Феодора, ждет меня не дождется. А что делать да как мне быть, и сам не знаю. Вдруг увижу ее, а не увижу, так передам весточку.
Выслушав, стали дружки отговаривать Веселицу:
— Не путайся ты с черницами, добра с ними не наживешь. Подыщем тебе во Владимире купеческую дочь — вот и милуйся. Игуменья у них шибко строга. Как бы не накликать беды.
Не стал Веселица слушать их осторожных речей. Хоть и разумны были их речи, а сердце ему другое подсказывало. Как ни уговаривали его гридни — все впустую. Делать нечего, поехали вместе. Такого закона промеж них не было, чтобы товарища оставлять в беде.
Приехали к монастырю. Ворота на запоре. За стенами — покой и благолепие.
Свесившись с седла, Веселица постучал в доски черенком плети. Открылась оконница [135]:
— Чего тебе?
У бабы бородавки на желтом лице, глаза испуганные.
— Куды ломишься? Ступай отсюдова! — пропищала она и тут же исчезла. Зря колотил Веселица в доски — никто больше не показывался в оконнице.
— Вот видишь, — сказали ему, смеясь, дружинники. — Нечего было круга давать. Сидели бы сейчас посиживали в городе, сладким медком баловались.
Так и уехали они ни с чем.
А баба, согнувшись пополам, стояла перед игуменьей ни жива ни мертва.
— Ей-ей, не обозналась я, матушка. Он это, как есть он это и был!
— Поди, глупая, проспись, — отвечала Досифея, хмурясь. — Неча было от молитвы меня отрывать.
Выслушав игуменью, и вправду усумнилась баба: мало ли молодцев носит нечистая вокруг монастыря! Может, водицы хотели испить. А может, с делом каким прискакали из города.
— Ступай спроси, чего им надобно, — сказала Досифея.
Но, когда баба вернулась и снова выглянула в оконницу, перед воротами уже никого не было.
3
Озаботил Звездан Одноока, совсем чужим стал после возвращения из Новгорода. Был и сам Одноок в молодости горяч и нетерпим, но и до женитьбы и после жил по заведенному дедами порядку. Князя не хулил и милостью его кормился.
«Надо невесту сыну сыскать», — решил он и в решении своем утвердился с такою крепостью, что в тот же вечер, как только подумал об этом, тут же и отправился к соседу своему боярину Конобею. Была у Конобея дочь на выданье — не красавица, но девка приятная и рассудительная.
Давно не хаживал Одноок по гостям, да никто его в гости к себе и не звал. Побаивались Одноока во Владимире — как бы ненароком не растряс чужой мошны загребущий сосед. У всех еще на памяти свежо было, как вытянул он у боярина Кошки богатое угодье за Уводью.
Но Конобею и самому пальца в рот не клади: увертливый был боярин и кормился не с одних только своих земель — купцы были первые люди на его дворе, а как уж он с ними дела вел, про то только догадки строили, а толком никто ничего не знал.
В самое время приехал Одноок к своему соседу. Еще на улице заприметил он возле его терема большое движение, а только распахнули перед ним ворота, он так и ахнул от удивленья — возку его не только встать, но и въехать было некуда во двор. Куда ни глянь — повсюду телеги и кони, люди суетятся, у заборов и житниц прямо на подтекшем снегу свалены кучами тюки и бочки. А еще поразили Одноока верблюды — кони не кони, коровы не коровы: стоят, гордо задрав длинные морды, желтыми зубами медленно перетирают жвачку. У боярского всхода на корточках сидят незнакомые люди — длинноухие лисьи шапки скрывают пол-лица, глаза у них узкие, припухшие, широкие скулы обрамлены реденькими бородками. Улыбки на тонких губах.
— Дорогу боярину, дорогу! — кричал возница, размахивая над головой кнутом.
Не сразу пробился возок ко всходу. Остановился у самой нижней приступочки. Узкоглазые людишки шарахнулись в стороны, загалдели что-то по-своему.
По лесенке к возку скатился Конобеев тиун: одна рука на отлете, другую протянул боярину, помогая выбраться из возка.
— Рад, рад видеть тебя, Одноок, — сказал Конобей, здороваясь с соседом своим в обнимку.
В тереме было жарко, на слюдяных окнах плавилась ночная изморозь. У стола сидел незнакомый человек, глядел на Одноока со вниманием. В узких глазах — тоска бесконечных дорог, на широких скулах — бронзовая печать нездешнего загара. Рядом помятый старикашка, склоняясь к незнакомцу ухом, ловит его быстрое лопотанье.
— Сказывает, прибыл он из Чаньваня, — переводил старичок, напрягая мысли и услужливо заглядывая в глаза Конобея. — А еще сказывает, что шел он сюда целых десять лун…
— Что-что? — перебил старика Конобей.
Незнакомец быстро закивал головой, промычал что-то и растопырил перед собой пальцы обеих рук.
— Десять лун, — повторил толмач [136].
— Ага, — догадался Конобей и сел на перекидную скамью перед столом. Одноок сел рядом.
Незнакомец рассказывал, а толмач переводил:
— Далеко на север, на юг, на запад и на восток раскинулась Поднебесная. С одной стороны берега ее омывает великий океан, с другой сторожат Снеговые горы — Сюэ-Шань. Голубые горы — Цин-Лин и Небесные — Тянь-Шань — величайшие в мире. Обойдя полмира, я не встречал на своем пути ничего более величественного и прекрасного. Недаром пять вершин У-Тай-Шаня глубоко чтятся в Поднебесной и собирают у своего подножья жаждущих приобщиться к верховному духу паломников. В Поднебесной — самое большое в мире Сухое море — Хань-Хай и самые многоводные реки — Цзян и Хэ. Народ, живущий по их берегам, занимается земледелием, разводит скот и собирает многочисленные плоды. В разные концы земли протянулись дороги, ведущие из Поднебесной…
Рассказывая, незнакомец покачивался на лавке, полу-прикрыв глаза. Но, чем дальше он говорил, тем грустнее становилась его речь:
— Великие боги разгневались на мою страну. Невиданный народ появился на севере от ее границ. Он кочует со стадами по бескрайним степям, и его бесчисленное множество. Испокон веков через Су-Чжоу и Туен-Хуанга лежали торговые пути на Памир, в Индию, в Хорезм и на солнечный закат. И деды мои, и отцы ходили по этим тропам. Они тоже были купцами, и никто, страшась Поднебесной, не смел подымать на них алчной руки… Все изменилось после смерти бесстрашного императора Гао Цзуна. Великий Шелковый путь стал небезопасен для купцов. С большими предосторожностями пробираемся мы ныне через степь. Жители бегут из городов, спасая свой скарб и детей. Кочевники коварны и беспощадны… Они жадны, скупы и свирепы. Они убивают людей, как скот. Главное богатство их состоит в конях, верблюдах, овцах и быках. Они верят в единого бога, но не молятся ему, а приносят ему жертвы, ибо верят, что он охраняет и умножает их и без того бесчисленные стада…
— Рассказ твой страшен, — сказал, выслушав купца, Конобей, — но скажи нам, как зовут этот удивительный народ?
— Мы называем его мэн-гу, — сказал купец, — а еще мен-гули и мэн-ва. Сами же они зовут себя монголами. Наши мудрецы считают, что они — потомки хун-ну и дун-ху.
Без торговых людишек оглохла бы земля.
— Экие чудеса творятся на белом свете, — удивлялся, слушая купца, Конобей. — Кажется, вот он, рядом, земной окоем [137]. А попробуй приблизиться к нему — и дальше отступит черта. И еще дальше, и еще… Где же тогда самый край?
— Все это сказки, — промолвил Одноок. — Не верь купцу, Конобей. Встречался я и ране с людишками из Чаньваня, а про такое не слыхивал.
И стали они, отпустив неурочного гостя, обговаривать свои дела. Но что-то плохо клеилась у них беседа. Нет-нет да и взглядывал Конобей в окно с тревогой во взгляде.
— Вона как расшевелил тебя купец, — улыбался Одноок беззаботно, — да тебе-то к чему лишние хлопоты? Али мало на Руси своих забот?.. Десять лун добирался узкоглазый до Владимира, а наши враги под боком.
— А ведь и верно, — согласился с ним Конобей, — чего печалиться по-пустому?
— Да и всей печали все равно не избыть. Сколь ни живу на свете, а всегда у соседа беда. Всех досыта не накормишь, каждому мил не будешь… Выставляй, Конобей, на стол меды — пришел я к тебе вместе думу думать.
Только тут разглядел Конобей, что и впрямь Одноок не такой, как всегда: и платно [138] на нем новое, и сапоги; борода на две стороны расчесана частым гребешком.
И все-таки невдомек Конобею, что у соседа для главного разговора припасено.
А припасено было у Одноока такое, что едва отворил он уста, как тут же забыл Конобей про чужедального купца и свои тревоги.
— Сказывай-ко, Одноок, не спеша, да все по порядку, — обратился весь во внимание Конобей.
— Да что еще сказывать-то? Все, почитай, сказано.
— Значит, хочешь ты оженить Звездана?
— Молодость рыщет — от добра добра ищет. У холостого дурные мысли в голове, — отговорился легкой прибауткой Одноок.
— На слова ты, сосед, скор. Но дела такие скоро не делаются, — задумался Конобей.
— Да разве я тебя погоняю, — обиделся Одноок. — Все честь по чести обговорим, а там и зашлю сватов.
— Что ж, обговорить и я не прочь. Моя Олисава давно на выданье, а жениха все никак не пригляжу…
— Далеко глядел, а рядом не заметил.
Конобей посматривал на Одноока с прищуром. Сосед себе на уме: как бы на чем не прогадать.
— А многого ли запросишь за невестой? — будто бы между прочим сказал.
— О том ли забота? — живо откликнулся Одноок. — Многого не запрошу, да ты и сам малого не дашь: дочь-то у тебя одна.
Сойдясь лбами над столом, стали прикидывать:
— Ну, деревеньку, ну, соболиные ловы…
— Угодье-то за Клязьмою, что против Волжских ворот.
— Клин уступлю за Лыбедью…
— Болонья [139] там у тебя да кочкарник…
— Лесок с бортями…
Откинулся Одноок от Конобея, красное лицо еще больше покраснело от негодования.
— Почто по-малому торгуешься, боярин? Не милостыньку пришел у тебя просить — сына сватаю.
— А я дочь отдаю — не худую ворону.
Вперили соседи друг в друга взоры — сцепятся, того и гляди. Уж и позабыли, с чего пошел разговор.
— Все не по тебе, Конобей, — сказал Одноок. — С тобою, как погляжу, и до страшного суда не сторгуешься.
— Руки у тебя, сосед, загребущие, — молвил Конобей. — Верно про тебя во Владимире сказывают: у собственной матери титьку откусил… А ишшо надумал свататься. Не Звездана пришел ты прочить Олисаве в мужья, а не дает тебе покоя та землица, что жаловал мне в позапрошлом году князь за верную службу. Ишь, чего захотел!
Одноок вскочил, замахнулся на Конобея, но тут же спохватился: не место затевать громкую ссору. На чужом дворе — не на своем. Конобей тоже горяч: чего доброго, велит выкинуть за ворота на потеху всему городу.
— Ладно, — сказал боярин. — Стереги свою Олисаву, покуда вовсе не усохла. Мы в накладе не останемся.
— Да и нам не о чем тосковать, — едва сдерживая гнев, отвечал Конобей. — Сыщем жениха и понадежнее. За твоим-то Звезданом только горюшка хлебать. Хворый он, да и умишком слаб…
— Гневайся, да не согрешай, — оборвал соседа Одноок. Взял шапку, посох в руку — и за дверь.
Китайцы на дворе стояли толпой, боярина взглядами провожали, как невидаль. Уминая раскисший снег, тоскливо кричали верблюды. Пахнуло весной, вызвенивала под крышами первая редкая капель, волновала чужая речь, чужие повадки и лица.
Одноок забрался под остывший мех, крепко зажмурил глаза. И, думая о Конобее, вдруг увидел перед собою чужое скуластое лицо.
«А где он — Чаньвань?» — мелькнуло отрешенное. Мелькнуло — и ушло в небытие. Сжимая под шубой кулаки, в волчий мех прошептал боярин:
— Ужо напляшешься у меня. А ну, как доберусь до тебя, Конобей!..
И закричал правившему верхами мужику:
— Чо глаза вылупил?! Трогай!..
Обваливая полозьями рыхлый снег, возок дернулся и бойко завилял по улице, распугивая справляющих шумную свадьбу тощих собак…
4
То, что с Однооком у Конобея стряслось, недоброму дню было только начало. А за углом, как выровнял ход свой возок напрямки к Серебряным воротам, поджидала боярина еще одна кручина.
От края до края, по всей неширокой улице, ехали навстречу Однооку веселые дружинники. Прерывая шутки свои громким смехом, сидели они на конях, подбоченясь, глядели свысока на жавшихся к плетням девок и баб.
— Не спеши, востроглазая! — кричали они. — Погляди-ко, нет ли среди нас твоего суженого?
Бабы отмахивались:
— Езжайте, куды путь наладили, кобели.
Девки закрывали лица, смущенно опускали глаза.
Слева — сугроб до вершины плетня, справа — раскисшая лужа. Если бы посторонились дружинники, посередке — самое место, чтобы проехать боярскому возку. А они сгрудились на твердом, глядят озорными глазами, что будет делать возница.
Мужик остановил коней. Боярин высунулся из возка:
— Почто стал?
— Ехать некуды…
Одноок поглядел на дружинников насупясь:
— Посторонитесь-ко, молодцы…
— Чего захотел, — отозвались дружинники. — Али места тебе на улице мало?
— Места много, а возок по сугробу не пройдет.
— Нешто нам взбираться на плетень?
Стали переругиваться да препираться. «Обнаглели князевы отроки, — подумал Одноок. — Вовсе не стало от них житья».
Пригрозил, потрясая посохом:
— Вот пожалуюся князю!
Еще больше развеселил дружинников. Стали они над ним измываться не таясь. Собрали толпу, говорили ставшим на обочине мужикам:
— Чо рты разинули? Али не видите, что застрял боярский возок?
— Как не видеть, — отвечали понятливые мужики. — Да делать что?
— Выпрягайте возок, волоките боярина на плечах, чтобы ножки не замочил.
Мужикам два раза сказанного не повторять. Стали они, давясь от смеха, выпрягать лошадей, ловко работали — дело привычное. Не успел боярин и опамятоваться, как уж подняли его и понесли с веселым криком по улице. Возок, собравшись гурьбой, толкали впереди. А сзади ехали, будто следя за порядком, дружинники.
— Никак, весну встречать наладились? — спрашивали, дивясь веселому шествию, встречные.
Всем смешно, одному Однооку не до смеха. «Уж не Конобеевы ли это проделки?» — даже такое подумалось. Еще жгла его обида на соседа. А один из голосов в общем гомоне показался ему вдруг знакомым. Пуще всех старался, злее остальных подшучивал.
«Господи, — обмер боярин, обвисая на чужих плечах. — Как же сразу-то меня не осенило: Веселица это!»
Обернулся, шаря глазами в толпе, выискал взглядом бледное лицо под высокой, на лоб сдвинутой шапкой — он.
Напирая конем на толпу, дружинник подъехал ближе.
— Что, Одноок, признал ли старого знакомца?
— Как не признать, — прохрипел, беспомощно барахтаясь, боярин.
— Великую оказал я тебе честь.
— Куды уж боле.
— Еще попомнишь Веселицу…
— Да не забуду.
— Помни, боярин. И впредь меня стерегись… Ишшо не расквитался я с тобою за свой должок.
— Да и за мною не постоит…
— Гляди, от чести такой не загордись, — предупредил Веселица. — И злобствовать не моги…
— Надел чужой-то опашень [140], а душа черная, — прохрипел Одноок, подозревая в Веселице ряженого.
— Как бы не оступиться тебе, боярин, — посмеялся над его намеком Веселица. — А опашень мой. И конь мой. И меч. И друзья вокруг меня мои.
— Тати вы, а не князевы дружинники! — закричал Одноок, видя приближающихся от Серебряных ворот вершников. — Эй, люди!..
— Почто крик? — подъехал к веселой толпе Кузьма Ратьшич.
Веселица, и глазом не моргнув, пояснил через голову боярина:
— Застрял Одноок в сугробе, вот и попросил я у мужичков подмоги, чтобы перенести его на сухое.
Притихшие мужики, пряча улыбки, опустили боярина на дорогу.
— Врет он все, — сказал Одноок, оправляя одежду и разыскивая глазами посох. — Потряси его Кузьма. Не дружинник он вовсе, а тать.
— Слышь-ко, Веселица, — сказал Кузьма, — как поносит тебя Одноок за услугу.
— Как не слышать, — спокойно отвечал дружинник. — Сам Одноок господин гневу своему. А моя совесть чиста.
Осекся боярин, глазами растерянно захлопал, то на одного, то на другого переводит взгляд. Кузьму-то он с каких еще пор знает. В нем сомнения нет. Князева правая рука. Так почто не сробел Веселица? Почто глядит прямо, коня не поворачивает? Почто не вскинет Кузьма плеть, почто сам лукавится?
Мужики тем часом, все еще забавляясь, быстро впрягли коней в возок, попятили их к боярину.
— В кривом глазу и прямое криво, — сказал, внимательно разглядывая Одноока, Кузьма. — Не доволен тобою князь, боярин. Еще вечор меня спрашивал: почто не вижу на дворе своем Одноока, почто сторонится моих глаз. Али верно про него сказывают, что хуже мытника на торгу, только тем и занят, что шарит по чужим бретьяницам?.. То не мои слова — князевы, а ты над словами его подумай.
Пригнуло боярина к земле, ноги мелкой дрожью охватило, посох вывалился из ослабевшей руки.
— Да что же это на белом-то свете деется? — поперхнулся он слабым горлом. Носком за носок задевая, мягкой походкой доплелся до возка, сунулся на подголовники, откинулся, затих.
Кузьма плеточкой полоснул коня по мягкому крупу. Напомнил вслед удаляющемуся возку:
— Не забудь про сказанное, боярин!
«Как забыть», — давясь от злобы, пробормотал в бороду Одноок. Возвратившись во гневе, на своей усадьбе боярин суд чинил и расправу.
Возницу велел сечь у себя под окнами.
— За что? — опешил тот.
— А это, чтобы впредь неповадно было с мужиками вместе насмехаться над боярином.
Стараясь угодить Однооку, возницу били нещадно. Показывая окровавленную спину, спрашивали:
— Еще добавить, батюшка?
— Добавьте еще.
И снова били, и снова спрашивали. И снова говорил боярин:
— Не жалейте. Холоп не медведь — шкуры ему не попортите.
Потом били конюшего — за то, что кони не резвы. Потом приволокли пред окна выжлятников [141]. И их били — за то, что на прошлой неделе не взяли псы подраненного зайца. Квасника били за плохие меды, а сокалчего [142] — за недоваренную кашу.
Взъярился было и на Звездана Одноок, но сын вмиг осадил его:
— Я тебе не кобылка безответная. Како сядешь, тако и слезешь.
— Не зная, греха не сотворю, — сказал боярин. — Но ежели проведаю, что с Веселицей водишься, привяжу покороче.
— Неча по-пустому грозить, — отвечал Звездан. — С сего дня я в твоем тереме не жилец. Уйду на князев двор ко гридням. Тошно мне на тебя глядеть.
И не в острастку сказал, не потому, что хотел попугать боярина. Смекнул Одноок, что не жить ему с сыном под одной крышей. Испугался, что станет Звездан делить имущество.
— Ныне люди напрасливы, сынок, — заговорил он покорным голосом. — Ежели уйдешь от меня, чего только не наговорят.
— Я наговора не боюсь, — твердо ответил Звездан. — Хуже того, что есть, все равно не будет. А твои грехи на свои плечи перекладывать я не охотник. Сам творил зло, сам и ответ держи. Нет у тебя сына…
Когда складывал он одежку в суму, стоял Одноок за его спиной и охал:
— Платно-то я тебе справил прошлой зимой. Шесть локтей сукна взял по две резаны за локоть…
Выкинул сын платно, взялся за сапоги.
— Хороший сафьян, — вздохнул Одноок. — По куне торговал за пядь.
И сапоги выбросил Звездан.
— Ничего не надобно мне, Одноок, а всего-то дороже вольная волюшка.
«Кажись, и впрямь сын-то у меня дурачок, — подумал боярин и вспомнил сказанное Конобеем. — Нынче все, что мое, при мне».
Ушел Звездан, не приняв от отца благословения. Вздохнул Одноок с облегчением и, кликнув тиуна, велел принести долговые доски. До поздней ночи сидел, промышляя прибыток. Радовался — шире стал жить народ, вольготнее; бояре, и купцы, и отроки, и гридни друг перед другом выхваляются, кто пир справит краше, у кого цепь на шее серебряная, а у кого золотая, чья баба льняной сарафан надела, а чья парчовый, у какой девки в кокошнике больше светлых камушков. Купцы товара своего задаром не отдадут, а деньга у Одноока завсегда не переводится.
Вон княгиня заказала у мастеров-искусников носилки золоченые, так нынче и боярыням такие же подавай. Тоже взялись за ромейский обычай, а Однооку — что? Опять же прибыль, опять же все на руку. Пущай себе тешатся.
Не зря про боярина говорят, что жемчуг он горнцами меряет, что удит в мире золотой удой. А про то еще не все ведают (как проведали бы, так ужаснулись), что обращает боярин иных безнадежных должников не то что в закупов, а в обельных холопов [143] — скольких уж добрых молодцев продал Одноок в безутешное рабство!.. Сколь уж мыкается таких неудачников на чужбине!..
Жаль, Веселица от него утек, не достали до него цепкие Однооковы руки.
5
В избе у Словиши неприютно и пусто: ни ковров заморских, ни пушистых полавочников. Давно не скоблены половицы, в углу, у двери, к стене прислонен березовый голичок. На лавке, скомканный, валяется дорогой кожух. Поверх кожуха — меч в простых ножнах, рукоятка усыпана бирюзовыми камешками.
— Ну и удивил ты меня, Звездан. Вот уж удивил так удивил, — разглядывая приятеля, говорил с укором Словиша. — Знал я, что ты на решенья скор, а такого не ожидал… Боярину только того и надо, чтобы не мотался ты у него под ногами. О том подумал ли?
— Когда думать было? — вскинул на него растерянные глаза Звездан. — Все уж до того передумано. А нынче пути мне обратно нет. Ежели не примешь к себе, обиды не затаю — пойду в другом месте искать приюта…
— Как не приму я тебя, ежели рад?.. Но скажу и другое. Нрав у тебя непоседливый, и обычай беспокойный, — выговаривал приятелю Словиша, втайне радуясь, что сложилась у них откровенная беседа. Однооковы козни — только всему зачин. Сегодня Звездан ушел от отца — завтра еще чего выдумает. Вон, говорят, и про князя смелые речи сказывает. Смелые — да умные ли? Язык блудлив, что коза. Не любит Всеволод, ежели ему перечат. Даже Иоанн впал в немилость. А пуще всего не жалует он молодых задиристых кочетов. — И отколь в тебе столько прыти?
— Скучно мне, Словиша, — пожаловался дружинник. — Пиры — не в радость. Не берут меня ни меды, ни брага. От скоморошьих песен не плясать, а плакать хочется. С чего бы это?..
— Выкинь все из головы, — посоветовал ему Словиша. — Погляди на меня, я ли не удачлив? Или не всякий день для меня праздник?
— Душа у тебя легка — оттого и весел.
— А тебя что за дума кручинит?
— Служим мы князю нашему верой и правдой, — сказал Звездан.
— За то нам и честь.
— Киев под рукою Всеволода. Глядит, как бы Новгород под себя прибрать…
— Почитай, прибрал…
— Крепок наш дом.
— Ох как крепок!
— Злата и серебра боле, чем у кого другого.
— Во всем достаток.
— А лихим людям и резоимцам почто простор? Почто не судимы алчные за алчность свою? Почто лживые за ложь не несут ответа?.. Не одной токмо ратной доблестью умножает князь славу свою, но и, паче того, радея за пахаря и за купца, за ремесленника и прочий люд, — говорил Звездан, загораясь. — Кому, как не князю, вверили они и семью, и имущество, и саму жизнь. Кому?
— Не по зубам мне твои орешки, Звездан, — растерянно отвечал ему Словиша. — А только так я мыслю: гневаешься ты понапрасну. В мире — что в омуте, от веку так повелось. Не нами сие придумано, не нам и ответ держать. А у князя на разуме ты не бывал.
— Вижу, не сговориться нам с тобою, Словиша, — сказал Звездан. — А про то, что сказывал тебе, забудь. Люблю я тебя, за храбрость твою почитаю. Не слушай меня, попусту себя не тревожь.
— И я тебе добрый совет дам, — ответил, положив руку на плечо дружинника, Словиша. — Не всякую думку при людях думай. За иное словечко и дорого бы дал, да не выкупишь…
Поняли они друг друга. Помолчали. Мыслями каждый в свою сторону отлетел.
Вдруг Словиша улыбнулся и, лукаво прищурившись, погрозил Звездану пальцем:
— Вот ведь чудно иной раз подумается. Сидим мы с тобой на лавочке, беседой развлекаемся. А мысли твои да-алече летают. Аль не угадал?
Звездан засмеялся, а щеки заалели, как у девицы.
— Вишь — угадал! — обрадовался Словиша.
— Да о чем ты? — словно бы удивился Звездан.
— Хошь — скажу?
Посмотрел на него Звездан и отгадку в глазах прочел:
— Верно смекнул ты, Словиша. Гузица нейдет у меня из головы.
— Не робей, зазря не кручинься. Покуда сидит у нас Мирошка, свадьба ей не грозит…
Век свой прокачался Словиша в седле, изба его пуста, зато много в городе друзей да знакомцев. Всюду с лаской и приветом встречают удачливого дружинника.
— Со мною завсегда не пропадешь, — похвастался он, собираясь в гости.
Сперва заупрямился Звездан, стал шутливо отговариваться. Но где уж ему Словишу перемочь!.. Еще и солнышко за край земли не пало, а они, поспешая, третьих обходили хозяев. В головушках шумело от выпитого меда, от плясок удалых и складных разговоров.
Дольше всех подзадержались у Морхини. Хлебосолен был кузнец, гостям от души радовался. Работать умел и погулять был великий охотник. Про то все во Владимире знали.
В тот день томился он с самого утра; постучит по наковаленке, погремит пустыми клещами — выглянет на улицу из кузни: не нанесет ли кого господь, чтобы, не греша, угостить жаждущего? Такая у него была привычка — один на один с собою и капельки в рот не возьмет, а ежели кто наведается — тут уж удержу нет.
Долго, так-то томясь, поглядывал он за порог, а как приметил едущих по широкой улице Словишу со Звезданом, как различил их веселые лица, так сразу и смекнул, что другого случая не представится.
Утирая руки передником, вышел он им навстречу с нетерпением и уважительностью во взоре:
— Не проезжайте мимо. Заходите, добрые люди, в избу.
— Недосуг нам гостевать, — поупирались для приличия дружинники. А сами, переглядываясь, попридержали коней.
— Всякому дню своя забота, — отвечал сообразительный кузнец. — Да только куды вам поспешать?
— Любо мне у тебя, Морхиня, — сказал, опускаясь наземь, Словиша. — Словцо у тебя в устах красное про всякий случай — и праведника уговоришь.
— Пить — не грешить, а святых в раю радовать, — расплылся в улыбке кузнец.
Поставили дружинники коней за плетнем, сами вслед за Морхиней вошли в избу. Хозяйка у кузнеца была сметлива — еще на дворе высмотрела гостей через оконце, стала спешно накрывать на стол.
Была она мастерицей большой руки. Приносила пироги с грибами, с капустой и рыбой, выставляла жареное мясо и кулебяки. Морхиня мед и брагу доставал из погреба, в братину выливал, ковшичком расписным наполнял кубки. Хвастался:
— Кубки эти мне еще князем Михалкой дарены.
— Да за что же дарил их тебе князь? — подначивал Словиша, хотя знал про кузнеца все. Да с такого вопроса завсегда начиналось здесь радушное застолье.
— За добрую работу, за отменную кузнь, — отвечал Морхиня, подымая первый свой кубок.
А после третьего кубка рассказывал такую историю:
— Знатно помогли мы, люди ремесленные, князю, когда надумали племяши его, Мстислав с Ярополком, брать навечно владимирский стол. Много народу нагребли они отовсюду, да толку что? Окромя засапожничков у ратников — ни кольчуг, ни мечей, ни сулиц. Засапожнички — ножи молодецкие, да разве с ними во чистом поле устоишь? Стали проворные княжеские тиуны щупать наших кузнецов: кузнецы-братушки, мастера-кудесники, не таитесь, не рядитесь, а коли приспела беда, скуйте нам мечи и копья!.. «Мы бы и рады, — отвечают хитрые кузнецы, — да только негде взять нам кузни. А без кузни, из воздуха, ни мечей, ни копий не накуешь». Торкнулись к одним тиуны, торкнулись к другим, а ответ у всех один: «Нет кузни — значит, не будет и мечей!» Меня ажно плеточкой угощали — до сей поры меточки на спине, — водили к Ярополку. Гневался молодой князь, белой рученькой по столу хлопал — подай, говорит, Морхиня, кузнь, и все тут. «Проведал я от верных людей, что припрятали вы железо, а где — не сказываете. Ежели и нынче мне не скажешь — висеть тебе под причелиной…» У меня от слов таких мороз по коже дерет — жалко с жизнью расставаться, но и братства нашего осрамить не могу. Знаю, где зарыли вечор кузнь, а сказать не могу…
Замолчал Морхиня, приложился к кубку (на этом месте он всегда молчал и пил мед).
— А дале-то что? — не вытерпел Звездан.
— Дале-то? — переспросил кузнец, ждавший вопроса. — Дале-то ничего. Кинул меня князь с другими нашими мужиками в поруб, и ежели бы не Михалка со Всеволодом (дай бог ему многие лета!), ежели не побили бы они племяшей, худо бы нам было. Злопамятен был Ярополк, ремесленников владимирских не любил. От вас, говорил, вся беда и пошла. Кабы не вы, так и не стал бы дядька наш Андрей теснить ростовское и иное боярство…
— Ты, кузнец, бояр-то не всех заодно поноси, — разгораясь от вина, перебил его Звездан (Словиша покосился на товарища с опаской). — Были и промеж них достойные люди…
— Может, и были, — неожиданно быстро согласился Морхиня, не желая заводить ненужный спор. — Да только попрятались они о ту самую пору, слова доброго за князя не молвили.
— Унизил их Андрей, вотчины у иных отобрал.
— Да и бояре ведь тоже были не ангелы, — сказал Морхиня. — Я так смекаю, им и нынче только волю дай… Вся Русь боярину с копыто его коня — он в своем куту хозяин, а до иных ему дела нет.
— Иной-то князь в своем уделе то же, что боярин в вотчине, — возразил ему Звездан. — Оттого и лоскутна, оттого и скудеет земля.
Чудной получался у них разговор. «Без меда их не растащить», — живо смекнул Словиша. — Эй, хозяин! — сказал он. — В гости нас зазывал, а у самого в братинах пусто.
Снова лились меды, и с каждою новой братиной все легче становилась беседа. Двое было пьяных за столом: кузнец и Звездан. Словиша следил за ними с улыбкой: в кубок-то он себе наливал, но больше зубы споласкивал.
Глава тринадцатая
1
Широко расходился Роман на своей Волыни. Раньше думал Владимир, сидя в Галиче, что неуемный сосед его все затеял бахвальством и творил без ума. Теперь же вдруг понял — отойдет его вотчина Роману, едва только тело его свезут в красных санях на отпевание к собору.
Доносили Владимиру, что, окрепнув после полученных в Польше ран, вздумал волынский князь чинить расправу над боярами, припомнив им все былые обиды. «Не передавив пчел, меду не испробовать», — говорил он, с легкостью нарушая досельные обещания и договоры.
Еще больше призадумался Владимир, когда явился к нему прошлым вечером Твердислав, Романова правая рука, боярин умный и предприимчивый, — без дружины, без верных людей, в старом возке, запряженном плохонькими крестьянскими лошадьми, а раньше являлся при всем наряде. Едва ввели его под руки на гульбище [144]: ноги у боярина подкашиваются, опашень в соломенной трухе, борода дня три не чесана.
— Не гони меня, княже, — унижался в ногах Владимира перепуганный Твердислав. — Ежели вернешь на Волынь, головы мне и дня единого не сносить.
— Поднимись, боярин, да говори толком, — остановил его князь. — Что такое с тобою стряслось? Отчего прибыл в чужом возке, яко простой холоп?..
— Беда, княже. Наказал Роман своим отрокам меня имати — шибко осерчал на меня, а за что, не ведаю…
Вдаль простираться на открытом гульбище с вопросами да расспросами Владимир не стал, а звал боярина с собою в гридницу, дворовым баню наказал топить, а сокалчим готовить для себя и гостя ужин.
Когда же попарился Твердислав и отдохнул, когда сели они за накрытый стол, тут и полилась толковая беседа.
— Во смятении ума творит Роман суд неправый, — рассказывал Твердислав, крепкими зубами разрывая курицу. — Чудиновичу и Судиславу ссек головы, Жидяту крепко пытал, все знать хотел, верно ли сказывают, что прочили они меня за пьяным разговором во князья. Эко что выдумал — да какой же я князь, ежели нет у меня на то родового права!.. Слугу моего верного, немого Оболта, бить велел на дворе, покуда не пошла у него горлом руда [145]. А с убогого — каков спрос?..
— Отчего вдруг такое князю загрезилось? — удивился Владимир, пристально глядя на боярина.
— Сдается мне, что шепнул ему про то Жидята. Домогательств не вынес — вот и шепнул, чтобы боле не мучали.
— Шепнул — значит, был разговор? — настаивал князь.
— Разговора не было, а наговор был, — отвечал Твердислав. — Отколь слухи такие пошли, того не ведаю.
— Князю власть от бога дадена, — твердо проговорил Владимир.
— И то нерушимо во веки веков, — подтвердил боярин. — Ты словам моим, княже, верь. Не стал бы я тебе про то сказывать, ежели бы в уме держал. Клянусь святой богородицей, сам дивился. А отколь такое пошло, надо бы Жидяту порасспросить.
— Так бы и сказал Роману.
— Сказывал уж. Не верит. «А Жидяту, — отвечает, — на том свете господь бог будет спрашивать…» Ссек он и ему голову. Меня же велел отрокам проводить в терем да сторожить, дабы не убег. Утром, говорит, суд буду вершить и расправу. И тебе, боярин, от руки моей пощады не ждать…
— Для суда послухов нужно иметь, — сказал князь.
— Нету у Романа послухов. Да «Русская правда» не про него писана. Куды там было мне на милость надеяться — сбег я и о том не жалею. Лежать бы мне сейчас во сырой земле, а не меды распивать во тереме твоем светлом, княже…
Ни с того ни с сего вскоре после разговора с боярином и началась у Владимира лютая болезнь. Корчило его на пуховых перинах, прошибало липким потом — ни лекари, ни знахари помочь не могли.
Два дня не показывался он на людях, а когда показался, то едва сдержали близкие бояре и дружинники удивление: сам на себя сделался непохожим их князь.
Стали переглядываться.
— Никак, землею покрыться надумал наш господин? — шептались со страхом.
Большие перемены всем им были не по нутру: о Романовых помыслах знали в Галиче давно, многих бед от него натерпелись, паче того страшились новой усобицы.
— Что за кручина, бояре? — спросил Владимир, от которого не скрылось их смятение.
— Да как же не грустить, княже, — отвечали бояре. — Ежели тебе неможется, нам-то каково? Нешто горестям твоим радоваться?
— А для горести причины у вас нет, — нахмурился князь. — Не всякая болезнь к смерти. Рано меня отпевать…
— Что уж отпевать-то, — загалдели бояре. — Живи до ста, князь. А мы завсегда с тобой.
Но иные с того дня подумывать стали, не пришла ли пора с Романовыми людьми переслаться: доброе дело волынским князем не забудется, когда сядет он на галицкий стол. Своя рубашка к телу ближе.
Сделался Владимир недоверчив и подозрителен, совсем подточила его болезнь. Жену свою не ласкал, к детям был суров, для бояр недоступен. Охоту и веселые игры забросил, не только ночи, но и дни проводил, запершись в тереме.
Думу думал нелегкую. В окружении недругов остался он, как перст, один. До Всеволода не рукой подать, а от Рюрика какая подмога? К королю Беле тоже в другой раз за помощью не пойдешь. А еще доползли до галицкого князя черные слухи, будто сдружился Роман с сыном венгерского короля Андреем — и это тоже неспроста.
Вскоре после приезда Твердислава явился в Галич посол из Волыни.
— Узнал князь наш, будто даешь ты убежище его врагам, — сказал он, дерзостно глядя Владимиру в глаза. — Како повелишь ответствовать Роману?
— Город сей не Романова вотчина, — рассердился Владимир. — Кого пожелаю, того и приму, не спросясь.
И по тому, как по-прежнему гордо держался с ним посол, понял князь, что стоит он на земле своей непрочно. Повел он глаза свои в сторону, и этого было достаточно, чтобы ответил посол:
— Галич покуда твой, а там бог рассудит. Не пожелаешь ли иначе ответить Роману?
— Подожди до утра, — задумался князь. — Утром скажу свое слово.
Ослабел Владимир от хвори, оробел пред близостью страшного конца, не пожелал вступить в ссору с задиристым соседом. Когда на следующее утро явился в терем по-сговоренному посол, не стал он сызнова вступаться за боярина.
Привели отроки Твердислава, и князь ему сказал:
— Не серчай, боярин. Зла на меня не держи. Требует тебя Роман на Волынь, пойдешь ли добром?
Твердислав задрожал всем телом, упал князю в ноги, стал хватать его за полу опашня:
— Не губи, княже! Обиды я тебе никакой не сотворил. Служить тебе буду, как пес. Не отдавай Роману!..
— Доселе мыслил я, что нету за тобой никакой вины, — ответил Владимир, отталкивая от себя боярина, — но нынче, глядя на тебя, во мнении своем переменился…
— Чего ж переменился-то, княже, — умолял его Твердислав. — Худа я тебе не сделал, лишних речей не сказывал. А все, что говорил, все правда.
— Нет, не все правда в твоих речах, — оборвал его Владимир, которому уже надоели вопли и стенания боярина. — Знать, крепко ты провинился перед князем своим, коли ищет он тебя и в чужих пределах. Значит, и впрямь возгордился ты. Значит, верно сказывал под пыткою Жидята. Вижу, боярин, добром ты все равно не дашься. Ведите его! — приказал он отрокам.
Тем только глазом моргни. Не успел Твердислав и слова сказать на прощание, как заломили ему за спину руки и выволокли во двор.
— Доволен ли теперь будет Роман? — спросил Владимир молча наблюдавшего за происходившим посла.
— Как довольным не быть? — степенно ответил посол. Поклонился и с достоинством вышел за дверь.
Владимир вздохнул с облегчением. Нет, не время ему ссориться с Романом. За худого-то боярина добрый мир купить — цена сходная. На малом сошелся он с волынским князем.
2
Сидя с невозмутимым видом, слушал Мартирий передних бояр, явившихся к нему всем скопом. Пришли бояре к владыке правду искать, кричали, перебивая друг друга, размахивали руками. Разное говорили.
— Со Всеволодом замиряться надо, — советовали одни.
— Не устоять нам супротив Ярослава, — поддакивали другие. — Народ перед Софией требует дать ответ: доколе будет молчать владыко, доколе нам голодать в осаде? Пущай выйдет к собору…
— Неча мужиков слушаться, — степенно перебивали их иные. — Пошумят и разойдутся, а нам под Ярославом добра не ждать. Вспомнит он былые обиды, начнет зорить наши дворы.
Теснили сговорчивых:
— Откажи, владыко, Всеволодовым послам. Пущай убираются, отколь пришли. То не просто о князе спор. Не для того Всеволод пленил Нездинича, чтобы только место дать Ярославу. Поперек горла ему наша вольница… Набьются в Новгород его людишки, пикнуть нам не дадут. Купцы владимирские тоже с ним заодно. Хотят торговать через первые руки — хитры…
Мартирий молчал, бояре раздражали его. Им легко требовать, а ему каково?
Верно одно сказывали на совете: неладно стало в Новгороде. Проезжая в полдень через Волхов, ужаснулся владыка. Народ гудел и угрожающе теснился вокруг возка. Мужики загораживали путь, раскачивали возок, едва не скинули с моста. Перепуганный Мартирий крестил толпу, призывал к спокойствию. Куда там!..
Наговорившись вдоволь, бояре нагло глядели владыке в лицо. Вздрогнул Мартирий: вдруг почудилось ему, что и у них глаза точь-в-точь такие же, как и у мужиков на мосту. По спине поползли мурашки — вот оно: едва только коснулось кровного — озверели бояре; куда и обходительность подевалась — того и гляди, вцепятся в глотку.
Мартирий ударил посохом в пол. Встал.
— Выслушал я вас, бояре, и тако мыслю: великая смута зреет в Новгороде. И мы же сами тому виной. Покуда не словим крикунов и заводил, спора нашего не решим…
— Эко хватил, владыко, — послышались голоса. — Нынче все посадские поднялись, не узнать уличан…
— Пойдут громить терема…
— Силой отымут то, что добром не дали…
Долго еще потрясала растерянная разноголосица низкие своды Владычной палаты. Разошлись бояре далеко за полночь, собой недовольные и владыкой. Так ни к чему они и не пришли…
Таращась во тьму, неспокойно ворочался на жаркой своей лежанке Мартирий, сопел, вставал, молился, ложился снова. Никак не шел к владыке сон.
А утром велел он снаряжать возок и отбыл из города тайно в монастырь к игумену Ефросиму.
Трудное это было дело. Не по прихоти своей решился на него владыка. Не по прихоти сломил свою гордость, а от отчаяния и великого позора. Ежели не поднять нынче Великого Новгорода, ежели не решиться на последний шаг, то завтра уж будет поздно.
— Мириться приехал к тебе, Ефросим, — сказал Мартирий, глядя на игумена покорным взглядом. — Не ждал?..
Ефросим выгнал из кельи Митяя.
— Аль не видишь, кого к нам бог принес? — шикнул он на него. — Ступай, ступай…
Все еще не оправившись от изумления, Митяй послушно скользнул за дверь. Игумен стоял, разглядывая нежданного гостя, губы его трогала ехидная улыбка, но глаза были серьезны, брови насуплены, на длинной старческой шее набухли синие жилы.
— Сядь, владыко, — коротко сказал он и сам сел на перекидную скамью.
Вытирая ладонью выступивший на лбу пот, Мартирий тяжело опустился на лавку.
— Значит, с миром ко мне пришел? — переспросил игумен.
— С миром, — коротко подтвердил владыка.
— Так-так, — проговорил Ефросим… — Плохи твои дела, Мартирий…
— Плохи, — сказал владыка, не таясь.
— Эк перевернуло тебя всего, — пожалел его Ефросим. — Куды и спесь былая подевалась…
— Не о себе думаю, и не обо мне нынче речь.
— И о тебе тож, — оборвал Ефросим. — А о беде твоей ведомо — не в скиту живем: крепко прижал вам хвост Всеволод. Еще крепче прижмет…
— Радуешься?
— Тужу.
— А коли тужишь, так беседа будет спористее.
— Спористее, да не шибко. Обида у меня на тебя давняя.
— Не время обиды поминать. Погорячился я, сковарствовал, в том винюсь.
— А ведь не верю я тебе, владыко, — с неожиданной улыбкой сказал Ефросим. Мартирий дернулся на лавке, но не возразил, только крепче сжал скрещенные на коленях ладони.
— За общей бедою твою маленькую беду зрю я, владыко, — продолжал игумен, вставая со скамьи и делая несколько шагов по келье. Теперь лицо его уже не было спокойным, глаза впивались в Мартирия горячо и неистово. — Не столь о новгородцах радеешь ты, сколь о себе. Коли настоит на своем Всеволод, то и тебе недолго в сане своем ходить. Нынче Мирошку задержал он во Владимире, завтра кликнет тебя.
— Я ко Всеволоду на поклон не пойду.
— Пойдешь.
Сказано было уверенно и резко. Мартирий поднял на Ефросима испуганные глаза.
— Пойдешь, — безжалостно повторил Ефросим, обращаясь на этот раз как бы к себе одному. Мартирий поежился, но глаз не опустил, хоть и почувствовал сам — метнулся в них скрываемый доселе страх.
— Ежели настоит Всеволод на Ярославе, ежели всем миром не выдюжим, быть нам под Владимиром до скончания дней, — сказал он. — На что Роман своеволен, но и он живет с оглядкой на Всеволода. Возвернул моего человека, так к себе и не допустив. Худо.
— В том беды особой не зрю, — возразил Ефросим, не спуская с Мартирия лихорадочно блестевших глаз. — Не последним на Руси был и останется Новгород. А Всеволоду покуда не перечь — вот мой совет.
— Иное слышать от тебя хотел…
— Хочешь вече повернуть?
— Без тебя поверну ли? — с облегчением выдохнул Мартирий. За этим и ехал он в дальний монастырь к прежнему своему недругу, за этим и сидел в келье, смиренно выслушивал Ефросима.
— В этакое-то время каждый к себе тянет, — быстро продолжал он, боясь не высказать главного. — Одни за Ярослава стоят горой, другие просят Мстислава. А иные и такое сказывают, что, мол, пока не поздно, надо звать на пустующий стол Всеволодова сына…
— Ты-то как мыслишь? — оборвал его Ефросим.
— Мои мысли тебе ведомы.
— За твоею думкою не поспеешь, — покачал головой игумен. — С утра мне и невдомек было, что к вечеру будешь ты сидеть в моей келье.
— Хитришь, Ефросим, — прищурился Мартирий.
Игумен усмехнулся.
— Может, и хитрю, а может, и нет… Угадай!
— Не за тем я ехал к тебе, чтобы загадки отгадывать. Говори, ежели что на уме. В своих бедах после разбираться будем.
— Ишь ты. А ежели беда не моя — тогда что?
— Куды снова ведешь?
— Не со своей бедою шел я в Новгород, — сказал Ефросим. — Видел — живете хлопотно, а бестолково. Вразумить хотел.
— Вот и вразумляй. Самое время приспело.
— Нынче без меня вас вразумили. Всеволод стоит на пороге, стучится в новгородские врата. Думать-то раньше нужно было.
— Бог не вразумил…
— Бога всуе не поминай, владыко. Вина твоя пред Новгородом велика, одною молитвою не отмолишь. А слово мое последнее и верное — не с вами я, о том и просить не мыслите.
Встал Мартирий, тяжко оперся о посох, посмотрел в заледеневшие глаза Ефросима, ссутулился. Безмерная усталость сковала его тело. Издалека едва донеслись слова игумена:
— Да что с тобою, владыко?.. Эй, люди!.. Митяй!..
…Когда владыка очнулся и, с усилием приподняв тяжелые веки, посмотрел вокруг, в келье все еще клубилась внезапно окутавшая его чернота. Сам он лежал на узкой лавке, грудь и плечи его были заботливо укрыты полушубком, жесткий ворс овчины щекотал ему подбородок и шею.
— Эй, есть тут кто? — позвал он неокрепшим голосом.
Чернота колыхнулась, и он разглядел склонившегося над ним человека.
— Ты, Ефросим?
— Эко тряхнуло тебя, владыко, — сказал игумен, и в голосе его Мартирию почудилась теплота.
— Огонь бы высек… Душно..
— Лежи покуда, — сказал Ефросим. — Вот квасок. Испей — полегчает.
— Окно отвори…
В темноте неясно вырисовывались предметы. Ефросим отошел от лавки, дернул заволакивавшую оконце доску. Свежий воздух прошелся по келье, достиг лица владыки. Мартирий вздохнул облегченно, полной грудью.
Ефросим постучал жбаном о край кадушки, приблизился, приподнял одной рукою голову владыки, другой стал поить его квасом. Потом все так же молча отошел к столу, высек огонь, запалил свечу.
Мартирий, скинув полушубок, приподнялся на локтях, огляделся с недоумением.
— Будто головней по сердцу прокатило, — сказал он, с усилием растирая грудь.
— Лежи.
— Не покойник я…
— Поглядел бы давеча, не то заговорил, — отозвался Ефросим. — Я уж испугался. Подумал: что, как и впрямь помрет у меня владыко?..
— Чести устыдился?
— Что — честь?.. Подале бы от греха.
Мартирий сел, спустил ноги с лежанки, устало прищурился. Неясная ожила в нем тревога. Медленно всплывал в памяти недавний злой разговор. Досадно было и стыдно.
Ефросим сидел напротив, на том же месте, что и с вечера, на шаткой перекидной скамье, глядел отрешенно. Молчал.
Мартирий нагнулся за сапогами, стал медленно натягивать их на непослушные, словно чужие, ноги.
— Куды снарядился-то? — добродушно поинтересовался Ефросим.
— Не у тебя ночевать…
— Эко спохватился!.. Ночь-то уж на исходе, — сказал игумен.
Нет, не было в его голосе ни зла, ни горечи. Мартирий снова вобрал всей грудью тянувший от оконца свежий воздух, пахнувший талыми снегами и землей.
На монастырском дворе часто загрохотало било, сзывая к заутрене. Небо посерело, забрезжил реденький рассвет.
— Прощай, Ефросим, — сказал Мартирий, вставая. — Загостился я у тебя.
— Прощай, владыко, — сказал игумен. — Не поминай лихом… Возок твой давно заложен, кони кормлены.
— Припомню я тебе доброхотство твое…
— Полно, владыко. Добро добром покрывают. А мы с тобой как были недругами, так и остались…
Не благословил Мартирий Ефросима. Будто и не было страшной ночи, будто все померещилось. Пройдет время, и забудет владыка про эту встречу. Не захочет вспоминать, вытравит из своего сердца. Утопит в злобе.
Но час пробьет — и, отправляясь не по своей, а по Всеволодовой воле, во Владимир, униженный и больной, вспомнит Мартирий и Ефросима, и эту келью, и тяжкий разговор, и еще многое такое, что наполнит его душу неистребимой тоской и горечью.
3
— Вот и встретились, боярин.
— Не к добру встретились, княже…
Развалясь на стольце, Роман выжидающе посматривал на Твердислава. Думал про себя: «Вот он — смрадный лик коварной измены. Давно ли пытался меня вразумлять, а сам строил хитрые планы. Нынче стоит, смотрит волком, пощады не ищет — враг».
Твердислав мыслил свое: «Молод ты, княже, и неразумен. Думаешь, всех бояр истребишь — сядешь на стольце своем единовластцем? Не тут-то было. Уйдем мы — придут на наше место другие. Сегодня подпевают они тебе, угождают не без корысти — того ты не зришь. И многое, что творится твоими руками, не тобою задумано. Придет час — ни отмолиться, ни отплеваться, ни отлаяться, ни отчураться. Поздно будет…»
Было ему страшно, когда вязали его в Галиче во Владимировом тереме, страшно было, когда везли, измывались по пути дружинники, страшно было, когда вводили, связанного, в сени к Роману, но едва переступил он знакомый порог, едва огляделся, едва увидел князя — и сгинул страх, заледенело сердце, отошла постыдная слабость.
— Правды не утаишь, боярин, — сказал Роман.
Твердислав отвечал спокойно:
— Той же мерой мерь, княже, и тебе воздастся.
— Грозишь?
— Думаю… Думы моей городьбой не обгородишь, княже.
Глаза Романа сузились, руки впились в подлокотники стольца. Подавшись вперед, шипел зло князь:
— Скоро, скоро свидишься, Твердислав, со своими дружками. Ждут они тебя давно — знать, соскучились. Про измену твою мне ведомо.
— А коли ведомо, пошто душу мытаришь, княже?..
— Дерзишь, боярин. А про милости мои забыл. И собака на того не лает, чей хлеб ест.
Ничего не ответил на это князю Твердислав. Не порадовал он Романа, не унизился перед ним, не стал просить пощады. И жалел уж о том, что елозил перед Владимиром — у слабого искал защиты. Кому-кому, а ему-то ведомы были задумки своего князя: не долго стоять Галичу в одиночестве на Червонной Руси — не привык Роман отступаться от задуманного и о содеянном никогда не жалел.
— Вижу, боярин, доносили мне не зря, — сказал Роман, вставая, — закоснел ты в коварстве своем.
И кликнул людей, и схватили они боярина, увели во двор. Вышел князь на гульбище. И на глазах у него смахнули Твердиславу голову…
Страшную тризну справлял Роман по своему любимому боярину. Пил меды, не хмелея. Три дня во хмельном угаре бушевала дружина, а на боярском дворе оплакивала Твердислава безутешная вдова.
Наблюдая неумное буйство мужа своего, даже терпеливая и безропотная Рюриковна всплакнула, пожаловалась привезенной из Киева мамке:
— Скажи, мамка, что случилось с Романом?
— Успокойся, княгинюшка, — стала утешать ее старуха. — Нет в том великой беды. Отшумит гроза — снова станет ясная погода.
— Не любит меня князь.
— Про то тебе лучше знать. А только сдается мне, что скоро перебесится Роман, тогда и вспомнит про свою ладу.
— Не вспомнит.
— Пала вражда между батюшкой твоим и нашим князем. Да только у них как? Нынче враждуют — завтра вместе пьют, клятву дают в нерушимой дружбе. Выкинь дурное из головы…
Лицо у мамки доброе, мягкое, седые волосы расчесаны на прямой пробор; руки у мамки маленькие, ласковые — гладят княгинино покатое плечико.
Нет, не успокоить ей Рюриковны. Сидит княгиня у окна, а недобрая дума точит сердце. Доверчивая она — любит Романа своего, любит и пугается. Чудится ей недоброе, солнышко весеннее ей не в радость.
— Ах ты, господи, — всплеснула руками озабоченная старуха. — Да что ж это такое тебе загрезилось? Нечто свет белый не мил?..
Хлопнула дверь, мамка вздрогнула, отпрянула от княгини. Роман стоял на пороге, пригнувшись под низкой притолокой, смотрел недоверчиво и зло.
— Иди вон, старая, — шикнул он на старуху. У Рюриковны лицо пошло темными пятнами.
Выскочила мамка из ложницы. Роман сел на лавку, дышал тяжело, глядел на жену чужими глазами.
— Все неймется тебе? — спросил отчужденно.
— Да чему радоваться-то? — беспомощно пролепетала княгиня.
— Окружила себя киянами [146], — упрекнул ее князь. — Куда ни ступлю — всюду народ чужой… Ну, чего в рев-то пустилась?
— Бросил ты меня, — размазывала Рюриковна по лицу обильные слезы.
— Эко бабьи разговоры, — усмехнулся Роман. — А того не зришь, как плетут вокруг мужа твоего частые сети…
— Почто пришел?
— Сон мне нехороший привиделся.
Роман помедлил, внимательно разглядывая жену. Поблекла, но еще хороша. Неужто и на нее наговор?.. Больно кольнуло в груди.
С вечера был у него тысяцкий Рагуил. Долго мямлил, шарил по Романову лицу глазами. Князь нетерпеливо сказал:
— Вижу, с плохой вестью пожаловал…
— Не ведаю, с какого краю и подступиться, княже, — пробормотал тысяцкий.
— С конца начинай. После, ежели спрошу, остальное доскажешь.
— Видел я вчера человечка на твоем дворе…
— Много людей у нас повсюду толкается, — поморщился Роман. — Короче сказывай.
— Признал я его…
— Ну?
— Из Киева человечек. А тебе, как смекнул я, он не сказался.
— Не было у меня гонцов от Рюрика, — подтвердил князь.
— Вот и подумал я: что ищет Рюрик на Волыни? Ежели не к тебе, княже, прибыл гонец, значит, ко княгине.
— Эко удивил!
— Погоди, княже. Выслушай до конца, — Рагуил, отвернувшись, покашлял. — А выслушав, сам решишь, казнить меня или миловать… Только не утерпел я о ту пору. Проследил за киянином. И верно — ко княгине прибыл он, был в горнице с нею вдвоем. О чем говорили, не ведаю. Одно только скажу — неспроста затянулась у них беседа…
Дурная кровь ударила Роману в голову. Быстро он загорался, да не быстро отходил.
— Ну, гляди, — пригрозил князь Рагуилу. — За свои слова ты в ответе.
— Все правда, истинный крест, — побожился тысяцкий.
О недобром сне Роман Рюриковне для красного словца прибавил. Сам же его и выдумал и, рассказывая, глаз не спускал с меняющегося лица жены:
— Будто возвращаюсь я от ляхов. Устал дюже. Да и дружинники едва держатся в седлах. Ищем ночлега, а вокруг ни души. Так-то, рыская, набрели в лесу на волхва. Сидит на пеньке, борода длинная, седая. И так выходит, что поджидает он нас. А сам в сторону глядит, клюкою тычет в муравейник. Подступился я к нему с вопросом: заплутали, мол, мы, где бы переночевать? Ухмыльнулся волхв и тако мне говорит: «О том ли печалуешься, князь? Ищешь в лесу ночлега, а дома ждут тебя худые вести. Поспешай, покуда не опоздал…» Эк что выдумал! — хохотнул Роман.
И тут же продолжал:
— И еще сказал мне волхв: «Чужие люди озоруют в твоем тереме, пьют твои меды, поносят тебя за твою доброту…»
Ослабела Рюриковна под настойчивым взглядом мужа, едва чувств не лишилась.
— Да что с тобою, княгинюшка? — будто удивился Роман. И так подумал: «Нет, не обманул Рагуил».
— Прости меня, князь! — едва слышно проговорила Рюриковна. — Виновата я пред тобой. Вещий твой сон в руку.
— О чем ты?
— Был у меня человек от батюшки. И ныне он здесь, — призналась Рюриковна.
— Уж не ослышался ли я? — сказал Роман. — Что ты такое сказываешь?
— Сама хотела во всем признаться, да ты опередил. Явился ко мне человек с батюшкиной печатью нежданно-негаданно — оробела я… Приветливые речи говорил. А пуще всего, в разговоре-то, жалел, что дружбу завел ты с черниговцами, давними батюшкиными недругами.
— Так и говорил? — насторожился Роман.
— Да что меня пытать? — отвечала Рюриковна. — Побеседуй с ним сам, княже.
Кликнули гонца. Недолго пришлось его ждать. Явился на зов сразу, будто за дверью стоял.
— Ты выйди-ко, — ласково попросил Роман жену.
Гонец понравился князю. Молод, статен, лицом открыт. Ни страха, ни смущенья не приметил во взоре его Роман.
— Как звать тебя?
— Кокором кличут, — живо отвечал гонец.
— Почто прибыл на Волынь, а мне не объявился? — нахмурился князь.
У Кокора ни единый мускул на лице не дрогнул. Отвечал все так же ясно и улыбчиво:
— Пировал ты, княже. А к Рюриковне была у меня грамотка от киевского князя.
— Нынче рад ли встрече?
— Затем и скакал…
— Ишь ты какой увертливый, — покачал Роман головой. — Ну так сказывай, с чем прибыл от Рюрика.
— Все-то враз не скажешь.
— Здоров ли князь?
— Здоров. Того же и тебе желает.
«Юлит все вокруг да около», — подумал Роман. Но глаза Кокора были по-прежнему непроницаемы.
Думу Рюрикову давно разгадал Роман. Не понравилось тестю, что обещал он черниговскому князю старшинство и Киев. Хотел он припугнуть Рюрика, но посеял еще большую рознь. Кому не лестно сесть на высокий стол? Только не Роману. У себя на Волыни он — хозяин, как во Владимире — Всеволод…
Далеко заглядывает Роман, а потому недоверчив он и осторожен. Пока расправляется он со своими боярами, пока утверждается на Волыни, со Всеволодом ссориться час ему не приспел. Но и плясать под его гудок [147] он тоже не был намерен. Не хотел Роман крепить Всеволодово влияние на юге, помогая Рюрику.
Зря прислал к нему Кокора киевский князь, зря сулил, распаляясь, гонец выгоду от союза с Рюриком. Помирившись с ним, должен был помириться Роман и с Владимиром галицким, а на Галич были у него давнишние виды.
— Что скажу, вернувшись, своему князю? — спросил измученный долгой беседой Кокор. Жилистый он был, крепкий, но Роман оказался его покрепче.
Так, уклоняясь от прямого ответа, и выпроводил он с миром Рюрикова гонца.
Плыли над холмами весенние ветры. Птичьим несмолкаемым гомоном полнились леса. Недавно прошли обильные дожди, умыли набиравшую молодую силу листву, высокое солнце купалось в разлитых повсюду лужах, больно било в глаза. Томились вокруг разомлевшие от тепла поляны, тянулись к небу острые побеги озимых.
Недовольный поездкой возвращался Кокор в Киев. Лениво правя конем, покачивался в седле, глядел по сторонам отрешенным взором и все думал, как бы не прогневить Романовым уклончивым ответом своего князя.
4
Во всем уже ходил по Всеволодовой воле Рюрик. С Романом волынским враждовал, с Владимиром галицким заигрывал. Но втайне ненавидел и Всеволода, и Владимира и думал, подражая северному князю, что и сам ловок, а ежели ловок, то отчего бы и ему чужими руками поболе жару в свою печь не нагрести?..
С тем и отправлял он гонца на Волынь, надеясь, объединившись с Романом, потрепать замахнувшийся на Киев Чернигов, с тем посылал он гонца и к берегам далекой Клязьмы, взывая к Всеволоду о помощи.
Но ни Роман, ни Всеволод не откликнулись на его призыв.
Хирел древний Киев, вдруг сразу оказавшись где-то на обочине Руси. Опустели его улицы, как-то незаметно стали проходить в виду города, не задерживаясь, купеческие обозы. На княжеском дворе обосновались растерянность и скука.
Надоели князю пиры, собирая в гриднице бояр, сидел он, глядя вокруг себя пустым взглядом, зевал, слушая нескладные и вздорные речи. Вечерами выходил на высокий гребень крепостного вала, подолгу смотрел в открывающиеся с высоты бескрайние дали.
Ничто не трогало Рюрика, хоть нет-нет и набегала беспокойная грусть на его лицо.
Однажды на охоте встретил он бредущего в одиночестве странника. Шел по тропинке согбенный старичок, семенил обутыми в лапотки маленькими ножками, запрокинув голову, жмурился на ярком солнышке. Бородка у старичка выщипанная, реденькая, на впалых щеках горит нездоровый румянец. Идет старичок все бочком да бочком, посошок впереди себя выставляет, невесть чему улыбается.
— Эй ты, божий человек! — прикрикнул на него князь. — Аль вовсе глаза тебе застило? Почто лезешь под копыта моему коню, почто князю не уступаешь дорогу?
И верно — ни объехать странника, ни обойти: с одной стороны тропинки болотце, с другой — деревья встали одно к одному.
Остановился странник перед самым князевым конем, вытянул шею, зажмурился.
— Экой ты бестолковый, — сказал Рюрик добродушно. — А ну, живей поворачивайся.
Попятился старичок в сторону, да ногой угодил в болотную жижу, провалился по самое колено.
Князь наехал на него конем. Задрожал странник с перепугу, выставил перед собой заскорузлые ладони — еще глубже ушел в болото.
— Что глядеть на него, княже, — сказал Рюрику Кокор. — Нализался старик браги, вот и ошалел.
«А и верно», — подумал князь, приглядываясь к страннику, — чудными показались ему его глаза. Пришпорил коня, проехал мимо. Вся дружина проехала мимо.
Не оглянулся князь на старика, а очень хотелось. Никак не шли у него из головы странниковы глаза. «Обмяк я что-то», — упрекнул себя Рюрик и попытался забыть о случившемся. Но преследовала его на охоте неясная досада и на себя, и на то, что послушался Кокора, проехал мимо. «Не простой это был старик», — почему-то подумал князь и, отъехав в глубину леса, оторвался от дружинников, рысью поскакал назад.
Вовремя поспел он на тропу, еще немного — и опоздал бы.
— Старче! — окликнул он странника, осадив коня.
Ни звука в ответ. Спрыгнул князь с коня, раздвинул кустики, наклонился над краем трясины. Облепленная болотной ряской, торчала из вадеги разевающая безмолвный рот продолговатая голова.
Страшно стало князю, зажмурился он, перекрестился: «Свят-свят».
— Ты ли это, старче? — прохрипел не своим голосом.
Голова задергалась, из-под спутавшихся болотных травинок, облепивших мокрые волосы, глянули страшные в незрячести своей глаза. Забулькало, недовольно заворчало болото. Голова запрокинулась, вынырнули с боков и снова погрязли в трясине скрюченные руки.
Прежде жалости Рюрик не знал, врагов и друзей губил, не дрогнув сердцем. А тут упал на колени, содрал с плеч, бросил утопающему корзно.
— Хватайся, старче!
Уцепился странничек за край корзна, потянул его к берегу князь. Зачмокало, запузырилось болото. Измазанное скользкой жижей тело, словно огромная рыбина, медленно поползло к кустам.
Вызволил князь старика на берег, скрутил и бросил в вадегу испачканное корзно.
Тяжело дышал странник, лежа поперек тропы на спине, глядел немигающими глазами в синее небо.
И тут только понял Рюрик, что был старик незряч — оттого и замешкался на тропе, оттого и угодил в болото. А княжеская дружина проехала мимо. «Слава тебе, господи, не дал свершиться великому греху», — подумал князь. Онемели у него руки. Сел он на тропу рядом со странником, стал творить беззвучную молитву.
Так и застал их рядом Кокор, удивился, но виду не подал, спрыгнул с коня, подбежал к князю, запричитал, хлопая себя по бокам:
— Пропало твое корзно, княже.
— О том ли печешься, дурак, — внезапно осерчал Рюрик. — Неси воды, обмой странника.
Стали дружинники черпать шапками воду из вадеги, лить на голову старика. Очнулся странник, сел, замычал, раскачиваясь из стороны в сторону.
Незаметно пнул его со спины сапогом Кокор:
— Князя благодари, старик. Кабы не он, гостил бы ты нынче у водяного…
— Спасибо тебе, княже, — поклонился странник болоту.
— Куда кланяешься! — рассердился Кокор. — Аль вовсе тебе разум помутило?
— Не серчай, Кокор, — сказал Рюрик, вставая. — Не зрит старик белого света. Убогий он…
— Что делать будем со странником, княже? — спросил Кокор, угадывая мысли Рюрика.
— Вези его ко мне на двор, — распорядился князь. А сам снова подумал: «Неспроста это все. Ох, неспроста…»
Не понравилась Кокору Рюрикова доброта. Но князева воля для него закон. Отвезли старика дружинники на Гору, отмыли, обрядили в чистое, привели, как велено было, в сени.
Один на один остался со странником князь. И стал он его пытать: откуда шел да куда.
Робел старик, не знал, как держать себя в княжеском тереме. Падал Рюрику в ноги, слепым лицом припадал к сапогам, благодарил, плакал и причитал.
Все никак в толк взять не мог, а после понял странник, чего хочет от него князь. Всяких людей встречал он на своем пути — кто корочку подаст, кто влепит подзатылину. Редко кто пускал к себе ночевать странника: боялись — не украл бы чего. Спал он в прошлогодних стогах, а иногда и на земле. И не привык он к ласковому обхождению. Пуглив был и осторожен.
Вопросами своими Рюрик сам наводил его на ответ. И тогда решился старик и так сказал князю:
— Добрый ты, княже, и боголюбивый. Воздастся тебе за доброту твою на небесах. А я хочу тебя предостеречь. Было мне видение, как шел я по лесу и встретил тебя с дружиною…
Услышав это из уст странника, насторожился Рюрик и подался вперед.
— Ну? — нетерпеливо поторопил он.
— С тех пор, как ослеп я, разное приходит мне то во сне, то наяву, — говорил старик. — А нынче такое привиделось, что и сказать боюсь.
— Говори, не бойся, — подбодрил его князь.
— Знать, недаром свела нас судьба. Знать, недаром повстречались мы на лесной дороге. Было, было знамение свыше. А то бы как нам встренуться? До тебя высоко, а меня в иной час ты бы и не приметил…
— Что верно, то верно, — кивнул Рюрик, пытаясь проникнуть в мысли старика.
А странник между тем продолжал:
— Сидишь ты на Горе, исполнен великих забот. И гложет тебя печальная дума. Дюже трудно тебе нынче, пресветлый князь…
— Тебе-то отколь про то знать? — волнуясь, перебил его Рюрик.
Старик улыбнулся:
— Шел я утром по лесу, птичьим щебетом упивался, лицо подставлял теплому солнышку. И тут вдруг словно бы озарило меня. Не вижу я ни небушка, ни дерев — сколь годов уж темен — и чую негаданно, вроде бы забрезжило предо мною. С чего бы это?.. Дале иду. А дале все светлее и светлее становится. Чудо-то какое!.. Скоро вовсе высветлилось, А из дали из этой медленно-медленно приближается ко мне прекрасная дева — вся ликом бела, непорочна. И не идет она, а вроде бы плывет над землей… Дух у меня перехватило — упал я лицом в траву, лежу недвижимо. И чувствую легкое дуновение крыл. Слышу голос, от которого все во мне запело: «Встань, старче. Встань и слушай мя….» Встал я, гляжу и наглядеться — не могу. Воспарила надо мною дева, склонила лицо свое и тако говорит мне на ухо: «Поспешай в Киев, старче, к пресветлому князю Рюрику. Ждет он тебя. И скажи ему, что ныне я тебе сказывать буду…»
Замолчал старик, сглотнул сухой комок, застрявший в горле. Князь сидел молча, до онемения сжимая руками подлокотники кресла.
— То, что я тебе нынче поведаю, то не мои слова, княже, — осторожно проговорил странник, моргая незрячими глазами.
— Говори, — впился в него лихорадочным взглядом Рюрик.
Старик помедлил:
— Идет на тебя от Чернигова большая рать. И с нею — племянник князя Олег Святославич. Грозится прогнать тебя с высокого стола, пустошит земли твои, угоняет скот и людей…
Отпрянул Рюрик от старца, закрыл лицо ладонями. Тихо стало в сенях. «Вот оно, — подумал князь. — Пока пировал я да умирал от скуки, черниговцы не дремали».
— А еще, — сказал странник, догадываясь, что слова его попали в цель, — а еще говорила мне дева, будто свершится великое чудо: побив Олега, сядешь ты прочнее прошлого на Горе. Тако не человеком говорено, тако и будет. Не печалуйся, княже…
В тот же вечер прискакал в Киев дружинник от Рюрикова племянника Мстислава Романовича. В скорой беседе с ним утвердился князь: прав был спасенный им странничек. Сказал ему дружинник, что, опустошив смоленские пределы, и впрямь вознамерился Олег Святославич попытать ратного счастья: перешла дружина его Днепр и движется к Киеву.
Снова кликнул Рюрик к себе старика.
— Ты не назвал мне своего имени, — сказал ему князь.
— В детстве мамка кликала меня Лозой, — отвечал странник, — а с тех пор как я ослеп, все зовут Темным.
— Предсказанье твое оправдалось, Лоза, — улыбнулся князь. — Но еще погляжу я, не льстил ли ты мне, когда сказывал, что черниговцам меня не одолеть.
Побледнел старик, беззащитно отодвинулся от князя.
— То не я сказывал, — пролепетал он и упал на колени. — Не вели казнить, княже…
— Почто же мне тебя казнить? — сказал князь. — Ежели верх одержу в ратном поле, жить тебе до скончания дней твоих без нужды и забот. Или я не милостив?
— Милостив, милостив, княже, — поспешно закивал Лоза.
— А покуда не вернусь, велю тебе не сходить со двора…
— Все выполню, княже.
— Жди.
Закручинился с того дня старик. Подолгу молился, истово крестил лоб:
— Господи, даруй князю победу. Услышь меня, господи.
Целую неделю почти ничего не ел и не пил Лоза. Сермяга и без того висела на нем, как на чучеле, а тут совсем усох старик, как только ногами передвигал. И всюду, куда бы ни шагнул он, слышал за собою осторожные шаги Кокора.
«Вот она, смерть моя, — думал со страхом Лоза. — Не долго ждать — скоро свершится суд правый». И уж ругал себя и уж как только не корил за то, что вздумалось ему поиграть с огнем. Очень уж захотелось пожить напоследок дней своих сладкой жизнью подле князя. А каково будет ответ держать? Лучше бы утоп он в болоте, лучше бы не встречался ему на лесной дороге князь…
В думах о неминучей беде быстро летело время. Как-то утром разбудил его шум на дворе. У слепого ухо вострое — сразу же понял Лоза по суете на всходе и приглушенным крикам, что прибыл князь.
Заохал он, запричитал, забился в угол.
Скрипнула дверь. Знакомые шаги послышались на приступке.
— Вставай, старче, — глухим голосом сказал Кокор.
Слепо шаря по стенам дрожащей рукой, поднялся Лоза, шагнул раз, шагнул другой: хоть бы ноги удержали, хоть бы раньше срока не упасть. Не упал, подхватила его под мышку твердая рука, помогла выйти во двор.
Склонил Лоза голову, подставляя щеку теплому солнечному лучу, улыбнулся доверчиво.
— Много блох в тебе водится, старче, — сказал Кокор. — Не сбылось твое предсказание. Шибко осерчал на тебя князь…
— На то воля божья.
С самым худшим смирился Лоза. Князю ложно предсказывал и себе конца не смог предсказать. Думал, кончит дни свои во святой обители, а кончал в смрадном болоте.
На старое место, где выручил его Рюрик, привезли Лозу.
— Нешто не одолел черниговцев князь? — спросил старик Кокора.
— А тебе-то почто знать?
Ничего не ответил на это старец. Только и успел что перекреститься — смачно чавкнула вадега, принимая легкое тело Лозы.
Постоял Кокор на берегу, подождал, пока не засосала старца трясина. Вытер руки о голенище, сел на коня.
Весело щебетали в лесу неутомимые птахи, над полянами подымался пар. Земля пахла духмяно, кружило голову. И хоть не радостные думы одолевали Кокора, а сердце веселилось: непонятная и сладкая вселилась в него тревога…
Не всякий пир в радость. Когда вернулся Кокор на княж двор, подивился: немного времени прошло, как отъехал он с Лозой, а вот на ж тебе — набились в терем бояре, да недобрым ветром их принесло. Собирались они по зову Рюрика на думу, а попали за обильные столы.
Иные, видя такое, поворотить хотели: не то время днесь, чтобы пировать. Но Рюрик силой велел тащить их в гридницу:
— Кто не со мной, тому веры моей нет.
— Да что же ты, княже, такое делаешь? Что подумают о тебе кияне? — осторожно пробовали его образумить некоторые.
Вотще. Сроду не видывали таким князя своего думцы. И не подарками оделял он бояр, а попреками:
— Слепец раньше вас худую весть до меня донес. Знамо, не ангел ему про то нашептал, а шепнули хожалые людишки. Мои же передние мужи застав не выставили, а воеводы проспали, как шло черниговское войско через Днепр…
И верно — большая промашка получилась. Было отчего осерчать князю.
Бояре сидели тихо, глаз на Рюрика не подымали, чувствовали свою вину. От чары отказаться боялись, чтобы еще больше не прогневить князя, а после уж никто их не принуждал: хмель на хмель — всем сделалось тошно. Стали промеж себя искать виновных — едва не передрались.
Рюрик смотрел на думцов своих трезво: ни меды не брали его, ни крепкие вина. Ни развеселиться не смог он, ни забыться. Под утро всем велел убираться из терема.
Прозрение на него нашло: прав Роман, что корчует бояр, как худые пни на вырубке, и Всеволод прав. А вот у самого Рюрика хватит ли на это силы?
Безмерная усталость сломила князя. Когда опустел терем, когда последнего думца с трудом выпроводили отроки за дверь, склонился Рюрик кудлатой головой на стол, заплакал навзрыд: ни смелости Романовой, ни Всеволодовой мудрости у него не было. Знал он: через день, через два все потечет на Горе по заведенному обычаю.
А расставаться с Киевом ему ох как не хотелось!..
5
Как птицы, слетаются со всех сторон во Владимир добрые и злые вести — из Новгорода и Киева, из Смоленска и Чернигова, из Галича и с Волыни.
Никто не посмеет задержать в пути Всеволодова гонца, даст коню его лучшего овса, а самому ему добрый глоток крепкой браги и теплую постель.
Изо дня в день взбегают гонцы, задевая плечами сторонящихся бояр и отроков, на резное княжеское крыльцо. Лица их обгорели на солнце, одежда в шмотках грязи и в дорожной пыли…
Шлют князья Всеволоду ласковые грамотки, лебезят и кланяются, сутяжничают и пишут друг на друга доносы.
Острые глаза и чуткие уши у Всеволодовых гонцов. Оставшись наедине с князем, рассказывают ему гонцы о виденном и слышанном, лишнего не прибавляют, дурных вестей не таят.
Выслушивает Всеволод людей своих с улыбкой, кормит и поит их с княжеского стола, дарит им шубы и золотые гривны. Не скупится князь за добрую весть, не гневается на гонца за весть дурную. Иная-то дурная весть лучше доброй.
А вечерами, оставшись один в просторных сенях, охватывает Всеволод взором всю необъятную Русь. Много у него дел, прибавилось еще забот, но не тяготят они князя. Сам взвалил он на плечи свои тяжелую ношу, несет ее, не сгибаясь.
Бояре теперь на совете и пикнуть не смеют, сидят молча, трепетно заглядывают ему в рот. Новые люди окружили князя, с преданностью спешат исполнить любое порученное им дело. Верит им Всеволод, знает: без них не свершить бы ему задуманного.
Подрастают у князя славные сыновья. Мир и покой у него на душе: в каждом из них его кровинушка. И после смерти Всеволода не останется Владимир без князя, не поклонится на стороне чужакам. Отныне и вовеки веков утвердилось на этой земле Мономахово племя. От сына отойдет она к внуку, от внука к правнуку. На том целовали бояре Всеволоду крест, на том утвердил их нерушимою клятвой епископ Иоанн.
Часть вторая Князь и Владыка
Пролог
1
В ту пору Константином тяжела была Мария. И надумала она отправиться в Ростов к епископу Луке, чтобы принять от него благословение. Как ни упорствовал Всеволод, как ни отговаривал ее от поездки, Мария стояла на своем. Ехать вместе с ней князь не мог, потому что были у него дела на юге, но и отпускать одну ее тоже не решался.
Как раз к тому дню, на который намечены были проводы, объявился во Владимире только что вернувшийся из Новгорода Словиша.
Обрадовался ему Всеволод, обнял своего любимца и повелел сопровождать Марию в Ростов.
— Гляди в оба, — сказал он. — За княгиню ты в ответе. Как бы чего не случилось в пути.
— Будь спокоен, княже, — отвечал дружинник. — Тебе ли меня не знать. Скорее сам лягу костьми, а княгиню в обиду не дам.
Обоз под строгой охраной двинулся на север.
Долго ли, коротко ли ехали они, а в Ростов прибыли, как и прикидывали, когда уж повсюду прошел лед.
Всегда суровый Лука, на этот раз, увидев подошедшую к нему под благословение покорную Марию, смягчился, перекрестил ее и даже пустил слезу. Народ на улице приветствовал княгиню, приходили бояре, звали ее к себе в гости, боярыни вытаскивали из ларей лучшие платья, боярышни старались понравиться заезжим лихим дружинникам.
Сонно жил Ростов, неторопливо и скучно. Княгинин приезд нарушил привычную дремоту.
Нет, не жалела Мария, что не поддалась настойчивым уговорам Всеволода, что настояла на своем. Всем хорош Владимир — и река, и лесные необъятные дали, а не было в нем такого озерного простора. Открывая оконце в горенке, простоволосая, свежая со сна, подолгу могла любоваться княгиня на Неро-озеро.
Но не более трех дней наслаждалась Мария сладостным покоем. Скоро стали наведываться докучливые гости. Сосед жаловался на соседа, все просили в чем-то заступничества и помощи.
Словиша, охранявший ее покой, гнал, как мог, навязчивых посетителей; однако и он был не в силах уследить за всеми, хоть и пристроился с недавних пор даже спать перед княгининой горенкой.
Докучливее всех был сам епископ Лука. На первых-то порах он даже понравился Марии. (А ведь Всеволод предостерегал: «Пуще всех опасайся Луки!»)
Все лицо епископа светилось старческой добротой и лаской. И слова лились с его уст вкрадчивые и тихие:
— Голубица ты, княгинюшка, душа ангельская. Гляжу я на тебя, и сердце тает от благости: смирная ты, перед каждым душа нараспашку. А ведь всем добра не сотворишь. Да и плата за добро, тобою содеянное, у каждого своя. Иной всю жизнь благодарит, другой в тот же день забудет — и порога горницы твоей не успеет перешагнуть… Ну — енти не страшны. Бог им судья, бог их и рассудит. Ты других людишек-то опасайся, матушка. Елейных речей их не слушай, ласковости их не доверяй…
— О ком ты, Лука? — удивляясь складным речам епископа, спрашивала Мария.
— Не лукавь, — шутливо грозил ей епископ согнутым крючковатым пальцем. — Почто пред духовным пастырем лукавишь?.. Молода ты, княгинюшка; заботы у тебя свои, у Всеволода — свои. Но твоей заботы никому не перемочь. Носишь ты во чреве княжеское дитя — помни.
— Да уж как забыть, — чувствуя наполняющую все тело приятную тяжесть, тихо отвечала княгиня.
Откровенными речами своими вводил ее Лука в смущение. Потупляла она глаза, заливалась стыдливым румянцем. Все это подмечал епископ, тайно радовался.
— В детях надежа наша; — ворковал он доверительно. — Час придет — все предстанем перед господом. А кому заветное передадим? То-то же… За свои грехи мы в ответе — и я грешен есмь, и ты грешна. Одно дите безгрешно. Но ежели не наставить его на истинный путь, как отыщет он его во мраке? Не пойдет ли по нашим стопам, не погрязнет ли во двойном грехе?.. Разумеешь ли, княгинюшка?
— Что-то не до конца сказываешь ты, Лука, — признавалась Мария.
— А ты подумай. А ты сама смекни. Ладно ли мы живем? Свято ли блюдем заветы отцов своих и дедов? Не богохульствуем ли? Не попираем ли во рвении мирском православную веру?..
От беседы к беседе, смутную неприязнь стала ощущать Мария к Луке. Не с добром шел он к ней. И к чему длинные речи клонил, тоже стала она догадываться.
— Едино в законах дедов наших обретается мощь Руси, — говорил Лука. — И в том князю великий урок: не порушай даденное от века, ибо не тобою дадено. Живи с людьми в добре и ласке. Ближних людей почитай и слушайся их совета, ибо не все, что ты сам задумал, есть истина.
Так говорил епископ, и был он осторожен и умен. Капли яда разбавлял медом, а про себя думал: «Уйдет Всеволод, придут его сыновья. Не тогда ли суждено вновь подняться из праха Ростову Великому? Время течет, как вода в реке, люди не рождаются добрыми или злыми. С младенчества волком воспитай — будет волк, воспитай агнцем — будет агнец. Ростову покорный нужен князь. Довольно хлебнули крови — будя…»
Вот как думал Лука, сказывая свои речи. Но и Мария была себе на уме. С чем нагрянул к ней епископ, с тем и отпрянул. Опамятовавшись от многих слов, принялась княгиня не только слушать, но и возражать:
— Сказываешь ты гладко, Лука, ровно пуховую перину расстилаешь, а каково-то на ней спать? О чем толкуешь, супротив кого наставляешь?
Покаялся про себя епископ, смекнул, что перегнул палку. Замахал перед собой руками:
— Что ты, матушка! Что это тебе вдруг загрезилось? Почто винить меня принялась?
— А то и винить принялась, что все речи твои с умыслом.
— Злого умысла я на тебя не держал, а добрый умысел был — каюсь. Видит бог, пекся я не о себе, а об общем благе.
Мария посмотрела на суетящегося Луку с усмешкой. Обмер епископ, неверными пальцами пуговки расстегнул на воротнике однорядки. Душно ему сделалось и не по себе стало.
— Всяк в своих мыслях волен, — сказал он охрипшим голосом. — А над всеми един бог. Забудем наш разговор, княгиня.
— Забудем, ежели сам на старое не повернешь, — согласилась Мария.
С того дня все реже стал хаживать к ней Лука. «Еще накличет Всеволода на мою голову, — думал он о ней с неприязнью. — Хоть и знает он меня за недруга, а коварства не простит…»
С Лукою еще в прошлом году вышла у Всеволода промашка. По смерти Леона думал он поставить верного человека на епископское место. Вот и наговаривали ему: зови-де из святого Спаса на Берестове игумена Луку. Нравом он кроток и духом смирен… Послушался Всеволод советчиков, да после с Лукой намучился. И верно, кроток он был — оттого и повисли на нем ростовские бояре. А когда подновлял Лука сгоревший во время великого пожара храм Успения божьей матери во Владимире, то кощунствовал неслыханно: велел он сбивать с собора резные камни и, распаляясь гневом, сажал отказавшихся подчиниться мастеров в поруб. Поглумились ростовские бояре через Луку над памятью ненавистного им Андрея Боголюбского, а еще подстрекали его не слушаться князя, не ехать во Владимир. Боялись они, что не распространится на него из Ростова их власть, а Всеволод будет рядом.
Во всем преуспели бояре: крепко повязали по рукам и ногам смиренного Луку. Через него думали завладеть Всеволодовыми сынами. Они же его и на разговор с Марией благословили.
Да, вишь ли, нескладной получилась беседа…
О ту самую пору, ко времени, и Словиша его поостерег:
— Хорош цветок, да остер шипок, отче. Утомил ты княгиню, а у нее дите под сердцем.
Однажды сказанного Луке не повторять. Был он умен и смекалист. Но от замысленного отречься не захотел. Прислал в терем к Марии боярыню Попрядуху.
Долго обхаживала Попрядуха княгиню. У боярыни сказок — ворохами не перетаскать. Сложив полные руки на отвислой груди, говорила она глухим речитативом, а между сказками странными присказками потчевала Марию.
— Зря обидела ты Луку, — говорила она ей. — У князя заботы князевы, а епископ печется о душе.
Большие, навыкате, глаза ее глядели скорбно, как у богоматери. Смахивая пухлым пальчиком с готовностью выкатившуюся слезу, шмыгала она носом, скулила жалостно:
— Живем, будто в медвежьем углу, с кваса на воду перебиваемся. Обветшал Ростов, оскудела былая вера. И тако скажу тебе по-бабьи: в прежние-то времена степенности было поболе, обходительнее был мужик. А нынче он на все горазд. Ему что поп, что дядька. Язычники, слышь-ко, снова объявились в лесах, пляски бесовские творят на требищах, над князем насмехаются, в иконы плюют, грозятся пустить боярам под охлупы красного петуха…
Сказанные полушепотом, слова боярыни западали в душу Марии. Нет, неспроста беспокоился Всеволод, не хотел отпускать ее в Ростов. Неспроста наставлял Словишу зорко приглядывать за княгиней.
И сейчас будто долетали до него за многие версты и разговоры ее с Лукой, и ночные думы, когда лежала она, растревоженная, на широкой постели, глядела, как проплывает по оконцу ущербный месяц, увитый черными облаками, и вспоминала с щемящей тоской свою уютную ложницу в княжеском тереме над просторной Клязьмой, — на охоте ли, на боярском ли совете нет-нет да и кольнет его в сердце нестерпимая боль. А тут, что ни ночь, стала ему сниться Мария — все грустная являлась во сне, все звала куда-то печальным и растерянным взглядом. А когда однажды привиделась она ему, будто наяву, на гульбище — затрепетало, забилось сердце: не стряслось ли беды какой с княгиней, не кличет ли она его к себе?..
И на другое же утро ускакал Всеволод с малой дружиной в Ростов.
Умаялся он в дороге, менял коней в деревнях, скакал почти без сна и без отдыха. Крепок он тогда еще был, упрям и на решения скор. Любая непогодь была ему нипочем. Извел он и себя и дружинников, громким топотом всполошил привыкших к дреме ростовских псов. Воротника вгорячах ожег плетью, шатаясь от усталости, ввалился в терем.
И пока слуги, поднятые среди сна, зажигали в переходах свечи, сжимал уже Всеволод Марию в своих объятьях, запрокидывая ей лицо, целовал в лоб и в шею.
— Да что случилось-то, что? — отстранялась от него с испугом княгиня.
Она глядела на его помятую одежду, на впалые щеки и вздрагивавшие губы и ловила взглядом лихорадочный блеск его беспокойных и счастливых глаз.
Потом были дни короткого, как солнечный проблеск, счастья. Потом суетно собирались в обратную дорогу, торопили слуг, наставляли растерявшихся отроков.
Лука вышел благословить княжескую чету, но Всеволод, не глядя на него, наскоро перекрестился и велел обозу трогаться. Со смешанным чувством сожаления и радости проводила Мария скрывшиеся за деревьями купола ростовских соборов.
2
Обратный путь показался ей утомительным и долгим. После первых солнечных весенних дней погода вдруг сразу испортилась, неожиданно зарядили тихие и нудные дожди.
Возы кособочились, утопали в грязи. Мужики рубили в лесу валежник и сосновые лапы, бросали под колеса, засучив по колено порты, полоская в лужах рубахи, помогали измученным коням.
Коротко передохнули в Переяславле. Всеволод звал на пир тамошних бояр и старых своих знакомцев, с которыми знался, когда был здесь князем.
Народу набилось в терем видимо-невидимо. Во дворе горели костры, над кострами висели медяницы, и возле них крутились, готовя для гостей еду, проворные сокалчие. Повсюду стояли бочки с медом, народ пил и славил князя.
В самый разгар пиршества, когда уж многие из гостей подремывали за столами, а те, что покрепче, пили за двоих и веселились пуще прежнего, выхваляясь перед Всеволодом, появилась в тереме древняя старушка с клюкой, в черном платке. Перешагивая через пьяных, она привычно прошла в сени и приблизилась к князю.
Всеволод был весел, на старушонку внимания не обратил, а продолжал беседовать со Словишей. Вдруг он обернулся и, меняясь в лице, приподнялся с лавки:
— Ты ли это, Настена?
— Признал, касатик? — заулыбалась старуха беззубым ртом. — А я уж думала, давно забыл свою мамку.
— Про то и говорить не смей, — сказал Всеволод. — Да ты садись к столу, почто стоишь предо мной, яко пред иконою?!
Всеволод встал, обнял старуху, усадил ее рядом с собой.
— Сколько лет тебе, мамка? Вспоминаю я годы былые: юн я тогда был, а ты и в те поры всех своих сестер пережила.
— И, миленький. Сестры-то мои со-овсем молоденькими богу душу отдали. Ежели помнишь, страшный мор в те годы прошел по Руси — вот их бог и прибрал. Одной-то, Феклуше, всего шестой десяток пошел, а Матрена до ее лет не дожила. Шибко и я тогда хворала, на одних травках выдюжила — с того времени ноженьки у меня и свербят…
— Выпей, Настена, медку. Враз полегчает.
— Мне ли меды пить, соколик, — покачала головой мамка. — Меня и от воды из стороны в сторону раскачивает.
— Ну так поешь чего…
Всеволод пододвинул ей блюдо с жарким. Мамка улыбнулась грустно и снова покачала головой:
— Куды мне с лосем управиться. Сколь уж лет одной только кашицей пробавляюсь — нет зубов у меня, все до единого выпали…
— Так чем же угощать тебя, мамка? — совсем растерялся Всеволод. — Может, кваску подать?
— Кваску-то я бы испила…
— Эй вы! — крикнул Всеволод слугам. — Ну-ка живо несите квасу. Да послаще, да поядреней. Мамку свою буду потчевать.
От слов его ласковых совсем растаяла старушка.
— А я уж, грешная, про себя подумала: отринешь ты Настену, не приветишь старуху на своем пиру. Эвона сколь бояр собралось за твоим столом.
— Твоим молоком я вскормлен, Настена. Как тебя забыть? — растроганно проговорил Всеволод. Осторожно обнял старуху за плечи, заглянул ей в слезящиеся глаза.
— Доброй ты, — сказала Настена. — Отец-то твой, князь Юрий, куды как крут был. Помню, привез он тебя, слабенького, в Переяславль, кликнул меня и тако говорит: «Отдаю тебе, Настена, свое дитя. Корми его полной грудью, да чтобы не хитрила: первое молоко — молодому княжичу». А у меня тогда тоже мальчоночка народился… Пригрозил князь: «Ежели не выкормишь — спуску не дам, так и знай». Вишь, вскормила, — грустно улыбнулась она. — Эвона какой высокой да статный вышел. А мальчоночка мой помер — царствие ему небесное… Скоро уж, верно, с ним свидимся. Ты вот меня про годы спрашивал. По второму веку топчу землю, сколь еще топтать? И себе не в радость, и людям в обузу. Тошно.
Эко поворотила речь свою старуха. Весь хмель вышибло у Всеволода из головы. Глядел он на старуху и тоже кручинился.
Суетится человек, пока жив. А помер — и нет его. Иного на второй же день позабудут.
Страшно ему стало, потянулся он к братине, в чару не стал наливать себе вина — почти все до дна выпил через край, утер рукавом бороду.
В чем продлится жизнь его? В деревах и травах, в скучном шелесте их на ветру, в семенах ли добра и зла, брошенных среди людей? В летописях и сказаниях? А кому от этого польза? Придут новые люди, соскоблят начертанное на мехах [148], свои имена впишут поверх смытого.
Тяжелый хмель бродил в голове Всеволода, ожесточалось сердце. С ненавистью думал он о Луке и ростовском боярстве. Ждут, ждут его погибели, окаянные. Прежнего не забыли и по сей день тянутся к ненавистной старине. Молитвами их не смягчишь, на путь истинный не наставишь. Лишь только в продолжении своего рода видел он спасение для Руси… Неужто снова родит ему Мария девку? Неужто не дождется он светлого часа?..
Будущее сокрыто в холодном мраке, а он во всем жаждал ясности. Кого носит княгиня во чреве? Какую новую вскармливает жизнь? Почто повадился к ней Лука? Всеволода ему все равно не поворотить — об этом хорошо знает епископ. Да старый ворон не каркнет мимо. О том же, что и Всеволод, печется Лука — на будущего молодого князя рассчитывает, ждет не дождется грядущих перемен.
С любовью и тревогой глядел Всеволод на Марию. Яркий румянец полыхает у княгини на обеих щеках, сочные губы тронула счастливая улыбка. Люба она ему и дорога, а нынче дорога вдвойне.
Встряхнул чубатой головой князь, отгоняя от себя мрачные мысли. Хорошего родит ему княгиня сына, во всех делах будет ему единоверец и сообщник. Не отдаст он его боярам, сам вырастит. Зря строит козни свои Лука, зря надеется…
Славный пир был в ту ночь на княжом дворе, отвел душу Всеволод. И утром, когда тронулись дальше, не мучили его больше привязчивые думы. Обнимал он Марию в возке, целовал в уста, просунув руку под теплую душегрейку, нежно касался рукою ее тугого, круглого живота. Вот он, княжич, бьется под ее сердцем — его, его живая плоть.
Дожди сопровождали их всю дорогу, а когда выехали к верховьям Нерли, когда путь пошел знакомым суздальским опольем, вдруг нечаянно-негаданно потянуло холодным ветром и крупными хлопьями повалил мокрый снег.
Такого позднего и обильного снегопада давно уже не было в здешних краях. Недаром еще в Переяславле, глядя на повернутый рогами к полдню месяц, говорил Словиша:
— Примета сия верная. Долго не встанет в нонешнем году тепло, а дожди допрежь того будут обильные…
Озябнув в пути, не доезжая до Владимира, ночевали в небольшом селении на берегу Нерли. Вспомнил Всеволод, как проходил он здесь с дружиною навстречу Мстиславу с Ярополком. Давно это было, а все встало перед ним — и короткая заминка в деревне, когда собирали в лесах поотставший обоз, и ночь перед битвой, и сладкая радость победы, когда побежали под ударами его дружины супротивники, бросив на поле щиты и копья… Здесь, неподалеку, все это было. И, плотнее запахнувшись в корзно, отправился князь вдоль осклизлого берега искать то место, где переправлялся через речку вброд.
Все те же были приметы, хоть и много лет прошло с тех пор. Та же темная вода в реке, тот же покосившийся плетень, и тот же дуб на пригорке, а чуть пониже все те же мосточки, на которых бабы стирают белье, еще подале — стоящая на отшибе изба… Вдруг словно споткнулся Всеволод, таращась в темноту, — а избы-то и не было. Знать, снесли, ежели стояла без хозяина, подумал он, но тут же вспомнил, что избу сожгли, что она горела еще тогда, когда дружина переходила через Нерль.
«Изменяет память, старею», — кольнуло и тут же забылось. Присев на мосточки, Всеволод зачерпнул пригоршню темной воды. Вода была нечиста, попахивала перегноем, но он выпил ее с наслаждением и, зачерпнув еще, сполоснул набрякшее со сна лицо.
К утру все вокруг покрылось чистым снегом, холодное солнце повисло над лесом, кудрявясь в разбегающихся облаках, было светло и радостно, Мария смеялась, забираясь в возок, и князю было хорошо от ее беззаботного, счастливого смеха.
До Владимира от этого места на Нерли совсем уж недалеко — вот проедут они немного, поднимутся на пригорок, а с пригорка того засверкают в глаза им золотые шеломы городских соборов. Самого города они еще не увидят, еще спустятся в низинку, проедут берегом Клязьмы, подымутся снова — и вот тогда только приостановят коней, чтобы по издавна заведенному обычаю осенить себя крестным знамением, поклониться поясно, постоять в виду городских неприступных валов на крутом откосе Поклонной горы…
Князь уж пригнулся, ногу поднял, чтобы сесть в возок под теплую медвежью полсть, еще минуту какую-нибудь — и рванули бы кони, понесли под уклон, — но сзади послышался шум, князь выпрямился и оглянулся, прищурив глаза под надвинутой на лоб мохнатой лисьей шапкой.
По белому полю, спотыкаясь и падая, бежала простоволосая женщина, а за нею — большими прыжками — мужик в распахнутом на груди летнике [149].
Словиша взглянул на князя, гикнул и, ощерив рот, поскакал им навстречу. Мария высунулась из возка.
— Что случилось? — спрашивала с испугом.
Князь молчал.
Голосившая баба, двух шагов не добежав до возка, упала в снег, Словиша оттеснил конем настигавшего ее мужика.
Возчики расторопно выскочили вперед, подхватили бабу под руки, поставили перед князем. Мужик, насупясь, приблизился сам, поклонился Всеволоду.
— Пади, пади! — зашипели вокруг на бабу.
— Стойте, — остановил возчиков князь. Мария выбралась из возка, встала рядом со Всеволодом.
— Ты кто? — спросил князь мужика.
— Боярина Акиндея тиун, — не робея, бойко отвечал мужик. — Плешкой кличут меня.
— А ты? — спросил Всеволод бабу.
— Прасковья енто, Акиндеева холопка, — презрительно покосился на нее Плешка.
— Почто голосила? Почто бежала от тиуна?..
— Дите у нее… — встрял было Плешка.
— Цыц! Молчи, покуда не спрашиваю, — прикрикнул на него князь. Плешка икнул и тут же сник.
Баба вытирала рукавом мокрое от растаявшего снега лицо.
— Говори, не бойся, — улыбаясь, подбодрила ее княгиня. Прасковья посмотрела на нее и медленно покачала головой.
— Завсегда с нею так, — не утерпел тиун. Глаза его плутовато шарили вокруг; большие, красные руки, поросшие светлыми волосками, суетливо ощупывали отвороты летника.
— Дите у нее, — снова начал Плешка и, спохватившись, замолчал. Князь не остановил его, и тогда он спокойно продолжал:
— Дите у нее померло давеча, снесли на погост… Отпели по-христиански, а она возьми да умом и тронься… Едва избу свою не запалила.
Княгиня побледнела, отступила на шаг. Всеволод потупился, с досадой шмыгнул носом: всего и дел-то, стоило ли задерживать обоз?
Но баба вздрогнула, поежилась и вдруг подняла на князя больные — не безумные — глаза.
— Врет он все, княже, — сказала она глухим голосом. — Не верь ему. Ни единому слову не верь… Врет он все, княже.
— Пошто юлишь, тиун? — насупился Всеволод, обернувшись к мужику.
Плешка бухнулся перед ним на колени, подполз ближе, скользя коленками в мокром снегу.
— Не слушай ее, княже! — пронзительно завопил он. — Кому веришь на слово?
— Ты тиун, правая рука боярина. Дай клятву, коли не врешь, — сказал князь.
— Вот те крест святой, — быстро перекрестился Плешка.
Баба закричала, расплескивая по плечам свалявшиеся космы:
— Он, он дите мое загубил!.. Девоньку мою свел в могилу. А нынче ищет в тебе опоры. Куды же податься мне, куды горе свое нести? Али нет на кобеля проклятого управы?!
— Нишкни, баба! — остановил ее Всеволод. — А ты, тиун? Ты куда глядишь? Почто допускаешь срамить себя, коли прав?
— Безумная она, — залепетал тиун.
— Ну вот что, — сказал князь. — Судить мне вас нынче недосуг. Сами с боярином разберетесь…
— Разберемся, княже, — вздохнув с облегчением, поклонился ему Плешка. И, повернувшись к бабе, прикрикнул:
— Чо рот раззявила? Слышала князев ответ? Ну так ступай покуда!
— На кого кидаешь меня, княже? — кинулась к Всеволоду Прасковья. — Зверю лютому отдаешь!..
— Ступай, ступай, — ухватив за космы, с силой оттащил ее на обочину дороги мужик. — Не видишь разве? Не до тебя князю.
Окаменела баба. Глаза застыли на ее лице, рот перекосила мучительная судорога.
— Будь ты проклят, княже! — вдруг вскрикнула она со стоном. — И княгиня твоя пусть проклята будет. И детки твои, и внуки!.. Пусть иссохнет племя твое на корню, пусть…
Но не досказала безумная, острый Словишин меч взлетел и опустился над ее головой. Упала баба, дернулась и застыла на снегу.
В возке отчаянно билась и кричала Мария. Всеволод стоял, стиснув зубы. Молчали возчики, пятился тиун, быстро крестя лоб, рука Словиши дрожала, меч вертелся и не влезал в ножны… Остаток пути, до самого Владимира, ехали в скорбной тишине.
Глава первая
1
Приблизившись ко князю, снова широко и привольно зажил Веселица. «Выглянуло после ненастья солнышко, — говорили про него посадские. — Ишь как все обернулось…»
На Князевы подарки новую избу поставил себе бывший купец. Краше прежней она была — выше и светлее. И резьбы по дереву поболе пустил Веселица, в светелке окошко сделал из наборного цветного стекла со свинцовыми прокладками — у самого Всеволода разрешения просил, заморским купцам выложил немалые деньги.
«Ну, — говорили соседи, — теперь держись. По старому-то обычаю нынче самое что ни на есть время звать Веселице гостей».
Да не тут-то было. Всего один только день и одну ночь попировал молодой дружинник.
Сунулись к нему старые дружки-бражнички за даровою чарою, ан повернули со двора не солоно хлебавши. Злючих псов велел спустить на них Веселица. Хватали псы на потеху соседям перепуганных бражников за порты, провожали громким лаем.
— Хорошо ли попотчевал я вас, дорогие гостюшки? — потешался, стоя на крыльце, дружинник. — Ныне путь в мою избу забудьте. Хватит, побаловал я с вами.
Новым обхождением своим озадачил посадских Веселица.
— Гляди-ко, — удивлялись они, переглядываясь. — Не жену ли привести в дом собрался наш молодец?..
Но в душе не верили, думали: не надолго его хватит, попыжится для порядку, а там все по-старому пойдет. Про озорные его выходки помнили в городе все. Долго ждать не придется.
Время шло, снег за колодой растаял, тронулась Клязьма. В один из пригожих апрельских дней оседлал Веселица своего коня и выехал, озабоченный, со двора.
Ехал Веселица через Лыбедь, поглядывал по сторонам. Много раз хаживал он тут — битый и небитый, голодный и сытый. Больше битый, а сытый только по редким дням. Тошно вспоминать про былое. Но и не вспоминать нельзя. Ежели бы не лихая беда, не ехал бы он сегодня на ретивом коне, ворогам своим на зависть, друзьям на загляденье.
Всем отдал Веселица старый должок. Одного только из замысленного не исполнил. Зато нынче в самый раз.
Проезжая лесом, чуть было не свернул он на знакомую полянку, чтобы хоть издали взглянуть на Мисаила, да передумал: будет еще время навестить отшельника, а путь его в этот час лежит к монастырю. Узнал он от монашек, что выезжает поутру Досифея в Кокорино глядеть пожалованные Марией новые угодья. И еще сказывали черницы, что с некоторых пор ни на шаг от себя не отпускает она Феодору. Пелагея-то, коварная баба, стала у нее не в чести: ибо оклеветала свою сестрицу — за то ей и покаяние…
Только того и нужно было дружиннику. Подъехал Веселица к опушке, затаился в орешнике, на ворота монастырские глядит, взгляда не отрывает. В час положенный распахнулись дубовые створы и вырвался на дорогу знакомый возок. Ай да игуменья — не заставила себя ждать.
Покрутился возок на холме, съезжая по склону в черемуховый лог, и скрылся из виду.
Немного повременив, поскакал следом за ним и Веселица. Долго скакал — до Кокорина путь не близок. И всю дорогу возок не выпускал из виду. Время быстро летело.
В Кокорине Веселица и раньше бывал — село небольшое, но поля вокруг удобные, и выпасы есть, и покосы у реки. Хороший кусок не пожалела княгиня для монастыря. Уж очень даже набожная она была — где-где, а и в княжеских палатах не было отбоя от черниц и всякого прочего убогого люда. По всему примечал Веселица: воротило князя от этакой причуды, но слова Марии поперек сказать он не решался. На княжеском-то дворе так сказывали, будто дала княгиня зарок монахов и монахинь не обижать и всячески им потворствовать, потому как было ей видение, а что за видение, никто не знал, но некоторые догадывались, что всему причиною молодые княжичи. Досифея же, молясь за них, о своей выгоде не забывала — не зря, знать, водилась она с Однооком: от него и не тому научишься.
Вспомнив Одноока, посмеялся про себя Веселица: долго будет помнить боярин его злую шутку. С шутки той пошло Однооку невезение — и поделом: неча резоимствовать, с хороших людей, попавших в беду, драть по три шкуры.
Жаловался Одноок на Веселицу Всеволоду, просил заступничества, но князь и глазом не моргнул.
— Ты поостерегись-ко боярин, — вроде бы отвечал он Однооку на его челобитную (Ратьшичу Веселица верил. Ратьшич ни с чего врать бы ему не стал, а слова князевы передавал ему он сам). — Ты поостерегись-ко. В большой обиде на тебя владимирцы, а они — мои сыны. Обирать их я тебе не дам — так и знай. А за тобою впредь присмотрю — эдак ты мне всех, не одного Веселицу, пустишь по миру. Какая же мне будет после того в народе моем вера?!
Не ожидал такого ответа боярин. И ежели раньше редко показывался на княжом дворе, то с этого дня и вовсе видеть его перестали. А звать его к себе сам Всеволод никогда не звал. И другие бояре не очень-то грустили: сами они к Однооку ни ногой…
Однако же на пиру предупредил Веселицу Ратьшич — вроде бы по-пьяному было сказано, а в самый раз. И слова те хорошенько запомнил молодой дружинник:
— Любит тебя Всеволод. Но шибко не гордись. Знаю, нрав у тебя бойкий, как бы на свою голову немилости княжеской не накликал. Чужак ты покуда среди нас, да и завистников у тебя много: любую промашку твою понесут бояре ко князю. Раз простит, два заступится, на третий наказует по строгости. Сам знаешь — крут Всеволод, а уж от него правды искать тебе больше не у кого.
— Спасибо, Кузьма, за то, что предостерег, — поблагодарил его Веселица. — А что до нрава моего, то ты прав.
Посмотрел на него Кузьма с хитринкой и ничего на это не ответил. Но по всему догадался Веселица — слова покорливые пришлись ему по душе. Иного он от него и не ждал…
Не ко времени вспомнился тот давнишний разговор. Приуныл Веселица — каково испытает его на этот раз судьба? То, что задумал он, дерзко было и отчаянно. Побежит заутра Досифея к Марии, Мария пойдет ко князю, а князь призовет его и велит держать ответ. Не за кого в таком деле спрятаться Веселице. И Ратьшич ему не поможет.
«Э, да была не была!» — подумал Веселица, пришпоривая коня.
Трепетно ждал он этого часа, иной судьбы себе не желал. Так отступится ли от задуманного, когда счастье рядом — стоит руку лишь протянуть? А там будь что будет — наперед загадывать Веселица не умел…
То взбираясь на пригорок, то спускаясь в ложбинку, возок игуменьи виднелся далеко впереди. Иногда, теряя его из виду, Веселица беспокойно ерзал в седле, привставал на стременах — но возок снова показывался, и Веселица облегченно опускался в седло.
Неподалеку от Кокорина свернул Веселица в перелесок и, срезав угол, выехал к деревне раньше игуменьи. Здесь, неподалеку от старой мельницы, с завалившейся крышей, Веселица спешился и, ведя коня в поводу, выбрался на огороды. Отсюда хорошо было видно все, что делалось в деревне.
А в Кокорине ждали гостей. За околицей кучились мужики и бабы, промеж них мельтешили ребятишки, впереди всех стоял поп в парадном облачении и беспокойно всматривался в даль петляющей по полям дороги.
Скоро показался возок. В толпе засуетились, поп выдвинулся вперед; отставая на полшага от него, неуклюже переваливаясь на толстых ногах, шел староста.
Солнце било в лицо. Веселица жмурился и протирал глаза. Возок остановился, игуменья вышла, оглядываясь вокруг себя; вслед за нею вышла Феодора.
Нет, не обманули дружинника черницы, правду сказывали, а ведь до последней минуты теснило Веселице грудь — что, как дал он промашку, что, как не Феодору взяла с собой игуменья? У старухи вздорный нрав, всякое могло случиться.
Давно не виделся Веселица с Феодорой: по наговору Пелагеи ворота монастыря были закрыты для нее на крепкий запор. Ни выйти, ни весточки подать. Признает ли она его, не откажется ли? Что подумает, признав в нарядном дружиннике бездомного закупа?..
Вдруг оробел Веселица, замешкался, вцепившись в поводья коня. «Уж не повернуть ли?» — подумал, слабея духом. Конь пофыркал, недоуменно косясь на хозяина.
Тут в кустах зашелестело — Веселица вздрогнул и обернулся.
— А я-то гляжу, кого бог носит на огородах, — сказал невесть откуда появившийся за спиной мужик.
Потертый треух сдвинут на сторону, из-под рыжих кустиков бровей, словно из норки, выглядывают два серых улыбчивых глаза. В пегой бороде мужика запутались сухие соломинки.
— Ты отколь? — стараясь казаться строгим, спросил его Веселица.
— А из зарода [150], — сказал мужик. — Упились мы вечор, вот и занесло в зарод. Ты-то что в деревне высматриваешь?
— Не твое дело, — оборвал мужика Веселица, — знай, иди досыпать в свою избу.
— Ишь ты — сердитой, — протянул мужик. — А огород-то мой…
— Уж не твоя ли и ближняя изба?
— Моя, а чья же?
— То-то гляжу — хозяин бражник. Щепой перекрыть поленился, подгнили венцы…
— Неча тебе, мил человек, чужие углы обнюхивать, — обиделся мужик.
— Вот и в мои дела не лезь.
Не ко времени появился хозяин огорода — того и гляди, всю задумку испортит. И чего привязался?
Мужик скреб пятерней в бороде и с любопытством разглядывал Веселицу.
— Эй, слышь-ко, — позвал он.
— Ну чего тебе?
— Знавал я одного купца во Владимире… Уж не ты ли это будешь?
— Уймись, не доводи до греха.
— Он самый и есть, — будто не слышал его мужик. — Веселицей тебя кличут?
Мужика не просто было унять. Разгулявшийся с вечера мед все еще бродил в его голове. Да и впрямь любопытно: кого высматривает на огородах купец.
— Не купец я, а князев дружинник, — рассердился Веселица. — Ступай отсюдова, покуда цел.
Так и есть — всю задумку испортил ему нежданный собеседник.
Мужик стоял, пошатываясь и мотая перед лицом обмякшей рукой. Веселица до половины выдернул из ножен меч.
— Ну?
— Свят-свят, — отпрянул мужик. — А ты и впрямь шальной.
— Изрублю, не погляжу, что пьяный…
— Да ты не серчай на меня, Веселица.
— Ишшо покаркай!..
Скрылся мужик. Перекрестился Веселица, подумал: «Ну, теперь пора», вскочил в седло. Конь заплясал под ним, вздрогнул широким крупом, понес рысью через огороды — только ошметки влажной земли полетели из-под копыт.
Толпа сгрудилась возле игуменьи, все с недоумением глядели на приближающегося вершника.
Веселица свистнул по-молодецки, ожег коня плеточкой: э-эх! Разом перемахнул через плетень. Шапка с лиловым верхом сбита на затылок, губы поджаты, глаза прищурены лихо. Разорвала плотный круг толпа, шарахнулась в стороны. Только игуменья, вытянув перед собою посох, осталась стоять на месте, да Феодора, повернувшись побелевшим лицом к приближающемуся Веселице, быстро крестила лоб.
— Э-эх! — снова выдохнул Веселица, наклонился, подхватил ее под руки, вскинул перед собою на луку седла — и был таков. По дороге легче пошел конь, да еще плеточка, да еще попутный ветер. Располоскал гриву на обе стороны — любо: давно соскучился по вольной скачке застоявшийся на конюшне конь.
А в деревне — суматоха и крик. У Досифеи остамели ноги от страха. Перепугавшийся поп размахивал нагрудным крестом:
— Господи, помилуй мя…
Тут откуда ни возьмись, вынырнул из-за крайней избы мужичок. Рыжие брови кустиками, в глазах веселые бесы пляшут.
— Ай да Веселица!.. Ай да купец!
Очнулась Досифея, отбросила посох, обеими руками вцепилась в мужичка:
— Ты про кого такое сказываешь?
— Ей-богу, забыл…
— А я тебя сейчас опамятую! Эй, староста! А ну-ка, потряси мужика — да не жалеючи, да пошибче, да чтобы все сказал, как на духу, — откуда сам и с кем дружбу водит. И почто хозяйке своей перечит, хоть и во хмелю.
2
У Досифеи и не такие храбрецы-молодцы языки развязывали. Развязал и мужичонка свой язык — недолго повозился с ним староста. Стала выспрашивать его игуменья с толком и не спеша:
— Веселица, говоришь?
— Он самый и есть, матушка, — стуча зубами, отвечал мужик.
— А не обознался?
— Куды уж там…
— Не со страху наговорил?
— Все, как на исповеди… Шибко удивился я, как увидел его на огородах. Давеча еще с Мисаилом он тут хаживал — тощой был и в рваном платье. А тут конь при ем, и одежа справная, и меч опять же… Не, обознаться я не мог. Хошь, перед иконой побожусь?
— А почто сразу не признался? — прищурилась Досифея.
— Дык не в обычае у нас… Кокоринские все мужики крепкие.
Глаз у игуменьи наметан: ни правду, ни кривду скрыть от нее не могли. Быстро смекнула она, что не врет мужичок.
— Ладно, — сказала она, смягчаясь. — Ты ступай-ко отселева да вдругорядь на глаза мне не попадайся.
— Спасибо, матушка, — обрадованно поклонился ей мужичок. — Дай бог тебе здоровья.
На следующий день, ни свет ни заря, отправилась игуменья во Владимир к Марии. Долго ждать ее не заставила княгиня, велела звать в терем. На пушистые полавочники усаживала, угощала мочеными яблоками и ягодами. Пока говорили о том, о сем, все думала Досифея, как бы половчей подступиться к главному. А начала издалека — похвалила деревеньку, поблагодарила за подарок.
— Земли у Кокорина жирные, хороший осенью снимем урожай…
— Да сама-то глядела ли? — спросила Мария. — Самой-то приглянулось ли?..
— Об чем спрашиваешь, княгинюшка!..
Самое время заговорить о Веселице. Но только открыла игуменья рот, как дверь отворилась и прямо с порога бросился к Марии Константин, старший Всеволодов отпрыск. Нос покраснел от слез, губы обиженно вздрагивают.
— Что с тобою, сынок? — встрепенулась Мария. — Али обидел кто?..
— Четка шибко грозится, — всхлипывая, пожаловался Константин. — Батюшке обещал донесть, ежели не выучу псалтирь.
Нахмурилась Мария, погладила сына по голове.
— Я уж думала, беда какая. А на Четку ты не серчай. Помни, како в народе сказывают: без муки нет и науки. Негоже князеву сыну грамоте не уметь. Нынче не только поп, а и кузнец простой и горшечник чтению и письму разумеет…
— Ты меня лучше к Веселице отпусти, — попросил Константин, высушивая на щеках тылом ладони слезы. — Веселица на коне учит скакать, стрелять из лука… С ним хорошо.
— Всему свое время. А батюшке на Четку жаловаться и не смей. То его, князев, наказ.
— Скучно мне.
— Скука переможется. Ну что загрустил?
— Не хочу к Четке возвращаться. Пущай Юрий учит псалтирь, а меня отправь к Веселице.
— Эко заладил: к Веселице да к Веселице, — со строгостью в голосе оборвала его княгиня. — Вот ужо примусь за тебя…
— Значит, и ты с Четкой заодно?
— Не с Четкой, а с князем. Батюшка твой зело учен и вам учиться строго наказывал.
Слушая беседу княгини с сыном, кивая мальцу с елейной улыбкой на устах, вдруг подумала Досифея, уж не зря ли пришла она с жалобой на княжой двор, ежели Веселица окаянный при князе — свой человек. То-то же не побоялся, супостат, пойти на такое злодейство. А мужичонко сказывал — купец. «Ужо доберусь я до тебя, — обозлилась игуменья. — Ужо попляшешь ты у меня под батогами. А ишшо пред иконою грозился клятву дать…»
Что теперь делать, как быть, Досифея не знала.
Княжич ушел, и Мария продолжила прерванную беседу.
— Так, говоришь, понравилось тебе Кокорино? Земли, говоришь, жирные?
— Жирные, матушка, жирные, — с готовностью закивала игуменья.
— Вот и пользуйтесь во славу божию.
— Не знаю, как и благодарить тебя, кормилица наша? За тем к тебе и приехала…
— О чем речи ведешь? — удивилась Мария.
— Благоволишь ты к нам…
— За князя молитесь, за деток наших.
— Уж мы-то как молимся! Единою молитвою и живем: дай бог вам здоровья и долгих дней — тебе и князю нашему и вашим деткам.
Всхлипнула Досифея (слезы всегда были у нее наготове), жарко припала губами к ручке Марии. Княгиня растрогалась…
— Сердце твое завсегда добру открыто, Досифея… Слабая ты.
— На доброту все мы слабы, — отвечала игуменья. — Нынче глядела я на тебя и умилялась: сыновья-то за ласкою все к тебе, все к тебе.
— Материнское сердце — не камень.
— Верно сказываешь. Вот и черницы мои — не те ли же дети? От грехов бежали из мира, возле бога ищут спасения.
— Лихо помнится, а добро вовек не забудется, — кивнула Мария.
Стала прощаться с княгиней игуменья.
— Приезжай к нам, матушка. Завсегда тебе будем рады, — улыбалась она, заглядывая в лицо Марии. — Так ли уж будем рады. И сыночков своих привози…
— На купальницы жди, — пообещала княгиня.
Уезжала Досифея из Владимира к себе в монастырь и дорогою, поглядывая по сторонам на покрытые первой зеленой дымкой леса, нелегкую думу думала. Коли и впрямь полюбился Веселица на княжом дворе, то на рожон лезть ни к чему — береженого бог бережет.
А в келье, возвратясь домой, задумалась игуменья, что была несправедлива к Пелагее. И велела кликнуть ее к себе.
Явилась черница, с виду тихая и покорная, а на губах ехидная улыбка полощется, едва сдерживается, чтобы не выявить своего торжества.
— Садись, Пелагея, — сказала игуменья. — Садись и слушай меня. Кто старое помянет, тому глаз вон. Была я к тебе несправедлива — то дело прошлое. Нынче хочу снова приблизить к себе.
— На все воля твоя, матушка, — отвечала, потупя взор, черница.
— Все, что ты про Феодору сказывала, все правда. Но лучше, ежели будешь ты помалкивать. Заботы наши монастырские неча в мир носить. В миру люди разные. Покуда осыпаны мы милостями, а ежели дурная слава пойдет, отвернется от нас княгинюшка — всем нам от этого станет хуже…
— Не я в мир худые вести носила, — сказала Пелагея. — А то, что упреждала тебя, а ты мне не поверила, вина не моя.
— Чья в чем вина, про то говорить не будем, — строго оборвала ее Досифея. — Бери-ко ключи да хозяйствуй, как прежде. И слова мои хорошенько запомни.
— Все исполню, как повелишь, матушка.
Задержалась Пелагея в дверях — видно, что-то еще хотела сказать игуменье, но передумала, слабо махнула рукой.
Выскочила Пелагея из кельи, остановилась, прислонясь к стенке, руку прижала к груди — вот и сбылось задуманное. Вся душа изболелась, когда отринула ее от себя игуменья, ненавистью лютой возненавидела она Феодору. Впредь осторожнее будет, впредь для нее наука. А ключики — вот они, приятной тяжестью лежат на потной ладошке…
На всенощной, стоя пред алтарем, жарко молилась игуменья. Клала земные поклоны, лбом стучала в дубовый пол. Перешептывались за ее спиной монашки, дивились ее рвению:
— Никак, покаянную возносит игуменья?
— Аль согрешила в чем?
— Грехов у нее наших поболе будет…
— Виновата, так и винится.
— Кшить вы, — осадила их Пелагея. Не заметили монашки, как подкралась она к ним сзади. Тоже на коленях стоит, тоже вроде молится, а сама все слышит.
Перепугались черницы: известное дело, Пелагея — первая у игуменьи доносчица. Сколько уж сестриц пострадало от ее наветов!..
Стали обхаживать да обласкивать Пелагею, а та и рада над ними поглумиться:
— Эвона вы какие, кроткие голубки. В лицо-то Досифее — матушка, а за глаза съесть норовите. Злобный у вас нрав.
— Не губи, Пелагеюшка, — просили монашки. — А мы тебе за доброту твою отплатим.
— Шибко богатые стали, как я погляжу, — подперев руками бока, наступала на них Пелагея. — А не пошарить ли по вашим ларям?
— Не пугай ты нас, не срами…
— И без меня осрамились. Не, донесу Досифее, не то выставит из обители. А даров ваших мне не надобно. Я черница скромная, живу по писаному уставу, не то что вы…
— Все мы грешные, и ты грешна. Возьми подарки, не обижай отказом.
Кто что из своей кельи принес, разложили на лавке шали пуховые, платки шелковые, кольца и колты. Все это наменяли они в городе на изделия рук своих. Последнее принесли, совали с разных сторон.
Но Пелагея все упиралась, все порывалась уйти.
— Уговорили, — согласилась она наконец; притворно зевая, стала ковыряться в разложенном перед нею барахле.
— Колты енти я возьму. И плат пуховый.
— Бери, бери, Пелагеюшка, не обессудь, — наперебой предлагали монашки. — Еще чего возьми, нам не жаль…
— Молчу, молчу, — сказала Пелагея, — но чтобы впредь у меня…
— Не гневись на нас. Что было, то по неразумению.
Выпроводили они Пелагею, переглянулись, вздохнули с облегчением. Кажись, на этот раз пронесло.
А Пелагея, удалившись в свою келью, так себе говорила со злобивой ухмылкой: «Ну, кумушки, ну, голубушки, теперя вы у меня в руках. Теперя завсегда первая доля — моя. Ужо напляшетесь, ужо покусаете локотки!»
3
Еще не войдя в избу, еще с порога крикнул Кузьма, властной рукой отстраняя Веселицу:
— А ну, кажи, доброй молодец, кого прячешь в светелке. Об ком по городу шум?
Всякое ожидал Веселица, приготовился к пристрастному допросу, но чтобы Кузьма — да такое с порога…
Отступил дружинник в горенку, стал заплетающимся языком приглашать Ратьшича к столу:
— Садись, Кузьма, отведай, чего бог послал…
— Ты мне зубы-то не заговаривай, — нахмурился Ратьшич. — Ты мне толком обо всем, что спрашиваю, отвечай. Не по своей я воле у тебя — князь Всеволод послал. А меды распивать будем после…
Еще немного помялся Веселица, но перед Ратьшичем разве устоишь? Делать нечего — крикнул в глубину избы:
— Малка!..
Ни звука в ответ.
— Малка, тебя зову.
Кузьма Ратьшич, задержавшись у порога, покашлял, притронулся ладонью к бороде. Веселица ждал, насупившись.
Скоро послышались легкие шаги, откинулась занавеска, и оба мужика, как стояли, так и остались стоять, словно вкопанные.
— Ну и ну, — покачал головою Ратьшич.
Не только Кузьму, но и самого Веселицу поразила Малка. Такой красавицей писаной не видывал он ее еще никогда. Не зря приглашал к себе купцов, не зря закупал у них шелка и бархаты, не зря сиживали в светелке вечерами наилучшие владимирские мастерицы-рукодельницы. Постарались они, обрядили Малку, словно княгиню. Рубаха на ней красная расписана вышивкой, выложена крупными жемчугами, светлый плат — в лиловых петухах, сапожки сафьяновые простеганы золотыми нитями, а в кокошнике горит звезда. На шее Малки — ожерелье сканого серебра, крупные сережки переливчаты, как радуга… Щечки у Малки горят, губы вздрагивают — вот-вот брызнет еле сдерживаемый смех.
Крякнул Ратьшич, подошел к Малке, взял ее за руку. Не отдернула она руки, не смутилась — только вдруг растаяла на губах ее приветливая улыбка, только вдруг потемнели глаза. И с чего бы это?
— Что ж, Веселица, славную привел ты в дом хозяйку, — сказал Кузьма. — Пора пришла и под венец. Когда свадьбу станем играть?..
— За свадьбою дело не постоит, а что сказывать будешь князю.
— Князь всем нам отец родной. Поклонитесь ему, покаетесь — он, глядишь, и простит. А то, что в монастыре такую девку прятали, — всем нам не в радость, а в посрамленье. Красавица да и только, но еще погляжу, какая она у тебя хозяйка.
Щедро привечал у себя Веселица нежданного гостя. Малка прислуживала им за столом. И так была она обходительна, и так проворна, что совсем заворожила Кузьму.
— Знай наших, — говорил Веселица, провожая Ратьшича, пьяный не от медов, которых выпил немало, а от похвалы.
Расставаясь, в щечку целовал Малку Кузьма, снова ручку держал в своей ладони.
— Сведи, бог, и будьте счастливы, — наставлял он, в седло влезая, Веселицу. — Удачливый ты человек.
— С тебя удача моя пошла…
— Не с меня, а с князя. Девку береги и обижать не смей.
— Куды уж обижать-то? Она и без меня обижена.
Уехал Кузьма. Проводил его Веселица до ворот и вернулся в горницу. А Малка грудью на ларь упала, плачет в голос, унять себя не может.
— Да что с тобою, лада моя? — растерялся Веселица. Вылетел хмель у него из головы, обнял он Малку за плечи, повернул к себе, прижал мокрое от слез лицо ее к своей груди. Посадил на лавку против себя:
— Теперь все по порядку сказывай. Сдается мне, что кое-что ты от меня утаила.
— Сердце у тебя, Веселица, вещее, — ответила Малка. — Радовалась я нашему счастью, а как увидела Кузьму, так все во мне и оборвалось.
— Что-то загадками ты говорить стала. Никак в толк не возьму.
— А ты и не мучайся.
— Да как же мне не мучиться? Или померещилось что?
— Кабы померещилось, — слабо улыбнулась Малка. — А тут все наяву, хоть и кажется — страшный сон привиделся.
— Кажись, смекнул я — не Ратьшич ли тому виной?
— Он самый и есть, кому же другому быть!
— Вот оно что, — помрачнел Веселица. — Не он ли Зорю твоего в могилу свел?..
— Я ведь гостю любому завсегда рада. А тут как вышла, как взял он меня за руку, так словно всю огнем обожгло.
— Давно это было…
— Давно, а сердцу не прикажешь. Улыбку к лицу не пришьешь — чай, не пуговица. Шибко за себя испугалась я. И еще подумала, что не будет нам с тобою счастья.
— Не помнит он тебя…
— Зато мне его вовек не забыть.
— И Христос прощал своим погубителям…
— Не святая я. На какую жизнь выкрал ты меня из обители? Рядом с душегубом век доживать, в поганые очи его глядеть до смертного часа?.. Не верь ему, Веселица, не к добру свела тебя с ним судьба. Да и зачем тебе княжеская милость? Вон Зоря-то мой дни и ночи подле Юрия обитал… Что с того? Как был простым рядовичем, так и остался. И дни свои закончил не на мягкой постели, а в темном порубе.
— Каждому свое на роду написано. А ты меня, Малка, не пужай.
— Да как же не пужать тебя, коли сам лезешь в огонь? Нынче князь добра тобою содеянного не забыл. Но еще немного времени пройдет — и кончатся его милости. Горяч ты, безоглядчив — тот же Кузьма однажды голову тебе и снесет.
— Не в закупы ж мне идти! — отчаянно оборвал ее Веселица.
— Дни-то скоро кончатся.
— Ну и пусть. Сколько ни есть, а все наши.
— Люблю я тебя за удаль твою, Веселица.
— Люби, Малка, крепко люби. А я тебя на руках носить буду…
Взял он ее на руки, крепко в губы поцеловал. Горькие были у Малки губы, а весь задрожал Веселица от счастья. Не умел молодец подолгу грустить.
Малка тоже заулыбалась. Прошлое-то все равно напрочь отсечено, а в будущее далеко заглядывать и она побаивалась. Только грустинка с того дня так и залегла у нее еще одной складочкой возле губ…
4
— Так, — сказал Всеволод, выслушав Кузьму, — все у тебя ладком, но почто же девок в монастыре воровать? Аль на воле невест не хватает? Вона сколько красавиц ходит на выданье… Самоволен Веселица, ох, как самоволен. Поди ж ты, и меня не побоялся, а что, как осерчал бы, а?
Чувствуя доброе расположение князя, Ратьшич посоветовал:
— Оно верно, княже. Досифея — баба злопамятная. Ее тоже уважить надо. Вот ты Веселицу и накажи. Справим свадебку — и отправь его куды подале. В Переяславль али в Ростов. Игуменью потешишь, и молодым в радость. Неча им покуда во Владимире обретаться — тут они у всех на виду. А когда время пройдет, можно и возвернуть… Все в твоей воле.
— Ишь, какой догадливый, — посмеялся князь. — А ведь ты мою думу опередил — быть по сему.
Сказал так и вскоре забыл о сказанном. Много было у него иных забот, и эта — не самая главная.
Главная-то дума была впереди. Главная-то дума с утра в сенях сидела. Не шел у Всеволода из головы Мирошка Нездинич, новгородский посадник, беспокоило молчание Мартирия. Как бы не замыслили чего за его спиной. Может, грамотками пересылаются, но Словиша, приставленный к посаднику, лишнего человечка к нему нипочем не допустит — ест и спит с незадачливыми послами, за каждым шагом их следит, скучать не дает.
Вчера Мирошка прислал сказать, что хочет иметь беседу с князем.
— Жду после заутрени, — велел передать Всеволод.
Так с утра и сидел Мирошка в сенях. Настойчив был, как настырный кот.
— Сидит боярин-то? — спросил князь у Ратьшича.
— Куды деться, — отвечал Кузьма с улыбкой, — сидит.
— Ну и пущай сидит.
Покуда людей своих принимал Всеволод в гриднице, время шло. Солнышко к полудню, а князь все не выходит к боярину.
— Сидит?
— Сидит.
— Ну и пущай сидит.
«Эко приспичило Мирошке», — подумал Всеволод.
Отобедали. Мирошку ко столу не звали. После обеда принимал князь послов от Рюрика. Жаловался киевский князь на Ольговичей, теснивших в Смоленске Давыда. Потом велел Всеволод звать к себе послов черниговских. Несли во Владимир обиду свою на Рюрика Ольговичи. Потом от Романа был человек, толком ничего не сказывал, а больше выспрашивал, како быть волынскому князю: приходили-де к нему с предложением от Рюрика прежнюю вражду забыть и вместе идти на черниговцев. А в награду сулил киевский князь Роману отобранные города вернуть и поддержать его против Галича.
— Каково отвечал князь ваш Рюрику? — насторожился Всеволод. Знал он и сам Романовы повадки, но хотел услышать от посла.
— С тобою сослаться велел Роман.
Отпустив от себя всех, кроме Ратьшича, подошел Всеволод к оконцу, поглядел на павшее за Успенской собор солнышко, потянулся — трудный был день.
— Сидит ли Мирошка, Кузьма?
— Сидит.
Вот теперь в самый раз звать новгородского посадника.
Вошел Мирошка, черный от усталости и негодования. Но Всеволод встречал его ласково, заботливо спрашивал:
— Не обижают ли вас у меня, Мирошка? Кормят, поят ли, препятствий каких не чинят?
У Нездинича лицо вытянулось от изумления:
— Не ты ли держал меня, князь, в сенях целый день, яко простого смерда?
— Нешто так и сидел с утра?
— А куды же мне деться?
— Не гневись, боярин. Запамятовал. Садись да сказывай, с чем пришел.
Сел Мирошка — под шубой парадной жарко, едва отдышался. Складные слова, придуманные с вечера, из головы вылетели. Долго собирался с мыслями.
Всеволод не торопил его, ходил по гриднице, позевывая, будто ему все равно, что ни скажет боярин, будто и забыл о нем вовсе. Пусть новгородцы сами о себе заботятся, а для него все решено давно.
Глухо говорил Мирошка, обиду скрывал, но голос дрожал заметно. Допек его Всеволод. Довольно и того сраму, что задержал во Владимире, сколь уж недель сторожит, разве что не взаперти, да еще ждать заставляет, перед слугами срамит. Принимая посадничество, не думал он, что стерпит и такое унижение. На что коварен был Андрей, на что крут, но до такого и он не додумался. Не одному Мирошке позор — всему Новгороду пятно несмываемое…
— Каковыми вестями располагаешь, князь? Не объявился ли Мартириев посол?..
Осторожен Мирошка. Даром что во гневе, а слова лишнего не проронит.
— Упрям ваш владыко, — сказал Всеволод. — А грамотке твоей, боярин, он не поверил. Не хочет пускать Ярослава в Новгород…
— Нешто и по сю пору противится?
Глаза у Мирошки ясные, затаенной думы в них не прочитать. Но весточку, посланную посадником тайком, Всеволод в руках держал. Про то ни Мирошка, ни Мартирий, ни сам гонец не знают.
«Ты Ярослава в город не пущай, — писал в весточке, своей боярин. — Я за Великий Новгород муку приму сполна. Не век будет держать меня Всеволод».
Незаменимый человек Словиша! Ежели бы не он, так и поверил бы смиренному обличью посадника Всеволод.
Не зря приставил к новгородцам лучшего своего дружинника князь. Еще когда со Святославом тягался, не раз выручал его Словиша.
Две недели тому назад это было. Приметил зоркий Словиша, что пристал к посаднику на торговище оглядчивый человек. Куда ни поедет боярин, человек все за ним. Вроде бы сукна себе на кожух выбирает, а сам с Мирошкой о чем-то шепчется. Запомнил его Словиша и велел Звездану глаза с незнакомца не спускать.
Так и ездили они друг за другом: Мирошка к гончарам — и Звездан к гончарам, Мирошка в собор — и Звездан за ним. Точно, человечек тот неспроста крутился возле посадника. Выведали они, что остановился он на купецком подворье, а сам не купец. Когда же стал незнакомец в обратный путь собираться (обоз на Торжок уходил с утра), подослал к нему Словиша друзей своих, веселых бражников.
Шила в мешке не утаишь. Весь вечер пили бражники с Мирошкиным земляком. Для верности сами тоже новгородскими купчишками сказались. Свой человек на чужбине завсегда родня. Оно и к делу ближе. После сказывали, что крепенький попался мужичок. Сами едва под столы не свалились, а ему все нипочем. Тогда уж стали по очереди чару принимать. Свалили-таки. Заснул мужичок пьяным сном, не слышал, как шарили у него в однорядке. Письмо нашли, отвезли Словише, Словиша князю показал. А после снова зашили его в однорядку. Утром едва добудились мужика, дали похмелиться, сунули в обоз, велели глядеть в оба, чтобы по дороге не пропал…
Обо всем об этом Мирошка и не догадывался, а потому стоял перед князем спокойно, смотрел ясным взглядом, глаз не опускал и говорил без стеснения:
— Ты зря меня во Владимире держишь, княже. Кабы отпустил, сговорился бы я с Мартирием.
— Как же! Вы с Мартирием сговоритесь, — усмехнулся Всеволод.
— Не веришь?
— Богово дорого, бесово дешево. В вашем болоте хитрые черти водятся. Еще что скажешь мне, боярин?
— Да что говорить, ежели слова мои для тебя, княже, только звук один?..
— С чем-то в терем мой шел?
— Отпроситься хотел. Шибко затосковал чтой-то. Да нынче вижу — все едино не отпустишь…
— Кабы одна тоска была, почему бы и не отпустить? Не пленник ты мой, а гость. Худого слова и говорить не смей. Не то и впрямь обижусь, посажу в поруб…
— Вона как повернул ты, княже.
— Оно и раньше было все на виду. А только неймется тебе, боярин.
— Не моя вина. Новгород, не я, не хощет брать к себе Ярослава. Пошто упрямится Мартирий, я и в толк не возьму.
Всеволод сел к столу, уставился на Мирошку пронзительно. Говорить не хотел, да само собой вырвалось:
— Лиса хвостом след заметает, а ты словами льстивыми. Не верю я тебе, Мирошка. А потому не верю, что сносишься ты с Мартирием тайными грамотками.
Сказанного не вернуть. Побледнел боярин, крупные капли пота выступили у него на лбу. Пролепетал бессвязно:
— Зря хулу на меня возводишь, князь. Зря стращаешь напраслиной…
Засмеялся Всеволод, встал, посмотрел на боярина сверху вниз:
— Али думаешь: сам я ловок, а у Всеволода людишки спят?
Еще больше испугался Мирошка, быстро сообразил: неспроста намекнул князь про поруб. С него станется — запихнет в зловонную яму. Вон Глеб рязанский так в ней дни свои и закончил.
Повалился Всеволоду в ноги Нездинич, унизился:
— Помилуй, княже. Дьявол меня попутал.
— Вот видишь, боярин, — сказал Всеволод спокойно, — со мною шутки плохи.
— Насквозь глядишь, — склонил покорную голову Мирошка. — На рысях тебя не объедешь.
— Да и помаленьку не обойдешь…
— Что повелишь, княже?
— Седин мне твоих жаль, боярин. Не то не поглядел бы, что посадник, не пощадил бы, ей-ей.
Не проник Мирошка до конца во Всеволодовы мысли, многого не понял. А князь давно смекнул: Мартирию посадник не нужен, опасный он человек. Как сажали владыку на архиепископское место, Нездинич руку к подлогу приложил. Покуда жив он, покуда ходит на воле, не знать Мартирию ни сна, ни покоя. Одним ударом думал владыка двух зайцев убить: избавиться от Мирошки и Всеволоду Новгород не отдать. Недаром рыскает он на стороне, ищет покорного новгородской воле князя. А новгородская воля в его руках: как скажет он, так и будет — Боярский совет супротив владыки не выступит, хоть и есть в нем горячие головы.
Нет, не пойдет у Мартирия на поводу Всеволод и Нездинича не сунет в поруб, а покуда шатко владыке, расшатает его еще поболе. Не то чтобы мысль эта раньше была — только после разговора с Мирошкой ему подумалось: а не кликнуть ли и Мартирия во Владимир? Пущай свидятся два дружка, пущай вместе посидят да крепко поразмыслят…
Повеселел Всеволод, даже улыбнулся, радуясь своей задумке. И так и сяк повертел — все хорошо сходится.
— Вставай, боярин, — сказал он Нездиничу и даже похлопал его по плечу.
Обнадежил он посадника:
— Скоро вернешься в Новгород, недолго осталось ждать.
— Неужто простил, княже? — вспыхнул Мирошка. — Да как же мне благодарить-то тебя?
— После благодарить будешь.
Хороший урок преподал он Мирошке. А вот Мартирию каково?..
Глава вторая
1
В июле во дворе пусто, да на поле густо. Про эту пору в деревнях так сказывают: «Не топор кормит мужика, а июльская работа».
Широко разросся вдоль пыльных троп желтый донник, тут и там в высокой траве посматривают на солнышко голубые глаза незабудок, на полянах и лесных прогалинах заалела сочная земляника. Притихли птицы на деревах — нынче много у них забот: вылупились прожорливые птенцы, требуют к себе внимания.
Все чаще и чаще стали озоровать грозы. С утра небо ясное — ни тучки, ни облачка, а к полудню бог весть откуда черную громадину нанесет. Встанет над лесным окоемом, насупится, брызнет белыми молниями, сотрясет округу раскатистым громом — и пошло, и пошло. Ветер листья взметет до вершин дерев, погонит по дорогам желтую пыль. Нарезвится, наиграется, умчится в другую даль — будто его и не бывало. И тут же сразу упадут на землю тяжелые капли.
Дождю рады все. Мужики снимают шапки, крестят обожженные солнцем лбы — овощам и угнетенным зноем посевам дожди в это время года в самый раз. Поля оживают на глазах, ослепляют первородной зеленью, пряно благоухает в тенистых овражках таволга. Горьковатый запах полей пьянит и кружит голову.
Одну из таких гроз пережидал Одноок на мельнице неподалеку от своей деревеньки Потяжницы. Чуть-чуть не доехал: с утра-то понадеялся, что будет ведро [151], сел не в возок, как обычно, а решил размяться на коне. В возке под пологом ему бы и дождь нипочем, а верхами промок до ниточки.
На мельнице было шумно: скрипели и скрежетали жернова, под дырявой кровлей кучерявилась пыль. Боярин сидел на колоде, чихал и поругивал мельника:
— Черт лысой, да останови ты свое колесо! Уши заложило, слова молвить не могу.
Мельник, прозванный в деревне Гребешком, был человек могучий и разбойный с виду: голова как бочонок, волосы нечесаны от рожденья, лицо покрыто рыжими пятнами, как железо ржой, руки словно клещи кузнечные, крепкий стан сутул и чуть кособок. Зато глаза у него голубые и кроткие, голос тонок и распевчив, как у красной девицы.
Редко заглядывал на мельницу боярин, года три, почитай, не был, да и вообще народ не часто наведывался к Гребешку в эту пору года. А ежели и приезжал кто, то разговоров с мельником не заводил, разве что только о помоле, сгружал зерно и забирал готовую муку. Жил Гребешок рядом, в собранной кое-как избе с молодой женой из пришлых с низовьев Оки…
Услышав сказанное боярином, мельник тут же бросился за дверь — немного времени прошло, жернова перестали вертеться, скрежет стих, только слышался шум дождя да журчанье падающей с запруды воды.
Одноок вкусно чихнул, провел рукавом под носом и с любопытством уставился на возвратившегося Гребешка.
— Ну и страхолюд же ты, — сказал он смирно стоявшему перед ним мельнику.
Гребешок хмыкнул, покраснел и переступил с ноги на ногу.
— Как зовут-то тебя? — спросил боярин, будто имя его забыл.
— Гребешком.
— Гребешком зовут, а сам гребня, поди, отродясь в руке не держивал…
— Оттого и прозвали.
— Сколь годков-то тебе?
— За третий десяточек перевалило. На пасху тридцать стукнуло…
— Складно говоришь ты, Гребешок, а разумения в тебе нет никакого. Почто боярина в избу не зовешь?
Растерялся Гребешок, заморгал кроткими глазами, покраснел еще больше.
— Дык не вступно мне…
— Куды уж там, — начиная сердиться, хмыкнул Одноок. — Нешто и обсохнуть у тебя негде?
— В избе тож не топлено, — растерянно пробормотал мельник. — А коли что, дык пойдем ко мне, боярин. Я живо печь-то истоплю, я счас…
За дверью полыхнуло, сильный гром до основания потряс ветхую мельницу. Боярин задержался на пороге, вздрогнул, торопливо перекрестился, словно собирался нырнуть в омут.
Лошади, привязанные к колышкам возле запруды, ржали и натягивали вожжи. Дождь бил наискосок, рябил растекшиеся перед мельницей лужи.
— Эк налило-то, — проворчал боярин. Кликнул промокшего Гребешка:
— Чо стоишь, глаза пялишь? Подь сюды!..
Мельник услужливо подтрусил к двери.
— Ну-ко, нагнись. Да пониже, пониже, — приказал Одноок. — Задом повернись.
Мельник выполнил все, как велено. Оглядываясь с недоумением, спросил:
— Почто бить хочешь, боярин?
— Экой ты недогадливой, — ткнул его в шею Одноок. — Еще малость пригнись. Теперь в самый раз будет…
Подобрав полы мокрого платья, боярин вскарабкался Гребешку на спину.
— Теперь в избу волоки. Да не оступись, гляди.
С боярином на спине мельник вприпрыжку пересек двор, так, не спуская Одноока, и ввалился в темные сени.
— Ой, кто это? — испуганно пискнул изнутри женский голос.
— То мы с боярином, — сказал Гребешок, вступая из сеней в горницу. В горнице чуть посветлее было. Сидя верхом на мельнике, Одноок разглядел у стола малого росточка женщину.
— Гостя вот привел тебе, Дунеха. Сам боярин к нам пожаловал…
Женщина заметалась по избе, поправляя сбившиеся полавочники, суетливо смахивала со стола хлебные крошки.
Приседая под тяжестью Одноока, Гребешок стоял у порога, отфыркивался, как заезженный конь.
— Милости просим, милости просим, — бормотала Дунеха, отступая в глубину избы и часто кланяясь.
«А хороша у мельника жена», — подумал Одноок.
— Ты на лавку меня опусти, на лавку, — сказал он Гребешку.
Мельник опустил боярина нежно, встав перед ним на колени, стал сдергивать сапоги. Сафьяновые были сапоги, тесные, едва снял их Гребешок, лизнул языком пятнышко, рукавом протер. Жене крикнул через плечо:
— Живо хворосту неси!..
— Ай-я?
— Хворосту, говорю, неси. Печь истопи да поднеси гостю бражки… Крепкая у нас бражка, — ласково ворковал он, стягивая с боярина платье.
Дунеха вбежала, держа перед собой большое беремя хвороста, нагнулась, заталкивая дровишки в печь. Ноги у нее были гладкие и белые, узкий сарафан плотно облегал бедра.
«Хороша, хороша мельникова жена», — глядя на нее с вожделением, снова подумал Одноок.
Иных мыслей в голове не было, томила приятная истома. В зеве печи вспыхнули, красным огнем занялись дровишки. Гребешок придвинул к теплу перекидную скамью, с осторожностью расправил на ней боярское платье. Принялся снимать с боярина исподнее — рубаху и порты. Одноок охал, сладко вздыхал, покорно поворачивался на лавке. Донага раздел боярина Гребешок, до самого дряблого, покрытого светлым пушком тела.
— Тряпицу бы какую принесла, — ворчливо окликнул он жену. Дунеха поставила на стол высокий жбан, посмотрела на боярина без стыда, словно на неживого. Это не понравилось Однооку. «Гордая», — отметил он про себя. Сидел на лавке голый, зевал полузакрыв глаза, расчесывал пятернею живот и грудь.
Хозяйка принесла шубу, оттеснив Гребешка, сама заботливо укрыла гостя. Боярин не утерпел, ущипнул ее за ягодицу. Дунеха пискнула, но не отстранилась. Стоя рядом, мельник смотрел на них добрыми голубыми глазами.
— Не отведаешь ли медку? — ласково спросил он Одноока.
— Чего ж не испить, — сказал подобревший Одноок.
Дунеха налила ему полную чару, поднесла осторожно, стараясь не расплескать. Мед и впрямь был хорош, не зря нахваливал его Гребешок.
— Не выпьешь ли еще с устатку? — пониже склонилась к боярину Дунеха. Глаза у нее темные, цвета весенней клязьминской воды, носик задорно вздернут, за приоткрытыми губками виднеется ровный рядок белых здоровых зубов.
— Отчего ж не выпить, — опять согласился Одноок.
Выпил он и вторую чару. Принимая ее, задержал Дунехину руку в своей. Пальчики у нее тоненькие, косточки хрупкие. Боярин сжал их со всей силой. Не выдернула руку Дунеха, только в глазах ее шевельнулась боль.
«Славная, славная жена у мельника…» Чувствуя, что пьянеет, Одноок откинулся на лавке, посмотрел на потолок, под которым в беспорядочности вились набившиеся с воли мухи.
Пламя в печи уже не потрескивало, а гудело, приятное тепло гуляло по избе. Дунеха стучала горшками. Гребешок разговаривал за дверью с боярскими отроками — голоса доносились, сильно приглушенные шумом дождя.
Затяжная была гроза. Туча ходила над лесом, то удаляясь, то приближаясь вновь. Ветра не было, раскатистый гром бил где-то совсем рядом.
Дверь хлопнула, вошел Гребешок и остановился перед боярином.
— Не спишь, батюшка?
— Чего тебе? — недовольно пошевелился на лавке Одноок. Мельник нарушил приятные грезы. Вставать не хотелось, под шубой было тепло и дремотно.
— Я вот говорю, отроков не пустить ли в избу? — осторожно спросил Гребешок. — Промокли они тож, иззябли на мельне-то.
— Куды им в избу? — лениво отозвался боярин. — Не, пущай на воле ждут.
— Ждите на воле! — крикнул столпившимся у входа отрокам Гребешок.
— Избаловал я их, — проворчал Одноок.
— Верно сказываешь, боярин, — отозвалась от печи Дунеха. — Посади мужика к порогу, а он под святые лезет. Я уж и своему говорю: на всех не нажалобишься.
— Молчи, баба, — незлобно оборвал ее Гребешок.
— Вот, завсегда так, — сказала Дунеха. — Ты бы его, боярин, маленько-то пристругнул.
— Чаво уж там… — смутился мельник.
Одноок приподнялся на лавке, сел, спустив волосатые ноги на пол. Шубу накинул на плечи, зевнул.
— Ухи не отведаешь ли, боярин? — спросила Дунеха, ловко схватывая тряпицей дымящийся горшок.
— А с мясом ли уха-то?
— Для тебя расстарались…
— Отведаю, чего уж… Знать, хозяйка ты справная?
Гребешок сказал с гордостью:
— Куды твоему сокалчему!
— Ну-ну, — оборвал его Одноок.
Дунеха вылила уху из горшка в высокую деревянную мису, мельник нарезал хлеба, положил перед боярином ложку.
— Знамо, ешь ты в своем тереме послаще нашего, — сказал он, надкусывая краюху. Зубы у него были крепкие и крупные, за щекой ходили упругие желваки. Дунеха брала сочиво на кончик ложки, поднося ко рту, опускала веки. Тонкие пальчики ее отламывали от хлеба маленькие кусочки.
Выпили еще меду, потом еще…
— Ты вот что, — сказал боярин. — Ты ступай-ко, Гребешок, к моим отрокам да побудь там маленько…
Мельник отложил ложку, удивленно похлопал глазами. Дунеха низко склонилась над миской.
— Поди-поди, — поторопил Гребешка Одноок.
Дунеха встала, накинула на голову плат.
— А ты куды? — спросил боярин.
Гребешок, согнувшись, стоял в дверях, смотрел на жену жалостливым взглядом.
— Ты останься, — сказал хозяйке боярин. Дунеха недолго помешкала, бросила на лавку плат, села рядом.
— Ну, дык я пойду, — проговорил Гребешок, топчась у порога. Дунеха затравленно кивнула, и он, уже более не оборачиваясь, боком вышел за дверь.
Щеря набитый гнилыми зубами рот, Одноок вздохнул и потянулся рукой к хозяйке. Давно не касался он уже молодого женского тела, не до того было. А тут мягко поддалось знакомое, затрепетало под грубой его ладонью…
2
Не скоро свернула в сторону от леса гроза, а когда свернула, в окно брызнуло предзакатное солнце, высветило убогую обстановку избы, щелястые стены, щербатый, много раз скобленный ножом пол.
Покашляв за дверью, Гребешок так же, как и уходил, бочком, пригнувшись, втиснулся в избу.
Боярин сидел на лавке хмурый, шевелил пальцами босых ног. Стараясь не глядеть на мужа, Дунеха убирала со стола, время от времени бросала на Одноока удивленные взгляды.
«Да, стар ты стал, Одноок, — с досадой думал о себе боярин. — Эко разохотился. Куды конь с копытом, туды и рак с клешней».
Взглянув на жену, Гребешок все понял, заулыбался, не скрывая торжества. Голубые глаза его смотрели безмятежно и ласково.
Притворно зевнув, Одноок сказал мельнику:
— Ты исподнее-то подай.
Гребешок принес от печи порты, рубаху и верхнее платье. Боярин оделся, с трудом просунул ноги в ссохшиеся сапоги. Исподлобья взглянул на повернувшуюся к нему, лукаво прищурившую глаза мельничиху.
— Ишшо на обратном пути наведаюсь, — предупредил он, стараясь казаться строгим.
— Приезжай, боярин. Завсегда рады будем, — приветливо отвечал мельник.
Дунеха вторила ему:
— Приезжай, батюшка. Облагодетельствуй.
«Ишь, вы, лешие», — без злобы подумал о них боярин, выходя на двор.
Отроки, сбившись в кружок, стояли у коней, тихо разговаривали друг с другом, завидев боярина, замолчали, заулыбались угодливо.
— Чо зубы скалите? — сердито спросил их Одноок. Пряча глаза, отроки засуетились, двое подбежали к боярину, подхватили его под руки, заученно помогли вскарабкаться на коня.
На дворе было сухо, изжаждавшаяся земля впитала обильную влагу. От мокрых кустов и деревьев подымался теплый пар.
Отъехав немного от мельницы, боярин попридержал коня, прислушиваясь: сквозь шорох листьев позади снова послышалось мерное скрежетанье жерновов.
Дальше, до самых Потяжниц, дорога бежала лесной опушкой, а на подъезде к деревне — берегом небольшой речки, поросшей на мелководье приземистым камышом и жесткой осокой.
Небо было ясное, тишина и покой царили вокруг, боярин подремывал в седле, с досадой и щемящей сладостью вспоминая податливую Дунеху. «Ничо, — думал он. — Заломить было ветку да поставить метку. Никуды от меня не денется».
Поближе к деревне услышал Одноок на полях непонятный шум и бабьи стенанья.
— Нешто помер кто? — равнодушно спросил он отроков.
Те тоже прислушивались, привставали на стременах. Один из них поторопил коня плеточкой, выехал на пригорок. Постоял там, потом развернулся, подъехал к боярину.
— Батюшка боярин, кажись, в деревне беда.
— Да что стряслось-то?
— Издаля не разглядишь, а только сдается мне, крик не напрасный…
Забеспокоившись, Одноок дернул поводья — конь побежал шибче. На склоне к реке, за плетнями, начинались огороды. От огородов к мосткам бежали мужики, размахивая кольями. Не видя боярина, кричали, разевая обросшие волосами рты. Издали все они были на одно лицо. Вот передние призадержались, набычились, сшиблись с теми, что были позади. Гвалт, треск, вопли.
Отроки вырвались вперед, врезались на конях в бушующую толпу, замахали плетками. Часть мужиков отпрянула, кинулась в воду. Двое парней сворачивали за спину руки третьему, другие пинали его ногами, стараясь угодить в лицо.
Чуя беду, Одноок подъехал, прикрикнул на дерущихся:
— Эй, кто тут за главного?
Из толпы выкатился неказистый мужичок, сдернул шапку, обнажая плешивую голову.
— Кто таков?
— Староста я… Колосей.
— Куды глядишь, Колосей? Почто боярина не встречаешь?
У Колосея лицо перекосилось от страха.
— Батюшка боярин, — упал он ему в ноги. — На оплошку нашу не гневись, а вели слово молвить.
— Говори.
— Ждали мы тебя, хлебом-солью встречали. Бабы, ребятишки малые тож… Вышли за околицу, а тут енти — с кольями да засапожниками. Беда. Еле отбились, а попа, окаянные, прирезали. Сунулся он со крестом, а его в ту самую пору ножичком и полоснули… Кончается поп, положили его на паперти. Худо.
Староста обернулся к лежавшему на земле окровавленному мужику:
— Вот ентот и полоснул… Куды с ним вожжаться? Конобея, боярина соседского, холоп. Тихой был, в гости к нам из-за реки хаживал, за девку нашу сватался… Ишь, как глазищами-то стрижет — злой, ровно гадюка. Кусается…
Холодея сердцем, Одноок резко оборвал Колосея:
— Из конобеевских, говоришь?
— Холоп-то? — заморгал выгоревшими ресницами староста.
— Убивец — из конобеевских, спрашиваю, что ли?
— Из конобеевских, из чьих же еще, — подтвердил староста.
Боярин спешился, отдал поводья отроку, шагнул в расступившуюся толпу. Окровавленный мужик попытался встать, но ноги не держали его — висел на вытянутых руках, запрокинув лицо, глядел затравленно, как подранный волк. Дышал тяжело, со всхлипом.
Одноок склонился над ним, черенком плети тронул за подбородок. Налитая злобой толпа сомкнулась снова, за спиной боярина слышались голоса:
— Чо глядеть, в реку его — пущай ершей кормит.
— Душегубец!..
— Нехристь поганой.
— Житья в деревне не стало… Днесь всю рожь за болоньей потоптали. Бабы в лес по ягоды ходить опасаются…
— Защити, боярин.
— Заступись…
«Сучий сын Конобей, — подумал Одноок. — Эка чего выдумал…» Был он в сильном волнении, вспомнил, как ходил сватать Звездана, как поссорился с боярином. Однако, на что уж сам был он коварен, а от Конобея такого не ожидал. «Не будь я Однооком, — рассуждал он, выходя из толпы и садясь на коня, — если за ущерб и разорение не поплатится Конобей!»
— Погодь-ко, боярин, — остановил его староста. — Про мужичка-то ничего нам не сказал. В реку его али как?
— В реку сунуть недолго, завсегда успеется. А покуда заприте его в погребе. Да зорко стеречь, дабы не утек.
— У нас не утечет, — заверил Колосей и велел тащить мужика в деревню.
Толпа побежала в гору за отъехавшим боярином.
Перво-наперво направил своего коня Одноок к церкви — взглянуть на попа.
Бабы встретили его у паперти громкими причитаниями:
— Отдышался батюшка, помер… Отнесли его в избу. Плачут все, матушка шибко убивается…
Поп лежал в горнице на столе — длинный и бескровный. Одноок перекрестился, постоял возле покойника. Чувствуя, что кружится голова, вышел на свежий воздух.
Мужики сидели на лавочке перед поповой избой, возбужденно обсуждали случившееся. Сплевывали себе под ноги, крестились, вздыхали. Не замечая стоящего на крыльце боярина, говорили смело:
— Конобей-то из чужих, ему все едино. А нам и от свово лихо.
— Жаден Одноок. За потоптанную-то землицу небось с нас же и взыщет…
— Куды податься, где правду искать?
— Чья сильнее, та и правее…
— Тише вы, Колосей идет.
— Не попу бы — был он доброй и беззлобивой, — а Колосею ножик под ребро.
— Как же. Когда схватились с соседскими, дык он сбоку. А как приехал боярин — напереди всех оказался.
— Кшить вы! Холоп на холопа послух, аль того не знаете?
Только тут заметили мужики боярина. Стоит себе в тенечке, краем уха к разговору прислушивается. Слышал не слышал, бог весть, а от греха подальше стали мужики помаленьку разбегаться в разные стороны.
— Ну, погодите, — сквозь зубы выдавил Одноок. — Ужо доберусь я и до вас. Ужо попрыгаете.
— Иди-ко сюды, — подозвал он остановившегося на почтительном расстоянии старосту.
Колосей приблизился, встал на нижнюю приступочку крыльца, взгляд боится поднять на боярина.
— Ты тут потряси кой-кого, повыспрашивай: у себя ли Конобей?
— Не, — сказал староста. — Конобея здесь нет. У него Ивач, тиун зловредный, всему заправщик.
— А тебе-то отколь знать?
— Свекор мой в ихней деревне. Он и сказывал.
— А что же, у Ивача у того две головы, что ли?
— Отчего же? Голова у него одна, а — забубенная…
«Ничего, — подумал Одноок о Конобее. — За тиуна не спрячешься. Ко князю пойду — все наружу вылезет».
Бессонной была ночь в Потяжницах. Крепко расстроился боярин — до самого утра мучился животом. Выбегал на зады избы, сидя в укромном местечке, тоскливо поглядывал на звезды. Жалко ему было вытоптанной землицы, щемила протяжная боль в груди: сколь кадей ржи осенью-то недосчитаешься… Отвернулось от Одноока переменчивое счастье. С той поры, как посмеялся над ним Веселица, прохода не стало ему на улице: всяк, кому не лень, кинет камень, в долг перестали брать, резы помене пошли, прибытку почти никакого. А ежели и Конобею спустить, то завтра он не то что землю вытопчет — все леса порубит вокруг… Мягко стлал, да жестко спать. А еще мечтал породниться — хорошего свата пустил бы к себе на двор. Благо, пресвятая богородица уберегла, свершиться злу не дала, надоумила…
Сидел Одноок в укромном местечке, глядел на небо, слал проклятия на Конобееву голову.
Утром велел он старосте привести убивца:
— Очухался?
Мужик еще не твердо держался на ногах, но глядел осмысленно. Ветхая сермяга на нем была вся в запекшейся крови, под глазом темнел синяк, на голове кожа содрана с волосами, свисает грязным лоскутом.
— А разукрасили тебя мои потяжинцы, — подначил его Одноок.
— Ничо, — сказал обретший голос мужик. — Брат брату головой в уплату. За то мне ответ держать.
Набычился боярин:
— Дерзишь, раб!
— Тебя, боярин, гневить не хочу, — повинился мужик. — Да не я всему, что было, виной. Не по своей воле за реку шел, тебе ведомо.
— Отколь же мне ведомо?
— Колосей небось все рассказал.
— Колосей-то рассказал, да от тебя слышать хощу…
— Вот те хрест, не хотел я убивать попа, — запинаясь, стал оправдываться мужик. — А мне што? Мне ничего. Поп тут ни при чем… Невеста у меня в Потяжницах, девка справная — нынче мне ее не видать. А попа бить я не хотел, сам под руку подвернулся — ножичек-то не ему назначен. Тут он с крестом. В драке разве разберешь?.. Эх-ха, пропала моя головушка. То ведомо, боярин, ты меня не пощадишь, на волю не пустишь. А я мужик смирной. Ей-ей, не хотел за реку ходить. И рожь я не зорил… А тут бес попутал. Ивач тако сказывал: не пойдешь, я тебя сгною. Строг наш тиун, зело строг. И рука у него тяжелая, ох, тяжелая… А я чо? Я ничо. Что хошь, делай, твоя воля, боярин…
— Нынче ласково ты запел, — сказал Одноок. — А вчера насмерть бился с моими мужиками…
— Дык оно ведомо. Кому ж охота? Коли не я, дык они бы меня — кольями-то. Сам видел. А дружки мои за реку утекли — их не догнать…
Лишние разговоры — пустая суета. Подумав, решил Одноок везти мужика с собою во Владимир, там Конобею его предъявит, а ежели понадобится, то и князю. Всеволод вспыльчив, но справедлив — спуску Конобею не даст. То-то попляшет боярин, когда кликнут ответ держать. Чужой беде хорошо смеяться, посмейся своей…
3
— Здравствуй, Конобей.
— Здрав будь, Одноок.
— Почто в терем не кличешь? Али гость незван? — у Одноока в прищуре глаз поблескивали лукавые искринки. Кожух на нем праздничный, широкий пояс вышит золотыми нитями, сапоги новые — с загнутыми носами, с серебряными кисточками на голенищах.
«Чего это с ним? Не за дочь ли вдругорядь свататься пришел?» — удивился Конобей, жестом пригласил соседа — проходи, гость дорогой, не стой на пороге.
— Пришел я, — улыбнулся Одноок, — не один, Конобей. За воротами еще гости ждут.
Невдомек боярину, в толк никак не возьмет, что Одноок задумал, кого за собою привел.
— Гостям стол, а коням столб, — отвечал озадаченный Конобей. — Зови, кого с собою привел, терем у меня просторный и на угощенье не поскуплюсь.
Хитро придумал боярин — кого хошь, а такого гостя Конобей не ждал. Сползла улыбка с толстого лица соседа, отвисла борода.
А сделано было все, как наказал Одноок: перво-наперво въехали отроки, а за ними на худой кобыле — мужичок: головой назад, руки связаны за спиной.
— Вот и подарочек мой, Конобей, — ласково сказал боярин. — Слава богу, довез в сохранности. Принимай, не огорчай отказом…
— Да мужик-то мне на что? — быстро оправился Конобей. — От подарка не откажусь, чтобы тебя не обидеть, а только ума не приложу, на что намекаешь…
— Не лукавь, боярин, — усмехнулся Одноок. — Как привез я тебе подарочек, так ты и в лице переменился. С чего бы это?
— А с того, что шутки эти доброму соседу не пристали. Не токмо я, кто хошь такому подарочку подивится. То, что в ссоре мы с тобою были, то давно прошло. Али снова что недоброе задумал?
Конобея не просто сбить, скоро он и вовсе оправился, стал покрикивать на Одноока, животом подталкивать ко всходу: дескать, откуда пришел, туда и возворачивайся, а на моем дворе тебе не место.
О нраве его напористом хорошо знал Одноок, потому и не поддался соседу — сила-то была на его стороне. Сила-то его — мужик на худой кобыле. Ежели что, он через весь Владимир с ним пройдет, на каждом углу кричать будет, хулить Конобея.
— Ты голоса-то на меня, боярин, не подымай, — сказал Одноок с ухмылкой. — Разговора-то у нас ишшо не было, разговор-то ишшо будет. А во дворе слуги бродят, отроки мои опять же — как бы слухи не поползли…
Образумился Конобей. И впрямь, ославит его сосед на весь город, с него все станется. Верно, сила на его стороне.
— Что ж, входи, — отступил он от порога.
Вошли бояре. Мужичка вслед за ними впихнули в терем, вышли за дверь отроки.
— Садись к столу, — пригласил Конобей.
Одноок сказал:
— Вот и ладно.
Сел, расправил на груди бороду, руку положил на столешницу. Молчал.
Конобей тоже молчал, изредка бросал косые взгляды на мужичка. Тот втягивал голову в плечи, виновато глядел в пол.
Ключница принесла в братине холодного меду, жареного гуся, поставила посреди стола блюдо с крупно нарезанным хлебом.
— Пей, дорогой гостюшко, ешь, хозяина не обижай, — с притворной лаской в голосе потчевал Одноока Конобей.
Ели с аппетитом, пили во здравие друг друга, догладывать кости бросали мужику.
— Тоже божья тварь, — говорил Конобей.
— Какой-никакой, а подарочек, — кивал Одноок.
Наелись, напились, мужика попотчевали, срыгнув, приступили к серьезной беседе.
— Твой это мужик? — спросил Одноок.
— Впервой вижу, — отвечал Конобей.
— Видишь, может, и впервой, а мужик-то из твоей деревни…
— Из моей ли, не из моей — того не ведаю.
— Эй ты! — окликнул мужика Одноок. — Боярина свово признаешь ли?
— Как не признать, — ощерился мужик и поклонился Конобею. — Как благодетеля не признать?.. Конобей это.
— А ежели побожишься?
— И побожиться могу…
Мужик поискал глазами икону, перекрестился:
— Пропасть мне на этом месте, ежели это не Конобей.
Клятва перед иконой — дело серьезное. Одноок кивнул и снова уставился на соседа. Конобей растерянно смахнул пот с лица.
— Приехал я вчера в свои Потяжницы, — медленно заговорил Одноок, — а там — беда. Мужички твои в моей деревеньке озоруют. Рожь потоптали, попа прирезали, насильничают, — ну ровно поганые… Что на это скажешь, боярин?
— У мужиков одно на уме — как поозоровать, — ушел от прямого ответа Конобей. — Спасибо тебе, Одноок. Слова твои попомню — завтра же кликну тиуна, велю расправу чинить.
— Э, куды как ловко повернул ты, боярин, — засмеялся Одноок. — Да у меня силки крепкие. Просто так ты от меня не уйдешь. Эко выдумал — расправу чинить… А мужиков кто наставлял?
— Ивач все это, — подал голос мужик. — С тиуна все и пошло…
— Цыц ты! — выдав себя, налился багровой кровью Конобей.
Верх взял Одноок, сердце запело у него петухом.
— Как же рядиться будем, боярин? Али ко князю с челобитьем идти?
Как сказал Одноок про князя, тут и совсем оробел Конобей. Дело простое, и послуха имать не надо — свой же мужик донес, от него не отмашешься. Придавил бы его, яко клопа, да не в силах боярин. Улыбнулся Конобей, как мог, приветливее:
— Почто же ко князю идти? Небось и сами урядимся…
Долго рядились, Одноок на темном деле свою выгоду искал:
— Ты мне за рожь-то потоптанную свою землицу возле россечи отдашь. Да за попа, да за то, что ко князю не пойду.
— Эко сколь нагреб, — пробормотал Конобей. — А не много ли будет?
— Да за мужика твово, — не слушал его Одноок, — за мужика сколь дашь.
— За мужика не дам ни ногаты… На что мне мужик?
— Разговорчивой он…
Все продумал Одноок, крепенько прилип к его паутине Конобей. Куда ни повернись боярин — везде пропал.
— А помнишь ли, как приходил я к тебе свататься? — наседал Одноок.
— Как не помнить…
— Срамил ты меня.
— Ничего не забыл…
— Да как позабыть-то? Должок за тобой, должок за тобой так и остался, боярин.
Почти нежно ворковал Одноок, еще крепче опутывал Конобея своею паутинкой. — Ты вот что, боярин. Ты мне всю деревеньку-то откажи… Она у тебя подле моих Потяжниц одиноко стоит.
Конобей вытаращил глаза:
— Еще чего захотел!
— А ты не шибко поспешай, — охладил его Одноок. — Ты ладком подумай да пораскинь умом. А за то я тебе откажу лесное угодье за рекой…
— Осина там да болонья, мне ли про то не знать.
— Да разве осина не дерево? Лыко опять же на лапти — вона твой мужичишко совсем разут, смотреть тошно, на коробья там да на лукошки… Осина — дерево тож. Не упрямься, боярин.
Ай-яй-яй, сник Конобей, слова в горле застряли, рот разевается без звука. Сперло ему дыхание, глаза вот-вот вылезут из орбит. Жаль отдавать ему деревеньку, а видно по всему, что придется.
— Ты бы мне в ином месте угодье-то… Соснячок там какой али ельник.
— И, чего захотел! — помотал головою Одноок. — Бога не гневи, соглашайся, покуда не передумал.
— Ладно.
Били бояре по рукам, договор свой скрепляли клятвою, попа звали, целовали крест.
Уехал Одноок от Конобея, радовался: ловко обошел соседа — и землицы себе прирезал, и за мужика получил откупное.
— Так, — сказал Конобей, сидя обескураженный у себя в тереме на лавке. — Нынче ты, Одноок, сверху, а завтра я.
— Так, — повторил он зловеще, обращая взоры свои к мужику, все еще стоявшему перед порогом на коленях. — С тобой-то что делать мне? Куды тебя подевать?..
Понял мужик, что не будет ему пощады. Заюлил перед боярином, подполз к нему на четвереньках, облизал сапоги.
— Помилуй, боярин, — просил без надежды.
— Куды там! Осрамил ты меня, а милости ждешь.
— Не по своей ведь воле…
— Попа резал ты, не мой был на то указ.
— Не хотел я попа-то.
— Того, что сделано, не вернешь. Подь ты!
Смазал боярин мужичонку сапогом по губам. Отполз мужичонка на прежнее место, кровь размазывает по лицу. Совсем тошно сделалось боярину.
Затухала в нем злоба — трезвые мысли приходили на ум. Стал Конобей прикидывать, как бы на чем другом Одноока обойти. Никак не мог он смириться с потерей. И так вертел и эдак, но ничего путного не придумал.
Тогда кликнул он дворского:
— Холопа вот мово прихвати. Поезжай на Клязьму подале куды. Камень ему на шею — да в воду.
4
Возвращаясь от Конобея, встретил сына своего Звездана на улице Одноок. Не вдруг признал, посторонился перед дружинниками, ехавшими во всю ширину улицы. Словишу сразу приметил — плечист, светловолос, улыбчив, да и конь под ним особой масти — тонконогий, высокий боевой конь. Выторговал его Словиша у византийских купцов, что возвращались в прошлом году от булгар. Много дал он им соболей и лисьих шкур — две недели про то шли суды да пересуды по городу. Когда проезжал он мимо, выходили взглянуть на Словишиного коня стар и млад.
Раньше-то, бывало, боярин едет — все перед ним расступаются; нынче побаивался лишний раз соваться княжеским милостникам на глаза. Обнаглели бывшие холопы и каменщики, а после того, как высмеял Одноока Веселица, и вовсе отпала у него охота показываться дружинникам.
Свернул Одноок на обочину, глаза долу опустил. Только когда сам наехал на него Словиша, когда сам закричал: «Здорово, Одноок! Аль старого знакомца своего не признал?!» — воспрянул боярин.
Тут только и увидел боярин рядом со Словишей Звездана, заколотилось сердце — растрогался старик, подъехал ближе. Звездан тоже пришпорил своего коня, привстал на стременах, вытянув шею, вглядывался в лицо отца. Перегнувшись с седел, поздоровались они, коснувшись друг друга руками.
— Сколь уж времени прошло, а не кажешь носа ко мне на двор, — упрекнул сына Одноок.
Не хотел обижать его Звездан, отвечал невнятно:
— Служба княжеская — не ежедень пир.
— Аль и минутки свободной не выдалось?
— Так и не выдалось…
— Обижаешь меня, сын. На весь город ославил, а мне каково?
— Снова ты, батюшка, взялся за старое. Сколь раз говорено было — на твоей усадьбе я человек подневольный, а здесь — сам себе хозяин. У князя служба хоть и тяжела, а — почетна.
— Служи у князя, кто ж тебе не велит? Вона сколь боярских сынов у него в дружине.
— Однооков сын я один.
— Нешто род наш не знатен? Нешто мы хуже других?
— Род родом, а честь честью. Не вернусь я к тебе, и не проси.
Приблизившийся Словиша попытался их примирить:
— Как погляжу я на вас: вместе тошно, а розно скучно. Что снова распетушились?
Боярин отвел глаза:
— Кому скучно, да не Звездану. Никак не пойму, чем приворожил ты его, Словиша?
— Не сладким пряником, не красной девицей…
Дружинники, сдерживая коней, посмеивались издалека:
— Живем — не тужим, меды пьем — не хмелеем. Шибче уговаривай, боярин, сына…
Махнул Одноок рукой, печально тронул коня:
— Прощай, Звездан.
— Прощай. Не поминай лихом…
Разъехались. Оглянулся Одноок, не утерпел. Оглянулся и Звездан. Скрестились они взглядами — простились тихо.
Ехал Одноок в свою усадьбу без прежней радости. Думал, как встретит его конюший, как будет осаживать коня, похлопывая его по холке. Потом подержит стремя, помогая выпростать ногу, заглянет услужливо в лицо, побежит впереди, чтобы помочь на всходе. Покряхтывая, поднимется боярин на крыльцо, войдет в терем. Отдуваясь, сядет на лавку. Отрок стянет с него сапоги, ключница выставит на стол высокий жбан с холодным квасом. Все заведено от веку, все так и будет впредь. Ничего не изменится в жизни Одноока, и с утра все потечет своим чередом…
Да чередом ли? Да тем ли же заведенным порядком?.. Ой, не хитри, боярин, зря себя не успокаивай. Не забудешь ты Звезданова прощального взгляда. Не привык ты, боярин, к потерям: всю жизнь все к себе да к себе. А тут оторвалась родиночка, покатилась во чисто поле — не поймать. Никаким золотом не вернуть, не соблазнить никакими посулами.
Когда умирала жена у Одноока, он локотков не кусал, рук не заламывал, — ждал кончины спокойно. Сам же в могилу ее свел; заказав богатую домовину [152], жалел, что потратился, но не потратиться все равно не мог — боялся наговоров: и так прошла о нем худая молва. А сына отрывал от себя с мясом. Кажется, поступился бы и заветным ларем — ничего не пожалел бы, чтобы снова видеть его в своем терему…
Но снова солгал себе Одноок. Ларем-то он бы не поступился: для того ли всю жизнь складывал в него ногату к ногате, гривну к гривне — серебром ли, золотом ли?..
У заветного ларя только и отмякало Однооково сердце.
Остановился боярский конь перед могучими, красной медью обитыми воротами. Отроки спрыгнули, распахнули тяжелые створы. Хозяйским глазом окинул боярин свой двор: все ли ладно? Все ли на прежних местах?..
Ничего не скроется от его взгляда. С коня далеко глядит Одноок, спешиваться не торопится.
Конюший суетливо подсеменил к нему — не слишком ли поспешно? Глаза прячет под бровями — почто?
Нахмурился Одноок, покашлял в кулак, огляделся по сторонам. У ключницы, стоявшей возле подклета, подкосились ноги.
— Подь сюды, — не слезая с коня, подозвал ее боярин.
Не сразу подбежала ключница, замешкалась — и это приметил Одноок. Не по себе ему сделалось.
— Ты сюды, сюды, на меня гляди, — сурово сказал боярин.
Всплеснула руками ключница, но ослушаться побоялась, встала у самого седла. Глаза у нее красные, руки дергают за концы старенький убрусец.
— Что затаила, старая? Почто на меня не глядишь?
— Беда, боярин…
Вот оно — не обмануло вещее.
— Да что случилось-то, что? — заволновался Одноок.
— Жеребеночек, твой любименький, Сажарка-то… — пустила слезу, бестолково суетясь, ключница.
— Дура баба, быстрей сказывай.
Конюший смотрел на боярина с ужасом.
— Сажарка-то ножки переломал… Кончается…
— Ты?! — вскинул на конюшего побелевшие глаза Одноок.
— Прости, боярин. Верно, недоглядел… Резвой был жеребеночек, — забормотал конюший обреченно и отступил от коня.
— Убью! — завопил Одноок, вскидывая плеть. Со свистом рассек воздух. Ударил еще раз, еще — до конюшего не достал, рассвирепел сильнее прежнего. Куда и степенность делась, откуда резвость взялась: спрыгнул с коня, вразвалку зашагал по двору. Конюший с ключницей шли поодаль, боясь приблизиться.
— Где? Где? — выспрашивал, полуоборачиваясь, боярин.
— В яму угодил, — торопливо говорила ключница, едва поспевая за мужиками. — Как пошла я за мучицей, только за угол — а он тут, совсем рядышком. Лежит, како робеночек, гривкой встряхивает, глядит жалостливо. Глазищи-то — во… Страшно стало.
— Не виноваты мы, боярин, — оправдывался конюший. — То мужики яму не на месте вырыли. Резвился Сажарка да в яму ту и угодил…
— Не, — сказала ключница, — яму на месте вырыли, сам боярин велел.
— Ты помолчи, — одернул ее конюший. — То, что я сказываю, — правда. А тебе все со страху померещилось. Не на месте вырыли яму. Все мужички, от них и беда… от них и беда…
— Самим глядеть надо было. С вас и спросится, — оборвал их боярин. — Добрых кровей был Сажарка, и ты, старый кобель, за него в полном ответе…
«Эко дни наладились — один к другому, — думал боярин. — А за Сажарку спрошу строго».
Мечтал Одноок обзавестись таким конем, чтобы все во Владимире ахнули. Хотел он Словишу посрамить, хотел по улицам проехаться всем на зависть и удивление. Да за такого коня ему бы большие деньги дали, такого коня и князю не совестно показать. Не все ездить боярину по гостям на худенькой кобылице…
А теперь подыхал Сажарка, и сердце Одноока обливалось кровью. За что же напасть-то такая? Когда грех взял на душу? Почто чужие дворы обходит беда, а у его ворот завсегда стоит на страже?..
Последнее дыхание отлетало от жеребенка, красным затухающим глазом смотрел он на боярина, будто прощался с ним по-человечьи, печально.
— Ах ты, что за беда такая, — покачал головою Одноок. Смахнул с ресницы слезу, огляделся беспомощно. И тотчас оживилось его лицо, вдруг исказилось нестерпимой яростью.
— По миру пустить меня хотите? — закричал он, наступая на столпившихся вокруг дворовых. — Радуетесь?!
— Не гневись, батюшка, — кинулась к его ногам ключница. — Будь милосерд. Не вели казнить конюшего.
— Прости, батюшка, — упал на колени конюший. Недавно еще говорил он мужикам: «Наш-то боярин — за курицу не пожалеет голову с любого снять», а теперь сам просил у него пощады.
Размахнулся, ударил Одноок конюшего плетью по голове, бил еще — ногами — по лицу, по впалой груди. Хрипел, задыхаясь от злобы.
— А вы куды глядите? — набросился он на дворовых. — Почто стоите, будто все с ним заодно? Али сами плети захотели?..
Нехотя стали пинать мужики обмякшее тело конюшего. От стонов его оживлялись, били сильнее и тоже — озлобясь. На боярина оглядывались — доволен ли?
На всю оставшуюся ночь лишился сна Одноок. Жалко ему было себя до слез. Вздыхал и охал боярин, молился пресвятой богородице, просил у нее заступничества, не жалел посулов. Свечку пудовую обещался поставить в церкви Успения, нищих и убогих кормить и привечать на своем дворе.
Утром слабости своей устрашился, подумал, что и обыкновенной свечи за благоденствие и мир в терему его хватит сполна. Ежели супротив каждой беды ставить пудовую, то и со всех бортей воску не наскрести…
Глава третья
1
Давно дня этого ждал Звездан, давно к нему готовился. Пришел как-то утром Словиша и сказал:
— Ступай. Князь тебя кличет.
Не было у Звездана второй, поновее, однорядки для такого случая, в шапке повылез ворс, сапоги поистрепались, краска повытерлась на носах.
— Ничего, — успокоил его Словиша. — Была бы голова на плечах, а прочее — дело наживное.
Дал бы он ему свою одежку, но все равно была она Звездану велика — и ростом помене, и в плечах поуже своего старшего товарища был молодой дружинник.
Приехал Звездан на княж двор, едва сошел с коня, а его уж со всем почтением ждут, провожают на крыльцо, резную дверь перед ним отворяют, говорят ласково:
— Поспешай. В гриднице ждет тебя князь, справлялся…
В переходе навстречу ему попался Кузьма.
— А вот и он! — весело воскликнул, оглядел дружинника, будто видел его впервой, похлопал по плечу. — Только что тебя со Всеволодом поминали — ждет…
— Ждет тебя князь, — сказал вынырнувший из полутьмы дядька в белой рубахе, перепоясанной шелковым шнурком, — князев постельничий Шелудяк, — жестом указал дорогу.
Было с чего оробеть Звездану: ране-то, ежели и бывал он в терему, то позади других прятался либо стоял в сторонке, а нынче был у всех на виду.
«Знать, не за простою нуждою вызвал меня к себе Всеволод», — подумал он, переступая высокий порог просторной гридницы. Постельничий шагнул назад и бесшумно притворил за собою дверь.
Один на один остался Звездан с князем. Стоя перед ним, вглядывался в него пытливо. Хоть и чувствовал себя стесненно, а не робел, не улыбался, заискивая, как делали другие (даже Ратьшич — на что близок к князю, а случая не упускал, чтобы не подольстить ему).
Всеволод сидел на стольце понуро, думал о чем-то своем — на дружинника взглянул только и тут же отвернулся. В эту минуту показался он Звездану уставшим и старым. Лицо серое, под глазами — темные мешки, в бороде — седина.
На пирах князь был совсем другим, а только на пирах и видел его Звездан. Да еще раза два на охоте — издалека. И на охоте и на пирах Всеволод выглядел собраннее и моложе.
Косой солнечный луч проник в набранное из мелких стеклышек оконце, высветлил разваленные на столе перед князем толстые книги с медными застежками. Скрученный берестяной свиток, испещренный угловатыми буковками, валялся поверх книг, зажатое между страницами, торчало острое писало. Видать, до прихода Звездана не бездельничал Всеволод, видать, и ночью трудился — оплавленный огарок торчал из подсвечника, на столешнице блестели пятна затвердевшего воска…
Помявшись у входа, Звездан сказал внезапно осевшим голосом:
— Звать велел меня, княже?
Всеволод оторвался от своих дум, склонил голову набок, посмотрел на Звездана в упор. Взгляд его был настойчив и плутоват. Мелкие морщинки побежали от уголков глаз к косицам.
— Наслышан, наслышан я о тебе, — сказал князь и небрежно отодвинул от себя сваленные грудой книги. — Подойди-ко поближе.
Звездан сделал несколько шагов навстречу и снова остановился.
— Сядь, — приказал ему Всеволод.
Дружинник повиновался. Сидеть в присутствии князя было великой честью. Не всякий боярин удостаивался ее.
Смущение Звездана не ускользнуло от князя, и это ему, видать, понравилось.
— Доносили мне, — произнес он, не торопясь и певуче выговаривая каждое слово, — доносили мне, что в грамоте ты зело прилежен, любознателен и книги в великом множестве чтишь. Верно ли?
— Все верно, княже, — подтвердил Звездан.
— Божьей волей свет стоит, наукой люди живут, — удовлетворенно кивнул Всеволод. Прямой ответ Звездана пришелся ему по душе.
— Не для простого знакомства звал я тебя…
— О том и мне вдогад, княже.
— Догадливый ты, как я погляжу, — пошутил Всеволод, и впервые улыбка тронула постное его лицо. — Не зря Словиша тебя нахваливал, приметливый у него глаз.
— Смущаешь меня, княже. Как ответствовать тебе повелишь?..
— Не юли, все сказывай прямо.
— Прогневить тебя боюсь.
— Меня прогневить не бойся. По-пустому на себя греха я не возьму. Не для того звал тебя.
Поудобнее устроился Всеволод на стольце, подпер голову кулаком, приготовился слушать.
Замешкался Звездан. Слова, для того чтобы начать, не сразу сыскал. Да и побаивался — так ли поймет его князь.
Выслушал его Всеволод внимательно, на полуслове не прерывал.
— Вот оно что, — сказал задумчиво. — За бояр заступаться вздумал? Видимостью прельстился, а многое тебе невдомек. Мне-то со стольца куда как далеко видно. Гниль вижу, коей ты не зришь, лестью и коварством боярским по горло сыт. И вот что думаю: конь в единой руке верную дорогу сыщет, а ежели дергать его за вожжи со всех сторон, взбрыкнется да и понесет — попробуй-ко остановить: ноги переломает на бездорожье, а то и вовсе в болото занесет… Не объединить Руси, коли в своем дому непорядок. Начинать надобно с малого, а великое в крепкой руке велико. Вон и Роман волынский… Но двум князьям в одной упряжке не бывать. Святослав-то Всеволодич добрыми словами увещевал, уговаривал вместе на степь идти ратью, а каждый шел по себе. Так и есть, так и впредь будет. Каждый про себя мыслит: чем я хуже других?.. Может, правда и за Святославом бы была, ежели бы я его не одолел. А одолел, потому что знаю: не словами крепится власть, а делом. Не молитвами единится Русь, а властной рукой… Попусту уговаривать князей, бояр тоже уговорами не проймешь…
— Во всем ли прав ты, княже? — выслушав до конца, спросил Звездан. — Не хулишь ли, ослепленный, и ближнего своего?
— В том ли добро, чтобы каждому угождать! — воскликнул князь. — Почто всю вину на меня кучей свалил? Почто бояр не винишь? Почто с них не спрашиваешь?..
— Ты — князь.
— Пристало ли мне к ним на поклон идти? Тот, кто со мною, тот весь на виду. И доброго совета послушаться я всегда рад… Только добрых советов что-то не слышу от старых бояр — молчат, затаили злобу, ждут… А чего ждут? Смерти моей ждут? Напрасно. Я сынов вместо себя поставлю. Не старшего князя в роду — родную кровь. От старшего князя, пришедшего со стороны, проку нет. А у нас — корни в этой земле, каждая былиночка — своя. Так и пойдет: от сына — к внуку, от внука — к правнуку. И будут они множить, а не расточать завещанное: чай, не чужому оно, чай, своему…
— Дивно говоришь ты, князь, — поколебал свою уверенность Звездан. Запальчивые слова Всеволода еще звучали в его ушах. Вона как преобразился князь — нипочем не узнать его. Куда и сонливость делась: выпрямился он, будто выше стал, разрумянились щеки, глаза заблестели открыто и яростно. Говорил князь заветное, душой не кривил. И за одно за это уже полюбил его Звездан.
— Разговорил ты меня, — ухмыльнулся Всеволод. — Задел за живое. И на том тебе спасибо, Звездан.
— Что ты, княже! — воскликнул Звездан, смущаясь еще больше. — За что меня благодаришь?
— То, что на уме у него, скажет не всяк, — остановил его Всеволод. — Молод ты — оттого и открыт, оттого и душа у тебя нараспашку. А только впредь такое сказывать мне не моги…
— Как же — так? — оторопел Звездан, удивляясь перемене, вдруг случившейся в князе.
Всеволод сузил глаза:
— Не моги!
Онемел язык у Звездана, ноги онемели от непонятной тяжести, встал он и снова опустился на лавку, руки безвольно упали между колен.
— Прости, княже… Все в твоей воле.
— Про то, что сказано, запомни хорошенько, Звездан.
— Все запомню, княже.
— Крутая обочина недолго стоит… А теперь слушай-ко мой наказ. Коли выполнишь все, как велю, быть тебе у меня в великой чести. Словиша за тебя слово сказал, ему — верю.
— И мне верь, княже! — воспрянул Звездан.
Всеволод улыбнулся. Хоть и осерчал он немного, а все-таки понравился ему молодой дружинник. Полагался на него князь. Не кривил душой. Говорил, доверяясь, открыто:
— Путь тебе лег не близкой. В Новгород скачешь гонцом. Нынче посадник Мирошка у меня в гостях, скажешь владыке — жду, мол, и его к себе в гости. А ежели приглашения моего не примет, брать буду Новгород на щит. Пусть не противится Мартирий — иного пути для него всё едино нет. Не я, так новгородцы не долго потерпят его на владычном столе… Все ли понял? Все ли, как сказано, передашь?..
— Как не понять, княже, — воскликнул Звездан. — И грамотку ко владыке дашь?
Он скользнул взглядом по разбросанным на столе листкам.
— На словах передашь, — мотнул головой Всеволод. — Только чтобы слово в слово. Запомнил ли?
Звездан повторил сказанное князем.
— Светлая у тебя голова, — похвалил Всеволод.
Лицо дружинника озарилось улыбкой.
Недолго задержался Звездан у князя. Словиша выпытывал у него в волнении:
— Лишнего не сказал ли? Доволен ли был тобою князь?
Узнав о том, что едет он в Новгород, обрадованно тряс за плечи:
— Скоро свидишься с Гузицей, скоро обнимешь свою ладу…
— А признайся, Словиша, — улыбался счастливый Звездан, — неспроста ведь кликнул меня князь?..
Отнекивался Словиша, но по глазам его видел Звездан: неспроста. Доброе братство милее богатства. Для друга нет круга, и семь верст ему не околица.
2
Недалеко отъехав от Владимира, оглянулся Звездан, перекрестился на золотой крест Успенского собора, помешкал немного, задумавшись, а после уже не оборачивался. Споро побежал конь, ходкой трусцой — легкий был у него шаг и отзывчивый нрав. Недаром так любил его и холил Словиша. Никому бы и приблизиться к нему не дал, а для друга своего — не пожалел.
Хороший был денек, солнышко выдалось на славу — с приятной истомой во всем теле покачивался Звездан в седле. Поначалу места вокруг шли хоженые-перехоженные, часто попадался навстречу народ — кто пешком, кто верхами, кто на возах. Разный люд стекался во Владимир, у каждого дело свое, своя забота. Те, что верхами ехали, выглядели побогаче, держались поувереннее; те, что пешими шли, — победнее, а иные и вовсе в тряпье, потухшие взгляды их провожали гордо сидящего на коне дружинника со страхом и смирением; отступали странники на обочину, шапки снимали, покорно ему кланялись…
Чем ближе к полудню, тем солнце становилось горячей. Нудливо вилось над Звезданом прилипчивое комарье, распахнутый на груди кожух взмок от обильного пота.
Высмотрев поляночку у лесного ручья, Звездан спешился, раздевшись до пояса, окатился прохладной водой. Дальше ехать не было сил, и он решил переждать в тенечке до закатного часа.
Усталость брала свое: повертевшись недолго на раскинутом кожухе, Звездан задремал. Сон еще не совсем обволок его, еще виделось сквозь дрему синее небо и неподвижные лапы обступивших поляну высоких елей, как вдруг почудилось ему, будто пробирается кто-то лесом к облюбованному им ручью — слышалось пофыркивание лошадей и спокойные голоса. Стреноженный конь Звездана забеспокоился, запрядал ушами и тихонько заржал. В ответ долетело такое же тихое и призывное ржанье, кусты раздвинулись, и Звездан узнал в переднем вершнике Веселицу. Второй конь чуть призадержался в чаще, а когда и он показался, Звездан удивился еще больше — никак, баба в седле, вот чудеса!..
— Вот так встреча, — сказал Веселица, натягивая удила. Конь под ним осел и остановился, взрывая копытами землю. Баба, сдерживая своего жеребца, глядела на Звездана с любопытством.
— Здорово, Веселица, — отвечал Звездан с легким поклоном. — Небось и тебе накалило темечко?
— Да, день жаркий.
— Места на поляне хватит всем.
— Спасибо тебе, — сказал Веселица и, обернувшись к бабе, добавил:
— Вот — жена со мной. Малкой ее кличут.
Смело глядя Звездану в глаза, баба приветливо улыбнулась и ловко спрыгнула с коня.
Звездан пригляделся к ней повнимательнее — стройна, проворна, взгляд не блудливый, прямой, под слегка приоткрытыми губами ровно поблескивают белые зубы.
— Никак, справили свадьбу недавно, а я не слыхал?
— Свадьбы еще не справляли, а в церкви венчаны по обычаю, — ответил Веселица.
— Что так? — удивился Звездан.
— Долго рассказывать, — махнул Веселица рукой. — А нынче путь держим в Переяславль.
— Поди, не по своей воле?
— Куды там. Князь повелел, вот и едем.
— Все мы князевы слуги…
Видать, Веселица не очень-то был расположен отвечать на Звездановы пытливые вопросы. Да и встреча в лесу его не порадовала. С этой минуты, хошь или не хошь, а ехать им до самого Переяславля вместе.
Сидя на раскинутом под рябиновым кустом кожушке и отмахиваясь пушистой веточкой от комаров, Звездан поглядывал на Веселицу с нескрываемым любопытством. Да и было отчего. Еще давно, еще когда молодой купец вел прибыльный торг и прогуливал в своем терему все ночи напролет, сзывая к себе разный суматошный люд, слава о нем прошла по всему Владимиру. Был тогда Веселица доступен и щедр, в шелка и бархаты наряжал случайных выпивох, во множестве толпившихся на его дворе, а пуще всего — беспутных девок и вдовых баб. Помнил Звездан Веселицу и в печальную пору, когда просил он милостыньку в проезде Золотых ворот, смиренно стоя рядом с юродивыми, поглядывавшими на него свысока и с презрением, — гордого в падении своем и такого же, как и прежде, неунывающего и задиристого. Помнил, как ворвался Веселица к отцу его, Однооку, как били его слуги и, бесчувственного, грузили на телегу и ноги его, как плети, свисали с задка, а окровавленная голова елозила по днищу, выстланному перепревшей соломой. Потом исчез Веселица, лишь изредка появляясь в городе, потом объявился снова — в обличье необычном, такой же смешливый и озорной, на коне, подаренном князем, в однорядке со Всеволодова плеча. Теперь уж все в это поверили — родился он под счастливой звездой. Легким был Веселица и везучим. А что до Одноока, так тот чуть не кончился от зависти — ни дня не поступился совестью своей молодой купец, а вот же тебе — снова выбился в люди, в княжой терем вхож, новую избу поставил…
— Что глядишь на меня, Звездан, будто видишь впервой? — заметив обращенный на него взгляд, спросил Веселица.
— А и верно — почто? — вопросом на вопрос отвечал Звездан. — Люто зол на тебя мой отец, имени твоего при себе слышать не хочет, а мне ты мил…
— Что верно, то верно — меж отцом твоим и мною глубокий омут. Не кинуться друг на друга, но и не уйти. Простить Одноока не могу, греха на душу взять не в силах. А про тебя знаю — сердцем ты кроток, не злобив и не алчен, как отец твой, и я хочу быть тебе другом.
С горячностью произнесенные слова растрогали Звездана.
— Так знай до конца, — сказал он, обнимая Веселицу. — Ушел я от Одноока, и пути мне обратно нет.
Пока отдыхали они на полянке, пока говорили, солнце опустилось к закраине леса, тени вытянулись и из овражков растеклась по кустам живительная прохлада.
Время приспело трогаться в путь. Быстро оседлали они коней и выехали на дорогу.
3
Прощаясь с Веселицей в Переяславле, не думал Звездан, что скоро доведется им снова встретиться.
А пока, миновав Торжок, подъезжал он в сопровождении Ярославовых воев к Новгороду.
Лето набирало свою яростную силу, жара стояла необыкновенная, горели леса. И потому, обходя глухие и опасные тропы, ехал Звездан не коротким путем, а берегом Ильмень-озера.
Сжималось сердце от нетерпения, и, понукая коня, не столько думал Звездан о поручении Всеволода, сколько о предстоящем свидании с Гузицей. Много времени прошло с той поры, как они расстались, а забыть ее он не мог. Молод был Звездан, молод и нетерпелив. И нетерпение его передавалось резвому коню.
Скакал Звездан впереди воев, зажмурясь, лицо подставлял озерному ветерку. Скоро, скоро покажутся за кромкой синей воды могучие купола Софийского собора, высокие стены детинца, разбросанные по обеим сторонам Волхова серые избы посада. Вот тогда и осадит коня своего Звездан, поклонится низко Господину Великому Новгороду, вот тогда и вздохнет облегченно, а покуда мыслями приближает желанное, в мечтах своих прижимает к груди обрадованную Гузицу…
Вжикнула и упала, войдя в землю, у самых ног Звезданова коня пущенная из леса стрела.
— Стой! Стой! — сполошно закричали сзади поотставшие вои. Вторая стрела пропела возле самого уха Звездана.
Не хлебом-солью, не теплым приветом встречали Всеволодова посла строптивые новгородцы. Но ему ли поворачивать назад, ему ли спасаться бегством? Учил Словиша Звездана опасности глядеть в глаза. Дал он шпоры коню, вырвал из ножен меч — и вот уж распластался над жухлыми травами горячий конь, и, слившись с ним, рванулся Звездан навстречу поющим стрелам. Эй, кто там впереди?! А ну, расступись, не то одним ударом смахну голову!..
Засуетились, побежали в стороны из-за кустов лучники. В спасительном овражке, где погуще поросль, искали они укрытия. Все, почитай, ушли от Звезданова коня — одному только не повезло: оступился он, запутался в длинных полах зипуна. Тут ему и конец пришел — ударил его упругой грудью конь, опрокинул наземь. Прокатился лучник по траве, сел, раскинув ноги, уставился на Звездана, моргая. Совсем юный был паренек, помоложе дружинника.
Звездан усмехнулся, бросил меч в ножны, спрыгнул с коня. Подоспевшие вои сгрудились вокруг пленника, смеялись возбужденно:
— Думали, карася словили, а это плотвичка.
— Куды стрелы метал?…
— Дура, глаз у тебя косой, а туды же… Нешто мамки тебе своей не жаль? Вот полоснем по горлу…
Страшно говорили вои, у паренька от ужаса потемнели глаза. Дернулся он, хотел встать, но силы в ногах не было.
— Будя вам, — остановил воев Звездан. Подошел ближе, склонился над малым.
— Ты кто?
— Лучник…
— А лука в руке удержать не мог… Как звать-то тебя?
— Митяем.
— Посадский?
— Не, — помотал головою Митяй. — Послушник я…
— Ишь ты — послушник… А почто стрелы в меня метал?
Глаза у Митяя забегали, лицо сморщилось — вот-вот пустит слезу.
— Чо глядеть? Кончай его — басовито посоветовал кто-то из воев. Другие, рассудительные, оборвали сурово:
— Тебе бы только кровушку пустить… Нишкни!
Басовитый упирался:
— Со мной-то они небось разговоров не говорили. Женку мою не пожалели, а ведь опять же — с дитем…
— Про то и думать забудь, про кровушку-то, — оборвал Звездан, встретившись взглядом с неподвижными глазами пожилого воя.
Митяй тонюсенько поскуливал, сидя на земле. Теперь одна надежда у него была — на Звездана. К нему и обращался молодой лучник с изменившимся от испуга лицом:
— Пощади, дяденька. Я больше не буду.
— Погоди-ко, погоди, — сказал, наклоняясь ниже, Звездан. — Что-то лик твой мне вроде знаком.
Митяй униженно проговорил:
— С игуменом Ефросимом тогда, в избе-то…
— Вот те на! — выпрямился Звездан. — Да как же сразу-то я тебя не признал?
— Запамятовал, — с надеждой в голосе сказал Митяй и попытался улыбнуться.
— Эвона, расцвел малец, — послышалось сзади. — Старые, вишь ли, знакомцы. А ты — «кончай его»…
— Я чо? — смягчаясь, прогудел бас. — Вот и я про то говорю — знакомцы, значит…
— Да как же ты с луком в засаде объявился? — стал выспрашивать у Митяя Звездан.
— Знамо, не по своей воле, — совсем оправившись, отвечал Митяй. Опасность миновала (видно было по лицам воев), и он поднялся, отряхиваясь, с земли. — Послал это меня игумен в Новгород. Ступай, говорит, да спроси у попа Ерошки обещанную давеча книгу. Вот и отправился я, как было велено, а у ворот, и до Ерошки еще не добрел, схватили меня Мартириевы людишки, сунули в руки лук, отправили на городницы. А после уж сюды — Ярославовых воев стеречь.
— Да многих ли настерег-то?
— Ты — первой…
По всему выходило, что правду говорил Митяй.
— Ну ладно, — успокоил его Звездан. — Я тебе не ворог, и ты — русской человек. Молись, что в мои руки попал.
— Вовек не забуду…
— Выходит, сызнова я тебя спас. Да вот гляди мне — в третий раз не попадайся.
Понравилось Звездану, что хоть почти и однолетки они, а он вроде бы за старшего. Вои благодушно улыбались, поддакивали, кивали ему. И у них полегчало на сердце — кому охота безвинную кровь проливать?
— Так куды же тебя деть? — соображал Звездан, глядя на Митяя. — Коли здесь оставим, вернутся дружки, снова возьмут с собою. А лишнего коня у нас нет…
— Да что за печаль? — прогудел вдруг тот, что с басом. — Пущай садится ко мне — конь подо мною крепкий, а до Новгорода не десять поприщ [153] скакать.
Сказано — сделано. Сел Митяй впереди воя, ноги свесил на сторону, и отряд, не мешкая, снова тронулся в путь. Скоро выехали к верховьям вытекающего из Ильменя Волхова. А там до Новгорода рукой подать.
На городницах и стрельнях толпились люди, с удивлением глядели на приближающихся вершников.
— Как бы и отселева стрелу не метнули, — осторожно переговаривались вои.
— Ишь, изготовились…
— Хоронятся малый за старого, а старый за малого.
Подбадривая друг друга, глядели на стены с опаской.
— Эй, кто такие будете? — крикнул, перегнувшись со стрельни, боярин в кольчуге.
— От князя Всеволода посол ко владыке Мартирию! — так же громко и с достоинством отвечал Звездан, придерживая коня.
— А не врешь? — усумнился боярин.
— Да почто врать-то? Вот и княжеская печать при мне.
Боярин еще немного помотался на стрельне и исчез. Чуть погодя открылись ворота под башней, и из них выехал всадник на соловом коне. Внимательно рассмотрев печать, повертев ее так и эдак, он крикнул снова появившемуся на стрельне боярину:
— Все верно, батюшка боярин. Вели посла пущать.
Въезжали под своды ворот в настороженной тишине. Не слышал Звездан привычного гомона толпы, не видел сбегающегося поглазеть на прибывших любопытного народа.
Люди стояли угрюмо, провожали послов недоверчивыми взглядами. Крепко запер их в пределах города Ярослав, хлебушка к ним через Торжок не допускал — вытянулись, осунулись и побледнели лица ремесленников и посадских, но вот купцы и бояре выглядели, как и прежде, — самодовольные и дородные. Им голод не беда, им еще и прошлогодних припасов хватало с лихвой.
Боярин, вопрошавший со стрельни, встретил их на выезде из ворот. Приближая к близоруким глазам, сам еще раз осмотрел-обнюхал печать. Возвращая ее Звездану, сказал с паскудной ухмылкой:
— Ехал-скакал ты, мил человек, а Мартирию неможется. Нынче не примет он тебя, поживи покуда у нас.
— Из веку хлебосолен был Новгород, — степенно ответствовал боярину Звездан, — а только ждать мне не велено. Такова Всеволодова воля: с Мартирием встретиться тотчас же и немедля скакать с ответом.
Давно пора бы понять боярину, что с владимирским князем не тягаться капризному Мартирию, но сказывал он не свои, а чужие речи и обещать Звездану ничего не мог.
— Сегодня час поздний, — сказал боярин уклончиво, — а завтра поговорю с владыкой.
И верно, солнце клонилось к закату, настаивать на своем Звездан не стал, поскольку и сам понимал: пока суд да ряд, не один час уйдет. А в болезнь Мартириеву он не верил. Когда приходил в Новгород Ефросим, тоже прикинулся владыка хворым. А с хворого — какой спрос?
Но наказ Всеволода был неуклончив и строг, да и сам Звездан видел: самое время приспело, пришла пора ставить новгородское боярство на колени. Не потерпит больше народ безграничного своевольства владыки. А помощи ждать Боярскому совету неоткуда — все князья перессорились друг с другом, им не до Новгорода. И Всеволода ополчать супротив себя никому охоты нет.
— Тебе, чай, Митяй, на ночь глядя, податься некуда? — спросил он послушника.
— Куды ж мне податься? — отвечал Митяй. — Знамо дело, родных у меня в городе нет. Разве что к попу Ерошке напроситься…
— Попа-то еще сыскать надо, а нас ты не потеснишь.
— Верно, пущай останется с нами, — согласились со Звезданом вои.
— Спасибо вам, дяденьки, — поклонился им Митяй.
Приветливость и кроткий его нрав понравились всем.
— А что, любит ли тебя Ефросим? — спросил его Звездан, укладываясь на лавке в отведенной для ночлега избе.
— У игумена душа чистая, он и мухи не обидит, — сказал Митяй. — А то, что с виду гневлив, так это не со зла. В иных-то делах он терпелив — грамоте меня учил…
— Знать, приглянулся ты Ефросиму?
— Знамо, — согласился Митяй, не скрывая гордости. — Да только так смекаю, недолго мне осталось жить в монастыре.
— Отчего же?
— В чернецы постригаться охоты нет, хощу мир поглядеть да себя показать. Не возьмешь ли меня с собой?
— Мне-то взять тебя недолго. Одного боюсь — обидится Ефросим.
— Ну, как знаешь, — сказал Митяй. — А только я и сам не вернусь…
— Ишь ты.
— Наскучило мне монастырское житье.
— Куды подашься, ежели не холоп?
— Не, я человек вольной. По-свейски разумею… Купцы меня к себе толмачом возьмут.
— Может, и возьмут. А может, и обратно к Ефросиму в обитель проводят…
— Нешто могут возвернуть? — испугался Митяй.
Звездан засмеялся:
— Ладно, спи. А там погляжу, как с тобою быть.
4
Ясное дело, Звездан был прав — никакою хворью не страдал Мартирий. А если и была хворь, то разве что от страха.
Рассылая повсюду своих людей, ища поддержки, удалось ему хитростью и великими посулами соблазнить на новгородский стол (без ведома Мирошки Нездинича) черниговского молодого князя Ярополка Ярославича, отец его враждовал с Рюриком и Всеволодом, выступая в союзе с Романом волынским, который, обидевшись на тестя, обещал ему Киев.
Клубок был крепко связан и перепутан, и владыка боялся, что Всеволод узнал о его переговорах с Черниговом, а до прибытия Ярополка в Новгород раскрывать свои замыслы он не хотел.
Молодой же князь, как доносили, был уже на пути, и его ждали со дня на день.
За одну ночь многое должно было перемениться: Звездан, уверенный в благоприятном исходе своего посольства, крепко спал, Мартирий бодрствовал, а по темному лесу, по тихой потаенной тропе приближался к Новгороду небольшой отряд, в голове которого ехал утомленный опасной и долгой дорогой молодой Ярополк Ярославич.
Давно ждал он этого дня, давно вынашивал мечту получить свой удел. Под родительским кровом хоть и жилось ему беззаботно и весело, хоть и любил его отец, а все-таки не давала покоя глубокая червоточинка: какой же он князь, ежели не чувствует себя господином и полным хозяином — без оглядки, без чужого властного оклика…
Неведомо ему было, что и до этого сносился батюшка с Мартирием, что рядились и торговались долго, и не столько о сыне пекся Ярослав, поддавшись уговорам владыки, сколько о своем положении на юге Руси. Загорелся он, почувствовав близость киевского высокого стола, руку поднял на Всеволода, рассчитывая, что Новгород ему нужнее, что, ежели, раздразнив владимирского князя, взамен за Киев, отзовет обратно сына и посадит его в Чернигове, то Рюрик принужден будет отказаться от борьбы: без Всеволода он все равно не устоит, а от Галича подмоги ему не ждать, потому что и сам Галич шатается и трепещет перед своим могущественным соседом — Романом волынским.
Ничего этого не знал Ярополк Ярославич, а просто ехал лесом и радовался, думал о скором ночлеге и о том, как утром, кликнутое по указу Боярского совета, вече назовет его своим князем.
Опытный проводник знал в лесу каждую тропку, вел в темноте уверенно, а когда перед самым Новгородом свернули на укатанную дорогу, их встретили посланные владыкой люди.
— Со счастливым прибытием, княже, — приветствовал Ярополка Ярославича сотник.
Звезды роняли тусклый блеск на его дощатую броню [154], под низко насаженным шлемом темнели глубокие глазницы, плотная борода полукружием обрамляла лицо.
Князь облегченно вздохнул. Во время всего пути он больше всего опасался наскочить на засаду, боялся, что перехватит его Ярослав, запрет в Торжке или выдаст Всеволоду. Отец опасался того же и потому, снаряжая сына в дорогу, пуще всего наказывал стеречься и избегать случайных встреч.
Теперь опасность была позади, теперь можно было приосаниться, обрести подобающий князю независимый вид, и Ярополк Ярославич выразил сотнику неудовольствие:
— Где леший вас носил? Почто не прибыли в срок?..
Сотник замялся и объяснил:
— Не серчай, княже. В лесах нынче неспокойно. А то, что призадержались, не наша вина. И не леший нас носил — Ярославовы людишки мешали. Но сейчас, слава богу, все спокойно.
— Да спокойно ли? — насторожился князь.
— Не сумлевайся и зря себя печалью не изводи, — уверенно подтвердил сотник, кладя руку на меч.
Ярополк Ярославич понял его жест и больше ни о чем не спрашивал. Окруженный воями, отряд двинулся вперед и скоро был под городскими воротами.
Мартирий заждался князя — срок был ему уже добраться до Новгорода, медленно светало, а во дворе по-прежнему тихо.
Но вот под окном раздался топот, послышались тихие голоса, крыльцо заскрипело, и владыка кинулся в кресло, обретая умиротворенный и гордый вид. Лицо его окаменело, посох в руке не дрожал, и старый кот, давнишний любимец Мартирия, мирно мурлыкал, свернувшись клубком у его ног.
Вошел Ярополк Ярославич (владыка сразу узнал его), следом за ним сотник и еще кто-то, но Мартирий властным жестом велел выйти всем, оставить его наедине с князем.
Ярополк был таким, каким и представлял его себе владыка по описанию: лицо узкое, бледное, измятое ранними морщинами, нос тонкий и прямой, глаза навыкате — по-детски доверчивые, голубые, почти бесцветные.
— Проходи, княже, садись, сказывай, как доехал до Новгорода. Не чинили ли по дороге тебе каких препятствий? Не провинились ли мои людишки? Все ли было, как договорено?..
Князь облегченно опустился на лавку, поставил меч между ног и стал отвечать на вопросы обстоятельно и неторопливо. Так говаривал с боярами его батюшка, так наказывал вести себя и сыну.
— Не на поклон едешь к Мартирию, — терпеливо внушал он. — Веди себя разумно. Прежде других выслушай, потом реки сам. Лишнего не говори, но и от беседы не уклоняйся. Выведай, что кому нужно, и пустых обещаний не давай.
Строго следовал наставлениям отца Ярополк Ярославич и владыке отвечал так:
— Доехал я хорошо. Препятствий мне не чинили, а людишки твои все сделали, как велено.
«А не шибко разговорчив княжич, — отметил про себя Мартирий, — и не так он прост и доверчив, как показалось вначале. Лишнего слова не скажет, о чем промолчать надо, промолчит».
— Не в добрые времена прибыл ты к нам на княжение, — стал говорить он размеренно и нудно, — ране-то все пути лежали в Новгород, а нынче пресек их Ярослав. Хлебушка нам не подвозят с Ополья, Всеволод серчает, грозит еще горшей бедою. Народ недоволен Боярским советом, ночами в городе озоруют, иных уж пожгли… Не страшно, княже?
— Жарко топить — не бояться чаду, — уклончиво отвечал Ярополк Ярославич.
Кивнув, Мартирий так продолжал:
— Доле оставаться без князя нам никак нельзя. Посадник у Всеволода в заточении, бояре растерянны, и каждый тянет к себе — нет в Новгороде властной руки, оттого все и беды. А еще, доносили с Нево-озера, стали набегать в пределы наши свеи, задерживают купцов — либо возворачивают вспять, либо уводят с товарами на свою землю. Опять же — ропот, опять же купцы зашевелились. Как быть?..
Молчал Ярополк Ярославич, хотел выслушать владыку до конца. Но вопрос давно уже вертелся у него на кончике языка: «Почто же, бедствуя и терпя немыслимый урон, Ярослава, как Всеволодом велено, к себе не пустили?»
Словно читая у него в мыслях, Мартирий сказал:
— Много несчастий принес Новгороду Ярослав. Еще боле принесет, сев на наш стол. Не о новгородцах печется он, а о своем прибытке и о том, как бы угодить Всеволоду. А владимирцам завсегда Новгород поперек горла был. Еще Андрей Боголюбский нас воевал, Всеволод же похитрее брата и поковарнее. От него нам уже немало забот прибавилось, а то ли будет, если пустим Ярослава?!
Ярополк сидел, опираясь скрещенными руками на меч, и безмолвствовал. Да и что было говорить Мартирию? Клясться, что будет ходить по воле Боярского совета? Что во всем станет слушаться владыку?
Не о том мечтал молодой князь, отправляясь на север, совсем другие были у него задумки, и убеленный сединами Мартирий не ошибался, догадываясь, что, как все, кто был до него, как все, кто будет после, попытается и Ярополк Ярославич едино своею властью вершить судьбы вольного Новгорода. Да только когда еще это будет!.. До той поры немало в Волхове утечет воды, а там, глядишь, другие заботы отвлекут Всеволода. За всей-то Русской землей уследить нелегко… Нынче главное — отбиться от Ярослава, успокоить чернь. Вон и поселе еще не забыли про Ефросима — шепчутся, хотят снова слать к нему выборных — пора-де скидывать Мартирия, пора другого ставить владыку.
— Вот и весь мой сказ, княже, — заключил Мартирий, пристально вглядываясь в сидящего перед ним Ярополка Ярославича. — Твое слово — твоя воля. Ежели не по душе тебе у нас, обиды не выскажу, зря хулить не стану…
Хорошо сказал владыка. Последние слова его пуще всего долгого разговора задели князя. Не для того ехал он сюда, чтобы возвращаться к отцу своему не солоно хлебавши.
Так и ответил Ярополк Ярославич, с тревогой поведя на Мартирия угрюмым взглядом:
— Ты меня, владыко, попусту не пужай. По-твоему выходит, зря договаривался ты с батюшкой и теперь готов на попятный? Зачем было звать меня в Новгород? Зачем было тревожить попусту?..
«Сдался князь», — торжествовал Мартирий.
— Все это присказка, — сказал он облегченно. — А разговоры мои к тому, чтобы знал ты: без меня ни единого дела не начинать. Я же тебе буду и советчик и друг. Боярский совет тоже сила, но и бояре без меня никуды. Все здесь, в палатах этих, рождается, всему здесь начало и конец.
Про конец-то ловко он ввернул. Чтобы не было впредь сомнения.
На том и кончилась их беседа. И расстались они, когда за окнами совсем рассвело.
Ярополк Ярославич отправился спать, потому что иных забот у него пока не было, а Мартирий, оставшись один, углубился в тревожную думу. С утра предстоял разговор со Всеволодовым послом, и страх, ушедший на время, снова выполз, снова заледенил изворотливый мозг владыки…
5
Не зря бодрствовал Мартирий, все предусмотрел и все продумал. И то, что услышал Звездан, ввергло его в изумление.
— Вот сказываешь ты, что серчает на меня Всеволод и на весь Новгород, что зело печалится, удивляясь нашему упорству. Меня кличет во Владимир, хощет вести со мною беседу. Да сдается мне, что упорствует Мирошка, — Мартирий повернулся к сидящим на лавках боярам, — а, оставив Новгород без головы, справится Всеволод с нами и малыми силами…
Бояре захихикали, завозились при последних словах владыки, с любопытством взглядывая на покрасневшего Звездана.
— Но тако мыслит Боярский совет, — продолжал, не обращая внимания на шепот, Мартирий. — Нет у нас боле причины для раздора: от Мстислава мы отказались, как того Всеволод и пожелал, а принять Ярослава не можем, поелику не любезен он новгородцам за творимые им злосчастия и беды.
Владыка помедлил и, придавая лицу и всему облику своему особую значительность, сказал:
— И потому решили мы звать на новгородский стол Ярополка Ярославича, сына черниговского князя, и на том целовали ему крест…
— Всё так, — покорно подтвердили сидевшие вдоль стен бояре.
— Аминь, — заключил владыка и, откинувшись в кресле, полузакрыл глаза. — И то писано в грамоте, которую я вручаю тебе.
Вышел вперед отрок, поклонился и передал Звездану перевязанный золотой тоненькой ниточкой свиток.
Короток был разговор, и опомнился от него Звездан, лишь когда оказался на улице.
Ловок Мартирий, изворотлив, как угорь. Вона что выдумал! Эко Всеволоду угодил.
Шел по городу народ, на Великом мосту подкупленные боярами крикуны полошили новгородцев:
— Люди добрые, радуйтесь! Скоро бедам вашим конец, скоро будет и мир и хлебушко.
— Просите Ярополка Ярославича!
— Спешите на вече!..
— Мир, мир…
Мужики удивленно таращились на крикунов:
— Нешто и правда мир?
— Нешто и правда бедам конец?
— Ярополка Ярославича хотим!..
Тесно в толпе, никак не пробраться по Великому мосту — народ ринулся на торг, люди толкали друг друга локтями, спешили протиснуться поближе, ждали, когда появятся бояре. Над площадью стоял несмолкаемый гул, тут и там шныряли подозрительные люди — кричали, упрашивали, стращали.
Чей-то голос истошно вскинулся в задних рядах:
— Едут!..
— Едут, едут! — подхватила взволнованная толпа.
Едва выбрался Звездан в боковую улочку, с досады плеткою пугнул коня. Вечевать да глядеть, как будут ставить нового князя, не было у него охоты. Все дело, ради которого скакал он из Владимира в Новгород, решилось в несколько минут. Не порадует он Всеволода, весть привезет печальную…
Митяй встретил Звездана во дворе, придержал стремя, глаза его горели.
— Ты-то чему рад? — обозлился Звездан.
Зря обидел он паренька — сам потом пожалел, но сдержаться не смог. Митяй надулся, отпустил стремя и ушел в избу.
— Слышь-ко! — позвал его Звездан.
Тишина.
— Эй, Митяй!.
Не дождавшись ответа, Звездан махнул рукой и отправился на Ярославово дворище. Там, рядом, стоял знакомый терем Нездинича.
Ворота были наглухо заперты, во дворе — ни звука. Нешто и отсюда все подались на Торг? Звездан постучал сильнее.
— Кто там? — послышалось из глубины двора. Перепуганы были новгородцы, стали осторожными — мало ли бродит по городу лихих людей? Как бы чего не случилось.
Ворота легонько приотворились, и в узкой щели блеснул чей-то глаз.
— Отворяй, отворяй пошире-то, — недовольно пробурчал Звездан. — Не пустошить терем пришел, а в гости.
— Много вас, гостей разных, — отвечал недоверчивый голос. — Придут гости, а уйдут — тати…
— Но-но! — прикрикнул Звездан и просунул ногу в щель. Наддал плечом — ворота распахнулись. Сторож стоял перед ним, ощерясь, с толстой шелепугой в руке.
Звездан спокойно положил руку на меч и, стараясь выглядеть поприветливее, улыбнулся:
— Аль не признал?
— Прости, боярин-батюшка, — сразу размяк сторож. — Как же не признать тебя? Вот и признал. Да только сам знаешь — береженого и бог бережет. Всякому ли в злой час доверишься?..
— Стереги, пес, стереги свою хозяйку, — кивнул Звездан. — А дома ли боярышня?
— Где же ей быть? Знамо, дома…
Отвечая так, мужик посмотрел на него с ухмылкой, которая не понравилась Звездану.
— Что скалишься, холоп?
Сторож не ответил, только дрогнул лицом. Звездан взбежал на крыльцо и толкнул дверь.
Несмотря на солнечную погоду, в горнице было полутемно. На лавке под божницей сидел незнакомый мужик, рядом с ним — Гузица в красной рубахе. Склонившись, она расчесывала мужику бороду и не видела, как вошел Звездан.
У мужика вытянулось лицо, голова дернулась, и Гузица, обернувшись, выронила гребешок.
У Звездана часто заколотилось сердце.
— Это кто еще такой? — спросил, приходя в себя, мужик.
Гузица сказала:
— Это Звездан.
— А ты кто? — спросил Звездан.
— Я — Шелога, сотский…
Оправившаяся от растерянности, Гузица с приветливой улыбкой поклонилась гостю:
— С приездом тебя, Звезданушка.
Шелога встал как ни в чем не бывало, одернул зипунишко и вышел. Звездан посмотрел ему вслед и растерянно захлопал глазами.
— Садись, — хлопотала вокруг него Гузица. — Садись, неча у порога топтаться.
И, приблизившись, проговорила совсем ласково:
— Дай-ко, я на тебя погляжу. Дай-ко, порадуюсь…
— Чо глядеть-то, — сказал Звездан, не сразу обретая дар речи. — Чо радоваться?
— Да как же не радоваться? — воскликнула Гузица. — Сколь времени прошло…
— Времени немного прошло, а у тебя другие гости…
— Да какие же гости-то? Какие гости? Это Шелога забежал… Ехал мимо — вот и забежал. Мирошки, братца моего, приятель он.
Весело и просто сказывала Гузица, стыдливо глаз не отводила. Зато у Звездана все лицо так и полыхало жаром.
— Вона как тебя обветрило, раскраснелся, будто маков цвет, — проговорила Гузица, подаваясь к нему всем телом.
Отстранился Звездан, замотал головой.
— Аль забыл, как обнимал меня? — настаивала Гузица. — Аль другие девки краше?
— Что ты такое сказываешь? — воскликнул Звездан, уставившись на валяющийся под лавкой гребешок.
— А то и сказываю, что другие девки приворожили, — надула Гузица губы и, отвернувшись, стала переплетать косу.
Не было сил у Звездана повернуться и разом уйти. Опустился он на лавку, обхватил голову руками.
— Скакал я в Новгород, коня замотал, встрече радовался, — проговорил он угрюмо — Да, видно, зря. Забыла ты меня. Забыла, как на этой лавке выхаживала, как целовала в губы…
— Ох, Звезданушка, тебе легко говорить, — повернулась к нему Гузица и грустно покачала головой. — Тебе того не понять, как запер ваш князь братца моего во Владимире да как стали надо мной насмехаться — свету божьего невзвидела, все глазоньки выплакала — все тебя ждала. Хоть бы весточку с кем прислал, хоть бы порадовал словечком… А я — баба, мне ли супротив всех устоять? Да как же без защиты-то, как же без опоры?.. Шелога тебе не ровня, с тобою никому не сравниться… Прости меня, понапрасну не мучайся, сердце свое не разрывай.
Заплакала Гузица, опустилась перед Звезданом на колени, в глаза ему заглядывала:
— Ну, улыбнись, соколик мой. Ну, порадуй…
— Молчи, — сказал Звездан.
Не до слов ему было. И думалось: встать бы сейчас и уйти. Но будто прирос он к лавке.
— Хочешь, я медком тебя угощу? — шептала Гузица. И привставала, и тянулась к лицу его губами. Мягкие были у нее губы — до сих пор помнил их сладкое прикосновение Звездан, покорным и отзывчивым было ее тело.
Чуть не сдался Звездан. Еще бы немного — и все забыл бы и все простил. Но вдруг пробудился он словно от страшного сна. Легко подняли его отвердевшие ноги, легко вынесли за дверь.
Не оглядываясь, вскочил он на коня, гикнул и вылетел за ворота, едва не снеся себе голову перекладиной.
Вот так и погостил Звездан в Новгороде — пьян был вечером, стучал кулаком по столу и ругал Митяя.
А утром, распрощавшись с воями, отправился на Торжок и оттуда во Владимир, чтобы вовремя доставить Всеволоду Мартириеву грамоту.
Глава четвертая
1
Хорошо и привольно жилось Веселице с Малкой в Переяславле. Пока гостил у них по дороге в Новгород Звездан, были в избе их переполох и непорядок. А только отпировали, только проводили дружинника, не успел отойти Веселица от выпитого и говоренного, как принялась Малка наводить в новом жилье свой порядок. Перво-наперво выскребла добела полы, вымыла стены и потолки, настелила, где можно было, полосатые половички, повесила в переднем углу привезенные из Владимира иконы, затеплила под ними лампадку.
Отмякал душою Веселица, радовался домашнему теплу и уюту. Но скоро неуемная душа его запросилась на волю. Повадился он, что ни день, хаживать на озеро, завел знакомца, такого же, как и он, беспокойного и взбалмошного корабельного мастера Ошаню.
Жил Ошаня с женою Степанидой, бабой толстой и рассудительной, любительницей сплетен и жареных карасей в сметане, жил не тужил, рубил на озере лодии да запускал бредень, попивал квасок, а по иным дням крепкую бражку, от которой делался злым и придирчивым, дрался, с кем бог приводил, а больше всего досаждал попу Еремею. Поп тоже не давал ему спуску — был он диковат и с лица страшен, но бабы его любили, и Ошане как-то втемяшилось в голову, что больше всего питает он пристрастие к Степаниде, да и она сама не в меру часто наведывается в церковь…
Переяславль — город не велик, не то что Владимир, и скоро в посаде стали посмеиваться над Ошаней: мужик-де как мужик, и лицом вышел, и всею статью, зато Еремей знает петушиное слово — вот и приманил к себе Степаниду.
Когда рубил Ошаня лодии, к нему не приставали, а только загуляет, как уж любой малец вдогонку кричит по-петушиному. Тут хватал Ошаня что ни попало под руку и гнался за обидчиком. Потеха была в городе, от края и до края все знали — запил корабельный мастер.
А Веселица тоже из таких — обидного слова ему сказать не моги. Вот и сошлись они раз на праздник, погуляли вместе, наведались к Еремею, погалдели у его ворот и решили, что друг без друга жизни им нет.
Когда привел Веселица Ошаню к себе в дом, Малка ругать их не стала — точить попусту мужа, как это делала Степанида, было не в ее привычке.
— Хорошо, — сказал Ошаня. — Баба твоя мне пришлась по душе.
— И ты хороший мужик, — похвалил мастера Веселица.
То, что Малка Ошане понравилась, ему не в диво. Он и так уж давно заметил, как поглядывали на нее переяславские парни. А то, что добрый приятель сыскался, то, что не будет ему здесь скучно, это он сразу понял, едва только распили они первую братину.
…В тот день на ранней зорьке встретились дружки в затончике, как и договорено было, и, беседуя помаленьку о том о сем, отправились на свое заветное место, где прятали, чтобы ежедень не таскать, добрый бредешок и всю прочую рыболовную снасть.
Утро выдалось теплое, по закраине озера кучерявились белые облачка, уже подкрашенные солнышком, приятный ветерок подувал с воды, а в лесу распевали ранние птахи.
Сегодня с утра что-то вспомнился Веселице Мисаил, избушка его за Лыбедью, вечерние беседы перед сном, и сделалось ему грустно по-необычному, а отчего — он и сам не мог понять.
Ошаня шел рядом с ним тоже понурый и тихий, сбивал гибким прутиком лиловые шапочки короставников и изредка тяжело вздыхал.
Так, неторопливо перебирая ногами, добрались они помаленьку до приметной развесистой ветлы, где прятали бредень, спустились в низинку и вдруг остановились, вытаращив глаза.
— Вот так диво, — сказал Ошаня.
— Ну и ну, — вторил ему Веселица.
Под ветлою сидели шестеро мужиков, двое других заводили бредень. Посреди поляны горел костер, а над костром ворковал и побулькивал черный котелок, в котором Ошаня обычно варил уху.
Увидев Веселицу с Ошаней, мужики не растерялись и даже не изменили поз, все так же лениво полулежа на траве.
— Идите сюды, — благодушно поманил один из них.
Веселица с Ошаней приблизились, но встали не совсем рядом, а чуть поодаль — хоть лица у мужиков и приветливы, а кто знает, что у них на уме. Вон взяли же чужой бредень, не спросясь, в чужом котелке варят себе еду.
— Вы откуда? — спросил их тот, что приглашал подойти поближе.
— А вы? — не спешил с ответом Ошаня.
— Мы-то? — засмеялся мужик и оглянулся на своих товарищей. Те тоже засмеялись. — Мы-то людишки вольные, шли лесочком, ворон считали, травку разгребли, а в травке — бредешок. Дай, думаем, узнаем, кто в князевом озере рыбку ловит. Глядь, а вы тут как тут.
— Бредешок наш, то верно, — согласился Ошаня. — А то, что вы не боярские прихвостни, ишшо поглядеть надо.
— Гляди да умом раскидывай. А ежели угадаешь, дадим ушицы похлебать…
— Экой ты развеселый, — задиристо крикнул Веселица. — Уж не скоморох ли?
— А ежели скоморох?
— Не, не скоморохи они, — сказал Ошаня. — Скоморохи чужими сетями не промышляют. Сдается мне, что это беглые и тати.
— Догадливый ты, — ухмыльнулся мужик. — Садись ушицу хлебать. А ты погоди — тебе другая загадка будет, — оборотился он к Веселице.
— А ну их, — махнул рукою Ошаня. — Неча воздух попусту языком молотить. Пойдем, Веселица, отсюдова, как бы греха не нажить…
— Э, нет, — приподнялся с травы мужик, — коли не хотите подобру, так попотчуем без согласия.
— Шибко-то не гомозись, — стал серчать Веселица. — Я вот тя попотчую…
— Слыхали? — подмигнул мужик своим. — Не напугались?
— Ой, напугались-то, — послышалось из-за его спины. — Силушки нет, как напугались.
Стали, не сговариваясь, наступать на Веселицу с Ошаней, засучивали рукава:
— Вот будет потеха!..
— Потеха не потеха, а маленько поразмяться не грешно.
Веселица поближе стоял к мужикам — ему первому и заехали в ухо. Чуть не оглох от увесистого тычка, пошатнулся, но не упал.
— Ишшо разве добавить?
— Добавь, ежели смел.
Тот, что бил, неповоротливый и тяжелый, как пень, размахнулся во второй раз.
— Э-эх!
Отскочил Веселица, подставил ногу, — и со всего маху грохнулся мужик оземь. Крякнул, встал на четвереньки, поглядел по сторонам с удивлением. Ошаня тем разом еще с одним из нападавших управился.
Мужики уже не улыбались, пропала у них охота шутки шутить — не на тех нарвались. Били наотмашь, не жалея кулаков. Из-под бережка еще те двое, что тянули бредень, поспешили своим на подмогу.
Где там Веселице с Ошаней супротив этакой своры устоять! Много было в них злости, но большая сила, ясное дело, все равно переборола.
Не дожидаясь, пока пришибут до смерти, пустились приятели наутек. Бог с ним, с бреднем и с карасями.
Но, добежав до города, до Ошаниной избы, стали они соображать, откуда взялись мужики. И так и эдак прикидывали, а ничего иного не выходило, как только что единую правду принять: повстречались они на озере не с простыми мужиками (простые плотной гурьбой не держатся), а с лихими людьми.
— Что, добегался, касатик? — вынесла свое толстое тело на крыльцо Степанида. — Дображничался?
— Помалкивай — огрызнулся Ошаня, ощупывая на голове плотную шишку. — Не твоего ума это дело.
У Веселицы под глазом чернел синяк, но был он вполне доволен случившимся.
— Ничо. Мы с ними ишшо посчитаемся…
— Куды там, — ехидно сказала Степанида. — Шли бы лучше к посаднику, авось чего присоветует…
Сроду разумного слова не слыхивал Ошаня от своей жены, а тут даже про шишку позабыл.
— А ведь и верно — дело говорит, хотя и дура, — пробормотал он, глядя на Веселицу.
— Ты меня на чужих-то людях не страми, — обиделась Степанида и вошла в избу.
Отправились к посаднику, но их повернули от ворот: посадник спал.
— Буди, не то ворогов упустим, — сказал Веселица отроку. — Озоруют на нашем озере чужие людишки.
— Как ложился боярин, так строго наказывал себя не будить, — с достоинством отвечал отрок.
— Так то, ежели просто так, а у нас дело князево…
Услышав про «князево дело», отрок призадумался.
— Ну, ладно, ждите покуда здесь, — сказал он и скрылся в тереме. Вернулся скоро.
— Боярин-батюшка велел вас звать.
Посадник стоял посредине горницы и, зевая, крестил себе рот. Заплывшие ото сна глазки его смотрели на мужиков с досадой.
— Ну — пошто взгомонились? — спросил он хриплым голосом.
— Чужие люди на озере. Люто озоруют, — начал Веселица. Ошаня, стоя за его спиной, кивал, прикладывая ладонь к шишке на лбу.
— Чужие люди к Переяславлю сколь уж лет носа не кажут, — недоверчиво отвечал боярин. — Пригрезилось вам.
— Куды там пригрезилось, — выставился из-за Веселицыной спины Ошаня. — Едва ноги унесли.
Лица приятелей, в синяках и кровавых подтеках, были красноречивее слов.
— Вот что, — сказал посадник, сбрасывая с себя остаток сна, — мне с татями возиться недосуг. Берите воев да скачите поживее на давешнее место. Сами-то управитесь ли?
— Ну, ежели с воями… — протянул Веселица.
— С воями управимся, — живо подтвердил Ошаня.
Через полчаса небольшой отряд был в сборе.
— Глядите, мужички, — наставлял Веселица воев, красуясь перед ними на своем коне, — пуще всего не зевать. Да по лесу не разбредаться. Да вязать всякого, кто ни попадись. Опосля разберемся…
2
Уезжая из Новгорода, Звездан не устоял перед уговорами Митяя, взял его с собой.
— Управляться с луком ты научился, — сказал он ему, — а вот управишься ли с мечом? Дорога во Владимир долгая и опасная, всякое бывает, а время неспокойное. Это тебе не с книгами сидеть в обители у Ефросима…
— Ты меня до времени не пужай, — обиделся парень, принимая из рук Звездана тяжелый меч. Рукоятка приятно похолодила ему руку.
— Вот, садись на мово коня, — сказал Звездан, — да полосни по березке. Только, гляди, голову животине не снеси…
— Я счас, я живо, — растерялся Митяй, удобнее устраиваясь в седле. «Ну, пропал мой конь», — с сожалением подумал Звездан, наблюдая, как неловко потрясывает Митяй задом — того и гляди, вывалится из седла. Ничего, на первый раз обошлось. Березка, правда, как стояла, так и продолжала стоять, а коню Митяй отмахнул только самый кончик уха.
Пошли на торг, сошлись на сходной цене с плутоватым булгарином, взяли молодую кобылу. У оружейников выбрали меч, у бронников по плечу Митяю взяли легкую кольчужку. В сумы набили поболе еды и питья и заутра тронулись в путь. Дел в Новгороде у них больше никаких не было.
Проезжая мимо Ярославова дворища, в последний раз грустно взглянул Звездан на знакомый Мирошкин терем, но задерживаться не стал. Почудилось ему, что стоит у ворот знакомый конь Шелоги, а может, и не Шелоги это был конь, но защемило сердце, засосало под ложечкой — сжал он шпорами поджарые бока своего каурого, поскакал вперед ходкой рысью.
В Новгород ехал Звездан — путь казался коротким, а обратно от утра до вечера день тянулся бесконечно. Не спалось на ночлегах, выходил он из душной избы глядеть на черное небо, а после долго хранил молчание, на Митяевы частые вопросы отвечал неохотно.
Зато паренек радовался, все его забавляло в пути — там пичугу какую приметит, там за белым грибом полезет в березняк, а то просто смотрит вокруг сияющим взором, мурлычет что-то себе под нос.
У самой Влены, неподалеку от Переяславля, наехали они под вечер на большой обоз.
— Куды путь держите? — спросил Звездан у купцов.
— Путь держим на Ростов, а дале думаем податься к Новгороду, — отвечали купцы, по обличью признавая в Звездане княжого человека. — Скажи-ко, мил человек, не снял ли Ярослав у Торжка свои дозоры?
— Давеча князем в Новгороде кликнули Ярополка Ярославича, — сказал Звездан, — но дозоров своих Ярослав не снял, так что лучше поворачивайте во Владимир.
— Были мы во Владимире, ко князю Всеволоду ходили во двор, — объяснили купцы. — Велел он нам править на Торжок — нынче, сказывал, не будет нам в торговом деле никаких препятствий.
— Что ж, коли князь сказывал, так поезжайте к Ярославу. Только сдается мне, что к Новгороду он вас все едино не допустит.
— Не порадовал ты нас своею новостью, — совсем озадачились купцы. — Куды же нам податься?
Ничего не мог присоветовать им Звездан, не довез он до Всеволода Мартириеву грамотку — в шапке была она у него зашита. И все-таки еще раз предостерег купцов:
— Не ходите к Торжку. Прибытка вам там все равно не видать.
Тогда и купцы предостерегли Звездана:
— Видим, доброй ты человек. Вот и тебе наш совет: как переедешь Влену, ухо держи востро — пошумливают лихие людишки вокруг Переяславля. Бог знает, отколь злой ветер их нанес, а только с утра сунулись они было на наш обоз, хотели поозоровать, да мы их пугнули. Как бы какой беды с тобой не приключилось.
Звездан задумался, у Митяя забегали глаза.
— А где встречали вы тех людишек? — спросил дружинник.
— Да у самого брода. Никак, там они всех и стерегут…
Не время было Звездану рисковать, поблагодарил он купцов и направился вокруг Переяславля, чтобы, минуя его, выйти на владимирскую дорогу. Очень хотелось ему еще раз повидать Веселицу, да что тут поделать?
Где березнячком, где ельничком, где пробитой лосями тропой, а где и вовсе без тропы, оставляя справа спускающееся к закату солнышко, стал править он своего коня, следя за Митяем, чтобы не очень отставал на своей кобылке.
Измотало их комарье, к вечеру вовсе не стало мочи, но задерживаться в опасном месте Звездан не хотел, костер разводить побаивался. Огонек-то издалека видать, на огонек и выйдут лихие люди.
— Тпру-у! — послышалось за спиной.
Обернулся Звездан и похолодел с головы до пят: вышли трое мужиков на тропу, взяли Митяеву кобылу под уздцы, друг с другом негромко переговариваются, на Звездана поглядывают усмешливо.
Закричал Звездан, меч потянул из ножен. Тут и к нему кинулись из чащи — лица озверелые, в руках рогатины и ножи.
Хорошего, боевого коня дал ему Словиша. Взвился конь на дыбки, передними ногами замолотил по воздуху — отпрянули мужики. Тем временем у Звездана меч уже был наголо. С шипом полыхнула по левую сторону сталь, полыхнула по правую. Краем глаза увидел Звездан, как покатился один из нападавших под куст — алой лентой протянулась за ним густая кровь…
«Шапку бы не потерять», — подумал Звездан, разворачивая коня. Бросить Митяя в лесу он не мог, а то бы ушел, а то бы ни за что им его не догнать.
Крепко натянул он удила, привстал на стременах.
— Э-эх! — еще раз задиристо полоснул мечом по чьей то спине — хрястнуло под сталью. — Держись, Митяй!..
А у Митяевой кобылки кишки расползлись по траве — поддел ее кто-то рогатиной под самое брюхо. Вывалился Митяй из седла, никак вытащить ногу из-под кобылы не может. В глазах — ужас, руки беспомощно шарят по стремени.
Тут заминка вышла — Звезданов меч здорово переполошил мужиков, кинулись они в разные стороны. А Звездану только того и нужно. Спрыгнул он наземь, помог Митяю встать на ноги, помог вскарабкаться в седло своего коня. Шапку свою нахлобучил ему на растрепанную голову:
— Скачи!
— Да ты-то как?
— Скачи! — и свистнул так, что сам себя оглушил. — Шапку, шапку береги!..
Лихой нрав у Словишиного коня — как взял он с места, так и исчез в лесу вместе с Митяем, только сучья затрещали, да зашелестели еловые лапы, будто налетел порывом стремительный ветер…
Один остался Звездан на тропе, обступила его неожиданная тишина. Мужики выходили из кустов, стоя поодаль, смотрели на дружинника с опаской.
— Ишь какой норовистой, — говорили, как о покойнике.
— Теперя он наш…
— А ты, Пров, поддень-ко его рогатиной.
— Боязно, — отвечал тот, которого называли Провом, рослый дядька с медной серьгою в ухе. — Пущай Вобей сам с ним разбирается…
«Уж не отцов ли конюший? — почему-то без страха, а даже задиристо и весело подумалось Звездану. — Он самый и есть!..»
Выходя на тропу, Вобей сказал мужикам:
— Аль обробли?
— Оробеешь, — отвечал Пров, — коли двоих положил. Молод, а — злой. Вон мужики говорят — поддень рогатиной… Да разве к нему подступишься?
Вобей вдруг ударил себя ладонями по ляжкам:
— Ей-ей Звездан?
И, оборачиваясь к мужикам, пояснил:
— Знакомец мой давний…
— А не врешь? — смягчаясь, переспросил Пров. Мужики расслабились, смотрели на дружинника с любопытством. Иные даже не побоялись приблизиться.
Вобей предостерег их:
— С медведем дружись, а за топор держись. Как бы голову ненароком кому не смахнул…
Мужики опять в страхе попятились от тропы. Спрашивали растерянно:
— Так чо с ним делать?
— Эй, Звездан! — крикнул Вобей. — Добром дашься али будем биться?
— Сдавайся добром, — загалдели мужики, — мы тебе худа не сделаем…
— Слышь, чего сказывают? — посмеялся Вобей. — Народ мы доброй, отходчивой…
— Ишь, чего захотели, — сказал Звездан, опираясь на меч. Приметив крадущегося за кустами мужика, строго предупредил:
— Воротись, не то порублю…
Мужик попятился. Упирая кулаки в бока, Вобей опечаленно покачал головой.
— Гляжу я на тебя — вроде всем обличьем ты и есть. А вроде бы и подменили тебя, Звездан. Отколь прыти набрался?
— Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Звездан. — Метка твоя у меня до сих пор жива. Еще посчитаться надо… Выходи, коли смел, неча наперед себя мужиков подсовывать.
— А верно говорит, — подхватил кто-то. — Ты, Вобей, за чужими-то спинами не таись.
— Бери рогатину, да ежели старые знакомцы, то и сразись.
— Коли он тебя, пущай идет, куды шел… А коли ты его, то и…
Вобей презрительно присвистнул и строго поглядел на мужиков:
— Вона чего со страху-то выдумали!.. Ловки. А ежели у него меч, а у меня рогатина?.. То-то же… Нет, не таков у нас уговор.
— А что, — сказал Звездан, — может, и впрямь сразимся?
Ответ его подзадорил мужиков:
— Не юли, Вобей. Не нам одним головы класть.
Пров добавил:
— Давно я примечать стал, что хоронишься ты позади всех. А как добычу возьмем — ты все себе.
Обидные говорил он слова — мужики задвигались, загалдели нестройно:
— Мы тебя ватаманом не выбирали.
— Ты себя ишшо покажи…
Вобей заметно струсил, отступил с тропы на шаг. Драться ему не хотелось. Привык он брать добычу наверняка, а тут еще неизвестно, как обернется. Ране-то он Звездана бы не испугался, но на сей раз увидел перед собою мужа, а не мальчика.
Пров сунул ему в руку рогатину. Вобей судорожно сжал ее и отступил еще на шаг. Мужики раздвинулись пошире.
Звездан вытоптал лунку, чтобы покрепче утвердить правую ногу. Руку с мечом держал свободно.
— Не, — сказал Вобей, отдавая рогатину. — Чо зря-то биться с ним? Верно я вам, мужики, говорю: ни денег, ни золота при нем нет и отродясь не было. Одноок, отец его, зело жадный боярин…
— Нынче у нас не об этом спор, — отстранил рогатину Пров.
— Верно, — сказали мужики. — Ты дерись, Вобей, а там поглядим. Может, и нет при нем золота, а может, и есть…
Вобей глядел затравленно, со страхом разглядывал зажатую в руке рогатину. Пров подтолкнул его в спину:
— Всякому дню забота своя. Аль струсил?
— Как погляжу, так вы храбрые…
— Нынче твой час.
Некуда деться Вобею. И рад бы он в чащу шмыгнуть, да не шмыгнешь, не простят ему мужики трусости и былого коварства. Со всех сторон подстерегает его неотвратимая смерть.
Уперся Вобей боком в черенок рогатины, натужился, изловчился, прыгнул на Звездана. Полоснул его дружинник мечом по плечу, отхватил добрый кусок зипуна — взвыл Вобей, стал тыкать перед собою рогатиной, не глядя. Вторым ударом легко выбил у него Звездан оружие из рук.
— Ай да парень, — похвалил его Пров. — Чо стоишь?
— Чо стоишь! — закричали мужики. Затаенная до поры ненависть к Вобею выплескивалась из их разинутых глоток.
Вобей пошатнулся, вобрав голову в плечи, закрыл лицо руками.
— Зря галдите, мужики, — сказал Звездан, опуская меч. — Много зла сотворил мне Вобей, но безоружного бить я не стану.
— Эге, — удивился Пров и приказал мужикам, которые уже слушались его беспрекословно. — Дайте-ко другую рогатину Вобею…
Сунули Вобею в руки другую рогатину — и ее выбил Звездан.
— Вот теперь оно и видно, — сказал Пров, — не мужик ты, а хуже бабы… Чо с дружинником будем делать? — спросил он своих людей.
— Пущай идет куды глаза глядят, — решили все разом.
— А как с Вобеем быть?
— Пущай и он идет, — великодушно ответили они.
— Повезло тебе, Вобей, — усмехнулся Пров. — Живи покудова, а нам пора…
Как появилась ватага, так же неожиданно и скрылась. Двое остались на лесной тропе.
Звездан облегченно вздохнул и, не веря, что жив, провел рукавом по вспотевшему лбу.
Тут неподалеку снова затрещали сучья, заржали кони, и на тропу выехали оружные верховые.
3
Переговорив с посадником, Веселица с Ошаней времени зря не теряли. И хотя у озера зачинщиков драки не застали, у проходившего неподалеку старичка выведали, что и он видел показавшихся ему ненадежными людей, которые, по его словам, подались на вырубки.
Рубившие лес мужики были не на шутку встревожены.
— Все верно, захаживали к нам тати, — сказали они воям. — Пришли всей ватагой, ножичками грозили, забрали съестное и подались на Влену.
— На Влену ли? — засомневался Ошаня.
— Куды же еще. Они и промеж собою так говорили: пойдем-де на Влену, здесь все едино не разживемся, а на Влене — купцы, народ богатый, случайные проезжие опять же…
— Спасибо вам, мужички, что указали след, — поблагодарил их Веселица.
Тронулись дальше. На полпути до Влены, в небольшой деревеньке, навстречу воям высыпали бабы и ребятишки.
— Спасите, милые! — кричали они наперебой. — Снова не стало нам житья.
— Да что случилось?
— А то и случилось. С утра мужики наши в поле, а енти нагрянули, стали шарить в избах по углам. Марфуткиного парнишку рогатиной пришибли — шибко озоровали, ох, как озоровали…
— А давно ли ушли из села?
— Да как солнышко за церковку закатилось, так и ушли. Попу бороду подпалили, у икон оклады оборвали — и все в мешки-то, все в мешки…
— Много ли было их?
— Всего десятеро, не боле. Наши-то мужики с ними бы справились…
— Ну, Ошаня, — сказал Веселица своему приятелю, — легко отделались мы от них у озера. Хорошо, ты первым тягу дал…
— Это ты дал первым тягу, — отвечал Ошаня. — Шишку-то мне уже опосля посадили.
— После твоей-то шишки я ишшо отмахивался. Двое на меня насели, а третий — с ножом. Тут я и обомлел…
— Обомлеешь, коли жизнь дорога. Едва самих нас не словили, как тех карасиков.
Теперь смекали Веселица с Ошаней, что далеко давешние лихие людишки уйти никак не могли. Ежели были за полдень в деревне, то следы их должны вот-вот объявиться.
Ехали берегом реки, вполголоса переговаривались друг с другом, присматривались к кустам, прислушивались к долетавшим из лесу шорохам. «Ровно на лося охотимся», — подумал Веселица. Только лось тот куды поопаснее и похитрее иного — двадцать ног у него и двадцать рук, и в каждой руке либо нож, либо рогатина.
«И впрямь легко мы от них отделались», — в который раз уже холодел Веселица от воспоминаний.
Долго ли, коротко ли ехали, вдруг скакавший впереди всех вой поднял предостерегающе руку. Отряд остановился. Люди принюхались — из ложбинки, лежавшей перед ними, тянуло дымком. Неужто так обнаглели тати, неужто не таятся?!
Но тревога их была напрасна. За поворотом показались выпряженные возы с уставленными в небо оглоблями. На оглоблях было развешано белье. Купцы, сгрудившись у костра, кончали вечернюю трапезу.
— Здорово, купцы-молодцы! — зычно приветствовал их Ошаня.
— Бог в помощь, — отвечали купцы. — Садитесь к нашему костру, гостями будете.
— Не до гостей нам, купцы, а за приглашение спасибо. Дороги вам ведомы, народ везде свой. А не встречались ли часом посторонние людишки?
— Да как сказать? Людишек нынче много разных развелось. Кто свой, кто не свой, не поймешь толком. А те, что к обозу нос совали, те, верно, уже далече…
— Где же вас побеспокоили-то?
— А на Влене. Едва сунулись вброд, а они на бережку. Думали, надоть, отбить воз-другой, но не тут-то было. Народ у нас смелый, нас на крик не возьмешь…
Все купцы, сидевшие у костра, были один к одному — все молодые и широкоплечие, на иных поблескивали кольчуги, мечи лежали у каждого под боком, чтобы долго не искать.
— А еще, совсем недавно это было, встретились нам два молодых удальца — из Новгорода, слышь-ко, возвращались ко Владимиру. У одного конь шибко красивый был, каурой масти (при этих словах у Веселицы дрогнуло сердце — не Звездан ли?)…Так мы их насторожили — езжайте, мол, стороной, а ко Влене не суйтесь. Двое вас, как бы не случилось беды…
— Спасибо вам, купцы-молодцы, — сказал Веселица и так прикинул: на старом месте лихим людям толчись ни к чему — наделали они шуму, побоятся засады. И ежели куды подадутся сейчас, то не иначе как на владимирскую дорогу. Там про них еще никто и слыхом не слыхивал, а от Владимира на Переяславль и Ростов много всякого движется народу, есть чем поживиться.
Все верно прикинул Веселица. И часу они не скакали — наехали на мужика. Лежит на обочине босой и без верхнего платья, борода в крови.
Соскочил Веселица с коня, приложил ухо мужику к груди:
— Жив.
Полили мужика водой из сулеи, в рот влили меду. Открыл мужик глаза и снова зажмурился от страха.
— Не бойся нас, — сказал ему Веселица. — Не вороги мы, а твои спасители.
Мужик сел, прокашлялся и, взглянув на свои босые ноги, запричитал:
— Воры-грабители! Куды чоботы мои дели? Где сермяга?
— Снявши голову, по волосам не плачут, — тряхнул его за плечи Веселица. — Ежели скажешь, в какую сторону подались тати, сыщем и твою сермягу, и твои чоботы…
— А вы кто такие?
— Не твое дело спрашивать. Отвечай, да покороче.
— Короче некуды, — пролепетал мужик. — А как стукнули меня, так всю память и отшибли.
— Толку от тебя, видать, не добьешься, — покачал головою Веселица. — Сиди тут покуда. На обратном пути захватим в Переяславль…
— Спасибо, соколики, — обрадовался мужик. — А не забудете?
— Жди.
За речной излукой дорога пошла плотным лесом. Солнце уже реденько пробивалось сквозь сосны, в низинках, поросших папоротником, легко лохматился тонкий, как паутина, туман. Местами, за ивовой мелкой порослью, маслянисто поблескивали болотца.
— Гляди-ко, — шептал Веселице Ошаня, — как бы нечистая тропку-то не увела.
Надежды на то, чтобы захватить в лесу ватагу, у них уже почти не было. Скоро ночь падет на деревья, а в ночи, да в чаще, попробуй-ка человека сыскать. Еще ежели открытый человек, еще ежели голос подает — куда ни шло, а тайного человека не найдешь и рядом. Просидит за пеньком, проедешь мимо — он и был таков.
У Ошани ухо — все равно что у зверя лесного. Он первый услышал невнятные голоса. В одну сторону повернул коня, в другую и вдруг погнал его через вереск — весь отряд тут же пустился за ним следом…
Впереди замерли удаляющиеся быстрые шаги, а на тропинке — прямо против Веселицы, лицом к заходящему солнышку, — вырос из кустов Звездан. Стоит, на меч опирается, цепким взглядом сторожит мужика в лохматом треухе.
Увидев Веселицу, Звездан глаза вытаращил от изумления:
— Вот так встреча!
Кубарем скатился Веселица с коня, обнялся с другом, а Ошаня, вглядевшись в мужика, закричал обрадованно:
— Старого знакомца пымали!..
Вои посмеивались, наезжая конями на пленника:
— Твой ли это тать, Веселица?
— Как ни прятался, а на крючок вздели…
— Хорош карась…
Веселица подошел к Вобею, дернул его за разрез зипуна:
— Свиделись, никак?
Вобей усмехнулся, скользким взглядом прилип к украсившему лицо дружинника синяку:
— Здорово я тебя…
— Должок за мной, — сказал Веселица и, размахнувшись, ударил Вобея по лицу.
— Так, — сказал Вобей и провел ребром ладони под носом. Долгим взглядом посмотрел на дрожащую окровавленную руку, покачал головой.
Ошаня прыгал рядом, примеривался, с какой бы подойти стороны.
— Дай-ко, и я добавлю, — проговорил он и влепил Вобею увесистую затрещину.
Вобей покачнулся, но не упал, скользнул окровавленной рукою под треух.
— Эй вы, — засмеялся Звездан, — мужика мне не попортите.
— Да тебе-то что за забота? — удивился Веселица. — У нас свой счет. С утра ищем должок вернуть.
— А моему должку скоро год будет…
И Звездан рассказал, как бежал с Вобеем от Одноока в Новгород, как пощекотал его тать ножом на Великом мосту, вспомнил и о сегодняшнем поединке.
— Да где же парнишка твой? — забеспокоился Веселица. — Не заплутал ли часом?
В лесу совсем стемнело. Возбужденно переговариваясь, вои правили прежним путем к владимирской дороге.
— Жаль, Прова со всей ватагой не схватили, — говорил Звездан, сидя позади Веселицы на его коне, — а с Вобеем я бы и сам справился.
— Ничо, — отвечал Веселица. — Нынче Прову наши места заказаны. Уведет он своих людишек подальше куды. Вот вернемся, скажу посаднику, чтобы слал по дорогам разъезды.
Правя конем среди темных кустов, радовался Веселица: то-то попотешит он Малку, то-то удивит. Кого-кого, а Звездана в гости в этакую пору она не ждет.
У Ошани мысли были свои. Думал он, как переступит порог избы, как обнимет перепуганную Степаниду и велит нести из погреба меду. А наутро в городе все узнают, как он ловил лихих людей, и не с кем-нибудь, а с Веселицей, любимым Всеволодовым дружинником…
Оставленный при дороге мужичок ждал их исправно, дрожа от холода и от страха под ракитовым кустом. Ошаня посадил его на своего коня.
— А сермяга? А чоботы? — пропищал мужик.
— Жаль, сермяги и чоботов твоих мы не добыли, — сказал Ошаня. — Завалялись у меня где-то дома новые лапти, сыщется и худой зипунишко…
— Дурни вы сиволапые, — ругался мужик. — Почто на срам везете? Лучше бы мне под тем кустом помереть.
Вот как ему жаль было своей сермяги и своих чоботов.
— Сам тачал чоботы, а сермягу жена мне сшила, — ворчал он. — Вернусь, что сказывать буду?
— Авось не вернешься, — успокоил жадного мужика раздосадованный Ошаня, — авось пришибут где — на этот раз до смерти…
Переяславль встретил их тишиной, только кое-где взбрехивали страдающие бессонницей старые псы.
— Пойдемте все ко мне в гости, — пригласил Веселица.
— А что, — согласились мужики, — можно и в гости. Жена-то не проводит помелом?
— Моя не проводит, — похвастался Веселица.
Отворили ворота, въехали. На дворе, у столбика, стоял привязанный конь.
— Уж не мой ли? — приглядываясь к нему, прошептал Звездан.
4
И точно — каурый. От радости у Звездана перехватило дыхание. Ежели каурый на дворе, то и Митяю где же быть еще, как не в избе.
— А я тебе что сказывала? — закричала Степанида Малке, разглядывая входящего в горницу Ошаню. — Что бы мой погостевать пропустил, такого отродясь не бывало…
Удивленно выпучив глаза, Ошаня взирал на жену.
— Аль видишь впервой? — кричала Степанида. — И где тебя лешие носили?
— Вот баба, — передохнув, сказал Ошаня. — И отколь в ней только зло родится? Отколь слова берутся поганые? Ну, что честишь? Аль не видишь, что не один я, а с другами?..
— Дружки твои — такие же квасники [155]. А ну, как хвачу кочергой!..
— Э-э, — попятился к двери Ошаня. Веселица, смеясь, обнял его за плечи.
— Ты, Степанида, не очень-то в чужом дому… Ошаня — мой гость, и моих гостей привечает моя хозяйка.
— Милости прошу, дорогие гостюшки, — выдвинулась из-за спины Степаниды Малка. — Проходите к столу, отдыхайте с дороги…
— Спасибо, хозяйка, — отвечали гости. — Доброе словечко в жемчуге…
— Просим милости вам от бога…
— Жить да молодеть, добреть да богатеть…
Все здоровались по чину, степенно проходили, крестясь на образа, рассаживались по лавкам.
— А Митяй где? — нетерпеливо спросил Малку Звездан. — Сказывай, куды спрятала Митяя?
— Тута я, куды меня прятать? Чай, не пряник, не съедят…
Парень вышел из-за полога, улыбаясь во все лицо. Обнял его Звездан, расцеловал в обе щеки.
— Да как же ты Веселицыну избу разыскал?
— Добрые люди подсказали.
— Мне он повстречался, — подала помягчавший голос Степанида. — Вижу, скачет парень сам не свой, конь в мыле. А наши-то только что в лес подались. Ну и напугалась я — уж не беда ли с кем стряслась?.. Хоть и дурак у меня мужик, а все жаль. Все сердце-то об нем болит… Ну, я ентово паренька и остановила. То да се — выспросила да к Малке и проводила…
— Ай да баба! — воскликнул Ошаня. — Нешто не врешь? Нешто и впрямь тебе меня жаль?
— Да как же такого беспутного не жалеть? — засмеялась Степанида.
Ошаня хрюкнул от удовольствия и потянулся к ее губам.
— Ишь ты! — оттолкнула его от себя Степанида. — Сиди, где посадили, и озоровать не смей.
Размякшие гости разноголосо подначивали Ошаню:
— Ты, Ошаня, не робей!
— Эк разошлась твоя баба!
— Со Степанидой управиться — не лодию срубить!..
Счастливо блестя глазами, Веселица отозвал Малку в сторону, велел нацедить меду.
— Да за пленником нашим пригляди, что сидит в погребе. Горбушечку сунь ему, водицы…
— Может, медку подать?
— Можно и медку. Только дверь-от не отпирай, шибко злой он…
— Ой! — вскрикнула Малка.
— Да не бойсь ты, не бойсь, — успокоил ее Веселица. — Погодь, дай-ко я сам схожу.
На дворе — тьма. Кони, пофыркивая, сбились в кучу. Черное небо густо усыпано звездами, над частоколом узеньким серпиком повис молодой месяц.
Веселица бросил коням охапку недавно накошенной травы, осторожно нащупывая ногами ступеньки, спустился в погреб. В погребе было холодно и сухо. За досками в щелях попискивали мыши, затхло пахло землей и душисто — медом. Нацедив полное ведерко, Веселица выставил его наверх, подтянувшись, выпрыгнул сам. Зачерпнув ковшик меда, подошел к дверце, прислушался: Вобей не спал, ворочался на соломе.
— Эй ты, — позвал Веселица.
— Чего тебе? — не сразу откликнулся Вобей.
— На вот, проголодался, поди…
Веселица вынул из-за пазухи хлеб, просунул в щелку. Пролез под дверью и ковшик с медом. Вобей жевал, чавкая, громко хлебал мед.
Веселица посидел перед дверью на корточках. Не дождавшись ковшика, встал, чтобы уйти.
— Погоди, — сглотнув, сказал Вобей за дверью. — Слышь-ко?
— Ну?
— Ты того… Ты меня посаднику не отдавай.
— Чегой-то?
— Не пощадит меня посадник. Сымет голову, ей-ей…
Вобей помолчал, что-то долго соображая. Веселица снова собрался уходить.
— Стой! — приник к доскам Вобей. Дышал неглубоко и часто. — Ты бы меня отпустил; слышь-ко. Тебе-то какая от моей смерти польга?.. Скажешь, сам, мол, утек. А там пущай ловят. Уйду в леса, в пустынь [156], стану жить, грехи отмаливать…
Вспомнил Веселица Мисаила, не по себе ему стало — а что, как и впрямь раскается грешник? Бог ко всем милостив.
— Врешь ты все, Вобей, — сказал он сдавленно.
— Вот те крест, не вру, — убеждал пленник, еще ближе припадая к доскам. — Нет мне пути обратно в свою ватагу. К людям пути нет. Пусти.
— А что, как сызнова выйдешь на дорогу? За жизни загубленные кто в ответе будет?
— Не выйду… Опостылело мне все. Раскаянья хочу… А посадник не даст грехи отмолить. Доброе дело свершить не даст. Умру, как вор, никто про мое раскаянье не узнает.
Веселица молчал, но и не уходил, внушая Вобею надежду. Еще горячее, еще доверительнее говорил Вобей:
— Каюсь, много совершил я злых дел, смерти лютой заслужил. Но коли открылся мне свет истинный, нешто дашь умереть, не вкусив праведной жизни? Душа у тебя добрая, глаза ясные. Как увидел я тебя, так сразу и подумал: вот оно, мое спасение, через него обрету свет истинный… Отпусти.
Нет, не прошли зря твои вечерние беседы, доверчивый и кроткий Мисаил, запали они Веселице в сердце. Другой бы раздумьями терзаться не стал, и Вобеевы слова его бы не поколебали. А Веселицыны руки уже коснулись запора и трепетные пальцы откидывали щеколду… Не торопись, Веселица, подумай еще раз: доброе ли дело творишь, не выпускаешь ли на волю темное зло?
Но говорил Мисаил: «Прости — и прощен будешь…»
— Выходи.
Озираясь, выбрался на волю Вобей, взъерошенный, как зверь, упал на колени, губами приник к руке дружинника:
— Ангел ты, святая душа. А во мне не сумлевайся — исполню свой обет и за тебя помолюсь.
— Молись, грешник, молись. Да не мешкай, ступай, покуда не увидели…
Кинулся Вобей во тьму, и затихли его шаги в отдалении. Веселица еще постоял немного, усмиряя встревоженное дыханье, взял ведерко с медом и вошел в избу.
— Ты где же это пропадал? — накинулся на него Звездан. — А мы уж искать тебя наладились…
— Чо искать-то? — смущенно пробормотал Веселица. — Покуда меду нацедил, покуда коням сена задал — седни у всех денек был не из легких.
— Вобея проведал ли? Сидит?
— Куды ж ему деться?..
Вои засмеялись, Звездан похлопал Веселицу по плечу:
— Поворачивайся, хозяин. Вон и ковшички, и чары уже на столе. Лей, да мимо не пролей, а мы песни петь будем.
— Скоморохов бы сюды!
— А то и гусляра…
— Гусляры князей забавляют. А мы сами себе и скоморохи, и гусляры.
Митяй глядел на всех с восторгом. Вот она жизнь! И четырех дней не минуло, как выехали из Новгорода, а сколько всего довелось повидать. Подле Ефросима-то робкой была его душа, а здесь робкому не место. Пили все помногу, еще боле хвастались… Митяй тоже хвастался — и никто над ним не смеялся, слушали с уважением, как равного…
А Веселице почему-то вдруг сделалось грустно. И зря ластилась к нему Малка, зря старался рассмешить Ошаня.
Под утро иные спали в ложнице — вразброс на половичках, иные — в горнице на столах. Только Ошаню и Веселицу не брал крепкий мед.
Ушла Степанида. Поводя вокруг себя покрасневшими глазами, Ошаня говорил с угрозой:
— Пойду к попу Еремею. Хочешь, пойдем со мной?
— Не, — отвечал Веселица, мотая головой.
— Ну, как хошь, — обиделся Ошаня и встал из-за стола. — Спасибо, хозяйка, за хлеб-соль. Ввечеру ко мне наведывайтесь…
— Куды же ты? — забеспокоилась Малка. — Глянь-ко, едва на ногах стоишь.
— Мне бы ишшо чару, — икнув, сказал Ошаня и грохнулся посреди горницы на прикорнувшего воя. Вой только хмыкнул, но даже не пошевелился. Ошаня деловито подобрал под себя его ногу, устроился, как на подушке, и мигом заснул.
— Пора и нам спать, — позвала Малка Веселицу.
— Чо разговоры зря говорить, — сказал посадник утром, выслушав Веселицу. — Ведите пленника, поглядим, что за зверь…
Был он в хорошем настроении и не сонный, как вчера, — видно, предстоящая забава радовала его и бодрила.
Ошаня виновато замялся. Веселица почесал за ухом.
— Не гневайся, боярин, — начал дружинник. — Человечка того лихого мы и впрямь словили — вои твои соврать не дадут.
— Да за чем же дело? — насторожился посадник, с удивлением разглядывая ранних гостей. Были они с перепоя вялые и пришибленные — языки ворочались с трудом. Да это не беда — кто не пивал на радостях? Вон и сам боярин не много дней тому назад набрался на крестинах, едва в терем приволокли.
— Сбег наш пленник-то, — пробормотал Ошаня, запинаясь.
— Как это — сбег? — сразу потух боярин. — Что ты такое бормочешь?..
— Все верно, — подтвердил Веселица, пряча глаза. — Сбег.
— Куды же сбег-то? — невпопад выпалил посадник.
— А кто его знает, — сказал Ошаня. — Сбег — и все тут. Ищи ветра в поле…
— С вечера заперли мы его в надежном месте, а он сбег.
— Дурни вы, — в сердцах обругал их боярин, — почто сразу в мой поруб не привели?
— Поздно было. Беспокоить тебя не хотели…
— Али насмехаться надо мной вздумали? — разжигал себя посадник.
— Что ты, боярин! — замахал руками Ошаня — Да как же это мы над тобою насмехаться-то стали бы?..
— Сами виниться пришли, — поддержал приятеля Веселица. — Ты уж нас прости…
— Ладно, повинную голову меч не сечет, — подумав, смягчился посадник. — Однако, велю я вас самих посадить в поруб, чтобы впредь неповадно было. Добрая наука — хороший урок. Эй, люди!
Вошли отроки.
— Отворите-ко темницу да киньте туды добрых молодцев. Пущай маленько поразмыслят.
Схватили отроки Ошаню с Веселицей под руки, повели через двор. А во дворе вои их ждут, Звездан с Митяем да Малка со Степанидой.
— Куды же это мужиков наших повели? — завопила Степанида.
— А туды и повели, чтобы честной народ понапрасну не тревожили, — сказал оказавшийся рядом поп Еремей.
— Ну, Еремей, возвернусь из поруба, угощу я тебя!.. — замотался в руках у отроков Ошаня. — И ты, Степанида, гляди…
Ночной хмель еще не вовсе выскочил у него из головы. Отроки смеялись, держали Ошаню крепко, не больно заламывали ему руки назад — боялись повредить: мастеру руки да голова всего нужнее, а про добрые его дела знали все, Ошанины лодии славились по всей Ростовской земле.
Глава пятая
1
С радостью и тревогой приглядывалась Мария к тому, как взрослеют ее сыновья.
С радостью — потому что родная кровь, потому что все красивы и статны, обличьем в отца. С тревогой — потому что разными они росли, потому что не были друг на друга похожи. И больше всего любила она Константина с Юрием. И больше всех Константин с Юрием ее тревожили.
Когда совсем маленькими они были, все было у них общее. А повзрослели, вытянулись, пораздались в плечах — и стало их не узнать. Константин больше льнул к отцу, Юрий — к матери. Юрий — с Марией в монастырь, Константин — к Словише. Все чаще повадился он бывать у лихого Всеволодова дружинника. И князь потакал ему, позволял проводить целые дни в Словишином тереме.
Рано научился Константин держаться во взрослом седле, правил конем, как заправский вершник, из лука метко стрелял и уж прилаживался помаленьку к тяжелому Словишиному мечу.
Тогда по заказу Всеволода сковал ему Морхиня меч маленький, по руке, но острый, из крепкой закаленной стали.
— Еще порежется малец, — вздыхала Мария, не смея перечить князю.
— А пущай и порежется, — отвечал Всеволод, — в другой раз сноровистее будет. Ты вот мне Юрия вовсе попортила — чернец он, а не княжич. Почто балуешь дитя?
— Да как же его не баловать? — со слезами на глазах говорила княгиня. — Кому же и баловать дите, как не матери?
— Константина тебе не отдам. Он — старшой в роду, — раздражался Всеволод, — ему дело мое продолжать…
— Еще когда вырастет.
— Вырастет — не заметишь. А после его учить поздно будет.
За Юрия болело у Всеволода сердце. Иной раз и попрекнул бы Марию, но язык не поворачивался — ладно, время пройдет, все само по себе образуется. Надоест и ему класть земные поклоны, надоест слушать бестолковые бабьи разговоры.
Время шло, а одно сплеталось с другим. Стала примечать Мария, что все больше отдалялся от нее Всеволод. Все реже звал к себе, все реже хаживал к ней в ложницу. Истосковалась у нее душа, изранилась подозрениями. «Не завел ли себе полюбовницу князь? — думала она. — Не наскучила ли я ему?»
Подолгу гляделась в зеркало, пальчиками расправляла морщинки, замечала, что стареет. Приглашала бабок-травниц, просила у них совета: как молодость, красоту сохранить?
Бабы-травницы угодить ей старались, каждая давала свой совет:
— Растирай бурачок с медом, смазывайся по утрам…
— Пей настой брусники, собранной в зарев…
— Лопухом волосы-то мой, от лопуха седина не заводится…
Но била ей в виски седина, все больше появлялось белых прядей, а у глаз — мелких морщин. Не помогали ей советы прилежных травниц, годы шли, разрушая былую красоту.
Ворчливой сделалась Мария, сердилась на свеженьких дворовых девок, а раньше сиживала с ними вечерами, слушала их песни, сама не прочь была спеть или рассказать сказку.
Любили ее девки, а теперь побаивались. Особенно с тех пор сторониться стали, как обварила она Найденышку из Заборья, веселую проказницу и хохотушку. Ямочки были у Найденышки на щеках, белые зубы.
Но застала Мария ее как-то со Всеволодом на заднем дворе возле медуши. Почудилось, что обнимал ее князь, что целовал ее в губы. Почудилось только, а утром стряслась с Найденышкой беда. Опрокинулся на нее котел с горячей водой, закричала девушка, выбежала в переход сама не своя от боли.
В ту пору никого с ней не было, одна только княгиня наведалась проверить поварих.
Про Марию Найденышка никому ничего не сказывала, но шила в мешке не утаишь. Через неделю отправили ее обратно в деревню, а девки стали недобро шушукаться за спиной княгини, сторонились, сердечные тайны свои от нее берегли.
Правда это, не правда ли, а слухи ползли, и стала примечать Мария на себе Всеволодовы укоризненные взгляды. Неужто и впрямь он ее разлюбил, неужто поверил злым языкам?..
Ведь не было же ничего, не покушалась она на Найденышку. В одно только по-бабьи поверила, что обнимал Всеволод девушку. А раз поверила, то и защитить себя не смогла. Винилась в несодеянном, в том, что пожелала ей лиха, а беда возьми о ту пору и стрясись. Будто подслушал кто, будто нарочно подстроил. Не роняла она котла, а только задела, проходя мимо.
Еще угрюмее, еще нелюдимее сделалась Мария с того дня. И, пряча неловкость, окружала себя излишним вниманием и заботами. Наслушавшись про царьградский гордый обычай, велела отменным владимирским мастерам изготовить для себя носилки, покрыть их золотом и украсить каменьями и в тех носилках показывалась на улицах города…
— Не дури, — сказал ей однажды Всеволод. — Не богородица ты. Почто носить тебя, как святую икону?..
Было время, делила она с ним и радости и горести беспокойной жизни. И не нужно ей было иного, как быть только рядом, ловить мимолетный взгляд его восхищенных глаз. Знала, люба она ему, дорога. Верила в него, радовалась его победам.
Да и теперь немного нужно ей было, да прошлого не вернуть. Летит быстротечное время, оставляет зарубки, меняет облик людей и земли. Лишь обуянный давнишней задумкой словно не стареет и не меняется Всеволод. На княжом дворе, что ни день, суета и сполох. Что ни день, скачут во все стороны Руси неутомимые гонцы. Слетаются разные вести в высокий терем — и из тех вестей, извлекая свою выгоду, плетет Всеволод крепкие сети на русских князей: ссорит и мирит их между собой, принимает клятвы и рушит данные обещания — собирает вокруг Владимира разрозненные княжества, большие и малые уделы.
И как только хватает ему дня, как только успевает окинуть взглядом своим необъятное!
В трудах позабыты пиры и охоты, пылятся на полках свезенные с разных концов земли любимые книги. Не до них теперь Всеволоду — торопится он, спешит оставить сынам своим в наследство могучую Русь. Но, словно песок, расползается под рукою содеянное, не сдаются своевольные бояре, не хотят ходить под ним строптивые князья. И снова — где ласкою, где угрозою, где силой, а где и обманом — сгребает он все под себя, зорким глазом глядит вокруг, что осталось еще, куда не дотянулась его рука?..
Раньше знала Мария задумки его и сомнения, нынче он одинок. Не с кем поделиться князю терзающей его тревогой. Отдалилась она от него бабьим своим коротким умом, растя сыновей, обделила вниманьем и лаской. Нет такого плеча, прильнув к которому, облегчил бы он свою душу.
Не знала про то Мария, как, удалившись в свои покои, горячо и подолгу молился он за спасение Русской земли. Не видела она его слез, не слышала его рыданий. Смахнув слезу, выходил он к боярам с просветленным взглядом, говорил спокойно и мудро, и казалось ей, да и всем так казалось, что все на десятки лет знает он наперед.
Весть, принесенная Звезданом из Новгорода, была для Всеволода сильным ударом. Все уж, казалось, шло, как задумано, качалось новгородское вече, колебался Боярский совет, но не прост был Мартирий, недооценил его Всеволод, и из южной распри сумел владыка извлечь для себя великую выгоду. Все туже переплетался единый клубок, все крепче связывались отдельные узелки.
Черниговский князь Ярослав, поднявший на Рюрика руку, поднял ее теперь и на него. А за спиною Ярослава стояла воинственная Волынь.
Занятая собой, ничего этого не знала Мария. Проведывавший по вечерам княгиню епископ Иоанн обо всем этом рассказывал смутно. Был он тоже озабочен и хмур, сказывался больным, жаловался на ноги и грудь, покряхтывал и ласково гладил по голове молодых княжичей.
В опочивальне Всеволода оплывали толстые свечи, молчаливый Ратьшич сидел, понурясь, на перекидной скамье, морщил загорелый лоб и время от времени, отзываясь на свои мысли, покачивал головой.
Всеволод по привычке ходил из угла в угол, иногда задерживался возле стола, раздраженно ворошил сваленные грудой грамоты. И снова ходил, и снова задумчиво пощипывал бородку, надкусывал седой ус.
— Почему молчишь, Кузьма?
— Думаю…
И снова мерил шагами опочивальню князь.
— Все думаешь, Кузьма?
— Думаю…
— Ловко обошел нас Мартирий.
— Куды уж ловчей.
— Не миновать нам новой усобицы…
— И я так думаю, князь, не миновать.
Умен был Ратьшич, неспроста дольше других удержался возле Всеволода. Мысли князя читал издалека, предупреждал его желания.
— Давно пересылается с тобою Рюрик, обижается, что не идешь с ним вместе на Чернигов… Да и засиделась твоя дружина, князь, — пиры пируют добры молодцы, озоруют от безделья. Не пора ли в стремя? Не пора ли тряхнуть стариной?..
Давнишняя вражда Киева с Черниговом была Всеволоду на руку: втянутый в распрю Роман тоже вел себя покорно, не беспокоил верного Всеволоду Владимира галицкого. Но нынче дрогнули весы — перетянул враждебную чашу непокорившийся Новгород. Ежели вовремя не пригрозить Чернигову, то и Роман подымет голову, Владимиру галицкому не устоять — и рухнет воздвигнутое годами, откажутся ходить по Всеволодовой воле не только южные, но и северные князья…
Вона как размахнулся Мартирий, блюдя новгородскую вольницу! Недооценил его Всеволод, не учел его византийский изворотливый ум.
Ушел Ратьшич. Оплыв, погасли сгоревшие свечи. Ранний рассвет проникал в оконце.
«Вот оно, — думал Всеволод, вспоминая Звездана. — Не жаждал я крови, всю жизнь обходился терпением и молитвой. И не я вышел на брань, не я первый обнажаю свой меч… Но ежели, окруженный обманом и коварством, смирюсь покорно, то не ввергну ли землю Русскую в еще более жестокое кровопролитие?»
Памятуя заветы Микулицы, жесток и неогляден с врагами своими был Всеволод. Разгневался он и слушая прямые речи Звездана. Такого не говаривал ему еще никто — хулители хулили на стороне, а ближние бояре льстили, и к лести их, как к воде и воздуху, привык князь. Но почувствовал он в словах молодого дружинника и свою давнишнюю боль, и свои давнишние сомнения.
Нет, не по наущению врагов говорил Звездан, а высказывал сокровенное, душою страдая за дело, которому Всеволод отдал всю свою жизнь.
Преступил он свой сложившийся обычай — не наказал Звездана, поверил ему и теперь, глядя на вымытые белой ночью окна опочивальни, думал о нем хорошо и спокойно.
Не знал он, что не спала в этот час и Мария, но мысли ее были совсем о другом, не спал Иоанн, ворочаясь на жесткой епископской лежанке, метался и беспокоил Досаду растревоженный плохими снами Кузьма, и только Словиша спал хорошо и сладко, подсунув под щеку теплую ладонь, — не знал он, что заутра поставит его Всеволод в голове дружины и велит, рассылая впереди себя дозоры, ходкой рысью идти на Чернигов…
2
Одноок проснулся от громкого стука в ворота.
— Эй, боярин, вставай!
— Что за крик?
Одноок выскочил на крыльцо в исподнем, перегнулся через перила. Во дворе стоял молодой вой в надвинутой набекрень суконной шапочке, подбоченясь, накручивал на руку гибкую плеть.
Сметлив был боярин, быстро понял, что не простой это вой, а посланный от великого князя. Простые вои без нужды не будят по утрам бояр. И ежели появился он на дворе, значит, дело важное.
— Вот тебе князев указ. Неча без дела сидеть в своем терему, боярин. Собирай дружину да немедля ступай в детинец.
— Да куды же я с дружиною — в мои-то годы? — почувствовав слабость в ногах, присел Одноок.
— Про то князем сказано не было, — спокойно отвечал вой, собираясь уходить.
— Да погоди ты, куды торопишься, — остановил его Одноок. — Почто кличет князь?
— Про то нам не говорено. Ты — боярин, тебе лучше знать.
Сказав так, с достоинством, юный вой ушел, покачиваясь, со двора, а Одноок еще больше оробел, не знал, что и подумать. Но как там ни думай, как ни соображай, а князева указа не обойти и в детинец с дружиною являться надо. Таков древний обычай, и отступиться от него никто не в силах.
А поотвыкли бояре от княжеской службы, долго жили мирно, с соседями не враждовали, во чистом поле силою не тягались. Иные и меча в руках не держали по многу лет, иные и конем брезговали — разъезжали в возках да на пуховых подушках.
Нет, не было у Одноока охоты идти в далекий поход, но от Всеволода не откупишься. Знал он: что сказано князем — то закон. И преступить его — значило обречь себя на великую немилость до конца своих дней.
И так уж Одноок у Всеволода на плохой примете, и все-таки идти в детинец ему не хотелось.
Однако, тут же рассудил боярин, как знать — не вернет ли он на сей раз былого к себе княжеского внимания? Ежели добрую дружину приведет, да на добрых конях, ежели снаряжение будет справным, не похвалит ли его князь, не выделит ли среди прочих?..
В ином-то деле прижимист и скуп боярин, а тут, пожалуй, придется раскошелиться…
Через два дня, точно к условленному времени, явился Одноок на княж двор.
Перед тем как ехать, придирчиво оглядел воев и остался доволен. Не каких-нибудь хилых людинов собрал он в дружину, а все рослых мужиков. Не старенькие кольчужки на них, а почти на всех — добротные дощатые кольчуги. Шлемы блестят на солнце, в руках — не грабли да вилы, а копья и мечи, у иных за спинами тугие луки, круглые тулы [157] полны острых стрел.
Сам боярин тоже для себя постарался: бронь надел дорогую, с серебряной насечкой, червленый щит на руке с солнечным кругом, меч на боку в дорогих ножнах.
Ладно. Прибыл он вовремя к детинцу, а у ворот — густая толпа. Со всех сторон стекаются боярские дружины. Шум стоит и гвалт, каждому хочется впереди других ко князю попасть. Не один Одноок такой хитрый, другие тоже кое-что соображают.
Но больше всего расстроился боярин, когда увидел Конобеевых мужей. На что он расстарался, а Конобей его далеко переплюнул. Краше его воев не было во всей толпе.
Стегнул Одноок своего коня, врезался в самую гущу. Стал распихивать мужиков, помахивать плеточкой:
— А ну, посторонись! А ну, дорогу боярину и его коню!..
Конобей тоже кричал с другого края и понукал своего сивого.
Сшиблись бояре, уставились друг на друга:
— Я первой!
— Нет, я!
Дружинники тоже стали переругиваться между собой:
— Наш боярин завсегда впереди!
— А вот не видал ли кукиша?
Конобей сказал Однооку:
— Брюхо у тебя, боярин, ползет по земле. А все туды же.
На что Одноок отвечал:
— Оттого и черевист, что не тебе ровня. Ты-то на худых своих хлебах и воев трое ден не кармливал. Гляди, как бы не попадали они с коней.
— Ловок ты, да и я не прост. Не мои вои не кормлены, а твои. И лошаденки в твоей дружине — кожа да кости.
— Со злости ты все, боярин, — сказал Одноок. — А в моем старейшем роду таких-то бояр худородных, как ты, и в тиунах не держивали. Посторонись-ко, не срамись пред князем…
— Сам посторонись.
— Кому сказано?
Рассердился Одноок, ожег плеточкой Конобеева коня. Взвился конь, заржал, едва не вывалил седока.
— Ну, гляди! — закричал Конобей и своею плеточкой не коня, а самого боярина угостил по плечу.
Неслыханное это было оскорбление, не видано было, чтобы боярин бил боярина — да еще при холопах, да еще на виду у всего города. Перегнулся Одноок через гриву своего коня, вцепился пятерней Конобею в холеную бороду.
Выпучил глаза Конобей от неожиданности, покачнулся в седле, замахал руками, закричал не своим голосом.
На крик его вышел из ворот Кузьма Ратьшич:
— Что за гам у княжого двора?
— Срамит меня Одноок, Кузьма, худым боярином называет, — пожаловался Конобей.
— Разберись, Кузьма, — сказал Одноок. — Пошто прет впереди меня Конобей на княжой двор?
— А ты пошто прешь? — снова не вытерпел Конобей.
— Кшить вы, горластые петухи! — оборвал их Ратьшич. Степенно оглядел столпившихся у ворот вершников.
— Ты, Конобей, въедешь первым, — сказал он. Одноок побелел от обиды. — А ты, Одноок, пойдешь со Словишею в головном отряде. Великую честь оказал тебе князь… Нынче же разъезжайтесь по домам и дружины держите в сборе. Мужиков не распускать, кормить коней вволю…
Гордо выпрямился Одноок — пущай первым въезжает на княжой двор Конобей, пущай хвалится, а под хоругвью первое место — его…
…Всеволод остался доволен смотром. Стоя на гульбище, придирчиво оглядывал проезжавших перед ним воев. Уходя, подтвердил сказанное Кузьмой:
— Ждите знака моего. А покуда мужиков и коней кормить справно — ни хлеба, ни овса не жалеть.
И еще, прикинув, повелел князь каждому боярину снаряжать с собою обоз — муки взять, меду, овса, бычков на мясо, кольчуг, топоров и копий и прочего разного снаряжения.
Последнее больно кольнуло Одноока, да и не его одного: уж не слишком ли накладна княжеская забава? Не разорит ли он их?..
Но князя ослушаться никто не посмел, никто и слова не проронил поперек, зато, разъезжаясь из детинца, ворчали бояре:
— Сколь годов жили спокойно, не знали забот, тягот. Али нам в своих вотчинах худо?
— Чужая беда — не наша. Нам делить нечего.
— И почто князю не живется? Куды глядит, чего ищет на стороне?
Однако Одноок вольными разговорами баловаться остерегся. Смекал он, что есть у Всеволода повсюду свои глаза и уши. А от того, что выскажет он наболевшее, заботы не убавится. Как бы не прибавилось, как бы не захиреть от тех забот.
Помнил, хорошо помнил Одноок, да и все помнили строптивого соседа по воршинским угодьям — боярина Четверуху. Крепко стоял он на земле, старинного был роду. Его-то отец еще с Мономахом Владимир ставил, а после погиб где-то в половецких степях. Четверуха с Кучковичами спутался, за Ростиславичей стоял, с Моизичем и Захарием знался и даже уходил с Мстиславом в Новгород, но в ту суровую пору неведомо как пронесло мимо него беду.
И вот, когда уж все вроде успокоилось, когда после прихода Всеволода зажили степенно и изобильно, вдруг ни с того ни с сего прошел опасный слушок: приезжали-де к боярину княжеские отроки, терем его зорили, взломали кладовые и бретьяницы и самого увезли в закрытом возке.
Слухи на пустом месте расти не станут: скоро все заметили, что и вправду сгинул Четверуха. Раньше-то у всех он был на виду, громовой его голос слышали на думе, видели, как проезжал он на коне по Владимиру, а тут — будто и не было его.
Стали через того, через другого выведывать бояре (Одноок в это дело не мешался), выспрашивали, вынюхивали и до того довынюхивались, что и еще одного след простыл — Синицу, бывшего владимирского воеводу, тоже отроки взяли.
Тут притихли все. И только год спустя все доподлинно известно стало: спутались бояре с ростовскими да новгородскими крикунами, Мартириевым золотишком не брезговали — вот и угодили в поруб. А имения их и угодья Всеволод взял себе.
Тако вот всяким говорунам и крамольникам. Нет уж, лучше помолчит Одноок, покуда не спрашивают. А спросят, то и тут не сразу ответит, а прознает наперед, как ответствовать надо…
Вернувшись на двор свой с дружиною, немного поостыв, почувствовал вдруг боярин внезапный приступ неостудной тоски. Разглядывая расположившихся повсюду горланящих мужиков, пожалел он выданной им добротной брони, топоров и оскордов, а еще боле пожалел, что придется открыть для них кладовые, кормить да поить да глядеть, как без пользы нагуливают они жиры на его дармовых хлебах.
— Ртов-то сколько, ртов-то… — сокрушенно покачал он головой. — Эко выставиться захотел, вот теперь и расхлебывай.
И еще подумал боярин, что добрых коней загонит он к следующему разу в табуны, что подыщет воям кольчужку попроще — все равно посекут ее в поле, кому от этого польза?..
3
В дурном расположении духа вернулся Конобей из детинца. Опять обошел его везучий Одноок, выставил всему городу на посмешище.
Что бы такое придумать? Как бы привлечь к себе внимание князя?.. Не попотчевать ли Кузьму, не ублажить ли княжеского любимца? Любит Ратьшич попировать, любит потешить душу песнями да скоморохами — так не расстелить ли во дворе своем скатерть, не закатить ли широкий пир, чтобы все знали: щедр Конобей, душа у него открытая, а сердце ласковое?.. То-то подавится своим куском Одноок, то-то покусает локотки.
Любому хорошему делу задумка — начало. Кликнул к себе Конобей сокалчих своих, ключников и ключниц и так им сказал:
— Несите все, что есть в медушах и погребах, для добрых людей добра не жалейте.
Шум и суматоха поднялись на боярском дворе, дым столбом. А к Ратьшичу послал Конобей отрока, нарядив его в красную рубаху.
— Кланяется тебе боярин наш, — сказал отрок, — и просит быть у него на пиру.
Подивился Ратьшич, но отказываться от приглашения не стал — любил он широкий пир и дружескую беседу, а нынче ввечеру князь его к себе не звал.
Тут Словиша под рукой ко времени оказался.
— Не пойдешь ли со мной? — спросил его Кузьма.
— Отчего ж не пойти, — ответил Словиша. — Вот и Звездан опять над книгами изготовился ночь коротать. Извелся парень, не взять ли и его с собой?
Не просто было уговорить Звездана, однако Словиша и мертвого уговорит…
— Милости просим, — приветствовал их у ворот сам боярин — кланяется поясно, глазки масленые. Не трудно ласковое слово, да споро.
Въехав во двор, подивились гости — богато разгулялся Конобей, медов-браги не пожалел, выставил на столы и фряжских вин и всякой редкостной снеди.
Не решаясь сесть в ожидании знатного гостя, у столов стояли бояре, Конобеевы добрые знакомцы, поодаль толпились слуги, готовые в любую минуту угодить кому надо. На лицах улыбки, праздничные одежды расшиты камнями и жемчугом, волосы и бороды смазаны деревянным маслом [158], слуги — в чистых холщовых рубахах, подпоясанных шелковыми шнурками. На заборе и на крышах хозяйственных пристроек висели гроздями любопытные ребятишки.
— Гляди-ко, гляди-ко, — кричали они, — никак, сам князь к Конобею пожаловал.
— Не, то не князь, а ближний князев боярин.
— Меч-то у него — длинной…
— А борода-то, борода.
— Ишь, как важно вышагивает. Знамо дело — князь!
Над столами сновали ласточки и стрижи, с огородов наносило запах зелени, прохладный ветерок пошевеливал тяжелые бархатные скатерти.
Ничего не пожалел Конобей, чтобы удивить знатного гостя, предусмотрел и скоморохов с дудками и гудками — заманивал их к себе хорошим угощением, брагой поил, в кого сколько влезет, однако поглядывал, чтобы не перепивали. Едва ступил Ратьшич во двор, боярин знак подал — и засопели дудки, забегали быстрые смычки по гудкам. Любо!
Засветились глаза у Ратьшича:
— Вот уважил меня, боярин!
Конобей оглянулся с гордостью — все ли видели, как здоровался с ним князев любимец? То-то же, завтра утром обо всем расскажут Однооку, дышло ему в глотку…
Одно только томило и мучило боярина — не хотелось ему глядеть на Звездана, Одноокова сына. Была бы его воля, не допустил бы его к себе на двор. Но не сам пришел к нему на двор Звездан, привел его с собою Кузьма, а тот, кто с Кузьмой, — желанный гость у боярина.
Потому и сажал он Звездана рядом с собой, потому и потчевал и угождал, когда Кузьма был по соседству занят разговором.
Скоморохи брагу свою и говяжьи мослы отрабатывали честно. Много песен пели, много плясок переплясали в личинах [159] и без личин, гостей зазывали в круг, веселили, как могли.
Пока сидел Звездан за столом да лил в себя вино, хмель вроде и не брал его, а как встал, так все вокруг и закружилось. Вышел он за ледник в огороды — еще хуже ему стало. Оперся он о лозняковую изгородь, покачнулся едва не вырвал кол из земли… Ой, лихо! Ой, как лихо-то!..
Тут ровно ветерок подул за его спиной. Обернулся Звездан — и обмер: уж не видение ли какое?! Стоит девица между капустных грядок, глядит на него в упор, как пугливый лосенок. На девице рубаха бархатная, коса спрятана в высокий кокошник. Личико белое, усыпано частыми веснушками. А глаза голубые, а носик вздернут задорно, как у мальчишки.
— Ты — кто? — трезвея, спросил Звездан.
— Олисава, Конобеева дочь. А ты?
— А я Звездан, Однооков сын.
Олисава засмеялась, запрокинув голову, — словно звонкие колокольчики рассыпала.
— Чему ты смеешься? — удивился Звездан.
— Смешно — вот и смеюсь, — сказала Олисава, лукаво прищурясь. — Ты почто пьян?
— А я и не пьян вовсе, — ответил Звездан. И впрямь, голова у него перестала кружиться, а дыбившаяся до того земля постепенно возвращалась на свое место. Прохладный ветер остуживал и трезвил голову.
— Это про тебя сказывали, будто ты ушел от Одноока? — спросила Олисава.
— Про меня…
— А зачем ушел?
— У тебя не спросил, — рассердился Звездан. — Ты чего пристала? Чего выспрашиваешь?..
— У, сердитый какой…
— Это не я, это мед сердится, — смягчаясь, пошутил Звездан.
— Меды пьют, чтобы веселиться, — серьезно сказала Олисава. — Иди плясать, как все. Почто стоишь на огороде?
— А мне с тобою любо.
Сказал — сам себя огорошил. Совсем отрезвел Звездан. Щечки у Олисавы загорелись нежным румянцем. Бросилась она через грядки прочь, а Звездан — за нею следом.
Огород у Конобея задами выходил к Лыбеди, а над пологим бережком кучерявились молодые дубы. Прыгнула Олисава за плетень, да рубахой зацепилась за веточку. Повисла с другой стороны, отцепиться не может. Тут ее и настиг Звездан.
— Попалась, коза-егоза!
Олисава от дружинника кулачками отбивается, от досады слезы вот-вот готовы брызнуть из глаз.
Схватил ее Звездан под руки, приподнял, посадил с собою рядом в траву. Отвернулась от него Олисава, лицо стыдливо прикрыла рукавом.
— Отчего ты сердишься на меня, Олисавушка? — удивился Звездан. — Разве сделал я что-то дурное? Или обидел чем? Или слово не то сказал?
Вот уж и самому захотелось плакать Звездану.
— Не любит меня твой отец, с Однооком они враждуют, — сказал он грустно. — Оттого и я тебе пришелся не по душе, оттого меня и сторонишься…
— Да что ты такое говоришь, Звездан? — вдруг повернулась к нему Олисава. — Что ты такое говоришь, ежели давно уже гляжу я на тебя из оконца, как проезжаешь ты с дружиною мимо нашего терема?…
— Так и глядишь? — встрепенулся Звездан, чувствуя, как замирает у него сердце. — Так и смотришь в оконце?!
— Люб ты мне, Звезданушка, давно люб. А как увидела тебя сегодня на нашем дворе, так и вовсе обмерла. Весь день за ледником пряталась, смотрела, как вы пируете. Все думала, отзовется ли, откликнется ли?..
— Да откуда знаешь ты меня, Олисава? Не встречались мы вроде до сего дня, а уж сколь времени рядом живем…
— Недавно я во Владимире. А ране с теткой в дальней усадьбе жила. Вот и не встречались… Про тебя же услышала я от отца. Твой-то родитель к нам во двор приходил, сватал меня…
— Неужто надумал жениться? — испугался Звездан.
— За тебя сватал, — улыбнулась Олисава. — Да поссорились твой батюшка с моим. С той поры вражда промеж них и легла…
Все больше и больше дивился Звездан, глядя на Олисаву, и хмель вовсе вышел из его головы. По берегу протягивались прохладные тени, и речка похлюпывала в темной глубине.
С усадьбы Конобея доносились громкие крики и надсадное пенье. «Поди, хватились меня, — подумал Звездан, — Словиша повсюду ищет, найти не может». Он протянул руку и взял прохладную ладошку Олисавы в свою. Трепетные пальцы девушки доверчиво замерли в его руке.
— Олисава, — сказал Звездан, с удовольствием произнося ее имя. Девушка печально улыбнулась и потянула ладошку.
— Пора, Звездан. Припозднились мы…
— Побудь еще немного.
— Нельзя. Батюшка осерчает.
— Как останусь я без тебя?
— Скоро свидимся…
Встала Олисава, оправила рубаху. Грустно сказал Звездан:
— Нет, не скоро свидимся мы с тобою. Разлучница рядом стоит, ждет своего часа. Аль не слышала ты, что кличет нас князь в поход?
— Как не слышать? Слышала, — спокойно ответила Олисава.
— Ухожу я с князем…
— Уходи, Звездан.
— Да будешь ли ты ждать меня? — воскликнул он почти с отчаянием. — Не отдаст ли тебя Конобей за другого?
— Отчего же отдаст? Уходит и батюшка мой с вами. Большой поход собирает князь — все бояре с дружинами уже были у него…
— А ежели убьют меня?
Легкая тень пробежала по лицу Олисавы.
— Значит, судьба, — тихо сказала она. — Не мучь ни себя, ни меня, Звездан. Не для того нынче свиделись мы с тобой, чтобы грустные разговоры разговаривать.
— Хоть бы поцеловала на прощание…
— После поцелую, Звездан.
Улыбнулась Олисава, перескочила через плетень и бойко побежала огородами вверх к усадьбе. Обернулась, помахала ему рукой и скрылась за высокими лопухами.
Еще немного посидел Звездан у реки, погрустил и нехотя отправился к Конобею на двор.
В самое время пришел.
— Ты где же это пропадал? — с лукавой улыбкой спросил его охмелевший Словиша.
Кузьма Ратьшич, расправляя бороду, сказал:
— Дело молодое — резвое.
Звездан покраснел под его проницательным взглядом и ничего не ответил, а Конобей вдруг засуетился, шаря вокруг себя глазами.
— Ну, спасибо тебе, боярин, за угощенье, — благодарил хозяина Кузьма, — а нам и на покой пора. Никто с собою ночлега не возит.
Гостей провожали до ворот и за ворота. Сметливые слуги бежали впереди них до самого терема Кузьмы, освещая дорогу смоляными факелами.
4
Много ли, мало ли просидели Веселица с Ошаней у переяславского посадника в порубе, а в один из дней пришли вои их вызволять.
— А ну, вылезайте, дружки-бражнички. Боярин вас в терем кличет.
На дворе мелкий, как просо, дождик сеялся. По лужам бродили нахохлившиеся куры. У всхода с крыши в кадушку стекала мутная вода.
— Ничо, — сказал посадник, встречая своих пленников, — экие хари отъели.
— Благодарствуем, боярин, — поклонились ему Веселица с Ошаней, — кабы не ты, отощали бы мы вовсе.
— Баб своих благодарите, — засмеялся посадник. — Это они вам, что ни день, носили жорное.
— Да ну? — радостно удивился Ошаня. — Нешто и Степанида моя?
— И Степанида.
— То-то мне вдогадку, вроде пышки со знакомым духом. Так-то она одна умеет замешивать тесто на золотушнике [160]…
— Будя вам, мужики, без дела сидеть-посиживать, — сказал боярин. — Ступайте по домам.
— Вот порадовал!
Поклонились мужики посаднику, кинулись вон из терема.
— Погодите-ко, — остановил их боярин. — Ты, Ошаня, долго у бабы не засиживайся. Крыша у меня в сенях прохудилась — приди починить.
— Приду мигом!
— А тебе, Веселица, другой наказ. Собирается наш светлый князь на Чернигов и повелел тебе, не медля ни дня, скакать ко Владимеру…
Вот так и разлучила судьба хороших людей. Даже по ковшику браги не выпили они на прощанье.
Убивалась Малка, провожая Веселицу:
— Береги себя, Веселица. Ты под сулицы-то да стрелы зря головы своей не подставляй.
— Не всякая стрела в кость да мясо, иная и в поле, — успокаивал, обнимая ее, дружинник. — Ишшо свидимся. Слез ты попусту не лей, а держись Степаниды.
Короток был наказ, еще короче прощанье. Вскочил Веселица на коня, вонзил ему в бока шпоры.
От безделья, от долгого сиденья в порубе любо ему было на воле. Легко шел конь по пустынной дороге. Дождь перестал, выглянуло солнце, в теплых травах звонко предвещали ясную погоду неугомонные кузнечики. В сосновых борах терпко пахло смолой, а на луговых просторных полянах голубо зацветали незнакомые Веселице цветы…
Радовались широкому простору отвыкшие от света глаза дружинника. Сворачивая коня, подолгу простаивал он на высоких взлобках, жмурясь, оглядывал поля, на которых тут и там виднелись белые рубахи мужиков, вышедших с утра на первые зажинки ржи. Верно в шутку говаривают по деревням: «Сбил сенозарник [161] спесь, что некогда на полати лезть».
Выехал Веселица на край поля:
— Бог в помощь!
— Дай и тебе бог крепкого здоровья, — отвечали, кланяясь, мужики.
Много уж копен торчало по всему сжатому полю, а еще больше оставалось на корню спелого хлеба. Хороший был урожай в этом году, сытной обещала быть зима…
Ближе к Москве больше становилось просторов, но под самым городом пошли сплошные леса. Поздней ночью постучал Веселица в наглухо запертые ворота.
Что да как, долго расспрашивал его въедливый страж, прежде чем пустить на ночлег.
Спал Веселица у попа Пафнутия на сеновале — в избу идти не захотел: душно было. Утром, ни свет ни заря, снова отправился в путь. Спешил Веселица ко времени быть во Владимире, князя не хотел гневить, да и самому не терпелось встретиться со старыми своими друзьями.
Ввечеру, проезжая через Потяжницы, услышал Веселица шум за плетнем. Не то баба плакала, не то всхлипывал мужик.
— Эй, кто там есть живой? — крикнул он, не слезая с коня.
Всхлипы прекратились, и из-за плетня высунулась женщина со сбившимися волосами. Глаза в глаза встретился с ней Веселица взглядом.
— Ты что ревешь? — спросил озадаченный дружинник.
— Да как не реветь-то, коли мужика мово взяли?
— Куды взяли-то?
— На рать, куды ж еще?.. А мужик мой хром и на один глаз слеп. Какой из него пешец?
— Ты, баба, говори, да не заговаривайся, — оборвал ее Веселица. — Хромых и кривых и прочих всяких убогих князь наш в войско свое не берет…
— То князь, а то боярин…
— Да кто же боярин-то у вас?
— А Одноок. Днесь водил он казать дружину на княжой двор, так самых крепких мужиков отобрал, и коней добрых, и кольчугу справную. А утром явился его тиун да на мужика мово и накинулся. Ты что, говорит, прячешься по углам, яко таракан? Ты почто не хочешь служить князю?!
— Эко наговорила ты мне всего, баба, а что-то не верится, — покачал головою Веселица.
— Да мне-то почто врать?
— Твой мужик…
— А я тебя о заступе не прашивала, сам кликнул. Вот и езжай себе мимо.
Веселица пристально посмотрел на бабу — нет, не врет она, слезы ее от горя, а не от хитрости.
— Что ж, одного твово, хворого-то, и взял Одноок? — спросил он.
— Почто одного? Не одного. Вон и Киршу взял, а он грудью скорбит, одною ногой в могиле. Да и Толпыга не краше Кирши. Жатва на носу, вот и оставил боярин крепких-то мужиков — так ему, знать, сподручнее…
И баба снова залилась громким плачем:
— И почто все горести на мою голову?!
— Сгинь ты! — рассердился оглохший от ее крика Веселица. — Лучше толком сказывай, где вашего тиуна искать.
— Фалалея-то?.. Да где ж его искать, как не у Сюхи? Тамо его и ищи…
Перестав всхлипывать, баба смотрела на Веселицу с затаенной надеждой.
— А Сюхина изба где?
— Вон с краю, — показала баба.
«Ах ты, боярин, ах, сукин сын», — со злорадством подумал Веселица, решительно направляя коня к Сюхиной избе.
На дворе у Сюхи кто лежал, кто сидел, прислонясь спиною к срубу, много было мужиков. Признал среди них Веселица и кривого на один глаз мужа давешней бойкой бабы.
Из двери выскочила босоногая растрепанная девка, увидев Веселицу, всплеснула руками и снова скрылась.
Пока дружинник спешивался, пока привязывал к столбику коня, на крыльцо вышел дородный краснорожий мужик в накинутом на одно плечо голубом опашне.
Поднимаясь на нижний приступок, Веселица спросил издалека:
— Это не ты ли Фалалей, Однооков тиун?
— Ну я, — ковыряясь ногтем в зубах, неохотно отозвался мужик. — А тебе пошто понадобился?
— Разговор наш впереди, не пустишь ли в избу? — сказал Веселица.
— Изба не моя, не я тут хозяин, — буркнул тиун. — Говори, с чем пожаловал?
— Фалалеюшка, — бархатно позвали из избы. Отволокнулось оконце, и в его проеме показался круглый и хмельной бабий лик.
— Чего тебе? — недовольно поморщился тиун.
— Это кто же к нам пожаловал? — бесстыже улыбаясь, повернулось круглое лицо к Веселице.
— Кто пожаловал, дело не твое, — буркнул тиун и растопыренной ладонью вдавил лицо в избу. Дощечка задвинулась.
Фалалей смущенно покашлял.
— Вольна баба в языке, — сказал он. — Эк ее разохотило.
И, вперив бесцветные глаза в Веселицу, во второй раз спросил:
— Так почто ко мне пожаловал, мил человек?
— Ты, что ль, мужиков набираешь в дружину? — строго спросил Веселица.
— Ну, я…
— Отчего ж одни калеки у тебя на дворе?
— Чего ж калеки-то? — смешался тиун. — Мужики справные…
— Оно и видать: один безглазый, другой хромой.
— Да в глазах ли сила ратная? — заюлил Фалалей. — Уж не в одной сече они побывали — и с Андреем хаживали, и с Михалкой. Одно слово — народ бывалый. А князю желторотые-то птенцы — на что?.. Э, погоди-ко, — спохватился вдруг он. — Ты-то пошто встрял? Ты-то кто есть такой?
— Не твое дело, тиун, меня спрашивать, — нахмурился Веселица. — Твое дело отвечать.
Тут из толпы сидящих у амбара мужиков кто-то подал хилый голосок:
— Веселица енто, Фалалей. Я его во Владимире не раз встречал…
— Что? — вытаращил глаза тиун.
— Веселица и есть, — подтвердил мужик.
Фалалей выпрямился, грудь колесом, угрожающе двинулся на дружинника.
— Да как ты смел, боярский закуп, не в свое дело встревать?! — зарычал он, выкатывая из орбит глаза. — Да как ты в Потяжницы попал?
Веселица отступил на шаг, спокойно положил ладонь на перекрестье меча.
— Не закуп я, а князев дружинник, — сказал он, — и ты на меня, тиун, не рычи.
— Закуп он, закуп, — пропищал голос из толпы. — Не слушай его, Фалалей!
На сей раз приметил Веселица крикуна — тот самый мужик это и был, хромой и безглазый, чью бабу встретил он у плетня.
— Ну-ка, все разом, — сказал тиун, с опаской поглядывая на протянутую к мечу Веселицыну руку, — навались, мужички!
Вскинулась послушная Фалалею серая толпа, галдя, окружила дружинника.
— Хватай его да вали наземь! — приказывал тиун.
— Стой! — закричал Веселица. — Стой, Фалалей! Обманул тебя мужик, образумься, пока не поздно!..
— Вяжите его, вяжите, — подначивал мужиков тиун. — Что к чему, опосля разберемся.
Выхватил Веселица меч — отхлынула в ужасе толпа (Фалалей, защищаясь локтем, попятился на крыльцо) перерубил прихваченные к столбику поводья, вскочил на коня.
Вертясь посреди двора, пригрозил тиуну:
— Гляди у меня, Фалалей, наплачешься вместе со своим боярином!..
Глава шестая
1
Хорошие вести застревают в пути, злые вести летят быстрее птицы. Раньше других узнали в Новгороде о новой задумке Всеволода.
Опечалился Ярополк Ярославич, приехал к Мартирию, понуро сидел в палатах, говорил тихим голосом:
— Все это твои козни, Мартирий. Наговорил ты батюшке с три короба, наобещал и того боле. А нынче, объединясь с Рюриком, идет Всеволод на Чернигов, мстит за свою обиду.
— Зря печалишься, княже, — успокаивал его владыка, — не в твои пределы вступило Всеволодово войско. А за батюшку ты не беспокойся, и вины твоей в этом нет. Там за киевский стол идет давнишний спор, им его и решать. Ты же разумом укрепись и о своих делах подумай. Ярослав до сих пор стоит в Торжке, на дорогах купцам ни проходу, ни проезду нет от лихих людей. Собери, не откладывая, бояр, посоветуйся с передними мужами, скажи, что дальше намерен делать, как урядишься со свеями и с Ярославом.
— Да какой со свеями ряд? — оживляясь, сказал молодой князь. — С ними я и с одною дружиной за все обиды сведу разом счет. А Ярослав пущай убирается сам. Меня кликнуло вече — не его. Кому же и владеть, как не мне, новгородской землею? Дерзость его неслыханна.
— Хорошее, твердое слово сказал ты, княже, — улыбнулся Мартирий, в душе посмеиваясь над его вспыльчивостью. — Народом править — не борзым конем. Конь и тот норовист, а ежели не кормлен, то и не смел. Прежде чем на свеев пойти, допусти хлебушко через Торжок. Ярослав нам теперь опаснее любого другого ворога. От него все беды пошли, с ним и управляйся в первую голову. С тобою бог и законное право…
Однако, беседуя терпеливо с Ярополком Ярославичем, и сам Мартирий втайне тревожился. Не нравилось ему, что не раньше и не позже, а сразу после того, как узнал о переменах, случившихся в Новгороде, пошел Всеволод на Чернигов, хотя и раньше просил его об этом Рюрик. Покуда с вечем считался владимирский князь, покуда притворялся, что считается с Боярским советом, не хотел он, должно, нарушать старого обычая, не хотел силой сажать Ярослава, а волею самого владыки. Тогда надежно связал бы он Мартирия, тогда крепко и надолго обосновался бы в Новгороде и любое несогласие волею того же веча пресекал бы на самом корню. Вольницей вольницу задушить мечтал Всеволод, руками самих же новгородцев накинуть на них прочную петлю.
Вот почему не к Новгороду стекались Всеволодовы рати — не хотел он повторять содеянного Андреем, который, даже взяв город на щит, не сумел поставить его на колени. Как не признало над собою Владимир вече, так и продолжало упорствовать до сих пор.
Холодея, понял Мартирий, что вокруг его собственного горла все туже и туже сжимаются железные пальцы. Что именно он, владыка, нужен сейчас Всеволоду. Потому и звал к себе, потому и держал у себя Нездинича. А потом, заключив мир с напуганным Черниговом, повелит отозвать Ярополка Ярославича, кликнет владыку и его же руками накрепко и навсегда стянет тугую удавку…
Нет, неспроста собрал несметную рать могучий Всеволод, неспроста двинул ее на юг. Аукнется поход на далеком севере, рухнет последняя опора Мартирия, и тогда сам он пойдет с повинной, сам от имени веча будет просить Ярослава.
Поежился владыка. Почудилось ему, как могильным холодом повеяло в палатах. И Ярополкова похвальба показалась ему смешной. Да неужто такой князь нужен Новгороду?
Еще не свершилось неизбежное, еще торжествовали бояре, радуясь своей нежданной победе, а Мартирий знал уже, что не победа это была, а новая беда, что близка роковая развязка и отсрочить ее он не в силах.
Так вот почему упорствовал Ярослав и не сдавал Торжка! Так вот почему все оставалось, как и прежде…
Не выходя из детинца, знал Мартирий, что подвоза опольского хлеба нет и не будет, и успокоить новгородцев он мог только молитвой. Те же самые мужики, что кричали на стол Ярополка, самозабвенно и рьяно будут кричать Ярослава. И сам владыка, не кто-то другой, принудит их к этому. А от молитвы в закромах не прибавится ни кади зерна, ни рогожи соли.
«Пусть похваляется Ярополк, — грустно думал Мартирий, — пусть петушится. Пусть тревожит Ярослава и добывает себе никчемную славу. Чем бы ни тешился до поры, лишь бы в Новгороде было поспокойнее, лишь бы люди жили надеждой. Не то и мое будет непрочно место, а не ради ли этих палат свершил я столько зла и несправедливостей?!»
Не жалел себя Мартирий, не прятался перед собою за благообразную личину. Хотел он выше всех епископов встать на Руси — и в том признавался себе без трепета. Хотел поставить себя над князьями и вечем. И в том не раскаивался. Хотел, разъединяя, властвовать и, объединяя, творить едино свою волю. И в том не юродствовал.
Но не ему отпущено было свершить неизбежное. Иная сила вызрела на Руси. Иные шли времена. Не под византийским черным крылом прорастала смелая мысль, а в лесных полудиких языческих просторах, в бревенчатых избах и таких же убогих церквах, где едва выучившиеся грамоте мужики, византийским крестом осеняя неверующие лбы, хоть и смутно еще, но уже сознавали свое могучее родство, разорванное ненужной враждою и бесплодными распрями.
Вокруг Всеволода собиралась колобродившая усобицами Русь. Бурлила и пенилась, многоголосо кричала, но сквозь непрерывный грохот и звон сшибающихся мечей вдруг, слыша родную речь, замирала в изумлении: так почто же брат идет на брата, почто кровью родичей и сынов своих обагряется своя же земля?.. Почто?! Все чаще видел Мартирий этот вопрос в болезненно распахнутых глазах обращавших к нему просветленные надеждой лица мужиков. Ему ли, пришельцу издалека, дано понять их тайну и их мольбу?.. Ему ли исполниться жалости и суровой простоты, ибо прост ответ, но не прост и тернист к нему путь?.. И нет молитвы, которая облегчила бы крутую дорогу.
А Ярополк Ярославич, по-своему истолковывая молчание владыки, все говорил и говорил, и речь его была несдержанна и смутна, как несдержанны и смутны были его помыслы.
Владыка встал. Прервав речь, молодой князь смотрел на него удивленно.
— Да укрепит господь руку твою, — устало произнес Мартирий и перекрестил Ярополка Ярославича.
Князь был обижен. Глаза его, сузившись, потемнели.
Тяжело опершись на посох, Мартирий подошел к окну и выглянул во двор. Давно ли бушевала здесь возбужденная Ефросимом толпа, давно ли лилась кровь на приступках этого всхода, а теперь было тихо, и по безлюдным дорожкам бродили отощавшие, шелудивые псы.
Раньше в Новгороде не было такого количества собак. Они сидели по усадьбам на крепких цепях, откормленные и злые, гордо облаивали прохожих и мужественно стерегли хозяйское добро. Достаток светился в их самоуверенных глазах, сытость была в их утробном неторопливом лае, а гладкая шерсть ухоженно блестела на их круглых задах.
Когда пришел голод, собак повыгоняли на улицы. Растерянно поджав хвосты, они дрожали под дождем и прятались в тени от жаркого солнца. Клочьями повылезала на их спинах шерсть, обнаженная кожа покрылась незаживающими язвами.
Высунув бледные языки и озлобленно рыча, бездомные псы рылись на свалках и устраивали шумные драки из-за вываренных костей и сухих отбросов. Их разгоняли, били палками и цепляли железными крючьями.
И псы стали уходить из города. Они нашли в стене старый заброшенный лаз, и, когда, проснувшись однажды утром, новгородцы не увидели их на привычных местах у помойных ям и смердящих свалок, в городе, ширясь, поползли зловещие слухи.
Тогда не на шутку был перепуган Мартирий. Люди толпами шли к Софии и требовали открыть ворота. Им тоже захотелось покинуть город. За корочку пахучего хлеба, за глоток сдобренной жиром горячей воды они готовы были отдаться на милость Ярослава.
— Открой ворота! Будь ты проклят, владыко, — исступленно кричали голодные рты.
Что было им в упорстве Боярского совета? Что было им в тщетных призывах Мартирия, грозящего карой небесной предателям и отступникам? Разве они предали свою землю, разве они уже не заслужили прощения своей стойкостью и долгим терпением?..
Двумя рядами возле детинца стояли одетые в броню пешцы. Люди кидали в них каменья и палки.
— Верни, владыко, Ефросима! — просили они. — Святой старец проклял нас за суесловие и суету. Он был прав, а ты, Мартирий, изгнал старца из наших пределов. Верни Ефросима.
И тогда пробился с севера в осажденный Новгород охраняемый монахами длинный обоз.
— Все это ваше, люди, — говорили чернецы, раздавая новгородцам хлеб. — Игумен услышал вас, и сердце его исполнилось скорби.
Кто донес до далекого монастыря печальную весть? Или просто приснился Ефросиму один из его вещих снов?
Ничего не просил взамен от новгородцев игумен, и уста его, как и прежде, были скованы молчанием. Но хлеб пришел в осажденный город, и сердца людей снова исполнились великих надежд… А надолго ли?
Последние псы, не ушедшие со всеми, нашли приют за высокими стенами детинца. Еще не иссякли здесь владычные кладовые, еще вседенно клокочут над углями испускающие сытный дух огромные медяницы, еще в отбросах можно сыскать лакомые куски, но придет час, и эти бездомные псы покинут детинец. Воткнут пешцы в землю копья и тоже уйдут. И когда опустеет просторная площадь у Софии, когда знобящий ветер погонит по осиротевшим улицам мертвящую пыль, кончится вечевой Новгород и наступят новые времена…
2
Рюрик проснулся, открыл глаза и почувствовал непривычную легкость в теле — сон слетел мгновенно, мысли были ясны. Такие пробуждения давно уже были ему непривычны.
— Доброе утро, княже.
Возле постели его стоял улыбающийся Докушка, коренастый парень со спадающей на плечи гривой рыжих волос. В руках он держал медную лохань, через плечо было кинуто белое полотенце с вышитыми вразброс красными петухами.
Запрокинув голову, вытянув руки, Рюрик потянулся и бодро встал, ощущая босыми ногами приятную холодность чисто вымытого деревянного пола. На желтых плахах лежали светлые пятна раннего июльского солнца, залетающий в ложницу ветер неторопливо пошевеливал занавесками.
Докушка услужливо и ловко поставил лохань на скамью, Рюрик скинул исподнее и, похлопывая себя ладонями по рыхлым бокам, стал осторожно плескать на тело воду, покряхтывать и поеживаться от удовольствия.
Докушка протянул ему полотенце, князь растерся до красноты и вдел руки в просторные рукава рубахи.
— А что, — сказал он, стоя к отроку спиной и проводя пальцами по мокрым волосам, — а что, проснулась ли княгиня?
— Княгиня давно как на ногах, — сказал Докушка, убирая с лавки лохань. — Ждет тебя, княже, в гриднице. Столы накрыты, и, как велено тобой, званы в терем бояре и старшие дружинники.
«Славный сегодня день, — подумал князь. — Славная погода, и вести хорошие».
С вечера сообщили ему, что Всеволод сел на коня и, вняв его давнишним уговорам, двинулся с войском на Чернигов.
«Теперь и наша пора пришла».
— Теперь и наша пора пришла, — сказал он боярам, входя в гридницу и приятно улыбаясь сидевшей во главе длинного стола княгине.
Придерживая руками животы, бояре встали, поклонились князю и не садились, пока сам он не прошел на свое место и не сел на резной столец рядом с Анной.
Крепкие вина, которых в обычные дни не подавали с утра и которых сегодня было в изобилии, быстро развязали боярам языки. Стараясь выделиться перед Рюриком, все говорили наперебой:
— У черниговцев, чай, пятки чешутся. Твоя взяла, княже.
— Будя зариться на высокий стол. Руки у Ярослава коротки, до Киева ему не дотянуться.
— Вот бы Роману руки тоже прищемить. Шибко длинными они у него стали.
— Дайте срок, — сказал Рюрик, прихлебывая сладкое хиосское вино [162].
Льстивый говор бояр веселил ему сердце. Но радость свою выставлять всем напоказ он не спешил. Как бы не подумали бояре, что без Всеволода ему Чернигова не одолеть, как бы лишнего не приписали владимирскому князю. Куда ни кинь, как ни поверни, а был Киев главным городом на Руси, таковым и по сей день остался. Не во Владимире, а здесь, на Горе, сидит митрополит, отсюда многое повиднее — не то что из-за Мещерских гнилых болот…
Едино своей изворотливости и стойкости в борьбе против черниговского князя приписывал Рюрик сегодняшнее торжество. Думал он, что Всеволод сел на коня, чтобы разделить и без того близкую победу. В трудные-то дни его, бывало, и не докличешься, а тут гляди, каким резвым стал.
Недаром давили хиосский виноград коварные греки, недаром поили им тех, у кого хотели выведать сокровенное. После третьей чаши Рюрик говорил не таясь:
— Шиша получит от меня Всеволод. Вот справлюсь с Черниговом, так возверну отданные владимирскому князю города.
— И правильно сделаешь, — вторили ему бояре. — Давно уже время вернуть былую славу киевского стола.
— Войска у нас и у самих хватит.
— Давыда позови из Смоленска, пущай знает Всеволод, что и мы не лыком шиты — чай, и сами за себя постоим.
В удачливую годину быстро забываются и недавние беды. Кто мог из сидевших рядом угодливых бояр напомнить Рюрику, как, еще не оправившись после пленения черниговцами племянника его Мстислава Романовича, спешно собирал киевский князь, гостивший в Овруче, свою распущенную по деревням дружину — не для того, чтобы воевать черниговскую землю и отомстить за разорение, учиненное вокруг осажденного недругами Витебска, а для того только, чтобы удержать под собою пошатнувшийся старший стол?
Не Рюрику спорить за первенство на Руси, ежели и Роман волынский давно перестал считаться с его волей, страшась, как и прочие князья, одного только Всеволода!..
Знали про это бояре, но князю своему поддакивали, потому что не за слово правды, а за лесть и угодничество дарил он их новыми наделами.
Один только митрополит Никифор хранил молчание во время беседы.
— А ты почто не скажешь своего слова? — стал выпытывать у него Рюрик.
— Мне ли пристало судить о твоих делах, князь? — стараясь сохранить величие, уклончиво отвечал митрополит. — Радею я о душах, а не о пище земной. Тебе и боярам твоим виднее, с кем мир творить.
— Нынче не о мире ведем мы нашу беседу.
— А в ратном деле я и вовсе тебе не советчик.
— Видали, бояре? — удивился князь. — В былые времена слыхивал я от тебя иные речи.
— Каждая речь хороша в свой срок, — сказал митрополит. — Молюсь я за убогих и страждущих, князь. А тебе ныне вот что скажу: «Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будо худо, то и тело твое будет темно… Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма».
— Вона как ты речешь! — воскликнул князь, который хоть и был пьян, но понял дальний намек. — Тогда и тебе отвечу из Евангелия: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! что вы — как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того».
Все притихли и повернулись к митрополиту. Никифор побледнел:
— Не богохульствуй, князь. Сказанное тобою слушать мне не по чину. Не согласуясь со мною, ставит Всеволод епископа — неслыханно сие. Тебе же, сидящему в Киеве, подобное не пристало, ибо в лице моем зришь ты не врага, но друга, без коего великокняжеский стол — одно лишь название. И без того порушен извечный закон. Ежели и ты порушать его будешь, то разбредется народ, яко стадо без пастыря, и тогда великие беды обрушатся на Русскую землю.
Митрополит замолчал. Ни есть, ни пить никому уже больше не хотелось. Неловкость вышла за столом, зря накинулся Рюрик на Никифора. Понял это и сам князь и попытался сгладить обиду:
— Что сказано, то без злого умысла. Не серчай попусту, отче. Эй, слуги! Налейте митрополиту доброго вина да зовите сюда блазней [163] и скоморохов!..
Не заладился во княжом тереме пир. Посреди всеобщего разгула вдруг сделалось Рюрику грустно.
Зря старались шуты, прыгали и кувыркались посреди забросанной костями гридницы. Не развеселили они князя — от вина и от громких песен стало ему совсем худо.
Подхватили отроки Рюрика под локотки, отвели в ложницу, уложили в разобранную постель.
— Что ты пригорюнился, князюшко? — захлопотала возле него заботливая Анна. — Что тебе в голову взбрело? Зачем вздумал срамить Никифора? Не к добру это…
— Тебе ли меня учить? — приподнял с подушки отяжелевшую голову князь. Ложница кружилась у него перед глазами. Но мысли были ясны. К ним и взывала Анна, пыталась образумить князя. Сколь уж лет жила она рядом с ним в постоянном страхе и смятении. Сколь уж натерпелась всего, и вспоминать не хочется. Да разве забудешь? Хоть и бабий у нее ум, хоть и говорят, что он короток, а давно замечала она, что, и переча, прислушивается к ее советам князь.
Не верила она ничему из того, что сказывал боярам муж. Когда какая блажь на него найдет, но Всеволода боялся Рюрик. Уж кто-кто, а она-то знала. Уж от кого, а от нее не мог скрыть затаенного. Боялся Рюрик Всеволода и ненавидел его, от него все беды — считал. Но и без Всеволода ни дня не удержался бы он в Киеве. И это знал князь. А выхвалялся, чтобы не так страшно было.
3
Весть о том, что Всеволод сел на коня, застала Романа волынского далеко за пределами его княжества.
В погожий день отправился Роман с дружиною зорить соседние земли польских воевод. Не затухала в нем давнишняя вражда к Мечиславу, и платил он за старый позор свой с лихвою.
Племянница Романа Елена сидела с сыном своим Лешкой в обнесенном высокими стенами Кракове, Мечислав стучался в ворота города, но палатин Николай, поддержанный епископом Фулконом и прелатами, вел тайные переговоры с Римом, чтобы отдаться под покровительство св. Петра [164] и тем самым утвердить Лешку наследственным князем Кракова с правом передать после себя этот стол его старшему сыну.
Но не тверд еще был в помыслах и делах своих молодой Лешка, и можновладцы, страшась укрепления единой власти, нашептывали слабой Елене, чтобы не слушалась она палатина и епископа, а доверилась Мечиславу, не проливала лишней крови, а после смерти его получила краковский стол по праву родового преемства.
Разве что не сидел еще Мечислав в Кракове, но знал, что недалек тот час, когда поднесут ему городские ключи на серебряном блюде, а покуда правил по всей Польше, давал земли и вершил суд.
Не в первый уже раз появлялся Роман в его пределах, не первый раз проносился огненным смерчем по окраинным деревням и селам, уводя с собою на Волынь богатый полон. И Елене он так посылал сказать со своими людьми: «Не верь Мечиславу, не отдаст он взятого хитростью твоему Лешке, а посадит после себя сына своего Владислава. Ты же пойдешь просить приюта обратно на Русь».
Добрый урок преподал Мечислав своему соседу: теперь боялся с ним встречи Роман в открытом поле. Набеги его были внезапны — и так же внезапно он исчезал, скрываясь за лесами и топкими болотами.
Но не знал он в тот летний погожий день, что на ранней зорьке, понукая взмыленного коня, спину показывая восходящему солнцу, скакал в Мечиславов стан посланный боярином Велизаром пронырливый и скорый гонец. Не знал и никогда не узнает он, что продал его Велизар сендомирскому палатину Говореку, искавшему Николаева места возле краковского стола. Но не рядом с Лешкой видел себя Говорек, а рядом с Мечиславом, и крепким залогом их будущей дружбы должна была стать Романова голова.
Смеясь, говорил Роман Велизару:
— Вот увидишь, боярин, с большою добычей вернемся мы на Волынь. Доносили мне нынче, что снова стоит Мечислав под Краковом, но, покуда стучится он в крепкие ворота, не оставим мы за его спиною ни единой деревни. То-то же погуляем у ляхов, то-то же потешим себя, порадуем наших воев богатой добычей…
— Умен ты, Роман, — отвечал Велизар, пряча от князя бегающие, блудливые глаза. — Тихого бог нанесет, а резвый сам набежит. Тебе ли ждать хорошей погоды? С тобою рядом и мы все сыты, от твоего пирога и нам краюшка.
Ехали перелеском, мечи в ножнах. Ехали, об опасности и не помышляли. Но чем ближе к условленному месту, тем все беспокойнее становился боярин. Как бы самому под нацеленную в Романа стрелу не угодить, как бы вовремя свернуть коня своего в сторону.
Все бы шло по задуманному, все бы Велизару богатыми дарами обернулось, а Говореку ратной удачей, да вдруг схватило у одного молодого воя живот — не то воды тухлой напился, не то чего съел на последнем привале. Скрючился он в седле, посинел от натуги и поворотил коня своего в лесок, в сторону от дороги.
Только нырнул он в ближние кусты, только ногу вскинул, чтобы выпрыгнуть из седла, как долетел до его слуха подозрительный шорох. Не еж пробирался в леске, не лисица искала свою нору — ехали по тропинке вершники, и не двое, не трое, а великое множество, ехали, переговаривались друг с другом, по сторонам не глядели.
Не сразу понял молодой дружинник, к чему бы это, откуда взялись в лесу люди; забыв про живот, пялил на тропинку испуганные глаза, а вершники совсем близко подъехали, даже дых лошадиный услышал вой. «Господи, пресвятая богородица!» — мысленно перекрестился он и, развернувшись, пошел скорой рысью, приминая колючий кустарник.
Опростоволосился Говорек, не достала его стрела расторопного воя. С досады согнул он на колене лук. Столько задумано было, так вязалось все одно к одному — и Велизар на щедрые его обещанья прельстился, и гонец от боярина вовремя доскакал, не утонул в реке, не сломал коню ногу, и совсем уже было подошли к Романовой дружине незамеченными, а вынесло на него незадачливого воя — и тетиву не дожала дрогнувшая рука.
Ощерил Говорек перекошенный рот, с досады глубоко вонзил коню в поджарые бока острые иглы шпор — и пошел за ним буйной поступью спрятанный в засаде отряд, распахнулся перелесок, ударило в лицо полуденное горячее солнце.
Нет, не быть Говореку подле Мечислава на краковской горе — не застал он врасплох Романа. У русских мечи острые, выносливее мохноногие кони. Красное корзно волынского князя взвилось за плечами, как полыхающий огненным цветом прапор [165]. Рука вскинута над головой, в руке — голубая молния.
Сшиблись две лавины, заржали, подымаясь на дыбы, кони, зазвенела сталь.
Боярина Велизара словно вышибло страхом из высокого седла: покатился он под бугорок, встал на четвереньки и бойко шмыгнул в траву.
А русские бились с ляхами, не жалея сил. Много пало храбрых воев с той и другой стороны. И не выдержал Говорек, малодушно повернул коня своего вспять. И за ним повернула коней вся его дружина.
Оставшихся не добивал Роман, злость свою не вымещал на простых воях. Вслед за Говореком кинул он своего коня.
Кто куда — рассеялась в поле дружина коварного палатина, не поспели за своим князем и Романовы вои. Только двое и скакали они на глазах у своих и врагов — впереди оглядывающийся через плечо Говорек, позади — волынский князь…
Дрожа от волнения, следил за ними из своего укромного места Велизар, кусал себе пальцы, жалел, что не достать издалека до Говорека и самой меткой стрелой. Натянул бы он лук, спустил тетиву — и не вылезла бы наружу его измена, а если не порубит Роман палатина, то держать боярину перед суровым князем ответ.
Хорош конь у Говорека, но еще лучше — у Романа. Не уйти Говореку от погони — еще немного проскачет он, вымахнет на бугорок и в растерянности поглядит перед собою на просторную водную гладь. Как же это из головы у него вышибло, как же забыть он мог, что совсем недавно сам шел с этой же стороны и переправлялся с отрядом через речку.
Но даваться в руки Роману Говорек не хотел, не хотел стоять перед ним униженно. Съехав со скользкого берега, сразу по самую шею в воде оказался его конь.
И снова в спешке забыл Говорек: не ему ли сказывал провожавший их до Козьего брода старик, что пониже пойдут по реке ямы да омуты, что немало коров погибло в их пучине у окрестных крестьян?!
Теперь уже поздно, теперь не выправить палатину на отмель своего коня. Словно жидкую кашу, варят омуты в реке донный ил и мелкий песок. Шипит и пенится у горла Говорека живая вода.
Въехал Роман в воду на отмели, протянул палатину руку — нет, не схватится за нее Говорек, не примет милости от своего врага. Но седло все глубже уходило из-под него в пучину, вода заливала голову, и тогда с простуженным криком вцепился палатин в перщатую рукавицу князя…
Постыдно, пешим, пригнал Роман Говорека в свой ликующий стан. Увидев уныло бредущего впереди князева коня палатина, шмыгнул Велизар за спины других бояр. Но взгляд Говорека уже вырвал его из толпы, и другое лицо вырвал он из толпы окруженных дружинниками пленных. Попятился Велизаров гонец, придерживая рукою порубленное плечо, обреченно опустил голову.
Усмешливо разглядывая сбившихся в кучу ляхов, Роман сказал:
— Неспроста ты, Говорек, оказался на моем пути. Скажи, кто оповестил тебя, и тогда отпущу я вас всех на волю. А не скажешь, иным велю рубить головы, а иных с собою возьму в полон. Видишь, не твоя только жизнь, но и людей, коих взял ты с собою, в твоих руках.
Знал, с какого края лучше всего подступиться к палатину, Роман. Ежели бы просто стал его пытать-выпытывать, ни за что не признался бы Говорек. А тут призадумался крепко. Тяжелая повисла над поляной тишина. И свои, и чужие глядели на Говорека — одни со страхом, другие с любопытством.
И первыми не выдержали нервы у гонца. С криком вырвался он из толпы пленных ляхов, упал перед Романовым конем на колени:
— Казни, княже! Целуя крест, винюсь перед тобою, я был послан к палатину, моя во всем вина…
Опершись на холку коня, Роман посмотрел на него с усмешкой:
— Ты — раб и наказан будешь. Но не твой убогий ум замыслил сие коварство. Так кто слал тебя к Говореку, сказывай?..
Обернулся гонец, встретился взглядом с Велизаровыми лихорадочно заблестевшими глазами, открыл рот — и повалился наземь. Метко пронзила ему шею боярская перенная стрела. Второю стрелой хотел Велизар поразить Романа, но не успел натянуть тетиву. Схватили его дружинники, вырвали, отбросили в сторону лук, пригнули боярина к земле.
— То-то еще утром подумалось мне, — протяжно сказал Роман, — пошто это ты, боярин, воротишь от меня рыло. И про счастье сказывал, и блудливо улыбался.
— Про счастье я верно сказывал, — поднял глаза Велизар, — да не про твое, князь.
— Как на льду, обломился ты, боярин. Говори, почто задумал свое коварство.
— Казнил ты в прошлом году мово брата…
— Эвона что!.. Да тебя-то я миловал, тебя-то я не казнил.
— Видимо-невидимо слез пролил ты на Волыни…
— Врешь! — выпрямился в седле Роман. — А ну-ка, палатин, скажи и ты нам свое слово. Скажи, чего и сколь обещал боярину за измену.
— Перстень с камнем — то мой залог, — кивнул на Велизара Говорек. — А за измену обещано ему было у Мечислава бочонок с золотом, и мягкой рухляди, и место войта с пятью селами в придачу, ежели вздумает уйти с Волыни…
— Щедро оценил ты, палатин, мою голову, — кивнул Роман, — не обидел боярина.
Смущенный Говорек молчал.
— Не было на Руси такого обычая, чтобы вешать бояр, — сказал Роман своим дружинникам.
— Не было, — подтвердили дружинники.
— Но Велизар уж не мой боярин. С сего дня он — лях, коли ляхам продался за бочонок золота.
— Вестимо так, — отвечали дружинники.
Велизар задергался в руках державших его людей.
— Не преступай наших законов, князь! — завопил он, поднимая к нему забрызганную слюнями бороду. — Бог покарает тебя!..
— Бог на стороне правых, — спокойно возразил князь. — И имя его всуе не поминай. Берите боярина да вздерните его повыше на том дубу, — приказал он воям.
— Дьявол, дьявол вселился в твое сердце! — орал, упираясь, Велизар. — Всего боярского роду не истребишь, а расплата грядет. Еще и ты покачаешься на высоком суку.
— Предерзостен ты, боярин, — сказал Роман. — Мог бы я тебе и пострашнее выдумать казнь, да говоренного менять не привык. Эй вы, не мешкайте! Пошевеливайтесь, недосуг нам речи попусту переводить на хулителя и злодея.
Постарались дружинники, угодить хотели князю — подтянули трепыхающегося Велизара под самое небо. Покрутился он, повертелся на прогнувшейся ветви и повернулся лицом на Волынь. Вывалился язык у боярина, из выпученных глаз выкатились две большие, как горошины, слезы. Последний привет посылал он родному дому, боярыне своей и малым деткам. Вернется на Волынь Роман, сожжет его усадьбу, отберет вотчину, пустит по миру семью. Но уж от новой беды бог Велизара миловал — не опечалится он, не закручинится: обклюют его тело вороны, высушат кости чужие ветры…
— А с тобою что делать будем, палатин? — обернулся Роман к Говореку.
— Воля твоя, князь.
— Вижу, не дрогнуло сердце твое от страха, не ужаснулся ты пропасти, — сказал Роман. — Храбрые люди мне по душе. — Ладно, ступай к своему Мечиславу, пущай он рассудит, как с тобою быть.
— Поистине недаром славят тебя, Роман, за справедливость, — воскликнул Говорек, падая на колени. — И вот мое слово: не подыму я впредь против тебя своего меча — знай…
— Знаю, знаю, — поморщился Роман. — Ступай покуда, палатин. Да впредь мне не попадайся. Вспомни Велизара, вздрогни и вынутый меч обратно задвинь в ножны. А то, что в клятву твою не верю, на то не обижайся. Мне и бояре мои клялись и поныне клянутся, а сами куют крамолу. Мечислав — твой хозяин, а мне он — давнишний враг. Иди.
Огнем и мечом прошелся Роман по польской земле. Дорого заплатил ему за обиду коварный Мечислав. С большим полоном возвращался Роман на Волынь, много вез с собою добычи.
А на последнем привале спрыгнул у его шатра гонец, упал на колени и, задыхаясь, сказал:
— Беда пришла на Волынь, княже. Князь Всеволод вступил в стремя и двинулся против Чернигова. А Рюрик, с Владимиром галицким объединясь, топчет конями и топит в крови окраинные наши земли…
4
«Подлый трус, — подумал Роман о Владимире. — Сидел, как побитый пес в своей конуре, а почувствовал поддержку — и оскалил зубы». Но предаваться тоске и отчаянию у него не было времени. В тот же день послал он за поддержкой к сыну короля Белы Андрею, искавшему галицкого стола, а сам, с малой дружиной, без ночлегов и отдыха, меняя в пути коней, устремился на Волынь — спасти то, что еще можно было. Воображение смутно рисовало ему размеры постигшего его бедствия. Как знать, не посмеется ли над ним судьба, не сядет ли Владимир на волынский стол?..
И если бы взгляд его, подобно соколу, мог взмыть в вышину и окинуть всю землю, то увидел бы он, как идут по дорогам Волыни одетые в броню пешцы, как скачут взбодренные плетками кони, а навстречу им — в Галич и Киев — гонят скот и людей, подобно скоту. Увидел бы он горящие избы и лежащих на обочинах дорог своих порубленных воев…
Но не видел всего этого Роман, а если бы увидел, то, может быть, и не преисполнился бы такого ратного духа, может быть, и устрашился бы, а не надеялся на удаль свою и непрочный союз южных князей.
Но еще больше устрашился бы он, если бы знал, что не внял его просьбе Андрей и не двинул свою рать на Галич, а, выжидая, остановился за Горбами.
Осторожен был Бела, сыном своим рисковать не хотел, не решался дразнить выбравшегося из своей берлоги северного медведя.
Всем причинил немало хлопот Всеволод, посадил на коней чуть ли не всю Русь.
Все дальше продвигались по волынской земле Владимировы рати, все смелее и напористее становился галицкий князь. Куда и хворь его подевалась — румянцем загорелись полинявшие было щеки, живым блеском наполнились потухшие было глаза.
Сидел он на коне прямо, глядел перед собою строго, пересылался с Рюриком гонцами, набивал сумы воинов щедрой добычей, города отдавал им на ограбление, пожигал в полях созревшие хлеба.
Кровавыми слезами обливалась Волынь, в церквах перепуганные попы молились за здоровье Романа, а мужики брали в руки серпы и рогатины и уходили в леса, подальше от больших дорог, по которым двигалось галицкое воинство.
Недавний покой оказался непрочен. Воспрявшие духом бояре предавали Романа и переходили во вражеский стан.
Роман удивился пустынности и тишине на улицах стольного города.
Жена вышла с распухшим от слез лицом. Неужто сбывается зловещее предсказание повешенного Велизара? Неужто вправду постигла его божья кара? Но разве не думал он о благе своей земли? Разве одной забавы ради сносил головы упрямым боярам?!
Не обняв Рюриковны, не удостоив ее даже взглядом, размашистым шагом прошел князь в гридницу. Сел, насмешливо оглядел поредевшие лавки. Вот и выявила беда всех, кто был против него, кто строил козни и пересылался с врагами.
На оставшихся он мог положиться, но и то не на всех. Иные переметнутся чуть позже, иные так и останутся здесь, чтобы вынести навстречу Владимиру ключи от города.
«Попал, как сом в вершу», — вдруг подумал он о себе. Но тут же отбросил дурные мысли, ноги подсунул под столец, склонился к боярам:
— Какую думу думать будем?
— Какую уж думу думать, коли враг на загривке? — отвечали разноголосо бояре. — Замиряться надо с Владимиром, вот и весь сказ.
Но иные говорили разумно:
— Ты — князь, с тобою мы не один пуд соли съели. Собери по Волыни, что собрать сможешь. А мы тебе завсегда поможем.
И тех и других внимательно слушал Роман, сидел молча, теребил бороду.
— Много бед успел натерпеться народ твой от галичан. Кликни выборных, пусть свое слово скажут…
— В кузнях вели мечи и кольчуги ковать…
— В деревнях собери дань, чтобы войску было не голодно…
— Да не мешкай, княже. Видал, какие ноне встали хлеба? Ежели не справимся с галичанами, то не успеем убрать хлеб. Опустеют житницы, мужики метнутся из сел… Тогда небось и сами пойдем на поклон. Тогда нипочем не устоим.
Гул стоял в гриднице. Спорили бояре друг с другом, вскакивали, размахивали длинными рукавами шуб.
Но были эти шум и гвалт любы Роману. Не все, значит, бояре худого племени, были среди них и мудрые головы.
— Не зря собирал я вас, бояре, — сказал им князь. — На добром совете спасибо. А особливо тем, кто поддержал, кто и в мыслях не имел, чтобы Волынь отдать Владимиру галицкому. Малая беда большую родит, но ежели встанем все, как один, от любой беды отгородимся. Вот мое последнее слово. А заутра сами садитесь на коней и холопов своих ведите в мою рать. Да оружно, да оконно, да чтобы никто не вздумал прятаться в вотчинах. С Галичем разберусь — каждому свое воздам. За мною не пропадет — знайте.
Ввечеру, едва отужинал князь, под окнами терема раздались бойкие голоса.
Роман вышел на крыльцо:
— Почто вопите?
— Беда, князь, — выскочил перед ним воротник.
— Эко беда, — усмехнулся Роман. — Нынче горшей беды нет, как увидеть галичан под своими валами…
— Галичане, княже, и есть, — пролепетал перепуганный воротник.
— Не дури, воротник, людей зазря не полоши, — сказал князь и собрался обратно в терем.
— Верь мне, княже! — завопил мужик. — Пусть полопаются мои очи, ежели это не галичане. Сам едва не принял стрелу, да, хорошо, только ухо зацепило…
Складно сказывал мужик, и все у него вроде сходилось. И отметина на ухе кровоточила.
Сразу серьезным стал князь, вгляделся пристально в воротника и велел отрокам вести коня.
Всунул он ногу в стремя, бросил покорное тело в седло. Воротник юркнул впереди него, не отстал на улице. Еще несколько гридней увязалось за Романом. Вместе с князем поднялись на вал.
Смеркалось уже. За рекой расстилался туман, на закраине неба полыхали кучерявые облака, дорога, уходившая на юг, к Галичу, светло петляла среди темных лугов.
— Вон они, вон! — крикнул один из гридней и вытянул перед собой руку.
И верно, из приземистых кустов, спускавшихся одним своим краем к реке, а другим взбегавших на пригорок, показался конный отряд.
«Да неужто и впрямь Владимир успел до нас докатиться?» — удивился Роман, чувствуя, как тревожно покалывает в боку.
Тем временем на вал поспел и поотставший в городе воротник.
— Они, они и есть, — подтвердил он, словно бы даже и с радостью. — Почто обманывать мне тебя, княже?
— Цыц ты! — оборвал его князь. — Ну-ка, спущайся вниз да живо отворяй ворота. Поглядим, что там за храбрецы и откудова к нам пожаловали.
— Ты бы остерегся, княже, — стали уговаривать его гридни. — Не ровен час, еще угодишь под стрелу.
— Страшен сон, да милостив бог, — сказал Роман и, сбежав с вала, сел на коня.
— Свят-свят, — быстро перекрестил его мужик, распахивая ворота. Гридни поскакали за князем.
— А вы за мной почто? — остановил коня Роман.
— Так нешто тебя одного бросать пред ворогами? — удивился голубоглазый гридень с тонкой белой шеей, на которой висела деревянная оберега.
— Мой конь — ветер, — сказал князь, — а ваши — клячи. На таких только дрова из лесу возить.
— Не обижай нас, княже, — просили гридни. — А с тобою нам никогда не страшно.
— Ну, глядите у меня, — улыбнулся польщенный князь и поскакал по полю. Гридни едва поспевали за ним — лошаденки и впрямь были у них худы и малосильны.
В отряде заметили приближающегося князя, сгрудились, советуясь, потом рассыпались по луговине. На взгорке осталось трое. Один из них поднял руку:
— Кто такие?
— А вы? — спросил Роман, останавливая коня. Гридни нагнали его и вплотную грудились за спиной.
— Я сотник князя Владимира галицкого Квашня.
— А я Роман. С чем пожаловал, сотник, на Волынь? Почто не падаешь пред князем? Почто вопрошаешь дерзко?..
Квашня ненадолго замешкался, но тут же снова выпрямился в седле:
— А не врешь?
— Подъезжай ближе, сам увидишь…
На взгорке пошептались.
— Не, — ответил сотник. — Вот пымаем тебя, там и поглядим.
— Руки коротки, — сказал князь, сдерживая играющего под ним коня.
Квашня сделал знак рукой и съехал со взгорка. Рассыпавшиеся по луговине вершники устремились к Роману.
Любил поиграть со смертью Роман, любил быструю езду и жаркую сечу. Выбрал он среди скакавших навстречу ему воев рослого богатыря на вороном коне, выхватил меч, сшибся, рассек сильным ударом ему щит, достал до плеча — кувыркнулся воин, упал распластав бессильные руки, затих.
— Эй! — кричал сотник, разевая рот. — Нынче вижу, что это Роман. Берите князя живьем!..
— Все ли целы? — спросил князь скакавших за его спиной гридней.
— Все целы, княже.
Зная задиристый нрав Романа, подумали галичане, что он снова развернет коня, сгрудились поплотнее. Но похитрее их оказался князь — без толку голову свою подставлять под меч он не хотел. Дорога к городу была свободна, и он пустил коня своего в сторону от галичан.
Видя, что Романа им не догнать, стали метать в него галицкие вои стрелы.
— Дурни! — ругал их сотник. — Куды раньше глядели?
Жаль ему было упущенной награды. То-то порадовал бы он своего князя, то-то потешил бы.
Из всех стрел одна только достигла цели: угодила она промеж лопаток молодому гридню с деревянной оберегой на шее. Взмахнул он руками, склонился на гриву своего коня. Хороший получился бы из гридня вой, смелое было у него сердце. В первый раз встретился он лицом к лицу с врагом, а не струсил. Но второму разу уже не бывать…
Глава седьмая
1
Недолго отдохнув в Москве, Всеволод со всем войском и с обозами двинулся к Смоленску, чтобы соединиться с Рюриковым братом Давыдом.
Сошла июльская удручающая жара. На свежем жнивье собирались крикливые грачиные стаи, в лугах шумливо озоровали скворцы, предвещая скорый отлет. В деревнях справляли праздник первого снопа, над крышами изб витали пахучие дымки, бабы выносили воям свежеиспеченные колоба, поили парным молоком.
Молодого князя Юрия Мария в поход не пустила, а Константин был рядом со Всеволодом. Но когда наскучивали ему неторопливые речи отца, он давал коню шпоры и нагонял головной отряд, в котором ехали Словиша и Веселица со Звезданом. Здесь ему всегда находилось дело, а уж рассказов он от дружинников наслушался таких, хоть уши затыкай.
Подрос Константин, раздался в плечах, легкий пушок заиндевел на верхней губе.
Молодого княжича дружинники не стеснялись, говорили при нем открыто. И это льстило Константину: вон Словиша — отчаянный вой, а обращается к нему, как ровня, спрашивает совета, как у взрослого.
К Смоленску ближе отступило на север равнинное ополье — плотнее и выше пошли леса. Чем дальше, тем труднее продиралось сквозь них многочисленное Всеволодово воинство. Пробирались сквозь бурелом не только тореной дорогой, но и узкими тропками, боялись потерять друг друга, часто пересылались дозорами.
Случалось, в лесной глухомани наезжали на топкие болота и тихие озерца с прозрачной студеной водой. Здесь воям было раздолье. Сбросив лишнее платье, в рубахах, с гибкими луками в руках, они разбредались по низким берегам, стерегли и били в лет гусей и уток.
Константин не отставал от дружинников. Осторожно пробираясь в зарослях, Веселица наставлял княжича:
— Не суетись, к утке подходи по ветру. Как вскинется она над водой, так ляжет на крыло против ветра — иначе ей не взлететь. Тут ты ее и жди, сама к тебе приблизится — вот и бей наверняка.
Случилось так, что из разных мест на одну крякву они вышли. Упала утка, пронзенная стрелой. Не раздеваясь, Веселица бросился за нею в воду. Стрела его была, с меточкой на наконечнике.
Радовался княжич:
— А что, Веселица, ловко я ее в воздухе взял?
Держа утку в руке, смущенный и мокрый Веселица сказал невпопад:
— Да как же ты, княжич, такое выдумал? Моя стрела — моя и утка…
— Нет, моя, — побледнел Константин. Глаза у него узкими стали, злыми, лицо вдруг покрылось темными пятнами.
Ничего этого не заметил Веселица. Бросив утку на траву, сказал добродушно:
— Ишшо и ты возьмешь свою, княжич. Благо, на озере их видимо-невидимо. Отродясь такого места не встречал…
— Моя это утка, Веселица, — упрямо повторял Константин. — Почто перечишь? Почто дерзишь?..
С удивлением взглянул на Константина Веселица, пробормотал обиженно:
— Стрела моя на наконечнике с меточкой. Вот она!..
Снова хмурым сделался княжич, закричал, затопал ногами, размахнувшись, ударил Веселице по загривку. От неожиданности не устоял, покачнулся и сел Веселица в траву. Глазами моргает, глядит на Константина с испугом и удивлением.
— Так чья это утка, холоп? — спросил Константин, подступая ближе.
— Твоя, княжич. Как есть твоя, — образумившись, ответил дружинник. — От радости дух перехватило. А то, что ты в нее стрельнул, видел сам. И стрела твоя, ей-ей…
— То-то же, — удовлетворенно отступил княжич. Веселица поднялся с травы, посмотрел на Константина с удивлением. «А крутенек будет у молодого нрав, — подумал он. — Крепкий вырастет князь».
С тех пор стал держаться он с Константином настороже, лишних слов не говорил, наперед него не встревал в беседу.
— А что, Веселица, — спрашивал его Константин вечером у костра, — правду ли мне сказывали, будто был ты купцом, а дружинником тятенька тебя сделал?
— Все правда, княжич, — с готовностью отвечал Веселица.
— И далеко хаживал?
— Купецкое дело привольное. Где лучше идет товар, туды его и возишь.
— А в булгарах бывал?
— Бывал и в булгарах…
— Да верно ли говорят, что булгары другому богу молятся? — поблескивая высвеченными костром глазами, выпытывал Константин.
— Верно, княжич. Другой веры они.
— Да как же это?
— Так испокон веков на земле положено. Едина Русь, а князей на Руси сколь?..
— Ишь ты куды разговор ведешь, — недоверчиво разглядывал его Константин. — А батюшка мне иное сказывал…
— Что же тебе батюшка сказывал?
— Един бог в небесах, един и князь на Руси. Вот что сказывал!.. А те, что противятся, недруги нам. На них батюшка рать собрал, чтобы проучить. Впредь неповадно им будет ставить себя выше Владимира…
Константин замолчал, уставившись в огонь.
— И подумал я, Веселица: ежели бог един, то и земля едина. Так почто порознь живем? — проговорил он, вдруг встрепенувшись.
— Не нами сие устроено. Вот ты — княжич, а я дружинник. Почто так?.. Ведь и меня и тебя мамка в муках родила.
— Меня родила княгиня, — сказал Константин, как отрезал.
«Длинен у тебя язык, Веселица, так окоротят!» — поспешно одернул себя дружинник. Во второй раз попал он с княжичем впросак, а ведь зарекался.
Чтобы перевести на другое разговор, стал он рассказывать Константину, как ходил с товарами к германцам, как, будучи в Царьграде, видел огромное воинство, шедшее освобождать от неверных гроб господень.
— А ты в Иерусалиме бывал? — загорелись у Константина вновь оживившиеся глаза.
— Не, в те края я не хаживал.
Пытлив и любознателен был Константин, донимал своими вопросами не одного Веселицу. Доставалось от него и Словише, и Звездану. Было у Звездана в мешке приторочено к седлу много книг. И из тех книг рассказывал он молодому княжичу разные поучительные истории. Но Четки боялся Константин, к Четке с расспросами не лез, зато ежели попадал он в его руки, то подолгу не выходил из шатра.
Всеволод следил за ним строго, в ученом рвении Четку поощрял. Для того и взял он его с собою в поход, чтобы не оставлять княжича без надзору, чтобы ежедневно насыщать его ум полезными знаниями.
Один Четка среди всех отваживался покрикивать на Константина. И княжич не перечил ему, к отцу жаловаться не ходил, покорно зубрил отчерченные грязным ногтем попа страницы.
Горячее лето отходило с обильными в тот год дождями. Застревали на размытых дорогах обозы, ушедшие вперед отряды сами добывали себе пропитание: где в лесах набьют дичи, где очистят сусеки у запасливых крестьян.
Весть о том, что движется Всеволодова рать, летела далеко впереди. Уж на что Словиша был скор со своим летучим отрядом, но и он, наведываясь в иное село, встречал только пустые избы да голодных докучливых собак.
— Ишь ты, — ворчал он, смекая, как накормить своих людей. — Попрятались, ровно мыши…
И рассылал воев пошарить вокруг — далеко уйти мужики. не могли. Находили беглых, приводили под стражей.
— Это что же вы мужики, — стыдил их Словиша, — своих не привечаете, ровно и не хрестьяне мы, а поганые?
— Тута мы, — разводили мужики руками.
— А скот ваш где?
— Скот угнали…
— Кто ж угнал-то? Небось сами и угнали?..
— Нам что, — говорили мужики, — мы люди привычные, мы и на лебеде проживем. А скота у нас нет…
Конечно, ни единому слову их не верил Словиша:
— Ежели добром не хотите, так сыщем сами.
— Ищите, ратнички, ищите, дай-то вам бог, — согласно кивали мужики и покорно садились на завалинки.
Шарил Словиша по лесам, находил скот, говорил им:
— И не стыдно, мужики?
Мужики не стыдились. Бабы плакали и не отдавали своих коров:
— Да как же мы без кормилицы-то? Как же детки наши малые?!
Скот забивали на месте, скоро свежевали туши, разводили за околицей села большие костры, ели, пили досыта и уходили дальше. У тех же ратников были дома свои семьи, ребятишки. Иные жалели, уходя:
— На смерть голодную кинули село…
— Как же они — зимой-то?
Однако не по своей воле шли они в поход, и многие из них не вернутся в родные избы. На все воля князева. Князь дальше глядит, больше видит.
У самого Смоленска разведрилось, снова наступили жары. Отдохнувшее в ненастье солнце, прощаясь с летом, било в землю глубоко, выжигало травы и еще не снятые на полях хлеба. На первый спас пасечники собирали с лесных бортей мед. Затосковали ратники, вспоминали родные места, пели грустные песни.
— Ежели так будем ползти, то и на Мироны-ветрогоны [166] не поспеем к Чернигову, — говорили опытные сотники, поглядывая на пасмурное небо.
Им ли было вникать во Всеволодовы задумки?! А что у него на уме, и ближние бояре не знали.
2
Давыд встречал Всеволода, как желанного гостя. По всему городу были расставлены бочки с пивом, попы служили в церквах молебны. Отстояв обедню в соборе Михаила Архангела, сами князья отправились пировать наособицу. На теремном крыльце и на просторном гульбище толпились пестро одетые гости.
Пожаловал по такому случаю в Смоленск и витебский князь Василько с красавицей дочерью.
Не из первых среди других князей на Руси был Василько, но держался гордо и независимо, а что до дочери его, то все вокруг только диву давались — и в кого она пошла? Ни отцовых черт, ни материных не заметно было в ее лице. Отец у нее скуласт и длиннонос, мать, говорят, тоже была не видной. Зато в юной княжне собралось все из самых дальних родов: и русская кровь, и польская, и половецкая причудливо переплелись в ее еще не устоявшемся облике.
Всеволод надолго задержал свой взгляд на ее лице, почувствовал, как шевельнулось в нем давно забытое. Щемяще затосковало сердце, жарче потекла застоявшаяся кровь…
Пир был недолог. Скоро Всеволод сказался усталым и удалился с Ратьшичем в отведенный ему покой. Немного времени спустя туда же пришли и Давыд с Васильком.
Здесь продолжалась начатая на пиру беседа, но без посторонних ушей и глаз. Князья сидели свободно, распахнув опашни, говорили, не боясь, что их подслушают.
Всеволод подстрекал Давыда щедрыми обещаниями, выспрашивал, что нового слышно из Смоленска и Чернигова. Особых новостей не было, и это настораживало. «Неужто и впрямь не боится меня черниговский князь?» — думал Всеволод. Гонцов от него ждал он еще по дороге в Смоленск.
Давыд принес жалобу на Рюрика:
— Сговаривались мы вместе идти по Днепру, а он с Владимиром воюет Романа…
Василько больше слушал, чем сам говорил. Скуластое лицо его отсвечивало бронзой, в узких глазах не было ни тревоги, ни нетерпения. Сидел, расставив ноги, прочно привалившись спиной к чисто струганным бревнам.
У Давыда ходили под тонкой кожей лица упругие желваки, глаза горели жарко, неспокойные руки сминали угол бархатной скатерти. Оно и понятно: Василько на стороне, его больше литва беспокоит, Всеволод сидит у себя прочно, его не сдвинешь, а у Давыда Чернигов под самым боком. Ни проехать по Днепру, ни проплыть…
Только к самой полуночи разошлись князья, а ни о чем толком не договорились.
Встречи этой больше всего боялся Всеволод, думал о ней неотступно. А теперь и собою и беседой остался доволен. Лишнего он не сказал, своих замыслов не выдал. Пусть себе думают-гадают князья, а ему спешить пока некуда.
Понимал он, что главное сейчас не торопить время. Пусть кормит Давыд его беспокойное войско, путь тешит себя надеждой. А то, что Рюрик воюет Романа, тоже ему на руку. И Роман попритихнет на своей Волыни, и черниговский князь одумается. Постращать на стороне иной раз куда полезнее, чем сразу лезть в драку…
Утром снова сидели князья вместе за просторным столом в гриднице, хлебали уху, пили ядреный квас. По прохладе думалось легко, за приотворенным окошком мирно моросил дождь, начавшийся еще пополуночи.
Стараясь не беспокоить князей, вошел на цыпочках Ратьшич, склонился к уху Всеволода.
— Что? — князь отложил ложку, встал из-за стола. Давыд с Васильком быстро переглянулись.
Прогибая половицы тяжелыми шагами, Всеволод вышел. В сенях на лавке, сгорбившись, сидел Одноок. При виде князя вскочил, опасливо бегая глазками, залепетал что-то, поклонился, коснувшись пальцами пола.
— Ты?! — сверкнул белками глаз Всеволод.
— Бес попутал, княже! — помертвевшими, без кровинки, губами почти неслышно прошелестел Одноок.
Князь повернулся и быстро зашагал в горницу.
— Поспешай, боярин, — подтолкнул Одноока с мрачной молчаливостью стоявший за его спиной Ратьшич. — Да винись, винись. Оправдываться не моги. Не то хуже будет.
На непривычно сгибавшихся ногах Одноок заковылял за Всеволодом. Переступив порог, с размаху бухнулся ему в ноги, заелозил на ковре:
— Княже!
— Пес алчный, — сказал Всеволод, дергая перекошенным ртом. — Брюхо ненасытное. Волк!..
— Пощади, — не подымая головы, боясь поднять, лепетал Одноок. — Сам не ведал, что творю…
— Лжешь!.. В поруб брошу, сгною!
Всеволод опустился на лавку, смотрел на боярина брезгливым взглядом.
Чуть приподнявшись, но все еще стоя на четвереньках, боярин отважился вскинуть на него мутные от страха глаза. В животе у него стало жарко и каменно. «Господи, пронеси, господи», — мысленно взмолился Одноок.
— Ну-ка, сказывай. А таить ничего не смей, — потребовал князь.
— Как на духу, княже…
— Языком не молоти.
— Да как же не молотить-то, как же не молотить, — быстро забормотал боярин.
Кузьма горячо задышал ему в затылок:
— Не егозись…
Одноок заговорил, сбиваясь и проглатывая слова:
— Иконку это в церкви… Оклад серебряной…
— В божьем-то храме, — сказал князь.
— Все истинно так, — покорно кивнул Одноок, сглатывая слюну.
— Еще?
— Еще мужичков потряс… Так… Маленько…
— Ну?
— Рухлядь всякую…
— А еще, княже, схитрил Одноок, — вставил Ратьшич. — Людишек бы его поглядел. Кого в дружину взял — срамота!
— Напраслина это, Кузьма, — смешался Одноок. В животе его забурчало, к горлу подкатила тошнота.
— Напраслина? — усмехнулся Кузьма. — Не играй с огнем, боярин. Тот к добру не управит, кто лукавит в делах.
— Куды шел ты? — спросил князь, перебегая глазами от Кузьмы к Однооку и снова к Кузьме. — Аль на поганых собрался?.. Смоленский мужик — тот же наш, русский. А ты бесчинствуешь, как в половецком стане. Что скажет Давыд? Каково пойдут с нами смоляне ко Чернигову?
Случись у себя такое, ни за что не спустил бы Однооку князь. Но здесь разговор был иной:
— Чтобы все вернул, до маковой росиночки.
— Все верну, княже.
Беседовать и дальше с боярином у Всеволода не было охоты.
Ратьшич тронул Одноока за плечо:
— Вставай. Не видишь разве — простил тебя князь.
— Простил ли? — с надеждой встрепенулся боярин.
Всеволод тяжело молчал.
— Простил, простил уж, — подтвердил Кузьма. Всеволод кивнул:
— Да не срами воинства нашего. А то гляди у меня, боярин…
Одноок поспешно ткнулся в половицу лбом. Выставив зад, попятился к двери, бормоча:
— Спасибо тебе, княже милостивый… Бес попутал… Как есть, бес… Нечистая сила…
Выпятившись за дверь, тяжело поднялся, кряхтя и охая. Кузьма Ратьшич вышел за ним следом.
— Жив, боярин?
— Ох, жив…
— Живи покуда. Да впредь позорчее оглядывайся.
Вернувшись к себе на двор, где жил постоем, боярин кликнул тиуна. Явился Фалалей, розовощекий и веселый:
— Звал, боярин?
Исподлобья, будто видит впервые, окинул Фалалея взглядом Одноок. С удовольствием наблюдая, как опадает лицо тиуна, сказал строго:
— Твой язык про меня по Смоленску разблаговестил?
— О чем ты, боярин?
— Кто по церквам оклады сдирал с икон?
Фалалей захлопал белесыми ресницами, но промолчал. Боярин посохом ударил в пол так, что выбил щепу:
— Ты сыщи-ко мне зачинщиков, Фалалей, не то самому несдобровать!
— Все исполню, боярин! — облегченно вздохнул тиун и кинулся за дверь.
Мужики во дворе, сидя вокруг черной медяницы, хлебали жидкое сочиво [167]. На Фалалея покосились с опаской, отложили ложки.
— А ну, сказывайте, ратнички, — со зловещей ласковостью в голосе проговорил тиун, — кто оклады сдирал по церквам с икон? Кто купцов обижал и посадских мирных смолян? Ты?! — ткнул он пальцем в одного из мужиков.
— Бог с тобой, Фалалей, — с испугом отстранился мужик.
— Тогда ты?!
Другой мужик перекрестился истово:
— Напраслину возводишь, тиун.
Притаился за спинами мужиков одноглазый и хромой. Фалалей отыскал его быстрым взглядом:
— А ну-ко, подымись, Овсей…
— Не я это, тиун, — пропищал калека.
— Ты подымись-ко, подымись. Почто за спины прячешься?
У Овсея мурашки поползли по спине, холодом подернулись остановившиеся глаза.
Тиун молча потянул из ножен меч. Калека заверещал, упав на колени, пополз к плетню.
У Фалалея лицо перекосилось от злобы…
— Ни про что погубил Овсея тиун, — зашептались мужики, когда Фалалей удалился.
— Тсс, — предупредил кто-то, — гляди да помалкивай. А калеку с того света все равно не вызволить…
Оттащив порубленного Овсея в тенечек под избой и еще немного пошептавшись, мужики снова вынули ложки и сгрудились вокруг котла…
3
Ночью плохо спалось Веселице. Долго ворочался он с боку на бок, почесывал занемевшие бока, вздыхал и таращил открытые глаза в потолок.
На владимирское приволье отлетали беспокойные мысли дружинника, видел он, словно въявь, озерную ширь за Переяславлем, спокойную Клязьму, нарядное торговище у Золотых ворот. Вспомнились ему и Малка, и Мисаил, и так сладко-тоскливо сделалось ему, что уж и вовсе стало не до сна.
Хорошие мысли с дурными об руку идут. Никак не мог он стряхнуть с себя пугающее видение: будто крался Вобей за ним по пятам, будто насмехался…
Сел Веселица на лавку, поглядел на похрапывающего рядом Звездана, встал и тихонько, на цыпочках, вышел из избы.
Под склоном высокого берега медленно катился неширокий в этих местах Днепр. Полный месяц плыл над его просторной гладью, и освещенный сад на задах избы был подернут голубоватой, серебрящейся дымкой. По узкой тропинке, с трудом пробираясь между кустов и боясь оступиться, Веселица спустился к воде.
На скользких, вдающихся далеко в реку мосточках он разулся и, сев, свесил ноги. Волна была ласковой и теплой.
Где только не носила Веселицу купеческая лихая судьба, в какие только воды не окунал он своих ног, а прекраснее русских спокойных рек не видывал он нигде. Посидишь вот так, поглядишь в живую глубину, отойдешь израненным сердцем, и недобрые мысли отринутся прочь…
Спокойно и мудро думалось Веселице. Смекал он, что после похода вернет его Всеволод во Владимир, а там заживут они с Малкой спокойно и без забот — свой очаг у него будет, родной человек в доме.
Неясно, в колеблющемся свете, отраженном рекой, вынырнула из-за бережка утлая лодочка. Не слышалось ни всплеска, ни шороха весел — тихо плыл челнок, подгоняемый одним течением.
Привстал Веселица, привычно насторожился: кого бог несет по реке в такую позднюю пору? Лег на доски, стал следить за челночком. Двоих заприметил в нем, услышал донесенный водою разборчивый шепот.
Облегченно вздохнул Веселица — не вороги это, не лихие люди, а двое милых говорят о своем. Но скоро в одном из говоривших стал вроде бы признавать дружинник голос молодого князя Константина.
И снова забилось сердце его с тревогой: в ночь да на пустынной реке княжич, как бы несчастья не стряслось. Разве не наставлял его Всеволод следить за Константином в оба, далеко от себя не отпускать, от беды любой отгораживать?! Да как же сбег он от зорких дядек, как же на Днепре оказался? И кто приворожил его в этакую пору?.. Мал еще Константин, не смышлен, к злым людям попадет, греха не оберешься.
— Эй, княжич! — крикнул Веселица, сложив ладони у рта.
В лодке замолчали, замерли две тени, не шелохнутся.
— Княжич! — снова позвал Веселица.
Упало в воду, заплескалось нескорое весло. Лодка причалила к мосткам, закачалась на ударившей в берег волне.
«Да, никак, дочка Василька витебского с Константином-то», — удивился дружинник, становясь на колени и подтягивая лодку бортом к мосткам.
— Веселица? — вглядываясь в дружинника, недовольно проворчал княжич.
— Кому же еще быть?
— Эк тебя середь ночи-то угораздило, — сказал Константин, выпрыгивая на мостки и протягивая руку княжне.
«Она и есть, красавица писаная», — ласково подумал Веселица, суетясь на мостках и мешая княжичу.
— Ночь-то свежа, ног не промочил ли? — приставал он с расспросами.
Константин не слушал его, глядя на одну только княжну. Васильковна была боса, в одной рубахе — без телогреи и без кокошника. Ясное дело, и за нею не уследили. «Что дале-то делать?» — в замешательстве спросил себя Веселица. Теперь пожалел он, что кликнул княжича. Хоть и дите Константин, а с норовом.
Тут же, на мостках, принялся ругать его княжич:
— Аль подсматривать за мной наладился? Аль дел других нет? Тебе что было сказано батюшкой?
— Батюшка оберегать тебя велел, — оправдывался Веселица. — А тут послушал я, твой-то голос и признал. Уж не беда ли, думаю?
— Да какая беда, коли не звал я на помощь?
— Прости, княжич, ежели что не так…
— Не ругай его, — попросила Васильковна. — Он ведь худа нам не желал.
— Ладно, — сдался на ее уговоры Константин. — Иди спать, Веселица, да язык-то свой прикуси. Николи меня не видел, нигде не встречал. И про княжну ни слова.
Дело молодое, Веселице знакомое. Уж он ли не гуливал по ночам с владимирскими первыми красавицами, уж он ли не целовал их в уста, не говаривал им речей ласковых.
«Вырос княжич, а я и не заметил — когда, — рассуждал дружинник, подымаясь от реки в гору. — У Юрия, у того еще игры да забавы на уме, а этот вона как крылья расправил».
Утром кликнул его в свой терем Всеволод. Сердце вещее подсказало — неспроста.
Был князь в гриднице один с Константином, сидел, нахохлившись. Княжич рядом стоял, пунцовый от волнения.
— А скажи-ко мне, Веселица, — начал Всеволод, пристально глядя в глаза дружинника, — како с вечера тебе спалось?
— Худо, княже, — отвечал Веселица без запинки.
— Отчего же?
— Думы растревожили, княже, оттого и не спалось.
Всеволод постучал костяшками пальцев по столешнице, склонил голову набок с лукавой усмешкой.
— И давно это с тобой, Веселица?
— О чем говорить велишь, княже?
— Давно ли сон нейдет?
— Сон-то? Почитай, что ни ночь, княже…
— И вчера не спал?
— Как рукой отрезало, княже. Уж и сонной одури выпил, и душицы…
— Так, — бросил быстрый вгляд на Константина Всеволод. — А не бродил ли ты, Веселица, на воле, не встречал ли случаем княжича?..
— Винюсь, княже, встречал, — упал ему в ноги дружинник. — У воды-то вместе сидели, разговоры разговаривали, а про то я тебе не сказал. Много рыбы нынче в Днепре, показывал я княжичу, где сомов ловить…
Лицо Константина переменилось, глаза его с благодарностью смотрели на Веселицу. Всеволод, видно, тоже остался доволен допросом. Лукавинка сошла с его лица, черты расправились, стали добрее.
— Ишь, полуночники сыскались, — проворчал он. — То-то, гляжу я, нынче у Константина глаза красные…
— А я тебе что сказывал, батюшка? — воспрянул княжич.
— В другой раз от дядек-то не убегай, — строго сказал Всеволод. — Не для того они к тебе приставлены, чтобы ночью полошить город без нужды. Эвона как тебя вытянуло, а все дурь в голове…
— Не серчай, батюшка. В другой раз мы с Веселицей тебе сказываться будем.
— И тебе на будущее зарок, — снова обратился князь к дружиннику. — Без моего ведома со двора ни на шаг.
— Как повелишь, так и станется, княже.
— А нарушишь — на себя пеняй, — предупредил Всеволод. — На ветер слов я не бросаю. Ступай!
Рубаха на спине Веселицы промокла — хоть выжимай. Едва перевел он дух, задержавшись на крыльце, Константин следом за ним выскочил: глаза озорные, в горле смех клокочет.
— Чему радуешься, княжич? — попрекнул его дружинник. — Тебе потеха, а мне каково?
— Не кручинься, Веселица, — похлопал его по плечу Константин. — Не великий грех взял ты на душу, вечером все отмолится. А за то, что уберег ты меня от батюшкиного гнева, воздам сторицей. Не забуду, ей-ей!..
4
Раненько поутру, чтобы неприметно было, выехали Словиша со Звезданом из Смоленска и по росной прохладе, где берегом Днепра, где удаляясь вместе с петляющей дорогой, пустили коней своих скорой рысью.
Путь предстоял им неблизкий, а дело, с которым они ехали, было важным. Сам Всеволод звал их к себе, беседовал недолго, но наставлял строго:
— Езжайте скоро, людям на глаза не попадайтесь, а пуще всего стерегитесь провидчиков [168] князя Давыда. Пришла мне весть, что ждет вас человек из Чернигова. Встретитесь с ним и, что скажет он вам, то мне и донесете. Лишнего не болтайте, в ненужные разговоры не встревайте… С богом!
Поначалу все спокойно было. Дорога лежала пустынная, опасаться было некого, но в одной из деревенек возле кузни прилип к ним разговорчивый попутчик. То да се, слово за слово, вызвался он ехать с ними вместе. Не понравилось это дружинникам, но делать нечего — не гнать же от себя случайного человека. Погонишь — больше беды наживешь: чего доброго, заподозрит неладное.
Мужик был из людей торговых, обоз его ушел вперед, а у него конь расковался.
— Ладно, — сказал Словиша. — Поехали с нами. Но только гляди, кони у нас быстрые. Ежели не поспеешь, ждать тебя не будем, — дело у нас срочное…
— Поспею, — согласился мужик.
И верно, жеребец у него был сноровистый, шел легко, будто земли не касаясь. Мужик лихо держался в седле.
Не понравилось это Словише.
— Погляди, — сказал он Звездану. — А не князево ли у коня тавро?
И верно, такими печатями метили только в табунах у Давыда.
— Ловкий мужик, безвредным купчишкой прикинулся.
— Ничо, — сказал Звездан, — на иную хитрость хватит и простоты.
Тихо они перекинулись, мужик разговора их не расслышал. Красуясь сбоку от них в седле, расспрашивал, будто от скуки:
— А вы, добрые люди, кто такие будете?
— Я Всеволодов дружинник, а он — Давыдов, и едем на ловища за княжескою нуждой, — ответил Словиша.
— Да нешто и Всеволодовы ловища по Днепру?
— Экой ты, купец, занозистый, — усмехнулся Словиша. — Все тебе расскажи да покажи. Коли взяли с собой, так скачи, помалкивай…
Еще больше раззадорил он мужика. Верно, подумал он: нет, не обманулся, те самые это людишки и есть, которых он поджидал у кузни.
— Едем давно, а все незнакомы. Зовут-то тебя как? — спросил Словиша.
— Зовут меня Донатом.
— А меня — Словишей, а его — Звезданом.
Радостью блеснули глаза мужика: все так и есть. Этих двух он и ждал из Смоленска. Ночью, провожая в путь с княжого двора, наставлял его сотник: «Словишу со Звезданом ищи. Гляди, не проморгай. А сыщешь, так высмотри, куды держат путь, с кем встренутся, какие речи станут промеж собой говорить. Все слушай и примечай — Давыд тебя отметит».
— Хороший у тебя конь, Словиша, — сказал Донат. — Отродясь такой масти не видывал.
— А и не увидишь боле, — похвастался Словиша. — Коню моему цены нет. Везли его из-за моря булгарскому хану, да, глянь, мне достался.
— Да как же достался-то?
— Про то я никому не сказываю. Купец так наказывал: возьмешь коня, а за что про что — говорить никому не смей. Коли скажешь раз, охромеет твой конь, два скажешь — на обе ноги падет, а с третьего раза и вовсе останешься без коня.
— Значит, заговоренный он у тебя.
— Может, заговоренный.
— Ишь, — засмеялся Донат, — сказки сказывать ты молодец. А мне не отдашь коня? За ценою не постою…
— Ты — купец, зачем тебе боевой конь? — удивился Словиша.
— Дело наше, купецкое, не простое. Боевой конь для купца — верный товарищ.
— Да и у твоего ноги быстрые, — заметил Звездан. — И твой не простой породы.
— Моего коня дарили мне в Киеве, — гордо сказал Донат.
— Оттого и тавро на нем Давыдово, что ль? — спросил Словиша.
Опешил Донат, поводья чуть не выпали из его рук.
— Ну так что, Донатушка, — наехал на него Словиша. Звездан с другой стороны объезжал купца. — Правду будем говорить али и дальше поедем рядышком, будто верно по одному делу скачем?
— Не дури, Словиша, — сказал, оправляясь, Донат (оказывается, не робкого он был десятка), — про что речь свою повел, мне догадаться трудно. Сказывай прямо, ежели что не так. А загадками меня не мучай.
— Видал, каков гусь, — перекинулся Словиша со Звезданом усмешливым взглядом. — Может, отпустим купца? Али с собою возьмем?
— С собою брать его нам несподручно, — сказал Звездан.
— Слышал, Донатушка? — обратился Словиша к попутчику. — Выходит так, что дале тебе с нами не по пути.
— Дорога у нас обчая, — ответил Донат, — а коли вам со мною не по пути, так ступайте сами.
— Ласки в глазки, а хитрость твою мы видим насквозь, — покачал головою Словиша. — Ну-ко, выбирайся из седла.
— С разными татями доводил меня бог встречаться, а таких вижу впервой.
Говоря так, Донат осторожно разворачивал коня.
— Ну-ну, не замай, — пригрозил ему Звездан, — берясь рукой за поводья.
— Ты чего? — зло проговорил Донат.
— Велено было тебе слезать. Аль помочь?
— Ваша взяла, — сказал Донат и спешился. Стоя между дружинниками на дороге, затравленно ощупывал их острыми глазками.
— Что дале-то с ним делать будем? — спросил Словиша Звездана. — Жаль рубить мужика.
— Жаль, — согласился Звездан.
— Не рубите меня, люди добрые, — попросил Донат. — Берите коня, а пеший куды я за вами?
Дружинники задумались.
— Ты и пеший нам в опаску, — сказал Звездан. — Встретишь кого из своих али сам отберешь коня. Давай свяжем его, — повернулся он к Словише.
— Свяжем, а сунем куды?
— Пущай в кустах отлежится. А на обратном пути он нам не страшен. Отпустим, пущай молится за нас: другие-то, чай, давно бы его прибили…
Пока связывали Доната, пока волокли его в кусты (тяжел был!), он все благодарил их неустанно:
— Спасибо, люди добрые, уважили. Дай бог вам счастья!
— Нишкни ты, — пнул его под бок Словиша, — чего разговорился?
Дружинники привалили мужика к сосне, прикрыли ветками — издалека не видно.
— К вечеру жди, — пообещали ему, сели на коней, повели его коня в поводу и облегченно поскакали дальше.
До условного места еще не близко было, и одолели они трудный путь, когда солнце перевалило за полдень.
На пригорке впереди них показались верховые.
— Попридержи коня, — сказал Словиша, — не ровен час, в Давыдово нерето [169] угодим.
— Да как же признаем мы своих? — удивился Звездан.
— Про то князь нам не сказывал, а поглядим, что дале будет…
С пригорка их тоже заметили. Два всадника отделились и поскакали им навстречу. Сдерживая вороного жеребца, откидываясь назад, скакавший впереди вой громко прокричал:
— Эй, вы кто будете?
— Мы от Всеволода, а вы? — спросил Словиша.
Не отвечая, всадник подъехал ближе. Рассеченное темными шрамами лицо его было неулыбчиво.
— А при вас ли княжеская печать? — спросил он, протягивая руку со знаком черниговского князя в большой полураскрытой ладони.
Словиша показал Всеволодову печать. Всадник внимательно разглядел ее и вынул из-за пазухи пропыленного кожуха свернутую трубкой грамоту.
— Не велено ли что сказать князю? — спросил Словиша, пряча грамоту.
— Говорить ничего не велено, — отвечал всадник и развернул коня.
Коротка была беседа. Не успели дружинники и двумя словами перекинуться, как отряд скрылся за пригорком…
Возвращались с еще большими предосторожностями, понимали; ежели грамота попадет в чужие руки, быть беде. Но дорога, как и утром была пустынна, а Донат на давешнем месте дожидался их, похрапывая под сосновыми лапами.
— Заснул, что ли? — усмехнулся Словиша, расталкивая дорожного знакомца.
— А и вправду заснул, — удивился Донат и сладко зевнул.
— Вставай-вставай, неча разлеживаться, — поторопил его дружинник. На устах Словиши играла добрая улыбка.
Не удержался от улыбки и Звездан. Чем-то нравился ему случайный попутчик: всякий ли на его месте уснет, а ему хоть бы что.
— Бери своего коня, — протянул ему поводья Словиша, — да скачи посередке. Ежели рыпнешься, будем рубить. Понял ли?
— Как не понять…
К Смоленску подъезжали в сумерки. В виду обнесенного деревянным тыном посада остановились.
Донат спросил:
— А мне куды?
— Погоди, покуда не въедем в ворота, а там езжай к своим деткам.
— Доброй ты…
— Не всякое деяние благо. Ишшо спросит с тебя Давыд.
— Авось и пронесет…
Как и было сговорено, Донат попридержал коня, а потом тихой рысью направился вслед за дружинниками.
Еще два дня погостило Всеволодово войско в Смоленске, на третий день, растянув обозы, двинулось обратно — к Москве.
В грамоте, переданной через Словишу со Звезданом, черниговский князь клялся Всеволоду в дружбе, просил мира и обещал кликнуть из Новгорода своего сына. На том клятву давал и при епископе целовал крест…
Глава восьмая
1
Плохо притворенная дверь мельницы визжала и хлопала. Ветер налетал порывами, рвал усталые листья на деревьях, корежил и сбивал с крыши почерневшую от дождей щепу.
Поминая черта и лешего, Гребешок перебрался через спящую теплую Дунеху, натянул на исподнее порты и направился к двери. Ветер был так силен, что дверь не сразу поддалась под его плечом. Мельник замешкался.
Дунеха на лежанке сонно пробормотала:
— Зипун-то набрось, зябко.
Гребешок пошарил в темноте рукой, набросил висевший возле двери на гвоздике зипун, отворил дверь. Ветер бросил ему в лицо охапку листьев, распахнул полы зипуна. Гребешок наклонил голову и боком выскользнул за порог. Дверь тут же захлопнулась с сильным стуком.
В вершинах деревьев гудело, низко шли тучи, то и дело загораживая лунный свет. Двор то освещался, то погружался в кромешную тьму. Сложенная из кругляков мельница, казалось, вот-вот готова была раскатиться по бревнышку.
Заслоняясь от ветра руками, Гребешок с трудом пересек двор, вошел в мельню и привычно огляделся.
Буря оголила часть крыши, и Гребешок, задрав голову, подумал, что с утра ему прибавится забот, а если ветер не стихнет и к утру, то придется перестилать все заново. Стропила раскачивались и визжали, словно живые, мелкая мучная пыль клубилась и застилала глаза.
Гребешок поднялся по шаткой лесенке к жерновам, потрогал рукой составленные у стены мешки с рожью. День предстоял трудный, много нужно было перемолоть зерна, но это его не печалило, а только радовало. «Хорошо, — подумал Гребешок, — урожайный нонешний выдался год…»
В углу, где мельник обычно ставил деревянные лопаты и голички, которыми подметал пол, что-то пошевелилось и неразборчиво проворчало. Гребешок замер, приглядываясь, но ничего увидеть не смог, повернулся обратно к лесенке, однако поднятой ноги на приступок не опустил, оглянулся и вскрикнул: прямо над ним, взъерошенная, нависла большая тень.
— Батюшки-святы, — прошелестел онемевшими губами Гребешок.
Все, что дальше случилось, походило на сон. Этакие страхи только во сне приходят, да и то ежели хватишь лишку браги али медовушки. Крепкая ручища сдавила Гребешку плечо, и осипший голос сказал:
— Не признал, мельник?
Гребешок ни слова не вымолвил в ответ — его била знобкая дрожь, а ноги словно кто отрезал от тулова. Язык шевелился, но ничего, кроме невнятного мычания, не мог извлечь из перекошенного судорогой рта.
— Эк перепугал я тебя, мельник, — произнесла тень и встряхнула Гребешка за шиворот.
— Ты, что ли, Вобей? — понял пришедший в себя мельник.
— Я…
— Отколь нечистая тебя нанесла?
— Отколь нанесла, не твое дело, — сказал Вобей. — Весь вечер за мешками таюсь, все тебя высматривал.
— Дык с Дунехой я…
— Знамо, — оборвал Вобей, присаживаясь возле мельника на корточки. Высветлившийся месяц облил мертвенным сиянием лицо бывшего конюшего. Гребешок вздрогнул — таким страшным и неживым показалось оно ему. Уж и впрямь не мертвец ли поднялся из колоды, бродит по знакомым местам, беспокоит людей?..
— Будя дрожать-то, — сказал Вобей. — Сам небось с нечистой силой знаешься…
Гребешок быстро перекрестился, отодвинулся от Вобея.
— Слух дошел, будто сгиб ты в Новгороде…
— Жив ишшо, — хохотнул в темноте Вобей. — На, коли не веришь, пощупай.
Он взял холодную руку Гребешка и ткнул себя ею в грудь. Под рубахой у Вобея было горячо и влажно.
— Ну?
— Воистину, жив.
— То-то же…
Но живой Вобей был опаснее мертвого. Слышал Гребешок, как очистил он Одноока, а такое боярами не прощается. Лихой человек Вобей, ему и жизнь загубить — все равно что раз плюнуть.
— Почто меня разыскал, почто по лесам бродишь? — спросил мельник.
— На все твои «почто» ответ у меня один: нет мне во Владимире приюта, а дальше податься некуды. Буду жить у тебя.
— Погубить меня вздумал?
— Рано ишшо. Ишшо покормлюсь у твоих хлебов… А там погляжу, там видно будет.
Угрожал Вобей, над мельником издевался. Держал его руку в своей, будто в волчьей пасти.
— Господи, помилуй, — прошептал Гребешок, пытаясь высвободить руку. — И допрежде не давал ты мне спокою, как был конюшим, и снова на мою голову. Хоть Дунеху не тронь…
— Дура она у тебя, сама придет…
— А ты не озоруй.
— Ладно. Не по мне эти потешки. — Вобей помолчал. — Не бойся меня, мельник, я тебя не трону. И Дунеху не трону. На что она мне?..
— А как народ нагрянет?
— Не бойсь, днем меня и с огнем не сыскать, а ночью доброго человека не нанесет…
На дворе все так же мело жухлые листья и иголки с еловых лап. Гребешок привалил дверь мельни бревнышком, кутаясь в сермягу, вошел первым в избу, покашлял, высекая огонь.
— Дунеха, эй, Дунеха, — пошевелил он жену.
— Чего тебе? — с неохотой проговорила она.
— Вставай не то… Гость у нас.
— Какой ишшо гость? — лениво пробормотала Дунеха и, не подымая головы с подушки, перекрестила рот.
— Вобей вот пожаловал, — сказал мельник.
Жена резво приподнялась на локте и уставилась на расположившегося возле стола, по-хозяйски уверенного мужика.
— Здорова будь, Дунеха, — сказал Вобей, подмигивая. Баба ойкнула и потянула на грудь свалившуюся дерюгу.
— Ну, чо рот разинула? — набросился на нее Гребешок. — Чай, не чужой человек. Вставай, да поживее.
Дунеха опустила на пол ноги, напялила рубаху — Вобей не спускал с нее глаз.
Гребешок сказал:
— Помни про уговор…
— Как же, помню, — не переставая улыбаться и не спуская по-прежнему глаз с Дунехи, кивнул Вобей.
Баба, быстро двигаясь по избе, накрыла на стол. Гребешок сел против Вобея, долго и пристально смотрел, как он ест. Дунеха вернулась к лежанке, села, быстрыми пальцами переплела на груди косу.
Насытившись, Вобей отодвинул миску с пареной репой, срыгнул и грязным ногтем поковырял в зубах.
— Ране-то лучше угощал, хозяин.
— Ране гости за полночь ко мне не хаживали.
— Теперь будут хаживать, — пообещал Вобей и по-привычному ухмыльнулся.
Дунеха прыснула и раскатилась мелким рассыпчатым смехом. Гребешок нахмурился, смахнул ладонью хлебные крошки со стола. Подождав, пока жена успокоится, спросил гостя:
— Куды укладывать тебя, и в толк не возьму. Сам видишь, изба наша мала.
— Пущай ложится с нами вместе, — сказала баба.
Гребешок почесал пятерней в затылке:
— И то — хоть с собою ложи…
Долго судили-рядили, но так ничего не придумали: ни подстилки, ни шубы лишней у Гребешка не было, а сермягой — только укрыться.
— Хоть и в тесноте, но не в обиде, — сказал мельник. — Бабу к стене положим, я посередке, а ты с краю…
Так и легли. Тесно было. Жесткая лежанка жгла бока. Дунеха дышала ровно, но не спала, Вобей уснул сразу.
«Эвона как поворотило его, — думала о нем баба с жалостью. — А ведь был мужик справной, не то что мой Гребешок…» Ткнувшись носом в стенку, со сладкой истомой вспоминала, как в былые дни наведывался Вобей на мельницу с целой сворой Однооковой дворни, как ходил по двору, поигрывая плеточкой и покрикивая на услужливого и покорного Гребешка. Светлые это были дни, радостные. Прогнав мельника с подводами в город, Вобей сильными руками тискал Дунеху на этой самой лавке, под этими самыми образами. Так же бесстрастно, как и ныне, высился над лампадкой деисус [170], так же ветер подвывал под дверью, так же верещал в углу сверчок…
Вздохнула Дунеха, покрылась гусиной кожей от нетерпенья, приподнялась на локте взглянуть на спящего Вобея.
Не смыкавший глаз Гребешок влепил ей затрещину:
— На кого пялишься?
Дунеха обидчиво хмыкнула:
— Чего дерешься-то? Водицы испить я, в груди жжет…
Гребешок выругался, но дал жене выбраться. Перелезая через Вобея, баба прильнула к нему грудью — Вобей даже не шелохнулся. Дыхание затрудненно вылетало из его раскрытого рта.
2
После частых ветров и дождей, зарядивших во Владимире на Михеев день, ненадолго встала перед первыми заморозками тихая и ясная погода. Радуясь солнышку, спешили крестьяне до холодных утренников закончить озимый сев. За Лыбедью до позднего вечера влачились по пашне понурые лошаденки (лучших коней Всеволод взял в поход), мужики покрикивали на них, налегали на орала. Бабы и ребятишки шли следом, кидали в борозду семенное зерно. Во время короткого отдыха, удалившись в тенек, лакомились оставшимся с овсяниц деженем [171] на сладком меду, ели с кислым молоком блины. Последнее лакомство это было в году. По всем приметам зима должна была наступить ранняя и с большими морозами. А еще говорили старушки, будто филин по малу кадей хлебушка набухал с овина.
Пристрастилась Олисава, переплыв в лодочке за Лыбедь, подолгу сиживать на отлогом бережку, на жарком солнцепеке.
Солнышко колышет зайчики на медленной воде, поникли над речкой тронутые первой желтизною ивы, а по другую сторону город взбегает на крутизну холма прихотливо извивающимися улочками, бросают искры золоченые купола церквей и соборов, выше всех вздымается Всеволодов детинец, а над посадами, над слободами, над рекой летят и летят прощально курлыкающие журавли…
Через Лыбедь перевозил Олисаву в лодочке веснушчатый и рыжий, как солнышко, сын ключницы Агапьи Василек. Ласковым он был пареньком и ухоженным. Рубаха на нем всегда чистая, хоть и не новая, штаны кежевые [172] с ровненько вшитыми заплатками, белые онучи и маленькие, по ноге, лапотки. Краснел Василек от каждого обращенного к нему слова, глаза прятал и сам с Олисавой никогда не заговаривал.
— Ты боярышню нашу не беспокой, — наставляла его мать, ключница Агапья. — Не твое холопье дело в хозяйские разговоры встревать. Но гляди зорко. Ежели что боярышне по душе, тут же сполни. На покорстве весь род наш в люди вышел. Не то гнул бы ты сейчас спину на пашне, а не бездельничал в боярском терему…
Материна наука на пользу была Васильку.
Подобрав ноги под нарядную рубаху, сидела Олисава на бережку, камушки бросала в воду, загадывала про Звездана: ежели доброшу до середины — вернется до Успенья, а не доброшу, то и на Семен день не жди.
Размахиваясь пошире, далеко забрасывала камешки боярышня, радовалась скорому возвращению суженого.
— А ну-ка и ты брось камушек, — говорила она Васильку и тоже загадывала: ежели переметнет через речку — скоро свадьбе быть.
Но не зря наставляла своего мальца Агапья — дальше боярышни, чтобы не обидеть, кинуть камушка он не мог, и до середины не добрасывал. Дивился Василек: и отчего сердится Олисава? Никак в толк не мог взять ее хитрую задумку.
Бросала, бросала боярышня камушки, а тут возьми да и сорвись с безымянного пальчика золотой перстенек. Покатился по траве, упал в воду — вот досада.
— Не печалуйся, боярышня, — сказал Василек и даже обрадовался. — Не пропал твой перстенек, я его мигом достану.
Развязал лапотки, размотал онучи, рубаху и штаны снял и в одном исподнем — бултых в реку.
Вода в Лыбеди холоду набрала, будто огнем обожгло Василька. Но не выскочил он на берег, окунулся еще глубже, пошарил тут, пошарил там, ткнулся ладошкой в осоку — нащупал перстенек.
Олисава вскочила, захлопала в ладоши:
— Ай да Василек!.. А еще кину — достанешь?
— Как не достать, боярышня! Кинь еще, — дрожа от холода, отвечал Василек.
Подальше бросила Олисава перстень. «Ну, — подумала, — теперь нипочем не достать».
Долго был Василек под водой — уж перепугалась боярышня. Да только зря она волновалась — вынырнула рыжая голова на быстрой протоке, глаза улыбаются, перстень в зубах Василька желтым огоньком светится.
Хорошую забаву нашла Олисава, много раз еще нырял за перстеньком Василек. Совсем посинел парнишка, а хохочет, радуется, что развеселил боярышню.
И боярышне весело: звонким смехом закатывается Олисава, а еще смекает про себя — где-то был здесь поблизости коварный омуток?.. Бросила она перстень в мутную воду:
— Сыщи-ко!
Про омут тот Василек знал: опасное это место завсегда стороной обходили ребятишки. Но боярышни ослушаться он не смел. Окинул Олисаву покорным взором, забрел в реку по колено, перекрестился и сунулся головою в волну.
Тут мужики, оравшие пашню, стали стекаться к берегу, кланялись боярышне, сняв шапки. Раздумчиво говорили:
— Засосет мальца… В прошлом годе Акиндея тут же засосало.
— Акиндей пьян был, оттого и засосало…
— Исстари водится на Лыбеди водяной. Кажись, на ентом месте он и княжичей надумал прибрать.
— Не, то место подале будет, возле самых ворот.
— А здесь гнездо его поганое, не иначе…
— Н-да, засосет мальца.
Страшное сказывали мужики, но никто и не подумал лезть за Васильком в воду. Боярышня развлекается — дело енто ее, рассуждали они. Не ровен час, на свою голову расстараешься.
— Вона, вона малец! — закричал кто-то.
Все подались к берегу.
— А и впрямь выплыл… Ай, да ловок! Давай, давай сюды, — размахивая руками, подманивали мужики Василька.
Но не было в зубах у парнишки колечка, не светилась, как прежде, желтая звездочка.
— Ишь, упрямой какой, — с одобрением говорили мужики. — Нырнул сызнова.
Во второй раз исчезла в черном омуте рыжая голова Василька.
— Ты покличь-ко его, боярышня, — заговорили в толпе. — Вода нынче холодна, как бы и впрямь не потоп малец. Жалко…
— Василек! — слабо позвала перепуганная Олисава.
— Эй, Василек! — загалдели мужики.
Ни звука в ответ. Только трепыхнулось что-то под кустами, будто метнулся потревоженный сом.
— Кажись, спину показал, — прошептал кто-то с хрипотцой.
— Неужто он?
— Он самый и есть, водяной-то… Радуется!
— Ах ты, господи, — запричитали бабы.
— Кшить вы! — прикрикнули из толпы. Люди грудились, затаив дыхание.
Но все закричали разом, когда снова увидели Василька. Голова его была облеплена илом, словно обросшая мхом кочка.
— Греби, греби сюды! — обрадованно кричали мужики. Василек обреченно вышел на отмель, опустив руки, дышал глубоко. Посиневшие губы вздрагивали:
— Не нашел я твоего перстенька, боярышня. Утоп он…
— Благо, ты не утоп, малец, — с сочувствием заговорили вокруг. Бабы хлопотали:
— Глянь-ко, замерз, сердешный. Ты исподнее-то сыми.
Подхватив одежку, Василек припустил к лесочку быстрой прытью — переодеваться.
— Эй, мужики! — появился на тропинке, сбегающей с пригорка, обросший сивой бородою остроглазый и приветливый человек. — Аль утоп кто?
— Не, слава богу, никто не утоп.
— Так почто шум? — вплотную подошел незнакомый мужик.
— Да вот боярышня кольцо в омуте обронила…
— Твое, что ль, кольцо? — спросил мужик Олисаву.
— Мое.
— А дорогое ли?
— Золотое, с камушком.
— На-ко, — сунул мужик стоявшему рядом с ним холопу неструганый батожок. Сам сбросил зипун, стал стаскивать с себя рубаху.
— В омуте кольцо-то, — предостерегли мужика из толпы.
— А нам ничо, — подмигнул мужик Олисаве черным глазом. — Достанем твое колечко, боярышня, не печалуйся.
— А водяного не боишься? — остерег кто-то во второй раз.
— Может, я сам водяной, тебе-то почто знать?
Толпа отпрянула, никто не произнес ни слова. Мужик вошел в реку, зябко передернул лопатками.
— Э-эх, благословясь! — выдохнул он и скрылся под водой.
В толпе стали осторожно переговариваться:
— Кто такой?
— Пришлый!..
— А ликом, кажись, знаком.
— Уж не Вобей ли? — предположил кто-то.
— Куды там, Вобей ишшо в запрошлом годе сгиб…
— Да верный ли слушок?
— Сам Одноок сказывал…
— Одноок скажет!
Мужик фыркал и плескался в омуте, как рыба. То здесь пощупает дно, то там. Перстенек маленький, в донный ил зарылся, шутка ли сыскать его в реке! А то и вовсе снесло течением…
Долго нырял мужик, всем наскучило. Толпа стала медленно расходиться: у всех своих дел невпроворот — вона еще сколь пашни оралом не пройдено. Мужики стронули отдохнувших кобыленок, бабы и ребятишки подхватили коробья с зерном.
Одному только старосте делать нечего: как прилип он к берегу, и все про себя смекает: «Вобей али не Вобей? Дай-ко поближе взгляну».
Наконец мужик размашистыми саженками подплыл к берегу, отряхнулся, направился к своей одежке.
— Достал ли колечко-то? — спросил староста.
— Не, — спокойно отвечал мужик.
— А в ладошке чо?
— Отлипни, старой.
— Ты ладошку-то раскрой, — наскочил на него староста петухом. — В ладошке колечко-то!.. Эй, люди!
Мужики неохотно остановили лошаденок.
— Идите сюды! — позвал их староста. — Нашел ин он, колечко-то, а не отдает…
— Ну, чо расшумелся, чо?! — мужик застегнул на груди зипун, поднял с земли батожок, замахнулся на старосту.
Отшатнулся староста, заслонился рукою, заблажил:
— Вобей енто, Вобей! Признал я его.
Но Вобей, не оборачиваясь, уже шел размашистым шагом к леску…
3
Давно отслужили в Успенском соборе вечерню, разошлись богомольцы, опустело торговище, закрылись в посаде мастерские, потухли горны. Закрыли Золотые, Серебряные, Медные и Волжские ворота, возле боярских усадеб, постукивая колотушками, прохаживались одни только ночные сторожа. Отшумели пиры, разбрелись по домам бражники. Тихо во Владимире, тихо и благостно, псы и те побрехивают с ленцой…
Спят бояре на пуховых перинах, в высоких теремах, видят приятные сны; спят на лавках под шубами бронники, тульники, бочечники, древоделы и мостники, клобучники, белильники и камнесечцы; сползлись в свои смрадные норы лихованные [173]: снится им хлеба краюха да кваса жбан.
Не плещут весла на Клязьме, прижавшись к исадам, сонно покачиваются на спокойной волне большие и малые лодии, поникли спущенные ветрила…
Лишь за рекой, на болонье, полощутся тут и там разбросанные огни костров — это холопы, сменяя друг друга, пасут в ночном боярские табуны. Каких только коней не встретишь на лугу: и вороных, и гнедых, и буланых. Есть там и ливийские красно-коричневые жеребцы, и златогривые красавцы из Византии, и сухопарые кони со змеиной шеей, привезенные булгарскими купцами с далекого Востока. За каждого из них не одной гривной кун [174] плачено, за каждого холоп в ответе.
Нынче поредели табуны: многих коней взял с собою князь, но Однооков табун почти не тронут. Ушли с ним в поход худые лошаденки, а лучшие кони, краса и гордость боярского табуна, остались во Владимире.
Сидели холопы вокруг костра, запекали в углях репу, рассказывали про свое житье — о чем еще мужику говорить? Жаловались на великие тяготы, но не роптали, поругивали жен своих и соседей, но бед на их голову не призывали. Мирились и с женами, и с соседями, и с тиунами, и со старостами. Все богом в мире устроено, а им пасти лошадей…
— Глянь-ко, — сказал кто-то, — кажись, саврасого к реке понесло. Пугни-ко его, Гаврила…
Чернобородый детина неохотно встал и направился во тьму. Слышно было, как он добродушно поругивался и отгонял коня от воды. Потом все стихло. Кони стояли вокруг костра, глядели в огонь красными глазами.
Гаврила вернулся, почесал затылок:
— У саврасого бабки побиты, надо бы поглядеть. Шепни, не то, конюшему, Тимоха. Хромает он…
— Пущай хромает, не моя забота, — отвечал Тимоха, пошевеливая веточкой в костре почерневшую репу. — Вон у гнедого мягкое копыто, а до сих пор не подкуют. Мне, что ль, вести его в кузню?..
— Оно так, — сказал Гаврила, садясь поближе к огню. — А жаль хорошего коня.
— Твое дело стеречь, вот и стереги… Спокойно ли вокруг?
— Да спокойно. Надысь, как сгонял саврасого, вроде бы челнок на Клязьме привиделся… А то тихо.
— Тихо, — передразнил его Тимоха. — А челнок — чей?
— Бог ведает, я не спрашивал…
Лицо у Гаврилы было плоское, с далеко отставленными друг от друга сонными глазами. В унылой бороде висели сухие травинки.
Тонкий и юркий Тимоха живо вскочил от костра и заковылял по лугу согнутыми в колесо ногами.
Долго его не было. Когда возвратился, Гаврила дремал сидя, покачиваясь из стороны в сторону, большой, взъерошенный. Тимоха потряс его за плечо.
— Чаво ты? — встрепенулся Гаврила.
— Вставай, слышь-ко…
Гаврила потянулся и покорно встал, сон все еще пошатывал его.
— Кажись, челнок-то к нашему берегу пристал, — сказал Тимоха.
— Пущай стоит…
— Да как же пущай стоит-то, ежели на ентой стороне?! — потряс мужика Тимоха.
Так и не проснувшись, Гаврила пробормотал:
— У саврасого бабки побиты…
— Леший на тебя! — выругался Тимоха. — Аль вовсе со сна одурел? Вот завсегда с тобою так. Утром скажу конюшему, чтобы другого прислал на луг мужика, тебя попроворнее.
Гаврила открыл глаза и с удивлением уставился на Тимоху.
— Ты — чо?
— Челнок, говорю, на нашем берегу.
— Какой челнок?
— А тот, что давеча на реке видал.
— Да нешто к нам прибился? Кого бог принес?..
— Не сказался гостюшко. А так смекаю я, что человек недоброй. Почто не идет к огню?
Мужики с опаской посмотрели во тьму. Но все вокруг было тихо. Лошади фыркали и похрумкивали траву.
— Поглядеть бы, — сказал Тимоха.
— Он те поглядит!..
— А топоры на что?
Взяв топоры, мужики тихонько двинулись от костра к берегу. Жались друг к другу пугливо, умеряли небыстрый шаг. Потом и вовсе встали, затаив дыхание, прислушались.
— Привиделось, разве? — прошептал Тимоха. — Отселева челн видал, а нынче нет его.
— Можа, бревно приволокло? — сказал Гаврила.
— Можа, и бревно… А так явственно зрил — ну как есть челн.
— Зря будил ты меня, Тимоха, — упрекнул Гаврила. — Теперя не усну… Чаво расшумелся, как воробей на дождь?
— После поздно бить сполох.
— А и зазря неча в трубы трубить… Жилами спокою не нажить, а чего бог не даст, того и не станется. Пойдем обратно к костру — зябко тут…
От реки надувало холод, волна шелестела по белому песку и откатывалась в темь.
Сдаваясь на уговоры Гаврилы, Тимоха сказал:
— Глянем-ко поближе. Ежели нет челна, так и с плеч долой…
Плескался ветер в темных кустах, мерещилось всякое. Сжимая топоры, мужики обшарили весь берег. Тимоха вздохнул облегченно.
Шли обратно, не опасаясь.
— Эко пугливой какой ты стал, — подшучивал над ним Гаврила.
— Станешь пугливой, как отведаешь боярских батогов. В запрошлом годе увели у Сидяка кобылу, так холопа его забили насмерть.
— Ничо, у нас не уведут.
Снова сели к костру, выковырнули из-под угольев поспевшую репу. Перекатывая черные комочки с ладони на ладонь, подшучивали над своими страхами.
Вдруг из-за протоки, взорвав дремотную тишину, раздался громкий топот. Тимоха репу швырнул в костер, взвился на ноги:
— Увели-и!
Побежал по луговине на топот, спотыкаясь и падая. Гаврила рядом с ним размахивал руками, бежал тяжело, с грудным надсадным дыхом — ругался сполошно.
На светлой закраинке неба мелькнула на миг и скрылась за холмом темная фигура всадника.
Тимоха упал на землю, схватившись за голову, катался в мокрой траве.
Гаврила рядом стоял, опустив враз обессилевшие руки.
— Вот те и бревно, вот те и саврасый с бабками. По ходу я угадал — лучшего коня из табуна увели, половецкого атказа [175]. Спустит с нас Одноок шкуру, живыми с его двора не уйдем…
— Батюшки-святы! — всплеснул руками Гребешок, увидев подъезжающего к мельнице на коне Вобея. — Да где же ты, шатучий тать, этакого атказа раздобыл?
— У боярина Одноока за гривну кун купил.
— Врешь.
— А ежели вру, так почто спрашиваешь? — задиристо сказал Вобей и спрыгнул наземь.
Ранний был рассвет, едва брезжило. Разминаясь после долгой езды, Вобей подрыгал ногами, похлопал себя по бокам.
— Вижу, Гребешок, понравился тебе конь.
От страха у мельника все похолодело внутри. Пять ден смирно сидел Вобей, один только раз высунулся — вернулся, будто из болота, мокрый, но веселый. Показал Гребешку перстенек:
— Хорош?
Перстенек был с рубином.
— Невинную душу загубил? — спросил упавшим голосом мельник.
— Со дна речного достал…
Не поверил тогда Вобею Гребешок — у Лыбеди, чай, дно перстеньками не выстлано.
Дунеха, разглядывая на свет прозрачный камушек, вздыхала и закатывала глаза. За всю жизнь свою мельник не намолол ей муки на этакий перстенек.
Снова не спала она в ту ночь, чаще прежнего вставала испить водицы, перелезала через мужа, смотрела на похрапывающего Вобея с нежностью, задевая то плечом, то локтем, старалась разбудить его. Но Вобей спал крепко, еще крепче держал слово, данное Гребешку. Не время было ему тревожить мельника, надежно хоронился он в его избе…
— На что тебе конь, Вобей? — спрашивал беспокойно Гребешок. — Его, как перстень, в кармане не утаишь.
— А тебе и не вступно? Тебе и на ум нейдет? — загадочно ухмылялся Вобей.
— В дружину, что ль, ко князю наладишься с ворованным конем?
— Почто ко князю? Я сам себе князь… А коня схороню в лесу.
— Кто ж кормить-поить его будет?
— Ты и будешь, Гребешок.
— Ишшо какого лиха мне на загривок?! — закричал мельник, отмахиваясь от Вобея.
На разговор мужиков вышла заспанная Дунеха, увидев атказа, всем телом затряслась от восторга. Вобей сказал:
— Хорошего коня привел я, Дунеха?
— Ой, какого коня-то — лебедь-птица, а не конь. Эк копытом-то землю роет — будто мужик норовистой…
— Далеко ускачу я на этом коне, — задумчиво произнес Вобей. — А что, Дунеха, не поедешь ли со мною?
У мельничихи глаза заблестели. Гребешок охладил ее:
— Ты шатучего татя поболе слушай, он те наговорит.
Вобей усмехнулся и вошел в избу.
4
Привольно раскинулся у Золотых ворот богатый владимирский торг. Кого только здесь нет: греки, булгары, грузины, бухарцы, армяне, свои — владимирцы и мордва, новгородцы и кияне. Торгуют дорогими тканями, попонами, конской сбруей и мечами, лаптями, корзинами и лукошками — выбирай, что хочешь на свой вкус и по своему карману.
Гул стоит над площадью, тут и там шныряют князевы мытники, собирают пошлину в пользу князя, не забывают и себя. Под присмотром зорких весцов, взвешивались епископской строго вымерянной капью [176] зерно и репа, изделия из золота и серебра. Ткань отмеряли локтями, мед — пудами и малыми гривенками, воск — скалвами вощаными.
Гребешок приехал во Владимир вместе с Дунехой — оставлять ее одну на мельнице он побаивался. Да и Дунехе весело взглянуть на иную жизнь, посудачить с бабами, поглядеть в завидку на разодетых боярынь и купчих.
Едва проехали они на своей дребезжащей телеге под сводами Золотых ворот, как тут же и лишилась она покоя, задергала своего мужика: все-то ей нужно пощупать, ко всему прицениться, хоть и брать не будет, хоть и поглядит только. А иное, глядишь, и купит. Пока до оружейников добрались, до седельников и щитников, навалила она на телегу кадушек и ковшиков расписных, коробов и пестерей [177].
Гребешок ворчал:
— Все-то вам, бабам, мало. Глаза у вас завидущие и руки загребущие. Волю дай, так весь торг с собою бы уволокли. Ну, на что тебе пестери, аль своих мало?
— Свои-то поизносились…
— А лукошки?
— Скоро пойдут грибки…
— Тьфу ты! — сплюнул Гребешок и стал быстрее править конем. Но в толпе скоро не проедешь, все равно затрут. Мужики кричат, вожжи вырывают из рук:
— Куды народ топчешь? Посторонись!..
Навстречу шли биричи [178]. Звон медных тарелок, в которые они били, заглушал разноголосый шум. Рядом с биричами бежали ребятишки.
— Эй, люди добрые! — выкликал зычным голосом тощий мужик с козлиной бородкой. — Слушайте все. Спрашивает вас протопоп Успения божьей матери: не потерял ли кто свое дите? Нынче, после заутрени, нашли на паперти мальчика… Эй, христиане!
Люди отрывались от покупок, слушали, разинув рты.
— Мальчонку, слышь, подкинули, — прокрался шепоток.
— Нет на людях креста…
Снова зазвенели тарелки, и снова зычный голос возвестил:
— Похитили ввечор на болоньях Одноокова доброго коня. Кто укажет татя, тому награда серебром. Эй, христиане!..
Гребешок поперхнулся, заерзал на сене тощим задом.
— Про Вобея енто, про Вобея, — горячо зашептала ему в затылок Дунеха.
— Пронеси и помилуй, — испуганно перекрестился Гребешок и дернул за вожжи что было мочи.
Биричи удалялись, все тише и неприметнее становилось позванивание медных тарелок. Толпа неохотно размыкалась перед телегой и тут же смыкалась позади. Подозрительные мужики с красными носами кричали Дунехе:
— Куды спешишь, баба? Пойдем с нами. Муж-то у тебя неумыт, а мы добры молодцы. Погляди на нас, чо потупилась?
Но Дунеха и не думала смущаться: призывные крики и озорные разговоры только раззадоривали ее. Сидя спиной к Гребешку, она подмигивала мужикам и болтала ногами, оголяя из-под сарафана белые икры.
— Тпрру! — остановил коня Гребешок и спрыгнул с телеги.
— Ты покуда в телеге сиди, — сказал он жене, — а я погляжу.
Перво-наперво направился Гребешок к седельникам. Почти все мастера были его старые знакомцы.
— Здорово, Кубыш!
— Здорово, Гребешок!
— А ну, кажи свой товар…
— Никак, разжился конем? — удивился Кубыш, глядя, как мельник впился взглядом в высокое боевое седло.
— Свату ищу лошадиной убор…
— Лучше, чем у меня, не сыщешь, — похвастался Кубыш. — Вот — гляди. Седло удобное, луки не шибко высоки — в самый раз, путлища из воловьей кожи — крепки, подперсья тож, а уж про стремя я и не говорю.
Гребешок оглядывал седло придирчиво: и дугу пощупал, и крыло, ладонью похлопал по потнику.
— Доброй товар.
— Бери, Гребешок, не пожалеешь. А ежели что, сыскать меня знаешь где…
Под перстенек Вобеев у златокузнеца Ходыки выменял мельник полную калиту [179] сребреников. Когда менял, потел от испуга: а что, как признает Ходыка перстенек, кликнет мытника? Но Ходыка перстенька не признал и спокойно отсчитал сребреники.
Били по рукам Кубыш и Гребешок. Мельник взвалил тяжелое седло на спину и отволок его к телеге. Возле телеги мужики, как мухи вокруг медового пряника, вились вокруг Дунехи. Баба по-дурному взвизгивала и смеялась.
— Эй вы, кобели, — сказал Гребешок, сваливая со спины седло. — Куды глаза пялите на чужой товар?
От седельного ряда через еще более густую толпу направился мельник к кузнецам-оружейникам. «Меч бери у Морхини», — наставлял его Вобей. Поздоровался мельник с кузнецом, восхищенными глазами оглядел разложенные на рогожной подстилке голубые, с чернью мечи, топорики и ножи.
Кубыш подивился тому, что ищет Гребешок седло. Морхиня тоже спросил:
— А на что тебе меч?
— Лихие люди вокруг шастают. Аль не слышал, что выкрикивал бирич?!
— Как же, слышал. Коня, сказывают, у Одноока увели.
— Без меча нынче как спокойно уснешь?..
— Оно и верно. Выбирай, что по душе тебе, Гребешок.
— Вот ентот разве, — протянул руку мельник к длинному мечу в ножнах из красного сафьяна.
— Хороший меч, — кивнул Морхиня. — Глаз у тебя приметливый.
Гребешок вынул меч из ножен, уважительно провел пальцем по острому жалу, пощупал яблоко и огниво, поперечное железцо у крыжа [180], погладил голомень, с любовью примерил к ладони рукоять. У верхней части ножен устье было украшено затейливым рисунком.
— Так берешь ли? — спросил Морхиня.
— Беру. Лучшего-то меча мне на всем торговище не сыскать.
После сделанных покупок от перстенька у мельника, почитай, ничего не осталось. Так разве, на брагу и на мед.
Подвел Гребешок коня своего к питейной избе, сказал жене:
— Ты бражников-то боле не привечай.
— А коли сами лезут?
— Беда мне с тобой, — покачал головою Гребешок. — Ну так жди — я мигом.
В питейной избе шум и гам, мужики сидят на лавках и на полу. От двери крепким медовым духом прямо сшибает с ног.
Хозяин знал Гребешка, налил ему ковшик до краев, к уху склонившись, сказал:
— Про Вобея слышал?
— Да чо про Вобея-то? — не донеся ковшика до губ, поперхнулся мельник.
— Мужики говорят, не сгиб он, в наших краях объявился. Озоровать стал. Не иначе как и Однооков конь — его рук дело…
— На что ему конь-то?
— А без коня — какой он шатучий тать?
— Ох-хо-хо, — вздохнул Гребешок, — ишшо на мельню ко мне направит свои стопы — быть беде. Вот — меч ноне купил, тревожно стало.
И впрямь — тревожно стало Гребешку. Не слишком ли много судов да пересудов? Как примутся разыскивать Вобея, не доведет ли ниточка и до его мельницы, не притянут ли и Гребешка к ответу? Одноок никому спуску не даст, за свое добро кому хошь горло перегрызет…
Выпил он с горя один ковшик, выпил другой, не скоро выбрался из питейной избы. Размазывая слезы по щекам, Дунеха ругала его по дороге:
— Любого мужика только к меду подпусти, ему и бабы не надо.
— Нишкни, дура, — пьяно огрызался Гребешок. — Мне от твово Вобея лихо. Вот вернемся на мельню, брюхо ему мечом разверзну.
— Куды уж тебе! Ты с ковшиками управляйся, а с бабой и мечом другие управятся.
— Наперед-то не забегай, ишшо увидишь, како обернется.
— Вобей те разверзнет брюхо. Вобей тя быстро отрезвит…
И верно, недалеко уехали от Владимира, а стало мед из мельниковой башки выветривать, сделался он потише и попокладистее.
— Седло и меч я ему взял — пущай идет на все четыре стороны… А ты перед Вобеем задом не верти.
— Кто вертел-то, кто? — накинулась на него жена.
— Ты и вертела. И с Однооком тож…
— Про то и скажи боярину.
Гребешок с опаской поглядел на жену: разговорилась шибко, осмелела. А может, дать подзатылину?
Ничего, вот уедет Вобей, другая беседа у них пойдет. Впредь спуску Дунехе он не даст.
На том и успокоился Гребешок, с такими мыслями и въехал к себе на двор.
Глава девятая
1
Константин ушел в поход со Всеволодом, а Юрий с меньшими братьями Ярославом и Святославом остался дома под присмотром матери. Ежели бы не она, упросил бы он отца взять и его с собою, но княгиня ни за что не хотела расставаться со своим любимцем.
Опустел некогда шумный терем, наступило бабье приторное царство.
Едва проснется Юрий, а уж возле него мамки да няньки хлопочут. Одна стоит с лоханью теплой воды, другая с опашнем, а третья расчесывает ему льняные кудри самшитовым гребешком.
Всплескивают ручками бабы, умиленно закатывают глазки:
— Ангелочек ты наш! Красавчик!..
Одна пряник в руку сует, другая, стоя на коленях, подает в чаше холодного, прямо из ледника, малинового квасу.
Тут входила княгиня, пряники у мамок отбирала, квас велела подогреть, чтобы не застудить княжичу горлышка. Взяв за руку, вела его в гридницу, сама снова одевала, расчесывала и прихорашивала. Целовала в щечки, ворковала, прижимая его к груди:
— Василечек мой ясненький!..
Юрий хмурился, дерзил матери, вырывался из ее рук.
— Да что же ты неспокойный такой? — тревожилась Мария. — Не заболел ли часом, не жар ли у тебя? А нуко нагнись, поцелую в лобик…
Целовала княжича в лобик, качала головой:
— И впрямь горишь будто весь. Не с квасу ли? Не переел ли вчерась чего?.. Квас-то мамки-дуры ледяной принесли. Эко бестолковые какие…
— Эй, кто там есть! — кричала Мария в приотворенную дверь.
Мешая друг другу в дверном проеме, в гридницу протискивались встревоженные мамки.
— Уморили княжича, дуры! — кричала на них разгневанная Мария. — Лекаря зовите, да живо…
Приходил выписанный Всеволодом из Царьграда ученый лекарь, толстый ливиец с темной кожей и печальными глазами, осматривал княжича, давал пить тягучие настои незнакомых трав, сызнова в постель укладывал.
Скучал Юрий, лежа под горячим пуховым одеялом, ворочался с боку на бок, тоскливо глядел на падающий из оконца косой лучик восходящего солнца. Последние теплые дни уходили, скоро подует сиверко, сорвет желтые листья с растущих под гульбищем березок, уронит на землю холодные дожди. Пролетело лето, как один светлый миг, вроде и не было его.
Намаявшись от безделья, мальчик осторожно вставал с лежанки и, шлепая босыми ногами по чистому полу, подходил к двери, тихонько открывал ее и выглядывал в переход.
Тихо было вокруг, дремотно, словно вымерло все, словно бросили дом хозяева.
По узкой лесенке Юрий на цыпочках спускался в подклет, где рядом с поварней в темной кладовке была свалена всякая рухлядь, прикрывал за собой дверь и вздыхал с облегчением: здесь он был один, здесь не досаждали ему ни няньки, ни мамки, а под пыльными тряпками в углу лежал старый меч в изъеденных крысами кожаных ножнах.
Четка сказывал, что меч этот был дедов, что с ним не раз он ходил на булгар, но проходило время, меч заржавел и стал никому не нужен. Потому и бросили его в кладовку, потому и лежит он здесь без малого уже двадцать лет.
Напрягаясь и каждый раз трепеща от волнения, Юрий вытаскивал его из ножен, клал себе на колени, гладил прохладную рубчатую рукоять и мыслями отлетал за многие сотни верст от Владимира, в дремучие леса, к спокойной реке, на берегу которой высился украшенный искусными мастерами древний и таинственный Булгар.
Перед мечтательным взором мальчика проплывали высокие берега с крутыми обрывами, возникали всадники в островерхих шапках, и слышались их гортанные крики.
Сам он стоял на лодие, ветер вздувал и пузырил за его спиной такое же красное, как у отца, корзно, и бородатые вои в железных доспехах грудились у бортов, изготовив копья, мечи и секиры.
Все гуще падали с берега стрелы, все сильнее дыбил крутую волну свежак, и, прыгая с борта в воду, дружинники врезались в булгарское войско, метали издали сулицы и бились вблизи оскордами и топорами. А впереди них Юрий на белом отцовском коне направо и налево рубил мечом по чужим оскаленным лицам.
Многое мог поведать княжичу старинный дедов меч, и не только о битвах, но и о коварстве и предательстве, о том, как обагрялся он не только вражеской, но и русской кровью. Однако об этом не было писано в книгах, а в летописи говорилось смутно, и не так, как было, а как хотелось князю…
Трудную науку еще предстояло пройти Юрию в жизни, еще и сам, спустя годы, сойдется он с братом своим Константином на Липице, а потом падет изрубленный кривыми татарскими саблями. Сбудется зловещее предсказание деревенской темной бабы, падет проклятие на головы Всеволодовых сыновей, но не узнает об этом Мария. Умирая, ввергнет Всеволод меч между Константином и Юрием и вновь, не желая того, а думая о единстве, посеет кровавую усобицу на Руси…
А покуда — ищет княгиня сына по темным закуткам теремного дворца, бегают няньки и мамки, кличут на разные голоса затерявшегося княжича.
Распахнулась дверь.
— Здеся он! — заверещала дородная кормилица.
Мария следом за ней, вне себя от страха, ворвалась в кладовую.
— Ах ты, господи боже мой! Да как же не уследили? Как же княжичу в руки дедов меч попал?!
Юрий вцепился в ножны, замотал головою:
— Не отдам!
— Да что ты, сыночек, что говоришь-то?
У матери голос надорвался от испуга:
— Железный он! Еще поранишь ручку… Дай-ко его сюды.
— Не отдам. Дедов это меч…
— Ну и что, что дедов? Ну и пущай, а тебе-то он к чему?..
Юрий упрямился, не отдавал меча, мотал головой. Мария сказала сгрудившимся в проеме мамкам:
— Кликните-ко Прокопия, дворского.
— Чичас мы.
Пришел Прокопий, крепкий мужик в атласном нарядном платне, склонился над княжичем:
— Нехорошо, ай нехорошо…
Но в глазах Прокопия не было укоризны. Княгинины излишние заботы, видать, тоже ему не очень-то нравились. «Кого растит Мария, — подумал он, — монаха или князя?» Но меч все-таки взял. Подержал в руках, с уважением разглядывая вблизи:
— Добрый клинок. Хорошую сослужил Юрию Владимировичу службу. Повесь его у себя над лежанкой, княжич, — пусть напоминает о великих дедовых делах. А то, что ножны поели крысы, не беда — новые закажем…
И снова возвратил оружие Юрию.
— Да что же ты делаешь, Прокопий? — удивилась Мария.
— Ничо, княгинюшка, ты себя не тревожь. Не поранится княжич, а все забава. Мужика растишь, не девицу…
Никому не ведомы дела господни. Пройдет срок, и обновит Юрий дедов меч у Морхини, острее прежнего станет он. И занесет княжич древний клинок над братниной головой.
А пока порадовался он новой забаве. Скрепя сердце, согласилась Мария:
— Пусть будет так.
Велела она вечером истопить баньку, парила Юрия водой, настоянной на целебных кореньях, приговаривала, разглядывая сына:
— Хилой ты у меня.
Стояла перед ним обнаженная, нежно проходилась по костлявой спине княжича березовым жарким веничком.
Лежа на полке, истомленный пахучим паром, Юрий глядел на мать, дивился стройности и упругой смуглоте ее еще крепкого тела…
После баньки пили квас, слушали бабок-сказительниц. Певуньи-девки пели песни, показывали скоморошины.
Все чаще заглядывала в терем располневшая Досада со своим дитем. Кузьма Ратьшич прислал ей с гонцом новые золотые колты, обещал на дожинки быть дома.
Мария слушала ее, и было ей грустно, оттого что не Всеволод слал гонца, — князь не то что про колты — про весточку малую позабыл.
В гриднице было душно от множества запаленных свечей, пахло благовониями, и Юрий, сидя под рукою у матери, сладко подремывал.
Разноголосое пение не тревожило княжича, и сны его были светлы и радостны. Досада, держа своего уснувшего ребенка на коленях, склонялась к Юрию, который прильнул к матери, светло улыбалась и гладила его по голове. Мягкие руки ее скользили по волосам легко, как ветерок.
Не напоминал ли он своими чертами ее дорогого ладу, сгинувшего в безвестности, не о нем ли думала она, воркуя с нежностью.
— Спи, касатик, спи…
И тогда никому невнятные тени опускались на ее повлажневшие глаза, и только Мария догадывалась, о чем думала Досада. Годы прошли, изменило незримое время ее черты, но не старела поразившая юное сердце боль.
Гладила Досада княжича по голове, смолкали песенницы, без шума, на цыпочках выходили за дверь.
Тогда появлялся Прокопий — дворский — и со смущенной улыбкой брал Юрия на руки. Мария шла рядом, заглядывала в сонные глаза сына.
Прокопий бережно укладывал княжича на просторное ложе, а мать, поправив одеяло, садилась рядом.
Рожком изогнутый месяц заглядывал в низкое оконце, голубо высвечивал пол и стены. В углу верещал сверчок. Сон медленно одолевал княгиню. Тогда, стряхивая дрему, она подымалась и, набросив на плечи шубейку, обходила всех своих детей, возле каждого задерживалась, прислушивалась к их ровному дыханию.
Придет срок, и разнесет Всеволодовых сынов и дочерей по необъятным просторам Руси. Разная выпадет им судьба, но легкой не суждено никому. Однако не завянет Всеволодов могучий род.
И Мария всему его роду начало.
2
Широко, раздольно владимирское ополье, кормит хлебушком половину Руси. Далеко, до Юрьева, раскинулись поля и пахоты, деревеньки вразброс тут и там приткнулись у березняковых перелесков и по берегам небольших речушек с прозрачной родниковой водой.
На держателя гроз Илью уехал Никитка навестить Маркушу (соскучился!), отдохнуть от каждодневной суеты большого города, да загостился у него, а на Михея прискакал из Владимира гонец и велел немедля возвращаться во Владимир ко княгине.
Никитка распрощался с Маркушей и отправился в путь.
Закончился об эту пору последний озимый сев, опустевшие поля лежали вокруг, посеребренные первыми утренниками, но днем солнышко еще припекало по-летнему. Бабы сушили по лугам вымытый до белоты лен; чтобы не заводились в избах, девки хоронили в свекловичных домовинах тараканов и мух, а женихи в это время выходили смотреть своих невест.
Тот самый гонец, что привез Никитке повеление быть во Владимире, шепнул по пути старым своим знакомцам, что Всеволод возвращается из похода. Добрая весточка полетела из избы в избу и скоро растревожила все Ополье. Жены ждали своих мужей, девки — суженых. Выходили толпами на пригорки, водили веселые хороводы, посматривали вдаль — не пылит ли дорога?..
Когда отъезжал Никитка из Юрьева, на душе его после свидания с Маркушей было безмятежно и радостно, но чем ближе к Владимиру, тем все больше одолевала тревога: уж не снова ли Иоанновы козни?
Ставя новую церковь княгине, отказался он от былого своего буйства, строил просто и строго, соблюдая видевшуюся ему соразмерность и точность форм. Не один уже божий храм соорудила Мария во Владимире — оттого и слава о ней прошла, как о боголюбивой и кроткой княгине. Но тех, других храмов, не касалась рука Никитки, а этот был первым после долгого перерыва. И вложил он в свою задумку едва уловимую печаль, чуть слышимую, как шорох опадающих на осеннем ветру последних листьев. Как знать, быть может, это его последнее создание?..
Прямо с дороги, неумытый и пропыленный, явился он на княжой двор. Его ждали давно и сразу провели к Марии. Иоанна не было, и это порадовало Никитку, княгиня сидела одна.
— Здравствуй, Никитушка, — сказала она ласково, подымаясь с лавки. — С приездом тебя.
— Спасибо, — кланяясь, отвечал ей мастер.
— Устал ты с дороги. Не стой, проходи, садись смело.
Никитка прошел и сел, на чистых половицах остались следы его пыльных чоботов.
Великая это была честь — сидеть в присутствии княгини, и Никитка немного успокоился: значит, звала его Мария не для того, чтобы допекать попреками. Зря грешил он на Иоанна.
— Так скоро ли, Никитушка, закончишь ставить мой собор? — спросила она слабым голосом, и тогда впервые заметил мастер и худобу ее вдруг сникшего стана, и бледность в лице, и тоску, сквозящую сквозь решеточку длинных полуопущенных ресниц.
«Уж не помирать ли собралась княгиня?» — со страхом подумал он, потому что такой тоски не видывал в ее лице еще никогда.
Ему ли было знать, ему ли догадаться, что совсем другое тревожило Марию, что скорбела она не о жизни и, не смерти страшась, спешила творить угодные богу дела!.. Об одном молила она и денно и нощно благого вседержителя: снова вернуть ей Всеволода, направить к ней сердце и ум его, как это бывало в прошлом.
Не знал Никитка, что дала она невозможный зарок перед иконой Владимирской божьей матери — освятить новый собор к предзимью, на праздник Покрова.
Ужаснулся Никитка, услышав про ее зарок:
— Да разве же это слыхано, княгиня?!
— А ты постарайся, Никитушка…
Тихо говорила Мария, не повелевала — просила:
— Ну, сам посуди, как нарушу я свой зарок?
Больно кольнуло Никитке сердце:
— Как же могла ты, княгиня, такое пообещать?
— Сердце бабье слабое, думка тревожная, — пробормотала Мария. — Но, ежели не кончишь к сроку, великая стрясется беда.
«Беда-то уже стряслась!» — хотел выкрикнуть Никитка.
— Еще и до барабанов [181] не довели мы собор, — сказал он, мысленным взором охватывая сделанное, — а далеко ли до Покрова?
— Я людей тебе дам. Биричам велю кликнуть на торгу, что платить будем каменщикам не по ногате, а по две в день. Куны с собою велю возить…
Покуда добром просила его княгиня, но знал Никитка и иной господский обычай: не согласится — долго говорить с ним не станут, повелят — и строй, а не построишь — сымут голову. Другую найдут — хоть и не та голова, а место не пусто.
— Хорошо, — сказал Никитка, тяжело подымаясь с лавки и кланяясь Марии в ноги. — Доверием своим порадовала ты меня, княгиня. А что в срок поставлю собор, в том и не сумлевайся.
— Вот видишь, вот и сам ты уверовал, Никитушка! — обрадовалась Мария. — А теперь ступай с богом, помолись в Успении за успех.
Еще раз, так же земно, поклонился мастер княгине и вышел, пятясь, за дверь.
Не порадовал он Аленку своим возвращением, не разговаривал с нею, варево хлебал вяло, хлеб только крошил на столе.
— Да что с тобою? — приставала Аленка. — Какая ишшо беда стряслась?
— Такая беда, что и бесу лысому невдогад, — отвечал Никитка. — И ты со своими расспросами ко мне нынче не приставай.
Обидел он Аленку, хоть и сам того не хотел. Не снимая нагара с лучины, все сидел он до поздней ночи и все смекал. Падали в кадушку горячие угольки, в светцах дымились последним пламенем почерневшие огарыши.
Снова с ощутимой, непередаваемой болью вспоминал он ушедшего из жизни Левонтия, учителя своего и великого зиждителя и камнесечца. Ко времени пришелся бы ему его добрый и умный совет.
Но нет Левонтия, над могилой его уж какую осень роняет свои листья высоко вытянувшаяся березка, нет и Маркуши рядом — он бы тоже помог. А к полудню сойдутся на площади возле собора несметные толпы нанявшихся по княгининому зову помощников.
Утром был Никитка все так же молчалив, все так же досадовал на Аленку. Наскоро похлебав горячего варева, даже с сыном не побаловавшись, как обычно, не взяв его с собою, ушел додумывать заковыристую ночную думу.
На зорьке холодно было, за Клязьмой туман расстилался по болоньям, и еще кружевные кресты Успенского собора не тронуло первое солнышко. На свинцовых куполах сидели нахохлившиеся голуби. У паперти толпились ранние старушки, спеша занять ближнее к налою [182] место.
Как издавна велось, как еще Левонтием было заведено, чтобы не досаждали любопытные, вокруг строящегося собора ставили крепкий тын. Сторож в вывернутой наизнанку бараньей шубе, нахохлившись, сидел у просторного въезда. Рядом стояла худая лошаденка под простым седлом, среди кирпичей, плинфы [183] и отесанных белых камней тянула к серому небу связанные вместе оглобли старая телега.
Месяц почти не было во Владимире Никитки, а дело пошло вперед. Порадовался мастер за свою расторопную дружину, на славу поработали каменщики.
Увидев приближающегося мастера, сторож переметнул из одной руки в другую короткое копье и поклонился ему, насколько позволяла тесная шуба.
— С приездом тебя, мастер.
— Спасибо на добром слове.
— Аль не спится, что спозаранку пожаловал?
— Где уж тут уснуть, коли одна забота к одной!
— Работы нет без заботы, а забота и без работы живет, — сказал сторож.
Никитка не слушал его. Ступив под своды главных врат строящегося собора, он быстро смекал что-то, садился на корточки, водил прутиком по разровненному песку, окидывал быстрым взором могучие стены.
С уважением глядя на него, сторож покачивал головой и бормотал себе под нос:
— Ремесло ему вотчина. Знать, не трудно сделать-то, а задумать куды трудней.
Но и задумка задумке рознь. Как ставили собор на пустом месте, о сроках и не помышляли. Клали да клали себе стены изо дня в день, раствор замешивали добротно, худых камней не брали, кирпичик к кирпичику пригоняли на вечные времена.
Теперь же с Никитки совсем другой спрос. Теперь не только о прочности и красоте собора думал он, оглядывая свое еще безглавое творение. Снова и снова вспоминал он разговор с Марией — и все больше печалился.
Не заметил Никитка, как солнышко вспыхнуло над Золотыми воротами, как шумом наполнились улицы. Оторвался он от песочка, где чертил прутиком кругляшки и линии, оглянулся — и обмер: вся дружина каменщиков, неслышно приблизившись, грудилась за его спиной.
— Вишь ты, — сказал сотник, вытирая широкую длань о холщовый передник. — Поздоровкаемся, что ль?
Обнялись, похлопали друг друга по спинам, поударяли кулаками в грудь и плечи.
Никитка поблагодарил каменщиков за труды, поясно поклонился им. Уважительное обхождение мастера всем понравилось.
— Делали, как могли, — донеслось из толпы.
— Порадовали, порадовали, — говорил Никитка. — Бочку меду ставлю за рвение, а еще и княгиня велела везти вам медов.
— Дай-то бог тебе здоровья, — за всех отвечал сотник.
— И княгине-матушке, — благодарили каменщики.
Были у них простодушные и открытые лица. Кое-кого из них знал Никитка еще с той поры, как ставил Дмитриевский собор. И сметка у них была, и опыт. Эти не подведут, да и молодых не упустят, подсобят, научат уму-разуму.
— Вот что, сотник, — сказал Никитка. — Ставь-ко по левую да по правую сторону леса. Скоро придут к нам помощнички. С собором боле медлить нельзя. К Покрову освящать велено…
3
Неспроста встревожилась Досифея с той поры, как задумала Мария возводить во Владимире новую церковь. Раньше-то вся любовь — к ней, а теперь в иные ворота потекут княгинины богатые дары. Оно и заметно стало: все реже наведывалась Мария к игуменье в гости.
Смириться с этим Досифея не могла. Много перепало ей от княжеского двора щедрот, еще на большее она рот разевала. И без того полны у нее были лари — крышки не закрывались, разве что сядешь сверху, но ни с кем не хотела она делить того, что хоть однажды в руки попало.
В черном возке вдвоем с Пелагеей прибыла она в детинец, туда-сюда посунулась, а Марии в тереме нет.
— Да где же княгинюшка, не ко мне ли стопы свои направила? — спросила она у Прокопия.
— Может, и к тебе, матушка, — спокойно отвечал дворский. — Но сдается мне, что поехала она с княжичами смотреть, как новый собор возводят. Там ее и ищи.
«Раненько снарядилась Мария, — подумала Досифея с досадой. — Кажись, не ошиблась, и впрямь ей теперь не до меня…»
Крикнула вознице, чтобы гнал, куда Прокопием указано.
Все так и есть. Не обманул ее дворский. Золоченый возок Марии стоял возле тына, рядом отрок в малиновом летнике прохаживался.
На стройке народу тьма, мужики суетятся, кирпичики из рук в руки передают, заголив штаны до колен, в больших ямах ногами толкут глину. Некуда ступить Досифее, чтобы не замарать новеньких сапожек.
— Что, матушка, не княгиню ли у нас ищешь да поискиваешь? — обратился к ней воротный страж.
— Ее-то и ищу.
— Ступай в таком разе по тропке, что возле тына. Тропка тебя на место и выведет…
Пошла по тропке игуменья, задрав обеими руками рясу, да все равно в грязь провалилась. Поскорбела над испачканными сапожками, головой покрутила: глянь, а княгиня рядом стоит, смотрит на игуменью, улыбается.
— Сюды, сюды, — поманила ее ручкой.
Возле матери Юрий со Святославом увиваются, глазами по сторонам постреливают — радуются.
Еще выше задрав рясу, Досифея прыгнула на камешек, прыгнула на другой. Едва отдышалась, как от непосильной работы, выпрямившись, благословила княгиню и юных княжичей.
— Всюду разыскиваю тебя, княгинюшка, а сыскать не могу, — пожаловалась она Марии.
— Да что ж разыскивать-то? Али дело какое?
— Как же не дело-то. Еще когда обещала ты отписать мне грамотку на пожни за Клязьмою, а все тебе недосуг.
— Ин запамятовала?
— Должно, запамятовала, — кивнула Досифея с тревогой во взоре. — Как приезжала ко мне с Юрием на Петров день, так и сказывала: отпишу, мол, я тебе те самые пожни. Я и жду-пожду…
— Вишь, и впрямь запамятовала, — сказала Мария.
— Притомилась ты, княгинюшка, себя не блюдешь — все в молитвах праведных да в заботах. И личиком поосунулась…
— Все в заботах, — кивнула Мария и, переводя разговор, спросила игуменью:
— Впервой ты сюды заглядываешь, Досифея. Скажи-ко, нравится ли тебе собор?
— Да какой же это собор, матушка? — удивилась игуменья. — Без глав да без крестов?..
— И главы возведут, и кресты поставят, — мечтательно поглядела Мария поверх лесов. — А станом-то каков?
У Досифеи в монастыре старенькая церковь этой не под стать. Не из камня делали ее, а рубили из сосновых кругляшей. Поела сырость ее, крыша кое-где прохудилась, в иконостасе — ни золота, ни серебра. Но жаловаться княгине на бедность она не посмела: когда бы всего того, что дадено Марией, не прятала она в ларь, и не такой бы собор возвела, а уж прохудившуюся крышу починить могла бы давно да кругляши бы, где надо, положила новые.
Так и не ответила она на вопрос княгини, а свою обиду проглотила. Поняла Досифея, что не перепадет ей более ни угодий, ни гривен кун. И просить нечего. В иной-то год до ста гривен серебра получала она в свой доход, а нынче ежели достанет пятьдесят — и то не в убытке. Может и вовсе обнищать ее монастырь. Против притчи не поспоришь. Зря тревожила она княгиню, зря напоминала про грамотку — осерчает, так и вконец пустит по миру…
Не обманули игуменью худые предчувствия, а то, что думала она снова прельстить Марию, то перед собою пустая была похвальба. Робела она, стоя рядом с княгиней, княжичам угодливо улыбалась, не смела поднять глаза.
Скрипели под тяжелыми шагами мужиков леса, раскачивались крепко врытые в землю стояки. Задрав голову, Никитка поглядывал на каменщиков со двора, покрикивал, иногда сам взбегал по шатким перекладинам. Кирпичи и камни носили на досках с перекинутыми через плечи веревками, иные горбились под грузом, иные шли легко.
— Берегись! — послышалось рядом.
Что-то хрястнуло, оборвалось, со спины проходившего рядом мужика посыпались в лужи кирпичики. Один из них, самый резвый, доскакал до Святослава, ударил княжича в ногу. Мария охнула и схватилась рукой за сердце.
Святослав, прыгая на одной ноге, заскулил. Слепо тыча перед собой посохом, Досифея набросилась на оторопевшего мужика:
— Ослеп сдуру, ирод! Куды мечешь камни?
Посох попадал мужику по голове и по плечам, ударял хрястко, как по мешку с мокрым песком. Сдернув шапку, мужик упал на колени, задергался от испуга, завыл нутряным голосом:
— Пощади, княгиня!..
— Ишь чего захотел! — плотоядно щерилась Досифея, продолжая молотить его посохом. — Пощады запросил!.. В поруб, в поруб его!..
Княгиня оторвалась от Святослава, позвала через двор:
— Никитка!
— Что велишь, княгинюшка? — скатился Никитка с самого верха лесов. Тяжело дышал, смотрел на мужика с укором.
— Твой мужик? — спросила Мария.
— Не, он из кликнутых…
Замешкавшийся сотник подбежал позже всех, протиснулся через толпу, молча ударил мужика увесистым кулачищем по затылку. Ударил еще раз — в подбородок. Мужик дернулся и упал в грязь.
Толпа раздвинулась, пропуская княгиню. Святослав стоял в стороне и тихонько всхлипывал: кирпич был небольшой, ударил его несильно. В глазах выглядывающего из-за спины матери Юрия светилось любопытство.
— Мужик неразумной, — сказал Никитка. — Да и не его вина, княгиня. Досточка, вишь ли, преломилась…
— Ты, заступник, молчи, — оборвала его Мария.
Никитка осекся, но в толпе еще послышались голоса:
— И верно, досточка преломилась, княгинюшка… Будь ласкова, не гневись.
— Ладно, — стоя над распростертым в грязи мужиком, сказала Мария и обвела всех холодным взглядом. — Ежели досточка, так почто преломилась?
— Сучочек, должно.
— Али трещинка…
— А кто досточку ту стругал? Кто мужику ее на спину сунул? — в упор глядя на сотника, спросила Мария.
Сотник побледнел и попятился:
— Мы каменщики, княгиня, мы досточки не стругаем… Енто, чай, мостников работа, аль еще кого.
— Мостников, знамо, мостников, — подтвердили в толпе.
— А зовите-ко сюды, кто у них за старшого, — повелела княгиня.
— Эй, кто старшой у мостников? Подь сюды! — от одного к другому стали перекидываться голоса.
Толпа выдавила в круг рыхлого старичка с козлиной реденькой бородкой. Старичок снял шапку и поклонился Марии. Близорукие глаза его были узко прищурены.
— Ты у мостников старшой?
— Я…
— Так почто же ты, старшой, за мостниками не глядишь?
— Гляжу, княгиня. Все, как ты повелела, справляем в срок…
Вдруг взгляд его упал на распростертого в грязи мужика.
— Все он, все он, княгинюшка, — вырвалась вперед Досифея и снова замахнулась посохом.
Старшой мостников попятился перед игуменьей.
— Стража! — крикнула княгиня. Никто не отозвался. Подбежал отрок в малиновом летнике, распихал любопытных.
— Что повелишь, матушка?
— Бери-ко его да вяжи покрепче.
Отрок сунулся к старику, неумело заламывая ему руки за спину.
— А вы куды глядите, мужики? — рассердилась княгиня.
Каменщики неохотно помогли отроку. Связанный недоуменно таращил глаза.
— Меня-то за чо? Чо меня вяжете-то? — бормотал он, обращаясь к молчаливо стоящей толпе.
— Наперед оглядчивее будешь, — наставительно сказал сотник, помогая подняться мужику. Мужик охал, ощупывая разбитое лицо.
— Княгиню благодари, — напомнили из толпы.
— Спасибо, матушка, — униженно улыбаясь окровавленным ртом, поклонился мужик Марии. — Не желал я худа княжичу — досточка, вишь ты, преломилась…
— Ступай, ступай, — поморщилась княгиня.
Толпа редела помаленьку, скоро все разошлись. Снова на лесах и во дворе закипела работа.
Еще ярилось солнышко над Владимиром, но все гуще шли по небу, опускаясь все ниже и ниже, пузатые, словно лодии со вздутыми ветрилами [184], белые облака.
4
Вокруг возка быстро сгущались желтые сумерки. Не плыл с еще теплой, как живое тело, земли привычный шорох хлебов, не разрывали воздух грачиные крики, не курлыкали в поднебесье косяки отлетающих к югу журавлей…
В лощине, над извивающейся в осоке Лыбедью, загустел туман. Лошади, сбившись с пути, воротили на сторону — возок опасно качнулся на разбитом мостике, вильнул передним колесом и едва не свалился в воду.
— Поглядывай! — крикнула Досифея сгорбившемуся верхом на переднем коне мужику.
Разбежавшись за рекой, рысаки лихо взяли покатый пригорок, вынырнули из тумана. Темнело. Слева, донесенный легко подувшим ветерком, послышался слитный лесной шум…
Забившись в угол, Досифея сидела в возке молча, туго прикрыв веки. Притихшая Пелагея боялась побеспокоить игуменью.
На лесной неровной дороге колеса часто запрыгали на корневищах — Досифея очнулась.
— Эко темень какая, — сказала она, потянувшись из возка.
В лесу было влажно, пахло прелым листом и грибами. По сторонам от дороги плотно стояли сосны и ели, тяжелый лапник однотонно шуршал по кожаному пологу.
Возвращалась игуменья в свой монастырь, навсегда оставив во Владимире надежду вернуть себе прежнее расположение капризной княгини. Так и не состоялось у нее степенной беседы с Марией, так и уехала она с княжого двора без пожалованной грамоты на облюбованные за Клязьмой пожни…
Перебирая в темноте положенные на колени деревянные четки, Пелагея вздыхала, прислушиваясь к неровному бормотанию игуменьи, но слова мешались со скрипом и стуком колес, с шорохами леса и топотом резво бегущих коней.
— Стой! Осади! — послышался на дороге незнакомый голос. Топот стих, возок дернулся и встал. Мужик-ездовой тихо переговаривался с кем-то.
Игуменья приподнялась, опершись на посох, вся обратилась в слух. Не вытерпев, позвала в темноту:
— Эй, кто там? Слышь-ко!..
Голоса смолкли. Покряхтывая, возница спустился с коня, вразвалку приблизился к возку:
— Звала, матушка?
— Почто встали?
— Ратай [185] тут встретился, знакомый мужичок… Остерегает: езжайте, мол, да по сторонам поглядывайте.
— Экой оглядчивой, — пробормотала игуменья. — Не мой ли ратай.
— Твой, матушка.
— Кликни.
Подошел ратай, высокого роста, весь крепкий и нескладный, как вывороченный из земли дубовый комель. Задержался на почтительном расстоянии от возка, привычным движением руки сдернул с головы шапку.
— Тута я, матушка.
— Что же ты, холоп, коней моих среди лесу остановил?
— Прости, коли побеспокоил, — тихо отвечал мужик, робея перед игуменьей. — Но дальше дорога тебе опасна.
— Аль загрезилось что? — чувствуя скрытую в словах ратая тревогу, понизила голос Досифея.
— Кабы загрезилось, а то сам зрил…
— Кого зрил-то?
— Лихого человека, матушка, зрил. Рыскает он тут поблизости на коне, никак, высматривает. А что высматривает-то?.. Одна наша обитель на стороне. В ино место дороги нет.
— Эк присмирел ты, что волк под рогатиной, — сказала игуменья. — Поджал хвост, а о том не подумал, отколь у шатучего татя быть коню. Князев это гонец припозднился, кому еще быть?
Едва услышала Пелагея про шатучего татя, все позвоночки у нее страх пересчитал.
— Поостереглась бы ты, матушка, — дернула она игуменью за рясу. — А что, как правду говорит ратай?
— Почто же не правду-то? — обиделся мужик. — Я и в лицо его признал. Давеча на Лыбеди унес он у боярышни Конобеевой колечко. Все его признали, хошь, у ратайного старосты спроси.
— Кто же он?
— Да Однооков бывший конюший.
— Вобей?
— Он. Вот так, как пред тобою, стоял я пред его конем, матушка. Так что поостерегись, а не то ворочайся во Владимир. Не ровен час, хватишь лиха… Мне-то чо, у меня окромя обереги да креста медного и нет ничего.
Больше половины пути проехала игуменья до своей обители, возвращаться ей не хотелось.
— Ты, мужик, пошарь-ко вокруг себя, возьми шелепугу поувесистей да прыгай на задок возка, — сказала она ратаю. — А ежели что, так бей без разбору, бог тебя простит.
Мужик неохотно выполнил приказание, вскарабкался на покачнувшийся возок. Тронулись.
Ближе к ночи становилось все прохладнее. Но не от одного только холода бил игуменью мелкий озноб. «Беда к беде приходит», — думала она, творя спасительную молитву:
— Пронеси, господи…
Пронесло. Услышал ее мольбу господь. Не встретили они на пути Вобея. У монастырских ворот ратай облегченно спрыгнул с возка.
— С приездом тебя, — сказала выглянувшая в окошечко баба и распахнула створы ворот.
Лошади въехали в обитель, остановились посреди темного двора. Вновь обретя гордую осанку, Досифея вышла из возка. Пелагея нырнула ей под руку, бережно повела игуменью по всходу.
— Вот приступочка, а здесь другая, — приговаривала она. Отяжелела Досифея. Хоть и старалась держаться с достоинством и слабости своей не показывать, но пережитый в лесу страх не прошел даром. Едва войдя в келью, она обессиленно опустилась на лавку, застланную жесткой сукманицей.
— Вздуй огонь-то, — тихим голосом сказала она чернице.
Пелагея проворно запалила от лампадки, горевшей под образами, лучину, поднесла к оплывшей свече на столе.
— Дома, — облегченно вздохнула игуменья. Осенила себя размашистым крестом, стала на колени перед иконами, смиренно сотворила молитву.
— Оберегла нас святая богородица, — сказала она стоявшей чуть позади коленопреклоненной Пелагее.
— Все истинно, матушка, — дрожащим голоском вторила угодливая монахиня.
— Не вовсе отвернулась от нас, грешных…
— Не вовсе…
— Образумит и княгинюшку она…
— Как не образумить, матушка! Истинно образумит.
— Злые-то люди, знать, меня пред нею оговорили, — бормотала Досифея, — а она, душа ангельская, их и послушала. Совсем было пообвяла я, а нынче верую: спасла нас от татя богородица и впредь не оставит своею милостью. Да куды ж податься княгинюшке, окромя нас? Где сыщет истинную благодать, где грехи отмолит, где душу облегчит от неправды, творимой в миру, и козней алчущих княжеской ласки?..
— Все так и сбудется, матушка. Не печалуйся и сердца своего не надрывай, — шептала ей в затылок Пелагея.
«А что есть благодать истинная? — думала она, крестя лоб и кладя согласно уставу, положенные поклоны. — И только ли за смирение вознаграждает господь?»
Ожидая игуменью в возке возле строящегося собора, увидела она в толпе, спешащей к торгу, бывшую сестру Феодору. Не презрением, а ревностью и завистью лютой наполнилось ее сердце.
Шла Феодора походкой легкой, плыла, словно лебедушка, по бревенчатой мостовой. Лицо у нее белое, нарумяненное, бровки подведены, в ушах — блестящие сережки, на руках — серебряные браслеты. И одета она не как-нибудь, а в шелковую золотистую рубаху, на ногах — сапожки сафьяновые. И мальчонка рядышком семенит, несет украшенную резьбой шкатулку.
Не утерпела Пелагея, выпрыгнула из возка, окликнула Феодору. Не смутилась бывшая черница, не стала прятаться в толпе, приблизилась с улыбкой.
— Не Феодора я нынче, а Малкой меня зовут. И не монашка я, а жена дружинника. Ты-то почто, Пелагея, в городе обитаешься?
— С игуменьей на княж двор. А княгиня на соборе бдит, вот сюды и направились.
Представила себя Пелагея рядом с Малкой — и устыдилась своей старенькой рясы и грязных лапотков. Много скопила она всякого добра, а на что оно ей, ежели не может она вот так же, как Малка, пройтись по мостовой, не таясь прохожих?..
Стала выпытывать Пелагея Малку, где живет да как поживает.
— Изба у нас во Владимире не хуже прочих. Веселица в походе со Всеволодом, а я по повелению княгини приехала из Переяславля.
— Расцвела ты в миру, Малка, сразу тебя и не узнать.
— Душою кривить не стану: не по нутру мне было монастырское житье. Пришла я в обитель благодати искать, мечтала, разуверившись в людях, посвятить себя богу. Но не боговы дела творятся за вашими стенами, Пелагея, а, как и всюду, корысть процветает и лютая вражда.
— Не хули дом, в коем приняли тебя, как овцу заблудшую, накормили и приласкали, смертью не дали помереть…
— А ежели и померла бы я, так, может быть, и того лучше, — сказала Малка, которой вовсе не хотелось ворошить прошлого. — Когда бы не Веселица, да не его беда, да не любовь, и я бы погрязла, как прочие, во лжи и своекорыстии.
Вздрогнула Пелагея, поняла, в чей огород бросает Малка камешки, — побледнела, зубы стиснула от ненависти.
— Вот кого пригревала Досифея на своей груди, — сказала она, покачав головой.
— А уж кого пригрела, про то и не сказывай, — улыбнулась Малка. — Тебе ли жаловаться, тебе ли не молиться за игуменью. Не забыла я козни твои, Пелагея. Ну да бог тебя простит, а мне разговорами тешиться недосуг.
И ушла, и уплыла, как павушка, и мальчонка следом за нею засеменил, прижимая к груди шкатулку. «Поди, обруч новый купила али ожерелье», — провожая ее взглядом, с завистью подумала Пелагея…
— Ты куда это мыслями отлетела? — донесся до нее недовольный голос игуменьи.
Пелагея вздрогнула — светлое видение исчезло, вокруг были все те же невзрачные бревенчатые стены, на столе потрескивал огарок свечи. Перестав молиться, игуменья прилегла на сукманицу, опираясь на локоть, смотрела на монашку с подозрением.
— Помоги-ко рясу снять…
Пелагея проворно разоболокла игуменью, поцеловала ей руку.
— Бог с тобою, — перекрестила ее Досифея.
Черница тихо вышла из кельи, прикрыв за собою дверь.
Глава десятая
1
Верную весть принесли вездесущие гонцы — скоро вернулось из Смоленска Всеволодово войско. Радость была во Владимире неизреченная: никого не порубили в сече, никого не угнали в полон. Встретились мужья с женами, отцы с детьми, сыновья с родителями.
Мудр был князь, зря крови не проливал, на бога не надеялся, но и выгоды своей не упускал.
Все остались довольны: Чернигова Всеволод не опустошил, перепугавшийся было Роман снова утвердился, как и прежде, не боясь соседей, на своей Волыни, Владимир остался твердо сидеть в Галиче, один только Рюрик бесновался.
«Сват! — писал он Всеволоду в грамоте. — Ты клялся: кто мне враг, тот и тебе враг. Просил ты у меня части в Русской земле, и я дал тебе волость лучшую не от изобилья, но отнявши у братьи своей и у зятя своего Романа; Роман после этого стал моим врагом не из-за кого другого, как только из-за тебя, ты обещал сесть на коня и помочь мне, но перевел все лето, а теперь и сел на коня, но как помог? Сам помирился, заключил договор, какой хотел, а мое дело с Романом оставил на волю черниговского князя; он будет нас с ним рядить? А из-за кого же все дело-то стало? Для чего я тебя и на коня-то посадил? От Ольговичей мне какая обида была? Они подо мною Киев не искали. Для твоего добра я был с ними недобр, и воевал, и волость свою пожег. Ничего ты не исполнил, о чем уговаривался, на чем мне крест целовал».
Прочитав сердитую грамоту Рюрика, Всеволод отложил ее и спокойно предался каждодневным делам. Был киевский князь ему неопасен, вести из Новгорода куда боле занимали его.
Но Мартирий послов не слал, ничего не знал и Мирошка Нездинич.
А ранняя осень широко шла по Руси. Уже миновали михайловские утренники, обметала похолодевшие травы глубокая роса. На опавшую с дерев багряную листву посыпались частые дождички. По лесам бродили сонные медведи, готовились залечь в берлоги, искали укромные места.
Короче стали дни, длиннее вечера. Призвав Четку, подолгу сиживал Всеволод с сыновьями, слушал, как читали они книги, привезенные в подарок от Давыда.
Со смоленским князем беды не вышло, серчать на Всеволода у него не было причины. А чтобы еще крепче привязать его к себе, надумал Всеволод женить Константина на дочери Мстислава Романовича, Давыдовой племяннице, Агафье.
Узнав об этом, Мария огорчилась, испугалась и за Юрия: уж не уготовил ли он и ее любимцу такую же участь?..
— Куды ему жениться, — сказал Всеволод, — он и сам что твоя девица.
Вернувшийся из похода Константин вытянулся еще больше, раздался в плечах. Хоть и было ему всего одиннадцать лет, но выглядел он намного старше.
Увидев его на коне въезжающим в детинец, игравший с дворовыми ребятишками Юрий оробел:
— Ты ли это, брате?
Кинулся к нему, стал ощупывать на Константине кольчужку, примерился к мечу. Похвастался:
— А у меня дедов меч висит в ложнице.
— Будет щупать-то меня, — отстранился от него Константин. — Эко невидаль — меч. Погляди, как я из лука стрелы мечу.
Семижильной тетивы поданного отроком лука Юрий не смог отжать.
— Чем тебя только матушка кормила, — посмеялся над братом Константин.
Поднял лук к плечу, вложил стрелу и метнул ее в резной конек теремного дворца. Вонзилась стрела в хвост деревянному петуху да так там и осталась.
— Сильной ты, — с завистью проговорил Юрий.
— Ты чему брата учишь? — напала на Константина появившаяся на крыльце Мария.
— Здравствуй, матушка! — кинулся к ней Константин, обнял ее. Мария расплакалась. Отстранив сына, придирчиво разглядывала его лицо.
— Черной ты стал, — пожаловалась она. — Сразу-то и не узнать.
— Солнышко это, матушка, — отвечал Константин.
— А ликом весь в отца. И глаза те ж. И голос…
Константину понравились ее слова. На отца походить он и сам хотел, во всем подражал ему. Но зачем же плакать и обнимать его у всех на виду?!
Постарела Мария. Коротка вроде была разлука, а новые морщинки легли в уголках ее губ.
Заметил перемену и Всеволод. Кольнуло в сердце, подумалось: вона как убивалась, скучала по мне. Но нежности он не испытал, былого влечения не почувствовал. Обнял жену сухо, поцеловал, как покойницу, в лоб. Целуя, замер на мгновение, вдруг представив совсем другое лицо. «Да что же это?» — удивился он. Любовь, дочь Василька витебского, не выходила у него из головы.
Девочка она совсем была, Константину под стать. А что поразило в ней Всеволода, почему вдруг вспомнилось Заборье?
Не юностью ли повеяло на него, не ту ли охоту вспомнил он, когда обнимал в Заборье боярышню Евпраксию? Годы ушли, а сладости первой близости в сердце не истребить. Отсеялось многое, кануло в небытие, протянулись через долгую жизнь короткие и длинные дороги. Осыпала голову седина, изловчился ум, а сердце молодо, как и прежде. И живости в глазах его не убыло, и руки были сильны, и губы тосковали по незнаемой ласке.
Да полно, разве мало красавиц встречал он на своем пути, разве не дарили они его щедро всем, чего бы он только ни пожелал?! Но ни одна не взволновала его дольше, чем на день, чем на одну походную ночь. И был он верен Марии, и из любого самого дальнего далека спешил, погоняя коня, чтобы ткнуться лицом в ее трепетные колени.
Сидя в тереме у Давыда, наблюдал он за молодой княжной, и однажды вдруг почудилось ему: вошел Константин с воли, стремительный, стройный, а в глазах необычный блеск — неспроста это, неспроста… Ущемила старого князя ревность, позавидовал он сыну, что вся жизнь у него впереди. А его, Всеволодов, буйный пир отшумит скоро, и свезет его Константин, как сам он свез Михалку, брата своего, на красных санях к Успенскому собору…
Вечером кликнул он сына через Веселицу и так сказал ему:
— Женить тебя пора, сыне.
— Да что ты, батюшка? — удивился Константин, но радость его не ускользнула от внимательного взгляда отца.
Нет, не зря ущемила Всеволода ревность, понял он, отчего глядела на Константина, не отрываясь, молодая княжна.
Но не с малым витебским князем хотел он породниться, совсем другое было у Всеволода на уме. И сник Константин, заюлил перед отцом, краснея, как непорочная девица.
— Давыдову племянницу Агафью даю тебе в жены, сыне, — сказал Всеволод. — И с князем смоленским били уж мы по рукам.
— Воля твоя, батюшка, — с безысходной покорностью отвечал Константин.
Ни себя, ни детей своих не жалел Всеволод ради задуманного (Давыдова дружба была ему нужна, чтобы держать в повиновении Чернигов), но не покривил ли он на сей раз душою? Ведь и Юрия мог бы он пообещать Мстиславне в мужья…
Не знал он, да и откуда было ему знать, каким горьким было расставание Константина с Любовью Васильковной.
Последний раз сидели они, обнявшись, над Днепром, последние говорили друг другу слова и не ведали ничего о том, что пройдет не так уж и много лет, как встретятся они снова — и не где-нибудь, а во Владимире, в княжеском терему, куда войдет она новой хозяйкой. По извилистым дорогам жизни пройдет Любовь Васильковна, и сам епископ Иоанн обвенчает ее в соборе Успения божьей матери с овдовевшим Всеволодом.
Ушла княжна по отлогому бережку, и, когда светлая понева [186] ее скрылась среди деревьев, Константин упал лицом на мокрую от росы траву и горько заплакал.
Первые это были его мужские слезы, с годами высохнут его глаза, станут холоднее и зорче. А покуда сердце у княжича мягкое, первая боль проводит по нему свою борозду.
Угрюмее стал Константин, на обратном пути не тешил себя охотой, Веселицу поругивал без нужды, Четке перечил, а иногда дерзил и самому Всеволоду.
Князь видел причину его невзгод, а потому не досаждал попусту, да и Веселице велел не липнуть к Константину, Четку же и сам при случае наказывал за излишнюю радивость:
— Учение хорошо ко времени, а без нужды ко княжичу с псалтирью не лезь.
С горя и от безделья запил Четка в пути. Все чаще и чаще стал он исчезать из шатра, болтался с простыми воями в головном отряде, а иногда торчал в обозе — с хлебосольными сокалчими и сердобольными бабами.
Затосковал Четка по Варваре, напившись, придирался к обозникам.
Ближе к Москве разгулялось все Всеволодово воинство, а как перебрались через Клязьму, стали мужики расходиться по родным деревням. Во Владимир вступала княжеская дружина да еще те, кому предстояло добираться лодиями до Гороховца.
Избаловались смерды в походе, попривыкли к безделью. Благо, жатва к тому времени кончилась, остались только бабам работы. И верно, пировали бы мужики еще, но на худых домашних хлебах не напируешься — затянули они потуже пояски и отправились в овины молотить для боярских закромов не густо уродившуюся в нонешнем году рожь. Прикидывали, что себе останется, а себе-то ничего и не оставалось.
Вот так попировали мужики — тяжелым будет зимнее похмелье…
2
Едва пришел из похода, первым делом наведался Звездан в Конобеев терем. Не один, а со Словишей — одного-то его боярин к себе и на порог бы не пустил.
Пока ходили в Смоленск, пока из Смоленска возвращались, времени для разговоров у дружинников было много. Обо всем рассказал Словише Звездан, не позабыл помянуть и о давнишней вражде между Конобеем и Однооком.
Словиша призадумался:
— Да, нелегко будет к Конобею свататься. Не отдаст он за тебя свою дочь. А еще слышал я, будто подыскал он ей другого жениха.
— О другом женихе и говорить не смей, — горячо оборвал его Звездан. — Ежели ты мне друг, то справишь все, как надо.
— Боюсь, без Кузьмы Ратьшича не справить.
— Ну так кликни Кузьму.
— Дел у него других нет?.. Ладно, пойдем к Конобею, — согласился Словиша, — а там как бог даст.
Возле самого Конобеева терема оробел Звездан: а что, как и не вспомнит про него Олисава, что, как и свататься ни к чему? Посидели они на берегу Лыбеди, помиловались, а сколько ден с той поры прошло! Девичье сердце обманчиво. Может ведь и такое статься, что прикипело оно к другому, и не станет Конобей со Словишей пустые разговоры заводить.
— Э, нет, — сказал Словиша, увидев нерешительность друга, — не для того я отказался у Морхини меды пить, чтобы назад поворачивать. Неробкую душу вложил в меня бог, а ежели ты сробел, то в разговоры наши встревать не смей.
Сказал так и едва не за руку втащил Звездана в Конобеев терем.
Боярин не ждал гостей, столов не накрывал, расположился на лавке под образами по-домашнему.
— Гляди-ко, боярин, кого бог к нам прислал, — сказала ключница, впуская в горницу Словишу со Звезданом.
Вошли дружинники шумно, приветствовали хозяина вежливыми поклонами. Словиша сказал:
— С Кузьмою наладились быть у тебя, боярин, да кликнул его князь по срочному делу.
— У Кузьмы все дела срочные, — отвечал, вставая с лавки, Конобей. — Спасибо и на том, что не забывает, поклоны шлет. Проходите, гости желанные, садитесь, будьте, как дома.
— Гостеприимен терем твой, боярин, — подольстил Конобею Словиша. — Счастливы обитающие в нем.
— Да как же хорошим людям не угодить! — в тон ему отвечал, стараясь казаться спокойным, Конобей.
— Ворота твои для всех настежь открыты, — продолжал Словиша. — Хлебосольно ты живешь, боярин, богоугодно.
— Про бога не забываем, — кивнул совсем растроганный Конобей, — князю нашему возносим молитвы; что можем, монастырям и убогим даруем…
— А не побеспокоили мы тебя, боярин, в столь ранний час?
— Дорогой гость всегда ко времени, — отвечал Конобей. Но про себя думал: «А неспроста пожаловали дружиннички. В глазах у Словиши бесы прыгают, Звездан сидит сам не свой».
Вышел за дверь боярин, зашумел на дворню:
— Куды глядите, окаянные, гости дорогие у меня, а вы и не чешетесь!
Засуетились слуги в терему, во дворе поднялись суета и гам. Живо вздували сокалчие огонь, бабы застучали ножами.
— Зря переполох ты поднял, боярин, — сказал Словиша, когда возвратился Конобей. — Не меды пить мы к тебе пришли, а по делу.
— Гумно красно копнами, обед пирогами, — ответил Конобей. — А уж коли пожаловали вы ко мне в гости, то я здесь хозяин и трезвыми да голодными вас от себя не отпущу…
— Позволь тогда наперед слово молвить, — продолжал Словиша, не давая боярину опомниться. — Может, и повернешь ты нас со своего двора, когда выслушаешь.
— Какое дело, сказывай, да долгими присказками не томи.
— А дело наше без присказки никуды. Пришел я сватать твою Олисаву.
Кровь отхлынула у боярина от лица, без сил опустился он на лавку.
— Да где же твой жених-то, Словиша?
— А пред тобою сидит.
— Никак, сам надумал? — с надеждой спросил Конобей.
— Куды мне! — усмехнулся Словиша.
Боярин перевел помутневшие глаза на Звездана.
— Уж не он ли жених?
— Догадлив ты, боярин. Погляди каков, али дочери твоей не пара?..
Врасплох захватил Словиша боярина, одуматься ему сроку не дал. Был настороже Конобей, ко всякому приготовился, но такого и в уме не держал. В крепкое нерето угодил боярин. Веревочку к веревочке связал Словиша, некуда деться Конобею.
— Порадовал ты меня, Словиша, что сам свататься пришел, — осторожно начал боярин. — Звездан мне люб, да доченька еще мала. Вот и подумал я, а не повременить ли нам?
— Не прибедняйся, боярин. Доченька у тебя умнешенька, прядет тонешенько, белит белешенько. В самый раз ей замуж, ежели в девках не хочет остаться.
— Куды такие речи говоришь ты, Словиша! — замахал руками Конобей. — Да нечто Олисава моя в девках засидится?!
— Вижу, боярин, жених мой тебе не по нраву, — хлопнул себя по колену Словиша и встал, чтобы с хозяином распрощаться. — Коли не срядились, не моя вина. Так и скажу я Кузьме, чтобы попусту к тебе больше не наведывался…
— Постой, постой-ко, — остановил его Конобей. — Это что еще такое ты про Кузьму сказываешь?
— А то и сказываю, что ежели бы не кликнул к себе Кузьму князь, то нынче не я, а он был бы у тебя в сватах…
Круто повернул Словиша, теперь еще труднее будет выпутаться боярину. Сморщил Конобей лоб, задумался.
— Ну так как? — спросил Словиша. — Идти нам восвояси с твоего двора али сговариваться будем?
— Сговориться долго ли, да с Однооком была ли у вас беседа? — ухватился за последнюю надежду Конобей.
— Экой ты, боярин, — упрекнул его Словиша, — да нешто мы Одноока обойдем?
— Вот и разговор иной, с него бы ты, сват, и начинал беседу, — поуспокоился Конобей.
— Смекай, что к чему, — сказал Словиша. — Все бы тебе разжевать… Небось не за худого мужичонку отдаешь дочь. В чести будешь, ко князю приблизишься.
— Да велика ли птица Звездан у князя? — усомнился боярин, пытливо поглядывая на сидящего рядом смущенного жениха.
Привычный для него пошел разговор. Смекал Конобей, зря попрекнул его Словиша. Оттого и тянул, что смекал. Как бы не прогадать, как бы и на сей раз не обманул его прижимистый Одноок. Деревеньку вон к своей землице прирезал… Эх, ма, а не затребовать ли ее назад, а не наложить ли руки и на Потяжницы? То-то взвоет боярин!..
Повеселел Конобей, даже по плечу похлопал Звездана. Словиша сказал:
— Звездан шибко грамоте разумеет. У Всеволода он на примете. Простого дружинника не послал бы князь в Новгород ко владыке Мартирию с речьми.
Брат братом, сват сватом, а куны не родня. Хорошо знал эту мудрую присказку Конобей.
Обрадовался Звездан, чувствуя, как сдается боярин. Во всяком нелегком деле видывал он своего друга, но и не догадывался, что может быть он таким ловким и изворотливым.
— Ну вот что, дорогой сватюшко, — мягко сказал Конобей, — супротив Звездана нет у меня ничего. Отдам я за него Олисаву, ежели Одноок не воспротивится. А с Однооком будет у нас разговор особь…
Полдела было сделано. За доброе начало не грех и чарочку пропустить. Выпили, закусили, распрощались с боярином ласково, выехали со двора.
— Спасибо тебе, Словиша! — стал горячо благодарить друга своего Звездан. — Без тебя бы мне пропадать.
— Ишшо не спеши радоваться, — охладил его Словиша. — То, что меды у боярина пили, — не сватовство. Настоящих-то сватов зашлем, как столкуемся с Однооком.
— А как заупрямится?
— И такое может быть. Малого Конобей за дочь свою не запросит… Приметил ли, как загорелись у боярина глаза?
— Радуется…
— А чему радуется-то? Оба они хитрые пауки — что Конобей, что твой батюшка. До крови будут драться за каждую ногату. Свой расчет у Конобея. Вот и радуется, что тебе мочи нет, что не слезешь ты с Одноока. А коли так, придется твоему батюшке за радость сыновнюю раскошелиться.
— Да с Одноока и дырявого армяка не взять! — воскликнул Звездан.
— То-то и оно, — отвечал Словиша. — И потому ни тебе, ни мне ехать к нему не след. Без Кузьмы Ратьшича нам в таком деле не обойтись.
— А что же Кузьма?
— Кузьма свое дело знает, — улыбнулся Словиша.
Загадками отвечал дружинник, говорил, а всего не договаривал.
— Ладно уж, — сказал Словиша, видя, что Звездан обиделся на него. — Должок за твоим батюшкой давнишний водится…
— Ратьшичу, что ль, задолжал?
— Самому князю. Провинился он перед Всеволодом, как снаряжал дружину в поход. А у Ратьшича любая провинность на заметке.
Дальше распространяться о своей задумке Словиша не хотел. Но задумка была верная. Только бы не уперся Кузьма.
3
— Садитесь-ко да все толком сказывайте, — оборвал сбивчивую речь Словиши Кузьма.
Был он в простой белой рубахе ниже колен, в чоботах на босу ногу. Лицо гладкое. И хоть хочет казаться строгим Кузьма, но смеющиеся глаза все равно выдают хорошее настроение.
В добрую пору попали дружинники на двор к Ратьшичу. Он и впрямь был с утра у Всеволода, и князь пожаловал ему за верную службу свою гривну на золотой цепи.
Так и снял при всех в трапезной со своей шеи и повесил на шею Кузьме, чем немало раздосадовал присутствовавших при этом прочих близких своих бояр.
— Не знаю, чем и заслужил я твою ласку, княже, — растроганный неожиданным подарком, сказал Кузьма.
— Чем заслужил, про то я знаю, — ответил Всеволод. — Но помни: награда сия не токмо за прежние твои труды…
— Али в верности моей сомневаешься, княже?
— Сомневался бы — сам гривну носил.
Зароптали бояре, поглядели на Ратьшича с завистью. Тогда широко расщедрился князь.
— Всех жалую, всех, — сказал он и стал дарить кому что досталось: одному перстень, другому шубу, третьему соболью дорогую шапку. Никого не обошел Всеволод, чтобы не ссорить между собой близких людей.
— Хоть и не привезли мы с собой богатой добычи, — приговаривал он, наделяя дарами бояр, — не на половцев ходили, в сече лютой голов не ложили, а и без крови достали большего.
Про Новгород сказывал князь, но не всем это было вдомек. Один только Ратьшич и понимал Всеволода — за то и красовался он среди прочих с княжеской гривной на шее, за то и лобызал его Всеволод при всех в уста. И еще такое сказал Кузьме:
— Что-то не вижу я среди гостей Словиши со Звезданом. А они верные мои слуги. Передай им, Кузьма, слово мое ласковое и два перстенька: один, золотой, — Словише, а другой, серебряный, — Звездану. Справно выполнили они мой наказ, справно службу несут княжескую…
И снова ничего не поняли ближние бояре, и снова смекнул один Ратьшич, за что благодарит дружинников князь. Это они привезли Всеволоду добрую весть из Чернигова, и желаннее той не было уж давно.
Вот отчего радовался Кузьма, вот отчего посмеивался, глядя, как смущаются, сидя перед ним на лавке, Словиша со Звезданом.
Начал было Словиша сказывать ему про Одноока, но Ратьшич оборвал его:
— Перво-наперво я вас подарочком порадую.
И протянул обоим на раскрытых ладонях перстеньки.
— Да за что же нам такая честь — княжеское отличие? — удивился Словиша.
— А за то, что сами вы храбрые, а кони у вас добрые. За то, что не задержали, в срок привезли Всеволоду весточку от черниговского князя.
— Дорог подарок, да дело пустое, — сказал смущенный Словиша. — Мало ли разных грамоток возили мы князю!..
— То грамотка особая.
Еще раз поблагодарили Ратьшича дружинники, примерили перстеньки — в самый раз — и приступили к главному.
Пока Словиша рассказывал, со Звездана пять потов сошло.
— Так это ты женихаться надумал? — с усмешкой спросил молодого дружинника Кузьма.
— Я… — с трудом проглотил тугой комок, застрявший в горле, Звездан.
— Сноровистый ты, — сказал Кузьма, — ну, ежели свадьбу играть надумали, то самое время к Покрову…
— Вот-вот, — поддержал Словиша. — Оно и в самый раз. Да только кто толковать станет с Однооком?
— С того бы и начинал, — понятливо улыбнулся Кузьма. — Эй, кто там!
На клич появился отрок.
— Живо неси опашень, да понаряднее! — распорядился Ратьшич. — Да шапку лисью, да меч, да сапоги.
Принарядился Кузьма — его и не узнать. Только что сидел в рубахе — мужик мужиком, борода пегая, волосы всклокочены, а тут прошелся гребешком, покрасовался перед дружинниками — те и глаза открыли от изумления. Да еще только что подаренную золотую цепь повесил на шею. Приосанился, руку положил на перекрестье меча, грудь выгнул колесом — орел!
Вышли все вместе на крылечко, Кузьма сел на коня и велел ждать. Отъехал в сопровождении молодого мечника.
— В самый раз попали мы на Кузьму, — сказал Словиша Звездану. — Ишь какой он нынче игривой.
А Кузьма тем часом уже подъезжал к усадьбе Одноока. Боярин в медуше [187] был, когда он постучался в ворота.
— Кому там еще не терпится? — проворчал Одноок. Был он в плохом настроении: на одном из бочонков поослабли обручи, вылился мед, да еще конюший сунулся не ко времени, стал говорить о пропавшем атказе.
— Где пастухи-то? — свирепо тараща глаза, спросил Одноок.
— В порубе.
— Кой день уж хлебушко мой жуют не впрок, — сказал боярин. — Али у самого рука ослабла, али не нарезали батогов?..
— Тебя ждали, кормилец, — униженно пробормотал конюший.
— Я, что ль, буду коня искать? — набросился на него Одноок.
— Про Вобея мужики-то сказывают…
— Чо про Вобея-то, чо?
— Да будто он и увел коня…
— У меня и увел, аль других табунов ему мало? Что глаза вытаращил?.. Ты не гляди, ты живо поворачивайся — ежели не сыщешь коня, так и сам насидишься в порубе.
На том и прервал его властный стук в ворота.
— Кому там еще не терпится? — проворчал боярин и велел отворять.
— Батюшки! Да, никак, сам Кузьма у меня гость! — воскликнул он, преображая свое лицо: из мрачного оно вдруг сразу сделалось веселым и приветливым, а спина сама изогнулась, и руки сами потянулись к стремени.
— Вижу, не ждал ты меня, Одноок, и приехал я к тебе не ко времени, — сказал Кузьма, принимая услужливость хозяина как должное. «Пущай подержится за стремя, пущай берет коня под уздцы, — подумал он, глядя, как суетится Одноок. — Ишшо и не так он сейчас закрутится, как напомню ему о давешнем обмане».
— Да когда же не ко времени бываешь ты в наших домах, Кузьма, — говорил боярин, забегая перед Ратьшичем и заглядывая ему в лицо, — когда же не ко времени, ежели сидишь одесную [188] от князя и милость черпаешь из его рук?! Все мы твои верные слуги и помощники, и в теремах наших не мы, а ты всему хозяин.
— Вона куды хватил, боярин! — рассмеялся Кузьма. — Нешто и в твоем тереме я вольной господин?
— Истинно так, — не сморгнув глазом, отвечал Одноок.
— Значит, и ты мой слуга, и я волен брать в твоем терему все, что ни захочу?
— Бери все, но только брать у меня нечего. Неурожайный нынче выпал год, так в ларях у меня не сокровища, а мыши…
— И в скотницах золота нет?
— Откуда золото? Нет у меня ни золота, ни серебра, Кузьма, а все, что сказывают, так это просто наговор.
— Нешто и табунов у тебя нет?
— Да разве это табуны! Одни клячи…
— И земли нет?
— Худородная земля-то. Ту, что пожирнее, другие наперед меня вгородили в свое поле.
— Да как же живешь ты, Одноок, как же перебиваешься? — издевался над боярином Ратьшич.
— Так вот живу, так вот и перебиваюсь, — не замечая издевки, вздыхал и охал боярин. — Хоть бы князь меня призрел, — может, и встал бы на ноги… Слышь-ко, Кузьма…
— Ась?
— Что бы тебе словечко за меня перед Всеволодом замолвить?
— Эко чего захотел, боярин! Да как же я словечко за тебя замолвлю?
— А так вот и замолви…
— Да как же я словечко замолвлю, боярин, — продолжал Ратьшич, — коли ты у князя нынче в опале?
— Что ты сказываешь, Кузьма? — отшатнулся от него Одноок. — Да в какой же опале, ежели греха за собой не зрю?
— Грех великий на тебе, боярин, и скоро того греха не избыть. Аль забыл, как водил в поход хромых да слепых, как лучших коней оставлял в табуне, а сам предстал перед князем на клячах?!
— Было такое, грех такой был, — отступил Одноок от Ратьшича и потупил глаза.
— А знаешь ли, как гневался на тебя князь?
— Шибко?
— Ежели бы не моя заступа, ежели бы не пожалел я тебя, боярин, сурово наказал бы тебя Всеволод и на древность рода твоего глядеть бы не стал. Сам ведаешь, рука у князя тяжела — что сделает, о том потом не жалеет… Пропал бы ты, Одноок. А за что? За коней, коих нет у тебя, да за холопов, коим и в хорошие-то дни красная цена — ногата?
— Нешто и впрямь пропал бы?
— Пропал бы. А ежели нынче напомню князю, то и нынче пропадешь!
Страшно сказал Кузьма, поглядел в глаза обмякшего Одноока ледяным взглядом.
Вот и весь разговор. Стал боярин унижаться и заискивать перед Ратьшичем. Кузьма молчал.
— Да скажи хоть словечко, Кузьма, отпусти душу…
— Куды же душу-то твою отпустить? Уж не в монастырь ли собрался, Одноок?
— Можа, и в монастырь… Шибко напугал ты меня, спасу нет. Отпишу земли князю, а сам — в монастырь.
В самый раз дошел боярин. Набрался страху, к балясине [189] прислонился, ногами потрухивает — вот-вот упадет.
— Погоди в монастырь-то спешить, — сказал Ратьшич, поддерживая Одноока под локоток, — сына сперва жени.
— Куды там сына женить! — понемногу приходя в себя, осмысленно поглядел Одноок на Ратьшича. — Кабы невеста была, да кабы срок приспел…
— Невеста сыскалась, а срок давно приспел…
— Ты про что это речи завел? — уже совсем придя в себя, подозрительно оборвал Ратьшича боярин. — Ты куды это поворотил?
— А туды и поворотил, что на Покрова свадьбы на Руси играют. — Аль слышишь впервой?
— Слышу-то не впервой, сам женился на Покрова, да что-то по-чудному ты про Звездана заговорил…
— Нешто сам, боярин, не знал?
— А отколь мне знать? Сын к Словише ушел, со мною не знается…
— Что же не спросишь ты меня, Одноок, кого выбрал Звездан в невесты? — удивился Ратьшич.
— А кого ни выбрал, дело его.
— Не отец разве ты ему?
— Отец-то отец, да он ко мне спиною поворотился. Бродяжничает, живет себе в охотку…
— У князя на службе Звездан, — насупил брови Ратьшич. — И говорить про него так, боярин, не смей. Нынче жаловал ему Всеволод серебряный перстенек со своей руки.
— Вижу, Кузьма, он и твоим любимцем стал, — прищурился Одноок.
— Того не скрываю. А тебе так скажу: весь ты, Одноок, от головы до пят в моей полной воле. И потому исполнишь все, как сказано будет.
Сурово говорил Ратьшич, лазейки для боярина не оставлял. Одноок сразу это почувствовал и снова сошел с лица.
— Сватай сына за Олисаву, Конобееву дочь, — продолжал Кузьма.
— Да что ты! — со страхом перебил его Одноок. — Как же я его за Олисаву-то посватаю, ежели с Конобеем мы лютые враги?
— Сватай сына за Олисаву, — повторил Кузьма, не слушая боярина, — и сговаривайся с ним по обычаю. И чтобы тихо и гладко у вас все было. Не то заступы моей за тебя перед князем не будет.
Ясней ясного сказал, сам обрадовался, как ладно получилось. От такого прямого указа пошатнулся Одноок, как от удара. Даже глаза закрыл, чтобы не так страшно было.
— Смею ли возразить тебе, Кузьма? — сказал он наконец, обретая голос.
— И не смей! — оборвал его Ратьшич, повернулся и пошел к коню.
— А как же в гости? — запоздало всполошился боярин, подскочил, снова придержал Кузьме стремя.
— В гости после наведаюсь, а покуда — бди.
В тяжелом расстройстве оставил Ратьшич боярина, крепкую загадал ему загадку. Пусть думает. А договора порушить он не посмеет, нет.
Мог ли подумать Конобей, что не пустые слова говорил ему Словиша про Одноока, что и впрямь приедет на его двор скупой боярин, что унижаться будет и просить — забери, мол, то, что не мое, что вымогал неправо, и Потяжницы возьми: все равно деревенька на отшибе, никакого от нее проку.
Конобей цену себе набивал, с ответом не поспешал, Олисавы не отдавал, но и не отказывал.
— Не порогом мы поперек тебе встали — есть и получше нас, боярин, — говорил он, радуясь, что может досадить Однооку.
Одноок потел, рукавом опашня осушал мокрый лоб, едва сдерживался, боясь прогневиться.
— Дело не наше, сосед, а молодое. Что получше, а что похуже, не про нас с тобой сказано. Звездан один у меня сын, одна дочь у тебя Олисава.
— Кабы не одна дочь, так я бы и рядиться с тобою не стал, боярин. Преступаю обиду свою, попреками тебе не досаждаю, а разговор вести хочу несуетный, не как на торгу, а по-родственному…
— Да где уж по-родственному-то, где уж, как не на торгу, ежели будущего свояка своего с сумою пустить вознамерился. За тобою приданое, сосед, а ты моей уступке не рад.
— О моем приданом речь впереди. Сговор у нас нонче — покуда не сватовство.
— Да что дале сговариваться-то, ежели я тебе весь свой прежний прибыток уступил?! Ежели и деревенькой не поскупился?! У нас нынче и орала, того гляди, совьются вместе…
— Э, нет, межа — дело святое. Без межи не вотчина, — возразил Конобей, покачивая головой. — Куды какой ласковый разговор повел ты, боярин. Но только словам твоим веры у меня нет.
— А коли веры нет, так почто речь?
— А по то и речь. Ловко ты тогда обвел меня, боярин, — теперь моим же добром торгуешь?
— Нет креста на тебе, сосед! А Потяжницы?
— Потяжницы испокон дедам моим принадлежали…
— Это отколь же ты взял, где же выискал?
— А вот там и выискал. В долговой книге у посадника древняя запись есть, как отец твой у моего батюшки деревеньку-то взял да к своей землице и прирезал. Оттого Потяжницами и прозвали ее, что пять годов тягались из-за нее наши родители…
— Теперь смекаю я, сосед, почто не дает тебе деревенька спокою! — ударил себя ладонью по лбу Одноок.
— Вот и смекай, каково нам с тобою родниться…
— Кто старое помянет, тому глаз вон. Ежели будем мы с тобою на старом рядиться да счеты отцовы и дедовы сводить, так нам и не то, что к Покрову, а и на Сретенье не сговориться.
Снова потливо сделалось боярину, промокло исподнее под нарядным опашнем. Конобей сидел, оскорбляя гостя, в одной рубахе поверх просторных штанов, даже браги на стол не ставил, не то что лучших своих медов, положенных по исстари заведенному обычаю.
Одноок старался пренебрежения не замечать, помнил строгий наказ Кузьмы, изворачивался и вел разговор к концу. Конобей чувствовал это и тщился не упустить счастливого случая, о выгоде своей радел, но и переусердствовать побаивался. С него довольно было уж и того, что отдавал ему Потяжницы Одноок, так нет же, еще и унизить хотел он соседа, еще упрашивать себя заставил. Однако здравый рассудок переборол, и на условия Однооковы он наконец согласился.
— Хорошо, уговорил ты меня, сосед. Бьем по рукам, не то?
— По рукам-то бьем, да еще заминочка махонькая, — облегченно ответил Одноок.
— Какая еще заминочка-то? — насторожился Конобей.
— Такая и заминочка. То, что за Звезданом я даю, про то сговорено. А что ты дашь за Олисавой, о том речь впереди.
За радостью своей совсем упустил Конобей из виду дочернино приданое. Посмурел он, заныло у него сердце в предчувствии беды.
Одноок уселся поудобнее на лавке, опашень снял, свернув, положил рядом, шапку бросил поверх.
— За тобою слово, сосед, — сказал он ласково, оглядывая Конобея, как волк овцу.
Теперь Конобею пришла пора попотеть. Вдруг вспомнил он и про положенное по такому случаю угощение, и про меды, и про обхожденье, и одежки своей устыдился.
Совсем по-хозяйски почувствовал себя в его трапезной Одноок. Восседая на почетном месте, куда проводил его словно из-под земли выросший дворский, пил не какую-нибудь кислую брагу, а подставлял чару под привезенные из Киева драгоценные вина, рыгал и вытирал жирные руки о скатерть рытого бархату с вышитыми серебром по малиновому полю орлами и диковинными зверушками.
Конобею жалко было сладких вин, сам он к ним и не притронулся, пробавляясь прохладным кваском, и, видя жирные пятна, оставленные на скатерти руками Одноока, убивался и прикидывал понесенный убыток. Но то ли еще предстояло ему впереди, то ли еще приготовил Одноок — не для того он извивался и унижался перед соседом, чтобы только насытить свое охочее до чужого угощения чрево!..
— Спасибо тебе за угощенье, сосед, — сказал Одноок, вытирая краем скатерти масляный рот, — а то подумал уж, уйду не солоно хлебавши. Пили мы с тобою меды да вина, ели крылышки лебединые, а слова твоего так сказано и не было. Иль прослушал я, так скажи заново.
— Не прослушал ты, Одноок. Все верно. А думал я, как ты вина мои пил, что бы такое дать за Олисавой, чтобы и тебе не обидно было, и мне не в наклад. Да и люди чтобы не судачили попусту, языки свои не чесали, не славили нас ни в церкви, ни у себя по кутам…
— Мудро сказано, Конобей, — подхватил сосед, — то, что между нами сужено-ряжено, все равно что за порог брошено. От людей не спрятать, от толков не уберечь. Добрая молва дороже денег…
— Земля на могиле задернеет, а худой славы не покроет…
— И то верно. Так каково ответствуешь мне, сосед?
— Может, Потяжницы назад и возьмешь за Олисавой? — осторожно проговорил Конобей.
— Так и будем туды-сюды деревеньку мотать? — усмехнулся Одноок. — Людям наш сговор не в толк. Вот и скажут про тебя, Конобей, что не дал ты за Олисавой ни ногаты.
— А и верно, — задумался боярин.
— То-то и оно, — кивнул хитрый Одноок. — Так на чем будем сговариваться?..
— Земли-то у меня, почитай что, нет, — захныкал Конобей.
— Земли и у меня нет, а вот отдал же тебе Потяжницы, не пожалел. Ты тоже не скупись. За родною дочерью отдаешь, не за прохожей молодицей… Смекал я давеча, и вот что на ум пришло: а не дать ли тебе за Олисавой Омутищи — и бор там опять же, и закосы пожненные хороши, и ель строевая, и борти… То-то заживут молодые!
— Это за худые Потяжницы Омутищи отдать?! — взвился, как ужаленный, Конобей.
Одноок и бровью не повел, говорил все так же степенно и негромко:
— Проезжал я мимо, видел: славная тамо дроводель [190]. Лесок-то можно судовщикам сбыть — с руками оторвут…
Он помолчал и добавил, забирая бороду в кулак:
— А про Потяжницы разговору боле не заводи. Отдал я их в твою вотчину, как обещал Кузьме, — на том и кончен спор. Так в книге и запишем, чтобы впредь отцов своих не поминать. И Омутищи в книжицу занесем, а то после еще кто помянет ненароком, что из-за них мы тягались с тобою, сосед, — сраму до скончания дней не оберешься…
На Покрова северные ветры потянули с одетого в багрец владимирского ополья. Пал первый снег и вскоре растаял, но старые люди предвещали, что по примете до санного пути шесть недель сроку.
Настала пора конопатить избы, приваливать завалинки, в стойла загонять скотину.
К назначенному сроку, не ране и не позднее, завершил Никитка обещанный Марии собор, свинцовой кровлей одел барабан, поставил на макушке золоченый крест (сдержала она-таки зарок — радовалась!). Освящал новую церковь сам епископ Иоанн, князь с княгиней и княжичами стояли на полатях [191] и с ними Кузьма Ратьшич, Словиша, Веселица, Звездан и прочие ближние бояре.
В самый день Покрова играли во Владимире сразу две свадьбы. Из Смоленска привезли Константину молодую жену — Агафью Мстиславну, встречали ее с церковным пением и колокольным звоном. А Конобей отдавал Олисаву за Звездана — тоже был большой пир, обоим боярам пришлось раскошелиться.
Три дня, до самого Ерофея, пил и гулял веселый владимирский люд.
Глава одиннадцатая
1
Как ни петушился Ярополк Ярославич, а отцовой воли преступить не мог. Не мирно пожил он в Новгороде, доброй памяти о себе не оставил, Ярослава, укрепившегося в Торжке, одолеть не смог, никого не приласкал, не накормил. Еще больше прежнего обнищали при нем новгородцы и, узнав об его отъезде, вздохнули с облегчением. Видно, Всеволодовой воли все равно не перемочь, так лучше уж взять из его рук князя, чем и дальше бедствовать. На вече боярские людишки шуметь не смели, побаивались, да и крутого наставления им от владыки не было. Боярский совет пребывал в немоте и растерянности.
Никто не провожал молодого князя, даже Мартирий с ним не простился. Выехал он с малой дружиной, с дядьками, с ловчими, ключарями, сокалчими и прочей дворней, которой было при нем великое множество. И, отворив перед ним ворота, так и оставили их новгородцы впервые открытыми: некого было им теперь остерегаться: не ворогом въедет в них Ярослав, а въедет своим князем. Всё в его власти с этого дня: захочет — помилует, а не захочет — так и казнит. И никто его за правоту или за неправду не осудит. И владыка ему не указ, и Боярский совет над ним не волен, и вечу не подотчетен князь. Один Всеволод ставил его в Новгороде по своему хотению.
Подъезжал Ярослав к городу в вечерней призрачной дымке, на опушке рощицы задержал вороного коня, приосанился, долго смотрел на раскинувшиеся перед ним стены с наполненными землей городницами, со рвами и бревенчатыми вежами, с чернеющими в заборолах [192] узкими скважнями [193].
Неприступна могучая крепость, не надеялся он войти в нее силой, а входит без осадных лестниц и без пороков, и кровь не льется на крутых валах, и люди не падают замертво, пронзенные стрелами, а встречают его у гостеприимных ворот — сам владыка впереди, на серебряном блюде — серебряный ключ.
Еще вчера смеявшиеся над ним новгородцы стоят теперь покорно и тихо, и не слышно вражеских выкриков, и не видно разгневанных лиц. Но и радости не видно в их глазах, и не слышно восторженных приветствий. Хмуры бояре, молчаливы купцы и ремесленники. Даже дети повисли на городницах в молчании, смотрят на князя с испугом.
Под заиндевелыми сводами потеснились в сторону растерянные люди. Две дружины сошлись у въезда: Ярополк покидал город, Ярослав в него въезжал. Остановились бок о бок два коня: вороной и буланый. Натянули князья поводья, окинули друг друга гордыми взглядами, отвернулись, не обмолвились ни словом.
На том же месте, где только что стоял Ярослав, попридержал и Ярополк своего коня, оглянулся через плечо на погружающийся в ночную мглу, навсегда потерянный город. Под валами, во рвах, клубился туман, печально высились над частоколами белые головки церквей, а на куполе святой Софии мигнул и погас последний лучик солнца…
До поздней ночи горели факелы на Ярославовом дворище, до поздней ночи доносились через Волхов пьяные крики и песни дружинников. Не спешил новый князь ко владыке, не торопился отъезжать на Городище — наслаждался доставшейся легко победой. Пребывал, как и все до него, в честолюбивых мечтах. Скоро забылось длительное сидение в Торжке, но не забылись нанесенные ему новгородцами обиды. Жаль, Мирошки Нездинича не было рядом, а то бы посмеялся над ним Ярослав: «Ну что, Мирошка, чья верх взяла?» Стоял бы перед ним Нездинич и так отвечал: «Твоя взяла, княже». — «А ответ перед кем намерен держать?» — «Перед богом и пред тобою, княже». — «Чем поклонишься?» — «Спиною…»
Юлил бы перед ним посадник, угодничал: «Не гневись, княже. Был я не прав и в том винюсь. А повинную голову меч не сечет».
«На что мне голова твоя, Мирошка! — сказал бы на это князь. — В голове твоей проку нет. Хитер ты и изворотлив, да правда выше. Наткнулся рылом на кулак — вот и молчи».
И еще бы сказал Ярослав: «Не вошь ест, а гнида точит. С тебя и пошла вся смута в новгородской земле. Пущай Господин Великий Новгород тебя судит».
И увели бы дружинники покорного посадника, чтобы утром вывести его на вече. Там и держал бы Мирошка ответ за учиненные в земле своей беды…
Но не было Нездинича, еще не вернулся он из Владимира, а владыку судить ни князь, ни вече не властны. Так пускай покарает его бог!..
И впрямь покарал бог владыку. Пока пировал в чужом терему Ярослав, пока пил вывезенные из боярских и купеческих медуш крепкие вина, стоял Мартирий на верхнем уступе детинца, смотрел через Волхов и задыхался от злобы и отчаяния.
— Вот, зри, — говорил он сопровождавшему его протопопу святой Софии. — Пляшут бесы, на костях вольного Новгорода справляют страшную тризну. Нынче березовые факелы жгут, завтра запалят избы. Строго блюли мы извечный закон, но невзлюбил нас бог за алчность нашу и вседневную суету. Не Всеволод карает нас, а господь, и Ярослав — огненный меч в его справедливой деснице. Горе дожившим до этого часа!.. Горе!..
— Горе! — словно эхо, вторил протопоп.
— Жду ли справедливости от князя, севшего не по воле нашей? — продолжал владыка. — Питаю ли надежду, что воцарятся в пределах новгородских покой и тишина?.. Что брат не наступит на горло брату, а сын не подымет руку на отца своего?!
— О чем говоришь ты, владыко? — испуганно отшатнулся от него протопоп. — Оттерпимся, и не то бывало.
Словно разум помутился у Мартирия. Стал он топать ногами и кричать, как Ефросим когда-то, и ветер носил слова его над Волховом:
— Да падет кара господня на сей град! Да испепелят его молнии! Да разверзнется земная твердь и поглотит грешных, ибо нет им спасения на земле и в раю им места не уготовано!..
Протопоп схватил Мартирия за руки, подумав, что он вознамерился прыгнуть с городницы.
— Вотще, — бормотал владыка, оседая на землю. Тело его задергалось и сделалось неподвижным. Голова запрокинулась, а из горла полились нечленораздельные звуки.
На зов протопопа набежали люди. Мартирия бережно подняли отроки и перенесли в палаты. Здесь его уложили на лавку и привели лекаря.
Осмотрев владыку, лекарь сказал, что болезнь не опасна, но припадок может повториться.
До утра сидели возле Мартирия знахари и сердобольные старцы, выхаживали владыку, елозя на коленях перед иконостасом, били лбами в половицы и читали поочередно молитвы.
Едва жив остался Мартирий, едва его в чувство привели. И ко времени, потому что на рассвете явились под ворота детинца толпы горожан.
— Что надо вам? — спросили людей воротники.
— Ярослав бесчинствует и грабит наши дома, — отвечали пришедшие. — Хотим видеть владыку.
— Владыка болен, и без нужды тревожить его нам не след.
— Как же быть? — вопрошали люди. — Ежели владыка болен, значит, некому нас защитить. А завтра будет уже поздно.
Воротники сжалились над ними и отправили отрока, чтобы спросил Мартирия, не сможет ли он выйти к народу.
Мартирий был еще слаб, но вышел, опираясь на плечо протопопа. Все увидели, как бледно его лицо и как немощны его ноги. Люди устыдились и хотели уйти. Но владыка остановил их:
— Говорите, какая беда привела вас ко мне.
— Беда великая, владыко! — заголосили бабы.
И мужики вторили им:
— Не князя, а половца прислал нам Всеволод. Перепившись, дружина его грабит наши дома и оскверняет жен наших.
— Защити, владыко!
— Образумь князя!..
— Обереги, покуда всего города не порушили…
— Храмы святые и те сквернят. Попа Дрочку с Неревского конца подвесили за ноги и плевали в лицо.
— Насильничали попадью…
Толпа колыхалась, как в непогодь Волхов, слышались угрозы.
— Ежели ты, владыко, не образумишь, сами возьмемся за кольё.
— Наших жен в обиду не дадим!
— Перебьем дружину, а там будь что будет…
Владыка знал: угрозы их не были пусты. Ежели и впрямь не остановить князя, случится непоправимое. Что там после Всеволоду ни говори, а ответ держать придется по всей строгости. За непокорность не пощадит он Новгорода, возьмет на щит, предаст огню и еще более страшному опустошению.
Собрался с силами Мартирий, велел запрягать возок, поехал на княж двор. Пробираясь по улицам города, он скоро убедился и сам в справедливости сказанного: всюду стоял плач, в избах двери были раскрыты настежь, пьяные дружинники шарили по погребам и медушам, грузили на возы домашнюю утварь, иконы в окладах и мягкую рухлядь.
А на съезде с Великого моста уже свершилось кровавое: мужик рогатиной пропорол одному из воев живот, спешившись, дружинники секли его мечами.
На дворе у князя награбленное было свалено в кучи, как на торгу. Мартирий оставил возок за воротами, вошел в терем, расталкивая людей посохом.
Ярослав сидел за столом, всклокоченный и хмельной. Владыка остановился у порога.
— Княже! — сказал он громко, перекрывая голосом пьяный гул. — Почто пируешь в радости, а люди твои, яко тати, разбрелись по городу, как в завоеванной стране, жгут и насильничают — и все именем твоим? Разве не звали мы тебя, как отца детям твоим, и не подносили тебе у врат святые дары, и не вручали по своей воле ключи от Новгорода?..
Бывшие вместе с князем дружинники, отставив кубки, воззрились на владыку с изумлением.
Ярослав молчал, глаза его исподволь наполнялись злобой. Вдруг, привстав, он ударил кулаком по столу, и Мартирий вздрогнул.
— По своей, говоришь? — крикнул князь, неистово вращая белками. — А стрелы в меня кто метал? А смолу лил кто? А поносили грязными словами не твои ли возлюбленные чада? Не ты ли сам звал на стол Ярополка из Чернигова и вечу велел его кричать, а не меня?!
— Опомнись, княже, — собираясь с остатками духа, остановил его Мартирий. — Что говоришь ты, то тебе не бог, а злая нечисть нашептала, и слов этих страшись, ибо помянуты они тебе будут в судный день, и не обрящешь спасения.
Падали речи владыки в пустоту, не слушал его князь.
— Отныне в Новгороде я хозяин — не ты! — кричал он. — Нынче волю свою вершу, никого не спрашивая. А ежели встанешь мне на пути, берегись. Уходи, владыко, покуда не согрешил, покуда не повелел я и тебя бросить в поруб. Изыди!..
Повинуясь Ярославу, подхватили дружинники владыку под руки, вывели за ворота, запихнули в возок.
Ступая на княж двор, такого великого срама Мартирий предугадать не мог.
Но еще больший срам и еще большее униженье ждали его впереди.
2
Привезя с собою Митяя во Владимир, провел его Звездан по ремесленному посаду.
— Гляди, Митяй, как варят в домницах железо, — говорил он у кричников в гостях. — Хочешь, и ты будешь кричником?
— Зачем мне варить железо? Я всякой грамоте разумею, — отвечал Митяй.
Вел Звездан Митяя к кузнецам.
— Гляди, Митяй, как куют мечи и копья. Может, хочешь стать ковалем?
— Зачем мне ковать мечи и копья? Я всякой грамоте разумею, — отвечал Митяй.
Зашли к плотникам.
— Гляди, Митяй, это ли не работа! Хочешь, научат тебя древоделы своему ремеслу?
— Зачем мне их ремесло? Я всякой грамоте разумею.
Привел к Никитке Звездан Митяя:
— Дивными церквами украсили камнесечцы землю нашу — гляди! Аль и это тоже тебе не по вкусу?
— Я всякой грамоте разумею.
Наведался к Четке с Митяем Звездан:
— Сыщи, Четка, Митяю место писца при князе…
Но и писцом не захотел стать Митяй.
— На что ушел я от Ефросима? — обиделся он. — Куды надумал ты меня, Звездан, пристроить? Мало спину гнул я в монастыре? Мало писал [194] изгрыз? Мало подзатылин надавал мне игумен?..
— Так куды же девать тебя с твоею грамотою, Митяй?
— Пристрой меня к купцам. Хочу повидать землю.
Засмеявшись, покачал головою Звездан.
— Экой ты чудной, Митяй. Да нешто нужно было бежать из Новгорода, чтобы пристать к купцам? Ваши-то отчаянной гостьбою славятся по всей Руси…
Жизнью человеческой правит капризный рок. Отдал Звездан Митяя к славному владимирскому купцу Негубке на лодию.
— Вот, Негубка, помощник тебе в твоих нелегких трудах. Бери парня к себе, не покаешься.
Придирчиво оглядел Негубка Митяя.
— Молод ты, Митяй, выдюжишь ли? — усомнился он.
— Да почто же не выдюжу? — удивился Митяй. — Ремесло ваше нехитрое.
Засмеялся Негубка простоватому ответу парня. Понравился ему Митяй.
— То, что грамоте ты разумеешь, это хорошо. Да и мы не лыком шиты. Без грамоты нынче далеко не уплывешь. А уплывешь, так обратно ни с чем вернешься. Еще что умеешь ты, Митяй?
— Говорить по-свейски могу.
— А еще?
— А еще по-ромейски.
— А еще?
— Нешто этого тебе мало? — обиделся парень.
— Хорошо, — сказал Негубка. — Беру тебя на свою лодию.
— А куды идешь ты с товаром?
— Аль не слыхал? В Новгород иду, а оттуда к немцам.
Так и попал снова Митяй в Новгород. Но узнать его теперь было трудно. Зипун новый справил ему Негубка, сапоги яловые. А короткий меч подарил ему Звездан.
— Без меча в наши дни купцу не дорога, — похвалил Звездана за подарок Негубка. — Еще помянет тебя добрым словом Митяй…
В самую тяжелую пору вошли купеческие лодии в пасмурный Волхов.
Шел мелкий, со снегом, дождь, рваные тучи плыли над городом. Пустовал знаменитый торг. Безлюдны были грязные улицы. Даже святая София и та словно бы потускнела. Не звонили празднично колокола, не красовались на исаде нарядные боярыни и их дочки.
На купецком подворье тоже было непривычно тихо. Раньше-то здесь гости отирались, места свободного было не сыскать, а тут в избе, где с давних пор останавливался, приезжая в Новгород, Негубка, всего-то и ночевал один купчишка из Торжка, да и тот собирался ехать домой, так и не сбыв своего товара.
Хозяин, рябоватый мужик с обрубком вместо левой руки, копошился во дворе.
Когда вошли, постучавшись в ворота, Негубка с Митяем и еще трое владимирских, он стоял возле поленницы, держа за ноги петуха. Петух брыкался и хлопал крыльями. Мужик глядел на вошедших с удивлением и испугом.
— Жить да молодеть, добреть да богатеть! — приветствовал его Негубка.
— У нас раздобреешь, — хмуро отвечал хозяин, не выпуская петуха.
— Да что ты мрачный какой? — удивился купец. — Да и во всем Новгороде, как проходили мы, ровно собрались выносить покойников…
— Покойничкам-то ничо, а вот у нас совсем худо.
— Али мор какой? — всполошился Негубка.
— Хуже мора. Новый-то князь эвона как развеселился. Жили до сего дня — тужили, что хлебушко к нам не шел через Торжок. Впустили Ярослава, так и того пуще пригорюнились. Вот — последнего петуха кончаю, да и тот вроде бы ошалел.
— Что же это развеселился князь?
— Нам отколь знать! На то он и князь, должно, чтобы веселиться. А простому люду — хоть помирай. Да еще шалят дружиннички по дворам, как есть, всю избу опустошили…
И верно, не узнать было прежней его избы. Раньше хозяйка, чуть свет, полы подметет, растопит печь — купцы, помолясь, сядут за стол похлебать горяченького, шутят, постукивая ложками, гомон веселый стоит в избе. А тут углы не метены, с потолков паутина свисает, один-единственный купчишка подремывает на лавке, прикрывшись стареньким зипуном.
— Эй ты, — растолкал постояльца Негубка. — Вставай, не то коня проспишь.
— Не тревожьте вы его, — сказал хозяин, входя в избу за ними следом. — Он и так уж коня проспал, а днесь двух тюков недосчитался.
Дремавший на лавке купец неохотно поднялся, ладонью провел по мягкому спросонья лицу.
— Чо тормошишь? — вперился тяжелым взглядом в Негубку.
— Вот, соседей тебе на ночлег привел, — сказал хозяин.
— Изба просторна, нешто на других лавках места не хватает? — проворчал купец и сладко зевнул.
— Отколь вы? — спросил он Негубку.
— Из Володимера.
— А… — лениво промычал он.
— А ты отколь?
— Черниговский я…
— Слышал, потрясли тебя тати, — сказал Негубка с сочувствием, присаживаясь на лавку с другого конца неубранного стола (валялись на нем корки хлеба, две луковицы и откромсанный кусок репы).
— Кабы тати, — продолжая разминать ладонями заспанное лицо, отвечал купец. — А то князевы людишки…
— Ярославовы, что ль?
— А то чьи?!
Негубка недоверчиво покачал головой:
— Эко тебя, купец, угораздило про князя такое сказать.
— Не врет он, ей-богу, не врет, — встрял в разговор хозяин. Петух по-прежнему извивался в его опущенной руке.
— А куды ходил-то с товаром? — поинтересовался Негубка.
— А никуды не ходил. Как пришел из Торжка, так один раз только и торкнулся, да добрые люди поворотили: не ходи, мол, останешься без товара и головы тебе не сносить. Свеи буйствуют на дорогах, тати повылазили из лесных трущоб… Домой еду, а там подамся на юг. На юге-то ныне поспокойнее стало.
Негубка сгреб ладонью разбросанные по столу объедки, тревожно покосился на своих товарищей.
— А не поворотить ли и нам? — сказал кто-то.
— Поворотить недолго, — возразил Негубка. — Да слухи твои, купец, верны ли?
— Поезжай, коли смел, — перестав разминать лицо, ухмыльнулся купец. — Может, тебе удача на роду написана.
— Удача удачей, а куны любят счет. Как бы не вернуться с дырой в калите…
— Вот и я про то говорю… А к ромеям пойду — вернусь с прибытком.
Петух неистово затрепыхался в руке у хозяина.
— Слышь-ко, добрый человек, — попросил хозяин купца. — Не поможешь ли петуху голову ссечь? Безрукий я…
— Отчего же не ссечь, — охотно согласился купец, встал и направился из избы.
— Погоди-ко, а баба твоя где? — спросил Негубка хозяина.
— Баба-то? — часто заморгал он глазами.
— Не тревожь мужика, — сказал купец. — Бабу его Ярославов сотник с собою в стан увел…
Непонятные дела творились в Новгороде.
— Вот так пошумели, — сказал Негубка, когда хозяин с купцом вышли. — Может, нам и впрямь ко Владимиру поворотить?
Стали толковать, да рядить, да прикидывать, что к чему. Так и не договорились.
Похлебав ушицы с тощим хозяйским петухом, поблагодарили за гостеприимство, но оставаться в избе на ночлег отказались, отправились на свою лодию.
Всем тревожно спалось в ту ночь. Утром, собрав своих людей, Негубка сказал:
— Будь что будет. Авось пронесет.
Поставили ветрила, налегли на весла и легким ходом погнали лодию к Нево-озеру.
3
Всадник высился над берегом, привстав на стременах. Закатное солнце жарко горело за его спиной.
— Слышь-ко, на лодие!
— Чего надобно? — спросил вышедший к борту Негубка.
— Гребите к берегу.
— А ты чей?
— Не твое дело, греби, коль сказано!
— Мы купцы, люди вольные, нам твои слова не указ, — спокойно отвечал Негубка.
Всадник натянул поводья, поскакал по берегу рядом с проплывающей мимо лодией. Под темным корзном поблескивала кольчуга.
— Ты что, купец, аль совсем шальной? — крикнул он, снова останавливая коня чуть впереди по ходу лодии.
— Назовись, коли так!
— Нешто сам не видишь?
— Вижу, что вой. А может, лихой человек? Мне-то отколь знать?!
— Коли был бы лихой человек, так подстерег на ночлеге. Шелога я, сотский…
— Отколь тебя только на нас нанесло, сотский? — проворчал Негубка и с неохотой велел кормчему приставать к берегу.
— Да сотский ли это, Негубка? — предостерег кормчий. — Этак любой себя хошь князем назовет…
— А ты греби помаленьку, да не шибко к берегу жмись. Ежели что не так, вели налегать на все весла.
Сторожившим лодию воям он сказал:
— И вы глядите в оба.
— Мы завсегда, — отозвались те, изготавливая топоры и копья. Сгрудились в кучу, накренили борт.
Всадник подъехал ближе, передними ногами конь опустился в реку, потянулся мордой к воде.
Вблизи Негубка разглядел сотского: был он красив и не так могутен, как казался издали. Белая рука подергивала намотанный на запястье повод.
Лодия покачивалась на волне. Поставив ногу на окружавшие борт низенькие перильца, Негубка сказал:
— Все. Лезть на мель не будем… Сказывай, почто всполошил?
— Предостеречь я тебя хотел, купец.
— А я и сам сторожусь.
— Не плыви к Нево-озеру…
— Тебе-то отколь знать, куды я плыву?
— Сорока на хвосте принесла, — улыбнулся Шелога. — Да ты, купец, меня не пасись [195]. По Волхову плыть некуды, окромя Нево-озера. Вот я и смекнул.
— Все, что ль, у вас такие смекалистые?
— Послушай меня, купец, а там думай, что хошь. Ехал я нынче с низовья, на свейский отряд наскочил. Едва ноги унес…
— Нам в лодие не опасно.
— Ночью на берег не сходите, — продолжал сотский, — днем ворон не считайте. А поворачивать я тебя не стану: вижу — твердо решил идти к Нево-озеру…
— Куды уж тверже…
— А дале как путь свой продлишь?
— Бог подскажет, — отвечал Негубка. — Спасибо тебе, Шелога, за предостережение.
— Чай, русской я… А то гляжу — плывете. Дай, думаю, окликну. Не ровен час проглядите беду, а она тут как тут…
— А как же сам ты, Шелога, не боишься?
— Боюсь. Да конь у меня быстрой…
— Что же это с Новгородом стряслось, Шелога? — сказал Негубка. — Ране сами ходили на свеев, врата привезли из Сигтуны, а ныне зады им кажете?
— Э, да что там говорить, — махнул сотский рукой. — Ране были у нас другие князья. А нонешний-то только по сусекам шарить молодец. Того и гляди, чудь подымется — тогда вовсе не будет нам ходу… Ну, будь здоров, купец.
Он поворотил коня, но снова вернулся к берегу.
— Слышь-ко, — крикнул сотский вслед отплывающей лодие. — Солнышко к закату — так ты у Ефросима в монастыре ночуй. Стены у него надежные. А дальше сам стерегись…
Митяю, стоявшему среди воев на борту, весь этот разговор хорошо был слышен. Забилось у него сердце, словно птица, подстреленная на лету. Далеко унесли его ноги, да близко возвернули. Как предстанет он пред своим игуменом, что скажет Ефросиму?..
На быстром течении шли лодии легко. Приглядываясь к плывущему мимо берегу, узнавал Митяй знакомые места. И чем ближе к монастырю, тем тревожнее ему становилось. Хоть прыгай за борт и плыви по тугой волне, а что делать?
Встал позади него Негубка, обнял за плечо.
— Хорошо, Митяй?
Солнце опускалось за край пологого берега, протянуло через реку огненные дорожки, березки на другой стороне полыхали, словно разворошенные тут и там костры; пестрели рыжевато-рдяные осины.
Не догадывался купец, что не ясной северной далью любовался Митяй и что не красоте наполненных осенней прохладой прозрачных просторов открывалось его сердце.
— Далеко пойдем мы на нашей лодие. Лишь бы ветер был тороват, — размечтался купец. — Повидаешь ты широкий мир, потешишь душу. Но на чужбине поймешь — краше наших краев да простора нашего не встретишь нигде. Куда бы ни заносило тебя, а как прибьет к Руси, так и падешь на колени: господи, помилуй, и почто зыбкого счастья искал на стороне?!
Хорошо сказывал Негубка. Вои, сидя на белых досках, переговаривались шепотом. Предостереженье сотского взволновало их. Обробли они, привыкнув к спокойной жизни во Владимире.
— Нешто и впрямь озоруют по Волхову свеи?
— Даст бог, пронесет.
— Бог-то даст, да вот самим бы не сплоховать.
В пути отъелись они на обильных Негубкиных хлебах, думали — и дале все будет праздник.
— Не робейте, вои, — успокоил их купец. — Товар мой, лешему в пасть я не пойду. А без риска гостьбы не случается.
— То-то, что не случается, — ворчали вои.
— Так почто рядились со мной? — посмеялся над ними Негубка. — Чай, идем не пиры пировать. На пирах-то я б и без вас управился.
— На пирах всяк молодец, а своя голова дороже…
— Не повернуть ли, пока не поздно, к Новгороду. Слышь, купец?
— Поздно поворачивать, а где беда стережет, про то никому неведомо. Может, на обратном пути и ждут нас свеи у берега, ась?
Пока говорили так, сгустились сумерки. На стороне зашедшего солнца, на светлой потухающей полоске, показались густо прилепившиеся друг к другу строения.
«Вот и Ефросимова обитель», — подумал Митяй с грустью. Не раз хаживал он здесь на однодеревке через Волхов. Поди, и по сию пору покачивается лодочка на колышке, вбитом в берег его рукой.
Из темноты крикнули:
— Кого бог принес?
Вот и голос показался Митяю знакомым. Так-то зычно покрикивал вратарь — у одного лишь пономаря был погуще бас.
— Купцы мы, — отвечал Негубка во тьму. — Плывем из Новгорода к Нево-озеру, а в обители у Ефросима ищем сегодняшнего ночлега.
Весла живее заскрипели в уключинах, берег приблизился и ткнулся в нос лодии.
— А ну, погодь, — пробасил невидимый вратарь. — Стой, где стоишь, не то метну стрелу.
— Да почто же стрелы метать, ежели мы русские? — сказал Негубка.
— Кликну игумена, с ним и толкуйте, — отвечал вратарь и, удаляясь от берега, зашуршал кустами.
4
Нежданных гостей принимал Ефросим в трапезной, Негубку сажал с собою рядом, вел с ним беседу неторопливую, выспрашивал, как дошли, да какой товар везут, да на какой рассчитывают прибыток.
— Товар у нас разной, — отвечал Негубка. — Везем соболей, лисиц, рыбий зуб, воск, мечи. А на прибыток рассчитываем хороший. Мало нынче купцов ведет заморский торг. Побаиваются шатучих татей и свеев. Да и к нам редко стали наведываться гости. Кому охота лишиться товара или голову на пути потерять?
— Верно, потускнела былая слава новгородская, — грустно отзывался Ефросим. — От упрямства Мартириева и Ярославовых притязаний много было посеяно обид.
— А вас-то не тревожат ли свеи?
— Тревожат и нас. Спать ложимся с мечом, ворота держим на крепком запоре. Утром был у нас сотский Шелога, старый мой знакомец, предупреждал: ухо, мол, держите топориком — ворог недалече бродит.
— И нас упредил Шелога, — сказал Негубка, — присоветовал ночью Волховом не плыть, а просить у тебя ночлега, игумен.
— Для доброго человека моя обитель завсегда открыта, — улыбнулся Ефросим. — Сердцами тревожимся мы за наших ближних. Да ныне и сами кормимся прошлогодними припасами. Худо стало.
— Нешто и ваши закрома опустели?
— А отколь им полниться?.. Весною, как стал Ярослав под стенами Новгорода, мы с помощью пришли. Снарядили обоз, а сами без зернышка остались. С нового-то урожая, почитай, ничего почти не собрано. Остерегаются в деревнях везти нам хлебушко. Давеча слух прошел, будто отбили свеи немало кадей зерна, вот и позарывали мы то, что осталось, в землю… Лучших времен дожидаемся — не век же Ярославу сидеть на нашем столе.
— Куды там! Кабы по воле новгородцев сел Ярослав, был бы он травы ниже, тише воды. За спиною-то его — Всеволод.
— Всеволод-то за его спиной, да лика Ярославова не зрит. Звериной он… А как прослышит о творимых князем бесчинствах, так и повернет, — мол, не для того я тебя сажал, чтобы зорил ты детей моих. Людей именитых снаряжать надо ко Всеволоду, в ноги ему пасть, просить защиты… Да смекаю я, Мартирию гордости своей все никак не переломить. От него все беды и вся смута, ему и ответ держать…
— Бросил бы словечко, надоумил, — подсказал Негубка.
— Вразумлял я, да слова мои — аки глас вопиющего в пустыне. Ныне ноги моей в Новгороде боле не будет.
Стал сердиться Ефросим, резко обозначились скулы на его лице, кожа покрылась красными пятнами. В больное место угодил со своими советами Негубка.
— Спасибо тебе, игумен, за хлеб да соль да приятную беседу, — поднялся он из-за стола, крестясь в завешанный образами угол.
— Дай-то бог, чтобы на пользу, — ответил Ефросим, которому понравилась обходительность купца.
Все поднялись из-за стола, собираясь покинуть трапезную. Поднялся и Митяй. Ноги едва держали его от страха.
— Постой-ко, — вдруг сказал Ефросим Негубке. — Кажись, лик вон того парнишки, что с тобою, вроде бы мне знаком. Отколь он?
— Со мною из Владимира плывет.
— А часто ли с гостьбою хаживал?
— Да в первый раз.
— Уж не Митяем ли его кличут? — красные пятна на щеках игумена стали еще заметнее.
— Всё так, — удивленно сказал Негубка. — Да тебе-то откуда он знаком?
— Ну-ко, поди сюды, Митяй, негодник ты этакой, — поманил Ефросим пальцем оробевшего отрока. — Поди, поди, что встал, яко столб, посреди дороги?
С трудом перебирая ногами, Митяй приблизился к игумену, остановился на почтительном расстоянии, с опаской поглядывая на зажатый в руке Ефросима памятный ему посох.
— Ты почто же сбег от меня? Почто не сказался? — грозно придвинулся к нему игумен.
Митяй отступил на шаг, потупился.
— Ну-ко, зри мне в очи! — рявкнул Ефросим. — Зри в очи да всю правду сказывай.
— Да что сказывать-то? — промямлил Митяй.
— Так-то исполнил ты мое поручение, так-то сходил в Новгород?
— Был я у попа твово…
— Ну?!
— Схватили меня вои…
— Дале говори!
— Поволокли на городню, велели стрелы метать в Ярославовых людей…
— А дале?
— Дале-то в поле вышли… В поле, стал быть, принялись озоровать… Тут меня и схватил Всеволодов гонец.
— Сказки сказывать ты мастер! — поскреб посохом половицы Ефросим. — А правду когда отвечать станешь?
— Все правда, игумен, — перекрестился Митяй, впервые подняв на него ясные глаза.
— Досель правда? А отсель до сего дни?..
— Увязался я за Звезданом, напросился с ним ко Владимерю…
— Да почто ж тебя во Владимир-то понесло?!
— Мир повидать захотелось…
— Ишь чего на ум взбрело! А о том не подумал, что свершил я через тебя, негодник, великий грех?
— Какой же грех-то? — в испуге попятился от Ефросима Митяй.
— А такой и грех, что живого схоронил! Что за упокой души твоей денно и нощно молился! — кричал игумен, наступая на Митяя и перехватывая из левой в правую руку тяжелый посох.
Подался Негубка к Ефросиму, хотел уберечь паренька, но поздно было. Посох гулко шмякнул по Митяевой голове.
— Нагнись, Митяй, нагнись, тебе велено! — заорал Ефросим, занося посох для второго раза.
Повернулся к нему Митяй, нагнулся было, но тут же выпрямился.
— Э, нет, игумен, — сказал он. — Спину я тебе боле не подставлю…
Хоркнул Ефросим, пошатнулся и вдруг выронил посох из рук. Опустился на лавку, держась за сердце. Лицо его из красного сразу сделалось белым с прилипчивой желтизною, как старая береста.
Митяй, вскрикнув, со всего роста грохнулся перед ним на колени.
— Прости мя, грешного, — сказал он, склоняя голову. — Не думал, не гадал я, что пораню тебя — само собою вышло… Прости!..
Игумен безмолвствовал.
— Почто молчишь, отче?
Ефросим пошевелился, посмотрел на Митяя печальным взглядом. От непередаваемой тоски его глаз больно защемило у Митяя под ложечкой. Перекрестился он быстро правой рукой, а левой коснулся Ефросимова колена. Не вздрогнул игумен, не отстранился.
Еще ближе подполз к нему на коленях Митяй. Слезы жалости навернулись ему на глаза, перехватило дыхание. Сунулся он Ефросиму в ноги и замер.
Поднялась рука игумена, повисела в воздухе и мягко опустилась Митяю на голову.
— Бог с тобою, Митяй, — проговорил Ефросим с натугой. Слезы и его душили, и ему мешали говорить. — Видно, так тебе на роду писано. Встань…
— Никак, простил? — обрадовался Митяй, шмыгая и проводя ладонью под носом.
— Чего уж там, — улыбнулся сквозь горечь Ефросим. — Много ли времени утекло, а вишь, как переменился…
— Куды уж меняться-то мне. Люблю я тебя, отче.
— Любишь…
— Ей-ей люблю, — побожился Митяй. — Ты мне не просто игумен, ты родитель мне. Без тебя я псом шелудивым помер бы под забором…
— Что верно, то верно, — немного отходя, кивнул головой Ефросим. — Подобрал я тебя в лихую годину…
— Выкормил, — подхватил обрадованно Митяй, — грамоте обучил…
— Шибко обучил ты его грамоте, — встрял в разговор Негубка.
Но ни Митяй, ни игумен не слушали его. У них своя шла беседа. И не только языком — глазами договаривали невысказанное. Игумен гладил склоненную голову Митяя. Митяй, ткнувшись снова ему в колени, носом водил по рясе. Знакомо, как в детстве, все было, волновало далеким очарованьем.
— А помнишь, Митяй, как ходили мы с тобой в Новгород?
— Как не помнить, отче?
— А как шатучие тати нас из избы выкуривали?
— Все помню.
— И как Мартирия пугнули, помнишь? — все больше светлея и оживляясь, выпытывал Ефросим.
Хорошее это было время, теперь многое позабыто. Зря не послушался тогда его Великий Новгород. Не было бы горького лихолетья, не хлебнули бы мужики предсказанных игуменом бед. Не пошли за добрым пастырем, сами выбрали себе злого.
— А ежели б снова взойти тебе на паперть святой Софии? — размечтался Митяй. — Ежели б снова бросить клич?!
— Нет, Митяй, в Новгород я не вернусь, — спокойно отвечал Ефросим. — Путь мне назад заказан. Хоть и больно и скорбно мне, а проклятия своего я не сыму. Пущай сами скидывают Мартирия, пущай сами просят у Всеволода иного владыку…
— Да Всеволоду ли владыку ставить в Новгород? — удивился Негубка. — О чем это ты, игумен?
— А о том и реку, что предсказание мое сбудется, — сказал Ефросим. — Поставил в Ростов своего епископа Всеволод, того и нам не миновать.
— А как же вольница, как же вече?
— Кака вольница? — рассердился игумен, обращая на Негубку гневливый взгляд. — Како вече?.. Мне жребий пал быть владыкой, а каково обернулось? Не вече правит Новгородом, а Боярский совет. Я-то чей для него? Я — чужой, а Мартирий, изворотливый грек, свой был человечек… Вот и вся вольница. Молчи, коли невдомек. А Всеволод… Всеволод собирает воедино Русь. В том его сила…
Печально расставался с игуменом на рассвете Митяй. В неведомое уносила его лодия. Бушевали под ветром вздутые ветрила, пенили воду весла, вскрикивали чайки над крутою волной.
А на темном берегу, на взглавье зеленого холма, стоял Ефросим, опираясь на посох, стоял и глядел, как медленно исчезает лодия в холодном тумане, и чайки, взрывая крикливыми голосами устоявшуюся тишину, ныряют в пенные баруны и снова взмывают в розовый разлив растекающейся над рекою зари.
Глава двенадцатая
1
С утра на дворе у Ратьшича толпились взволнованные купцы. Сеялся мелкий снег, было ветрено и сухо. На подмерзшей за ночь земле лежали сбившиеся в груды листья.
Купцы переговаривались друг с другом вполголоса, мяли в руках шапки.
Кузьма вышел на крыльцо в наброшенном на плечи полушубке, посмотрел, подбоченясь.
— С какой бедою ко мне пожаловали, сказывайте?
— Помоги, Кузьма, — загалдели купцы. — Спокою не стало, объявился Вобей, шатучий тать, злобствует безнаказанно. С кой поры жили мы, горя не знали. За княжеской спиною торговали без опаски…
— Небось у страха глаза велики, а, бороды?
— Не смейся, Кузьма, по пустякам мы бы к тебе на двор не пришли, — говорили купцы.
— Про Вобея и до меня слушок доходил, боярин Одноок был на него с жалобой, — сказал Кузьма — Да неуж одного татя все испугались?
— Летучий он — ныне здесь, завтра там объявится. Ровно кто доносит ему, как идет обоз без охраны…
— Ладно, не тужите, купцы, — пообещал Ратьшич. — Идите спокойно по домам. Словим мы Вобея.
— Дай бог тебе здоровья! — благодарили купцы, кланяясь. — Ты уж постарайся, Кузьма.
Вечером у Ратьшича собрались дружинники. Были среди них Словиша и Звездан с Веселицей. Сидя вдоль стен в просторной избе, строили догадки: «Почто звал Кузьма? Али снова на соседей кличет князь?»
— Засиделись вы по избам, добры молодцы, — сказал им, появляясь в горнице, Ратьшич, — за баб попрятались, кости на печи распарили. А не съездить ли нам на охоту?
— Охота — дело веселое, — оживляясь, ответили ему дружинники. — А веселому делу кто не рад?..
В избе сразу вроде бы посветлело. Наклоняясь друг к другу, все заговорили разом:
— Заяц — трус, и тот на капустку охотиться любит…
— А велика ли живность в лесах?
— На лося пойдем, Кузьма, али как?
— Хищный зверь объявился подле Владимира, — сказал, улыбаясь Кузьма.
— На волков, стало быть?
— Покрупнее волка дичь…
— Ну, тогда на медведя.
— Медведь о сю пору в берлоге лапу сосет, а этот никому не дает проходу. Приходили жаловаться мне на него купцы, просили помочь.
— Загадками говоришь, Кузьма, — смутились дружинники. — Про какого зверя сказываешь?
— Зверь-то наш о двух ногах, о двух руках, да с головою, что варит не хуже вашего… Аль не слыхали про этакого?
Смекнули дружинники, куда клонит Кузьма.
— Да, такого зверя пымать не просто, — отвечали они. — Да ежели еще при коне.
— При коне, братушки, при коне…
— Где же искать нам его, в каком лесу силки ставить?
— Про то и речь, что сыскать не просто, — сказал Кузьма. — Но не можем мы такого допустить, чтобы безнаказанно озоровал шатучий тать, а купцы боялись носа из города высунуть. Узнает князь — разгневается, нас не похвалит…
— Все верно, Кузьма, — задумались дружинники. — А не разделиться ли нам да не пошарить ли всем вместе в округе?.. От одних уйдет — другим попадет в руки.
— Вот и я так смекаю, — кивнул Кузьма. — Возьмет каждый по десятку воев, посадим людишек на коней да и с богом. Авось кто и набредет на его берлогу…
— А ведомо ли тебе, Кузьма, как зовут злодея? — спросил Словиша.
— Как же не ведомо? Он и ваш старый знакомец. Вобеем его кличут.
Сидевший до сего времени спокойно, Веселица вдруг шатнулся и побледнел.
— Да что с тобою? — пристально всматриваясь в него, удивился Ратьшич.
— От жары это, — пробормотал дружинник и смахнул пот со лба. — Жарко печь ты накалил, Кузьма.
— Жар костей не ломит, а сказ мой на этом весь.
Ратьшич встал, и все дружинники встали. Выходя на крыльцо, Звездан шепнул Веселице на ухо:
— Вишь, как обернулся наш недогляд.
Встречая мужа у накрытого к обеду стола, Малка, как и Кузьма Ратьшич, подивилась его необыкновенной бледности.
— Лица на тебе нет, — всплеснула она руками. — Нешто хворь какая прилипла? На дворе-то непогодь…
Веселица только рукой махнул:
— Моя хворь не от погоды.
И, отказавшись от обеда, лег на лавку. Малка постучала горшками, покрутилась по горнице и снова приступила с расспросами:
— Должно, недобрую весть принес от Кузьмы?
— Отстань ты, — не пошевелившись, сказал Веселица. — Не всякая беседа бабе в ухо. Не твое это дело.
Отступила Малка, села рядом, стала сучить пряжу, с беспокойством поглядывая на мужа. Веселица притворился, что спит, но жену обмануть было трудно.
— Может, кваску подать? — заботливо осведомилась она.
— С квасу мутит меня.
— Так принесу бражки?
И, не дожидаясь ответа, выбежала за дверь.
— Ha-ко, испей, — вернулась она скоро.
От браги полегчало. Веселица сел к столу, взъерошил волосы.
Суча быстрыми пальцами нитку, Малка время от времени быстро взглядывала на него, но едва только поднимал он голову, как тут же отворачивалась.
— Ладно уж, — сказал Веселица. — Не облегча сердца, все равно не усну. А заутра мне в дорогу собираться.
— Далече ли князь послал? — оторвалась от прялки жена.
— Не князь, а Кузьма. И не послом еду я, а ловить злого татя. И не простого татя, а Вобея, коего сам же в Переяславле на свободу выпустил, прельстясь его сладкими речьми…
— О чем ты, Веселица? — удивилась Малка. — Какого татя выпускал ты на волю? Разве не сам утек Вобей?
— Где же было ему самому-то утечь? — зло проговорил Веселица. — Как ходил я в ледник за медом, так наслушался его покаянных слов. Поверил, думал, и впрямь решил новую жизнь начать Вобей, откинул щеколду…
— Ой, грех-то какой! — испуганно вскрикнула Малка. — Да как же он тебя на дворе не пришиб?
— Кабы пришиб, так шумнули бы все. А ему подале нужно было уйти, покуда не хватились. А еще и про то знал Вобей, что не скажу я никому ни слова…
— Грех-то какой! — снова вскрикнула Малка.
— Эко заладила, — рассердился Веселица и плеснул себе в кружку меду. — Грех да грех… Грех искуплять надо. Ежели не я словлю Вобея, вот тогда и не будет для меня прощения.
— Словишь ты его, Веселица, как же не словить?
— Просто слово сказать, да не просто дело сделать. Вобей хитер. Где искать его?
Малка сказала:
— Поди, у старых знакомцев обитается. Вот и пораскинь умом, у кого притаиться ему сподручнее.
— В городе всяк его знает. В деревнях тож прятаться ему не с руки. Постой, постой-ко, — вдруг замер Веселица с поднесенной ко рту кружкой, — кажись, смекаю я…
Дружинник вскочил из-за стола и суетливо заходил по горнице, что-то бормоча себе под нос.
— Все сходится! — вдруг хлопнул он себя ладонью по лбу. — В ино место и сунуться ему некуды.
— Да что смекнул-то? — подалась к мужу Малка.
— А вот и смекнул. Давеча сказывал мне Морхиня, что брал у него Гребешок меч…
— Ты вон тоже у Морхини меч брал, — охладила его жена.
— А еще, — продолжал Веселица, все так же, как и прежде, ходя взад и вперед, — а еще брал Гребешок на торгу седло…
— На что седло Гребешку?
— Вот и ты смекнула, — улыбнулся Веселица. — На что седло Гребешку? Не дружинник он, не вой, да и коня боевого у него нет… Вдогад мне ныне, Малка, что прячется Вобей не иначе как на мельне у Гребешка.
— Вишь, как складно все получается…
— Куды уж складней. Перед тем днем, как покупал Гребешок седло, лучший атказ пропал у Одноока из табуна.
Теперь не было у Веселицы никаких сомнений.
— Глупый-то свистнет, а умный смыслит, — похвалил он сам себя. — Кабы не ты, Малка, да кабы не твои меды, так бы и киснул я на лавке. Добрая жена в доме — половина удачи.
2
— Глядите, люди, — загалдели под Серебряными воротами лихованные. — Кажись, боярин пешком идет.
— Бояре пешком не ходят.
— У бояр кони да возок.
— Чо разорались по-пустому? — одергивали лихованных проходящие мимо посадские.
— Подай, боярин, милостыньку на пропитание!
— Не скупись — открой шире калиту.
— Цыц вы! — прикрикнул воротник, всматриваясь в прохожего с удивлением. — Никак, и впрямь боярин?
— Ты ли это, Одноок?
— Пошел прочь! — огрызнулся боярин, ступая под своды ворот. Воротник попятился, но любопытство взяло свое.
— Да что же ты пешим-то, боярин? — спросил он с сочувствием. — Конь-то твой где?
Одноок остановился, переводя дух. Хоть и холодно было на воле, а с раскрасневшегося его лица обильно струился пот. Взгляд смущенно шарил по сторонам, рот болезненно кривился.
— Эй! — позвал Одноок проезжавшего поблизости воя. Вой дернулся в седле, вытаращил на боярина глаза.
— Слазь-ко, — приказал ему Одноок.
Покорно спешился вой, подошел ближе, держа коня в поводу. Одноок примерился к стремени, тяжело вскарабкался в седло.
— Куды ж ты, боярин? — испугался вой. — Конь ить хозяйской.
— Ничо, — натягивая поводья, сказал Одноок. — Придешь ко мне на усадьбу — в сохранности верну.
— Нда-а, — поскреб вой в затылке, провожая взглядом удаляющегося боярина.
— Вот и мне в диво, — подхватил воротник. — Гляжу, пешим идет Одноок. Сколь времени тут стою, а такое вижу впервой.
— Не в том беда, что боярин пеший, а в том, что коня не возвернет…
— Коня-то возвернет, — успокоил его воротник, — а вот то, что пешим шел боярин, то неспроста.
— Неспроста пешим шел боярин, — закивали головами сидящие под сводами ворот лихованные. — И милостыньки не подал…
— Вам бы только милостыньку, — проворчал воротник, — совсем меня одолели. А ну, кшить отсюдова!
— Да куды ж нам идти-то? — заскулили лихованные.
— Под Золотые ступайте. Там ваших видимо-невидимо…
Боясь ослушаться воротника, нищие неохотно покидали свои насиженные места, брели в город нестройной оборванной толпой. Но ворчать не смели — завтра снова стекутся они под эти своды. Воротник с ними в доле. Даст бог, смягчится, даст бог, нанесет богатого человека — от каждого и по половине ногаты, а все прибыток…
— Сроду не видывал, чтобы пешим возвращался боярин, — все никак не мог успокоиться воротник. О таком событии следовало тут же поведать прохожим.
— Слышь-ко, — останавливал воротник первого встречного. — Одноок-то без коня пришел нынче.
— Ну?!
— Вот те крест.
— А где же конь его?
Воротник с напряжением морщил лоб, мотал гривастой головой:
— Мне отколь знать?
Новость быстро разнеслась по городу. К полудню о ней говорили на торгу, а Одноок сидел у себя в тереме, гнал слуг и со страхом вспоминал случившееся.
А было вот как.
Дернула его нелегкая возвращаться из Потяжниц во Владимир одному — ни отрока не взял боярин, ни другого какого не приглядел попутчика. Еще с вечера появилась у него приятная задумка заглянуть к Гребешку на мельницу, повидаться с его женой.
Седые инеи уже прибили травы, колючий утренний морозец пощипывал боярину щеки, конь похрустывал копытами по замерзшим лужицам — скоро мельница показалась вдали, зачернел среди оголенных ветвей осины ее высокий сруб.
Гребешок, выбежав на пригорок подле запруды, встречал боярина угодливой улыбкой, кланялся и зазывал к себе в гости.
Одноок поупрямился для виду, но не очень. Согласился быстро. Гребешок рысцой бежал впереди его коня, то и дело оборачиваясь, чтобы убедиться, не отстает ли от него боярин.
У дверей встречала Одноока Дунеха, такая же свежая, как всегда, только еще свежее — румянец розово растекался по ее щекам, голубые глаза искрились, накинутая на плечи душегрейка приятно вздрагивала при каждом ее движении, и у боярина защекотало под ложечкой.
Проходя в избу, он оглядел Дунеху пристально, Дунеха хихикнула и пошла следом, жарко дыша ему в затылок.
В избе было тепло, в печи потрескивали дровишки, на лавке лежали смятые шубы, на столе высилось блюдо с грибками и три деревянных кубка.
— Никак, гости у вас, — сказал боярин, усаживаясь на лавку и показывая взглядом на кубки.
— Какие там гости! — небрежно сказала Дунеха и убрала кубки со стола. Гребешок и ухом не повел, покорно стоял перед боярином — большие ноги в ступнях [196] носками вовнутрь, руки сложены на животе.
Дунеха вышла во двор и принесла из ледника полный жбан меда. Боярин шлепнул ее по спине и вожделенно прикусил губу. Стоя к нему боком, Дунеха не отстранилась, а Гребешок смотрел в сторону — на покрытые свилявыми щелями бревенчатые стены.
Боярин хоть и был с утра навеселе, а меду выпил в охотку, провел пальцем по намокшему усу, покрякал, похвалил хозяина:
— Хорошо варишь меды, Гребешок.
— Это не я, это моя хозяйка, — отвечал мельник.
За дверью всхрапнул конь, почудились чьи-то шаги.
— Кто там? — встрепенулся Одноок.
Ему показалось, что Гребешок смутился, а Дунеха повернулась к двери и вся обратилась в слух.
— Твой конь, боярин, — сказал Гребешок, — иному быть у нас некому. Глянь-ко, — обратился он к жене.
Дунеха словно ждала этих слов и, не оборачиваясь, проворно выскочила во двор. На этот раз боярину почудились голоса — говорили шепотом. Одноок насторожился, с подозрением посмотрел на мельника.
— Аль опять не услыхал? — спросил он.
— Должно, из Потяжниц приехали…
— Из Потяжниц нынче на твою мельню не поедут, — сказал Одноок. — Отписал я деревеньку-то боярину Конобею. Он теперь в ней хозяин…
— А мы как же? — заволновался Гребешок.
Боярин улыбнулся:
— Ишь, всполошился как!.. Тебя я за собою оставил. Пущай Конобей свою мельню ставит.
— Да отколь же зерно ко мне будут возить? — еще больше встревожился Гребешок.
— За мною не пропадешь, — успокоил его Одноок. — Из Заречья повезут, да из Дроздовки, да из Лиховатого…
— Далеко им…
— Не твоя забота.
Вошла Дунеха, остановилась у порога. Гребешок внимательно оглядел ее: волосы сбиты, щеки еще больше раскраснелись, в глазах — озорные бесы.
— Где черти тебя носили? — спросил мельник жену.
— Человечек заплутал в лесу, дорогу на Потяжницы спрашивал…
— У нас заплутать мудрено, — сказал боярин, которому ни растрепанный вид Дунехи, ни слова ее не понравились. Не понравился ее ответ и Гребешку.
Почувствовав беспокойство, Одноок встал, направился к выходу.
— Ты куды, боярин? — встрепенулся Гребешок и засеменил за ним следом.
— Некогда мне у вас лясы точить, — проворчал Одноок. Как почудилось ему неладное, так и отпала охота гостевать у мельника. Дунеха — так та вроде бы даже и обрадовалась уходу боярина. Но улыбалась так же призывно и приветливо, как и прежде.
Гребешок подбежал к коню, подержал стремя. Одноок взгромоздился в седло, тронул поводья.
— Не забывай нас, боярин, — угодливо согнулся Гребешок.
Одноок не ответил ему. Въезжая под сень леса, краем глаза увидел он, как мельник дал Дунехе увесистую затрещину. Мельничиха покачнулась, но не вскрикнула. Когда боярин обернулся, они все так же стояли рядом и, кланяясь, глядели ему вслед.
Затрещину боярин понял по-своему (обиделся Гребешок, что жена вертелась подле гостя), и это польстило ему. Он даже обрадовался, что мельник не от сытости отдает ему жену. Едучи лесом, Одноок услаждал себя приятными мыслями, рисовал отрадные картины и не заметил, когда конь своротил на боковую тропочку. Деревья встали плотнее, лесная сень сделалась тенистее, тропка спустилась на дно оврага к замерзшему ручью, и здесь боярин увидел Вобея.
Видать по всему, его тоже смутило неожиданное появление боярина. Он нахмурился, но тут же овладел собой. Одноок опасливо поглядел по сторонам.
— Ты ли это, Вобей? — с растерянностью проговорил боярин. Бежать ему было некуда — на узкой тропке коня не развернуть. А лес вокруг дремуч и страшен.
— Вот так встреча! — сказал Вобей. — Здрав будь, боярин.
Конь, продолжая двигаться, подвез Одноока ближе.
— Тпру-у, — попридержал его, взяв под уздцы, Вобей и снизу вверх с насмешкой посмотрел на боярина.
— Не озоруй, — сказал Одноок.
Тот и глазом не моргнул.
— Отпусти коня, кому сказано, — повторил боярин, напрягаясь всем телом.
Вобей ощупал богатую сбрую, провел рукой по седлу.
— Добрый у тебя жеребец, боярин.
— Атказ и того лучше был, — сказал Одноок. — Увел ты его, Вобей…
— Не гневись, батюшка, — ответил тать, — без того атказа был я как без рук. Спасибо, пастухи твои разини.
— А ну, ступай с дороги, — рассердился боярин и дернул поводья.
Жеребец вздрогнул, вскинулся, но Вобей удержал его за уздцы.
— Не серчай, боярин! — сказал тать, становясь серьезным. — Знать, удача моя, коли нанесло тебя на эту тропку. Слезай, да живо!..
— Ась?! — вытаращил глаза Одноок.
— Слезай, говорю, — повторил Вобей и потянул его из седла.
Не удержался Одноок за гриву, сполз боком; поняв недоброе, задрожал всем телом.
— Забирай коня, только меня не губи, Вобеюшка, — взмолился он.
Придерживая жеребца, отцепил Вобей от пояса боярина калиту с кунами, потряс возле уха, ухмыльнулся.
— Хороший подарок мне от тебя сегодня, боярин.
— Пользуйся…
Вобей обернулся и громко свистнул. Тотчас же на поляну выбежал из кустов стройный атказ, нежно заржал, остановившись возле хозяина.
Забыв про страхи, позеленел от злости Одноок, даже топнул ногой:
— Вор!
— Ты молчи-ко, боярин, покуда цел, — процедил сквозь зубы Вобей и легко вскочил на атказа. Боярского жеребца он держал в поводу. — Прощай, батюшка, авось еще когда свидимся!..
— Леший с тобой на том свете свидится, — сказал боярин и, поглядев вслед ускакавшему Вобею, сплюнул в сердцах.
Возвращаться на мельницу, на потеху Гребешку и Дунехе, Одноок не хотел. Так и отправился он во Владимир пешком, надеясь встретить кого-нибудь по пути.
Но дорога была пустынна, попутчиков в этот ранний час не оказалось и, отдыхая на каждой версте, кое-как добрел Одноок до города…
3
Немного спустя после того, как появился измученный ходьбой боярин у Серебряных ворот, через те же ворота выехал отряд из десяти воев во главе с Веселицей.
А на мельнице, ничего о том не ведая, сидел за столом, на том же месте, где недавно нежился Одноок, счастливый и удачливый Вобей и пил мед из той же чары, из которой недавно пил боярин.
— Что ж ты делаешь, Вобей? — попрекал его рассерженный Гребешок. — Не успел боярин и на версту отъехать от моей избы, как ты уж взял у него коня. Нынче забьет он тревогу, того и гляди, до нас доберутся…
— Чего ж до вас-то добираться? — лениво отвечал Вобей, бесстыдно, и уже не таясь от Гребешка, разглядывая Дунеху (совсем так же разглядывал ее Одноок). — До тебя добираться неча — не ты перстенек украл, не ты увел коня у боярина…
— А кто седло покупал? А кто меч тебе с торга привез? Может, не я и за перстенек получил куны? — разошелся Гребешок, со злостью глядя, как млеет жена под напористым взглядом шатучего татя.
— Не каркай, Гребешок! — оборвал его Вобей. — У страха глаза велики. Чего ни наговорил ты мне, а все понапрасну. Сколь надо, столь я у тебя и отсижу, а до срока мне отсель убираться нет никакой нужды.
— Никак, зиму собрался зимовать?
— Не в лесу же мне спать, а своей избы я не поставил, — спокойно возразил ему Вобей.
Дунеха поддержала его:
— Что пристал, Гребешок, к человеку?
— А ты сиди, сверчок, за печью, тебя не спрашивают, — цыкнул мельник на жену.
Дунеха молча проглотила обиду и, потупившись, притихла за столом.
Вобей укоризненно покачал головой:
— Почто жену свою срамишь, мельник, да еще пред чужими?
— А тебе полно насмехаться, Вобей! — вспыхнул Гребешок. — Аль не знаю, что мял ты Дунеху нынче во дворе, как гостил у нас боярин?
— Язык у тебя, мельник, что помело, — все так же спокойно и усмешливо попрекнул Вобей. — Про что говоришь, про то и сам не ведаешь: Не было меня с утра на твоем дворе, а ежели кто и мял твою жену, так это не я…
— Кто же мял-то?! — вспылила Дунеха и выпрямилась, как стальная полоса. — Аль не ты меня с собою звал, аль не ты уговаривал?!
— Вот все наружу и вылезло, — сказал Гребешок и сжал зубы. — Куды ж податься вознамерился, ежели не секрет?
— Туды, куды глаз не видит, — пробормотал Вобей. — А жена твоя сказки сказывает — ты ей не верь, Гребешок.
— Баба не врет, — уверенно отозвался мельник.
Вобей еще плеснул себе меду, ударил кулаком по столу:
— Как ни крути, а правды не утаить. Выдала меня баба. Все верно, Гребешок, надумал я жизнь свою сызнова начинать и Дунеху твою беру с собой.
— Ах! — вскрикнула мельничиха.
— Это как же так? — уставился на нее Гребешок. — Это как же так бабу мою возьмешь? А уговор?
— Кончился наш уговор.
— Нет, не кончился, — взъерошился Гребешок. — Бабу ты спросил, а моего согласия нет и не будет.
— Найдешь себе другую жену, Гребешок, — сказал Вобей. — Все равно ей от тебя проку нет. А мне она сладка, другой не надо…
Мельник уперся:
— Не пущу Дунеху — и все тут.
— Да как же не пустишь-то, ежели я ее заберу? — удивился Вобей, глядя на мельника так, будто видел его впервые.
Гребешок присел на краешек лавки, провел рукой по лицу, словно снимал налипшую на глаза паутину.
— Ох, не на радость приютил я тебя, Вобей.
— Как уйду, вот тогда и радоваться будешь…
— Разорил ты мой дом.
— Откуплюсь.
Порывшись в калите, отнятой у Одноока, Вобей положил на стол тускло сверкнувшую золотую монету.
— Гривной кун откупаешься?
— Али мало? — удивился Вобей. — Бери то, что даю. Мне ведь и передумать недолго.
— Продал я тебя, Дунеха, — всхлипывая, поворотил Гребешок мокрое от слез лицо к жене.
— Чего ревешь? — сказала жена.
— Сколь вместе прожили, беды не знали…
— Да каждый день у меня с тобою — беда, — попрекнула Дунеха. — Запер ты меня на своей мельне, ни шагу прочь. А в девках-то плясунья да заводила я была во всех хороводах.
— Ну дык и хороводься, ежели любо…
— И не уговаривай. Вот тебе гривна кун — деньги немалые. Бери да помалкивай.
Вобей радовался, что трудный разговор близок к концу. Теперь опасаться Гребешка ему было ни к чему: уедет он с Дунехой, а там ищи ветра в поле. Снова поближе к Новгороду решил податься Вобей.
— Спасибо за хлеб-соль да за приют хозяин, — сказал он, вставая. Дунеха, торопясь, сматывала в чистую тряпицу узелок с исподним. Шубейка была на ней, на ногах — меховые чоботы.
— Прощай, Гребешок.
— Прощевайте, голуби.
Вышли Вобей с Дунехой, а Гребешок за печь скакнул, потянул за черенок, выволок вилы.
«А вот поглядим, — пробормотал он себе под нос. — А вот поглядим, куды как пойдет».
Подкрался к двери, прислушался. Голоса Вобея и Дунехи раздавались во дворе.
— Эх, ма! — распахнул Гребешок дверь, сунул вперед себя вилы. Но не успел он и шагу сделать, как вскочили на двор его незнакомые вершники. Вобей прыгнул на коня, закружился по двору, Дунеха заверещала и, бросив узелок, кинулась прямо на Гребешка.
Не успел мельник убрать вилы, не успела струсившая Дунеха посторониться. Глубоко вошел в ее тело острый трезубец.
Схватилась Дунеха за черенок, ничего понять не может, смотрит на Гребешка и вроде бы улыбнуться пытается.
Дернул на себя вилы мельник — и прямо на него упала Дунеха, забилась на его груди, кровавя белую рубаху, захрипела и тут же кончилась.
А Вобеев конь махнул через плетень — и в лес. Кинулись за ним вершники, ломая сучья, закричали страшными голосами…
Ничего этого уже не слышал Гребешок, опустился он над телом Дунехи на колени, зажал ладонями ее бескровное лицо, закачался из стороны в сторону не в силах выдавить из себя слезы…
— Кто таков будешь? — наехал на него всадник на гнедом коне.
— Гребешок енто, мельник, — сказал кто-то.
— Не тревожь его, Веселица, — послышался другой голос.
Гребешок с усилием оторвал глаза от мертвого лица Дунехи, посмотрел на всадника помутневшим взором.
— Вишь ты, жену поранил, — говорили вои.
— До смерти прибил…
— Руды-то сколь натекло, страсть…
Веселица оглядел своих людей:
— Упустили ворога?
— Зверь он. И конь у него зверь.
— Пошто не пошли по следу? — сказал Веселица.
— Ванятка пошел.
— Он-те сыщет…
Веселица в нерешительности смотрел на Гребешка.
— Ас ентим что делать будем?
— Да что с ним делать-то? Пущай скорбит.
Веселица молча развернул коня и быстрым шагом выехал со двора. Дружинники тронулись за ним следом.
Тихо стало у мельницы. Чернела вокруг взрытая копытами лошадей мерзлая земля. Тусклое солнце, продираясь сквозь голые ветви дерев, бросало на лицо Гребешка холодный, мертвенный свет.
Мал Ванятка был, да расторопен. Высмотрел он, как, обогнув Владимир, перелесками, тихими тропами выехал Вобей к Лыбеди и скрылся в роще.
Тогда Ванятка поворотил назад, разыскал Веселицу с оставшимися воями и указал им путь.
— Молодец Ванятка, — похвалил паренька Веселица. — Глаз у тебя зоркой, как у сокола. Да вот, умеешь ли ты сам таиться?
— Не сумлевайся, — сказал Ванятка, — Вобей меня не видел. А мой жеребчик хоть и ходкой, а тихой…
Ровно огнем опалило Веселицу. Времени зря терять он не хотел. Замешкаешься на час, потеряешь весь день. А то и вовсе уйдет Вобей. И еще беспокоила его начавшаяся с разговора с Ваняткой тревога. Лишь по дороге разгадал он ее — не той ли самой тропкой подался за Лыбедь шатучий тать, на коей бросили его самого Однооковы прихвостни, не на ней ли подобрал его добрый и кроткий старец Мисаил?..
Как сейчас, вспомнил Веселица начало того дня, услышал звонкий лай Теремка, увидел склоненное над собой бородатое лицо старца.
Тревога забирала все пуще, а когда въехали в знакомую рощу, и вовсе стало Веселице невтерпеж. Неужто к Мисаилу в избу, словно в логово, заползет Вобей, неужто потревожит пустынника?..
Дал шпоры своему коню Веселица да еще наддал плеточкой. Едва поспевали за ним вои.
Вот и тропка старая, вот и место заветное, а вот и поляна. Веселица предостерегающе поднял руку. Не обмануло его предчувствие: так и есть — стоит у плетня привязанный к колышку атказ, косит вокруг себя диким взором.
— Здесь он.
Сошли вои с коней, придвинулись к плетню. Веселица без опаски пересек двор, постучал в дверь.
Никто не отозвался. Прильнул Веселица к дверному полотну, прислушался. Кто-то дышал с другой стороны, стоя, как и он, возле самой двери.
— Вобей, — позвал Веселица.
Тишина.
— Выходи, Вобей, — сказал дружинник. — Век в избе не усидишь.
И на этот раз — тишина.
— А ну, мужики, — крикнул Веселица воям, — подь сюды, кто помогутнее. Навалимся-ко разом.
Подошли, навалились — дверь затрещала, но не открылась. Осевший голос сказал с другой стороны:
— Камень вам в брюхо, мужики. Мало каши ели.
— Заговорил! — обрадовались вои. — Тамо он!
— Вестимо, там, где ж ему еще быть!
Навалились снова — дверь и на этот раз не поддалась. Из крепкой лесины сколотил ее Мисаил, стерегся диких зверей, ныне сам зверя прятал.
Веселица спросил приглушенным голосом:
— С тобой ли старец, Вобей?
— Со мной, где ж ему еще быть.
— Живой ли?
— Живой.
— Пущай отзовется.
За дверью зашуршало, слабый голос Мисаила сказал:
— Тута я.
— Не повредил ли тебя лихой человек, старче? — дрожа от волнения, спросил Веселица.
— Покуда здоров я. А ты кто, почто в дверь мою стучишь?
— Аль не признал?
— Не Веселица ли?
— Он самый и есть.
— Что же ты, окаянный, в мою избу ломишься, яко тать?! — возвысил голос Мисаил.
— Не ругайся, старче, я не тать. А тать у тебя под боком.
За дверью завозились. Голос Вобея сказал:
— Будя озоровать, Веселица. Почто старца в сумление вводишь? Ты и есть тать, а я князев дружинник. Мисаил мне убежище дал. Ступай прочь!..
— Ступай прочь, Веселица, — сказал Мисаил. — Так вот на какую ты свернул стезю. Так вот почто не давал о себе знать!..
— Не слушай его, старче! — забарабанил Веселица кулаками в дверь. — Врет он все. Нешто поднял бы я на тебя руку, нешто посмел бы тревожить твой покой? Спас ты меня от верной смерти, так отплачу ли тебе за добро, тобою содеянное, злом?..
Видно, голос Веселицы внушил Мисаилу доверие.
— Отвори дверь-то, — сказал он Вобею. — Веселицу я знаю, он ни тебе, ни мне лиха не сотворит.
Вобей засмеялся злобно:
— Ишь, чего захотел!.. А ну, ступай отселева, покуда не бит. А то не погляжу, что старец, живо годы твои укорочу!..
— Ты мне ишшо за старца заплатишь, Вобей, — пригрозил Веселица.
— Шибко я тебя испугался…
— А вот поглядим. Навались-ко, робятушки!..
— Не, — сказал один из воев, — так нам полотна не вышибить. Эй, кто там — волоките сюды комель.
Приволокли комель — тяжел он был, взялись все вместе, размахнулись, ударили: на сей раз дверь затрещала по всем швам.
— Стойте! — завопил Вобей.
— Чего тебе? — спросил Веселица.
— Нешто вам старца не жаль?
— Не старца бьем, а дверь. Навались-ко еще разок, робяты!
Снова ухнул комель — полетели в стороны щепки.
— Скоро доберемся до тебя, Вобей! — веселились вои.
— До меня, можа, и доберетесь, — отвечал тать, — а вот старца вам не видать.
— Это как же так?
— Порешу я его. Морхинин меч у меня вострой…
— Стой, робяты! — крикнул Веселица. — Погоди долбить дверь.
Вои переглянулись, опустили комель, с трудом перевели дух.
Веселица спросил Вобея:
— Говори, что надумал.
— А задумка моя проста. Выйду я со старцем, сяду на коня, отъеду малость и, ежели не погонитесь за мной, отпущу его с миром. А ежели что, так тут ему и конец.
Трудную задачу задал Веселице Вобей. Задумался молодой дружинник, задумались и вои.
— А ведь порешит старца, — говорили они. — Угроза его не пуста.
— Как есть, порешит.
Вобей дышал тяжело, слушал их, стоя за дверью.
— Не сумлевайтесь, мужики, — подтвердил он хрипло, — я слов на ветер не бросаю…
— Коварен ты, как я погляжу, и злоба твоя неистощима, — сказал Веселица. — Ладно, выходи, коли так. Не тронем.
— Ступайте за плетень, — приказал Вобей, — да не шуткуйте. Коня мово подведите ко двери.
Подвели коня, отошли за плетень. Дверь заскрипела и осторожно приотворилась. Сперва Вобей высунул голову и огляделся, потом выволок связанного Мисаила.
Веселица следил за ним, туго сжав кулаки. Больших стоило ему усилий, чтобы удержать себя, чтобы не броситься на помощь старцу. Вот она, святая Мисаилова премудрость. Не через нее ли отпустил Вобея Веселица в Переяславле, не через нее ли и нынче поступался долгом своим?..
«Не судите — и не судимы будете, не осуждайте — и не будете осуждены; прощайте — и прощены будете», — вдруг вспомнились ему читанные Мисаилом слова из святого писания.
И горько, и больно стало Веселице, и слезы готовы были брызнуть из его глаз.
Взвалил Мисаила Вобей на седло, сам сел сзади, пришпорил атказа. Неужто и на сей раз выпустит его Веселица?..
Нет, не утерпел он, взбодрил плеткой своего коня. Вои кинулись за ним следом.
Лиха, безоглядна погоня в вечернем лесу. Хлещут ветви по глазам, раздвигаются на стороны белые стволы берез.
Обернулся Вобей, ощерил обросший волосами рот, взмахнул рукою и сбросил на всем скаку связанного Мисаила.
Веселица сорвал с плеча лук, вздыбил коня — стрела, пропев тонко, ушла вперед. Не упустил на сей раз дружинник шатучего татя, посчитался с ним за все. Рассекла стрела однорядку Вобея, разорвала мышцы, пробила сердце и застряла в груди.
Не ушел Вобей, упал на смерзшийся мох, лицом в зеленеющее от мороза небо. Побоялся он стать против Звезданова острого меча и против Веселицыной стрелы не устоял.
Но последний взмах ножа шатучего татя сразил старого Мисаила. Когда, спрыгнув с коня, нагнулся над ним Веселица, старец был уже мертв.
Глава тринадцатая
1
Как и сулили приметливые старики, зима в том году встала снежная, с высокими сугробами и лютыми морозами.
Закутанный в медвежью толстую шубу, Мартирий сидел в глубине своего возка и с тоскою взглядывал в оконце на проплывающий в стороне от обоза одетый в серебристое кружево снега и льда притихший лес.
Жесткий от мороза, укатанный санями снег поскрипывал под полозьями. Обочь от возка скакали зоркие и угрюмые отроки.
Не праздничный это был выезд, не ликующими криками встречали владыку, не подходили с трепетом к нему под благословение. Ехал Мартирий ко Всеволоду на поклон, просить князя о милости, с обещанием ехал, что будет ходить Новгород отныне и навсегда по всей его воле, как и прочие города — Ростов, Рязань и Киев.
Наставлял его Боярский совет и выборные от купцов и ремесленников просить князя, чтобы убрал из Новгорода Ярослава и дал им сына своего на княжение. Таково было и решение веча, а простых послов принять у себя Всеволод отказался. Лучших людей новгородских не принял он, даже не допустил в свой терем. И Мирошке Нездиничу, отпущенному из Владимира, снова повелел явиться с владыкою, чтобы сами взяли из его рук нового князя…
Худо было Мартирию, в Ростове отлеживался он в палатах у епископа Иоанна, пережидал снегопады и начавшуюся после них затяжную метель.
Свирепые ветродуи гудели в трубах, бросали в затянутые колючими узорами окна морозный снег, переметали улицы высокими сугробами.
Мартирий сидел на лавке, прислушивался к ветру, к потрескиванию березовых поленьев в печи. Измученный мозг его спал, мыслей не было, по всему телу растекалась полынная горечь. Она проникала в сердце, заставляла его биться обреченно, как посаженную в клетку растерянную птицу.
Горд был Мартирий, горд и коварен. Гордостью вознесся на владычное место, мечтал о несбыточном. Коварно правил Боярским советом и вечем, за коварство свое расплачивался униженьем и скорбью.
Когда вернулся из Владимира Нездинич, когда приехал к нему на двор, еще не вовсе сломился владыка, еще корил Мирошку за уступчивость и малодушие. Тайно сносился он с торопецким князем Мстиславом Удалым, изворачивался и лгал уставшим от кровавых распрей боярам.
Нездинич сидел молча и почти не слушал владыку. Что возникало перед его внутренним взором, почему так печальны были его глаза?
Теперь понял его скорбь Мартирий, теперь он и сам испил эту чашу до самого дна.
В Ростове встречал владыку с Нездиничем епископ Иоанн. Встречал скромно — не в горнице, а в полутемной келье, не в парадном облачении, а в простой домашней однорядке, говорил глухим голосом, покашливая в ладошку, пытливо глядя Мартирию в глаза.
— Святослава просите у князя, — наставлял он. — Константина, старшего своего, он вам не даст. Не даст вам и Юрия…
— Молод еще Святослав, — попробовал возразить Мирошка, — неразумен…
Мартирий молчал. За словами, сказанными Иоанном, угадывал он тайную мысль. Уж на что унизил Всеволод великий Новгород, но и этого ему мало. Возмечтал владимирский князь и вовсе поставить его на колени. Или про то Нездиничу невдомек, что отныне править будут и Боярским советом и вечем не они с владыкой, не князь, а присланные со Святославом ближние Всеволодовы воеводы, как в простой владимирской вотчине, как в Ростове или в Переяславле?!
Иоанн сделал вид, будто мимо ушей пропустил сказанное Мирошкой. Поглаживая бороду, он глядел на Мартирия, и во взгляде его владыка прочитал не одно только торжество, но и жалость, с какою взирают победители на поверженного недруга.
А что сделал он Иоанну? Разве не за свое держался? Разве посягал на чужое? Или не тщился сделать все, чтобы расцветал и благоденствовал Новгород, как в былые, лучшие времена?!
Смеет ли он упрекнуть Всеволода за то, что возвышает он свой Владимир, что смуту вывел на своей земле, что дал простор торговле и ремеслам?
Чего не понял Мартирий, какой правды не открыл для себя? Или, радея о близком не видел пред собою всей Русской земли? Или, как был, так и остался чужд неведомым ему чувствам и мыслям?..
Завывала за окнами тоскливая метель, билась в проконопаченные стены, мороз с треском разрывал могучие бревна.
Мартирий сидел на лавке и смотрел в окно отрешенным взором. Прошлое проплывало перед ним — далекое и близкое.
Две недели пробуйствовав в Новгороде, явился к нему распухший с перепоя Ярослав. Не к владыке на поклон пришел он, а как равный к равному, не просить благословения, а требовать.
Был Ярослав раздражен и надменен.
— Почто подымаешь против меня, владыка, своих бояр?.. Почто сам глаголешь неугодное мне и бунтуешь ремесленный люд?.. Почто купцы не несут на мой двор дары свои, а холопы прячут хлеб и встречают моих людей, как ворогов?
— А разве не как ворог ты вошел в Новгород? — стараясь сохранить спокойствие, спросил Ярослава Мартирий. — Разве не я призывал тебя утишить разбой и татьбу? Разве не ты гнал меня со своего двора, яко простого смерда?
— Остановись, владыка, — грубо прервал его князь. — Не с меня пошло вражде нашей начало — с тебя. Ибо в гордыне своей не послушался ты Всеволода, а он и тебе и мне — господин и старший брат.
Перекосило тогда Мартирия от негодования, не привык он слышать таких речей в своих палатах.
Трудная это была беседа, до сих пор не стерлась она у владыки из памяти, да и не сотрется никогда.
Взамен на благословение церкви и признание Боярского совета дал все-таки Ярослав слово прекратить в городе грабеж и насилие.
И тому был рад Мартирий, и на том в душе говорил Ярославу спасибо. И немного времени спустя снова стал плести свои хитроумные сети. Тогда-то и обратился он к торопецкому князю и совсем уж близок был к осуществлению своей задумки, но явился Нездинич, а с Нездиничем новая пришла напасть.
Нет ничего тайного, что бы явным не стало. А у Всеволода всюду лазутчики, всюду люди свои.
— Остерегись, владыко, — предупредил его Мирошка, — потеряешь голову. Думал ты, снегу нет, так и следа не сыщешь. А следок-то не куды-нибудь — в твои палаты ведет…
Доверительным шепотом говорил Нездинич, в прикрытых глазах его гнездился привезенный из Владимира страх.
«Вона как поломали посадника», — подумал тогда о нем Мартирий.
Дальше беседа у них не сладилась. И даже в терему у Мирошки, даже в присутствии все такой же обходительной и заботливой Гузицы не оттаял посадник, и владыка, пред тем обретший былую уверенность, вдруг притих, словно окатили его холодной водой…
Недолго держал свое княжеское слово Ярослав — предсказания Мирошки сбылись скоро. Пришел князь к владыке разгневанный, требовал дать ответ:
— Почто шлешь, владыко, людей к Мстиславу?
Обмер Мартирий, стал юлить и изворачиваться. Ярослав ударил дверью и вышел.
И снова принялся бесчинствовать в городе молодой князь. Тогда явился к владыке Нездинич и сказал:
— Самое время приспело, владыко, избавиться нам от Ярослава. Созывай Боярский совет.
Славно пошумели в тот день бояре во Владычных палатах. Обвиняли Мартирия:
— От твоего упрямства все беды на нашу голову.
— Доколь будем Ярослава терпеть?
— Опустели наши бретьяницы и скотницы. Ежели бы не призвал ты Ярополка, ежели бы не уговорил нас, обещая мир и всеобщее согласие, не терпели бы мы нынче неслыханных притеснений.
— Про Мстислава торопецкого и думать позабудь. Поклонись Всеволоду, пожалуйся на Ярослава, проси сына его на наш стол.
Далеко за полночь сидели бояре, стучали посохами, кричали, надрывая глотки. Совсем оглох от их безудержного крика Мартирий…
Да, тяжкие прожиты времена. Но самый великий позор еще впереди. Приедет Мартирий во Владимир и первый среди новгородских владык преклонит пред Всеволодом колени…
Что станет говорить он князю, как начнет? А не велит ли Всеволод и ему ждать, покуда сам развлекается на охоте? Не унизит ли еще раз униженного, не насмеется ли над его бедой?
Не думал Мартирий, сидя на лавке перед замерзшим окном в Ростове или глядя на бескрайние снега из своего возка, летящего по блестящей дороге за Переяславлем, что не доведется ему испытать ни унижения, ни скорби, что не предстанет он пред грозным ликом владимирского князя, а въедет в Золотые ворота успокоенный на веки вечные и уже застывший, со свечою, зажатой в сложенных на животе неподвижных руках?..
Не знал и не думал об этом владыка. И в ту минуту даже об этом не думал, когда бешено заколотилось сердце, а в голову ударила обжигающая щеки кровь.
Мартирий захрапел, откинулся на подушки, потянул руку к груди, но так и не донес ее — рука упала на колени, глаза подернула мгла, и все исчезло разом: и возок, и окутанные снегом леса за оконцем, и скрип полозьев, и неспокойные думы, терзавшие его от самого Новгорода.
В одной из деревенек, где перезакладывали коней, Нездинич подошел к возку владыки, откинул полсть и отшатнулся, увидев устремленные на него безжизненные глаза Мартирия…
2
В подклете у княжеской поварихи Варвары пригрелся Четка, как в своей избе.
Отроки добродушно подсмеивались над попом, Четка огрызался, но привычке своей не изменял. Варвара тоже относилась к пересудам со спокойствием: поговорят да и перестанут. А поп был ей по душе.
В тот день с мороза прибежал к ней Четка в подклет, постучал лапотком о лапоток, сбивая налипший снег. Варвара ждала его вечерять.
— Знатной будет ночью морозец, — сказал Четка, сбрасывая на лавку накинутую поверх рясы баранью шубейку и поднеся руки ко рту, чтобы согреть их своим дыханием.
— Ты к печи ступай, у печи-то потеплее будет, — сказала Варвара, с доброй улыбкой глядя на него.
У печи пристроился Четка на вязанке дров, спину подставил гудящему под ободами жаркому пламени.
— Вот гляжу я на тебя, Варвара, и тако думаю, — сказал Четка, жмурясь от удовольствия, — хорошая ты баба, и статью, и умом взяла, а мужика себе не сыскала…
— Чего ж мне мужика-то искать? — оборачиваясь через плечо, ответила она и застучала на столе деревянными ложками. — Пущай меня мужики ищут…
— Мужикам-то что, — протянул Четка. — Мужикам-то ничего. Вон слыхал я днесь, как про тебя сказывали. Многим ты люба, а — строптива, ответного чувства не выказываешь…
— Чего ж мне его выказывать-то? — продолжала греметь ложками Варвара. — Выказывай не выказывай, а никто мне из тех кобелей не люб.
— Это что же ты разборчивая какая, — продолжал Четка. — Этак и провековуешь одна. Не успеешь и оглянуться, как молодость прошла. Старую-то тебя кто возьмет?
— Кому надо, тот и возьмет.
— Не знаешь ты женского обычаю, Варвара, вот и говоришь.
— А ты мужской обычай знаешь? — повернулась к нему она, подперев бока руками. — Ты про что глаголешь, аль муха тебя какая укусила с утра?
— Мухи, Варвара, с осени перевелись, а мужской обычай отколь мне знать? Я — поп, не по сану мне гоняться за бабьими подолами.
— Поп, поп, — проворчала Варвара, — так почто речи непотребные завел? Почто меня смущаешь?
— Да разве я хотел тебя смутить? — сказал Четка. — Я ведь к слову…
— А слов таких не было.
Четка поморщился и покачал головой.
— Леший вас, баб, разберет. Николи не знаешь, чего вам надо.
— Ты и не разбирайся. Куды нос свой в чужие дела суешь?
— Да с каких пор твои дела-то мне чужими стали? — удивился Четка.
Варвара подошла к печи, вынула ухватом с огня глиняный горшок, поставила на стол, стала ложкой выгребать из него в общую мису хлёбово.
— Чем языком-то молотить, ступай, похлебай чего, — ворчливо пригласила она Четку.
Ели молча, хлебово подносили бережно, подставляя под ложки ломтики ржаного хлеба. Четка жмурился от удовольствия и громко причмокивал. Варвара ела спокойно, не спеша, смотрела на стену поверх Четкиной головы. Насытившись, отложила ложку, неторопливо вытерла убрусцем губы.
Четка выскреб из миски остатки хлёбова, срыгнул и блаженно откинулся на лавке.
Сложив крест-накрест полные руки на столешнице, Варвара сказала:
— Нынче мне недосуг с тобой толковать — гостей полон двор, работы и до вечера не избыть.
— Всем великое беспокойство, — кивнул Четка, — одному мне праздник.
— Чо это?
— А княжичей мне ныне для науки не дают. С утра в баньке парят, наряжают, как на выданье. Княгиня-то вовсе с ног сбилась.
— Чего ж ей не сидится?
— Да ты что? — удивился Четка. — Аль ничего не слышала?
— Отколь мне слышать, ежели с утра до вечера у печи?
— Новгородцы прибыли…
— Про то ведаю.
— Владыко Мартирий в пути у них преставился…
— И об этом сказано было.
— Святослава отдают в Новгород князем…
— Да ну?! Слабенькой он, куды ж ему княжить-то?
— Вот и княгиня тревожится. Оттого с утра и на ногах. Последние-то деньки хочется побыть рядом с княжичем. Изревелась вся. А князь сердится…
— Какой матери свое дите не дорого?
— Про то и я говорю. Да у них обычай свой… Вот и едет в Новгород, хотя и малец. Константин дюже сердится…
— Чего ж ему сердиться-то, — не поняла попа Варвара. — Он при матери остался.
— То-то и оно, что остался, — сказал Четка. — Вроде бы и хорошо, а вроде бы и обида — почто не ему дали новгородский стол. Он батюшке-то своему так при мне и сказал: «Почто, говорит, батюшка, меньшого сажаете в Новгороде, почто не меня?»
— А князь?
— У князя, должно, свои задумки. Покачал так головой да и отвечает: «Не спеши, Константин, придет и твой черед». Княгиня хоть и тому порадовалась, что не Юрия, любимца ее, послал княжить Всеволод.
— А все равно сердце-то материнское в тревоге.
— Знамо.
Когда Четка вышел от Варвары, на улице шел крупными хлопьями снег. Ветер стих, потеплело. В детинце, а особенно поближе к княжескому крыльцу, людей было видимо-невидимо. У коновязи места не хватало для лошадей. Всюду возки, сани, у конюшен сложены вдоль стен седла. Туда и сюда, тесня народ, сновали гонцы, взбегали на крыльцо, спускались вниз. Все куда-то торопились, толкали друг друга, сновали, покрикивали, считая, что их дело важнее иного всякого.
За воротами детинца людей было не меньше. Но люд здесь выглядел поскромней: ни ярких кожухов, ни сафьяновых сапог, ни коней под дорогой сбруей, ни собольих высоких шапок — простые шубейки, лапти да чоботы, худые лошаденки, простые суконные шапочки и заячьи треухи.
Народ жаждал увидеть послов из Новгорода и ждал угощенья. Но Всеволод, не урядившись с новгородцами до конца, не спешил выставлять меды и брагу.
В воротах Четка столкнулся со Словишей. От него и узнал он, отчего случилась задержка.
Именитые новгородские мужи, совсем уж было сговорившись, заспорили со Всеволодом, который поставил им не только своего князя, но и своего владыку Митрофана.
Отродясь такого не бывало, чтобы князь, да еще не свой, ставил в Новгород духовного пастыря. Владыку избирали всем миром и тянули жребий, а после отправляли к митрополиту на поставление.
— Ну и как? — спросил Четка.
— Так куды же им подеваться? — весело сверкнул зубами Словиша. — Спорь не спорь, рядись не рядись, а здесь новгородцы в нашей воле.
— Недужно им…
— Да уж чему радоваться.
Поговорив со Словишей, дальше отправился Четка, с трудом продирался через густую толпу.
Чуть поодаль от детинца людей было меньше, а в ремесленном посаде и вовсе поредела толпа. Как и в любой из обычных дней, доносилось из мастерских постукивание молоточков, от кожемяк пахло кожами, от кузнецов — древесным дымком и каленым железом.
— Куды, Четка, бежишь, ровно на пожар? — окликнул его Морхиня. — Заходи в гости.
«А верно, куды это я разогнался? — подумал поп. — Ровно бы и дела никакого нет…»
Зашел к Морхине в кузню, поглядел, где бы присесть. Всюду кучи железа навалены, везде уголь и пыль, юноты вздувают мехи, в горне гудит белое пламя. Жаром так и несет, так и пышет в лицо.
— Садись-ко, — пододвинул Морхиня Четке березовую колоду, — отдохни.
Сам отвернулся тут же, выхватил клещами из пламени светящуюся подкову, бросил на наковальню, стал сбивать окалину маленьким вертким молоточком. Постукивая, выспрашивал у попа:
— Каково встречает новгородцев князь?
— С утра в гриднице.
— А слушок-то какой прополз?
— Слушок разный.
— Поклонились князю, Святослава просили?
— Кого просили, не ведаю, а только Нездинич шибко злой был. А что Святослава сажает Всеволод в Новгород — то верно, сам из князевых уст слыхал.
— Нешто усобице конец?
— Деться им некуды. Слава те, господи, без нашей кровушки обошлось.
Глядя на подковку, Морхиня узко щурил глаза, говорил прерывисто:
— Бывал я в Новгороде. Жил в Неревском конце. Искусные у них ковали. Они меня и учили. Мечи ковать. Делать замки. Славные в Новгороде замки. Слышал?
— Как не слышать.
— Народ веселой. Когда хмельной, а когда и суровой. На все руки мастера. Гордые.
— Всяк русский горд.
Морхиня оторвался от наковальни, подхватил клещами и снова зарыл подкову в красные уголья.
— А вот поди ж ты, — сказал он, вытирая со лба пот рукавом рубахи, — все делимся, все с рядом ездим из удела в удел, а урядиться не можем. Чо делим-то?
— Аль твои ковали делят?
— Ишь ты куды хватил! Головастой, — усмехнулся Морхиня.
Прогревшись до самых костей возле жаркого горна, Четка распрощался с кузнецом. Не терпелось ему первым добрым вестником пройти по всему посаду. Бегал он со двора на двор и всюду был желанным собеседником.
К вечеру охрип Четка от разговоров. Вернулся на княж двор едва живой, но счастливый. Не зря пропал день.
А в тереме отроки с ног сбились, разыскивая попа.
— Это где же тебя черти носили? — сурово спросил наконец-то появившегося Четку Всеволод.
Оторопел поп. Однако князь был в хорошем расположении духа. Выслушав сбивчивые оправдания Четки, сказал:
— Готовься в путь, отче. С утра поедешь в Новгород со Святославом.
— А как же другие княжичи? — пролепетал ошарашенный Четка.
— Святослав первым едет князем на сторону. Ему грамота твоя нужна. Да и глаз чтобы рядом был. Чуешь?
— Чую, княже, — захлебнувшись от радости, воскликнул Четка и кубарем выкатился из гридницы.
Узнав о его отъезде, Варвара всплакнула, сунула в руки узелок со стряпней:
— Пригодится в дороге.
Четка тоже расстроился, но грусть его была недолга. За хлопотами да заботами быстро истек недолгий зимний вечер.
А утром длинный обоз с уложенным в колоду покойным Мартирием и новым новгородским князем тронулся через Серебряные ворота на Ростов под долгий перезвон соборных колоколов.
3
Мирошка Нездинич думал, что и его отпустит Всеволод в Новгород: дело сделано, чего же еще?
Да не тут-то было.
Накануне сидели в гриднице думцы, и Нездинич был с ними. Теперь держался он с остальными на равных, князю в глаза глядеть не опасался. Вместе утверждали они Митрофана владыкой, Всеволод даже совета у Мирошки спрашивал, справлялся, как поведут себя новгородцы: доселе не приходилось им принимать к себе пастыря из чужих рук.
— Пущай привыкают, — говорил Мирошка, — старые времена кончились.
— Ой ли? — качал головой Всеволод. — Не верю я что-то вашим крикунам.
— Ефросима сызнова во владыки не кликнешь — шибко разобиделся старец. А другого у нас на примете нет, — с кротостью отвечал Мирошка.
— Другого нет, — соглашался Всеволод, — да долго ли сыскать?
Забеспокоился посадник: что-то еще задумал князь? Покосился на думцов — те сидели с каменными лицами, только Кузьма Ратьшич улыбался едва приметно.
Всеволод сказал:
— Не со стороны даю я вам князя, а свою кровинушку. Смекаешь ли, боярин?
— Как не смекать, — кивнул Мирошка. — Но мое твердое слово тебе уже ведомо: покуда жив я, в беду Святослава не дам.
— Мартирий тоже долго жить хотел, да в одночасье преставился, — сказал Всеволод.
Мирошка даже руками на него замахал:
— Уж и меня не собрался ли ты хоронить, княже?
— Все мы смертны, все под богом ходим, боярин, — усмехнулся Всеволод. — Нынче я за тебя, Мирошка, пуще всего опасаюсь, — продолжал князь, — нынче у тебя врагов и завистников в Новгороде не счесть… И, поразмыслив, вот что решил: останешься ты покуда во Владимире — тишина у нас и покой. Да и я гостю буду рад. А скучать тебе мы не дадим.
В лице переменился Нездинич — так вот к чему клонил Всеволод! Сызнова пленник он у него, сызнова оставляют его заложником. Раньше времени порадовался посадник, раньше времени велел поставить свои возы в отправляющийся заутра обоз.
— Почто позоришь седины мои, княже? — выдавил он через силу. Но Всеволод уже не слушал его, будто и не было в гриднице боярина, будто и не с ним только что вел разговор. Обернувшись к думцам, стал наставлять Святославова дядьку:
— Тебе, Лазарь, сам бог велел ехать с молодым княжичем. За малым приглядывай, Четке вольничать не позволяй. Поп он разумный и зело ученый, а все ж… Да и опытный муж должен быть у Святослава под рукой — чай, не одной псалтирью станет тешиться на чужбине.
Гордо выпрямился Лазарь, встал, поклонился Всеволоду:
— Спасибо за доверие, княже.
И Митрофану наказывал Всеволод:
— Гляди в оба, не заносись, верных людишек собирай вокруг себя, а не надейся на одну дружину — ты Святославу правая рука, во всем опора.
Митрофан кивал рыжей головой, слушал внимательно. Неожиданное выпало ему счастье — до сих пор не мог он еще оправиться, не знал, как вести себя в княжеских хоромах, краснел и хлопал глазами. Но внешний вид его был обманчив, и Всеволод это понимал. Неспроста выбрал он его для исполнения своей воли, неспроста долго советовался с Иоанном и приглядывался…
Расходились в темноте. На гульбище Нездинича попридержал Кузьма:
— Что пригорюнился, посадник?
— А радоваться чему? — хмуро отстранился от него Мирошка. Про себя он смекал: что, если ослушаться князя? Что, если взять да и встать в обоз?
Шальная это была мысль, бестолковая. Нешто даст ему Всеволод выехать из города беспрепятственно?!
Кузьма подтвердил его опасения:
— Приставлен я к тебе нашим князем, Мирошка. Куды ты, туды и я.
— У тебя глаз востер, — проворчал посадник.
— Да и нрав веселый, — подхватил Кузьма. — Ходи ко мне в гости, Мирошка, а о том, чтобы сбегнуть, и думать не смей.
Все прочел по Мирошкиным глазам Кузьма.
— Ладно, — обреченно согласился посадник, — гулять так гулять.
Угарная и невеселая была та ночь. Собрались у Ратьшича его друзья — Словиша со Звезданом да Веселица. Заранее звал их к себе Кузьма, заранее велел накрывать столы в горнице — еще утром все было обговорено с князем…
Проснулся Мирошка в своей постели, сразу и вспомнить не смог, как добрался до дому. Глянул в оконце на солнышко и ужаснулся: стояло оно уже прямо против купола Успенского собора.
Проспал Мирошка условный час: ушел на Новгород обоз, а он даже не простился ни с кем…
И потекли одинаковые, унылые зимние дни. И с каждым днем все сумрачнее становился Мирошка, с каждым днем все сильнее снедала его тоска. Все чаще и чаще поднимался он на городницы у Серебряных ворот, подолгу всматривался в заснеженную даль.
От безделья разные приходили в голову мысли, а пуще всего растравляли являвшиеся во всякое время, но чаще по бессонным ночам назойливые воспоминания.
Надо же было такому случиться: за лихолетьем да за пустыми заботами ни сил, ни желания не оставалось, чтобы оглянуться, чтобы прошлое окинуть взором, чтобы взглянуть хоть раз на себя со стороны.
А тут вдруг все отпало — без него покатилась жизнь.
Впервые припомнил Мирошка, что и он когда-то был мальчонкой, ловил карасей в озере, катался на лодке по Ильменю и нравилось ему встречать посреди водной глади багрово-красные закаты. И не заковыристые речи шумливых вечников волновали его в густой толпе, время от времени стекавшейся к церкви Параскевы-Пятницы на Торгу. Нравилось Мирошке людское многоцветье и разноголосье, нравилось глядеть, как, стоя на степени, нарядный и важный отец разговаривал с людинами и боярами. Здесь Незда был совсем другим, а дома почти всегда видел Мирошка отца во хмелю, в ссорах с матерью.
«Господи, — вздыхал посадник, — сколь годков уж как матушка преставилась, и вот вспомнилась. Знать, кличет меня к себе, знать, накаркал мне Всеволод».
Отец Мирошки был человеком строгим, но и мать не из смиренниц — из древнего славного рода ввел ее в свой терем Незда. Иной-то раз и не он, а она брала над ним верх — тогда боярин весь день ходил угрюмый, совал нос во все домашние дела и вымещал злобу свою на дворовых.
Среди однолеток разные были у Мирошки приятели, но пуще других был он неразлучен с сыном сокалчего Мирона — Емкой.
«Вот ведь чудно, — дивился посадник, — и Емку вспомнил, и имя его не затерялось во времени».
Это с Емкой уходил он на Ильмень и ловил карасей. Бедовый был парнишка, охочий до разных выдумок. Но годы разделили их — не до простца стало сыну именитого боярина! Да и Емка переменился неузнаваемо: угодлив сделался, в глазах собачья преданность высветлилась. Мирошка к тому времени входил понемногу в отцовы дела.
Не с той ли поры все и началось?
— С кем дружбу водишь? — сказал как-то Незда Мирошке. — Гляжу я на тебя и диву даюсь: чей ты сын?
— Знамо, твой, батюшка, — растерянно отвечал Мирошка. Странным показался ему отцов вопрос.
— Кабы мой был сын, так давно бы уж огляделся. В твои-то годы другие боярские сынки не карасишек ловят, а делают кое-что и поважнее.
Опять не понял Мирошка намеки отца.
— Оно и видно, — сказал Незда, — умишко у тебя худоват.
И отдал Мирошку в ученье. Разные люди приходили наставлять его уму-разуму. Были и книжники, были и купцы. А еще брал его с собой Незда, когда навещал свои близкие и далекие деревеньки.
И года не прошло, как забыл Мирошка и про карасишек, и про старых своих приятелей. А если и наведывался на Ильмень к рыбакам, то для того только, чтобы проверить, справно ли ловят рыбку да не утаивают ли чего.
Нравился Мирошке новый обычай. Пешим из дому он больше не выходил, в простых портах не шлялся по исадам. Был у него теперь бархатный кафтан, и не один, были сапоги сафьяновые и собольи шапки, свой конь был — и не какая-нибудь кляча: славный конь под ладным булгарским седлом.
Стали с почтением приглядываться к Мирошке бояре и купцы, сам владыка допускал его к себе на беседу. Нет-нет да и выскажет словечко Нездинич, нет-нет да и прислушаются к нему.
Тогда-то и загорелся он страстной мечтой. И отец пообещал ему:
— Буду умирать — отдам тебе Новгород.
Да легко, видно, было сказать — труднее сделать: переменчиво жили новгородцы. И Завида Неревинича и Михаила Степановича переждал Мирошка, и Гаврилу, брата Завидова, и снова Михаила Степановича.
Но здесь совсем другое начиналось, от этих воспоминаний Мирошку мороз продирал по коже.
Суетно текла его жизнь, и порою казалось ему, что и не он вовсе собирал вокруг себя приверженцев, обхаживал владык и вел переговоры с капризными князьями — чья-то иная, властная и необоримая, сила стояла все годы за его спиной.
Будто чужое сердце вложила она ему в грудь, и даже теперь, на чужбине, повергнутый и повязанный, как половецкий пленник, не способен был он до конца оживить в себе светлое прошлое, и мысли возвращались по кругу к однажды начатому…
Нет, не искренне клялся он Всеволоду, тайное прятал от чужих ушей и взоров и только в одном раскаивался, что и сына своего Дмитрия не наставил на тот же, всему роду его завещанный путь.
Ни в отца, ни в мать вырос Дмитрий, а все-таки, видно, была в чьем-то роду такая щербинка: вон и Гузица первая среди новгородских гулен.
Рано отделился Дмитрий от отца — теперь уж Мирошка жалел об этом, а поначалу даже вроде бы и радовался: больно беспокоен был сын, при нем на посадском дворе вечно толкались веселые бражники. Тогда и Мартирий укорял Нездинича: что это, мол, у тебя — боярский терем или питейная изба?
И еще доходил слушок, что обирает-де Митька, пользуясь отцовой властью, купцов и ремесленников: берет в долг, а у самого ни резаны за душой.
Поссорился с Дмитрием Мирошка, а зря — с ним самим отец был терпеливее: знал, что не просто сын, а наследник дел его подрастает. Мирошке же все невступно было, все думал: «Перебесится — остепенится».
Не остепенился Дмитрий, отделившись, еще пуще пустился в разгул.
Только отправляясь во второй раз во Владимир, будто прозрел Мирошка.
— Ежели не вернусь, — говорил он сыну, — нешто на мне и кончится наш древний корень? Нешто и впредь, предаваясь, как и ныне, непотребным утехам, не внемлешь ты зову нашей крови?
«Ох, Дмитрий, Дмитрий, — вздыхал Мирошка, ворочаясь на лежанке, — подсказывает мне сердце: не долго я еще протяну, да и кто бы вытерпел столько унижений? Сядет снова на место мое Михаил Степанович, а ты так и будешь бражничать с худыми купчишками и людинами?»
Худо, совсем худо, когда впереди не видится просвета…
Выходя на вал, пустыми глазами глядел Мирошка на убегающую в бескрайность заснеженную дорогу. Шагнет ли он снова на нее, вденет ли ногу в стремя или так же, как и Мартирия, увезут его к далекому Волхову в тесной домовине и никто ни здесь, ни на родине не уронит по нему слезы?..
Но все же не хотелось верить Мирошке в близкий конец: понимал он, что кончается вместе с ним в позорном изгнании былая новгородская вольница.
Истово молился Мирошка в церкви Успения божьей матери, ставил богородице пудовые свечи:
— Дай хоть раз еще взглянуть на святую Софию!
4
Лежала в снегах поделенная на княжества огромная Русь. Из конца в конец рассекали ее не знающие рубежей дороги, извивались в лесах и степях многочисленные тропки, прятались в низинах, за горбами холмов, деревеньки и погосты…
Ветер бил в лицо, обжигал щеки, прохватывал сквозь дубленые полушубки. Позади был долгий путь, земли литвы и ливов, впереди — за снежной круговертью, в лесах и незамерзающих болотах — лежала новгородская Русь.
Не с богатым прибытком, но живые и невредимые возвращались на родину Негубка с Митяем.
Осталась на дне Варяжского моря разбитая бурей лодия с товаром, погибли товарищи и сопровождавшие их вои в неравной схватке со свеями уже на подходе к родному порубежью. Пали кони, иссякли припасы. А путь еще предстоял не близкий.
Дорога терялась в снегу, петляла по перелескам, но, если вьется дорога, значит, где-то рядом жилье. А где жилье, там и горячая пища, и теплый ночлег.
Митяй выбился из сил, Негубка был крепче, но и у него уже подкашивались ноги, и у него заходилось от мороза дыханье. Самое страшное было упасть в снег — и больше не встать, лечь в сугроб, уснуть — и уже не проснуться. А как манила к себе пушистая снеговая постель, как зазывна была ее нетронутая белизна!..
Но вот мелькнул вдалеке едва заметный огонек, мигнул и снова погас. Сгущались сумерки, ветер стал еще напористее и грозней, снег пошел гуще. Оступившись на краю нанесенного к оврагу сугроба, Митяй вскрикнул и покатился вниз.
За оврагом виднелась криво извивающаяся изгородь, изба за изгородью стояла, нахохлившись, как ворон, дым из трубы прибивало ветром к земле.
Негубка перебрался за Митяем через плетень. Ступая след в след, они с трудом вскарабкались на пригорок. Сбитая из досок низкая дверь была на запоре. Негубка постучался кулаком, прислушался.
— Хозяин!
Изнутри не сразу отозвалось:
— Кто такие?
— Впущай, хозяин, не ровен час — замерзнем на ветру, — сказал Негубка.
— Чего же вас в непогодь носит?
— Не по своей воле мы, приткнуться негде…
— Не тати?
— Какие же мы тати, ежели купцы, — нетерпеливо объяснил Негубка. — Пали кони у нас, вот и бредем пешком, ищем ночлега.
За дверью настороженно пошептались.
— Ладно, — сказал голос, и загремел засов. — Входите. Но ежели что, у меня топор в руке. Знайте.
Дверь отворилась, в лицо пахнуло прокисшим теплом, живым духом простого деревенского жилья.
Хозяин, босоногий мужик высокого роста, стоял в исподнем, открыто выставив перед собою топор. За спиной его жалась к стене хозяйка, а из-за нее выглядывали детские заспанные личики.
Негубка, сняв шапку с наросшим на ней высоким комом снега, поклонился хозяевам, поклонился и Митяй.
— Дай бог счастья сему дому, — сказал купец, ища глазами образа и, отыскав в углу иконку, перекрестился.
Обходительность Негубки успокоила хозяина. Он притворил дверь, задвинул щеколду и бросил в угол топор.
— Проходите, гостями будете, — певуче приветствовала хозяйка.
Приглядевшись к ней, Негубка заметил, что она еще не стара и что морщины, избороздившие ее худое лицо, не от возраста, а от жизни.
В избе было бедно: ни домашнего половичка, ни полавочника — только стол, да лавки, да печь по левую сторону, а по правую два совсем узеньких оконца, заволоченных тонкими досками. Над кадкой с водой горела лучина.
— Разоболокайтесь, люди добрые, — сказал хозяин, — да грейтесь возле печи, а ты, Малашка, собирай на стол.
— Деревня-то у вас велика ль? — спросил Негубка, протягивая скрюченные руки к тлеющим в печи уголькам.
— Да кака деревня, — махнул рукой хозяин. — Всего-то три избы.
— Чьи же вы будете?
— Боярина Нездинича холопы, чьи ж еще…
Хозяин притащил от порога охапку дров и подбросил в печь несколько поленьев.
— Куды ж вас, милые, в этакую коловерть понесло? — снова подивился он, разглядывая Негубку. — Говоришь, купец, а кожух на тебе мужичий…
— Верь, хозяин, купец я, — подтвердил Негубка. — Да вот остался и без товару, и без лошадей. Товарищей моих посекли…
— Худо, худо, — помотал нечесаной головой мужик. — Теперь-то как?
— Даст бог, не пропаду…
— Загодя не радуйся.
— Оно-то так, — согласился Негубка. — Да уж и то хорошо, что добрались до своих. Дальше легче будет.
— Кому легче, а кому и тяжелей. Нам вот ждать уж боле нечего. Вовсе по миру пустил нас боярин. Как есть разорил… Да еще и литва нет-нет шумнет. Только в лесах и спасаемся.
Хозяйка тем временем накрыла на стол.
— Угощайтесь чем бог послал, — пригласила она Негубку с Митяем. — А мы уж вечеряли…
Ребятишки теснились на лавке, смотрели на нежданных пришельцев с любопытством.
На ужин была ветряная рыба [197] да распаренная репа. Да еще жбан квасу. Негусто в крестьянской избе.
— Ране-то хоть река была у нас обчая, — сказал хозяин, — а ныне приезжает тиун, смотрит, не ставим ли свои заколы. Повсюду боярские знамена, куда ни ткнись. И хоть дичи в лесу видимо-невидимо, а и зайца не возьмешь. Борти тож не наши…
Ребятишки на лавке захныкали. Тот, что взрослее других был, дернул мать за подол.
— Ну, чо тебе? — встрепенулась хозяйка.
— Есть хотим, — протянул мальчонка нудливым голосом.
— Им только есть подавай, — рассердилась мать. — Давно ли вечеряли?
Мальцы смотрели на нее просящими, испуганными глазами. Хозяин неторопливо сказал:
— Не скупись-ко, дай чего не то. Им нашей беды не уразуметь. Дети…
Поев того же, что и гости, мальцы успокоились и легли спать вповалку, прямо на полу. Гостям кинули на лавку потрепанный полушубок.
За много дней впервые уснули Негубка и Митяй спокойным, крепким сном. Негубке снилась его старая лодия, груженная дорогим товаром, а Митяю снился Ефросимов монастырь и сам игумен с насупленными бровями и добрым взглядом.
Утром, распростившись с хозяевами, они снова двинулись в путь.
Метель к рассвету улеглась, выглянуло солнце. Снег поскрипывал под ногами, а сердитый морозец прибавлял Негубке и Митяю легкого шагу — шли они весело, открыто, на родной земле таиться им было не от кого.
Возле Плескова, на счастье, встретил Негубка знакомого купца с обозом из Чернигова.
Подивился купец, разглядывая путников:
— Вот так Негубка! По всей Руси только и разговору промеж купцов, что о твоей удачливости. А тут на-ко…
— И на старуху бывает проруха… Не в Новгород ли держишь путь?
— А куды ж еще!.. Садитесь, подвезу.
Дальше дорога была просторней. Подолгу на ночлегах обоз не задерживался, кони были кормлены и возы тянули споро.
Через два дня на вечерней зорьке увидели обозники могучие стены новгородского детинца и купола Софийского собора. Радость была великая. Кони встали, люди высыпали на снег, крестились и обнимались друг с другом. Трудная дорога осталась позади. Можно было сунуть обратно под тюки мечи и сулицы, раскупорить прибереженные для этого дня бочонки с медом и брагой.
Купцы пили и веселились, пили и веселились обозники. Шли по кругу ковши и чары, и крепкие словечки перемежались задорными скоморошинами.
А через другие ворота, с другого конца Новгорода, въезжал в ту же самую пору совсем другой обоз. Встречали его церковным пением и колокольным звоном, со святыми дарами, с хлебом и солью.
И не знали, что им делать, новгородцы — не то плакать, не то радоваться. В переднем возке въезжал в Новгород новый князь — сын грозного Всеволода юный Святослав. А чуть поодаль, в другом возке, везли запечатанные в простой колоде останки владыки Мартирия. И еще подале, в третьем возке, ехал новый новгородский владыка, поставленный владимирским князем, огненнобородый и пышущий здоровьем Митрофан.
Так и радовались, плача, и плакали, радуясь, новгородцы. А колокола все звонили и звонили, и зимний режущий ветер разносил этот звон по всей Руси.
Эдуард Зорин Обагренная Русь
Роман
Часть первая ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
Пролог
1
От случайной искры не единожды дотла сгорал Владимир, стольный город великого князя Всеволода Юрьевича. Не единожды заново подымался из пепла — краше прежнего.
Выравниваясь у подножья высокого холма, на вершине которого гордо стояла пятиглавая Богородичная церковь, в виду могучих стен княжеского детинца текла неторопко золотистая Клязьма. У рубленных из добротного дуба исадов покачивались на спокойной волне приплывшие из далеких стран лодии, под просторными навесами громоздился товар, гудел разноголосо не иссякающий людской поток, и в плавную русскую речь вплетался чужедальний говорок булгар, угров, свеев, венецианцев и греков.
Далеко по земле прошел слух о Владимире, знают о нем не только бывалые купцы и хожалые людишки, чьи пути пролегли и рядом и за тридевять земель, — все чаще обращаются к нему ищущими взорами могучие владетели с запада и востока.
С утра туман неторопливо растекался по низине, уходящей в сумеречные леса и гнилые болота Мещеры, первые солнечные лучи купаются в хлебах Владимирского ополья; от Рязани, от Чернигова и от Киева поспешают ко Всеволоду гонцы, а вместе с ними и степенные послы от короля венгерского и польского, от князя волынского и галичского, от митрополита и самого византийского патриарха. Едут от Новгорода через Великий Ростов и Суздаль бояре и посадские с берегов Варяжского моря и Белоозера, везут щедрые дары от франков и германского императора.
Иноземным путникам все здесь в диковинку, опасные леса вселяют суетную тревогу, и не верится, что за мраком и гибельной грязью зловонных трясин стоит на холмах украшенный позолоченными главами соборов, опоясанный богатыми посадами город, который славят, не лукавя, в песнях своих вездесущие гусляры.
Зовет их к себе на пир в просторный и светлый терем великий князь Всеволод, слушает песни, подносит гуслярам в чарах густого меду и заморских тонких вин.
Сидит князь на своем золотом стольце, сам хоть и тоже пьет, а не пьянеет, зорко присматривает за боярами и дружинниками, ломает в прищуре седеющую бровь.
Никому и невдомек, никто и ведать не ведает, как надсадно болит у него по ночам сердце, как ходит он в тревоге босой по ложнице, глядит с тоской и недобрыми предчувствиями в сереющее оконце.
Да и сам не верит Всеволод, что вершат прожитые в беспокойстве годы свой неумолимый суд. Душа молода у князя. Задумок на три жизни хватит с лихвой. И далеко еще, ох как далеко до исполнения самой заветной его мечты.
По-прежнему неуемен князь, по-прежнему крепко держит в узде горячих и нетерпеливых думцев.
Как-то явился во Владимир прославленный книжник из Галича, разворачивал перед Всеволодом большой пергаментный лист.
— Что это? — изумился князь, ибо на листе том были начертаны непонятные линии и знаки.
— Земля наша, княже, — ответил с улыбкою книжник. — Вот Волга стекает в Хвалисское море, а это Клязьма пала в Оку, а над Клязьмою — твой стольный град…
Положил Всеволод ладонь на пергамент — мизинцем достал до Булгара, под пястью скрылась земля половецкая, безымянный палец дотянулся до Новгорода, указательный до Галича, а большой уперся в Киев.
Засмеялся Всеволод, позабавился:
— Хитер ты, книжник, уважил старого князя — всю Русскую землю разом вместил на пустяшный пергамент. А сколько по ней хожено-перехожено — кому сие ведомо?!
И после того разговора, удаляясь ото всех, подолгу сиживал князь над подаренным ему чудесным чертежом. Не давал он ему покоя, заманивал, завораживал. Вглядывался Всеволод в причудливые извилины рек, и виделись ему живые картины, былое проходило перед его внутренним взором. Едва ли не каждая верста на том щедро отмеренном пути оставила свою отметину — что-то в тумане виделось, а что-то до ослепительности отчетливо, словно только вчера случилось.
Ах ты, молодость, молодость, — была, и нет ее, будто полая вода вспенила реку и влилась в бескрайнее море. Казалось вон как шумела да сколько наделала переполоха: стечет широким устьем — и выйдет море из берегов вздыбится седыми гривами волн, ударит в скалы, опрокинет лодии. А оно даже не шелохнулось.
Невесело думалось иногда, да еще зимою, да еще к непогоде. Это чернолюдью кажется, что неведомы ему сомнения, это слава о нем, как о самом мудром из князей, идет по Руси. Кому знать, сколько раз останавливался он, цепенея в растерянности, сколько раз опускались от бессилья руки?.. Но всегда чело его было спокойно, а мысли были ясны. Ясны они и теперь, и Всеволод привычно глушил в себе тайную тревогу.
Есть ли печалиться от чего? Как ни трудно было, но многое из самого тяжкого позади. Не рассеялись по ветру его труды, отовсюду зримы — из близи и из далекого далека. Считаются с ним, перечить ему опасаются. И не только свои князья, и не только митрополит киевский, но и византийский патриарх, глава православной церкви. Не по душе пришлось ему, что поставил Всеволод в Новгороде едино своею волей нового владыку Митрофана, а как возразишь? Повелеть патриарх не в силах, хочет договориться полюбовно, чтобы чести своей не уронить: что, как все князья русские последуют Всеволодову примеру?! Вот и толчется уж который день на княжом дворе его посол, высокий поджарый ромей, в котором и под просторными одеждами угадывалось крепкое тело не затворника, но бывалого воина.
Изредка глядя в оконце, Всеволод рассматривал его с улыбкой. Поубавилось, поубавилось у ромея прыти — в первый-то раз явился он куда каким молодцом, глядеть ни на кого не хотел, а нынче разговоры говорит и с конюшим, и с постельничим князя, смеется, похлопывает их по плечу, заискивает. А то как думал: прибыл из Царьграда — тут все перед ним на колени? Пущай еще поостынет маленько. Не станет Всеволод ни перед кем шапку ломать: сам он себе и хозяин и господин. У себя на родине никто ему не указ… Вон и от румского султана явились послы, и от хорезмшаха Мухаммеда, косятся друг на друга, разъезжают по городу, наряженные, яко бойцовые петухи, но владимирцев уж давно ничем не удивишь: всего насмотрелись вдоволь. Кого только не приносило попутным ветром в детинец ко Красному крыльцу Всеволодова высокого терема!.. Парились в русских банях, пили русские меды, льнули к русским белотелым бабам, жадными взорами оглядывали торговище, дрожащими от алчности пальцами прикасались к небрежно сваленным в груды драгоценным мехам, покупали мечи и золотые безделушки, увозили добро обозами, привыкнув к грабежам на своих дорогах, дрожали от страха и того не ведали, что во владимирских пределах не грозила им никакая опасность; князевы люди надежно стерегли торговые пути, в обиду гостей не давали — за то отвечали собственной головой…
Зря ждет приема гордый ромей: Всеволоду самое время приспело отправляться на молитву — прямо из терема вел переход на полати его любимого дворцового собора. Строили переход искусные мастера, стены украсили резными ликами, в окна вставили блестящие стеклышки в свинцовой оправе.
На полатях князя уже ждали княгиня Мария и дети. Из сыновей не было одного только Святослава — он княжил в Новгороде; из дочерей — Собиславы и Всеславы.
Радовался князь, что видит почти всю семью свою в сборе. Войдя на полати, перво-наперво задержался он возле жены, погладил по головке самого младшенького — Ивана, смущенно жавшегося к материным коленям, потрепал по щеке Владимира, потом обратил взор свой на старшего из всех — Константина, одиноко стоявшего, ссутулившись, в стороне. Взгляд у Константина отрешенный, чужой, и это давно беспокоит Всеволода. Сын — книгочей, по ночам не всуе палит свечи, Всеволод сам зело начитан и любит людей грамотных и рассудительных, но всегда ли на пользу сие?.. Иль в иную пору и по иной причине стал портиться у Константина нрав? Не с того ли пошло, как повелел ему отец жениться на Агафье, дочери Мстислава Романовича?.. Больно сдавило сердце: вот она, сыновняя благодарность. Понимать надо: не о себе ведь пекся, когда скреплял этот брачный союз, — о Руси. Не потому не взял в жены Константину розовощекую и голубоглазую дочку Василька витебского Любашу, что хотел сыну зла, не потому.
Но недолго печалился князь. Повернувшись к смущенно потупившей глаза Агафье, он снова посветлел лицом, с лукавой улыбкой окинул ее добрым взглядом — не тяжела ли, вон как раздалась, того и гляди, лопнет на чреслах рубаха…
Юрий и Ярослав о чем-то беседовали друг с другом. Когда вошел отец, замолчали почтительно, но глаза у обоих были по-прежнему озорны. Всеволод положил Юрию руку на плечо, хотел что-то сказать, но потом передумал и приблизился к Верхославе. Из всех его дочерей была она самой любимой — недаром, выдавая за Ростислава Рюриковича, справил он ей неслыханно богатую и шумную свадьбу. Хоть и давно это было, а свежо еще в памяти. На Борисов день явились во Владимир сваты от Рюрика — князь Глеб туровский, шурин его с женою, тысяцкий Славн, Чурыня и великое множество других бояр. Дал Всеволод за дочерью немало золота и серебра и сватов одели щедро — никто в обиде не остался. Вез Верхославу до третьего стана, плакал, расставаясь с нею, и Мария плакала, потому что бог знает, когда еще доведется свидеться, — может, и никогда. А дальше послал он с дочерью боярина своего Якова и иных передних мужей, многих с женами. И рассказывал ему Яков, вернувшись, что с лишком двадцать князей пировали вместе, встречая Всеволодову дщерь, что отдал Рюрик снохе своей на кормление город Брагин и поднес ей великое множество даров — пленен он был ее красотой, радовался за сына. И верно: взяла Верхослава все лучшее от русской, греческой и ясской крови. Телом была бела молодая княжна, лицом смугла, глаза большие и черные, как у Марии. И нравом ровна, и умом изворотлива. Полюбили ее на чужбине, мужу своему и свекру со свекровью пришлась она по душе. Не забывала Верхослава и своих родителей: то весточку пришлет, то сама в гости приедет. Вот и нынче привезла она показать деду с бабкой родившуюся два года тому назад внучку. Во крещении звали девочку Ефросинией, а по прозвищу — Смарагд, драгоценный камень.
— Поди, поди к деду, — подтолкнула ее в плечико Верхослава.
Всеволод присел на корточки, придавил девочке пальцем пухленький носик, поцеловал в височек, в кудрявый завиток светлых волосиков.
Из-за спины Марии вынырнула Елена, самая младшенькая из Всеволодовых дочерей, ревниво подергала отца за рукав. Всеволод рассмеялся и взял ее на руки.
На полатях у каждого было свое, раз и навсегда заведенное место. У Верхославы места не было — давно уж не гостила она у родителей, Всеволод указал ей взглядом встать рядом с матерью.
Служба началась.
2
Вечером в малой палате, где хранились книги и свитки и куда доступ был лишь немногим из близких к Всеволоду людей, собрались бояре Фома Лазкович, Дорожай, Михаил Борисович, Яков, тиун князя полуполовчанин Гюря, а также игумен Рождественского монастыря Симон, духовник княгини Марии.
Все они привыкли друг к другу, были неразговорчивы, входили тихо, рассаживались по лавкам, ждали князя.
В дверях появился Всеволод. Присутствующие встали, приветствуя его поклоном.
Князь уселся в обитое бархатом кресло, насупясь, окинул взглядом думцев. Из тех, кто обычно был зван, не оказалось троих: епископа Иоанна, задержавшегося в Ростове, Кузьмы Ратьшича, отряженного еще на той неделе «с речьми» в Киев к Рюрику, и боярина Лазаря, приставленного к Святославу, чтобы приглядывать за строптивыми новгородцами.
Бежит время, меняются вокруг Всеволода люди, иных уж и на этом свете нет. Давыд смоленский два года тому назад отдал богу душу. Ярослав черниговский тоже недолго протянул. Сел на место его Игорь Святославич, коего имя ныне ведомо в любом уголке Руси, но справедливо ли?.. Непутевый и вздорный князь, тем только и славен, что ни одной драки мимо него не прошло. А «Слово о полку Игореве» у гусляров на устах, тешат простой люд, разносят пустую молву. Да вот только пуста ли она? Безобидна ли? Через годы о иных достославных ратоборцах и не вспомнят, зато Игорю воздадут не за труды его, коих и не было, но за мнимые благодетели, вложенные в него неведомым певцом…
Прихотливо вьется Всеволодова мысль, и не всегда верно судит он, не всегда и сам за должное воздает хвалу. Было время, упрекал он сестру свою Ольгу за то, что поддержала она в бабьей своей ревности галицких бояр, восставших против Осмомысла, который завещал оставить после себя наследником дел своих Олега, сына безродной полюбовницы своей Настасьи, ушла из жизни, а крамолу посеяла — сел-таки Владимир на галицкий стол. И что же? Не много времени прошло, и переменился к нему Всеволод. И не только родственные чувства возговорили в князе — не мог стерпеть он своевольства Романа волынского, и был Владимир в тугом луке его стрелою, нацеленной на Волынь… Думал Всеволод во власти скорбных чувств, когда дошла до него весть о смерти племянника: вот князь, достойный самой высокой похвалы — много вынес он, и в плену томился, и унижен был, а отцова стола при жизни Роману не отдал.
При воспоминании о Романе темной кровью наполнялось Всеволодово сердце. Много сил отдал он, борясь за Владимира, а стоило только положить племянника в княжескую корсту, как сел Роман на галицкий стол и теперь утвердился на нем прочно. И еще сильнее томило и мучило Всеволода то, что видел он и понимал, а другим увидеть еще было не дано, а понять и подавно. Не потому невзлюбил он Романа, что считал Галич едва ли не своим уделом, а потому, что и тот на своей Волыни не терпит многовластья и Галич нужен ему не на кормленье (Волынь кормит князя щедро), а для того, чтобы еще крепче утвердиться в Червонной Руси. Не потому ли, что видел в нем будущую недюжинную силу, с которой еще придется сойтись в поединке, ежели дело свое не предаст, ежели сил хватит и жизни самой на задуманное?..
Кто в мыслях его прочтет, кто разгадает тайное? Сидящие в палате бояре? Дети его? Внуки?.. Все чаще и чаще задавал себе Всеволод вопрос: а не распадется ли Русь, которую собирает он — вот уже сколько лет — воедино, вновь на мелкие осколки, едва только тронет тело его тлен? Не поглотят ли ее, истерзанную усобицами, кочевые орды, не ляжет ли она в пепелищах под копыта чужих коней?..
Затянулось молчание. Притихли бояре на лавках, на князя глядели с вопросом: почто званы они в палату? Знали они — вести были разные, но плохих гонцы не привозили. Так отчего же безмолствует Всеволод, отчего глядит и не видит их, своих верных думцев? Отчего побелели пальцы, вонзившиеся в мягкие подлокотники кресла? Или неможется ему, или недоволен боярами и перебарывает в себе внезапный гнев?
Игумен Симон, с бескровным лицом, оперся обеими руками о посох, подался вперед; скуластые щеки Гюри покрылись капельками пота, узкие степные глаза его стали еще уже; Фома Лазкович склонил набок кудлатую голову, растерянно жевал губами седой ус; Дорожай накручивал на палец шелковый поясок, в вымученной улыбке кривил рот; длинный и прямой, как шест, Михаил Борисович подрагивал коленкой, напряженно покашливал; один только Яков не выражал волнения, глядел на Всеволода открыто и преданно.
— Донесли мне, — хриплым голосом проговорил наконец князь, — донесли мне, будто склоняют Романа в латинскую веру. Правда ли сие?
— Правда, княже, — сказал Дорожай, перестав накручивать на палец поясок. — Прибыл в Галич нунций от самого папы, допущен был ко князю и в присутствии бояр его обличал царьградского патриарха, хулил православную веру и обещал ему помощь, ежели согласится Роман отдаться под покровительство святого Петра.
Усмехнулся Всеволод:
— Экая честь для Романа!.. И что же он?
— Велел гнать от себя посла, — отвечал Дорожай.
— Чем же не приглянулась ему латинская вера? — простаком прикидываясь, допытывался князь.
Боясь оплошкой прогневить Всеволода, Дорожай помедлил с ответом. Молчали и прочие думцы, потупив глаза, старались не глядеть в лицо князя.
— А вы почто притихли, бояре? — обратился к ним Всеволод.
Игумен еще крепче сжал посох, возмущенно засопел.
— Ты? — всем телом повернулся к нему князь.
— Не на всякий вопрос твой, княже, готов у меня ответ, — уклончиво проговорил Симон, — но тако смекаю я, что не пристало князю менять по прихоти своей от дедов и прадедов завещанную нам веру…
Симон выручил думцев — все согласно закивали, заговорили вразнобой:
— Не пристало, княже…
— Игумен прав.
— На том и стоим спокон веку…
— Папа далеко, какая от него подмога? — это Яков произнес. Всеволод поощрил его взглядом, слабо улыбнулся.
Не решаются главное сказать бояре, а может, им главное и невдомек? Главное Роман знает и он, Всеволод. Не ляхов и не угров боится галицко-волынский князь — за ним вся Русь. И не чужаком чувствует он себя в своих пределах — щитом, берегущим землю пращуров от чужеземных посягательств.
Неспроста зачастили и во Владимир на княжеское подворье шустрые послы от латинян. Зашевелились до того смирно сидевшие за землями литвы и ливов немцы, потянулись к самому новгородскому порубежью.
Один из наказов боярину Лазарю, отправленному в Новгород с княжичем Святославом, был — через готландских купцов, через заходящих с товарами ливов и куршей разузнать все, что касается епископа Альберта, про коего сообщали Всеволоду из Полоцка, будто зело хитер он и кровожаден и умеет тонко вести дело.
Свои князья добивались вот уж сколько лет благосклонности Великого Новгорода, то один, то другой сидели в нем, судили и справляли войско, строго блюли рубежи земли Русской, теснили от своего порога чудь, свеям на Невоозере и по Волхову баловать не дозволяли, блюли интересы торгующих, откуда б они ни ехали и ни плыли.
До сих пор и с немцами ладили. Ладили вроде бы и сейчас, но говорили верные и прозорливые людишки:
— Будто хворью какой поразило, княже, немецких гостей. Ране-то шибко набивались они в друзья, по избам мотались, ни единой пирушки не пропускали, да и к себе звали, не скупились на угощенье. Нынче притихли…
— Что же нынче-то?..
— Бог весть, княже. Ты высоко сидишь — тебе далече видно. Но и нашими словами не погнушайся, выслушай.
Со вниманием слушал их Всеволод, приметливости дивился: это только на первый взгляд русский человек прост и безоглядчив. На деле он и смекалист и решителен.
Побывали новгородские купцы не только у ливов, но пробрались и к Альберту в стан, видели крестоносцев в Гольме, алчущий крови и легкой добычи сброд. Люди епископа бесчинствуют, но им не откажешь в мужестве. Они знают, что им делать, и не остановятся перед жертвами — папа Иннокентий благословил их на этот поход. Что ж, сперва крестить литву и ливов, а потом? Куда устремятся их взоры?..
Всеволод знал и опытом жизни всей понимал: законы бытия суровы и неотвратимы. Опасность надвигается не только с юга, из половецких степей, нависла она над Русью и с запада, и под черным крылом ее не время князьям сводить родовые счеты, делить и без того разделенную на мелкие уделы землю.
Говорил Фома Лазкович, и все сидели не шевелясь:
— О коварстве степняков, княже, тебе давно ведомо. Ведомо тебе и о том, как любят кичиться и ромеи, и латиняне, и франки, и немцы своей рыцарской доблестью. Не хочу попусту клеветать, есть и среди них люди, достойные всяческой похвалы. Но вот что расскажу я об епископе Альберте, как приводит он ко кресту тех самых ливов, о коих доносят тебе из Полоцка…
Всеволод, закинув ногу на ногу, подался вперед:
— До сего часа берег вести, боярин?
— Сам ты, княже, меня давеча, как шли с заутрени, слушать не захотел, — оправдался Фома. — Да и вести-то таковы, что нынче к беседе…
— Говори, говори, — поморщился Всеволод.
— Ты уж не обессудь, княже, — приложив руку к сердцу, почтительно поклонился в его сторону боярин и продолжал: — Живет Альберт за каменной стеной, в крепости. С ним слуги, рыцари, попы. Дело-то ясное: боится, как бы не закололи его, как заколол бывшего здесь до него епископа Бертольда смелый лив Иманта.
Фома Лазкович сам недавно возвернулся из Плескова, где тоже блюл Всеволодовы права и приводил в чувство тех, кто не соглашался с поставлением в Новгороде нового владыки. Поэтому слова Фомы особенно весомы, все ждут, что он скажет дальше.
Боярин говорил, не торопясь, оглаживая унизанными перстнями пальцами холеную бороду:
— Долго уговаривал Альберт ливских князей, дабы уступили они ему часть земли, на коей испокон веков и деды и прадеды их жили и беречь ее внукам и правнукам своим завещали. Совсем уж отчаялся немецкий епископ, а тут ему и свои рыцари проходу не дают — уж очень понравились им эти края, богатые птицей, и звериными ловами, и рыбой… Долго думал Альберт, как ему быть, и вот додумался. Разослал он гонцов своих к ливским князьям с приглашением на пир. «Ладно, — говорили гонцы ливам от имени епископа, — земля мне ваша не нужна. И зла на вас я в сердце своем не затаил. Корабли мои стоят с поднятыми ветрилами, готовые в любой час к отплытию на родину. И хочу я вас на прощание щедро угостить, вы уж не побрезгуйте…» Кто знать мог, на какое коварство решился сладкоустый латинянин?! Съехались на зов его доверчивые ливы, ели-пили, что на столах было, хмелели быстро и по сторонам не глядели, потому как нехорошо глядеть по сторонам, будто не доверяешь хозяину. Им бы и впрямь поглядеть да поразмыслить, почто вдруг исчез хозяин, почто музыканты перестали дуть в свои сопелки, а слуги более не подносили горячих блюд… Уснули, опоенные епископом, ливские князья, а когда проснулись, то поняли, что обмануты, потому что оружия у них не было, а в окна заглядывали и смеялись над ними рыцари и их слуги. «Эх вы, дурни, — говорили они, — не хотели отдать нам, что вам не нужно, — теперь возьмем то, что хотим». И верно, потребовал у них Альберт лучшие земли, а чтобы не вздумали нарушить договор, взял у каждого по сыну, посадил на корабль и увез к себе за море…
— Экую сказку выдумал ты, Фома, — отмахнулся от него Всеволод. — Гладко сказываешь, да только отколь тебе про все это знать?
— На то мы и слуги твои, княже, — отвечал Лазкович без обиды и с достоинством, — чтобы все видеть и слышать и тебе про то доносить… Не для того, чай, ездил я в Полоцк, чтобы с боярами тамошними меды распивать — слаще наших-то медов на всей Руси не сыскать. Так почто же за семь верст киселя хлебать, коли женка моя настаивает меды и на ягоде, и на чабере, и на разной пахучей травке — от тоски и дурного глаза?!
Засмеялись бояре шутке, расслабились. Игумен Симон и тот, на что старче строгий и зело книжный, а тоже не смог спрятать в бороде лукавой улыбки.
— И верно, Фома, — хлопнул Всеволод боярина по плечу, — за то и жалую я вас, что не едите хлеб свой втуне.
— Завсегда с тобой, княже, — поклонился боярин. — И на добром слове тебе спасибо.
После такого зачина принялся Всеволод с боярами улаживать и другие дела. Тут первый вопрос был к тиуну:
— Скажи-ко, Гюря, почто и до сей поры стоят заборола обгорелые у Волжских ворот? Когда еще тебе сказано было подновить городницы и вежи, согнать на валы древоделов, плотников и городников…
— Всех согнал, княже, — вставая, ответил Гюря, и щеки его покрылись жарким румянцем. — Да вот беда новая приключилась…
— Это что же за беда такая? — насторожился Всеволод.
— Не углядел воротник — мальчонки-то костерок и разложили под самой городницей…
— Экой воротник! — возмущенно пристукнул Всеволод ладонью по подлокотнику кресла. — Наказать да чтоб в другой раз глядел! И тебе… — он строго, исподлобья вгляделся в лицо Гюри, — и тебе… глядеть надобно. На то ты и тиун. Зело красив наш город, а пожары не то что деревянных, а и каменных храмов не щадят. Только прошлым годом погорело шестнадцать церквей…
— Так, княже, — покорно подтвердил Гюря.
— А дале что?
— Все в руках божьих, — растерянно пробормотал тиун. Вопрос Всеволода застал его врасплох. Да и что надумаешь противу огня? Спасу от него нет. Вон и князев двор не единожды горел, и Богородичная церковь… Ставил ее Левонтий одноглавой, а как сгорела, так и обстроили со всех сторон, еще четыре главы возвели, расписали всю изнутри, обложили золотом, и каменьями иконы — и что же? Сгорела сызнова, благо еще Богородицу вынесли, едва спасли.
— В руках-то божьих, — оборвал тиуновы спокойные мысли Всеволод, — да что, как стражу поставить от лютого огня?
Вдруг оживились бояре, перестав позевывать, уставились на князя своего с удивлением: это какую же такую стражу?..
Понял думцев своих Всеволод:
— Аль невдомек?
— Вразуми, княже…
— Что-то в толк не возьмем.
— Небось дома-то прыгнет уголек из печи, так ты его тут же — водой, — сказал князь, обращаясь к тиуну.
— Вести-имо, — широко заулыбался Гюря. — Нешто избе сгорать?
— С уголька-то и весь пожар.
— С него, княже…
— Вот и указ тебе нынче мой. Пущай не только воротник у своих ворот за огнем глядит, но и сторожа, коей надлежать будет ходить по городу, и особливо по ночам, за разными людишками присматривать, а тех, кто угольками балуется, вести, ни о чем не спрашивая, на княж двор и бросать в поруб. И биричи пущай тот указ мой на торгу и в иных местах зачтут…
О княжестве радеть — не за теремом приглядывать, хотя и здесь не счесть забот: с утра до вечера в хлопотах, а иной раз подымешься и середь ночи. В чем малом недоглядишь, то после большой бедой обернется.
— На то вы и думцы при мне, — говорил Всеволод, — чтобы какой промашки не вышло.
— Завсегда с тобою мы, княже…
«О себе, о себе пекутся бояре, — отчужденно думал Всеволод. — Ране-то, покуда вотчинами, да угодьями, да прочими милостями моими не одарены были, хоть и тогда о себе радели, но и о княжестве тож, не боялись потерять, чего не было, правду сказывали, не прятались один другому за спину…»
Много еще дел у князя — вона каким хозяйством оброс, и к боярам у него больше разговора нет. Встал он — встали думцы, степенно вышли из палаты.
Задержался Симон, стоял, опершись о посох, ждал, когда за последним из думцев закроется дверь.
— Что опечалило тебя, отче? — спросил удивленно Всеволод.
— Худа княгинюшка, княже, — на жилистой шее игумена дернулся острый кадык.
— То дело мирское, отче. Все мы смертны, — сухо сказал князь. И вспомнил Марию такою, какою видел утром в церкви на полатях. Лихорадочный румянец, странный блеск в глазах. Тогда он о детях думал, на жену взглянул только мельком.
— Не телом токмо, но и духом неможить стала матушка, — говорил между тем Симон, утыкаясь бородою в князево плечо.
— Тебе-то отколь ведомо? — подозрительно косясь, отодвинулся от него Всеволод.
— Заговаривается княгинюшка, — будто не слыша вопроса, шепотом продолжал игумен, — молится денно и нощно…
— Вера животворит, — сказал князь.
— Лишнее на себя наговаривает…
— Един бог без греха.
Что Симон может знать о Марии!.. Не на духовной исповеди — по ночам слышал Всеволод ее вздохи и мольбы. С того началось, что стали являться ей во сне почившие один за другим близнецы Борис и Глеб. Любы были они Марии, сразу за Константином появились на свет — ждала она с тревогой, роды были трудные, но и радость была великой. За сынов благодарил княгиню Всеволод, кольца-обручи ей дарил, золотые колты, целовал ее, как во дни молодости в губы… Росли мальцы здоровенькими и ясными, громкими криками по утрам, ни свет ни заря, подымали на ноги весь терем. Лучших кормилиц приставили к ним, лучшие мамки неусыпно бдили возле их колыбели. Похожи были друг на друга близнецы и лицом и нравом, и оба пошли в своего отца. Оттого, видать, и зачастил Всеволод к Марии — случалось, что и в неурочный час: зайдет на цыпочках, постоит над сынами неслышно, подымет над головой свечу, поглядит на жену, улыбнется и выйдет. Ничто в ту пору беды не предвещало, а была уж она у самого порога. Как-то простыл под дождиком Борис — дали ему малинового взвару, к утру легче стало. Так день прошел, а потом обдало мальца жаром — тут и банька не помогла. Тает княжич, не ест, не пьет, криком заливается… К вечеру отошел. Схоронили Бориса. А без него и Глебушка чахнуть стал. Умер через год. И ежели бы не понесла о ту же пору княгиня Юрия, бог знает, как бы перемогла она ту беду. После еще четырех сынов подарила Мария Всеволоду, звонкие голоса наполняли княжеские хоромы, но смерть Бориса и Глеба словно надвое разделила ее жизнь. И теперь боялась она, как бы новое горе не постучалось в ее дверь. А ведь могло бы еще и худшее стрястись, когда пошел на Лыбеди под лед молодой княжич Константин… Истово, до изнеможения молилась Мария перед иконой Богородицы, просила заступиться за сына, страшные давала обеты, строго соблюдала посты, помогала монастырям и нищим… Слепые предчувствия ожесточили ее сердце: все чаще замечал Всеволод чужой и холодный блеск ее глаз. И холод струился из ее тела, когда он брал в ладони ее руки… Знает ли это Симон? В этом ли исповедовалась ему Мария? И знает ли она сама о том, как рушат годы ее былую красоту?..
Теперь страшится она за отправленного в Новгород Святослава, в прошлом году рыдала у стремени Константина, когда взял его Всеволод с собою на половцев. Зря ходили они на Дон. Узнав, что идет на них владимирский князь, бежали степняки, сняв свои станы. Через два месяца вернулись отец с сыном живы-здоровы. И снова — слезы, и снова причитания и свечки пресвятой Богородице.
Кажись, что ни день, то все больше монашек вокруг княгини. Черно от них, как от воронья, в светлом тереме. И это раздражает Всеволода, сбивает его мысли, рождает внезапный гнев.
…Не слушал князь Симона, стоял, отвернувшись; игумен растерянно потоптался, поклонился Всеволоду и, прямо держа спину, обиженно вышел.
3
После ужина, который прошел в трапезной без бояр (сидя рядом с Марией, князь ел скудно и молча) Всеволод снова возвратился в малую палату и велел дворскому кликнуть к себе прибывших из Рязани книжников.
Вошли не старцы, как ожидал князь, а два еще довольно крепких монаха, один из которых был высок и жилист, с длинным, хрящеватым, слегка изогнутым носом, другой — ростом чуть ниже, толст, курнос и подвижен. Лица у них были темны, обожжены солнцем и высушены ветрами, руки — натруженны и крепки. Ни мутности во взоре, ни чернецкой отрешенности и церковной святости. Глаза у обоих голубы и проницательны.
Появившиеся вслед за книжниками два расторопных отрока в коротких кожушках внесли и поставила посреди палаты большой, обитый медными полосами ларь. Поклонившись, они тут же удалились.
— Как ты и просил, княже, сей ларь с книгами присылает тебе епископ наш Арсений, — сказал высокий.
— Как зовут тебя? — спросил Всеволод.
— Меня зовут Герасимом, а друга моего Евстратием.
— Дозволь, княже, показать тебе наши сокровища, — сказал Евстратий.
Всеволод кивнул, и книжники проворно подняли крышку ларя. Жадный взгляд князя скользнул по окованным серебром и каменьями выложенным доскам. Прикинул на глаз содержимое: «Богат, богат Арсениев дар!»
Рука Герасима между тем проникла в самую глубину ларя, пошарила там и торжественно извлекла нечто, бережно обернутое в бархатный лоскут.
— Сие книга, княже, которую ты просил, — сказал книжник и откинул тряпицу. — «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли», им собственноручно писанное…
Глаза Всеволода радостно блеснули. Сто лет рукописи, побывала она у разных хозяев, прежде чем попала к Арсению, но еще свежо смотрится нанесенная на заглавные буквицы киноварь, еще хранят листы тепло Данилова дыхания.
По многим спискам знали на Руси «Хождение», читал его ранее и Всеволод и многие страницы даже выучил наизусть, но что может сравниться с первозданностью этих листов, которые странствовали вместе с игуменом и лежали в его торбице, когда он, подавая проводникам все, что было, из бедного своего добыточка, взбирался на Сионскую гору или осматривал келыо Иоанна Богослова.
Знакомился Всеволод с Зевульфом, Иоанном Вирцбургским и Фомой, писавшими, как и Даниил, о Святой земле, но разве сравниться их писаниям с книгой юрьевского чернеца!.. Ай да Арсений, вот так порадовал!
— Как же попали к епископу сии бесценные листы? — спросил князь у книжников.
— Точно и нам неизвестно, — ответил Евстратий, — но, по слухам, были они перед тем в Чернигове, а до того в Юрьеве южном, где и почил бесподобный старец.
— Как только и благодарить мне Арсения, — растерянно проговорил Всеволод, поглаживая ладонью прижатый к груди пергамент.
— Епископ прислал его тебе в подарок, ибо кому не ведомо о твоей учености!.. Прими его и зря не беспокой себя, княже, — сказал Герасим.
Тронутый словами его, Всеволод тут же кликнул слуг и велел накрывать в палате столы, чтобы щедро угостить книжников, принесших столько радости в его терем.
Меньше книжников пил Всеволод, а быстрее хмелел.
— Любо нам, Евстратий, во княжеском терему! — раскрывал объятия другу своему Герасим. — Ешь — не хочу; пей — не надо!.. Спасибо тебе, княже, за любовь твою да за ласку.
Экие веселые люди у него в гостях, и с чего бы вдруг загрустилось Всеволоду? С чего вдруг показалось ему, что под лицами книжников, как под скоморошьими личинами, скрыты отвратительные и страшные лики.
Тяжело поднялся князь с лавки, каменно уставился на гостей.
— Пейте, пейте, псы, алкайте от моих медуш, — говорил он, поводя перед собою рукой. — Ешьте, ненасытные, набивайте утробу свою салом. Вернувшись к Арсению, снова сядете на воду да хлеб, снова будете юродствовать и жаждать воздаяния. Каково вам?!
Сразу смолкло веселье. Побледнели книжники, отшатнулись от стола, поперхнулись непрожеванными кусками. Жалостливую гримасу скорчил Герасим, покривился и обмяк Евстратий. Опомнившись, упали оба на колени, забормотали невнятно:
— Прости нас, грешных, княже…
— Больно сладки у тебя меды — забылись мы…
— Прости…
— Ступайте, ступайте.
Сел князь в углу под образами, руками обхватил голову — что с ним? Откуда немота во всех членах? Почему собственный голос слышит издалека?..
Скрипнула дверь, чья-то тень выросла на пороге. С трудом поднял Всеволод взгляд.
— Ты, Константин?
— Я, батюшка…
В голосе сына тревога. Или это почудилось князю?
— Худо мне, сыне…
— Да что за беда? — приблизился, сел рядом с ним Константин. Ласковое, родное тепло исходило от него, тонкие руки крепко сжали колени, пальцы как у Марии, длинны и трепетны.
— Пройдет, все пройдет, — поддаваясь нежности, слабо отозвался Всеволод.
Константин мотнул головой.
— Никак, гости у тебя были? Уж не Кузьма ли вернулся из Киева?
— Кузьме еще скакать да скакать… То книжники от рязанского епископа явились с дарами.
Константин оживился, вскочил с лавки, обрадованно воскликнул:
— А дары-то где?
— Ишь ты, — чувствуя, как отпускает его внезапный недуг, улыбнулся князь. — Дары в ларе. Да вот глянь-ко…
— Неужто Даниила сыскал?! — так весь и преобразился Константин, высмотрел с краю стола пергамент, схватил, жадно впился в неровные строки.
Таким любил и понимал сына своего Всеволод, таким хотел видеть его всегда — это было свое, кровное. Но было и другое, и тогда холодел князь: а что, как порвется тоненькая ниточка, связующая его с будущим?!
Вот он сидит перед ним, сгорбившись, наморщив лоб, забыв обо всем на свете, — нервными пальцами листает страницы, шевелит совсем по-детски губами, улыбается своим мыслям, хмурится.
По-немецки и по-ромейски говорит с ним отец — Константин все схватывает на лету. Юрий — тугодум, ему труднее дается грамота. Но вот ведь что: разве только в шалостях он порезвее Константина и впереди — в ратном деле старший тоже превзошел Юрия, на коне держится молодцом, тяжелый меч порывист и послушен в его руке и перёная стрела, пущенная им из лука, всегда идет точно к цели… Но не хочет Константин быть просто исполнителем отцовской воли.
И впервые почувствовал это князь в тот день, когда привез сыну дочь Мстислава Романовича. Не спросил, даже для виду не посоветовался. Сосватал. Обручил. Уложил в постель.
— Так-то, сыне, в молодости все нам кажется ясным: это — хорошо, а то — плохо… Но жизнь обременяет нас опытом, и годы родят вопросы, на которые нет ответа.
— На все должен быть ответ, батюшка…
— Так ли, сыне?
— Так, — сказал Константин и вдруг замолчал.
— Вот видишь, — слабо улыбнулся Всеволод. — Ты ищешь ответа и боишься его.
— Смущен я, батюшка.
— Что же смущает тебя, сыне?
— Правда.
— А знаешь ли ты, что такое правда, сыне?
Вопрос застает Константина врасплох. Что ж, пусть это случится сегодня: Всеволод должен открыть глаза тому, кто наследует Русь. Но Константин молчит. Он вдруг устало откидывается на лавке. Руки его свисают, пальцы неподвижны, дыхание прерывисто.
— Что с тобой, сыне?!
Тишина. В палате смрадно и душно. На столе, шипя, медленно догорают свечи…
Глава первая
1
В году 6711 (1203 год по новому летоисчислению) великий киевский князь Рюрик, зять его Роман Мстиславич галицкий, двенадцатилетний сын Всеволода Ярослав, княживший в ту пору в Переяславле южном, и иные князья, собравшись вместе в Триполе, пошли на половцев, взяли станы их и со множеством пленных возвратились на Русь.
По случаю счастливого конца похода был пир велик, и после пира всяк поехал по своим уделам: Ярослав отправился с дружиною в Переяславль, а Рюрик с Романом — в Киев…
Стояло начало необычайно жаркого лета. Над увядающей зеленью трав висело горячее марево. Уже высохла и потрескалась почва, и войско двигалось в клубах желтой пыли. Плелись понуро кони, всадники дремали, покачиваясь в седлах. Однотонно звенела степь, поскрипывали повозки, лишь изредка раздавался ленивый окрик или слабое пощелкивание бича.
Впереди войска, стремя в стремя, ехали князья — Роман и Рюрик, Роман на сером жеребце, Рюрик на гнедой кобыле. Ехали, как и все, молчали, мечтали о тенистом месте, о прохладном родничке, о спокойном отдыхе.
Лишь к вечеру, совсем изнемогая, с трудом добрались до одной из неприметных донских стариц.
Люди радостно бросились к воде, ныряли, с упоением пили; напившись, расседлывали коней, разводили костры, и скоро по всему берегу занялось бесшабашное веселье, словно и не было позади утомительного многодневного пути. Пленных половцев тоже великодушно кормили и поили, и злобы против них не было, потому что поход был удачным и завершился даже без самой малой крови…
Роману и Рюрику разбили шатры на холме в середине стана, у ног князей полыхал костер, на вертелах шипело мясо, и гусляры развлекали их складными песнями, но не заладилось ожидаемое веселье. Не пил Роман, задумчиво глядел на огонь, хмурился.
Грузный Рюрик сидел с ним рядом, тоже был невесел, но пил чашу за чашей, и проворный меченоша Олекса едва успевал доливать ему из кувшина вино. У ног старого князя лежала молодая половчанка, присланная ему в подарок тысяцким его боярином Чурыней. И, лаская пленницу, касаясь пальцами ее смуглой щеки, со злорадством думал Рюрик: «Нет, не прокисла еще в жилах моих кровь, и зря надеется Роман, что скоро приспеет ему время сменить меня на высоком столе в Киеве. Сыну своему Ростиславу оставлю я мое наследство, пусть володеет тем, что принадлежит ему по праву, а уж Ростислава спихнуть с Горы ни за что не посмеет Роман. И так-то гневался на него Всеволод за то, что вздумал пойти он супротив племянника его, галицкого князя Владимира, а за сыном моим как-никак — сама Всеволодова любимая дочь Верхослава!.. Хмурься, хмурься. Романе. Но как ни поверни, а все возвращаться тебе на твою Волынь…»
Гордые мысли, подогретые коварным вином, посетили Рюрика у костра, и уж забыл он про свою полонянку и, обернувшись к Роману, вдруг заговорил с ним заплетающимся языком:
— Что приумолк, Романе? Что не пьешь, не радуешься со всеми вместе? Али мала твоя доля в добыче? Али зло какое замыслил?..
Роман встрепенулся, оторвал свой взгляд от огня:
— Добычу мы делили поровну, и зла я не таю…
— Не притворствуй, Романе, — покачал головой Рюрик. — Вижу я тебя насквозь и вот что скажу: нынче в походе не первой была твоя дружина — моими рука
<текст утрачен>
— Эко разобрал тебя хмель, — отмахнулся от тестя Роман. — Шел бы ты спать, не время делить нам с тобою ратную славу.
Но киевский князь продолжал, будто не слыша его:
— Встретят тебя на Волыни с почетом, слух разнесут, что побил ты поганых…
— Чай, вместе, бок о бок, дрались, — все еще без охоты и вяло возражал Роман. Не хотелось ему начинать ненужной ссоры, что с пьяного Рюрика взять?
Но не так-то просто было отвязаться от захмелевшего князя. Тот себе на уме. И потаенное выдавало предательское вино:
— Храбро дралась моя дружина. Так что нынче, Романе, праздник не твой. Эй, Олекса! — крикнул он внезапно во тьму.
— Здесь я, княже, — откликнулся стоявший за спиной его отрок.
— Приглянулся ты мне, — оказал Рюрик. — Дарую тебе половчанку, вези ее на Русь, пользуйся да князя своего благодари.
— Сто лет тебе, княже, — повалился на колени меченоша. — За что же такая честь?
— За верность твою.
Рывком поднял пленницу старый князь, подтолкнул в спину.
— Бери!
А Роману так сказал с пьяной ухмылкой:
— Что, щедро одарил я отрока?
— Куды уж щедрей…
— Оттого и сижу я на старшем столе, а ты на худой Волыни. Оттого и обломал ты о Киев зубы, что любят меня кияне и почитают за родного отца.
— Вино тебя расщедрило, а не широкая душа, — разозлился Роман. — Да и то: как пришло к тебе, так и ушло. Гляди, тестюшко, как бы не раскаяться…
— Сроду такого не бывало! — засмеялся Рюрик. — А про тебя, знать, не зря говорят: гнилое у отца твоего, Мстислава, было семя…
Кто знает, за какою невидимой глазу чертой начинается мир? А вражда?..
Пройдет не так уж и много времени — и пожалеет Рюрик о своих словах, пожалеет, что поддался не голосу разума, но мимолетному чувству и за минуту при зрачного торжества отдал на поругание остатки своих недолгих лет. Но в ту ночь у степного костра сладкую пожинал он жатву.
Набычился галицкий князь, вскочил, шагнул к сотрясающемуся от смеха Рюрику, едва сдержал себя от соблазна ударить кулаком в его жирный, свисающий через пояс живот.
— Речи, твои, князь, поспешают наперед ума, — сказал он. — Да и ум твой короток, а памяти и вовсе не стало. Забыл, как заступался я за тебя и вот этой рукою, — он поднял кулак. — сажал тебя в Киеве?!
— Не было такого. Все-то врешь ты, Романе. — сквозь смех отвечал ему Рюрик. — А злишься, потому что правду услышал… Нет, не орел ты, а коршун. Всю жизнь питался ты падалью — вот и днесь ведешь на Волынь не свой полон, а добытое мною… Изыди!
— Утром выветрит хмель, — покачал головою Роман, — покаешься ты, да как бы поздно не было. И ране думал я, что отплатишь ты мне черной неблагодарностью, а теперь воочию вижу — вот она!..
Был Роман терпелив до поры, во гневе ужасен. Вдруг, будто споткнувшись о невидимое, перестал смеяться Рюрик, откинулся, замер. Защемило в правом боку, будто кат вонзил в печень раскаленное жало…
Роман шагнул через него, взглядом не удостоил, ушел в темнеющую степь — негнущийся, прямой…
2
Хмельное это было дело. И не стал бы ссориться с Рюриком из-за такого пустяка Роман. И остыл бы он скоро, и утром посмеялся бы над собою и тестем, да так и поехали бы они дальше, касаясь друг друга стременами, к Триполю, и там расстались бы или вместе отправились в Киев, где ждали их жены, пировали бы с дружиной, слушая гусляров. Так бы и было, ежели бы не всколыхнула случайная размолвка темной памяти, не потянула бы за собою давней неприязни, не возродила бы в помыслах Романа честолюбивой мечты отомстить Рюрику за содеянное, вернуть себе отчий стол и на сей раз уже навсегда объединить под собою и киевскую, и волынскую, и галицкую Русь…
Кто и когда смог до конца пройти по извилистому пути человеческих поступков? И всегда ли способны мы увидеть за явным скрытое, всегда ли верно судим о деяниях людей, не зная и не понимая того, что скрыто за явным и доступным для праздного взора? И только ли обида и только ли месть были поводырями умного и решительного Романа?
Еще когда боролся он, сидевший в ту пору на Волыни, за галицкий стол, встал Рюрик на его пути. Даже те что были к нему ближе всех, по простоте своей думали: безудержная алчность и великая гордыня обуяли Романа. Со всеми ссорится он, не может жить в мире с соседями, буйный нрав у князя, дурной характер. Было и это, все было. И мстителен был Роман, и корыстен. И сам порою не мог отделить зерна от плевелов, корысть от любви и боли за многострадальную землю, погрязшую в усобицах и слепой вражде. И не под звонкие трубы, и не под радостные крики приверженцев творил он свои дела — творил при свете дня мечом на поле брани, в ночи — коварством и хитроумием. Побеждая, радовался, теряя все — не унывал…
Ведь было же: сидел он уже на Горе. С тех пор и года еще не прошло. Опираясь на Ольговичей, вступил Рюрик в сговор с черниговским князем Всеволодом Чермным, призвал его в Киев, чего уже давно не бывало, чтобы вместе идти против Романа. Но ничего путного из этого не вышло: опередил Рюрика галицко-волынский князь, вошел со своим войском в его пределы, и кияне, помня отца и деда Романова, вдруг встали на его сторону, отворили ворота и впустили его на Подол. Перепугался тогда засевший за стенами детинца Рюрик, отказался от Киева, бежал в Овруч, Ольговичи отправились за Днепр в свой Чернигов… Хорошо помнил Роман (такого не забыть!), как въезжал он на Гору, как придержал коня, чтобы окинуть взором неоглядные заднепровские дали, как радостно звенело от счастья в ушах, как шел он потом по притихшему терему, заглядывал в палаты, в сени, в ложницу, как сидел, вытянув занемевшие от долгой езды ноги на бархатном стольце с накладными серебряными и золотыми пластинами, как принимал бояр и правил пир и как ночью не мог уснуть, ворочаясь под собольим одеялом, и как угасла потом его недолгая радость, потому что скоро явился гонец из Владимира от великого князя Всеволода и, развязно стоя перед ним, говорил витиевато и длинно, что уже ждет у ворот Киева двоюродный брат Романа Ингварь Ярославич, коего шлет его господин на место Рюрика. Как, удивился Роман, не токмо пред Рюриком, но и пред ним не имеет Ингварь права садиться на великий стол! На что улыбнулся гонец и только пожал плечами… Горячая кровь прилила к щекам Романа, едва сдержал он внезапно вскипевший в нем гнев и, борясь с собою, глухо ответил, что у него и в неустроенном Галиче еще много дел. Исполнив свое поручение, гонец удалился в молодечную, где ему было отведено место для ночлега, а Роман не спал, ходил разъяренно по ложнице, мял в кулаке бороду, кусал в бессилии губы, прижимаясь внезапно охладевшей спиной к муравленой печи, то решался ослушаться Всеволода, то малодушно сникал, то снова ходил, бормоча, что кому-кому, а Ингварю уступать великого стола он не намерен. Но забрезжил рассвет, и гонец снова явился, и Роман, уже успокоившись, снова заверил его, что, как решил Всеволод, так тому и быть. В полдень отбыл он с изумленной дружиной из Киева, оглянулся в последний раз на Гору и чуть не заплакал. Лицо князя сморщилось, он отчаянно вонзил шпоры в бока своего коня…
Было, все было. Уже в Галиче узнал Роман, что Рюрик не мог стерпеть унижения: снова соединившись с Ольговичами и наняв половцев, взял Киев и изгнал из него Ингваря. Ничего подобного не помнил город с той поры, как взят был на щит Андреем Боголюбским. Рюрик не пожалел киян, недавно изменивших ему и открывших ворота Роману; ворвавшиеся в Кнев половцы сожгли Подол и Гору, ограбили Софийский собор, Десятинную церковь и все монастыри, побили много народу, еще больше увели в полон. «Неужто совсем ослеп Рюрик от ненависти, — думал Роман, — неужто и вправду бросил вызов Всеволоду и не страшится жестокого похмелья?» Но свои люди доносили ему из Рюрикова стана, что, оставив сожженный и разграбленный город, вернулся князь снова в свой Овруч.
Все складывалось в пользу Романа. Недолго думал он, как ему быть. Собрав войско, двинулся галицко-волынский князь — и не к стоявшему беззащитно Киеву, а в Овруч, стремясь опередить Всеволода, добровольно став карающим мечом в его безжалостной руке. Дивились бояре и дружина, в толк взять не могли: что Роману до Рюрика, когда уж и так стоит тот на краю пропасти? Помочь ему пасть с крутизны и тем заслужить доверие владимирского князя? Кабы дано им было узнать об истинных Романовых намерениях!..
Осадил Роман Овруч, обложил со всех сторон и слал ко Всеволоду гонцов. И говорили гонцы владимирскому князю, что он отец Романов и что не мечтает сын его о старшинстве на Руси, а думает только о мире. И что не повергнуть обезумевшего Рюрика хочет он, а образумить заблудшего, чтобы не лилась понапрасну братняя кровь. Сам же тем временем, явившись в Овруч с малой дружиной, стал уговаривать Рюрика идти ко Всеволоду с поклоном, целовать крест владимирскому князю и детям его.
Все точно рассчитал Роман: Всеволоду угодил и Рюрика выручил, когда и надежды у того не было никакой. Оба князя благодарили Романа, и летописцы возвестили миру о его благородстве и миролюбии: век живи, Романе, пресветлый галицко-волынский князь!..
И еще просил он, чтобы не серчал на Рюрика Всеволод, вернул ему киевское княженье.
И, получив из Владимира благословение, лобызались Рюрик с Романом, пировали три дня и три ночи, щедро угощали дружину и обрадованных бескровным исходом осады овручан. Рюрик плакал от счастья, дарил Роману драгоценные паволоки, жемчуг и меха. И еще три дня пировали они в Киеве. И радовались кияне, возвратясь на родные пепелища, что кончилась усобица и теперь могут они, не страшась Рюрикова гнева, обновлять и устраивать свой город.
Наконец-то спокойно зажила измученная давнишней враждой Рюриковна, жена Романа и дочь великого князя, у матери своей Анны. Мужья их пропадали на охоте, а они ходили в церковь, одаривали нищих, вечеряли, слушая песенниц, катались на лодие по Днепру.
Хорошее это было время, спокойное и бездумное. Все верили в мир, и только Роман знал, что будет он недолог. Не из великодушия вернул он Рюрику киевский стол, а по коварному замышлению. Не дружбы искал он, а своей выгоды. Зря ликовали кияне. Знал Роман: укрепившись в Галиче, еще бурлившем после смерти Владимира, вернется он в Киев за своим наследственным правом. И сделать это ему теперь будет легко. Хоть и уступил Рюрику Всеволод, а веры ему все равно нет. Достаточно обвинить Роману тестя своего в неблагодарности — и вот уж у него развязаны руки. Кияне примут его, Всеволод не сразу разгадает Романово коварство: его ведь именем принес он в Киев мир, его же именем свершит правосудие. Поклонится Всеволоду Роман, поклянется во всем ходить по его воле. С Ингварем-то труднее было: сам владимирский князь сажал его в Киев. А у Рюрика опоры нет.
Так рассудил Роман, но не знал еще, когда пробьет eгo час. И нынче винить некого — сам Рюрик подтолкнул его: чего же еще ждать?
Но причина для большой ссоры была невесома, она лишь укрепила Романа в его решении.
И тогда велел звать он к себе в шатер печатника своего Авксентия и так сказал ему:
— Садись, Авксентий, и думай, и всю правду говори мне, ничего не скрывая. Что сказывал тебе боярин Чурыня о замыслах своего князя?
Сметлив был Авксентий, все понимал с полуслова.
— Что молвить повелишь, княже?
— Не поносил ли Рюрик в безрассудстве своем великого князя Всеволода?
— Истинно так, княже.
— И сказывал тебе о том Чурыня?
— Сказывал, княже.
— А еще говорил ли он о Ярославе Всеволодовиче: молод-де он и неразумен, да и умом слаб — заберу себе половину его полона и иной добычи?
— И это сказывал Чурыня.
— А не говорил ли он боярину своему Славну, преисполнясь гордыни: не стану я ни с Романом, ни с кем иным распределять грады и веси, как было сговорено в Овруче?
— Как же не сказывал, княже? Вестимо, сказывал!
— А подтвердит ли это Чурыня в Триполе, где сойдясь, будем мы делить землю?
— Чего ж не подтвердить, коли так все и было?
— А не сробеет?
— Ты ж ему, княже, пол табуна свово половецкого подарил!..
— Ну так гляди, Авксентий, до Триполя недалеко, два дня пути всего-то осталось.
— Мне и одного хватит. Не волнуй себя, княже, спи спокойно.
Хорошо иметь при себе понятливого и преданного человека. Не из больших бояр поднял к своему столу Авксентия Роман. На большого боярина он бы не положился. Много бед принесли ему бояре и на Волыни и в Галиче. Еще не со всеми посчитался Роман, с иных спрос впереди. Авксентий же служил ему верой и правдой, в корыстных помыслах замечен не был, в книжной премудрости разумел, в бою за чужие спины не прятался, от любой работы не отлынивал. Ходил Авксентий в молодости в Царьград и к святым местам, набожен был, но лба перед иконами не расшибал, пил много и не хмелел, прислушивался на пирах к боярам, князю исправно обо всем доносил.
— Никому ни полслова, Авксентий. А пуще всего опасайся Славна, — предупредил печатника Роман. — Ну, ступай с богом.
Оставшись один, князь хотел было уснуть, но сна не было, и снова думал Роман, беспокоился, не допустил ли оплошки. Нет, упрекнуть себя было ему не в чем. Ежели Чурыня не подведет и скажет все, как сговаривались (а сговаривались они за немалую мзду, что будет боярин-воевода кричать на совете в Триполе слова, которые подскажет ему Авксентий, — еще до ссоры с Рюриком готовил Роман своих людей к тому, чтобы вырвать для себя в южной Руси кусок полакомее; нынче же подскажет ему печатник кричать и еще кое-что), то худо придется киевскому князю.
3
А Рюрик тем временем сидел перед затухающим костром и, вспоминая ссору с Романом и свою слабость, жадно пил принесенный меченошей мед.
Олекса стоял перед князем и со страхом наблюдал, как наливалось кровью опухшее лицо Рюрика, как стекал на жирную грудь его густой мед и дрожали обнимавшие чару руки.
Ко многому привык Олекса (чего только видеть ему не доводилось!), а все не мог он привыкнуть к переменчивому нраву своего князя: то веселился Рюрик безудержно, а то вдруг мрачнел без всяких причин и гневался по пустякам.
Но теперь не веселье и не гнев заливал он обманчивым хмелем — тушил в себе злую тревогу, хотя, если помыслить, была ли на то причина?
Ежели и повздорил он с Романом, ежели наговорил ему чего лишнего, то с кем не бывает. И Роман был не ангел, дурил и того покруче, да вот нет же: пьет Рюрик, себя успокаивает, но недобрые предчувствия разбирают его пуще прежнего.
То раскаивался он, что затеял ненужный разговор у костра, то, вспылив, на чем свет стоит ругал своего зятя, принимая за него безмолвного Олексу, таращил выпуклые бесцветные глаза, то плакал и, беспомощно хлюпая, вытирал широким рукавом платна мокрые от слез щеки.
Только под утро отвел Олекса князя своего в шатер, уложил его на ковры, подоткнул под голову подушку, вышел, лег у входа и тоже задремал. Но сон меченоши был чуток, он просыпался, прислушивался к неясному бормотанью, доносившемуся из-за полога, снова засыпал и снова просыпался…
В сереющих предрассветных сумерках кто-то растормошил Олексу за плечо, сказал насмешливо:
— Эй, малый, князя свово не проспи!..
Вскочил Олекса, схватился за лежавший под головой клевец, узнал боярина Чурыню, протирая кулаком глаза, виновато улыбнулся.
— Славный у князя страж, — похвалил боярин отрока и рукою отстранил его от полога:
— Пусти-ко…
— Почивать лег княже, устал он. Ты бы, боярин, его не тревожил.
— Сиди себе да помалкивай, — сказал Чурыня, — и никого в шатер не пущай. Вести у меня ко князю неотложные.
Боярин оглянулся, откинул полог и вошел вовнутрь. В шатре было душно, воняло чесноком и перегаром. «Эк разобрало его», — поморщился Чурыня и, присев на корточки, стал будить разметавшегося на ложе Рюрика:
— Вставай, княже, проснись.
Ни звука в ответ, даже не шелохнулся князь. Но Чурыня не для того заявился в столь ранний час, чтобы возвращаться к себе ни с чем. Еще раз, покрепче, толкнул он Рюрика.
— А? Что? — всколыхнулось на ложе грузное тело. Сел Рюрик, вытянув ноги, непонимающе уставился на боярина, не узнал его:
— Кто таков?
— Боярин твой Чурыня.
— Пошто тряс?
— Выслушан меня, княже…
— Нешто другого времени не сыскал? — недовольно проворчал Рюрик и, запустив за сорочку руку, почесал грудь. Сладко зевнул.
— Ну-ко, боярин, коли пришел, пошарь да подай мне жбан с медом. Горит все внутри, силушки нет…
— Не пил бы ты, княже, — робко присоветовал Чурыня. — Скоро встанет солнышко и — снова в путь. Жарко в степи, разморит тебя.
— Экой советчик нашелся, — рассердился князь. — Шевелись, боярин, не то не будет у нас никакой беседы.
Подал жбан меда Рюрику Чурыня, с опаской глядел, как опрастывал его князь большими, жадными глотками. Долго пил, разом, без передыха. Кинул наземь пустую посудину, крякнул, провел ладонью по усам, подмигнул боярину:
— Выпей и ты, коли смел.
— О чем говоришь, княже, — с отчаянием выкрикнул Чурыня, — не меды пить я к тебе пришел в столь ранний час!
— А ты не ярись, боярин, — посуровев, пригрозил Рюрик. — Чай, не у себя в терему, чай, не со смердом глаголишь. Князь я!
— То мне ведомо, — сник Чурыня.
Пьянел ка глазах его Рюрик, обмякал, клонился к подушке.
— Не спи, княже. Не спи, не то Киев проспишь!..
Улыбнулся сквозь липкую дрему Рюрик, широко зевнул:
— Ступай, боярин, не до тебя мне.
— Не спи, княже, — просил Чурыня. — Не гони меня, выслушай.
Нарушил нудный боярин князев утренний сон. Разъярился Рюрик, ногой толкнул Чурыню в живот, опрокинул навзничь, заорал неистово: — Ступай прочь, коли велено!.. Эй, стража!
И тотчас же у входа появился насмерть перепуганный Олекса.
Не стал ждать Чурыня, покуда выпроводят его взашей, сам выскочил из шатра. Поистине дурной и бешеный у него князь, прости господи, — перекрестился боярин и пустился с холма наутек. Долго маялся он совестью, пока сюда пришел упредить Рюрика, да, видно, бог не захотел принять его раскаяния. «Возьму дары у Романа, а там будь что будет», — решил Чурыня и уж не маялся больше, а шел с легкой душой.
Тем же днем на первом переходе нагнал его на своем коне Авксентий, поехал рядом, будто бы невзначай. Спрашивал шепотом:
— Не раздумал, боярин?
— А твой князь не раздумал ли?
— Как сговорено: только сядет он в Киеве, так и возьмет тебя к себе.
— Мое слово тоже верно. Ничего не утаю. Нынче гнал меня Рюрик, как последнюю собаку…
Насторожился Авксентий, даже коня придержал:
— Это пошто гнал?
Едва не выдал себя Чурыня, ненароком обмолвился, но нашелся быстро:
— Пил он с вечера и с утра пьян был — шибко гневался. Едва меченошу свово не пришиб. Толкнулся я образумить его, да куды там — сам угодил под горячую руку.
Кажись, клюнул Авксентий, кивнул, повел коня в сторону, поскакал догонять своего князя.
Глядя ему вслед, Чурыня облегченно вздохнул и вытер со лба тылом ладони внезапно выступивший пот: никак, пронесло. Сам о себе подумал с горькой улыбкой: «Как ног у змеи, так и у плута концов не найдешь».
Продал Иуда Христа за тридцать сребреников, Чурынина же цена подороже будет…
4
Триполь — крепость не велика, но рвы, окружающие ее, глубоки, городницы срублены из добротных свежих лесин, плотно забиты землей, по верху тянется крепкий частокол со скважнями, на вежах денно и нощно стоят зоркие воины: рядом степь, спать недосуг, в любой час может показаться половецкая конница.
Но люди и на порубежье живут по-людски: попривыкнув к опасности, пашут, сеют, рожают детей, пасут скот, торгуют, ссорятся с соседями, водят хороводы, умирают.
Трипольский воевода Стонег, только что отобедав, сидел на скамье и осоловелыми глазами смотрел на неприбранный стол с остатками еды, почесывал пузо и, усиленно морща темный от загара лоб, думал, куда бы после обеда направить свои стопы: к вдове Оксиньице или на реку, поближе к прохладе, где еще с вечера рыбари по его указке ставили заколы. Но прежде, как исстари заведено, ждала его мягкая постель, разобранная проворной Настеной, сестрой в запрошлом году умершей Стонеговой жены.
Воевода потянулся, кинул в рот, зачерпнув ладоныо из туеска, пригоршню спелой земляники, поморщился и, покряхтывая от удовольствия, отправился спать.
Привыкший к порядку, Стонег присел на край просторного ложа, недоуменно, будто впервые увидел, уставился на сапоги.
— Мистиша! — позвал он зычно в приоткрытую дверь.
— Тута я, — вскочил на порог растрепанный паробок в длинной, до пят, рубахе. В одной руке его был голичок, в другой бадейка.
— Что повелишь, боярин-батюшка?
— Аль забыл? — зыркнул на него плутоватым взглядом Стонег.
Мистиша бросил бадейку и голичок, кинулся на колени — сдирать с распухших ног воеводы тесные сапоги. Дернул — освободил одну ногу, боярин чуть не свалился с ложа, предупредил:
— Полегче. Это тебе не липову кору на лапти драть…
Мистиша натужился, осторожно потянул второй сапог — Стонег уперся ему свободной ногой в грудь.
— Вот беда, — сказал он, озабоченно глядя на тесную обувку. — Ты бы, Мистиша, поразносил сапоги-то. Эвона, всю пятку стер…
Паробок, улыбаясь, поклонился и сунул сапоги под мышку.
Жарко было. Выпроводив Мистишу, Стонег лег на спину, не укрываясь, почмокал мокрыми губами и громко захрапел.
Приятные сны виделись ему — будто не спать он лег, а, как думал вначале, отправился через огороды к Оксиньице. Встречала его вдова в своей чисто прибранной горенке, стол и лавку обмахивала вышитым убрусцам, сажала в красный угол, с поклоном подносила привычную чару, Стонегушкой величала, улыбалась просветленно, говорила ласково. Обнимал ее Стонег за талию, пил чару не спеша (чай, далеко еще до вечера). А за отволоченным оконцем солнышко ярилось, а за дверью в ложницу мягкая постель манила боярина — не утерпел он, отставил недопитую чару и совсем уж приподнялся, чтобы встать из-за стола, как прянула от него Оксиньица и вместо желанной вдовушки явилась пред боярином покойная жена его, закричала, ногами затопала, рукой замахнулась: «Вставай, Стонег, кобель непутевый!» Задрожал воевода, шарахнулся по лавке, забился в угол, ни жив ни мертв. Но и тут дотянулась до него жена, схватила за плечо, встряхнула:
— Вставай, боярин!
Открыл глаза Стонег, увидел склоненное над собой лицо, зажмурился. Но тут заговорила «жена» мужским басовитым голосом:
— Поторапливайся, боярин, явились ко граду нашему князья Роман с Рюриком и с ними их дружины. Встречает их у ворот поп Гаврила с клирошанами, а тебя упредить велено.
Наконец-то узнал Стонег своего конюшего Кирьяка, понял, что не у Оксиньицы он, а в своей избе, вскочил, заорал чужим поперхнувшимся голосом:
— Мистиша, где тебя леший носит! Волоки сапоги, да живо!..
Вбежал отрок в боярских сапогах, забухал каблуками.
— Ты чего? — разъяренно уставился на него Стонег. — Ты пошто в моих сапогах?
— Дык тобою же, батюшка, велено, — растерялся Мистиша.
— А ну, скидывай!
Кирьяк держал наготове боярское платно, вместе с отроком помог ему облачиться, сунул усменной пояс с мечом в сарацинских ножнах, подал шапку соболью…
Выскочил боярин на улицу, зажмурился от больно ударившего в глаза яркого солнца, потрусил по улице к воротам. Кирьяк бежал рядом.
— Ах ты, господи, — бормотал воевода, — ах ты, господи, беда-то какая.
— Да не убивайся ты, боярин, — успокаивал его конюший, — еще когда доберутся до церкви князья, а ты уже тута.
У божьего храма толпился народ. Стонег облегченно перевел дух, приосанившись, встал впереди толпы. Совсем близко гремели трубы.
— Едут, едут, — заголосили показавшиеся в конце улицы ребятишки.
Рюрик с Романом ехали рядом, за ними воины с княжескими стягами, за воинами старшая дружина, детские — позади.
Толпа в почтительном молчании опустилась на колени.
Роман первым легко спрыгнул с коня, Рюрику помогали спуститься наземь проворные отроки: один держал стремя, другой подставил князю плечо.
Положив руку на рукоять меча, Роман проворно взбежал по деревянным ступеням и остановился на паперти, глядел с усмешкой, как Рюрик, пошатываясь, отталкивал от себя Олексу. Киевский князь с утра был пьян и едва держался на ногах.
— Свят-свят, — перекрестился Стонег.
В церкви было темно и тесно. Княжеские думцы в богатых одеждах оттерли воеводу к боковому приделу, где он едва не задохнулся.
Служба была торжественной, но краткой. Князья стояли на коленях, крестились: широко разевая рот, мокрый от духоты и волнения, Гаврила размахивал кадилом.
— Ами-инь, — гулко прокатилось под сводами. Бояре расступились, и князья опять впереди всех чинно вышли на паперть. Толпа снова пала пред ними, как подкошенная трава.
— А где воевода? — оглядывая людей, зычно спросил Роман.
— Здесь я, княже, — наконец-то пробился к ним, бойко работая локтями, взъерошенный Стонег.
Роман не удостоил его даже взглядом.
— Веди.
Стонегова изба — лучшая в городе. Воевода смутился: кому отдать ее на постой?
Тут выручил его поп. Успев снять с себя церковное облачение, он вдруг откуда ни возьмись вынырнул на паперти:
— Не побрезгуй, княже, отведай мой хлеб-соль…
Роман ответствовал:
— Быть по сему.
«Пронесло, пронесло», — обрадовался Стонег и засуетился вокруг Рюрика.
На следующий день, с утра, князья и их думцы собрались у воеводы.
На лужайке перед избой было людно: взад и вперед прохаживались без дела отроки и меченоши, играли в зернь, сидели на попонах, скалили зубы, глядя на пробегавших мимо баб. По ту и по другую сторону от избы и на противоположной стороне улицы стояли привязанные к изгороди кони под богатыми седлами.
Во дворе суетилась всполошенная воеводой челядь, дымились летние печи, из медуш выкатывали бочонки, наполняли ендовы, несли в избу.
Князья сидели за столом, на лавках вдоль стен разместились бояре. Ели-пили, разговаривали громко, рядились, на Стонега не обращали внимания.
Скрестив руки на животе, воевода покорно стоял обочь двери, ждал указаний. Но челядины знали свое дело, упреждали желания гостей, без суеты убирали блюда, которые уже отведали, вносили новые.
Тяжело дыша, Рюрик хватал руками мясо и птицу, ел жадно, пил много. Роман почти не притрагивался ни к еде, ни к меду. Как взял гусиную лапку, так и пощипывал ее помаленьку, говорил мало, но весомо. Рядом стоял Авксентий и, склоняясь к самому уху князя, что-то нашептывал ему. Роман кивал головой, чуть заметно улыбался и бросал на Рюрика короткие взгляды.
Для Стонега беседа князева была темнее леса. Только и понял он из всего слышанного, что ссорятся Рюрик с Романом и что бояре тоже поделились надвое: каждый стоял за своего князя и уступать друг другу никто не хотел.
Видать, не на шутку довел словами скупыми Рюрика Роман. Вдруг икнул он, отбросил обглоданную кость, перегнулся через стол и, разбрызгивая слюну, сказал:
— Не хотел я новой которы, князь, но вселился в тебя бес. И Чурыня мой — твой подпевала. Сказывал он тут при всех, будто унижал я Ярослава Всеволодича, — ложь это. И половины полона его я не забирал. И со Славном не сговаривался…
— Слышали, бояре? — побледнел Роман. — Слышали?. Так вспомни, князь, не я ли вызволил тебя из Овруча и посадил в Киев? Не я ли заступился за тебя перед Всеволодом? Не я ли удалился в Галич, когда, и не сговариваясь ни с кем, мог сесть на Горе? На что мне ложь, ежели за мною сила?.. Хотел рядиться я с тобою, как повелось на Руси, думал крест целовать на вечном мире. Да вовремя показал ты свое волчье обличье. Так не быть по-твоему, знай. С сего дня не князь ты боле.
Засмеялся Рюрик:
— Ай да Романе! Уж не думаешь ли ты на мне пашню пахать, как на грязных ляхах?!
Ничего не ответил ему на это Роман, пальцем поманил к себе Авксентия.
— Все ли готово, как сговорено было? — спокойно спросил он печатника.
— Все, княже, — с улыбкой отвечал Авксентий.
Встал Роман.
— Всему свой конец, — сказал он. — Нынче ты мой пленник, князь.
Вскочили бояре, загалдели, схватились за мечи.
— Опомнись, Романе! — закричал дородный Славн, бросаясь между князьями. — Черное замыслил ты дело.
— Аль в железа захотел? — сузив глаза, оскалился Роман.
Пошатнулся Славн, опустил руки. Отнялся у него язык. А в избу тем временем набивались Романовы решительные гридни, оттеснили задрожавшего Стонега за дверь, окружили Рюриковых бояр.
— Что, доигрался, тестюшко? — спросил Роман безмолвно сидевшего Рюрика. — Пображничал, хватит. Нынче за все тебе держать ответ.
— Змея ты, Романе, — мотая кудлатой головой, простонал Рюрик. — Родня мы, а како со мной говоришь? Сгинь!..
— Не родня мы боле. Твое семя гнилое. Всех в монастырь — тебя, и жену твою, и сына твово, и дочь. Всех!
Глава вторая
1
Пристроившись поудобнее у оконца, забранного разноцветными стеклышками, Верхослава читала вслух лежавшую на подставке книгу. Рядом сидела княгиня Анна, слушала ее вполуха и который уже раз любовалась своей невесткой.
Год от году все краше становилась Верхослава. Ещё когда привезли ее, малолетку, из Владимира, ахнула княгиня от изумления. Много сказывали ей про Всеволодову дочь, а она оказалась и того краше. Ростиславу-то женская красота тогда была еще недоступна — только мельком глянул он на княжну и был таков, зато Анна и так и эдак крутила перед собой будущую невестку. Когда наряжали ее к венцу и стояла она перед сенными девками и княгиней обнаженная, придирчиво разглядывала ее Анна, все искала изъяна, а найти не могла.
Прошло время, повзрослела Верхослава, да и Ростистав стал другим и не в пример иным князьям, открыто ли, тайно ли имевшим не по одной наложнице, любил и холил свою жену, души в ней не чаял. Не раз посмеивался над сыном Рюрик, советовал вместо коца носить монатыо, сердился, что брал он повсюду с собою Верхославу (а может, втайне завидовал?), но с молодого княжича всё как с гуся вода.
Была Верхослава мудра не по летам, нигде не расставалась с книгами, вела глубокомысленные беседы со сведущими людьми и даже вступала в споры с ученым греком митрополитом Матфеем. Наезжая в Киев, ходила в лавру, подолгу разговаривала с Феодосием-летописцем, а дома, в Белгороде, было у нее много книг, часть из которых дарены ей были отцом Всеволодом, который тоже слыл большим любителем писаной премудрости. Через нее и Ростислав приобщался к чтению, хотя и наследовал он от отца леность к наукам и непоседливый нрав. Как знать, если бы попалась ему другая жена, может, и он бы стал другим, а теперь нарадоваться не могла Анна, глядя на сына. Когда же родилась у молодых дочь, еще больше привязался молодой князь к Верхославе.
Часто навещал Ростислав с женой своих родителей в Киеве. Вот и нынче прибыли они — и ко времени: ждали Анна с дочерью своих мужей из похода на половцев. Первые гонцы, прискакавшие еще с Дона, доносили, что возвращаются князья с немалой добычей. И должны были дружины со дня на день показаться у городских ворот.
К встрече князей готовились со тщанием, в тереме стояла праздничная суета, лучшие сокалчие съехались на княж двор, в домашней церкви до блеска натирали воском полы, украшали сени коврами и бархатными занавесями…
Просветленная и словно помолодевшая, Анна всюду сама старалась поспеть, успевала приглядывать за всеми и к вечеру едва не валилась с ног. Дочь с Верхославой помогали ей, как могли, Ростислав с дружиной выезжал за Днепр, чтобы первым встретить гонцов с доброй вестью.
Не терпелось Анне поскорее прижаться к груди мужа — будто невесте на выданье, а ведь и впрямь за всю жизнь с Рюриком мало выпало ей светлых дней, хоть на старости посчастливилось…
Верхослава дочитала страницу, осторожно закрыла книгу и устремила задумчивый взгляд за окно. Но сквозь стеклышки почти ничего не было видно, только солнце переливалось красными, зелеными и желтыми брызгами; игра света забавляла ее, она кротко улыбалась и жмурилась и чувствовала, как нарастает у нее в груди тихая и беспричинная радость.
Поди-ка ж, ничего в тот день не предвещало грозы. И надо было такому случиться, что проглядел Ростислав гонца. Увлекся молодой князь охотой, всего-то ненадолго покинул шлях, а он и проскачи — торопился исполнительный гридень, с трудом выбравшись из Триполя, донести до Киева тайно доверенную ему Рюриком скорбную весть.
Свалился он со взмыленного коня перед самым теремным крыльцом, не отряхая с одежды пыль, вбежал в палату, где сидели Анна с Верхославой, рухнул на колени:
— Беда, матушка!
Перехватило у гридня горло, слова застряли на пересохшем от жажды языке.
Подкосились у Анны ноги, с трудом собралась она с духом. Не теряя княжеского достоинства, выслушала невнятное бормотание гридня:
— Князя-то нашего… Роман…
— Да что Роман? — не вытерпела Верхослава.
— Славна взял в железа… Князя везет под стражей…
— Говори, да не заговаривайся, — вдруг оборвала его Анна. — Почто Славна взял в железа Роман?
— Не вытерпел, вступился он за Рюрика…
— Да кто снарядил тебя гонцом? — обманывая себя, хваталась за хрупкую надежду княгиня. — Иль солнце темечко тебе припекло?
— Кабы солнце. Взял коварно Роман нашего князя, силою везет с собою в Киев, грозится в монахи постричь…
— Выйди, — сказала Анна и села на лавку.
Дура-баба, аль жизнь ее мало учила? Что было по-пустому радоваться! Закусила она губу до крови, чтобы не закричать.
Верхослава опустилась на ковер перед старой княгиней, гладила ей руки, говорила сбивчиво:
— Ты успокойся, матушка, не отчаивайся. Может, еще что и не так. Может, и впрямь чего перепутал гридень. Молод он — одно слово влетело, а вылетело другое…
— Добрая ты, Верхослава, — тяжело подняла на нее Анна набрякшие от слез глаза, — да почто себя обманывать? Зря доверился Рюрик Роману — вся жизнь у зятя моего одно коварство. Намаялась с ним моя дочь, да и мне поделом. Нет, чтобы предостеречь князя, куды там! Сама попалась в хитроумные сети, поверила в несбыточное… Уж коли на такое неслыханное злодейство решился Роман, туго нам всем придется.
Что было на это сказать Верхославе? Только вдруг вскочила она в тревоге: господи, да как же Ростислав? Отчего разминулся с гонцом, отчего сам не привез худую весть?.. Никак, ждет себе, поджидает отца на шляху, еще и навстречу скачет, прямо в Романово нерето!
Подхватилась она, выбежала на крыльцо:
— Эй, кто тут есть!
Молодой Творимир оказался во дворе ближе всех ко всходу. Глаза ясные, преданные, за княгиню — в огонь и в воду.
— Не мешкай, Творимир, скачи к Ростиславу!.. Коня не жалей. Падет — найдем тебе другого, краше прежнего. Скажи князю, чтоб немедля возвращался…
2
Притих, затаился в ожидании больших перемен по обыкновению шумный и праздничный Киев. Опустели ремесленные посады, по улицам проходили лишь редкие, спешившие по неотложным делам люди, а прочие сидели по избам своим, запершись. Много бед повидали они за последние годы, хватили лиха и, хоть вещали биричи, что Роман не причинит им зла, в слово его не верили. Когда-то сами открывали кияне ворота галицкому князю, сыну Мстиславову, — нынче были осторожнее. Выставлял Роман меды на площадях — не пили, звонили соборные колокола — на зов их не шли. Затихли кузни, свои купцы и заморские гости не выставляли товаров на торгу.
Удивлялся Роман: с чего бы это? С чего это вдруг невзлюбили его кияне? Ведь не сделал он им никакого зла.
— Веру ты их поколебал, Романе, — сказал ему митрополит Матфей. — Страшатся они твоего непостоянства. Коли с князем, тобою же посаженным, поступил ты не по правде, хотя, уезжая на половцев, вражды к нему не испытывал, то почему бы и с градом Рюриковым тебе не поступить, яко с крепостью, взятой на щит?!
— Не Рюриков сие град, а мой, — гневно возразил Роман. — Еще дед мой и отец владели им, а мне сам бог велел.
— Оттого и поступаешь не по-божески? Ты же Рюрику крест целовал!
— Рюрик мне тоже целовал крест. Обещал за добро, мною ему содеянное, поделить уделы по справедливости. Сам же первым нарушил роту, так кто из нас больше виноват?
Трудно было говорить Матфею с князем — еще не остыл он, еще клокотала в нем обида.
Так думал митрополит, ибо не знал всего, да и знать не мог. Рассуждал он просто: пройдет время, опомнится Роман, вернет все на свои места. Не раз так бывало.
Но, слушая Матфея, глядя на его благостное, в мелких морщинках смуглое лицо, посмеивался про себя галицкий князь: «Эко миротворец какой, вразумляет, будто и впрямь послушаюсь я его советов. Не для того вынашивал я свою думу, чтобы отречься от нее».
Утвердить свою власть на Горе, усыпить потревоженных киян — вот для чего нужен был ему Матфей, а то стал бы он пред старикашкой-ромеем гнуть колени!..
И потому упрям был князь, не смущаясь, митрополиту лгал:
— Меня взять в железа хотел Рюрик, и, ежели не упредили бы накануне рокового дня, не он — я бы сейчас сидел в порубе. Так что оставалось мне: смириться и ждать, когда войдут ко мне его дружинники и станут вязать?..
— Сие в потемках скрыто и никому не ведомо, — растерянно пробормотал Матфей.
— Зря думаешь так, — криво усмехнулся Роман. — Ежели мои людишки тебе не свидетели, так послушай Рюрикова боярина Чурыню.
Поколебал князь митрополита, усомнился в своей правоте Матфей.
Служки ввели растерянного боярина. Глаза у Чурыни бегали, как у затравленного зайца.
Матфей насупился, спросил строго:
— Верно ли сие, что замыслил крамолу Рюрик и велел взять Романа?
Чурыня молчал.
— Так верно ли сие? — еще строже повторил митрополит.
— Не юли, боярин, всю правду сказывай, — сквозь зубы проговорил Роман. — За правду на небесах воздастся. Ну?
Чурыня зябко передернул плечами, поднял на митрополита прямой взгляд.
— Так и было, отче. Вот те крест святой.
И он с отчаянием размашисто перекрестился.
— Иди, — повелел Матфей и в глубоком раздумье опустился в кресло.
— Так кто же прав, святой отче, в сей кровной распре? — помолчав, живо спросил Роман.
Митрополит не двигался, сидел, опершись руками о посох, неторопливо размышлял. Знал, хорошо знал он галицкого князя, коварством его смущался, но боле того смущало его другое. Пожизненно посажен он был патриархом в Киев, чтобы блюсти православную веру. Блюсти… Крепить и зорко охранять от чуждых посягательств. А что видел он в лице Романа? Стоял Роман не просто на порубежье Русской земли — пред ним на закат до самого океана простирались земли, подвластные латинской вере. И не раз уж присылал к нему папа нунциев своих и легатов, уговаривая отречься от православия.
Покуда не поддавался Роман на льстивые уговоры, а что скажет завтра, какое решение подскажет ему извечное непостоянство и непомерное честолюбие?..
И коль скоро из двух бед пришла пора выбирать одну, то уж лучше Рюрик, хоть и не любимый киянами, по богобоязненный и покорный митрополиту князь.
Так рассудил Матфей, и приговор его был неожидан для Романа:
— Не будет тебе моего благословения, Роман. Ступай и сам говори с киянами — они дети твои, тебе о них и радеть.
Ушел, к руке митрополита не приложился Роман. Вернулся в терем, сидел ввечеру, не зажигая свеч.
Неслышной тенью в дверь проскользнул Авксентий. Долговязый и тощий, как волк по весне, остановился перед князем. «Ишь, хичник, — подумал Роман, — даром что зубами не щелкает…»
— Не запалить ли огонь, княже? — спросил печатник.
Князь не ответил, и Авксентий, двигаясь все так же бесшумно, высек кресалом искры, зажег от тлеющего трута бересту и обошел все места, где стояли свечи. В сенях стало светло, печатник, улыбаясь, приблизился к Роману.
— Вижу, не сладилась беседа с митрополитом, — сказал он.
Оставаясь по-прежнему недвижим, Роман кивнул.
— Как все ромеи, скрытен и зело опасен Матфей, — продолжал Авксентий задумчивым голосом. — Но сделанного не вернешь. Не сегодня, так завтра смягчится митрополит. С сильным князем ссориться ему не впрок.
— Что присоветуешь, Авксентий? — выговорил наконец Роман.
— То же, что и в Триполе советовал: ссылай, не мешкая, Рюрика в монастырь. Ну сам посуди, каков из него князь в монашеской-то рясе!.. И киянам вражды своей не проявляй. Потерпи — не век же им прятаться в избах.
— А мне каково на Горе сидеть без митрополитова благословения?
— Смутили его кияне. А как примут тебя со всею честью — куды деться ему?
— Верно говоришь, Авксентий, — взбодрился Роман, встал, прошелся из угла в угол. — Кликнуть надо сотских из ремесленных посадов, купцов тож. С ними говорить буду.
— Ловко придумал, княже, — обрадовался печатник. — А от них и дале пойдет, — глядишь, все и образуется. С утра повелишь звать людишек?
— Сам с дружиной объедешь. И чтобы без баловства!
— Куды уж баловать! — воскликнул Авксентий. — Добром их нынче, добром…
— На посулы не скупись.
— Не поскуплюсь, княже…
— Свои, чай. Иные и отца моего помнят.
— Как же не помнить Мстислава, княже! Боголюбивый и добрый был — о том и в летописях прописано, — подольстил печатник. Падок на лесть был Роман, но Авксентия одернул:
— Не все, что в летописании, правда. Как вступили мы в Галич, почитал я, что про меня в хронографе Владимирском писано, и велел книги те сжечь. Не поскупился монах, много грязи вылил на мою голову.
— Не его ли четвертовал ты, как вершил суд да расправу? — плотоядно ухмыляясь, спросил Авксентий.
— Почто четвертовать? — вскинул на него глаза князь. — Сидит, где и прежде, переписывает хронограф заново. Нынче Рюрику от его писаний икается.
Потирая ладони, Авксентий захихикал. Нахмурившись, Роман серьезно сказал:
— На что я с врагами моими непримирим, да ты покровожаднее будешь.
Веселая улыбка на лице печатника вдруг стала растерянной и беспомощной.
— Хулишь меня, княже.
— Не хулю, а воздаю должное. Мил ты моему сердцу каков есть. Другим тебя не приемлю.
А в палатах у митрополита в тот же час другая текла беседа. Перед Матфеем стоял служка и внимательно запоминал все, что говорилось ему с глазу на глаз.
Наставлял его митрополит:
— Незаметен ты, прошмыгнешь во Владимир, как мышка. Всеволоду передашь мое благословение и такие слова: пленил, мол, Роман Рюрика с женою, задумал в монастырь их упрятать вместе с дочерью. Не отпускает от себя и сына его Ростислава в Белгород, и твою Верхославу унижает, творит суд и расправу в Киеве, как в своей вотчине. Кияне не хотят его к себе на стол, и я не дал благословения. Помысли-де, княже, как быть… Все ли запомнил?
— Все, — сказал служка и, встав на колени, приложился к Матфеевой руке. Митрополит благословил его.
— Романовых людишек берегись пуще всего, — предупредил он на прощание. — Не открывайся никому.
Уже не впервой выполнял служка поручения митрополита, оттого и выбрал его Матфей.
Ночь была темной и душной. В вышине тускло горели звезды. У Подольских ворот, перегнувшись с седла, всадник предъявил митрополитову печать. Старый вой, подняв над головой факел, внимательно рассмотрел ее, кивнул стоявшим за его спиной хмурым пешцам — служку беспрепятственно выпустили из города. Конь дробно простучал копытами по настилу подъемного моста и скоро скрылся под горой.
3
Кто в Киеве князь?..
На заутрене в Богородичной церкви блаженный, обнажая обмотанное цепью истощенное тело, кричал:
— Кто в Киеве князь? Господь покарал вас, нечестивцы, и оставил град ваш на сиротство и растерзание бешеным псам. Застило вам глаза, и в темноте вашей молитесь вы не господу, но сатане.
Сквозь толпу к человечку протиснулись незнакомые люди, схватили его за руки, потащили к выходу.
— Глядите, кияне, и запоминайте, — кричал блаженный. — Сие только начало, сие слуги сатаны. Когда же явится средь вас он сам, все будете гореть в геене огненной, и никто не придет, дабы помочь вам выйти на светлую дорогу истины!
То, что случилось в Михайловской церкви Выдубецкого монастыря, было еще пострашнее. Там, правя повечерие, монахи собрались вместе во главе с игуменом и предали анафеме Романа, и детей его, и весь его род. Впоследствии узнал галицкий князь, не без помощи Авксентия, что зачинщиком безобразий был некто, явившийся от митрополита и сгинувший в безвестности. Как ни искали его, а найти так и не смогли.
Однако Роман не очень убивался, узнав об этих событиях: так или иначе, а кияне сдавались. Беседа его со старостами и сотскими не прошла втуне. Ясное дело, пришлось пригрозить упрямцам — князь горячился и обещал кинуть их в поруб. То, что Роман не бросает слов на ветер, знали все: в своем Галиче он уже справил кровавый пир, а ежели Киев отдаст на поток и разграбление, пощады никто не жди. Закурились кузни, загрохотали молоты, купцы повезли на торг припрятанный на всякий случай товар, распустили паруса лодии на Днепре, веселым перезвоном заговорили на звонницах колокола…
Смеялись над своими страхами кияне, доверчивые, как дети: иль затмение на них нашло? Чего испугались-то? Своего князя? А то, что пригрозил он, так это его право — на то он и Роман. Иному и малый грех не простится, ему же все нипочем. Слава богу, что хватило у него терпения, — значит, и впрямь любит он своих киян.
И уже кричали юркие людишки на торгу:
— Слава тебе, Романе!
— Слава! Слава! — катилось по городу из конца в конец. Мужики надрывали горло, бабы, когда проезжал он мимо, поднимали на руках младенцев.
Отныне Роману нечего было опасаться. Тогда он призвал к себе Авксентия и повелел собрать передних мужей. В сени при гробовом молчании ввели также Рюрика с семьей, Славном и еще несколькими его наиболее ретивыми боярами.
Романовы думцы сидели, Рюрик со своими стоял перед князем.
— Вот что, бояре, — сказал Роман, — все, что в Триполе было, вам ведомо, и обещание мое запомнили все. Не потому, что жажду я киевского стола, наказую Рюрика, а за подлый обман его и вероломство. Как поступим с киевским князем: покараем его смертию или, преисполнясь великодушия, пострижем в монахи?
Опустив глаза, молчали думцы — молвить первым каждому было страшно.
Роман усмехнулся и взглянул на Авксентия.
— Гнев твой праведен, — распевчиво сказал печатник. — Но прошу тебя смилостивиться, хотя и достоин Рюрик сурового наказания. Постриги его, княже.
Слово было сказано — бояре зашевелились, хватаясь за него, как утопающий за соломинку (им и невдомек было, что сговорились Роман с Авксентием):
— В монастырь его!..
— И жену его постричь, Анну…
— И дочь.
— И сыновей!..
Последнее выкрикнул Чурыня, уже сидевший среди галицких думцев.
Роман посмотрел на него долгим взглядом — Чурыня съежился и часто-часто заперхал.
— Не, Ростислав с Владимиром за отца своего не в ответе, — нашелся кто-то.
— Яблоко-то от яблони… — возразил другой.
Авксентий тревожно вскинулся, отыскал глазами говорившего — был это дородный боярин с раскидистой бородой, Рагуйло из волынских; поняв печатника, тот враз замолчал.
Вдруг заговорил Рюрик:
— Смешно слушать мне тебя, Романе. Погляди, кто судит великого киевского князя — слуги его и твои рабы. Да видано ли такое? Нарушил ты родовой обычаи, не говоря уж о подлой лжи, коей сам ты выдумщик и первый потатчик…
Услышав своего князя, поникший было Славн придвинулся к Рюрику. Ростислав положил ладонь на рукоять меча. Верхослава гордо вскинула голову.
Передние мужи повскакали с лавок, загалдели вразнобой. Чурыня закричал громче всех (Рюрик, оставшийся на воле, был ему опаснее злого половца).
— Тише, бояре! — зыкнул на думцев Роман. — Почто расшумелись? Иль забыли про чин?
— Боятся они, вот и лают, — сказал Рюрик.
— Тебя им бояться нечего, — спокойно проговорил Роман. — И на родовой обычай не ссылайся — сам небрег им ежедень. А чтобы не дразнить бояр, скажу свое последнее слово: тебя, жену твою и дочь постригаю, Ростислава с Владимиром, сынов твоих, беру с собою в Галич, а ты, Верхослава, возвращайся в Белгород — тебе я ущерба не причиню… Ладно ли рассудил, думцы?
— Ладно, княже, — удовлетворенно закивали бояре.
Вскрикнула княгиня Анна, Ростислав рванулся к Роману, но на руках его повисли два рослых гридня.
— А знаешь ли ты про то, Романе, — с достоинством заговорила молчавшая доселе Верхослава, — что разлучая меня с мужем, творишь ты еще одно зло? Не вернусь я в Белогород — вези и меня с Ростиславом в Галич. Всеволодова дочь я, а не девка и противу воли моей распоряжаться мною, как рабой, никому не позволю.
Удивленно вскинулась бровь у Романа, и вдруг поползли от краешков глаз к косицам веселые лучики — ай да княгиня! Развеселила его Верхослава, и он проговорил с улыбкой:
— Не пленником везу я в Галич твоего мужа, а гостем. И ни ему, ни тебе не желаю зла. Ежели хочешь, поедем с нами.
— Оставил бы ты деток моих в Киеве, — слезно попросила Анна.
— А ежели оставлю? — прищурился Роман. — Ежели и впрямь не возьму, кто о них позаботится?
— Не кощунствуй, Романе, — сказал Рюрик. — Ростислав вернется в Белгород, там он — князь, и младшенького возьмет с собою.
— Тебе легко говорить, — возразил Роман. — Мне же за все ответ держать. Не приведи бог, случится с Ростиславом что в пути, — на кого вина падет? Не уберег, мол, али сам замыслил… Нет, как решил я, так и будет.
4
Далеко от Киева над Клязьминской поймой шел благодатный летний дождь.
Пробираясь на коне сквозь заросли мокрого орешника, Всеволод прислушивался к голосам скакавших следом за ним дружинников. Охота сегодня не задалась с утра, выследили одного лишь лося, шли за ним долго, а потом в болоте затеряли след. Князь был не в духе, молчал, наконец велел трубить сбор и возвращаться в город.
Дождь застал их на половине пути, все вымокли и думали только о том, как бы поскорее обсушиться и отдохнуть.
Кузьма Ратьшич скакал чуть поодаль от князя, но ближе к нему, чем все остальные, Всеволод явственно слышал прерывистое дыхание его коня. Тут же, где-то совсем рядом, был боярин Яков, бесшабашный и страстный охотник, уговоривший князя вчера на пиру ехать с утра на лося. Клялся и божился, что мужики видели совсем рядом матерого зверя — врал, небось: Всеволод не впервой в лесу и сразу понял, что тропа, на которую указал Яков, еще прошлогодняя и никакого лося поблизости не было.
Ну да ладно, захотелось добру молодцу поразмяться — пусть его. Всеволоду тоже надоел терем, и он не сердился на Якова за то, что тот вытащил его на охоту.
Но когда все-таки на лося напали, когда ринулись по следу выжловки и черные борзые, горделиво взглянул на князя Яков и повел своего солового, с седым нависом коня изгоном вперед, не разбирая дороги.
За ним и Всеволод не утерпел, погнал своего чалого с улюлюканьем и посвистом — вся охота стронулась, под конскими копытами полег неокрепший подлесок, упали молодые травы.
Первою стрелой подранил зверя в бок Всеволод, вторая стрела была Якова — повисла она у лося на шее, стрела Ратьшича угодила сохатому в ногу.
Но крепкий попался им самец — не сбавляя бега, шел он впереди коней, вскинув тяжелую морду, шел по сокровенным своим приметам к болоту, широко раскинувшемуся за низким березнячком.
Утопая в трясине, трубным голосом полошил он лесную дремоту, не то просто прощаясь с жизнью, не то упреждая лосиху об опасности.
Со страхом и жалостью смотрел Всеволод в устремленные на него глаза погибающего зверя.
Голова самца погружалась все глубже и глубже, но глаза все так же неотрывно следили за князем, пока не сомкнулась бездна, и в них было торжество зверя, понявшего по одному ему только внятным звукам, что клич его услышан, и в тот самый миг, когда затухает в болотной тьме его последнее дыхание, лосиха летит по лесу, унося от смерти зародившуюся в ее чреве новую жизнь…
Какие потаенные связи вызывала в душе князя эта картина? Ведь не оттого же ударил Всеволод плетью но спине подъехавшего выжлятника, что упустил он верную добычу.
Отчего вдруг возник перед взором его облик больной Марии с отрешенным, исхудалым лицом, утонувшим в подушках? Отчего увидел он сынов и дочерей своих всех разом — и горечь чего-то невосполнимого, утраченного навсегда, наполнила его сердце?
И образ самоотверженного лося, домысленный воображением, все возникал и возникал перед князем, как образ всего сущего на земле.
И думал Всеволод: в чем связь времен? Неужто только в том, что семя твое, как у зверя, возрождается в жизни, которую тебе не дано познать? И мысли твои только тень истины? И чувства твои только зов непокорной плоти? И не продлится в сынах твоих ни радость первой любви, ни зов голубого неба, ни ненависть, ни боль, ни сомнения — и все для них будет сначала. И снова пойдут они тем же путем, которым уже однажды прошел ты сам? И не в этом ли высший смысл и предназначение человека — лишь повторяться в своих потомках, и так без конца?..
Но все подымалось в нем и противилось этому, потому что на задуманное им (он знал это) жизни одной не хватит, какой бы долгой она ни была. А если никто не продлит ее и все начнется сызнова, справедливы ли жертвы, принесенные им во имя несуществующего блага?..
Вот какие мысли обуревали Всеволода, и хорошо, что ни Яков, ни Кузьма Ратьшич не догадывались о них и думали, что князь недоволен охотой.
Они уже добрались до излучины Клязьмы и переправились вброд чуть ниже Боголюбова.
С запада потянул пахнущий горящими травами ветерок, тучи развеялись, и теперь князь и дружинники скакали прямо на сверкающие купола умытых дождем, словно невесомых соборов.
Знакомый вид княжеского пригорода всегда волновал Всеволода, невеселые мысли рассеялись, и теперь он легонько постегивал коня, частой рысью взбегающего на пригорок.
Церковь Покрова осталась справа (проезжая мимо, князь оглянулся на нее), слева, под крепостной стеной, зачернели избы посада, прямо перед лицом высилась громада дворца с примыкающей к нему церковкой. За спиной Всеволода напевно протрубил рог, на валах засуетились люди…
Князь попридержал чалого, Ратьшич нагнал его, Яков скакал рядом.
Сторожа, сгибаясь в поклоне, распахнули створы ворот, и все въехали на небольшой, выложенный белым камнем двор.
Издали дворец казался ухоженным, вблизи же являл собою громаду уже начавших чернеть, запущенных глыб. Однако и в запустении он радовал взгляд соразмерностью всех его частей и плавностью линий.
Всеволод подумал, что неплохо было бы подновить постройку, хотя жить здесь он не собирался, как не жил почти никогда и в братнем тереме во Владимире у Золотых ворот. Оглядываясь вокруг себя, он вдруг вспомнил возводившего эти стены камнесечца Левонтия, вспомнил, как на подъезде к Боголюбову встретил его возок и как глядел на него из возка Левонтий, который уже знал, что час его пробил, и мысленно прощался с князем…
Защемило сердце, как всегда последнее время, едва только стоило соприкоснуться с минувшим. Но боль была мгновенной, почти неощутимой. Всеволод спрыгнул с коня и ступил под прохладные своды. По крутой винтовой лестнице он поднялся наверх, в полутемный переход, и остановился перед княжеской опочивальней.
Что внезапно остановило его руку, поднявшуюся, чтобы открыть обитую золочеными медными полосами створу, что толкнуло его в грудь и не дало перешагнуть порог? Уж не воспоминание ли о злодейском убийстве брата, так потрясшем его во дни молодости?..
Но Всеволод шагнул вперед — дверь курлыкнула на заржавелых петлях, и взору его предстала картина полнейшего запустения. В опочивальне было прохладно и сыро, в забранное решеткой окно падал мягкий рассеянный свет. Похоже, никто не заходил сюда с тех пор, как свершилось злодейское преступление: на лавке валялись гусли, на которых любил, оставшись один, играть Андрей, под лавкой — мягкие меховые туфли-кожанцы, сорванный с гвоздя ковер висел на стене боком. Все было покрыто толстым слоем серой пыли…
Всеволод опустил взгляд и увидел на полу перед лавкой большое темное пятно, которое могло быть братней кровью, нахмурился, передернул плечом и, круто повернувшись, вышел из опочивальни.
Странный это был день, наполненный грустными размышлениями и мрачными воспоминаниями.
Что привело князя, в Боголюбово, в эти палаты, в опочивальню, в которой он был только раз вместе с братом Михалкой? Они только что вернулись на Русь из изгнания, Андрей звал их к себе, разговаривал с ними приветливо, хоть и недолго. В опочивальне было так же полутемно, под образами в углу сиротливо светилась лампадка; гремя скляницами, бесшумно ходил возле ложа хромоногий лечец из Галича. Андрей был болен, улыбался через силу, вспоминал погибшего в походе на булгар старшего сына… Тогда непонятна была Всеволоду его тревога.
Теперь он сам познал ее. И улыбающееся лицо внезапно возникшего перед ним Якова было так некстати, что Всеволод поморщился и отвернулся.
Но Яков сказал:
— Княже, внизу дожидается тебя Звездан, прискакавший со спешным делом из Владимира.
Всеволод спустился во двор. Дружинники грудились кучкой у входа в собор, о чем-то оживленно переговаривались друг с другом.
Быстрым шагом Звездан приблизился к князю, придерживая меч рукою, поясно поклонился ему. Тут же подскочил к ним Кузьма.
— Срочное дело к тебе, княже, от епископа Иоанна, — сказал Звездан.
— Аль соскучился по мне наш пастырь? — усмехнулся Всеволод. — Почто такая спешка?
А про себя подумалось: «Свят-свят, не с Марией ли приключилось несчастье?»
— Велено передать тебе, что прибыл гонец из Киева, — бесстрастно продолжал Звездан, глядя прямо в глаза князю.
— Подождал бы гонец и до вечера, — проворчал Всеволод.
— От митрополита, — закончил Звездан.
Всеволод подобрался, пристально поглядел на дружинника.
— Ну, чего еще сказывал Иоанн? — спросил нетерпеливо.
— Боле ничего, — произнес Звездан. Всеволод помедлил и быстро подошел к своему чалому. Дружинники, чутко следившие за ним, тоже кинулись к коням.
Звездан скакал рядом с князем.
— Велено было сыскать тебя, княже, на охоте, — возбужденно поблескивая глазами, говорил он. — Кинулся я к броду, а мне — проехал-де князь с дружиною к Боголюбову. Хорошо, что упредили, а то бы не сыскал…
— Нынче охота не сладилась, — сказал Ратьшич.
Всеволод молчал.
Поднялись на пригорок перед Серебряными воротами, миновали посад, в городе попридержали коней. Ехали чинно. Дружинники с достоинством поглядывали по сторонам на толпящийся повсюду ремесленный люд. У детинца снова пришпорили коней, скакали с веселым посвистом под звуки охотничьих рогов.
Услышав их, отроки высыпали во двор, чтобы принять коней. Легким шагом Всеволод направился в палату, где ждал его Иоанн. Кузьма Ратьшич и Яков шли за ним следом. Звездан отстал на входе.
Епископ был не один. Прямо напротив него, за крытым бархатной скатертью столом, сидел широкоплечий молодец в широком платне, в высоких до колен, мягких сапогах, рядом с ним на лавке лежала шерстяная шапочка.
Едва только вошел князь, Иоанн прервал беседу, молодец вскочил и поклонился. Всеволод молча отстегнул корзно и кинул его на спинку кресла. Кузьма и Яков встали позади него.
Епископ начал сразу, без подступов и благочинных речей:
— Выслушай гонца, княже.
— Говори, — кивнул Всеволод, глядя на молодца. Был он юн, но крепок, на шее платно не сходится, взгляд прямой и решительный.
— Прислал меня к тебе, княже, Матфей, митрополит наш…
— Знаю, — нетерпеливо оборвал его Всеволод. Гонец смущенно покашлял.
Князь подался вперед:
— Роман?
— Да, княже… Велел передать митрополит, что схватил он и грозится постричь Рюрика, а вместе с ним жену его и дочь. Сына Рюрика с твоею Верхославой не отпускает в Белгород…
Глава третья
1
Дьякон владимирской Богородичной церкви Лука, прозванный в соборном хоре Сопелью, любил поутру бродить по городу, а пуще всего нравилась ему толчея на главном торгу, куда съезжались не одни купцы и заморские гости со своим бойким товаром, но и разные веселые люди.
Дьякон был небольшого роста, тонок в кости, худ, и трудно было поверить, что именно в его впалой груди зарождались те могучие звуки, от которых во время службы мороз подирал по коже, сотрясались своды собора и трепетно колебалось пламя многочисленных свечей.
От предшественника своего, тоже Луки, наследовал он церковную школу, где обучал пению и крюковому письму обладавших музыкальными способностями детей ремесленников и прочих жителей города.
Лука был беден, жил в посаде у Волжских ворот в убогой избенке, крытой щепой, с покосившимися дверьми. Не было у него ни детей, ни родных — одна только жена Соломонида, высокая рябая баба с рыжими, как огонь, волосами, которую он привез из деревни, когда уж пел в Богородичной церкви. О прошлом Луки никто ничего не знал, хотя слухи ходили разные. Одни говорили, что до того, как попасть во Владимир, ходил Сопель с гуслярами, и утверждали, что знают его в лицо, другие столь же рьяно доказывали, что никаким гусляром он не был, а был попом, но провинился и его изгнали из Юрьева (там-де и до сих пор помнят Луку), третьи, людишки бывалые, вспоминали, будто видели его в Новгороде, а что он там делал, никто не знал…
Все это были враки, но Лука не опровергал слухов: пусть себе болтают, ежели охота. На самом деле происходил он из обыкновенных смердов, отец и дед его орали пашню, да и сам он думал, что век ему сидеть на земле. А попал Лука в Успенский собор не по своей воле — по одной лишь случайности, когда, ныне уже покойный, ростовский епископ Леон ехал как-то по вызову князя и ночевал в их деревне. Случилось это в Купальницы, и Лука с другими парнями и девками водил за околицей хоровод. Запевал он скоморошины, голос у него был могутен, и Леон удивился, послал служек, чтобы привели певца.
— Хочешь ехать со мной во Владимир? — спросил он. — Будешь петь в Богородичной церкви.
Вот и весь сказ…
Шел Лука по городу, по торгу, к людям приглядывался.
— Сопель идет! — увиваясь сзади, кричали ребятишки.
Лука не сердился на них, улыбался им кротко, присаживался на корточки, гладил пострелов по головкам, скромными гостинцами одаривал.
И вот что чудно: и вправду любил дьякон детей, своих не имея, другим завидовал, но с теми, что попадали к нему в обучение, бывал строг, шалостей не терпел и сурово наказывал. Правда, была у него на сей случай такая присказка:
— Ничего. За одного битого двух небитых дают.
Шел Лука по городу, окруженный детьми, по сторонам с улыбкой посматривал. День был солнечный и ласковый, нарядная толпа заполняла улицы. Попадались дьякону знакомые — шапочку снимет, с иными поздоровается в обнимочку, о доме расспросит, о здоровье, не занедужил ли кто и во всем ли достаток. Отрываясь от работы, приветливо кивали ему из-за тынов гончары и златокузнецы, усмошвецы и горшечники.
Вдруг насторожился Лука, повел чутким ухом. Ребятишки гомозились и кричали у его ног.
— Нишкните вы! — осерчал дьякон и снова прислушался.
Почудилось ему, будто донес до него встречный ветерок чудный голос. Исчез он за гомоном толпы, но вот — чу! — снова прорезался.
Забеспокоился Лука, прибавил шагу. Все громче голос, все ближе. Вот уж совсем рядом.
За спинами сгрудившихся людей ничего не увидишь. Торопливо юркнул дьякон в толпу и остановился, изумленный. Вот оно — чудо-то!
Пел малец-пигалица, от земли два вершка. Тощенький, бледненький, а рядом с ним слепой старче о клюку опирается, незрячие глаза подставил теплому солнышку.
Слушая мальца, в двух местах поморщился от фальшивинки Лука, но голос-то, голос!..
Кончил малец, стал обходить слушателей — кто что подаст, кланялся, благодарил за милостыньку. Приблизился он к Луке, а дьякон его за руку — хвать.
— Больно мне, дедушка, — захныкал малец тоненько, вскинул на дьякона испуганные глаза.
Повернул в их сторону слепое лицо старец, застучал клюкою оземь, окликнул скрипучим голосом:
— Егорка!
— Тута я! — обернулся малец. — Поп меня за руку ухватил. Боюся, деда!..
— Отпусти мальца! — сильнее прежнего загрохотал клюкою старец, слепо двинулся к Луке. — Почто убогих обижаешь?
— Сопель! Сопель! — закричали ребятишки и стали дергать дьякона со всех сторон.
В толпе сразу объявились сердобольные. Слепых и юродивых почитали владимирцы, в обиду не давали, стали придвигаться к Луке, говорили покуда мирно:
— Отпусти мальца, не кощунствуй.
Бабы воинственнее были:
— Чего на него глядеть! Вовсе обезумел дьякон. Мало, что детям у себя в ученье досаждает — ревом ревут, ишшо и на улице бесчинствует!..
Но Лука будто не слышал их, только еще крепче держал мальчонку за руку. Старец двигался на голос поводыря, размахивая клюкой.
— Эй, люди, почто галдите? — раздался над толпой властный голос.
Все повернулись разом. Один лишь Лука даже ухом не повел. Мальчишка хныкал и трепыхался в его руке, дьякон тянул его за собой в сторону.
— Лука! — окликнул его все тот же голос.
— Ай-я? — встрепенулся, очнувшись, дьякон. Повел вокруг себя взглядом, увидел сидящего на коне боярина Якова. Не выпуская мальца, поясно поклонился ему.
— Ты чего это? — спросил изумленный боярин.
— Прости, батюшка, — снова поклонился ему Лука.
Яков сказал:
— Негоже это, Лука, обижать убогих…
— Лютый он, боярин, — заговорили в толпе. — Правы бабы, как есть, разума лишился…
— Эк кинулся-то… Яко стервятник.
— Куды слепцу без поводыря?!
— Почто молчишь, Лука? — нахмурился Яков. Не понравилось ему все это: зачем зазря народ волновать?
Лука, потупившись, безмолствовал. Мальчонка попискивал и с надеждой таращился на боярина. Яков рассердился:
— Что он тебе сделал? Отпусти мальца.
— Прости, батюшка, — в третий раз поклонился Лука.
— Эк свое заладил!.. Кому велено?
— Не могу я… Как услышал, так и не могу. Голос у него яко у ангела.
— А насильничаешь почто? — вопросили из толпы. — Не раб он твой, малец-от. Почто за руку держишь?
— Сбегнет…
Яков рассмеялся.
— Отпусти, отпусти — не сбегнет, — сказал он, слезая с коня. Кто-то услужливо подхватил повод, боярин подошел к Луке, потрепал мальчонку по кудрявой головенке.
— А ты и впрямь поешь, яко ангел?
— Не…
Старец, стараясь не пропустить ни слова, внимательно прислушивался к разговору.
К нему повернулся Яков:
— Твой это малец, старче?
— Егорка-то? — выпучивая слепые бельма, переспросил старик. — Дык како мой? Не холоп он, а прибился в Ростове… Сам знаешь, боярин, слепому без поводыря негоже. Ходим мы по Руси, добрые люди милостыньку подают, тем и кормимся. Ни отца, ни мамки у него нет, сирота он безродный… Не дай сироту и слепца в обиду, добрый боярин. Вступись.
— Да, — в растерянности почесал Яков затылок. — Придется тебе, Егорка, спеть. А то како я вас рассужу?
Чувствуя недоброе, слепец упал на колени:
— Не забирай у меня мальца, боярин. Смилуйся!
— Пой, Егорка, — сказал Яков.
— Пой боярину, — подтолкнул его в спину Лука. Толпа с любопытством сомкнулась вокруг них.
Чувствуя всеобщее внимание, мальчонка выдернул у дьякона свою руку, оправил кожушок.
— А чего петь-то?
— Чего хошь, то и пой, — сказал Яков.
— Пой, пой, — послышалось из толпы.
И тогда, прокашлявшись в ладошку, начал Егорка, да так, что у Луки пуще прежнего перехватило дыхание.
Пел мальчонка без натуги, легко и вольно, и голос его звенел, как серебряная труба. Сроду не слыхивал Яков такого голоса, а ведь на пирах, бывало, показывали свое умение отменные гусляры.
— Да как же так отдать его тебе, старче? — удивился он. — Такого-то певуна и князю показать не грех. Рассудил я вас: забирай с собой Егорку, Лука…
Запричитал слепец, заелозил в ногах у боярина:
— На что бросаешь меня?! На верную погибель.
— Молчи, старче, — оборвал его Яков. — По городам да весям подаяние собирать и другого поводыря сыщешь. Не пристало твоему Егорке честной люд на торжищах потешать.
Прошел через расступившуюся молчаливую толпу и сел на коня.
— Расходись, народ! Неча грудиться… Аль не по правде я рассудил?
Кому охота было отвечать боярину? Стали разбредаться люди, кто куда. Трое остались на площади.
— Благослови, деда, — сказал, всхлипывая, Егорка, припал старцу на грудь.
Ощупав мальца, слепой дрожащими перстами перекрестил его. Лука с трудом оторвал Егорку от старца, повел за собой.
— Сопель, Сопель! — кричали издали ребятишки. Теперь они боялись приближаться к дьякону. Лука остановился и погрозил им туго сжатым кулаком.
2
В избе, куда привел Егорку Лука, было неуютно и дымно. В печи гудел огонь, у огня, согнувшись, хлопотала могучая баба. В свете очага рыжие волосы на ее голове горели, как пламя.
— Вот, — сказал, указывая на Егорку, дьякон, — примай мальца, Соломонида.
Баба выпрямилась и оказалась еще выше ростом, Лука едва доставал ей до плеча.
Егорка, испугавшись, попятился к порогу, но баба улыбнулась, и улыбка у нее была доброй и приветливой.
— Господи! — всплеснула она руками. — Да где же ты такого хилого да хворого отыскал?
— Я не хворый, — серьезно сказал Егорка. — Это дед у меня был хворый и слепой.
Лука сел на лавку, опустив между колен руки, с удовлетворением сказал:
— Вот, на торгу объявился…
— Нешто забрал его у старца? — помрачнела Соломонида и с упреком посмотрела на мужа.
— Ишшо и ты туда же! — рассердился Лука. — Ну-ка заместо того, чтобы разговоры говорить, накорми мальца.
Соломонида вернулась к печи, загремела горшками — с сердцем двигала их с места на место, но долго молчать не выдержала.
— Его бы в баньку наперво, — сказала, не оборачиваясь.
— Чего вздумала, баньку ишшо истопить надо, — отозвался с лавки Лука. — А малец едва на ногах стоит. Глянь-ка, кожа да кости. Не шибко, знать, баловал тебя старец, — оборотился он к Егорке. — Подь сюды!
Егорка неуверенно подошел, остановился вблизи.
— Садись, — усадил его с собою рядом Лука. — Сыми-ко рубаху.
Егорка покорно повиновался. Дьякон покачал головой:
— И в чем только душа у тебя держится!.. Соломонида!
— Ась?
— Погляди на мальца. Тут допрежь всего твоя забота.
— Тощой-то како-ой, — с жалостью протянула дьяконица. — А сказываешь, мол, не хворый…
— Не хворый, — упрямо подтвердил Егорка. — Хворые перхают да за палку держатся, чтобы не упасть.
— Кормил ли тебя старец-то? — совсем размякла Соломонида.
— Куски пожирнее он себе брал, — сказал Егорка, — потому как слаб был…
— А ты как же?
— Хлебушка нам на обоих хватало. Да водицы. Да кваском, глядишь, где угостят.
— Шибко вцепился в него старче, не хотел отдавать — сказал дьякон мирным голосом, словно совсем еще недавно, на торге, был так же спокоен, как и теперь.
Он по-домашнему разоблачился и теперь сидел на лавке, тихий и маленький, в холодных штанах и исподней застиранной рубахе.
Соломонида выставила на стол горячий горшок с сочивом, охватив его тряпицей, вытряхнула содержимое в большую деревянную мису, положила три ложки.
— Сотворим молитву, — сказал дьякон и, повернувшись к образам, зашевелил губами. Соломонида и Егорка тоже помолились и взялись за ложки.
Первым зачерпнул Лука, поморщился, пошамкал ртом, потом кивнул, и тогда за еду принялись все.
Хлёбово было густым и душистым, в темной жиже плавали пахучая травка и куски разваренной репы.
Давно так не едал Егорка, ложка мелькала в его руке.
Дьякон предупредил:
— Не части.
Егорка покраснел и поперхнулся. Лука заметил это и уже мягче сказал, обращаясь также и к Соломониде:
— Не о хлебе едином жив будеши…
После хлебова был кисель, потом пили сладкий квас. Потом Егорку потянуло ко сну. Глаза смыкались, закувыркалась, поплыла перед ним повалуша.
Соломонида бросила ему на лавку овчину:
— Уморился малый. Спи…
Сон был длинный и вязкий. Сквозь причудливые видения долетал далекий разговор:
— Не иначе, сие от бога…
— Всё от бога.
— Как услышал я, так и обмер…
— Неужто?
— Вот те крест. А скажу, не поверишь…
— Обыкновенно говорит малец.
— Да как поет!.. Уж подивлю я протопопа, уж порадую. Отблагодарит меня отче. Крышу в избе перекрою, дощатую наложу…
— Не шибко-то надейся. Леон тож тебе чего не обещал, а погляди-ко вокруг себя, живем хуже церковной мыши.
— Попомни, принесет нам мальчонка счастье.
— На нас как наслано. Не на ту пору тебя мать родила.
— Экая ты, Соломонида! Такой вовек не угодишь…
— Поболе бы в избу нес, а то всё — мимо.
— Будя.
Стихли голоса, утонули в дреме. И стали сниться Егорке красивые сны. От снов этих сладостно и тесно сделалось в груди. То летал Егорка и задыхался от высоты, то над лесом, как птица, парил, едва взмахивая руками. То опускался на причудливое речное дно и плавал в зеленой и прозрачной воде, как рыба…
Долго спал Егорка. Проснулся оттого, что под овчиной стало жарко и душно. Высунул из меха нос, удивился: где это он?.. С трудом вспомнил, что находится в избе у дьякона. Тихо выпростал ноги, сел, оглянулся.
Дверь отворилась, вошла с водоносом в руке Соломонида. Улыбнулась мальцу, разливая воду по корчагам:
— Ладно ли спал, Егорка?
— Ух как ладно, — потянулся малец.
Соломонида сказала:
— Ступай в мовню, там тебя Лука дожидается…
В баню идти Егорке не хотелось, но ослушаться дьяконицы он не мог. Приплясывая на одной ноге, выскочил за дверь. Огляделся, подумал озорно: а что, как дать деру? Поди, ждет его старче. С ним — жизнь привольная… Вон плетень: перескочил и — иди на все четыре стороны.
Но Егорка вспомнил про скудные старческие хлеба и свернул на тропинку, ведущую через огороды вниз, к реке. Подошел к мовнице, потянул на себя дверь. Вошёл, задохнулся от горячего пара.
Лука стоял к двери тощим задом, плескал ковшичком воду на камни, уложенные в очаге. Камни сердились, шипели и выбрасывали в лицо ему белые клубы пара.
Почувствовав потянувший по ногам холодок, дьякон обернулся, увидел Егорку, закричал:
— Куды тепло-то выпускаешь?
Егорка захлопнул дверь, стал неторопливо раздеваться. Одежку, прилежно сворачивая, клал рядом на скользкую лавку. Лука протянул руку, сгреб лохмотья, затолкал в угол. Потом, обняв за плечи, подтолкнул мальца к полку.
— Полезай наверх.
Сам выбрал веничек, обмакнул в бадейку, потряс перед собою:
— Эх, за паром глаз не видать! Ложись, Егорка, так ли уж я тебя обихожу.
Со старцем не ежедень и умывался малец, много сошло с него грязи. Удивился Лука:
— А и белехонек же ты стал!..
Чистую давал ему одежку, новую. Сам надевал застиранные порты.
Соломонида подавала им в избе заварки на смородиновом листе, медком потчевала. Пропотел Егорка, легким стал, легче пуха.
— А теперь, — сказал дьякон, — сведу я тебя в Богородичную церковь на литургию.
И пошли они в белокаменный собор, что стоял над Клязьмою на крутом ее, обрывистом берегу. Тут уж только глаза успевал пошире открывать Егорка — такого чуда не видывал он нигде, на что прошел со старцем немало разных городов.
Все вокруг блистало золотом и драгоценными каменьями. Пред дверьми алтаря высился серебряный, с позлащением амвон. Алтарная преграда, сени над престолом и сам престол были изукрашены хитрым узорочьем. Под образами горели огромные паникадила. Стены собора увешаны иконами в дорогих оправах, щедро расписаны ликами святых. Пол повсюду выстлан красными каменными плитами, на них и ступить-то боязно.
Еще больше поразила его сама служба, а могучи голос Луки, которого он не сразу узнал, потому что был дьякон одет необычно и празднично, был подобен трубному гласу, вздымался под самые своды и повергал в благоговейный трепет…
После службы Лука свел Егорку к протопопу, заставил его петь; протопоп слушал его со вниманием, кивал лысой головой и приветливо улыбался, а Егорка не мог оторвать завороженных глаз от его прошитой золотыми нитями блестящей фелони.
Скоморошины, которые знал и сейчас старательно показывал Егорка, в божьем храме звучали кощунственно: кончив петь, он испугался и со страхом уставился на протопопа Фифаила. Но тот даже и ухом не повел, сказал вкрадчиво и тихо:
— Зело, зело способен отрок.
Лука удовлетворенно покашлял.
— Так благословляешь, отче? — спросил он со смирением.
Фифаил кротко улыбнулся, и улыбка у него была простодушна, как у ребенка.
— На учение благословляю. Однако хощу предостеречь тебя, Лука, — бесовских песен не играть, сие противно богу. И отроков учить надобно не токмо попевкам, но и Святому писанию, ибо не для услаждения слуха сие, а во славу господа…
Не впервой предупреждал протопоп дьякона, знал он (доносили ему верные служки), что поют отроки с попустительства Луки былины и старины и по ним вникают в тайны знаменитого звукоряда. Однако дьякон был упрям и, пренебрегая советами, делал все по-своему. Может быть, потому, что любил его сам князь и когда гостили у него послы из Царьграда, звал в свою дворовую церковь, чтобы сразить наповал ромеев.
— О душе забота наша, Лука, — и так погрязли прихожане в неверии и пороке… Плоть немощна, — все-таки еще раз предостерег Фифаил.
Не ответил на это протопопу Лука, хоть и слушал его со вниманием. Уйдет из храма, будет делать по-своему. Фифаил ему не указ.
— А отрок твой зело голосист. Подойди-ка, Егорка, под благословение, — сказал протопоп.
— Подойди-подойди, — подтолкнул дьякон.
Егорка опустился перед протопопом на колени.
3
Вокруг Богородичной церкви тесно лепились друг к другу боярские терема, избы знатных купцов и богатых ремесленников. Сгорали они не раз во время больших пожаров, но снова строились поближе к собору, словно искали у его стен надежного убежища. Одна из таких изб была отдана Всеволодом Луке на обучение распевщиков — было в ней просторно и зимою холодно, но дьякон твердо был убежден, что холод учению не помеха, а лучшее подспорье.
Здесь распевщики зубрили крюковую грамоту и прочие премудрости, а жили неподалеку — в кельях Рождественского монастыря. Там и кормились с монахами в общей трапезной и помогали игумену в богослужении.
Егорка приглянулся Луке, и подумывал он о том, чтобы оставить его при себе, но с самого начала баловать мальца не хотел. Потому-то сразу от протопопа препроводил он его в монастырь и сдал игумену.
Симон приветил Егорку, подозвал к себе и, поставив его между колен, стал по-отечески расспрашивать, откуда он, да как попал к старцу, и что видел, скитаясь с ним по Руси.
Ровный голос игумена и теплота, струившаяся из его глаз, расположили Егорку. Он стал рассказывать о себе, не таясь.
Симон слушал его внимательно и серьезно, как взрослого, не перебивал и не поучал, и это еще больше разохотило мальца.
Игумен порадовался, встретив душу нежную и неиспорченную, и, кликнув монастырского служку, велел отвести Егорку в келью, где уже обитали четверо других учеников Луки, а сам, оставшись наедине с дьяконом, стал показывать ему новые крюковые записи, недавно доставленные из Киева от митрополита Матфея.
Сам он крюковому письму не разумел, хоть и был начитан не в одном только русском языке, но и в ромейском и в латинском, и с удовлетворением наблюдал за тем, как оживился Лука, как, жадно схватив записи, пробежал их быстрым взглядом и забубнил себе под нос, выделяя то одни, то другие лады. Потом вскинул глаза на Симона и сказал, что записи новые, но что у него есть такие же, написанные им самим, только лучше.
— Как это? — удивился игумен.
— Ромейский распев, — сказал Лука, — постоянен и не допускает ничего нового. Он словно лед на реке, но ведь под ним и в самые суровые холода течет живая струя.
— Объясни, — сказал игумен.
— Ромеи, дав нам веру, хотят, дабы мы следовали ей во всем, яко слепцы.
— Все мы слепы и веруем. Вера дарует нам свет и единую истину.
— Все так, — согласно кивнул дьякон. — Однако каждому из народов, населяющих мир сей, дарован не токмо свой язык, дабы общаться друг с другом, но и душа. И через душу познаем мы величие бога. И в этом есть его мудрость… Так почто же вкладывать в разверстую грудь нашу чужую душу и говорить при этом: сие токмо истина?..
— Вотще, — возразил Симон, — мы же правим литургию не по-ромейски, а на своем языке.
— Так почто распева своего не слышим? — хитро улыбнулся Лука. — Тебе, отче, один шаг остался — шагни его.
— Нешто бесовские распевы наши повторять в храме божьем?
— А ромейские?..
— Так от веку заведено.
— Худо слушаешь, отче, — сказал дьякон с грустью. — Давно уж поем мы по-новому, да признаться в том страшно… А кондак в память князей Бориса и Глеба? Будто и его ромеи выдумали… Слабо им — кишка тонка… Не-ет, не пристало нам кланяться чужестранцам, когда свое под боком. И наши распевы еще ох как зазвучат, отче, дай только срок!..
— Верно говорят, богохульник ты!
— То — пустое. А вот послушай-ко…
И, отставив ногу, Лука загудел громоподобным басом:
— Тво-я побе-ди-тель-на-я дес-ни-ца бо-го-леп-но в кре-пос-ти про-сла-ви-тся-а-а…
— Хватит, хватит, — замахал руками Симон и заткнул уши.
— Что, игумен? — улыбнулся Лука. — Прохватило?
— Бес ты. И отколь глас в тебе такой трубный?
— От бога.
— Того и гляди, иноки сбегутся ко всенощной…
— У твоих иноков уши от лени заложило.
— Слушал я тебя в церкви — шибко. Да в келье попрохвастистее будет. Бес, как есть бес…
— Каков же я бес, коли гимны пою! — засмеялся Лука, и щурясь с хитрецой, подмигнул игумену.
Симон сказал:
— Богохульник ты — ладно. Да отроков почто смущать?
— В них, отец святой, вся моя надёжа. Не смущаю я их, а учу. После меня умножат они славу русского распева, дай срок.
Тут беседу их прервал запыхавшийся чернец.
— Княже к нам пожаловал! — крикнул он с порога.
А Всеволод, уже отстраняя чернеца, вступал в келыо.
Симон поднялся со скамьи, выпрямился; дьякон упал на колени.
— Встань, — приказал ему князь, сам сел на лавку.
Игумен про себя отметил: лицо у князя усталое, серое, под глазами набухли нездоровые мешки.
За окнами синели долгие летние сумерки. Где-то далеко вспыхивали и гасли бесшумные зарницы.
Всеволод пошевелился.
— Оставь нас, дьякон, — сказал он. — Хощу говорить с игуменом наедине.
Лука приложился к руке Симона, поклонился князю и вышел.
— Нынче был я за Шедакшей, — проговорил Всеволод, — навестил княгиню в ее уединении.
— Зело страждет матушка? — подался вперед Симон.
Вот уже два года, как слегла Мария и не встает. А до того три года мучилась болями в позвоночнике. Каких только ни привозили к ней лечцов, были и бабки-знахарки — всё напрасно. Весною свезли ее в загородный терем за рекою Шедакшей, что на Юрьевецкой дороге. Место красивое, уединенное, рядом лес, под ок нами — озерцо, лебеди плавают. Но ничто не радовало княгиню. Стала она капризной — то, другое ей не так. Все стены в опочивальне увешала иконами, монахини слетелись в терем со всех сторон.
Будучи духовником Марии, Симон навещал ее часто, исповедовал, утешал, как мог. Но была княгиня скрытна и неразговорчива и сердца духовнику не открывала. Одни только сыновья, собираясь вместе, приносили ей облегчение. В те редкие дни, когда бывали они в гостях у матери, лицо ее, исхудавшее за время болезни, озарялось светом, и на губах появлялось подобие улыбки. Но и эта радость была недолга: Константин с Юрием часто ссорились и разъезжались поодиночке. Мария видела это, страдала и упрекала Всеволода, считая его виновником учинившегося разлада.
Симон знал, что именно это больше всего мучит князя, и смутно догадывался о причине его приезда. Уже не раз вставал он между сынами и призывал их образумиться. Сперва и ему казалось: молодые петухи, подерутся — помирятся, но теперь и он стал задумываться и понял, что так беспокоит Всеволода: отдаст им в руки князь в поту и крови собранное отцом Юрием Долгоруким, братьями Андреем и Михалкой и им самим. Тут задумаешься, тут не одну ночь просидишь без сна. Шутка ли, когда дни твои уже на исходе!..
— Поезжай ко княгине, Симон, — сказал Всеволод. — Нынче снова котору затеяли мои сыновья, Мария в беспамятстве…
Нелегко выговаривал слова эти князь.
— А ты как же? — удивился игумен.
— Кузьму Ратьшича в Киев снаряжать буду — Роман своевольничает.
— Сызнова за свое?
Князь не ответил, встал.
— Благослови, отче.
— Господь с тобой, — перекрестил его Симон. Глядя вслед уходящему князю, вздохнул: «Тяжела ноша твоя, Всеволоде» — и стал собираться в дорогу.
4
Нелегко, ох как нелегко ужиться двум взрослым княжичам в одном тереме!
У себя-то во Владимире в крепкой узде держал своих сынов Всеволод. А едва только выехали они из Марьиных ворот на Юрьевецкую дорогу, тут все и началось. Слово за слово — начинали с пустяков, а когда показался над Шедакшей материн терем, глядели друг на друга волками.
Жена Константина Агафья встречала княжичей на красном крыльце. Кланялась обоим, на мужа глядела счастливыми глазами. Юрий хмуро протопал мимо, Константин обнял жену.
— Что это братец неласковый? — спросила Агафья.
— Пчела в ино место ужалила, — беззлобно отвечал муж.
Юрий задержался на гульбище, палючим взглядом ожег брата.
— Ты, Агафья, ступай покуда, — сказал он, — мне с Константином договорить надобно…
Агафья посмотрела на него с мольбой:
— О чем договорить-то, Юрьюшка? Чай, за дорогу наговорились…
— Не твово ума дело, — оборвал ее Юрий. — Ступай!
— Погоди, — остановил жену Константин. Брату спокойно сказал:
— Уймись, брате.
Лицо Юрия ожесточилось.
— Ступай! — дернул он Агафью за руку. — Кому велено?
— Останься, — сказал Константин. На брата смотрел твердо, но не враждебно. Юрий двинулся на него, сжав кулаки.
Константин легонько отстранил его, натянуто рассмеялся:
— Будя, будя дурить-то.
Агафья втиснулась между ними, тоненько заголосила. Юрий был с ней почти одногодок. И роста они были почти одного. Не испытывал к ней почтения юный княжич. Таких-то девчонок еще таскивал он за косы.
Подхватил Юрий взбрыкивающую ногами Агафью под мышки, отставил в сторону. Константин и глазом моргнуть не успел.
Сцепились друг с другом княжичи, покатились по ступеням вниз со всхода. Константин покрепче был, подмял под себя братца, сел на него верхом.
Бог знает, чем бы все кончилось, ежели бы Юриев дядька не подоспел. Был он неохватист, как старый дуб, ручищи — кузнечные клещи. Сгреб правой рукой Константина, поставил на ноги, левой приподнял Юрия.
— И не стыдно вам, княжичи, — сказал с усмешкой. — Весь двор на вас глядит, княгиня-матушка сидит у окошка… Каково ей, недужной?
Развозя по щекам ладонью грязь, Юрий смотрел на Константина с ненавистью:
— Зря встрял ты промеж нас, Тишило. Не всяк тот прав, кто поначалу сверху оказался…
— Братья вы, — укорял дядька, — единая кровь. Гоже ли этак-то?
Константин вел себя достойно, вступать в разговоры с Тишилой не стал, повернулся, медленно взошел на всход. Агафья повела его в свою светелку, почистила платно, полила из ковша воды, чтобы умылся, приговаривала:
— Не кручинься, Костя. Молод еще Юрий, оттого и неразумен…
— Образумиться пора, — стряхивая воду с рук, сказал Константин.
Агафья потупилась:
— Обнял бы ты меня. Сколь ден не виделись — чай, соскучилась.
Бася по-взрослому, Константин упрекнул ее:
— У баб все одно на уме… Матушка-то как?
Агафья растерялась от неожиданности, слезы вот-вот готовы были брызнуть у нее из глаз. Но ответила покорно:
— Нынче спала княгиня хорошо.
— Ждет ли? — смягчаясь, улыбнулся Константин.
— С утра велела новое платье принесть. Девки опочивальню прибрали, по углам разложили душистых травок.
— Ждет, — удовлетворенно кивнул Константин и привлек к себе жену. Не родная она ему была, ничего не испытывал он к ней, кроме жалости. И Агафья чувствовала это, однако верила — всему свой срок. Обманывала себя и тем успокаивала…
В опочивальне у княгини и впрямь было все чинно и чисто, и пахло свежей зеленью, хотя окна были затворены от случайного ветра и сквозняков.
Юрий уже сидел возле матери. Мария возлежала на высоком просторном ложе под шелковым одеялом. Голова ее, причесанная и маленькая, покоилась на пыш но взбитых подушках, глаза были устремлены на дверь в ожидании старшего сына.
Константин опустился на колени и поцеловав матери руку, сел поодаль от Юрия.
Мария заметила это, легкая тень пробежала по ее бескровному лицу, но она тут же взяла себя в руки, улыбнулась и стала расспрашивать их и рассказывать о себе, и голос ее был тих, словно шелест опадающих с деревьев осенних листьев.
Время близилось к обеду. Княгиня устала, речь ее сделалась бессвязной. Скоро она задремала. Княжичи переглянулись и на цыпочках тихо вышли из опочивальни.
В сенях уже все было готово к трапезе. Константин, как старший, сел во главе стола, по правую руку от него села Агафья, по левую — Юрий, рядом с Юрием — меньшой брат Владимир, пятилетний Иван уже отобедал и спал в своей светелке.
Ели молча, лишь Константин перебрасывался редким словом с Агафьей. Когда подавали кисели, в сенях неожидано появился Всеволод. Из-за спины князя выглядывал Юриев дядька Тишило, это было дурным предзнаменованием.
Константин вскочил, уступая отцу место во главе стола, все встали и кланялись поясно, ожидая, когда князь сядет.
Всеволод сел, сели все. Не притрагиваясь к еде, отец долгим взглядом окинул своих чад, нехорошо усмехнулся.
— Что нынче — сызнова потешали челядь? — спросил с упреком.
Константин с Юрием молчали. Агафья смотрела на свекра с трепетом, вся подобравшись, ждала грозы.
— Кого вопрошаю? — возвысил голос Всеволод. — Почто ты, Агафья, молчишь?
Князь любил невестку, относился к ней с нежностью и, видя, как она засмущалась, всем телом повернулся к Константину:
— Ну, али язык проглотил?
— Виноваты мы, батюшка, — через силу выдавил из себя старший, — А что да как было, знаешь ты и без нас. Тишило тебе все рассказал.
— Тишило-то рассказал — вашего слова разумного не слышал… Небось обеспокоили княгиню, в ночь снова не сомкнет глаз. Доколь котороваться будете, в чем причина?..
Так говорил князь, но сам уверен был, что не дождется ответа. Ссориться-то братья ссорились, но друг друга не выдавали. В беде держались вместе, любое наказание делили поровну. И это в них нравилось Всеволоду, но раздоров с своем доме потерпеть он не мог.
— Изыдите, — сказал князь, так и не дождавшись от сыновей ответа.
Те с явным облегчением поднялись из-за стола и степенно вышли за дверь.
Всеволод одним глотком опростал стоявшую перед ним чару, поморщился: квас.
— Эй, кто там! — кликнул зычным голосом.
Вбежала испуганная девка, на князя глазами — морг-морг.
— Что уставилась? — рассердился Всеволод. — Никак, меды в княгинином тереме перевелись?
— Сейчас, батюшка, — выкрикнула девка и с готовностью кинулась из сеней.
Всеволод раздраженно грыз лебединое крылышко. Было неспокойно и муторно. Поездки к больной Марии и так-то не доставляли ему особой радости, сегодня же принесенная Тишилой жалоба на княжичей надолго испортила ему настроение.
Девка, убежавшая в ледник за медом, не возвращалась, князь морщился и теребил ус — тут дверь неожиданно широко отворилась, и на пороге вместо давешней челядницы появилась монашка, присматривавшая за Марией.
— Княгине худо! — выдохнула она и схватилась в беспамятстве обеими руками за косяк.
В переходе суетились какие-то люди, кто-то бежал с водой, с примочками, бабы плакали в голос. Всеволод растолкал всех, вошел в опочивальню — по сторонам зашикали, благообразные бабки в темных платках, черницы и дворовые попятились к выходу. «Ишь, сколь набилось их, а помочь, некому», — неприязненно подумал князь и склонился над метавшейся в жару княгиней.
Лицо Марии было бледнее обычного, в горле клокотало стесненное дыханье, грудь то вздымалась, то опадала, и по изборожденному морщинками лбу стекали к уголкам глаз и на щеки торопливые струйки пота.
Княгиня бормотала что-то, и, только приблизившись почти к самым ее губам, Всеволод разобрал несколько слов, из которых понял, что говорила она о княжичах, поминала Константина и Юрия, заклинала их помириться…
— Душа, душа горит…
Князя охватило бешенство. Он оторвался от ложа и, громко топая сапогами, кинулся сначала к Юрию, обругал его, потом стал колотить кулаками в ложницу, где отдыхал с Агафьей Константин.
Сын откинул щеколду, стоя в исподнем, слушал отцову брань смиренно, склонив взъерошенную голову, Слова, которые бросал в лицо ему Всеволод, были несправедливы и оскорбительны. На щеках Константина перекатывались желваки, губы дергались, и это ещё больше злило князя. Он замахнулся, хотел ударить сына, но вдруг резко повернулся и так, не оборачиваясь, вышел из терема, спустился со всхода и сел на коня.
Все бока искровянил он боднями своему чалому, скакал до Владимира без остановки — один, без дружинников, ворвался в монастырь, разыскал Симона и вот возвращался в детинец тихий, опустошенный, понурый.
Далекие зарницы освещали отяжелевшее небо, душно было. Город словно вымер: ни голоса, ни скрипа калитки. Безлюдно. Тишина.
Глава четвертая
1
Большое одолжение сделал Чурыня для князя Романа. Без его решительных слов не одержать бы Роману верх над Рюриком ни в Триполе, ни в Киеве — тем паче.
Покорно пили кияне выставленные Романом на площади меды, радовались, что обошлась ссора их с галицким князем без потерь.
Ехал Чурыня по городу на своей любимой покладистой кобыле (горячий-то конь-чистокровок, чего доброго, выбросит из седла), поглядывая на пьяных земляков, посмеивался: пейте, дурни, пейте, а я вот трезв, хоть и тоже мог напиться, — зато трезвого меня на мякине не проведешь. У трезвого у меня золотые мысли на уме: видать по всему, благоволит ко мне нынешний князь, в Галич с собой возьмет, приблизит, обласкает — сноровистые люди где попало не валяются. Сослужил я службу князю, а то ли еще смогу!.. Глядишь, и потеснятся иные передние мужи. Глядишь, и Авксентию придется посторониться. Заживу я в высоком тереме, есть буду на злате-серебре — не то что при Рюрике: возле прижимистого князя многим не разживешься, а Роман, хоть и крут, а щедр — вон и золотую гривну с груди снял, дарил с улыбкой, и табун, что взяли у половцев, велел клеймить Чурыниной метою…
Ехал Чурыня по городу не спеша, правил кобылу к своему терему.
— Тпру, окаянная! — натянул он поводья. Взбрыкнула кобыла, едва не свалился с нее боярин — вот тебе и тихая: чего доброго, свернешь себе шею накануне самого счастья.
Выскочили отроки из терема, засуетились, помогая Чурыне вынуть ногу из стремени. Прибежал конюший, в три погибели согнулся, бородою пыль подмел у заправленных в дорогой сафьян кривых стоп боярина.
— Куды за кобылой глядишь? — в сердцах попрекнул его Чурыня, — Аль не приметил, как едва не повергла меня смиренница твоя наземь!
— Да что ты, боярин, — сказал с недоверчивою улыбкой конюший. — Должно, пощекотал ты ее ненароком плетью, вот и взбрыкнула.
— Поговори еще! Что, как тебя ожгу плетью, тоже взбрыкнешь?!
— Не, я не взбрыкну. Куды уж мне брыкаться — весь в твоей воле.
— Так и ходи. А кобылу сыщи мне новую.
— Все исполню, боярин, — поклонился конюший.
А в тереме, в светлой повалушке, все глаза выглядела, поджидала Чурыню сестрица его, худая и длинная, словно высохшая кривая осина.
— Здрава будь, Миланушка, — приветствовал её, входя, боярин. — Что глядишь, будто видишь впервой? Уж не соскучилась ли?
— По тебе соскучишься, как же, — сказала Милана. — Весь город только что про Чурыню и говорит.
— Где же говорят-то, — самодовольно выпятил грудь боярин. — Ехал я — весь народ во хмелю.
— То дурни всё, — охладила его сестра. — Умные люди даров тех поганых и на язык не берут…
Рот открыл Чурыня, выпучил белесые глаза, чуть не задохнулся от негодования:
— Это чьи ж ты дары погаными обзываешь?
— Романовы, вестимо, — спокойно отвечала Милана, подперев кулаками бока.
Боярин обеспокоенно оглянулся: не слышал ли кто?
— Нишкни, — прошипел он и замахал перед собою руками. — Белены ты, никак, объелась?
Но, будто не слыша брата, Милана смело наступала на него:
— Стыдно людям в глаза глядеть. Только и слов: Иуда.
— Это кто ж Иуда, ну-ка, сказывай, — отодвинулся от нее боярин.
— Ты и есть Иуда, кому ж еще быть!.. Как одаривал тебя Рюрик, так от него ни на шаг, а как Роман объявился да наобещал чего, так ты князя свово и предал. А ведь верил в тебя Рюрик, посылал ко Всеволоду сватом. Нынче ж и Всеволодову дочь Верхославу отдал на посрамление…
— Да отколь тебе такое ведомо?!
— Отколь ведомо, не тебе знать. А только вот что скажу: объяви киянам, что все наговоренное на Рюрика напраслина и князь по коварству твоему несет свой крест, а не за вины сущие…
— Ишшо чего выдумаешь!
— А не скажешь, так я скажу! Чего глаза пялишь?
— Ей-ей, объелась ты белены, — определенно решил боярин и отстранил Милану с пути своего твердой рукой. — Наговаривают на меня, а кой-кто уши развесил. Знаю я, отколе ветер подул.
— А знаешь, так почто молчишь?
— Славновы это людишки разблаговестили.
— Почто Славновы-то?
— А по то, что в обиде на меня Славн: как же — мене моего привел он табуна.
Убедительно говорил Чурыня, знал он доверчивый нрав своей сестры.
Заколебалась Милана, устыдилась своих прежних слов. Тут, боярин, не зевай!
— То-то, гляжу я, зачастила ты к Славновой женке. С чего бы это? Ладно. Славн — лютый мой враг, но я тебе — ни-ни. Теперь вижу, зря тогда еще не предостерег.
Любил похваляться Чурыня, что видит он в землю на три сажени. Милану же его догадка сразила напрочь. Схватилась она за голову, закричала со слезою в голосе:
— Прости меня, братушка, грешную. Винюсь пред тобою — и верно: от Славновой женки слышала я все, что по неразумению своему тебе сказывала…
Боярин улыбнулся, про себя подумав: «Когти у Славна в рукавицах. Молчал он на думе, а черный слушок пустил. Да кабы знала Милана, что все в ее словах — чистая правда…» Ничто в жизни не делается зря. Вот и еще за одну ниточку ухватился Чурыня: потянет ее — глядишь, и со Славном расквитается. Шибко высоко взлетел Славн, шибко рьяно оттирал Чурыню от Рюрика. Каково завтра запоет, как станет известно Роману про его козни?
Как постригли Рюрика в монахи, так и у Славна гордости поубавилось, от дородства его следа не осталось, обвисли щеки, живот обмяк, глаза потухли, одни только брови и торчат, а ведь раньше страх наводил на думцев, одергивал бессовестно посередь чинной беседы…
Так ходил боярин, радуясь своему везению и прозорливости, посередь повалуши, в мыслях стройно выстраивал грядущие дни: много набегало еще ему всякой радости. Но, покуда не поднялся он на самую вершину своей удачи, осторожность была ему верной спутницей.
— Ты, Милана, гляди — лишнего не наболтай: у бабы язык что помело. Ни к чему знать ни Славну, ни женке его про наш сегодняшний разговор.
— Ни словечка не выпорхнет, — пообещала сестра, чувствуя облегчение, — и не сумлевайся.
— Да как же не сумлеваться мне, коли такое сказывала. Случись новый наговор — опять побежишь Иудой меня честить.
— Да коли еще что у Славна про тебя напоют, отсеку: ложь сие.
— Вона что выдумала! — засмеялся Чурыня.
— Что выдумала? — заморгала глазами сестрица.
— А вот это самое, про ложь-то…
— Ишь, куды поворотил, — покачала головой Милана. — Как же быть?
— Слушай да запоминай. Славнова женка болтлива, нам же сие на руку. Прикинься, будто и впрямь поверила ей.
— Ой, братик, не умею я прикидываться, — слабо защищалась Милана.
Чувствуя, что теперь окончательно взял верх, Чурыня невозмутимо продолжал:
— Прикинься, а ежели понадобится, то и меня не жалей: за Иуду тебе простится. У Славна, поди, и покруче братца твоего потчуют?
— Такое ли говорят…
— Вот-вот, а ты мне всё — как на исповеди. И чтобы слово в слово…
Вечером на новой кобыле, смирной, как телушка, въехал Чурыня на Гору. Глазам своим не поверил: долго ли не был он здесь, только утром отсюда, а Романовы людишки всё приготовили к отъезду князя: впрягли лошадей в возы, погрузили нужные вещи и теперь только дожидались знака, чтобы тронуться в путь.
Не по себе стало боярину: как же так? Выходит, вчера еще знали об отъезде, а Чурыне никто и не обмолвился. Авксентий вешал ему на шею княжескую гривну, похлопывал по плечу и улыбался, все кланялись боярину и заискивали…
Что-то нарушилось в размеренном течении времени. Что?..
Напрягая расползающиеся мысли, аж вспотел от неожиданной загадки боярин. Опираясь о плечо подбежавшего отрока, почувствовал Чурыня в руке неприятную дрожь.
Но пока подымался он по всходу на крыльцо, пока, кряхтя, вытирал ладонью пот со лба, пришло успокоение: да как же сразу не додумался, как же княжеского подарка по достоинству не оценил! Неспроста вешал ему Авксентий на шею гривну, никак, оставляет его князь на время своего отсутствия в Киеве воеводою…
И запело сердце Чурыни петухом, расправил он грудь, поправил на чреслах пояс и смело сунулся в сени, где в расшитых золотыми нитями платнах восседали благообразные бояре, слушали глухо говорившего Романа:
— И тако, покидая вас, оставляю я в Киеве именем моим вершить дела боярина вашего Славна…
Покачнулся пол под Чурыней, потеряв себя, вдруг закричал он подраненным зверем:
— Почто не меня, княже?!
Бояре, зароптав, повернулись в его сторону. Роман вскочил со стольца.
Замерли все. Совсем обнаглел Чурыня: явился на думу не зван, да еще такое посмел говорить князю!
Но, вспыхнув, сдержал себя Роман.
— Где веру на тебя взять?.. — сказал он, опустившись на столец и пронзая Чурыню прямым взглядом.
Мелким ознобом передернуло боярина.
— Как же оставляешь ты Славна, княже, — беспомощно пролепетал он, — коли верен он и поныне Рюрику, а я весь твой?
— Ступай прочь! — сурово сдвинул брови Роман.
Испугался Чурыня, со всех ног кинулся из сеней — подальше от греха.
Вот и кончилось его недолгое время, вот и истекло. Покорно трусила под ним смиренная кобылка, покорно влекла на себе грузное тело боярина.
Когда добрался он до своего терема, княжеский обоз уже тронулся с Горы…
2
Не думал, не гадал старый Славн, что остановит на нем выбор свой Роман.
Чего удостоился он — чести или позора?
Когда приехал к нему Авксентий и стал уговаривать его от имени князя остаться в Киеве воеводою, растерялся Славн. Нешто не жаль Роману его почтенных седин?
— Жаль? — удивился печатник. — О чем говоришь ты, боярин? Разве ты виноват в том, что Рюрик пострижен в монахи?
— Моей вины в этом нет.
— Вот видишь. Так кому сохраняешь ты верность — безвестному черноризцу?
— Не по своей воле, а силою пострижен мой князь.
— Разве сие меняет дело?
Авксентий знал, что старый боярин — крепкий орешек. И Роман это знал. Но в Киеве должен был остаться человек, понятный и близкий киянам. О Чурыне князь и слышать не хотел. Тот, кто преступил черту и предал единожды, не устыдится нового предательства.
Так остановили они свой выбор на Славне, и печатник взялся уговорить боярина.
Не легкое и не простое обязательство взвалил он себе на плечи. И понял это Авксентий сразу, едва только зашел разговор. Но печатник был не из тех людей, которые останавливаются перед первыми трудностями.
Чем сложнее было препятствие, тем только упорнее шел он к своей цели.
Теперь-то Авксентий определенно знал, что они не ошиблись с князем и что, если только заручатся согласием Славна, за Киев могут быть спокойны.
Славна нельзя было запугать или подкупить дарами и грубой лестью. И потому не стал печатник ни хитрить, ни льстить боярину, а говорил ясно и прямо, и ясность и прямота его не отпугнули, а, наоборот, расположили к нему Славна.
— Подумай, боярин, хорошенько, отказаться всегда успеешь. И не Роману служить склоняю я тебя, и не на гнусный толкаю обман. Посуди сам, кому, как не тебе, лучше всего знать своих киян, — говорил Авксентий.
— Почто же не хочет Роман посадить в городе своего боярина?
— Чужой он. Вотчина его отселе далека. А ежели и будет о чем пещись боярин, так разве что только о своей выгоде. И посеет вражду, и предаст Киев разорению. Тебе ли не будет больно, Славн? А ведь и Роман не пришлый тут человек. Помнишь ты его отца, да и самого князя, когда мал он еще был, не раз пестовал на своих руках. Не желает Роман киянам зла…
Слушал печатника Славн, сидел молча, думал. Уже не злобясь, внимательно вглядывался в замкнутое лицо Авксентия.
— Складно говоришь ты, да в словах твоих две правды. И ни от одной из них не уйти. Вот и прикидываю я, за которую встать. Ежели проклянут меня кияне за то, что пошел служить Роману, осужу ли их? Ежели и впрямь поставите вы в Киеве галицкого боярина и посеет он смуту, не стану ли сам себя упрекать до конца дней своих, хоть и заслужу от киян великую честь, и не будет ли сие еще горший обман? — неуверенно проговорил Славн.
— Умен ты, боярин, и на светлый разум твой уповаю, — сказал, вставая, Авксентий. — А покуда неволить тебя не хочу. Оставайся и помысли, как поступить. Но срок тебе до утра. Ежели к утру не решишь и знать о себе не дашь, попомни: за беды, которые обрушатся на Киев, не мы одни, но и ты в ответе.
С тем и ушел печатник. И остался Славн с собою наедине.
Горькие терзали его раздумья, всю ночь не сомкнул он глаз. Всю ночь просидел на лавке, положив перед собою на стол тяжелые старческие руки.
Не хотелось ему пятнать своей совести, боялся он людского и божьего суда. А как быть? Нешто не суждено ему дожить остатки дней своих в спокойствии и почете? Разве он этого не заслужил?
За спиною у Славна — большая и разная жизнь. Позади — безрассудства молодости, честная служба в зрелости, мудрая неторопливость в старости. Прослыл он человеком мужественным и справедливым. Шли к нему за советом, искали под рукою его защиты обездоленные, говорил он князьям, не таясь, горькие слова истины. Не изворачивался, душою не кривил.
Так не покривит ли нынче? Не совершит ли роковое, не запятнает ли рода своего? Не отрекутся ли от имени его сыновья и внуки — других судил по справедливости, а себя с собою же рассудить не посмел?..
Трудно думал боярин, утром предстал перед князем…
Вот и остался он в Киеве, в опустевшем терему на Горе. Допивали кияне Романовы меды, скоро приниматься за дело. Допевали срамные песни свои скоморохи, скоро и им в путь. Скоро, скоро задымят у кричников домницы, загрохочут в кузнях молоты, застучат в избах кросенные станы, пойдут под ветрилами лодии к Олешью, к просторному днепровскому устью.
И чтобы все это было в ладу, чтобы не иссякала кузнь и товар на торгу, чтобы мыто исправно шло в княжеские бретьяницы и не пустели одрины — для того и оставлен в Киеве боярин Славн.
А еще будет он судить киян, опекать сирых, приглядывать за холопами и смердами, и в том помогут ему огнищане и тиуны.
Много, много будет забот у Славна, и к ним ему не привыкать. И на первую думу соберет он бояр, и будут бояре спорить и ссориться друг с другом, а он должен будет рассудить их и встать на сторону тех, кто прав. Властью, ему данной, карать и пресекать котору, ибо от нее и пошли все беды на Руси. Присматривать, чтобы не ветшали городницы, крепить дружину, зорко следить за степью, чтобы, пронюхав об отсутствии князя, не пришли к городским валам половцы за легкою добычей…
Нет, не страшился старый Славн ни трудов премногих, ни ползучей молвы. Ибо нынче только, тогда лег на него весь груз немалых забот и повседневных дел, понял он, что и доселе не князю служил, а своей земле.
Так предал ли он ее, оставшись в трудную годину при ней?..
А над Киевом все вольнее разгорался жаркий полдень, и солнце стояло на самой макушке неба, обливая Днепр серебристым сиянием.
Вышел Славн на крыльцо, хотел крикнуть отрока, чтобы вывел для него из конюшни лучшего жеребца. Хотелось ему вернуться ко дням своей молодости, проехать по Киеву в высоком седле — есть еще в ногах и руках его сила, и ловкости достанет, чтобы удивить киян, как вдруг распахнулись на княж двор ворота, отскочил в сторону стоявший в стороже воин, и к самому крыльцу подъехал всадник со знакомыми боярину пронзительными глазами.
— Никак, Кузьма? — опешил от неожиданности Славн и раскрыл объятия. — Какой тебя ветер принес?
Были они знакомы давно. Еще когда Верхославу сватали за Ростислава, вместе гуляли на Всеволодовом пиру, и после не раз наезжал Ратьшич в Киев.
Неторопко спустился Кузьма с коня наземь, не спеша подошел к боярину, исподлобья разглядывал с головы до ног.
— Не соврали мне мужики… Тихо у вас в Киеве и благостно: Рюрик за монастырскою оградою, а верный его боярин всем верховодит с Горы…
— И ты туда же, Кузьма, — покачал головой Славн. — Слушок-то прошел, да верен ли? Негоже попреками встречу начинать у крыльца, войди в терем.
— Отчего же не войти, — усмехнулся Ратьшич. — Не случайный путник я, а Всеволодов посол. Принимай, как обычаи велит.
— Ты не путник, а я не князь, — обретая обычную свою степенность, холодно ответил Славн. — Коли со Всеволодовым ты словом к Роману, так не мешкай — еще успеешь нагнать его обоз: недалеко ушел.
И, постукивая посохом, стал подыматься в терем. Испортил ему Кузьма настроение — не поедет он по Киеву на горячем жеребце, снова старость вползла в него, как прилипчивая болезнь.
— Постой, боярин! — крикнул Ратьшич и через ступеньку, опередив Славна, взбежал на крыльцо.
Боярин задержался, покачал головой:
— Всегда ты был горяч, да справедлив. Нынче гордыня над тобою верх взяла. Ну-ко, отступи с дороги, не во Владимире, чай…
Отступил Ратьшич, молча пропустил Славна, двинулся за ним следом, дышал в затылок.
— Митрополит прислал ко Всеволоду отрока, — говорил он с раздражением, ткнувшись взглядом в сутулую боярскую спину.
Славн не отвечал, гневно стуча посохом, вошел в секи, опустился на лавку, Ратьшич — за ним следом. Боярин снял шапку, положил рядом с собой, провел ладонью по влажной лысине. Избегая взгляда Кузьмы, смотрел в сторону, дышал тяжело.
— Постарел ты, Славн, — стоя перед ним, сказал Ратьшич.
— Давно не виделись…
— И я уж не молод.
— Куды там! — усмехнулся боярин. — Вона как взбежал на крыльцо.
— Не обижайся на меня, Славн, — примирительно сказал Кузьма. — С дороги я, устал…
— Христианин я, в крове тебе не откажу. Отдыхай.
Кузьма улыбнулся, сел рядом:
— Ей-ей, на перевозе говорили мне мужики, что отдался ты Роману. Шибко осерчал я, а тут гляжу — ты сам на княжом крыльце.
— На княжом крыльце, эко… А ты, никак, хотел Романова боярина на Горе увидать?
— Чудно мне, почто оставил тебя Роман за киянами приглядывать?
— А вот пораскинь-ко умом, — может, и поймешь.
— Кажись, теперь в догадку мне…
— Не прост Роман.
— То-то наказывал Всеволод, допрежь того как встречусь с Романом, тебя разыскать, с митрополитом побеседовать.
— Матфей на Романову лесть неподкупен был, благословения ему не дал, — освобождаясь от гнева, ровно заговорил Славн. — А меня оставил Роман, потому как другого выбора у него не было. Смекнул? Нешто охота князю возвращаться на пожарище?..
— А кабы и так! — снова взорвался Кузьма.
— И не стыдно тебе, — упрекнул боярин. — Чтобы, как во Владимире твоем, назревала смута, а ты ее пресечь смог, да отказался? Вчера под Рюриком Киев, завтра под Романом, а там еще под кем… Почто жизни прерываться? Ехал, сам небось видел — торг шумит, кузни дымятся, народ поспешает к обедне. Роман клят вы с меня не брал, что буду я ему служить и никому боле. А Рюрик в несчастьях своих сам виноват, бог ему судья.
— Не сидеть Роману в Киеве, — сказал Кузьма.
— То не твои, то Всеволодовы слова, — ответил Славн. — Но и Рюрик — худой князь, грешен зело и нынче поделом грехи свои отмаливает…
Не зная, продолжать ли, помолчал боярин.
— Ты дале-то договаривай, — подстрекнул его Кузьма.
— Да что договаривать? Как сидел Всеволодов дед Мономах на великом столе, благоденствовали и в покое жили кияне.
— Мономахов внук нынче несет вам мир и благоденствие…
— Дай-то бог, — загадочно улыбнулся Славн.
3
Неторопко ехал со своею дружиной Роман. Отойдя на десять верст от Киева, велел он становиться на привал.
— В чем дело, княже? — удивился Авксентий. — Почто медлишь? Погляди на небо — солнышко еще высоко, а до Галича не близко. Уж не надумал ли поворотить назад?
— Что-то неладно у меня на душе, — признался Роман. — С чего бы это?
— Как сказать тебе повелишь, княже? В Славне я уверен, а вот то, что не урядился ты с остальными князьями, тревожит и меня…
Не в первый раз испытывал Роман свое зыбкое счастье. И многое из того, что делал он то ли в приступе гнева, то ли из упрямства, после сам же решительно отвергал. Потому-то и жилось неспокойно подле него боярам: с утра веленное князем к вечеру вызывало его же недовольство: в непостоянстве своем Роман винил тех, кто был к нему ближе и только что помогал в свершении им задуманного.
Авксентий до сих пор удачно избегал незавидной участи своих предшественников — и в том помощниками ему были его притворство и изворотливость.
Однако на сей раз и он пребывал в растерянности. Пока шли от половцев, пока плели вокруг Рюрика сети в Триполе, пока судили да рядили в Киеве, был печат ник как рыба в воде: тут равных себе он не видел и в успехе затеянного не сомневался. Правда, и тогда уже шевельнулась в нем догадка, что дело до конца не доведено, — однако гонцы из Галича, которых принимал он на Горе, везли тревожные вести о смуте, созревавшей на границе с уграми. Быстро смирившись с Романом кияне усыпили Авксентиеву осторожность. Славн взялся пасти неспокойное стадо, а князь торопил его, не очень-то доверяя вступившему после смерти Мечислава на польский престол Лешке, который хоть и был его родичем и союзником, но целиком находился во власти можновладцев и церкви. К тому же держался он у себя непрочно: еще сильна была сторона, мечтавшая посадить в Кракове сына давнего Романова врага Мечислава — Владислава Ласконогого.
Все это знал Авксентий, знал это не хуже его князь, но у Романа было давнее предубеждение против своих и галицких бояр: натерпевшись от них однажды, теперь не верил он ни единому их слову. Ему так и казалось, что стоит только ляхам приблизиться к порубежью, как тут же объявятся у них союзники, только и мечтающие о том, как бы скинуть Романа и посадить на галицкий и волынский стол кого угодно, лишь бы помягче и посговорчивее…
Не сам ли печатник еще недавно раздувал закравшиеся в сердце Романово подозрения? Не он ли оклеветал боярина Рагуила, верного княжеского воеводу, и не на его ли глазах казнили того лютой смертью?..
Везде печать Авксентиева, всюду след его кровавой десницы. Но свою ли волю вершил он, не князево ли предупреждал желание? Разве и без него, и до него еще, мало пролилось вдовьих горьких слез, разве по его только наущению закопано живьем, сожжено и повешено столько бояр?
Не хотел разделить их участи Авксентий, только и всего. Жить хотел, топтать эту траву, дышать этим воздухом, пить эти меды, ласкать наложниц… Так ежели не отдал бы он в руки палачей Рагуила, нешто не покарал бы его Роман?! За прямоту и непокорный нрав — покарал бы. И семью бы его пустил по миру, и жену бы обесчестил. И никакой пользы не было бы от этого Авксентию.
Трудно шел к своей цели Авксентий и нынче верной собакой был при князе на самом гребне его славы. Шумно жил Роман, не всегда праведно, опасным сосе дом был, несговорчивым — карал, буйствовал, ссорился и других ссорил, терял все и все обретал вновь. А для чего?
Зачем ему Киев? Не спокойнее ли было бы ему сидеть в своем Галиче и на Волыни — одному, прочно, навсегда? Не было там у него соперников, и все говорили бы: вот мудрый князь.
Узкою мерой мерил Романа Авксентий — своей мерой. Думал, Киев ему нужен лишь для еще большей славы. Думал, из корысти тянет руки Роман к соседям…
А зачем Роману чужие бретьяницы, когда и свои полны? Нешто земли ему не хватает? Нешто пахать-сеять негде? Нешто свои сады не родят плодов? Нешто на своих лугах не тучнеют стада?
Да ежели бы Авксентию такое богатство, разве стал бы он снова и снова испытывать свое счастье?! Жил бы, поживал Авксентий на своей земле да солнышку радовался. И руки кровью чужой не багрил. Вот как.
— Вот как, — словно подслушав его мысли, сказал Роман и грузно спрыгнул с седла наземь. — Зови в шатер думцев, печатник.
И, ведя коня в поводу, поднялся на высокий холм, окинул взглядом просторные дали. Легкий ветерок шевелил за его плечами корзно.
Смотрел князь перед собой и с грустью думал: даже близкие люди, даже те, кому верил, не понимали его забот. Вон и Авксентий обрадовался, побежал собирать бояр — лишь бы подальше от князя. По глазам его прочел Роман: ведут они за собою большой обоз, гонят скот и пленных — чего же боле? Пущай себе дерутся за Киев другие князья, пущай злобствуют — нам-то что до того? К нам степняки не придут — крепко оградились мы засеками и лихими дозорами…
Не с кем поделиться князю своими заботами. Пробовал с боярами советоваться — не поняли, иные со страху предали его — кто ляхам, кто уграм, кто Рюрику. За добро свое держались, за право безнаказанно бесчинствовать в своих вотчинах. И то — многих побеспокоил Роман в их родовых гнездах, иных передавил, как пчел, а много ли вкусил меду?..
Пробовал с женою поговорить он, хотел подругою верной и советчицей видеть подле своего стола, любил он ее когда-то, в любви доверял слепо. Но крепче его держал Рюриковну в своих руках отец ее, киевский князь, — не любовью, а родительской властью. И стала она подле Романа страшнее злого недруга: ночыо, когда засыпал он, прислушивалась она к его сонному бормотанью, запоминала, передавала с гонцами в Киев к батюшке своему невольно вырвавшиеся на супружеском ложе признания.
Не легко расставался с Рюриковной Роман — это боярам казалось, что легко. Ждал он, что падет она к его ногам, жаждал минутной слабости, ловил в глазах ее боль, которую чувствовал сам. Случись такое — и простил бы он жену свою, не постриг в монашки. Как знать, может, оставшись одна, без отца с матерью, и стала бы она ему верной супругой?!
Ой ли? Не обманывай себя, Романе, — все, что думаешь ты, пустое. Не ждал ты ее раскаяния — боялся новых слёз (и так уж их было пролито море), спешил поскорее закончить расправу. Просто хотелось тебе еще раз унизить Рюрика, насладиться отчаянием его дочери, увидеть смертельную тоску в глазах ее матери…
Две могучие силы сшиблись в Романе: был он человек, как и все люди, и был он князь. И князь победил человека:
— Скис ты, Романе, как худое вино в корчаге. Нешто Рюриковна других женок слаще?!
И засмеялся Роман тем страшным смехом, от которого холодно делалось обреченным на немилость его боярам.
Тем часом собрались в шатре кликнутые Авксентием думцы, и Ростислав, Рюриков сын, был вместе с ними.
Дав потомиться боярам в безвестности, Роман вошел, ни на кого не глядя, и сел на застеленную ковром лавку. Авксентий с напряженным и бледным лицом встал рядом с ним, остальные расположились по чину. Ростиславу места не хватило, и он, чувствуя себя униженным, смущенно переминался с ноги на ногу у входа.
Роман выпрямился, окинул всех угрюмым взглядом:
— Почто князь стоит, бояре, а вы расселись?
Вскочили думцы, засуетились, кланялись Роману и Ростиславу, обмахивали концами всяк свое место:
— Сюды садись, княже!..
Роман улыбнулся, поманил Ростислава к себе, усадил рядом.
— Место это отныне — твое.
Ростислав смущенно опустился на полавочник.
Роман сказал:
— Звал я вас сюда, думцы, для зело важного дела. Киев отныне наш — сие вам ведомо.
Бояре согласно закивали.
— Но не для того брал я его, чтобы пустошить, как половецкие становища, — продолжал Роман, — а для того, чтобы кончить давнюю вражду и усобицу. Киев есть старейший стол во всей Русской земле, и надлежит на оном быть старейшему и мудрейшему из всех князей, чтоб мог благоразумно управлять и оборонять отовсюду Русь, а не токмо помышлять о своем прибытке…
— Все верно, княже, — заулыбались думцы.
— А в братии, князьях русских, содержать добрый порядок, дабы один другого не мог обижать и чужие земли разорять безнаказанно…
— Велишь, княже, сие занести в грамоту? — склонился к Роману Авксентий.
— Занеси. И еще припиши, что я беру на себя сей нелегкий труд, и пошли сию грамоту всем князьям, а также Всеволоду, коего чту я, как отца своего, превыше всех князей на Русской земле и прошу у него благословения…
Роман помолчал и добавил:
— А Рюрика сверг я со стола за его клятвопреступление. Сие тоже внеси в грамоту.
— Нынче же снаряжу я, княже, гонцов, — сказал Авксентий.
Роман кивнул и, облегченно вздохнув, улыбнулся.
— По правде ли рассудили мы, бояре? — спросил он притихших думцев.
— По правде, княже, по правде! — раздались голоса.
Ростислав молчал.
— А ты почто безмолвствуешь? — сдвинув брови, повернулся к нему Роман. — Аль обижен, со мной не согласен?
— Что слово мое для тебя, Романе! — прерывающимся голосом проговорил Ростислав. — Пленник я твой, а не советчик. Могу ли перечить тебе, не вызвав твоего гнева?
— Опять ты за свое, князь, — покачал головой Роман. — Не можешь простить мне отца своего, а зря. И ране и нынче слышал сам, почто велел я Рюрика постричь в монахи. Вверг он землю свою в неслыханные беды, поссорил меж собою князей. Слаб он духом и телом немощен — как ему сидеть на Горе?!
Ни слова не сказал ему на это Ростислав, склонился, охватив задрожавшее лицо руками.
— Всё. Ступайте, бояре, — сжалился над ним Роман. — И ты ступай, поразмысли. Не хотел бы я видеть в тебе своего врага.
— Княже! — вдруг ввалился в шатер растерянный отрок. Но ничего не успел сказать — за спиною его выросла могучая фигура в темном платне. Бояре замерли в изумлении.
— Кузьма Ратьшич! — вскрикнул Авксентий.
— Со словом к тебе, Романе, от великого князя Всеволода, — поклонившись с достоинством, негромко произнес Кузьма.
4
Когда Чурыня, с перепугу просидевший две недели у себя взаперти, услышал от вездесущей Миланы, что в Киев прибыл гонец от Всеволода, страху его не убавилось, но зато представился случай позлорадствовать.
— Зашевелился владимирский князь, — сказал он сестрице, подмаргивая. — Теперь жди: отольются Славну мои невинные слезки…
— Эк, погляди-ко, невинный какой! — осадила его Милана. — Как бы тебе самому еще горше не пришлось. Сказывают, прощаясь со Славном, целовал его Всеволодов гонец в уста…
— Чего мелешь, сорока! — ударил кулаком по столу Чурыня. — Аль мало тебе моих обид? Не станет Всеволодов гонец целоваться с клятвопреступником!
— Боярин Славн клятвы не преступал, — сказала, по привычке подбоченясь, Милана.
— Тебе-то отколь знать? — огрызнулся Чурыня. — Чай, баба ты, на думу звана не была.
— Да и ты не был зван. А коли говорю, то знаю…
— Уж не сызнова ли от Славновой женки? — подозрительно прищурился Чурыня.
— А кабы и от нее! Давно ли сам наставлял к ней в гости наведываться.
— Так то когда было…
— Нынче мое око в Славновом терему и того нужней, — сказала Милана и ушла, оставив братца в тяжелом размышлении.
«Вот чертова баба! — выругался про себя боярин. — А ведь и верно сказывает… Так неужто и впрямь я чего не додумал?»
Но как ни напрягался Чурыня, как ни морщил свой низкий лоб, а ничего путного в голову не пришло. Сунув в мягкие чеботы босые ноги, он вышел на крыльцо. Туда-сюда поглядел — нигде не видно Миланы. «Должно, у ключницы», — смекнул боярин и спустился в подклет.
И верно — где же еще быть сестрице! Ей бы язык почесать, а лучшего разговора, чем с ключницей Гоноратой, в ином месте не сыскать.
Была Гонората не просто ключницей, а еще и травницей и бабкой-повитухой.
— Эй ты, баба, — сказал Чурыня, — ну-ко, выдь…
Легким ветерком порскнула из подклета Гонората, словно и не было у нее за плечами шести десятков лет.
Сел боярин на лавку против сестрицы, поскреб под рубахой живот, поморщился.
— Чего вдруг взгомонился? — улыбнулась Милана. Догадывалась она, что отыщет ее братец, — не все еще сказано было в тереме, а ему невтерпеж.
— Разбередила ты меня, — сказал боярин. — Мудрено сказывала, про гонца обратно же, про Славна…
— А что — гонец? Гонец как гонец, — нараспев отвечала Милана. — Будто Кузьму Ратьшича прислал Всеволод.
— Кузьму?! — обомлел Чурыня и быстро перекрестился. — Чуч-чур меня!..
— Вона как переменился в лице, — испугалась Милана.
— Про Кузьму-то, — проглотил боярин застрявший в горле комок, — про Кузьму-то… не ослышалась?
— Не, про Кузьму не ослышалась, — уверенно подтвердила сестра.
— С ним и лобызался Славн на крыльце?
— Должно, с ним.
— Ну, пропал я, — повесил голову Чурыня. — Ежели Кузьма от Всеволода заявился, то с вестью для меня дурной. Не допустит владимирский князь, чтобы Роман своевольничал в Киеве. Никак, возвращать будет Рюрика на стол, а Рюрик мне не простит… Славна же, видать по всему, винить не в чем, — может, он и отправил человека во Владимир: так, мол, и так — поспешать надо. Оттого и лобызался с ним Кузьма… Ай-яй-яй!
— Ну, Чурыня, — поднявшись с лавки, грозно возвысилась над ним сестра. — Ну, Чурыня, лгал ты мне все, а я тебе верила. Так, выходит, и впрямь преступил ты клятву, даденную князю. Выходит, поделом славят тебя на всех углах кияне.
— Нишкни! — подскочил к ней боярин. — Верно сказано, стели бабе вдоль, а она все поперек. Бежать надо!
— Куды бежать-то? — вытаращила на него глаза Милана. — Мне-то почто бежать?
— А по то, что не чужая ты мне.
— Чай, не я князя окручивала…
Не переговорить Чурыне своей языкастой сестры: на любое его слово у нее десять своих припасено.
Махнул боярин на Милану рукой, кинулся из подклета во двор, всполошил прислугу:
— Эй вы, люди! Все, кто есть, ко мне! Снаряжайте возы, запрягайте коней, грузите добро!.. Да пошевеливайтесь, не то у меня!
Забегали, засуетились дворовые, отмыкали бретьяницы и одрины, сволакивали во двор зерно и иную кладь, из медущ выкатывали бочонки с вином и брагой, из терема несли иконы, порты и мягкую рухлядь.
Шум и гам во дворе, люди распарены, кони храпят и пятятся, в воздухе кружится пух из перин, и над всеми — боярин на крыльце: уже в кожухе, уже при поясе и мече, в собольей шапке, надвинутой на глаза.
— Господи, да что же это деется! — заламывая руки, то туда, то сюда кидалась Милана, — Куды ехать-то? Останови их, Чурыня, иль вовсе тебе свет застило — соседям на потеху! Гляди, сколь народу собрал у ворот. И не стыдно?
— Шевелись! Шевелись! — покрикивал боярин, не обращая внимания на сестру, — Куды ларь поволок? На воз его!
Поняла Милана, что нипочем не перекричать ей взбесившегося братца, как бы самой не прогадать, кинулась в светелку, выскочила с девкой: у девки в шелковом плате — иконки, кресты и молитвенники, у самой боярыни под рукою — серебром кованный погребец…
Отшумели — тронулись: впереди отроки верхом на конях, за отроками на расписном повозе — сам боярин с Миланой, а дальше за ними длинным хвостом — весь обоз с медом, воском, пшеницей, сарацинским зерном…
Выехали из города, пугая шумом видавших виды воротников, задержались на берегу Днепра. Куда дальше путь держать?
Боярин привстал на повозе, подозвал конюшего.
— Что прикажешь, боярин-батюшка? — сдернул конюший с головы треух.
— Под Триполь пойдем, — сказал Чурыня, — И вот тебе мой наказ: собери табуны и гони их за реку. Летуй там, покуда не дам знака.
Ускакал конюший. За него Чурыня был спокоен: все исполнит, как велено. Ух ты, гора с плеч свалилась!..
Теперь можно и передохнуть. Упал боярин на подушки, перекрестился, скосил взгляд на сестру. Милана, сидя с ним рядом, все еще прижимала к животу онемевшими пальцами кованый погребец.
— Эк тебя всю скрючило-то, — проговорил он с неожиданным миролюбием. — Отпусти погребец-то…
— Ну и напугал ты меня, боярин, — сказала сестра с виноватой улыбкой. — Ровно на пожаре поспешал.
— Небось поспешишь. Почто погребец охватила?..
— Вовсе и не охватила, — сказала, смущаясь, Милана и поставила погребец у ног.
— Откинь, откинь крышку-то…
— Тебе на что? — насторожилась сестра.
— А ты откинь.
— Ключик потеряла, — быстро нашлась Милана. — На груди завсегда был рядом с крестиком…
Чурыня протянул руку, подергал погребец за крышку — не пускает.
— Хитришь ты, сестрица, — сказал боярин угрюмо. — Не по душе мне твой погребец. Что в нем?
— Не каменья, знамо. Отколь у меня каменья? Браслетики с синими глазками да девичий убрусец…
— Ну, а коли так, почто лишний груз на повозе? Кинь его в реку!
И боярин решительно потянулся к погребцу. Миланины руки были проворнее: не успел Чурыня нагнуться, как уж снова оказался погребец на коленях у сестры.
— Знамо, — сказал боярин и вытащил из-за пояса крепкий нож. — Коли нет у тебя ключика, пущай пропадет погребец.
И, подсунув лезвие в щель, рванул его на себя. Милана охнула, крышка откинулась. Сидевшая рядом дворовая девка зажмурила глаза.
— Вот он, убрусец-то, — насмешливо проговорил боярин, вытягивая из погребца жемчужное ожерелье. — Ягодка к ягодке. А это не браслетик ли с синим глазком?
И он вытянул следом за ожерельем золотые колты с вправленными в них блестящими яхонтами.
Только тут вышла Милана из оцепенения, заверещала, вцепилась в волосатую руку брата:
— Не тронь!..
— Ладно, ладно уж, — сказал боярин. — И доднесь была у меня догадка, что не бескорыстно живешь ты подле меня, пользуешься не одними только хлебами… Нынче сам зрю. Змея ты, Милана, да и только — праведности меня учишь, попрекаешь бесчестьем, а сама живешь праведно ли? — И он покачал головой.
Молча уложив драгоценности в погребец, сестра снова поставила его на колени и обеими руками прижала к животу.
Обоз тронулся.
5
Разъехались князья из Триполя, отшумела распря, и снова тихо да благостно зажил воевода Стонег. По утрам осматривал город (был он невелик), после обеда спал, вечером, ежели была охота, наведывался к вдове Оксиньице.
Первая летняя жара спала, ночи стали прохладнее; смерды по окрестным селам заготавливали сено, в садах наливались сочные яблоки, и сладкий дух витал над огородами, над сонными улочками, над крытыми черной соломою крышами прилепившихся друг подле друга изб.
— Мистиша! — позвал воевода состоявшего при нем на скорые дела проворного паробка. — Вели-ко запрягать коней, да поедем на реку.
— Гроза собирается, батюшка, — помявшись у порога, сказал Мистиша, — может, повременишь?
— Делай что сказано, — цыкнул на него Стонег.
Паробок бесшумно выскользнул за дверь, боярин вышел за ним следом.
Коней запрячь для ловких рук — дело спорое. Не успел Стонег и с крыльца спуститься, как уж подвели к нему два отрока с конюшни любимого угорского фаря.
Остался этот конь у боярина от Романа. Случилось так, что захромал он перед самым выходом князя из Триполя — вот и расщедрился Роман.
— Пользуйся моим конем, боярин, — сказал князь воеводе. — Расстаюсь я с ним не без сожаления. Добрую службу сослужил мне угорский фарь, да куды ж его с подраненным копытом. Тебе же за гостеприимство твое мой подарок — бери.
А и дел-то всего было, что перековать коня. На следующий же день красовался на нем боярин перед теремом Оксиньицы.
Оглаживая шелковую гриву фаря, вздыхала и охала вдовушка:
— Да за что же тебе такой подарок, боярин?.. Знать, приглянулся ты князю.
— Вестимо, — степенно отвечал Стонег. — Чай, не отдал бы коня своего князь первому встречному.
В тот день до вечера простоял фарь на дворе у Оксиньицы. Попивая у вдовушки вино, то и дело поглядывал боярин в окошко. Даже обиделась на него вдова:
— Куды глаза пялишь, боярин?.. Уж не надумал ли променять меня на своего фаря?!
— Эк разобрало тебя, Оксиньица, — самодовольно улыбнулся Стонег.
Знатное седло изготовил в Киеве для своего любимца воевода. Приставил к коню, чтобы денно и нощно следили за ним, трех отроков.
Проезжая по Триполю, собирал боярин вокруг себя восхищенные толпы, звал к себе стариков, чтобы при нем хвалили коня, и не было для него пущей радости, как самому выехать в луга, поглядеть, как пасут его фаря на сочных травах…
Далеко видно вокруг с днепровского берега. Лихо соскочил с седла Стонег, отдал поводья подбежавшему Мистише, спустился к тихой воде и стал смотреть на реку: не проплывут ли заморские гости. Летом на Днепре людно — лодии идут косяками. Нынче, знать, тоже не без них — вон показались черные точечки. Ближе, ближе… Руку козырьком ко лбу приложил боярин, пошарил взглядом по берегу: ежели гости, то и дружина тут как тут. И верно — скакали всадники.
Тут со степи потянуло напористым ветром, взрябило воду в реке. «Верно сказывал Мистиша, — подумал боярин, — кажись, гроза».
Иной раз, в хорошую погоду, гости проплывали мимо. «Нынче не проплывут», — сказал себе боярин.
Лодии стали поворачивать к берегу.
А ветер все крепчал, и над степью вздыбилась большая туча.
— Эй, кто ты такой есть? — осадил перед Стонегом коня плечистый воин с длинными, спускающимися ниже подбородка, светлыми усами. За ним на рысях подтягивалась дружина — все в кольчугах и шлемах, при тяжелых мечах и копьях.
— Я трипольский воевода, — сказал Стонег, — а вы кто?
— Ведем гостей от Олешья ко Киеву, — спрыгнул наземь и приблизился к боярину воин. Вблизи он был еще выше ростом, и Стонег едва доставал ему до плеча.
Борясь с волнами на быстрине, лодии тем временам входили в затишек под укрытие берега. Упали первые капли дождя.
— Батюшка-боярин, — подбежал запыхавшийся Мистиша, держа Стонегова фаря и свою лошаденку под уздцы. — Не промок бы, батюшка-боярин, — эвона какая туча нависла. Поспешай!
— Подь ты! — прикрикнул на него воевода. — Глаза-то раствори, не видишь разве — гости к нам пожаловали.
— Дык промокнешь под дождем-то…
Воины засмеялись. Старший восхищенно погладил Стонегова коня по морде, пошлепал по губам.
— И отколь у тебя, воевода, этакой фарь? — удивился он.
— Князя Романа подарок, — выпячивая грудь, с готовностью отвечал Стонег.
— Эвона! — недоверчиво протянул старшой. — За что ж тебя жаловал князь?
— За что жаловал, то мне ведомо. На что тебе знать?..
На лодиях суетились люди, спускали ветрила, накрывали холстиной товар.
Сверкнула молния, гром ударил почти сразу же — боярин перекрестился и вскарабкался на коня. Дождь полил сплошными отвесными струями. У реки остались одни лодейщики — все дружно кинулись к воротам крепости.
Шум низвергшейся на землю воды был так силен, что не слышно было ни топота копыт, ни храпа коней, ни криков. Словно бичом подгоняя их, молнии полосовали небо со всех сторон с оглушительным треском.
В приезжей избе, что была срублена для случайных гостей, народу набилось видимо-невидимо. Все возбужденно посмеивались, старались протиснуться поближе к печи.
— От самого Олешья ни капельки не упало, — говорил старшой, положив рядом с собою на лавку шлем и стряхивая воду с груди и рукавов, — А тут, гляди-ко, добрым дождем встречает нас Русь.
— Сено убираем, дождь-то не шибко к добру, — заметил Стонег.
Был он доволен счастливому случаю: ежели бы не гроза, так и прошли бы лодии к Киеву. А тихая жизнь в крепости изрядно наскучила боярину.
— Ты вот что, Мистиша, — сказал он ни на шаг не отходившему от него паробку. — Беги к Настене да накажи ей: пущай сокалчих взгомонит. Буду не один, с людьми…
Паробок выскочил за дверь. Старшой улыбнулся:
— Спасибо тебе за крышу над головой, воевода. Добрый ты хозяин, да мы народ не привередливый. Переждем грозу — и снова в путь. Пировать будем дома.
— Хороший гость — хозяину в почет, — сказал Стонег. — Я вам хлеб-соль, а вы мне сказки.
— Не скоморохи мы, сказок сказывать не умеем. А вот бывальщиной не побрезгуешь ли? Жизнь наша в седле, зарубок на теле много — рассказать есть что…
Славно пировали дружинники в тереме у Стонега. Медов не жалел воевода: чего не услышишь от бывалого человека, да еще ежели дождь на дворе, а в голове — хмель.
Старшого Несмеяном звали. Но был он улыбчив и говорлив. Дружинники тоже оказались ему под стать. Но и меда выпили столько, сколько боярин и за год не выпивал.
Выманила Стонега из повалуши Настена:
— Аль совсем сдурел? Князья гостевали — ладно, нынче бог весть кого привел. До вечера они у тебя все медуши выхлещут… Опомнись, боярин!
Стонег едва на ногах стоял:
— Эт-то кого ты пужать вздумала? А ну кшить, да чтобы к нам ни ногою. Хочу — гуляю, хочу — пощу.
С ног сбились челядины — такого шумного пира давно уже не было в Триполе.
На следующее утро проснулся боярин едва живой: будто колотили его всю ночь по голове, руки-ноги выворачивали. О том, как вечеряли да прощались с дружинниками, ни зарубки на памяти не осталось. Помнится, целовался он со старшим, помнится, наваливал что-то в подарок. Вроде Настёна за него цеплялась, а он гнал ее и гневно топал ногами.
Закряхтел воевода, перевернулся на спину.
— Здрав будь, боярин-батюшка, — пропело над ухом.
— Кто это? — удивился Стонег. — Ты, Мистиша?
— Я, боярин-батюшка…
— Похмелья бы мне.
— Да вот оно, не желаешь ли отведать?
С трудом поднялся Стонег, пустыми глазами уставился на паробка. Стоит Мистиша перед ним на коленях, в руках блюдо держит с огурчиками и кислой капусткой.
— Поешь, батюшка, — ей-ей полегчает.
Стонег хрумкнул огурцом, захватил пятерней капустки. Мистиша глядел в сторону. Не понравилось это боярину.
— Почто глаза отводишь? — спросил он паробка строго. — Натворил чего?
— Не, — мотнул головой Мистиша.
— Настена гневается?
— Гневается, — сказал паробок.
— Баба она.
Мистиша молчал. Стонег еще зачерпнул пятерней капустки, пожевал, вытер мокрые пальцы о рубаху.
— Гости-то как отъехали?
— Отъехали…
— Не обидели?
— Нас-то?
— Почто нас? Мы-то гостей не обидели? — рассердился непонятливости паробка боярин.
— А что им на нас обижаться? Всё — как у христьян: ели-пили, песни показывали. Да еще и с дарами отъехали…
— Ишь ты, с дарами, — мотнул головой Стонег и снова потянулся к капусте. Но вдруг рука его замерла над блюдом. Сквозь мрак тяжелого похмелья вспомнилось боярину что-то смутное: будто стоит он во дворе рукою машет, а Настена висит у него на плече.
Стонег сердитым взглядом ожег паробка:
— Говори!
Отпрянул Мистиша, чуть не выронил блюдо:
— Увели фаря твоего, боярин-батюшка.
— Как увели?! — подскочил на ложе Стонег.
— Подарил ты его старшому, когда прощались с ним на крыльце. Уж так ли уговаривала тебя боярыня, а ты все одно: «Кшить, баба…»
Слабо сделалось воеводе в ногах, руки обвисли, как плети:
— Коня увели… коня…
Закачался Стонег на ложе, замотал головой.
— Беда-то какая, Мистиша.
— Да полно кручиниться, батюшка, — попробовал успокоить его паробок. — Другого коня пожалует тебе князь.
— И ты туды же. Вот я тебя! — вскочил с ложа Стонег. — Нет, чтобы удержать, нет, чтобы не дать коня. Ты-то куды глядел?
— Дык с тобой, батюшка, сладу не было…
— Будя, — сказал Стонег. — Подь сюды, Мистиша, не боись. Да поставь на стол блюдо и слушай мой наказ: где хошь, а достань мне фаря. В Киев иди, в Галич, в Олешье — куды следы приведут, а без коня не возвращайся.
— Дареный он, конь-то твой! — вскричал в отчаянии паробок.
— Ну и что, что дареный. А ты его обратно возьми — да в Триполь, да в мою конюшню, — ласково говорил боярин. — А не вернешь, Мистиша, вот те крест, не жить тебе на этом свете. Так и знай!
Глава пятая
1
Всю жизнь свою, все шестнадцать годков, прожил Мистиша на Стонеговой усадьбе. С малых лет только и знал он что этот двор с одринами, медушами и конюшней да крепость, которую окинешь одним взглядом из конца в конец, да Днепр, да степь за Днепром, да вьющуюся берегом дорогу, которая, как сказывали, ведет в Киев, большой и красивый город. Чудесными рассказами заезжих людей жил Мистиша, манило его за степной окоем, но не думал, не гадал он, что так вот сразу, вдруг, и не по своей воле, отправится в неведомое странствие. И сладостно, и страшно было ему, и всю ночь перед отъездом сжималось у него сердце и не давало сомкнуть глаз.
Ни свет ни заря растормошил его конюший Кирьяк, смущенно потупляясь, сунул завернутый в тряпку шматок соленого сала:
— В дороге сгодится.
Потом помолчал и добавил:
— Ты на меня не серчай, Мистиша. Видит бог, и я противился боярину. Да где уж мне совладать, коли он и Настены не послушался.
Вместо ответа Мистиша прильнул к плечу Кирьяка.
— Кто знает, когда еще доведется встретиться, — сказал конюший, мягко отстраняя его от себя. — Вот, возьми мою оберегу.
Во дворе стоял оседланный конь, толпились молчаливые людины. Низко поклонился им всем Мистиша, и они поклонились ему низко.
— Ну, чего там — трогай, трогай, — глухим голосом поторопил Кирьяк.
Мистиша вздел ногу в стремя, еще раз окинул грустным взором знакомый ему с детства двор, вскочил в седло и выехал за ворота.
Уже за городом еще не раз оглядывался он на маячившие вдали стены с деревянными вежами, еще придерживал коня, но скоро поднялось по правую руку солнце, конь сам по себе прибавил шагу, Триполь скрылся за холмами, рядом весело поблескивал Днепр — и от грустных мыслей не осталось и следа.
Хорошего иноходца подобрал Мистише Кирьяк (еще ответит перед боярином), хорошее выбрал седло (и за это ему непоздоровится), дорога быстро бежала коню под копыта. Среди позванивающих трав трепетали ранние птахи, ласковый ветер обдувал пареньку лицо. Обгоняя бредущих на покосы мужиков и баб, Мистиша прямил спину, глядел на них с коня с гордой улыбкой.
— Далеко ли путь наладил, Мистиша? — ласково спрашивали его люди.
— В Киев боярин снарядил, — степенно отвечал паробок и поигрывал плеточкой.
«В Киев, в Киев», — постукивали в голове звонкие молоточки.
Долог путь, да изъездчив. Скоро показалось на пригорке село. В селе церковка деревянная, возле церковки — длинный обоз. Попридержал Мистиша иноходца.
— Эй, кто таков будешь? — преградил дорогу мужик с волочащимся по земле длинным кнутом. Борода у мужика пегая, в разные стороны торчит, глаза злые.
— А ты кто таков? — стараясь казаться храбрым, спросил дрогнувшим голосом Мистиша.
— Слезай с коня!
— Еще чего?
— Кому сказано!..
Не было у мужика охоты лясы точить. Разом за молкли в голове у Мистиши игривые молоточки. Спустился он наземь, мужик решительно взял коня за повод, куда-то повел. Паробок шел рядом, нудливо гнусавил:
— Боярин меня в Киев послал, почто препятствуешь?
— А кто твой боярин? — спросил мужик, не оборачиваясь.
— Стонег, знамо, — удивившись, что не знают его боярина, отвечал Мистиша.
Но на мужика это имя не произвело никакого впечатления.
Подошли к церкви.
— Жди здесь, — сказал мужик. — Да не вздумай убегнуть: всё одно догоню.
О том, чтобы бежать, у Мистиши и в мыслях не было: уж больно опасен был мужик. Долго стоял он на солнцепеке, все гадал — что за обоз. На купеческий не похож, а иному отколь тут быть?
Истомился Мистиша, ожидаючи. Мужик вернулся злее прежнего. Повелел:
— Иди за мной.
Привел в избу. В избе на лавке сидел толстяк с белесыми глазами, посвистывая носом, пил из широкого жбана квас. Рядом с ним — баба, сухая и длинная, с постным лицом и капризно поджатыми губами.
Переступив порог избы, свирепый мужик сделался угодливым, спина согнулась, голос потек елейным ручейком:
— Вот ентот, боярин, паробок и есть…
— Иди покуда, — отослал боярин мужика и с любопытством оглядел Мистишу.
— Так Стонегов, говоришь? — спросил угрюмо, — Из Триполя в Киев поспешаешь?
— Все так, — отвечал Мистиша и поклонился боярину.
— А не сбег от воеводы?
— Куды ж мне!
— И коня воевода тебе дал?
— И коня.
— За каким же делом послал тебя Стонег в Киев?
— Увел у воеводы его любимого фаря Несмеян, — осмелев, бойко отвечал Мистиша.
— Несмеян говоришь? — вытаращил глаза боярин. — Да в своем ли уме Стонег?! Ты, холоп, говори, да не заговаривайся. Знаю я Несмеяна, зачем ему чужой фарь?..
Обрадовался Мистиша — вот и кончик ниточки объявился. Совсем осмелел:
— Услал меня боярин за Несмеяном вослед: ищи, говорит, хоть в Киеве, хоть в Галиче, хоть в Олешье, а чтобы был у меня на конюшне фарь. Пили они вечор, вот и подарил воевода Несмеяну коня, не подумавши. Теперь убивается…
— Поделом Стонегу, коли до седин ума не нажил, добродушно проворчал боярин и снова потянулся губами к жбану с квасом. — Да слыханное ли это дело, чтобы дареного коня назад возворачивать!
— А допрежь того, — сказал Мистиша, — подарил фаря боярину моему сам князь Роман.
— Как же, как же, — закивал головой толстяк, — всё помню…
— Не томи ты паробка, Чурыня, — вдруг встряла в разговор сидевшая до того тихо тощая баба и обратилась к Мистише. — Видели мы Несмеяна и фаря Стонегова видели — недалече отселе повстречали на берегу Днепра дружинников…
— Боярин-батюшка! — вскричал Мистиша и со стуком пал на колени. — Вели отпустить меня, может, еще и нонче догоню Несмеяна!
— Ишь ты, прыткий какой, — засмеялся Чурыня. — Ладно, догоняй уж. А то прибёг ко мне дворский, говорит: никак, холоп утек на хозяйском коне…
Задом, задом выкатился из избы Мистиша — и к церкви. Давешний мужик, Чурынин дворский, прохаживался между возами.
— Что, не всыпал тебе боярин? — оскалил крепкие зубы.
Вскочил Мистиша на коня, не удостоив мужика и взглядом. Снова застучали в голове веселые молоточки. Вот уж и село за спиной, вот уж и Днепр заблестел под высокой кручей.
Лихо шел иноходец, взметывал за собою клубы черной пыли. До боли в глазах вглядывался паробок в прихотливо извивающуюся перед ним дорогу. Но была она пустынна до самого окоема. Скоро выбился из сил добрый конь, и Мистиша перевел его на трусцу. Нет, не догнать ему Несмеяна, а в Киеве искать — все равно что иголку в стоге сена.
Приуныл паробок, ехал по берегу, понурившись.
Солнце перевалило за полдень, пекло немилосердно. Приспело обеденное время, да и коню пора уж было отдохнуть. Сыскав удобную тропку, Мистиша съехал к воде, дал иноходцу вволю напиться, пустил на траву. Сам достал из-за пазухи подаренное Кирьяком сало, сукрой хлеба и только принялся за трапезу, как сверху посыпались на него камешки и песок. Вздрогнул паробок — и замер от страха: из травы, на краю откоса, вылядывало чье-то лицо, похожее на скомороший скурат, — с узкими глазками и длинным сморщенным носом. Оно улыбалось сочным красным ртом и корчило гримасы.
Мистиша обмер, икнул и мысленно перекрестился.
— Что, страшно? — Сдерживая булькающий в горле смех, из травы поднялся человек с уродливо торчащим за спиной острым горбом. У горбуна были длинные тяжелые руки и еще более длинные, вывернутые стопами вовнутрь ноги, голова без шеи крепко сидела на слегка приподнятых плечах. Лоб и щеки незнакомца пересекали глубокие борозды морщин.
Горбун подобрал полы старенького кожуха и съехал с откоса к опасливо посторонившемуся Мистише.
— Т-ты что это? — заикаясь, выставил перед собою руки паробок.
— Испужался, — кивнул горбун. — Меня все пужаются. А я человек добрый. Тебя как кличут-то?
— Мистишей, — на всякий случай отодвинулся от него паробок.
— А меня Кривом. Ты откуда?
— Из Триполя, — глядя в кроткие глаза горбуна, увереннее отвечал Мистиша.
— Это твой конь?
— А чей же?!
— Хороший конь, — кивнул Крив. — А ты меня с собой возьмешь?
— Куда ж я тебя возьму-то?
— В Киев.
— А может, я в Триполь возвращаюсь?
— Не, — засмеялся Крив, — я за тобой давно слежу. В Триполь туда, а в Киев сюда, — махнул он своими длинными руками. — Возьми, не прогадаешь. Меня в Киеве все знают, — может, и пригожусь.
— Ты мне и нынче можешь пригодиться, — все больше оправляясь от изумления, сказал Мистиша (боярский строгий наказ не шел у него из головы). — Не про плывали ли здесь с утра лодии и не шла ли берегом дружина?
— Как же, — обрадовался Крив, — и лодии проплывали, и дружина шла. Да тебе-то какое до них дело?
— А на угорском фаре не ехал ли кто? — не отвечая на его вопрос, продолжал допытываться Мистиша.
— Вона что, — протянул Крив. — Кажись, видел я и угорского фаря. Покраше твоего конь.
— Еще бы! — воскликнул паробок и пристально посмотрел на горбуна, — Скажи-ка, Крив, ежели возьму я тебя в Киев, поможешь ли ты мне сыскать того фаря?
— Ты только меня возьми, — широко заулыбался Крив, — и фаря твоего мы сыщем, и невесту пригожую. Киев — большой город, много там красных девиц.
— Невесту мне не надо, а вот без коня вернуться к боярину я не могу: забьет он меня до смерти…
— А ты не возвращайся к боярину.
— Да как же так?! — испугался Мистиша.
— Вот так и не возвращайся, — сказал горбун. — Я небось тоже не сам по себе. И батька у меня был раб, и мамка раба, и я робичич. А вот живу себе поживаю, как вольный зверь в лесу. И всего добра-то у меня, что эти лапти, кожух да тугой лук. Хошь, покажу, как птицу бить с лету?
И, не дождавшись согласия паробка, с необычайной для своей фигуры ловкостью горбун вскарабкался на бугор и тут же вернулся, держа в одной руке лук, а в другой стрелу.
— Глянь-ко! — пошарил он глазами над Днепром. — Вона, видишь?
Едва заметная в дымке чайка вспорхнула у самой воды и взмыла в вышину — Крив вскинул лук и, казалось, не целясь, тут же спустил тетиву. Пронзенная стрелой, птица рухнула в волны неподалеку от берега.
— Чудно! — подивился Мистиша и восхищенно поглядел на горбуна. — Да где же ты такому выучился?
— Глаз у меня вострый, — сказал Крив, довольный похвалой.
Теперь когда добрая беседа сладилась, совсем и не страшным стал казаться Мистише горбун: такая хорошая улыбка бывает только у простых и сильных людей. Славного сыскал он себе попутчика.
— Ведь и ты голоден, поди, — спохватился паробок и, разломив сукрой, протянул половину Криву, вынул из-за пояса ножичек, поровну поделил сало.
Горбун набросился на еду.
2
Круто обошелся Всеволод с Романом: велел отказаться от Киева.
— Тебе княжить, — сказал Кузьма обрадованному Ростиславу.
В первый же день своего пребывания на Горе отправился молодой князь к отцу своему, заточенному в монастырь.
Тяжелая это была встреча. Не таким, не сломленным, хотел видеть он Рюрика, не ждал, что кинется он к нему с рыданиями и вместо того, чтобы порадоваться за сына, будет, все более и более озлобляясь, вспоминать давно забытые всеми обиды. Даже жену и дочь свою, сестру Ростиславову, заточенных, как и он, не помянет ни единым словом. И на киян затаил Рюрик злобу и шептал обметанными жаром губами:
— Не верь княнам, сыне: неблагодарны они и мстительны. Роману клялись, а своего князя забыли. Так неужто приветишь ты их ласковым словом, неужто предашь забвению нанесенные отцу твоему жестокие раны?!
А сам-то, справедлив ли сам-то он был к киянам? Разве не разорил он уже однажды свой город, отданный Всеволодом Ингварю во время очередной ссоры Рюрика с Романом? Разве не он привел в Киев половцев и позволил им жечь и грабить, и насильничать?..
Помнил, хорошо помнил Ростислав, как шли к нему в Белгород и в иные княжества разоренные набегом ремесленники, как селились в посаде, рубили избы и не хотели возвращаться в Киев под десницу ненадежного князя и как силою, повинуясь воле отца, гнал он их потом обратно на разметанные ветром пепелища. Не потому ли и сам он чувствовал себя сейчас неуверенно в этом городе, что уже однажды не вступился за него, не возвысил голоса против отца, не послушался мудрого совета Верхославы — идти в Киев и образумить Рюрика, пока не поздно? Смалодушничал Ростислав, побоялся родительского гнева, а нынче имел ли он право, вспоминая прошлое, говорить этому стоящему перед ним униженному чернецу жестокую и уже никому не нужную правду?..
Нет, не поднимется у него рука карать слабого и беззащитного. А Рюрик, по-своему понимая молчание сына, распалялся все более, и желтое, еще страшнее оплывшее лицо его сотрясалось от бессильного гнева.
Так и простились они, и слабо утишил отца Ростислав:
— Бог скорбящих призрит, батюшка…
— Раны, раны мои не забудь, — напутствовал его у порога своей кельи Рюрик, — а я за тебя помолюсь.
С тяжелым сердцем покинул монастырь Ростислав, теперь путь его лежал к матери. Но не решился он на тот раз ехать один, взял с собой Верхославу.
Оповещенная игуменьей, Анна уже была подготовлена к встрече, не плакала, сдержанно благословила сына и невестку, сидела тихо, сложив на коленях усеянные темными пятнами исхудалые руки. Испугала Ростислава бледность, покрывающая ее лицо, запавшие глаза, синие поджатые губы.
— Здорова ли ты, матушка? — спросил он с участием и болью, внезапно сдавившей ему сердце.
— Слава богу, здорова.
— Не притесняет ли тебя игуменья, добра ли к тебе?
— Слава богу, добра.
— А сестра?
— И сестра твоя, слава богу, здорова. Дошел слух до меня, что посажен ты в Киеве князем.
— Верен тот слух, матушка. Нынче я на Горе.
Что-то не понравилось Анне в последних словах Ростислава. Она посмотрела на сына пристально. Не вспомнилась ли ей ее молодость, не вспомнила ли, как и она когда-то, еще будучи совсем молодой, впервые вступила со своим мужем под своды княжеских палат, как мечтала быть в них хозяйкой, а стала рабой?
Княгиня перевела взор на Верхославу и слабо улыбнулась ей.
— Ты, Верхославушка, мужу своему опора — радей о нем денно и нощно.
— Уж она ли не радеет, матушка! — воскликнул Ростислав.
Чем-чем, а заботой она окружила мужа едва ли не материнской. Одно только смущало ее: не растерял ли он за ее заботой и ежедневным присмотром своей мужской неприступной гордости? Не слишком ли послушен, не покорен ли сверх меры? Не утратил ли твердости, без коей и самый мудрый князь — лишь орудие в руках своевольных и хитрых бояр?..
Но женское брало в ней верх, и похвала Ростислава потешила ее самолюбие. Она благодарно взглянула на мужа.
Анна перехватила ее взгляд.
— А как Ефросиньюшка, с вами ли? — захлопотала она, вспомнив про внучку.
— С нами, — сказала Верхослава.
Анна часто закивала головой, слабо попросила:
— Привели бы ко мне — взглянула б разок. А то ведь скоро и к престолу господню…
— Как же, приведем, — пообещал Ростислав.
Вдруг лицо княгини сделалось суровым и даже надменным.
— Ты сестрицу свою навести, — сказала она твердым голосом. — Страдалица она — из-за Романа, кобеля беспутного, в монашках сохнет. Поди, привел уж в свой терем другую жену? Мало ему наложниц…
И тут же снова сникла, плаксиво заговорила о Рюрике:
— Много принес мне отец твой горя, но все прощаю ему. И то ладно: вместе маялись в миру, вместе грехи отмаливать… Воздастся нам на небеси.
Свидание затянулось, настала пора прощаться. Анна, как и при встрече углубилась в себя, сложила руки на коленях, беззвучно шептала что-то синими губами.
Уходя, Ростислав поцеловал ее в лоб, Верхослава обняла свекровь — Анна благословила их вялой рукой…
Сестра, к которой они наведались в тот же день (уж таким он с утра выдался), плакала, громко причитала и жалела Романа:
— Все вы супротив него, всем он дорогу перешел — навалились скопом и рады. Как же я без него-то буду? Кто ноженьки ему вымоет, кто приголубит? Молодая-то жена живо обратает, воли-то ему не даст, все, что ни есть у него, все под себя загребет…
Покоробило Ростислава:
— Пошто отца-то своего не жалеешь? Отец твой через Романово своевольство в монастыре.
Нет, под смиренной монашеской одеждой билось еще у сестры молодое сердце. Как вскинулась она на брата — словно орлица на разорившего гнездо ее покусителя:
— Через отца замкнули меня в этой келье. Почто жалеть мне его? Не орудием ли была я в отцовых безжалостных руках, не он ли велел мне приглядывать за Романом да ему доносить? Пущай иссохнет он в монастыре, пущай сгинет, ему и на том свете не уготовлены райские кущи!..
— Опомнись, сестра! — вскричал ошеломленный Ростислав. — На кого возносишь хулу?! В уме ли ты или вовсе лишилась рассудка?
— Все вы одно семя — и отец, и мать твоя, и ты — закричала, перебивая его, Рюриковна и вдруг упала на колени перед образами, часто крестясь, забормотала безумно:
— Да что это я? Прости меня, господи!..
Вечером собрал у себя Ростислав Рюриковых бояр. Славна посадил рядом, подчеркивая тем самым особое к нему внимание и уважение.
— Вот, бояре, достойный воевода, — говорил он почти точь-в-точь словами Ратьшича. — Не побоялся укоров, в трудную годину взял Киев под свою руку и тем спас его. Жалую я ему за верную службу новые земли за Росью, а еще золото, серебро и коней и повелеваю: отныне место сие на думе за ним главное, и слово главное, и почет ему воздавать, как первому из моих думцев.
Никто из бояр не посмел возражать ему, хотя многие считали, что не по правде поступил Ростислав: велика ли заслуга Славна, еще поглядеть надобно, не из корысти ли остался он в Киеве воеводою, не проникся ли страхом к Роману и потому только не перечил галицкому князю, а вовсе не из любви к киянам. Все поглядывали с опаской на сидевшего тут же в безмолвии Кузьму Ратьшича. Не сам по себе Кузьма был опасен — опасна была стоявшая за ним неведомая сила в лице владимирского великого князя Всеволода, которого большинство из думцев и в глаза-то не видывало, но о котором наслышано было вдоволь. Ныне многие еще раз убедились въявь: не нужно Всеволоду с войскам становиться под стены Киева, чтобы утвердить свою волю, — довольно и одного лишь его слова.
— А где же Чурыня, — спросил вдруг, обведя всех взглядом, Ростислав, и по сеням прополз ядовитый шепоток.
— Устрашился гнева он твоего, княже, — сказал Славн, — собрал домочадцев, челядь свою и табуны и ушел из Киева.
— Куда?
— Никому сие не ведомо, но сдается мне, что подался он не иначе, как в Триполь или под Переяславль, где есть у него еще отцом твоим дарованная землица, — отвечал боярин.
— Под крыло к Ярославу, сыну Всеволодову, пойти он побоится, — сказал Ратьшич. — Ищи его, княже, в Триполе…
— Тебе, Славн, поручаю сие, — повернулся к боярину Ростислав. — Возьми дружину и немедля доставь Чурыню ко двору. Негоже, чтобы отступник остался безнаказанным.
И, снова обратясь к притихшим думцам, князь сказал:
— А вы како мыслите, бояре?
— Пущай езжает Славн, — согласно закивали бояре. — Мы с тобою, княже, завсегда.
Каждый из них был рад, что не ему поручено это черное дело. Каждый думал про себя: нынче Чурыню — завтра меня поволокут на правёж, не годится это — с боярами боярскими же руками счеты сводить.
И еще больше за согласие его возненавидели они Славна: небось — повелел бы Роман — и Романову волю исполнил бы он с такой же легкостью.
Признаться, так и Славну не очень-то пришелся по душе князев наказ, и он пробормотал, что Чурыня, мол, его давний знакомец, вместе Рюрику служили, вместе ходили во Владимир сватать Всеволодову дочь, нельзя ли снарядить на розыски младшую дружину…
Ростислав насупился — Славн осекся на полуслове и больше не возражал.
Ночью открылся князь Верхославе:
— Скучаю я по нашему Белгороду. Не лежит у меня к Киеву сердце. Распустил отец бояр — не справиться мне с ними. На что уж Славн — и тот принялся перечить. Да и кияне не шибко привечают меня, нынче дружину забросали каменьями. Завтра, того гляди, пойдут подсекать сени. И сдается мне, что стоят за ними тайно прежние отцовы думцы…
3
Получив с купцов сполна товаром и пенязями за сопровождение лодий от Олешья, поделившись честно с дружинниками, загулял Несмеян, как и раньше это бывало; несколько дней не показывался он ни на княжом дворе, ни в молодечной. Своего дома у него не было, зато где шум, где пир горой, где песни и пляска, — там Несмеян. Забубенная он голова, разудалый молодец, друзей и знакомых у него в Киеве не счесть. А еще был Несмеян человеком не жадным — и это все знали. Не спрашивал он на своем пиру ничьего имени, ни звания: пришел — садись к столу, пей, сколько пузо примет, но только не хмурься. Хмурых людей Несмеян не любил, за хмурыми все грехи числил — веселому же человеку прятать нечего, он весь на виду.
Мало кто в Киеве не знал, как покарал Несмеян одного странника, прикинувшегося божьим человеком. Затесался он к дружиннику на почестен пир, когда вернулся тот с купцами из Полоцка. Любопытный был старичок — тешил гостей рассказами о хождении к святым местам, но чару пил умеючи, ждал, когда все захмелеют. А после обобрал хозяев — и был таков.
— Ты кого это ко мне привел? — разбудил Несмеяна рассерженный древодел Данила, у которого правили пир. — Погляди-ко, все лари повытряс твой странничек…
Рассердился дружинник, да и перед хозяевами стало ему стыдно, сел на коня и поехал искать нечестного гостя по всему Киеву. Три дня не возвращался к Даниле, а все ж таки словил беглеца. Привел его в избу к древоделу, усадил за стол, выставил корчагу меду:
— Пей, да после не сказывай, что хозяева были скупыми. Покуда всей корчаги не одолеешь, не выпущу из избы.
— Да где мне выпить разом корчагу-то, — взмолился странничек. — Ее, чай, и добру молодцу не одолеть.
— А вот я с тобою, сидя супротив, такую же корчагу стану пить, — сказал Несмеян и слово свое сдержал. Стали они пировать вдвоем: странничек чару — и Несмеян чару, странничек другую — и Несмеян за ним вослед.
Собрались вокруг бражники, жалко им стало похитителя.
— Оставь его, Несмеян, — говорили они, — аль не видишь — хлипок старик.
— Не отравой я его потчую, а тем же медом, коим соблазнился он, со мною на пир идучи, — спокойно отвечал Несмеян, наблюдая, чтобы чара странника все время была полна.
Прикончили они свои корчаги, остатки меда вливал дружинник в странника силой. Затем взвалил его на седло и сдал городской страже, а те препроводили похитителя в поруб.
Таков был Несмеян, и шутки шутить с ним никто не решался, хотя сам он слыл большим охотником до всяких шуток. Вот и с воеводою трипольским занятно пошутил: ведь мог отказаться он от Стонегова коня, не в себе был хозяин — однако же не отказался: то-то сейчас рвет и мечет боярин, но впредь будет осмотрительнее.
Не чувствовал за собою вины Несмеян — оттого и был беззаботен: не таясь, разъезжал по Киеву на фаре, считал его своим конем. Нравилось ему, что другого такого же нет во всем городе ни у кого — небось Романов подарок, лучших угорских статей.
Однажды, правда, остановил его боярин Славн:
— Эй, Несмеян, и отколь у тебя такой конь?
— Что, понравился? — засмеялся дружинник.
— Да вроде встречал я такого же допрежде того, а вот где — не припомню.
— И не старайся, боярин. Мой это фарь, а иного на свете нет. Никак, приснилось тебе.
Покачал головою Славн: не могло такое присниться, а вот где видел он коня, так и не вспомнил.
В большом городе не каждая дорожка пересекается. Покуда бражничал Несмеян, покуда песни пел и плясал у своих дружков, Мистиша с Кривом тоже достигли Киева и, пристав к хорошо знавшим горбуна скоморохам, искали, но никак не могли напасть на след пропавшего Стонегова скакуна. Имени дружинника Мистиша не знал (боярин-то за переполохом главного не сказал), и, кроме как на купеческом подворье, спрашивать им про коня было не у кого. Но купцы тоже не сводили с дружинниками близкого знакомства: кончился путь, рассчитались щедро, били по рукам и расстались до будущих времен, а то и вовсе не придется свидеться.
Горбун сунулся было на княж двор, но его не впустили, с Мистишей никто из сторожи и разговаривать не стал.
Растерялся паробок: что делать? Киев ошеломил его своим шумом и многолюдьем — тут и за год не сыщешь боярского фаря, а сало уже на исходе — хорошо еще, что покуда делились с ними хлебом знавшие Крива скоморохи.
А еще обузою стал доставивший их в Киев добрый конь. У скоморохов одна худая лошаденка, им бы ее прокормить — доброму же коню и овес нужен, и сено…
— Давай продадим коня, — предложил как-то Мистише Крив.
— Да ты что?! — обомлел паробок. — Как же это я боярского коня продавать буду?
— А не будешь, так одна тебе дорога: возвращаться в Триполь без фаря.
Вот ведь задача: и к боярину возвращаться нельзя, и коня лишиться боязно. Да и как его продавать: того и гляди, схватят зоркие мытники, начнут выспрашивать, чей конь, потянут к ответу, в темницу кинут…
Через некоторое время горбун снова пристал к паробку:
— Гляди, тощает животина. Ну на что тебе конь? Ежели сам боишься, отдай мне, я его продам. А сыщешь фаря — простит тебя боярин.
— Мой не простит…
Упрямился Мистиша, хоть и сам уже понимал: никуда не денешься, все равно сгинет конь, все равно ответ держать перед Стонегом.
— Может, еще повременим? — стал он упрашивать Крива, — Вдруг сыщется фарь?
За последнюю цеплялся надежду.
— Ладно, — сказал горбун, — Приглянулся ты мне, в беде тебя не брошу.
И стал он потешать честной народ на торгу вместе со скоморохами: горб ему помогал, дело для Крива привычное. А еще стрелял он из лука: подбросит яблоко и разит его стрелою на лету. Очень нравилась киянам эта забава. Но того, что подавали, едва хватало на пропитание.
Через два дня сунул ему Мистиша поводья в руку:
— Была не была, продавай, Крив, коня.
Привел вечером горбун незнакомых людей в скомороший стан, долго торговался с ними, седло расхваливал, уздечкой тряс. Но те людишки тоже были себе на уме — знали, что не своего коня продает Крив (откуда быть у него коню?), за каждую ногату едва не лезли в драку. Не сдавался горбун. Тогда они ему сказали:
— Дело твое. Но только попомни, не долго пользоваться тебе конем — нынче же сбегаем да кликнем стражу. Пущай ни нам, ни другим не достанется, пущай поставят его в княжескую конюшню.
Язык держи, а сердце в кулак сожми. Понял Крив, что не кончится добром эта встреча. Уступил. Увели незнакомцы коня.
— Ну, теперь мы, Мистиша, вольные люди, — сказал не привыкший подолгу унывать горбун.
И принялись они бродить по Киеву, везде высматривать да всех расспрашивать. И не зря. Скоро дошла до них первая весточка.
— Фарь, говоришь? Угорских статей? — припомнил один из гончаров на Подоле. — Как же, как же… Кажись, у Несмеяна видел.
— Недавно из Олешья с гостями прибыл?
— Кто?
— Да Несмеян-то, — подсказал Крив.
— Может, и из Олешья. А то еще откуда. Мне-то почем знать?!
— А где видел?
— Несмеяна, что ль?.. У нас и видел, на Подоле. Проезжал он тут с дружинниками… Ну, народ и высыпал, все глядят на коня, любуются. Отколь, спрашивают, у тебя, Несмеян, этакой фарь. А он и отвечает со смехом — Роман, мол, мне его подарил…
— Наш фарь! — не сдержавшись, вскрикнул Мистиша. Крив дернул его за рукав, но поздно уже было: вылетевшего слова не вернуть.
— Это как же так ваш? — прищурился гончар, — Чай, не водятся такие кони у простых людинов.
А Мистиша возьми да еще подлей масла в огонь:
— И верно, Романов подарок этот фарь. Но только не твоему дружиннику дарил его князь, а моему боярину Стонегу.
— Не слушай ты его, добрый человек, — поспешил на выручку горбун, потому как знал, что положено за клевету прокалывать шилом злые языки, — Не в своем уме паробок.
И потащил за собою Мистишу с Подола прочь. Рассердился на него паробок:
— А говорил, что будешь мне верным товарищем.
Как же сыщем мы коня, ежели напали на след, да гнать его побоялись? Чего взгомонился-то?
— Ты в Киеве человек новый, — спокойно пояснил ему горбун. — Вот и делай, что велят. Помнишь, как поглядел на нас гончар? Не скоро до него слова твои дошли, а коли бы скоро, так не ходили бы мы с тобою теперь по Владимирову городу, а везли бы нас на допрос к воеводе. Ты Несмеяна знаешь?
— Не, — помотал головой Мистиша. — Только и видел, что у Стонега…
— То-то и оно. Что, как не признает он за собою вины? Конь-то небось все же дареный. Вот и выходит, что мы на него напраслину возвели, перед добрыми людьми обесчестили.
— Как же быть-то? — обескураженно уставился на него Мистиша. — Придумай что-нибудь, Крив.
— Вот я и думаю, — почесал в затылке горбун. — Как зовут твоего дружинника, мы теперь знаем. Гончару и на том спасибо. Но когда встретимся с Несмеяном, ты к нему сразу не кидайся. Поклонись да по чину все объясни: так, мол, и так — боярин-де мой серчает. Может, и пожалеет он тебя…
— А ежели нет?
— А ежели нет, то сами уведем коня. Но тогда держись, в руки Несмеяну не попадайся!
— Шибко напугал ты меня, Крив.
Язык языку ответ подает, а голова смекает. Теперь во всех разговорах Мистиша положился на горбуна, в беседу не встревал, а только слушал. Как стал Крив про Несмеяна спрашивать, закрутилось колесо: то здесь его видели, то там. Дружинника в городе знали хорошо, верный путь к нему указывали, но всё не поспевали горбун с паробком ко времени: был, да уехал, а к кому — неведомо.
— Потерпи еще немного — словим мы твоего Несмеяна, — улыбнулся Крив.
К вечеру сказал им кто-то, что видел, как подался Несмеян с дружиною к исаду.
Заволновался Крив:
— Поспешать нам надо. Как бы не наладился он снова в путь.
Припустили они бегом и в первый раз пожалели, что нет у них коня. Но зря спешили: на исаде Несмеяна не было. Только бока себе намяли в толчее, едва не потеряли друг друга.
— Ничего, не отпыхавшись, дерева не срубишь, — не терял надежды горбун, выбираясь из толпы.
Мистиша глядел вокруг себя завороженно: сколь прожил он в своем Триполе, а такого не видывал.
— Лодий-то сколько — как листьев в воде! Неужто со всей земли собираются в Киев торговые гости?
— А чего ж им не собираться — живем богато, соседям в рот не заглядываем: и мех у нас, и воск, и кони, и рыбий зуб. И брони, и мечи. Вот и везут нам в обмен — кто аксамит, кто ковры, кто сарацинское пшено… Мы гостям рады!
— Вот живут-то, — восхищенно протянул Мистиша, не торопясь уходить с исада.
— Про гостей ты, что ль?
— А то про кого!
— Не завидуй им, Мистиша, жизнь у них трудная и опасная — потому и ходят с дружиною. Нынче вернулся с прибытком, а завтра, глядишь, снесут голову где-нито на волоке — и вся недолга.
Так, беседуя, не торопясь, поднимались они к Подольским воротам, как вдруг кто-то окликнул горбуна:
— Крив, ты ли это?
Из толпы навстречу им кинулся, растопырив руки, рослый бородач. Горбун пригляделся к нему, сделал шаг, другой.
— Негубка? Купец?!
— Он самый я! — закричал Негубка и принялся обнимать и шлепать Крива по горбу, приговаривая:
— Вот ведь где встретиться довелось, а я уж и вовсе потрял тебя из виду.
— Меня потерять из виду немудрено, — говорил, улыбаясь, Крив и с гордостью поглядывал на Мистишу (вот, мол, какие у меня знакомцы!).
— А этот паробок не с тобой ли? — заметив его взгляды, спросил Негубка и, не дождавшись ответа, двинулся к Мистише, тоже обнимал его и разглядывал пристально.
— Мистишей его кличут, — стоя рядом с ними, запоздало объяснял Крив, — Вместе из Триполя шли, вместе в Киеве мыкаемся…
— Да почто ж мыкаетесь-то? Пойдемте ко мне на лодию. Эх, Крив, Крив, как рад я тебя видеть живым и здоровым!.. Сколь уж лет прошло с нашей последней встречи?
— Почитай, первой и последней она была, — поправил горбун. — А лет прошло не так уж и много.
— И то верно. Спас ты меня тогда, — кивнул Негубка, — и я пред тобою в долгу.
— Нам ли долгами считаться, свиделись — и ладно, — смущенно проговорил Крив. — А Митяй с тобою ли, купец?
— Не забыл? — обрадовался Негубка. — Со мною, где ж ему быть! Вот пойдем на лодию, там и свидитесь.
И он потащил их за собою, решительно разгребая плечом толпу.
Мистиша тоже поначалу весело зашагал за Негубкой, но, чем дальше они удалялись по кромке берега от шумного исада, тем все больше охватывала его тревога: что же это такое — встретил Крив своего знакомца и уж забыл, зачем они сюда поспешали. Этак-то чего доброго, проглядят они Несмеяна, уйдет он с дружиною — и поминай как звали.
— Крив, а Крив, — подергал Мистиша горбуна за рукав кожуха.
— Чего тебе? — обернулся Крив.
— Идем мы в гости к Негубке, а как же фарь?
— Экой ты прилипчивый, паробок, — проворчал горбун. — Ну скажи, где нам на ночь глядя искать Несмеяна?
— Утром бы не упустить…
— Некуды ему деться окромя исада. Тут и словим его, а там — как бог даст. Негубка нам поможет. Негубка, поможешь нам словить Несмеяна? — обратился Крив к купцу.
Негубка остановился и посмотрел на них с усмешкой:
— Вона вы что замыслили! Только что-то в толк я не возьму, почто вам Несмеян понадобился?
— Послал Мистишу боярин Стонег из Триполя искать своего коня. Увел, вишь ли, у него фаря Несмеян, а паробку хошь домой не возвращайся.
— Далеконько же вам придется Несмеяна искать, — покачал головой Негубка. — Ушел он с новгородскими купцами на Любеч. Видел я его на Взвозе, и то верно — славный под ним фарь.
Вона как, не думая, не гадая, обвел их Несмеян, а они ждали его на исаде.
— Ах ты, господи, — взволнованно проговорил горбун. — Не серчай на меня, Мистиша. Пристанем заутра к какому ни на есть обозу, пойдем на Любеч. А там, ежели что, то и дале. Найдем Несмеяна — не рыба он, чтобы под водою плавать, не птица, чтобы парить в поднебесье…
— Почто вам обоз искать? — сказал внимательно слушавший их Негубка. — Завтра моя лодия отбывает в Любеч. Ежели ты, Крив, не против, пойдем со мной. И ты, Мистиша, не печалуйся — сообща путь короче, а с добрыми товарищами не пропадешь. Сыщем твоего фаря!..
Глава шестая
1
В Новгороде было неспокойно.
От Варяжского моря, от Невоозера дули северные холодные ветра, нагоняли тучи, подымали воду в Волхове, мели по улицам пожухлые листья, расстилали над крышами ранние дымы.
К непогоде у посадника Мирошки Нездинича всегда, сколько он себя ни помнит, ныли кости, но сегодня, возвращаясь верхами к себе на Торговую сторону и проезжая через Великий мост, он почувствовал, как закружилась голова, и едва удержался в седле, однако не придал этому особого значения: в палатах у владыки Митрофана, где собирались, как обычно, бояре — триста золотых поясов, было душно, кисло от пота и угарно от жарко топившихся пристенных печей.
А еще пришлось схватиться с Михаилом Степановичем, прежним новгородским посадником, который, несмотря на преклонные годы, снова входил в силу и собирал вокруг себя давнишних противником Мирошки.
Пользуясь тем, что допущен был на Боярский совет, Михаил Степанович стал возводить хулу на Мирошкина сына Димитрия, обвиняя его в лихоимстве и притеснении купцов, кои творил он при попустительстве своего отца.
Бог весть, чем бы кончилась эта ссора, ежели бы владыка не развел накинувшихся друг на друга бояр.
Еще тогда, еще на совете, худо стало Мирошке, теперь слабость повторилась, и он поспешил скорее к себе на двор. Сын Димитрий ехал с ним рядом, вспоминал, как кидался на него Михаил Степанович, стучал посохом. Кривя в злобной усмешке рот, Димитрий говорил отцу:
— Ишь, чего выдумал боярин, неймется ему. Сам, бывало, взымал с купчишек дикую виру, а мне грехи свои приписал. Никак, задумал возвернуться к старому — на твое место, метит, батюшка…
Нахмурившись, Мирошка молчал. Слова сына задевали его за живое, но он сдерживался, только чаще подергивал поводья и морщил лоб.
Димитрий по-своему расценивал молчание отца, становился все говорливее, и, лишь когда слушать его стало больше невмочь, Мирошка резко осадил коня и неприязненно посмотрел на сына.
— Что ты, батюшка? — ошеломленно пробормотал Димитрий, пряча быстро забегавшие глаза.
— Шей по росту: полы оттопчешь, — сказал с тяжелым придыханием посадник. — Много чего ты мне наговорил а всё — чтобы грязный хвост спрятать. Думаешь, не знаю, как прикрываешься ты моим именем и, бесчинствуя с дружками своими, дружбу свел с резоимцами? И, ища, чем заплатить резы, притесняешь не токмо купцов, но и ремесленников из посада?.. Думаешь, я про это не знаю? Или про то, что повадился ты к купчихам и они доят тебя, как корову? Прав был Михаил Степанович, и потому только не дал я ему изобличать тебя и далее, что думал о Новгороде, а не о тебе, ибо, изобличив тебя, и на отца твоего бросит он тень и на все, что дело рук моих!..
Растерялся Димитрий, губы его плаксиво задергались, и Мирошка, вконец расстроенный, чтобы не видеть его унижения, пришпорил коня и живо выехал с моста на Торговую сторону.
Вблизи своего двора почувствовал он себя еще хуже, едва сполз с седла, в сопровождении услужливых отроков вошел в избу, сел на лавку и с трудом перевел дух.
Нет, не от сидения в жарких палатах владыки сделалось ему худо. Давно подкрадывалась к посаднику злая хворь. Занемог он еще с того времени, как унизил его владимирский князь Всеволод, держа у себя в заточении, и теперь унижал, ибо не он уже был хозяином в своем городе и не малолетний сын Всеволодов Святослав, безвыездно сидевший в городище, а пестун Святославов, боярин Лазарь, и владыка, данный Новгороду во Владимире и избранный под присмотром Всеволодовых дружинников.
Вот и сегодня один пуще другого старались друг перед другом Лазарь и Митрофан. Не вступился владыка за Мирошку, а только разнял их с Михаилом Степановичем, обоих пожурил поровну: Бояркий-де совет не торг, это на торгу можно размахивать кулаками и надрывать горло.
При воспоминании о Митрофане посадника прямо передергивало от ненависти. С прежним-то владыкой Мартирием худо ли бедно ли, а они все же ладили хоть и тот был себе на уме, но понимал, что без Мирошки в доверие к новгородцам ему не войти.
Митрофан явился на все готовое, грозная тень Всеволода маячила за ним, в городе стояла владимирская дружина, князь был владимирский и боярин при нем из близких ко Всеволоду людей.
Такого еще доднесь не бывало, чтобы покрикивал владыка на передних мужей, а Митрофан себе позволял, даже посохом замахивался. Возражений терпеть не мог, советоваться ни с кем не хотел, только и был у него советчик, что пронырливый и вездесущий Лазарь, который день свой начинал и кончал во владычных палатах.
От веча, каким было оно прежде, тоже только одно название осталось: новгородским же золотом покупал Митрофан преданных крикунов. Те же самые крикуны, люди бесстрашные и лихие, творили тихую расправу над противной стороной: того, стукнув топором по голове, в реку сунут, тому подпустят под охлуп красного петуха… Иным открыто сажали во дворы под видом челяди кого-нибудь из своих. За боярами приглядывали, как за овцами, простцам волю дали говорить что вздумается.
А куда Мирошке в таком разе деться? Уж его-то каждый шаг был на виду, уж его-то каждое слово учитывалось. И стали сторониться посадника золотые пояса, иссякла вера в него и у торговых людишек. Иначе, как Всеволодовым псом, его за глаза и не величали. Но разве по доброй воле склонил он перед Низом свою седую голову?! Разве не о господине Великом Новгороде пекся, когда ехал просить у Всеволода на княжение его сына? От новых бедствий хотел он избавить город, от голода и разорения.
Все забыто. Нынче не до Мирошки боярам и куп нам, видят: сила у него иссякла, в новой смуте ищут для себя спасения. Оттого и вернули из забвения Михаила Степановича и молчанием своим на совете подстрекают к супротивству.
Сидел Мирошка на лавке во власти тяжелых дум, словно неживой, не слышал, как вошла сестра Гузица, как прошуршала платьем почти у самого его лица. Вздрогнул от ее голоса, раздавшегося рядом:
— Что пригорюнился, братец, сидишь во тьме? Аль снова с Мишкой чего не поделили?
Насмешливо говорила Гузица, стояла перед ним, покачивая крутыми бедрами. Оплывшее лицо ее белело в темноте.
Вот тоже Митрофанова доводчица. Когда-то, в былую пору, была она ему верной опорой, а как спуталась с сотским Шелогой, стала держать противную Мирошке сторону. Обабилась, жиром заплыла (ходил слушок, что видели ее и у старого Михаила Степановича, но Мирошка отмахивался — навет это), в тереме хозяйничала, визгливо покрикивала на дворовых девок, била их, а то подолгу запиралась в светелке — и к обеду не дозовешься, натирала румянами щеки, кривлялась перед медным зеркалом. И раньше-то срамила она боярина, но благо хоть, была у него под рукою для разных важных дел — теперь же, кроме неудобства, пользы от нее не было никакой.
— Ты Мишку в доме моем не поминай! — взъерепенился посадник и вскочил с лавки. — Довольно и того, что люди про тебя говорят. Не внял я им, а нынче думаю: что, как верен слушок?
— Верен, братушка, верен, — проворковала Гузица и выплыла из повалушки.
Господи, и в своем тереме покою нет! Ишь, как хвостом вертит, свой верх почуяла. О том, что доносит она Митрофану, Мирошка сгоряча подумал, а теперь так смекнул: с нее и не такое станется. И то, что старого кобеля Михаила Степановича окрутила и, нежась с ним, оговаривает брата, тоже показалось ему правдой. Вот и делай людям добро.
«Да неужто не найти на дурную бабу управы? — подумал посадник. — Вот выйду сейчас да всыплю ей, чтобы чтила старших!..»
И совсем было направился Мирошка за Гузицей, на ходу закатывая рукава, как снова почувствовал во всем теле давешнюю слабость, и, охнув, повалился на пол.
Очнулся посадник на ложе, провел руками по груди — догадался, что накрыт лебяжьим одеялом. На столе слабо горела свеча, у свечи, подперев голову кулаками, сидел Димитрий и пристально смотрел на отца.
Боярин слабо застонал, ресницы Димитрия вздрогнули, и взгляд переменился. Мирошка подметил это.
«Лгут, все лгут, — с сердечной болью размышлял посадник. — На сына надеялся, но и ему веры нет. Только и живет одною надеждою на мой близкий конец. Свезут прах мой, и тут же спустит все, что не им добыто. Для народа слезу прольет, но в душе порадуется… Вот оно как обернулось-то — что в Боярском совете, что в своем терему: на-кося!»
Беспокойны и суетны были мысли боярина, и была в них одна только обида. Себя ни в чем не винил Мирошка, других не жалел. И ночь не сулила ему успокоения, потому что и ночью отяжеленная голова его родит не приятные сны, а страшные видения, от которых не раз пробудится он и, обливаясь холодным потом, будет молить хоть о малом проблеске света, возвещающем наступление еще одного дня, который начат и, даст бог, прожит будет до наступления тьмы, а дальше боярин не загадывал.
2
Велик Новгород, а камчужного лечца Кощея знает всяк. В какую избу ни войди, везде была в нем нужда — там ребенка спас, здесь помог недужному старцу.
Исцелял он не только ломоту в костях, но и прочие хвори, и изба его, расположенная неподалеку от Готского двора с остроглавой Варяжской божницей, почти никогда не пустовала. Приходи к нему хоть за полночь — дверь для любого открыта, для любого найдется не только чудесная травка, но и доброе слово.
А с недавнего времени поставил он во дворе еще одну избу — просторный пятистенок — и содержал в ней тех, у кого своего угла не было: кормил, поил и лечил их с неменьшим тщанием, чем богатых бояр и зажиточных купцов с торговой стороны.
Пользовал Кощей и посадника Мирошку Нездннича, и самого владыку Митрофана.
С Мирошкой дело совсем было худо. Уже не в первый раз Кощей у него в тереме, не в первый раз внимательно осматривает его беспомощно распростертое на ложе желтое и рыхлое тело. По всему видать было, что недолго протянет посадник: печень у него была раздута и легко прощупывалась.
— Уж больно мудрствуешь ты, лечец, — с недоверием поглядывал на Кощея боярин. — Да и травы твои мне не впрок. Не кликнуть ли знахаря, покуда не поздно?
— Воля твоя, боярин, — смиренно отвечал Кощей. — Но послушай моего совета: не пей ты медов — от них лишь на время легчает, а хворь твоя нынче только силу взяла, гнездится же в тебе не первый год, и ты ей — главный пособник.
— Что же, выходит по-твоему, лечец, должен жить я отныне в затворе, яко монах? Да честные новгородцы только смеяться надо мною станут: какой же я посадник, коли и чару доброго вина выпить мне невмоготу!
— Сколь уж мужей спровадило питие в мир иной, и ты туда же, — горячо возразил Кощей, смело глядя в глаза Мирошки.
— А от травок твоих меня с души воротит, — стоял на своем Нездинич.
— Скорбен ты, но в невоздержанности своей упрям, — покачал головой Кощей. — Почто тогда меня звал? Почто оторвал от хворых, коих и так в Новгороде великое множество?..
— Экой ты, лечец, жалостливый, — усмехнулся боярин. — Смекаешь ли, с кем меня сравнил? Убогих да сирых ставишь в один ряд с посадником.
— Все мы боговы, — сказал Кощей, гнетя невольно восстающее в нем раздражение против Нездинича. — Кто же о сирых позаботится, коли и так отринуты они от мира сего, всеми гонимы и презираемы? Одна и та же хворь поражает нищего и князя. Так не нами заведено, а нам завещано любить ближнего…
— Ой ли? — прищурился боярин. — Сдается мне, что не из одной токмо любви к ближнему привечаешь ты бездомных в своей избе. Чай, и сам от них покорыстоваться не прочь. Ране говорить не хотел — теперь скажу. Берегись, Кощей, навлечешь ты на себя беду великую. Приходили ко мне с жалобою: не токмо-де лечишь ты сирых, но и свою имеешь от них выгоду.
— Какую же выгоду-то, боярин? — удивился Кощей, — У них и ногаты нет за душой, одни токмо отрепья.
— И верно, отрепья их тебе ни к чему. А под отрепьем?.. Что побледнел, лечец; никак, уличил я тебя?
Нездинич приподнялся на локте и в упор разглядывал Кощея.
Тот и впрямь растерялся, но быстро взял себя в руки. Выдержал взгляд боярина, не опускал глаз.
— То-то, лечец, — сказал посадник и снова откинулся на подушке. — Я тебе за свое исцеление грех твой великий прощу. Но не вздумай меня впредь благости поучать.
С тревожными мыслями возвращался Кощей от посадника. Нездинич не из тех, что бросают слова на ветер. Угроза его не пуста. И лечец хорошо понял, что кроется за его намеками.
Великого Галена изучал Кощей, но, будучи пытлив и любознателен, сам пошел еще дальше своего учителя.
Гален вскрывал животных, изучал их внутреннее строение — Кощей вскрывал трупы людей, тех самых убогих и нищих, которых не мог исцелить от недугов. Некому было оплакивать их, некому было предавать земле. Соблазн был слишком велик, Кощей всеми силами противился ему и все-таки не устоял.
Случилось это не так давно, когда скончался у него в пятистенке калика, подобранный им на торгу в беспамятстве. У калики было синее от страдания лицо и сильно вздувшийся живот. Когда удалось привести его в чувство, любое прикосновение к животу вызывало у него страшные боли. Кощей применил все известные ему средства, но боли не стихали, и пронзительные крики больного приводили его в отчаяние.
Благо, не очень долго маялся калика. Он умер на третий день, и лицо его даже после смерти выражало страдание.
Кощей, как и положено, обмыл труп и хотел уже наряжать его в рубаху и класть в колоду, чтобы схоронить честь по чести, но задумался, присел на лавку и долго сидел так, не шевелясь, не решаясь свершить то, на что в мыслях своих давно уже решился.
Время шло, солнце прощальным светом посеребрило шеломы Софии и скрылось за детинцем, в избе стало темно. Кощей встал, на цыпочках, словно боясь вспугнуть спящего, подошел к одному, к другому окну, старательно заволокнул их, запалил свечи и вернулся к столу, на котором лежало бездыханное тело калики.
Лечец продолжительно и пристально вглядывался в лицо покойника, потом пальцы его быстро пробежали по его телу, ощупали затвердевшие мускулы, привычно коснулись суставов и ребер. С каждым движением они становились все увереннее, робость исчезла, но внутренняя дрожь, охватившая в самом начале Кощея, сделалась еще сильнее: он стоял перед тайной, за которую не шагнул еще ни один человек до него…
— С богом, — подбодрил он себя и сделал первый надрез — от горла покойника до самого паха…
Все страхи и все предосторожности забыл Кощей. Он словно вошел в неведомую страну, где все было внове: тонкие сосуды, как ручейки, пронзали внутренности, в крепкие клубки сплетались сухожилия. Так, шаг за шагом, он добрался до тоненького гноящегося отростка, который, как понял лечец, и был причиной страдания калики.
«И вот такая малость, — печально рассуждал Кощей, — сломила могучее вместилище духа. Неужто беспомощен человек, познавший все сущие на земле языки, возводящий до небес свои белокаменные храмы, мыслью вознесшийся к богу, пред ничтожным недугом, точащим, яко червь, его плоть?!»
Так, может не только целебная травка, но и нож способен принести спасение?
Обессиленно откинулся Кощей — сердце упруго стучало в ребра. А ведь только что точно такое же, но безжизненное сердце он держал в своих руках!
В окружающей Кощея жизни все выстраивалось во взаимной зависимости: сверху был князь, его волю вершили думцы, дружина, тиуны. Жизнь простца могла быть пресечена мечом стоящего над ним боярина, самого боярина мог покарать князь.
Невольно то же единство переносил Кощей и на природу человеческого тела. Однако, чем больше думал он, тем глубже убеждался: привычная взаимосвязь безжалостно рушилась, не было силы, которая могла отсекать и властвовать, тем самым как бы сохраняя себя саму.
Или привычное равновесие, которое от открыл для себя в этом мире, тоже мнимое? Разве не кончали скорбно свой путь и князья и бояре, когда разгневанные творимой ими несправедливостью людины шли и рушили их палаты и терема? И нет никакого порядка, а есть только сила сильного, и стройность — лишь детище страшащегося хаоса разума?..
Нет, не все знал Нездинич, лишь маленькую толику тайны сумел он приоткрыть для себя, но и ее было достаточно, чтобы бросить оскверняющего трупы Кощея во власть ослепленной ненавистью толпы.
Лечец в задумчивости пересек вечевую площадь, заполненную, как обычно, торговыми людьми, ремесленниками и смердами в закругленных матерчатых шапках со светлыми отворотами, и только тут, в суете и гомоне, почувствовал облегчение — Мирошка Нездинич со своими смутными угрозами остался лежать в терему, жизнь вокруг шла обычным чередом, и никому не было до Кощея дела: покуда здоров человек, покуда не подкрался к нему коварный недуг, ему ли думать о лечцах, и так полно каждодневных забот. И еще с неприятным злорадством смекнул Кощей (а он-то уж про это назерняка знал!), что недолго осталось глядеть на солнышко посаднику, угрозу свою осуществить не успеет — скоро отдышится. Болезни своей ему не перемочь, точит она его не по дням, а по часам.
Накрапывал мелкий дождь, ветер порывисто гнал собравшиеся над Зверинцем тучи, лохматил их над опоясавшей детинец стеной, прижимал к свинцовым водам Волхова — осень обещала быть нынче ветреной и ненастной. Кощей поежился и, сторонясь толпы, прибавил шагу.
Кто-то ждал его возле самой избы. Сидел на коне, другого, оседланного, держал в поводу. Увидев приближающегося лечца, соскочил наземь, уважительно поклонился:
— Здрав будь, Кощей!
— И ты будь здрав, добрый человек, — отвечал лечец, приглядываясь к незнакомцу. — Сказывай, какая привела тебя ко мне беда.
— Негубка я, аль не признал? Шел из Киева в Новгород, да не один, а с паробком. Так возьми ж тот паробок и оступись на ровном месте, — кажись, ногу сломал.
— Верно, припомнил я тебя, — отвечал Кощей. — Заходи в избу.
— Да хорошо бы глянул ты сразу на паробка, шибко мается он.
— А далеко ли ехать?
— Да на подворье. Хотел самого к тебе привезти — куды там: посинел малец, волчонком воет. Помоги, Кощей, я вот и коня с собою пригнал.
— Погоди.
Кощей зашел в избу и вскоре вернулся со свертком.
Мимо церкви Ивана-на-Опоках, где расположена была братчина богатых купцов-ващаников, подъехали к Будятину вымолу. Спешившись, вошли в избу с низкими потолками и широкими лавками вдоль стен, на которых лежали и сидели люди. В соседней горенке, где было и посветлее и почище, их встретил горбун Крив с озабоченным, неулыбчивым лицом, проводил за холщовую занавесь.
— Ну, Мистиша, радуйся, привел я к тебе лучшего камчужного лечца, — бодрым голосом сказал Негубка и пропустил впереди себя Кощея.
Лежавший на лавке паробок попытался приподняться, но только сморщился от боли.
— Лежи, лежи, — попридержал его за плечо Кощей и, сев рядом на перекидную скамью, стал осторожно ощупывать вздувшуюся и посиневшую ногу. — Здесь больно? А здесь?..
Не удержавшись, вскрикнул паробок. Кощей улыбнулся:
— Ай-я й-яй, как же это тебя угораздило?
— За фарем погнался, да, вишь ли, меж плах мостовых угодила нога, — пояснил Негубка.
Засмеялся Кощей:
— Нешто с фарем задумал бегать вперегонки?
— Не, — встрял в разговор горбун. — Куды ему вперегонки! За фарем тем шли мы, почитай, от самого Триполя…
И он стал рассказывать про Стонега, и про Несмеяна, и про то, как упустили они в Киеве дружинника, а после им Негубка помог — без купца ни за что не добраться бы им до Новгорода.
— Ну и дела, — слушал его вполуха Кощей, а сам, словно бы между прочим, занят был своим привычным делом: накладывал Мистише на ногу лубки, крепко стягивал их тряпицей. Паробок покряхтывал, но терпел. Кощей приговаривал:
— Ломайся, да обмогайся. Добрый жернов все смелет…
От боли у паробка слезы покатились из глаз.
— Вот и всё, — сказал Кощей и потрепал его ладонью по щеке. — А теперь испей-ко этого взвару из скляницы.
И обернулся к горбуну:
— Так что — Несмеяна сыскали ли?
— Его сыщешь, — сказал Крив. — Проведал я, что подался он с булгарскими купцами ко Владимиру. Да мы нынче за ним не ходоки, с ногой-то…
Негубка глухо покашлял в кулак.
— Отчего же не ходоки, — сказал он. — Покуда реки не встали, и мой путь ко Владимиру. Беру я варяжский товар — да на Мсту. Аль не приглянулась вам моя лодия?
— Лодия как лодия, — повеселел Крив. — Только мы какие же тебе попутчики? Один горбат, другой обезножел — польза-то от нас какова?
Чувствуя, что теперь не до него, Кощей стал собираться. Негубка с Кривом горячо благодарили его. Мистиша крепко спал, свежий румянец разливался по его лицу.
— Воистину чудодей ты, — сказал купец, обнимая Кощея. — Неспроста о тебе славу добрые люди несут аж до самого Олешья.
3
Пошатавшись на Будятином вымоле, поглядев, как снаряжают в дальний путь Негубкину лодию, Митяй забрел на Готский двор. Был он обнесен добротной стеной из крепких сосновых кряжей, за стеной виднелись избы, многие из которых сложены были недавно: на них еще золотилась свежая смола. Под проезжей башней стояла строгая сторожа, в руках у воев — короткие копья: чужим путь к иноземным гостям был заказан.
Митяй снова подался к Волхову и на Великом мосту смешался с толпой, стремившейся на левый берег.
Все здесь было ему знакомо. Еще иноком приходил он сюда с игуменом Ефросимом, здесь, неподалеку от Водяных ворот, схватили его люди владыки Мартирия, держали в детинце под крепкими затворами. Отсюда через Пискуплю и Людин конец уходили они с игуменом, униженные, обратно в свой монастырь, и тем же путем возвращался Митяй в город с обозом хлеба для голодающих новгородцев. Тот последний приход и сломал привычную жизнь: не иноком вернулся Митяй в монастырь, а сподручным купца Негубки, и не бил он земные поклоны, а бороздил на утлой лодие чужие моря. Осерчал на него вспыльчивый Ефросим, но простил, ибо знал игумен: еще до рождения каждому уготован свой жребий — одному общаться с богом, другому горшки обжигать, а иному ходить в далекие страны. Неспроста, знать, случилось так, что попал Митяй в руки владимирского дружинника Звездана — и это было в жизни его предначертано, неспроста остановил на нем свой выбор Негубка, отправляясь с товаром в далекий Готланд. Едва ли не всю землю повидал Митяй — был и в Царьграде, и в Трапезунде, а свои края исходил все вдоль и поперек. Полюбил его купец, как сына, и так говорил:
— Не век мне жить, Митяй. Когда помру я от нечаянной хвори или сразит меня шальная стрела, не брось дело мое без присмотра. Тебе оставлю я и двор свой, и весь товар.
— Чего это вздумал ты, Негубка, о смерти разговаривать, — смутился Митяй. — Не за ради двора твоего и товаров пристал я к тебе.
— Оттого-то и неспокойно мне, оттого-то и хощу знать: по ветру пустишь нажитое али попадет оно в надежные руки? Сам видишь — одинок я, как перст. Так нешто всю жизнь свою втуне трудился, неужто чужие люди придут в мой терем растащить не ими нажитое?
И дал слово Негубке Митяй, чтобы худо не думалось:
— Твоими заботами увидел я свет, делили мы с тобою на чужбине последнюю краюху хлеба — так отколь силы мне взять, чтобы забыть твою ласку? Все будет, как скажешь, и сердца себе не надрывай…
— Вот и ладно, — посветлел Негубка. — Давно затевал я эту беседу, а вышла нечаянно. Облегчил ты мне душу, помирать же я и не собираюсь. Нравится мне неспокойная наша жизнь, и, даст бог, доживу до старости.
Когда-то в скромном платье смиренника проходил Митяй Великим мостом, испуганно цепляясь за рясу Ефросима — сегодня его и не узнать: новый на нем кожух, на усменном поясе самшитовый гребешок, атласная шапочка лихо заломлена на затылок. Доволен собою Митяй и радуется, что скоро будет во Владимире. Неспроста доволен, неспроста радуется: ждет его, поджидает неподалеку от Серебряных ворот Аринка, дочь златокузнеца Некраса. Едва вскрылась Клязьма раннею весной, провожала она его с Негубкой в Царьград, у Волжских ворот прощались они на зорьке, припадала Аринка к его плечу, улыбалась сквозь слезы…
Когда бы не она, чего ради рвался бы Митяй во Владимир? А тут как вспомнит ее, так и зардеется от счастья. Вез он своей ладе дорогие подарки, браслеты, кольца, шелка и бархаты — сам выбирал на Месе, за ценою не стоял, хоть и попрекал его после Негубка, и не из скупости, а по привычке: «Не всё с верою — ино и с мерою. Бабу подарком уважишь, да сам с сумою пойдешь». Однако ж радовался купец, что не забыл Митяй Аринку: Негубке был златокузнец близким другом, вот и загадывали они вместе о счастье молодых…
Шел Митяй по Великому мосту, про то, куда идет, не думал. Любо ему толкаться в многоликой толпе, любо заглядывать в незнакомые лица: вон мытник с красным носом трясет незадачливого торговца, вон важно шествуют, сдвинув набок бархатные шапочки, варяжские гости; сидя верхом на перилах, плотники чинят мост, ловко работают блестящими топорами (вчера снова была свалка — кого-то скинули в Волхов).
От Пречистенской башни детинца спускалась под гору дружина — зашевелилась толпа на мосту, раздвинулась, подалась к перилам.
Добрые кони под вершниками, впереди — вороной: головка маленькая, гордая, грудь широкая: в богатом седле — стройный воин в синем корзне, русые пряди волос на ветру полощутся, тонкая талия перехвачена серебряным поясом, сбоку, на бедре, тяжелый меч, постукивает о мягкие сапоги, призывно поблескивает вправленными в ножны блестящими камушками.
Загляделся Митяй на воя, не сошел с пути — едва осадил вершник перед самым его носом коня, громко выругался. Сгрудилась дружина, послышались обидные смешки.
— Постой, постой! — вдруг закричал вершник. — Кажись, личина мне твоя знакома.
До того любовался Митяй только конем да одеждой всадника — тут же глянул ему в лицо:
— Звездан!
— Ну, Митяй, не думал я увидеть тебя в живых, — сказал дружинник, и Митяю приятно было, что рад он нежданной встрече. — Во второй раз спасаю я тебя от смерти: еще бы немного — и растоптал бы тебя мой конь.
И он повернулся к своим товарищам:
— В первый-то раз я его от меча уберег… Так ли?..
— Помнишь…
— Да как же не помнить-то, ежели ты, почитай, все равно что мой крестник. Все надеялся встретить тебя во Владимире, а ты сызнова здесь. Никак, сбежал от своего купца?
— От Негубки-то? Не, так по сей день с ним и хожу. Оттого и не видел ты меня, Звездан, что жизнь моя — вся в дороге, сегодня здесь — завтра и след простыл.
— А зря, зря не сыскал ты меня во Владимире, — сказал Звездан. — Но уж нынче я тебя просто так не отпущу.
Толпа тем временем сгрудилась вокруг них, глядели с любопытством: ишь ты, беседует дружинник с худым купчишкой, словно они ровня, — такое случалось не часто, о таком три дня говорить будут в Новгороде.
Еще больше удивил народ дружинник, когда предложил Митяю ехать с ним вместе на Ярославово дворище.
— Да как же без коня-то? — растерялся Митяй.
— Коня мы сыщем, — сказал дружинник и поглядел вокруг. — Вот тебе и конь, — указал он на смерда, ехавшего к мосту верхом на заморенной кобылке.
— Эй, ты! — окликнул смерда Звездан.
— Чегой-то? — растерялся тот, испуганно приближаясь к дружиннику, и, спрыгнув наземь, привычно поклонился.
— Садись, — приказал Митяю Звездан. Взяв из руки смерда поводья, тот вскарабкался на кобылку.
— Куды ж ты скотину-то берешь? — накинулся на Митяя смерд.
— Ништо! — засмеялся дружинник, и товарищи его тоже добродушно засмеялись. — Никуды не денется твоя кобылка. А коли побежишь трусцой да не отстанешь, то еще нынче сведешь ее на свой двор…
Поехали. Мужичонка, сунув шапку под мышку, бежал сзади. Митяй искоса поглядывал на Звездана.
Изменился Звездан, ох как изменился. В те-то поры, как встретились они впервой, сам робок еще был дружинник, а только петушился — хотелось казаться ему степенным и важным. Нынче петушиться ему было ни к чему — по коню его, да по одежде, да по тому, как обращались к нему гридни, сразу видно: не последний он при князе человек. И едет Звездан не куда-нибудь, а на Ярославово дворище, где, как знал Митяй, жил в последние поры Всеволодов сын Святослав, отказавшийся селиться на Городище. Это ране на Городище жили князья, когда призывали и отпускали их из Новгорода Боярский совет и вече. Не советовался князь Всеволод с вечем, — дал Новгороду из своей руки и духовного пастыря, и князя, дабы пасли непутевое стадо, как ему, а не боярам спесивым угодно. Владимирские веселые дружинники чувствовали себя в городе, как у себя на Понизье…
Верно угадал Митяй: приблизил к себе Звездана владимирский князь, и уж давно порвал молодой дружинник со своими прежними дружками. Помер отец его Одноок, и все, что было у него, все, что через слезы вдовьи да чужую беду нажил он, перешло к сыну. И хоть долго упрямился, не хотел жить в постылом тереме Звездан, но богатство как вода полая. Думал отказать дружинник вотчину свою князю — осерчал Всеволод:
— В своем ли уме ты, Звездан? Да где это видано, чтобы князю землю дарили!.. Возьму я вотчину твою и спрашивать не стану, но не из любви к тебе, а прогневавшись. Не доводи меня до греха, Звездан, — единожды простил я тебе твои глупые речи, в другой раз не прощу. Ступай, коли так, с моего двора и запомни; пути тебе обратно нет… Такие ли хощешь слышать речи?!
— Прости меня, княже, — сказал Звездан и вернулся на отцовскую усадьбу. Но все ж таки в старом Однооковом терему жить не стал — развалил его и срубил новый.
Пути господни неисповедимы: кто знает, кто ведает, что заставило молодого дружинника признать Митяя? Ведь мог растоптать он его, мог проехать мимо, а вот остановился же, первым окликнул. Не грустил ли Звездан по прежней своей привольной жизни? Княжеская служба — не день-деньской праздник, а ежели и пиры, то и они Звездану не в радость, это не с друзьями меды пить, где за чарою льется умная беседа. На княжеском пиру все та же работа: не лясы точить собираются бояре — подсиживают сосед соседа, кум кума, брат брата, отец сына и сын отца. А всё к одному — мечтают не делами своими, а льстивыми словесами возвыситься возле Всеволодова стольца… С грустью глядел Звездан, как покрываются пылью его любимые книги, и в одном только находил для себя оправдание: пусть хоть и малою толикой, а служит он великому делу, не князю, а земле Русской…
Нет, не притворно обрадовался он Митяю и вез его с собою на Ярославово дворище не для того, чтобы выхвалиться: вот, мол, погляди, каков я. Хотя, что греха таить, любил он и похвастаться, любил и покрасоваться — это уж само собой выходило, но в душе-то был Звездан таким же, как и прежде…
— Ну, смерд, — сказал дружинник, когда подъехали к высокому частоколу, окружавшему Ярославово дворище, — бери свою кобылку, да не серчай: не пешим же было гнать мне в гости своего давнишнего приятеля, а ты отдышишься.
— Спасибо тебе на добром слове, боярин, — поклонился ему обрадованный смерд. — А я уж про себя подумал, что не вернешь ты мне мою скотинку…
Сколь раз, случалось, проходил Митяй мимо княжеского терема, а во дворе ни разу побывать не доводилось. Видел он, как съезжались сюда бояре, однажды лицезрел самого владыку…
Через просторные ворота вошли во двор, выстланный, как полы в горнице, чисто струганными досками, поднялись на просторное гульбище.
Пройдя по гульбищу, они оказались по другую сторону терема, и здесь тоже был двор, но поменьше первого.
Во дворе кучками стояли дружинники, а посередине молодой безусый гридень в просторной белой рубахе играл в рюхи с пожилым степенным боярином.
Как то раз в то время, когда Звездан с Митяем спускались с крыльца, украшенного резными балясинами, гридень удачно попал битой в «город», и деревянные столбики рассыпались под ударом у противоположной стены двора.
— Моя взяла! — закричал гридень и заплясал вокруг смущенного боярина. — Ты нынче, Лазарь, и с полукона ни разу не попал, а ежели на стрелы нам тягаться, то и вовсе примешь сраму.
— Рюхи — забава не княжеская, — покашливая в руку, отвечал негромким баском боярин, — а вот что до стрел, то тут и я с тобою. Хоть и слеповат уж стал, но рука еще тверда — помнишь ли, как учил я тебя держать лук?
— Так то когда было! — подбоченился гридень.
Склонившись к уху Митяя, Звездан сказал:
— Князь это новгородский, Всеволодов сын Святослав…
Святослав заметил их и звонким мальчишеским голосом позвал:
<текст утрачен>
Взгляд его задержался на Митяе, и Лазарь был тут же забыт. Святослав подошел к ним; гордо вздернув подбородок, спросил:
— А это кто? Как попал на княж двор?
— Митяй, княже, давний знакомец мой. Тож володимирский, — сказал Звездан, подталкивая перед собою спутника. — Чего оробел? Кланяйся князю, Митяй.
Митяй опустился на колени:
— Прости, княже, не признал я тебя.
Святославу покорность его понравилась, лицо князя порозовело. Знаки внимания, которые оказывали ему всюду, еще и до сих пор волновали и доставляли радость.
Он широко улыбнулся, но, оглянувшись на Лазаря, тут же одернул себя и, памятуя наставления строгого пестуна, сдержанно проговорил:
— Встань с колен-то. На сей раз прощаю тебя, а впредь гляди, это на торгу всяк толчется, где вздумает…
И тут же снова, забыв о чине, заблестел живыми глазами:
— Слышь-ко, а ты из лука стрелы метал?
— Метать-то метал, — признался Митяй, — да с тобою разве потягаться?
— Тебе-то отколь знать?
— Людишки сказывают, — соврал, стараясь подольстить князю, Митяй.
Святослав, улыбаясь, благосклонно кивнул ему и хотел еще о чем-то спросить, но тут приблизился Лазарь.
— Гость к тебе, княже, — сказал он, — с неотложным делом.
Святослав поморщился и в сопровождении боярина быстро удалился в терем.
Звездан изменился в лице, шепнул Митяю: «Ступай покуда» — и тоже зашагал вслед за Святославом…
Вечером, обеспокоенный пуще прежнего, он вдруг появился на купецком подворье.
— Скоро ли отправляется ваша лодия? — спросил Звездан у Негубки.
— Через день тронемся.
— Хотел и я с вами, — сказал Звездан, — да боюсь: реками и волоками долго вы протянетесь. Мне же, сдается, гнать во весь дух… Во Владимире встретимся.
Для таких слов у него были свои причины: только что выведал он, что не простой гость пожаловал ко князю и Лазарю, а сам Михаил Степанович. О чем говорили они, затворившись в палатах, дружинник не знал, но догадки строил верные.
4
Не в первый раз тайно встречался Лазарь с прежним посадником. А как занеможил да слег Мирошка Нездинич, и дня не проходило, чтобы они не виделись.
Думал про себя боярин, что он умнее всех, а сам угодил в расставленные Михаилом Степановичем сети. Жадность его сгубила.
Началось это еще весною, когда Мирошка здоров был. Как-то в Зверинце на охоте отбился Лазарь от своих — плутал, плутал по лесу и выехал на чужих. И, как понял он после, не случайно выехал, ждали его с самого утра.
Хотел возмутиться боярин, что охотятся чужаки в княжеских заповедных местах, хотел призвать к ответу, но вдруг признал среди непрошеных гостей Михаила Степановича. Не зван был бывший посадник на охоту — почто бы ему в Зверинце оказаться?
— Боярину наш поклон, — осклабился Михаил Степанович и наехал своим гнедым на его коня.
Те, что были с ним, остались на полянке под веселым весенним солнышком, а Лазаря Михаил Степанович увлек за собою в чащу.
— Беседовать с тобою хощу, боярин, — сказал он, — а случая все не представится: то со Святославом ты, то у владыки, то на думе. Вот и сыскал в лесу, здесь нам никто не помешает.
Не понравился Лазарю зачин, и улыбка Михаила Степановича ему не понравилась, но про то он не сказал, а приготовился слушать. Любопытно ему было, что скажет бывший посадник, коего не то что на Боярском совете, но в Новгороде-то последнее время не видать было.
А сказал ему Михаил Степанович вот что:
— Не слепой ты, боярин. Слепой был бы, не послал бы тебя Всеволод при сыне своем в наш город. И на думе слово твое слушают со вниманием, и владыка не примет решения, не посоветовавшись с тобой. Все так. И все же главного ты не видишь… Давно уже не в чести у новгородцев Мирошка, давно уж ропщут на не го: сам хвор, а сын его Димитрий с резоимцами спутался, гуляет, как последний людин, купцов обижает, а на купцах испокон веков держался и богател Великий Новгород. Нет веры Мирошке, а коли ты за него, то и тебе веры нет, и боярам владимирским, и Святославу, и самому Всеволоду. Смута грядет, а со смутою новая усобица… Ее ли жаждешь ты, боярин?
— Ты смутой меня не пужай, — повысил голос свой Лазарь. — Тех, кто смуту чинит, нам хватать велено да везти ко Всеволоду в оковах. Не тебя ли заковать, не тебя ли звать к ответу?
— Не спеши, боярин, — сказал Михаил Степанович. — меня заковать ты еще успеешь, но прежде до конца выслушай.
— Что ж, говори, я жду.
— Скажи по совести, Лазарь: тот ли Мирошка посадник, коего видеть бы ты хотел? Молчишь. Знамо, остерегаешься ты меня, думаешь: обиду на Мирошку затаил, вот и старается, а как сядет сам, да как начнет мутить вече, да как будет сбивать Боярский совет и вести его против Всеволода, так и не кому-нибудь, а мне ответ держать… Вот что ты думаешь, боярин.
— Но вот слово мое перед господом богом, — и Михаил Степанович истово перекрестился, — ложно сие. Одного только желаю я и за то возношу молитвы свои бессонными ночами: убереги город мой от Всеволодова гнева, нам под его десницей роптать нечего, лишь бы жить, как прежде, в мире и согласии и торговать привольно на все четыре стороны!.. Помрет скоро Мирошка — поставь меня посадником, боярин.
Рассмеялся Лазарь:
— С конца бы тебе начинать, Михаил Степанович. И так уж давно догадался я, к чему ты клонишь.
— А коли догадался, так подумай, — подхватил Михаил Степанович. — Нынче же ответа я от тебя не жду. А благодарение от меня будет щедрое…
Не ветром в уши надуло: с одной стороны вошло, с другой вышло. Знал, с кем говорит, бывший посадник. Следили за всеми в городе Лазаревы людишки, но и сам Лазарь не остался без присмотру. Донесли Михаилу Степановичу, что падок боярин на дары, приношением не побрезгует.
В тот же день обнаружил у себя Лазарь на столе деревянную шкатулочку, кипарисовую, а в шкатулочке той невиданной красоты перстень. И когда через нес колько дней увидел Михаил Степанович перстень тот на боярском пальце, возликовал и стал напористее.
Дальше — больше. Настал день, и замолвил за него Лазарь слово перед владыкой Митрофаном: не зрю-де я что-то на Боярском совете в хоромах твоих Михаила Степановича — достойный он муж и князев верный слуга. Прижал он владыку — допустили бывшего посадника на думу.
Не спешил Михаил Степанович, на первых порах вел себя скромно, больше отмалчивался, чем говорил, во всем соглашался с Лазарем и Митрофаном.
Потом стал он все чаще возле малого князя появляться, угождал ему, ни в чем не перечил, к себе в терем зазывал, лучшие ромейские вина ставил на обильные столы, гусляров собирал со всего Новгорода, сам песни играл.
А у боярина Лазаря — всё обнова: то наручи, шитые жемчугами, то мечь в золоченых ножнах, то пояс с каменьями, то дорогое седло…
Теперь весь, от пяток и до макушки, был боярин в руках у Михаила Степановича. Теперь бывший посадник говорил с ним по-другому:
— Сколь ждать мне, боярин?
— Потерпи, — упрашивал его Лазарь.
— Да что терпеть, натерпелись, чай, — сердился Михаил Степанович. — Один вид Мирошкин воротит меня с души. Аль мало я тебе всего передавал, аль цена не та?..
Мог ли кто раньше так разговаривать с Лазарем? Никто не мог. Боялись его, тот же Михаил Степанович слова попросту сказать не решался, а все с поклонами, с поклонами… Нынче же сидел на лавке развалясь.
Кликнуть бы челядинов, гнать его со двора пинками, да в глушь, в глушь — в чудскую землю, к Дышучему морю.
Ан нет! Не мог наказать его степенный боярин — сам опасался, как бы слова случайного не обронил Михаил Степанович. За слово за это, за единое, не сносить Лазарю головы — оборотней Всеволод карает жестоко и скоро.
Не знал Звездан, а только догадывался, что неспроста пожаловал к боярину бывший посадник в столь неурочный час.
А приехал он с вестью неожиданной:
— Помер Мирошка Нездинич. Только был у него лечец, только сошел с крыльца, а он и помер.
У Михаила Степановича не по известию скорбному — улыбка от уха до уха.
Побледнел, отшатнулся от него Лазарь:
— Свят-свят, прими душу его, господи. А ты чему радуешься, человек?
— Не чуди, боярин, посадника все равно не воскресить. А слово свое держать надо. Не то беда: полетела молва из конца в конец, завтра пойдет народ ко святой Софии…
5
Когда оставил Звездан Митяя и последовал за Святославом, то про Мирошку он и впрямь ничего не слыхивал.
Про Мирошку услышал Звездан чуть позже и сразу вспомнил, какое веселое лицо было у Михаила Степановича.
Теперь все сходилось к одному и высвечивалось по-новому. Теперь и осторожность Лазаря была ему понятна, и у странной дружбы его с Михаилом Степановичем обнажались потаенные корни.
Взволнованный своим открытием, ехал Звездан к владыке. Но Митрофан выслушал его со спокойной улыбкой и ничем не выразил своего удивления.
Принимал он Звездана не в большой палате и не в парадном облачении, сидели они в маленькой келье с зарешеченным стеклянным окном, Митрофан одет был просто и говорил просто, тихим, обыденным голосом.
— Давно приглядывался я к тебе, Звездан, — сказал он дружиннику, вручая ему грамоту со своею серебряной печатью, — и неспроста тебя, а не кого другого посылаю к Всеволоду. А про то, что ты мне сказывал, все в грамоте прописано.
Удивился Звездан:
— Да как же так?
— Что ж, думал ты, у тебя одного глаза и уши? — засмеялся Митрофан.
Возвращаясь из детинца в сумерках, увидел Звездан, как преобразился за короткое время Новгород. Несмотря на поздний час, народу на Великом мосту было видимо-невидимо. Люди толкались в беспорядке, криками подбадривая друг друга.
— Будя, хватит оглядываться на Понизье, — слы шались возбужденные голоса. — Отвластвовал Мирошка — нынче наше время пришло.
Иные были еще решительнее.
— Пойдемте, братья, бить володимерских, — подбивали они народ.
На Звездана оглядывались с опаской и ненавистью — многие знали его, не раз встречали с дружиной на улицах Новгорода: от таких вот Всеволодовых прихвостней все беды и пошли, от таких и терпят они, но всякому терпению приходит конец.
«Быстро, быстро воспрянули Михайловы людишки, — подумал Звездан. — Не терял он времени понапрасну. Что-то надумали они с Лазарем, как повернут завтра вече?»
Но хотя и задавал он себе такой вопрос, а ответ уже знал: завтра выкрикнут Михаила Степановича, завтра и владыке с ними не совладать. Так неужто нет в Новгороде здравых умов, неужто не смекают думцы, что нету отныне такой стороны, откуда могли бы они ждать себе помощи, — никто не подвигнется на безумие, пробовали уж, и не раз, да все оказались Всеволодом биты, почто рисковать понапрасну?
И все-таки не так глуп Михаил Степанович, чтобы не было у него своей задумки. Есть задумка, прячет он ее до поры до времени, а в урочный час выложит.
Извел себя догадками Звездан и вот что решил: не станет новый посадник покуда ломать навязанный Всеволодом обычай: не тронет он ни Святослава, ни верных владимирскому князю думцев. Дождется, пока изберут его, и поклонится Владимиру: как ходили-де, так и будем ходить в вашей воле. А порядки свои устанавливать станет помаленьку да исподволь — при малом Святославе и при верном Лазаре делать это будет ему не трудно.
Опасный человек — Михаил Степанович. Опасный и хитроумный. И ухо держать с ним следует востро: выскользнет, как уж, и следа не оставит. А ежели дать ему полную волю, то и вовсе не ухватить: не заметишь, как повернет на старое. А то бы чего ради потворствовали ему золотые пояса? Чего ради набивали бы ему мошну прижимистые купцы? Вестимо же, не свое волок он в подарок Лазарю, не своего коня и не свои перстеньки подносил ему за услугу — все, кому мерещится прежняя вольница, сгребали дары в единую кучу.
Нет, веры нет у Звездана Михаилу Степановичу, и о том скажет он Всеволоду при встрече. И о Лазаре все скажет — не клевету и не пустую хулу — правду выскажет князю.
Чего не хватало боярину, на что позарился? Аль в своих табунах не сыскал бы он доброго коня? Аль в своих бретьяницах мало золота? Аль меды в Новгороде слаще владимирских?
Его ли не баловал князь, его ли не одаривал? Кому, как не ему, завещал он сына своего?
Темна и непонятна была Звездану боярская порода. Уж на отца своего Одноока нагляделся, надеялся — другие лучше. За бояр перед Всеволодом слово молвил, да не он, а князь оказался прав.
А вокруг дружинника бушевала возбужденная крикунами толпа. Кто-то схватил коня его за уздцы, чье-то красное от натуги лицо вынырнуло у самых его ног.
— Бей!..
— В Волхов его!..
— В омут!..
Повело коня в сторону, прижало к перилам. Внизу, во тьме, вода мутная, черная.
Над головами, над колышущейся толпой пробивались к Звездану всадники.
— Стой!
— Чего глядишь? Тащи с седла!..
— Назад! — осадил вцепившихся в Звездана мужиков властный окрик.
Совсем рядом всадники — на головах шеломы, под корзнами жестко топорщатся кольчуги, в сумеречном свете поблескивают наконечники копий, мечи обнажены, готовы обрушиться на мокрые от пота спины.
Впереди всех — Святослав, чуть поодаль — боярин Лазарь, с ним рядом — Михаил Степанович.
Толпа раздвинулась. В горячем воздухе прошелестело уважительно:
— Посадник…
Михаил Степанович поднял руку:
— Почто самосуд творите? Почто бьете князева дружинника?
Толпа зашевелилась. Недоуменный голос донесся из задних рядов:
— Дык помер Мирошка-то…
— Помер, — кивнул Михаил Степанович. — Да что с того? Аль тризну справляете, невинного человека в Волхов сбросить надумали?
Послышался тот же недоуменный голос:
— Дык володимерский он, с Понизья…
— Вон князь наш Святослав — тоже с Понизья. И его в Волхов, что ль?
Мягчели озлобленные лица, кой-где послышались смешки. Верно угадал настроение толпы Михаил Степанович, хорошо знал он своих новгородцев.
— У меня дед из Понизья — так и меня в омут? — кричал он с веселой улыбкой.
— Не, — загоготали со всех сторон, — тебя кидать не станем.
— Ты наш.
— Надёжа наша…
— Почто кидать тебя, Михаил Степанович? В посадники тебя хотим.
— Не откажи…
— Уважь народ…
Вона как повернул Михаил Степанович: беда готова была стрястись, а теперь все ликуют, Звездану и князю кланяются, просят простить, согласны не только дружинников — коней на себе нести до самого Ярославова дворища…
Опасный человек — Михаил Степанович. Опасный и умный. Все знает он, все понял. Ясное дело, донесли ему, что был Звездан у владыки. И в толпе на мосту старались Михайловы подстрекатели. И сам Михаил Степанович с князем и с Лазарем в нужное время появился неспроста.
Вона как глядит он на Звездана, и ухмылка трогает уголки его властных губ.
Нелегко будет уйти дружиннику из Новгорода, нелегко будет замести свой след…
Глава седьмая
1
Неустойчивое было в том году зазимье. То снег пойдет, то ударит морозец, то снова выглянет солнышко и подуют теплые ветры, то опять обожжет холодок.
Но хмурый день становится все короче, и рассветы встречались с сумерками — в избах рано зажигали лучины, в хоромах побогаче палили вощаные свечи.
Еще на хмурень, когда стали припадать из ясени холодные дождички, привезли хворую княгиню Марию из терема ее за Шедакшей во Владимир. Везли бережно, укутав в лисьи меха, обложив пуховыми перинами; в ложницу вносили на руках, поили с дороги горячими отварами: дворовые девки, сменяя друг друга, неотступно сиживали возле нее, предупреждали любое желание; старухи наведывались сказки ей сказывать.
Теперь, в ненастных сумерках, Всеволод навещал ее часто, вел с нею долгие беседы. О молодости вспоминал, о днях, проведенных вместе. Много их, дней-то, за жизнь набежало — было чему порадоваться, а над чем и погрустить.
Приход его был Марии всегда желанен: в последние годы виделись они редко, все больше с думцами да с книжниками коротал вечера свои князь.
— Намаялся ты со мною, Всеволодушка, — говорила княгиня, и голос ее дрожал, — извела я тебя своими хворями. Да и за детками некому приглядеть…
— О чем печалишься ты? — удивился Всеволод. — Уж и молодшенького, Ивана, отдал я пестуну. Святослав княжит в Новгороде, Ярослав на юге, скоро и Константина с Юрием буду определять…
Всполошилась Мария, приподнялась на подушках:
— Это как же Ивана забрал ты у мамки?
— А вот так и забрал. Припомни-ко, не в его ли годы отдал я и Владимира. Да и Константина, хоть и был он первым из сынов, мы с тобою не баловали.
Хорошо говорил Всеволод, о привычном и ласково.
— А помнишь, — тихо вторила ему она, — а помнишь, как родилась у нас Собислава и как Ольга приезжала из Галича на крестины?
— Как же не помнить, помню…
Не по-доброму он тогда обошелся с сестрой, обвинял ее в сговоре с боярами, жалел Осмомысла, грозился, что не признает сына ее Владимира на галичском столе. А вот признал же, и против Романа ему помог, и до конца дней его был верным союзником. Правда, и свою имел он от этой помощи выгоду: тревожа Романа, держал племянник в постоянном напряжении возвышающуюся Волынь. Теперь труднее Всеволоду, и то, что посмел Роман провозгласить себя киевским князем, скинув Рюрика, лишнее тому подтверждение. Покуда справиться с ним удалось, но надолго ли? Ростислав слаб, а иного князя на примете покуда нет…
Далеко увели Всеволода, казалось бы, спокойные воспоминания. Спокойные?..
Познал ли он вообще покой? И было ли ему ведомо то бесхитростное личное счастье, которое доступно даже любому простцу?
Мог ли он быть просто мужем, отцом или братом? И когда говорят о нем с завистью «князь» и когда прибавляют к этому слову еще и «великий», всегда ли счастлив он оттого, что родился князем и что великим стал, пожертвовав слишком многим? Разве в помыслах своих открылся он хоть раз своим ближним? И разве жена, прожив рядом с ним долгие годы, знала его истинные задумки? Или сынам своим открылся бы он, не уронив отцовой чести?
Ведь не только и не столько в открытом бою одерживал он свои многочисленные победы — еще больше побед одержал он обманом и хитростью, когда стравливал друг с другом своих противников, а потом приходил на их земли и говорил: «Это мое…»
Вот и сейчас Мария по-бабьи встревожилась, заметив залегшую между бровей князя морщинку:
— Сказывали мне, прискакал Звездан из Новгорода: уж не занемог ли Святославушка?
— Ништо ему — здоров наш сынок.
— А я дурное подумала…
Дурное, да не то. Всеволод тут же вспомнил, как, прочитав пространную грамоту Митрофана, со тщанием допрашивал глазастого дружинника. Грамота слепа, хоть и много в ней слов и слова на первый взгляд весомы, а всей правды из нее все равно не выведать.
«У Михаила Стапановича, как смирный конь, пошел на поводу боярин твой Лазарь, княже», — смело и без хитростей сказал Звездан.
Помнится, не удержался, взорвался Всеволод:
«Да как смеешь ты порочить пред князем переднего мужа!»
А ведь поверил уже и гневался на себя больше, чем на дружинника: как мог он, могучий и мудрый, читавший мысли по глазам людей, проглядеть столько лет жившего с ним рядом Святославова пестуна?
«Не порочу я Лазаря, — с достоинством отвечал Звездан. — Сам боярин себя опорочил, и о том знаю не я один».
Дни и ночи скакал из Новгорода дружинник, нескольких коней заморил, — и не за наградою. С женою не повидался, воды не испил, сразу с дороги — на княж двор.
Усталый взгляд его пронзал Всеволода немым укором. И остывал под взглядом его князь.
«Ручаешься ли головой за сказанное?» — спросил он уже мягче, но все еще продолжая хмуриться.
«Ручаюсь, княже, — прямо отвечал Звездан. — О том и Митрофан тебе пишет в грамоте, как я смекнул. Нешто и Митрофану не веришь ты?»
«Верю. Но веры одной мало. Не для того ставил я его в Новгород, чтобы грамоты писал да слал ко мне гонцов. Немалая сила в его руках — владыка небось, не простой людин, белым клобуком увенчан. И Боярский совет, ежели что, повернуть в его власти…»
«Когда бы один только совет, — сказал Звездам. — У Михаила Степановича свои людишки повсюду — им тоже рот не заткнешь».
«С людишек много не спросится…»
«Да и с бояр каков спрос?.. Чья спина шире, за ту и спрячутся. Нынче Михаил Степанович много чего им наобещал. И ведь вот как хитер, княже: противу тебя слова дурного не скажет. Мне так прямо говорил — мы-де с Понизьем одною веревочкой связаны. А не поверил я ему».
«Связаны, покуда концы в моих руках, — и Всеволод сжал кулак. — Но ежели Лазарь под его дудку пляшет, недолго осталось ждать».
«Недолго», — согласился Звездан.
Озадачил он князя. От неспокойной думы нет ему отдыха ни ночью, ни днем. И, сидя в покоях у Марии, не мог он избавиться от роящихся в голове мыслей и терзающих душу противоречивых чувств.
Но, не выдавая беспокойства, говорил князь с женою ласково и ровно:
— Вот привезут к тебе из Новгорода лекаря — чудодей он, поставит тебя на ноги, еще поживем на радостях.
— Да что же за лекарь-то такой? — с надеждой ухватилась за сказанное Мария. — Уж и ромеи меня лечили-лечили, и сирийцы, да все не впрок…
— Кощеем его зовут.
— Ой, не половец ли?!
— А кабы и половец, — усмехнулся Всеволод, но тут же успокоил жену. — Наш он, а науку знатно постиг, странствуя по земле: у всех народов есть свои умельцы и знатоки. И коли пытлив ты, коли в голове не ветер, гляди вокруг да запоминай: все на родине пригодится. Таков и Кощей…
— Поди, Звездан тебе про него сказывал? — выпытывала княгиня.
Всеволод кивнул, на этот раз с теплом вспоминая дружинника.
И снова повернули и прежним извилистым руслом потекли неотступные мысли. Мария угадала их, сказала, будто самой себе, совсем тихо:
— Что-то от Верхославы давно нет вестей…
Встрепенулся Всеволод, посмотрел на жену в упор: знать, недаром годы прожили вместе — словно провидит она, думку его читает, как открытую книгу.
Есть из Киева вести, есть. Но и они не радуют Всеволода. Трезвым умом понимает он: Ростислав ненадолго задержится на Горе. Покуда Ратьшич при нем, еще не все потеряно. Еще делает вид молодой князь, будто держится за Киев. Да и Верхослава разжигает в нем честолюбие.
— Разве не сказывал тебе Симон, что получил он от дочери нашей весточку? — притворился удивленным Всеволод. А ведь сам наставлял игумена не тревожить княгиню. Боялся, что лишнего наговорит Симон. Ждал удобного случая.
— Симон нынче был у меня, — сказала Мария, — только и словечком о Верхославе не обмолвился.
— Должно, запамятовал, — кивнул Всеволод. — да и писано-то было к нему. О Поликарпе, печерском игумене, давнишний у них спор: обуяла, вишь ли, старца гордыня…
— Про то я знаю, — нетерпеливо оборвала Мария мужа, — и радуюсь, что сердобольна Верхослава, что печется о Поликарпе и от Симона тайн у нее нет.
— Не серчай на игумена, — уловив в голосе жены обиду, прикрыл Всеволод ее руку своей тяжелой ладонью. — Здорова наша дочь, и внучка, слава богу, растет нам на радость, и Ростислав правит на Горе твердой рукой.
— Вот и ладно, — слабо кивнула Мария и устало прикрыла глаза.
Нет, не солгал он ей. Лишь о том умолчал, что было в письме от дочери между строк. Лишь о том не сказал, что поняли они с Симоном: тревожится Верхослава за мужа, боится потерять его, страшится, что сломится он под непосильною ношей, да и отец, сидя в монастыре, подтачивает и без того малые силы молодого князя — привык Ростислав к отцу, сыновним сердцем к нему тянется, а у Рюрика мысли не чисты, смирение его обманчиво…
«Смирен, смирен, да не суй перста в рот. Помяни меня, княже, — сказал игумен, — по нраву его не век ходить Рюрику в чернецах — скинет он свою рясу и еще немало принесет нам забот».
«Вона ты каков!» — с уважением подумал Всеволод о Симоне. И так ему ответил:
«Нами задумано, так и передумывать нам. Что до срока тревожиться?»
Понял игумен князя: не сильной руки искал Всеволод в Киеве. Вот почему боялся за Ростислава — как бы на смену ему не объявился другой кто, потвёрже да порешительнее, а Рюрик памятью своей навечно обречен: сажал и свергал его в Киеве Всеволод, помогал против Романа, сына обласкал…
Покидая Марию, князь уж не смотрел на нее — мысли его были далеко: в малой палате, как обычно, Всеволода с нетерпением ждали бояре.
2
Пристенная изразцовая печь была истоплена жарко: думцы тяжело отдувались, потели и рукавами опашней вытирали мокрые лица.
Седобородый и прямой Всеволод сидел на стольце, слушал внимательно. Бояре говорили вразнобой.
Фома Лазкович вскидывал кудлатую голову, был решительнее всех.
— Не медли, княже, — говорил он, — хоть и опечалила тебя весть о неверности Лазаря, хоть и пестовал он сына твоего и был ему за отца, когда отправлялся ты в поход, и за мать, когда хвора была Мария, но и тогда еще — вспомни-ко, — не возмущал ли он нас жадностью своей и стяжательством?.. Все мы грешны, о ту пору не думали, что и на худшее способен Лазарь, — нынче же, когда блеск нечистых даров ослепил ему очи и супротив тебя поднял он руку, будем ли, как и прежде, великодушно и со спокойствием взирать на творимое им бесчинство? Не предаст ли он Святослава в руки врагов твоих, не взрастит ли и в нем брошенные нечистою рукою пагубные семена?
— Как можешь верить ты Михаилу Степановичу, княже? — кривил рот свой Дорожай. Был он осторожнее Фомы, уловил в речах Всеволода сомнения и Ла заря оставил в покое. — Может, что и почудилось Митрофану, может, что и не так, но Мирошка весь был в твоей воле, а новый посадник строптив и своеволен, и клятвам его веры у меня нет. Укрепи дружину в Новгороде, княже!
Яков горячо возражал ему:
— Дурную траву на поле рвут с корнем, боярин. Плохой совет даешь ты князю. Дружина и так у нас в Новгороде сильна, а ежели подымет Михаил Степанович супротив нас свое воинство да простцов, да еще у кого попросит подмоги, какая дружина устоит?
— Чего же хочешь ты, Яков? — оборвал его Всеволод. — Говори яснее.
— Да и так уж все яснее ясного, — сказал Яков. — А речь свою веду я к тому, княже, что не в Михаиле Степановиче зло и не в Новгороде — он и до сей поры не из вражды только к Низу противился нам и других князей выгонял и ставил по своему хотению — зло в ином: слаба и не верна тебе стала рука твоя в Новгородской земле.
— А что есть рука моя? — прищурился Всеволод.
— Боярин Лазарь — вот и весь мой сказ, — смело отвечал Яков. — Прав Лазкович, и я с ним!
Князь улыбнулся и промолчал. Бояре смотрели на него испытующе.
— А ты что скажешь, Михаил Борисович? — спросил Всеволод сидевшего до сих пор молча старейшего своего боярина.
— Думаю, княже, — уклончиво пробормотал Михаил Борисович.
— Скажи ты, Гюря, — обратился князь к тиуну.
Тиун вздрогнул, скуластые щеки его порозовели.
— Решенье твое мне неведомо, — начал он осторожно и издалека, — и не нас ты нынче пытаешь, а по нашим словам сверяешь свою задумку…
— Верно смекнул, — усмехнулся Всеволод. — Задумка у меня есть, да вот не уверен я: а что, как проглядел? Что, как не додумал чего? Ты на меня не гляди, ты свое сказывай, а мое слово последнее.
Поежился Гюря под его взглядом, вздохнул глубоко, будто в реку нырнуть вознамерился.
— Оставь Лазаря в Новгороде, княже, — выдохнул он, как вынырнул.
Бояре задвигались, послышались возмущенные голоса:
— В своем ли уме ты, Гюря?
— Не слушай его, княже!..
Всеволод нетерпеливо ударил ладонью по подлокотнику кресла. Все замолчали.
— Дале говори, боярин, — подался князь к тиуну.
Еще больше смутился Гюря: или и впрямь не то сказал? Что это всполошились думцы?
— Дале, дале, — поощрял его Всеволод, и глаза его светились веселым беском.
Снова набрал в легкие воздуху Гюря, и снова нырнул, и снова выдохнул с облегчением:
— Ежели прав был Митрофан и Звездан прав, то смекаю я: верит Лазарю Михаил Степанович.
— Так, — кивнул Всеволод.
— А ежели верит, почто убирать нам его из Новгорода? — все смелее глядя на князя, продолжал Гюря. — Пущай там и сидит, где посажен.
— Эко ты! В потемках блуждаешь, боярин! — возбужденно замахал руками Яков. — Да как сидеть ему в Новгороде, коли новый посадник, а твой враг, княже, ему заместо брата?!
— Ты помолчи, Яков, — мягко оборвал его князь и повернулся к растерявшемуся тиуну. — Говори, не боись, Гюря.
— Да всё, почитай, и сказано, а дале додумать легче легкого. Вот как смекаю я, бояре: надобно, не мешкая, слать нам в Новгород своего человека — Словишу, али Звездана, али обоих вместе. Явятся они к Лазарю и обличат его от имени князя. И тако скажут ему: про дружбу твою с Михаилом Степановичем нам все ведомо, Всеволод гневается, но, помня прежнюю твою верную службу, хощет видеть тебя снова рядом с собой.
— Так и покается твой Лазарь! — снова не удержался Яков.
— Покается, — спокойно возразил Гюря. — Еще как покается. Нынче он у Михаила Степановича в крепких сетях — рад бы вспять повернуть, да не может. А как поймет, что прощает его князь, то и расправится.
— Так-то каждого мздоимца прощать — только баловать, — недовольно проворчал Фома Лазкович.
— А вот и не каждого! — сказал Гюря. — Тут Дорожай дружину крепить звал, а Лазарь не одной дружины стоит — через него узнаем мы про все замыслы Михаила Степановича. Но открываться ему посаднику не след, и наши людишки должны держаться подле него, будто им ничего про измену неведомо…
Тут только дошло до бояр хитрое слово тиуна. Ай да Гюря: не зря, знать, родила его половецкая мамка!
— Ну что, бояре, — повеселевшим голосом проговорил Всеволод, обращаясь к думцам, — али еще у кого залежался мудрый совет?
— Мудрее, чем тиун сказал, не скажешь, — будто от сна пробудился уклончивый Михаил Борисович. — Тако же и я мыслил, да вымолвить тебе, княже, поостерегся…
— Ты уж больно оглядчивый стал, — упрекнул его Всеволод, — все больше задним умом крепок. Что пользы в твоем совете, коли держишь его про запас?
Устыдился Михаил Борисович, ловя на себе усмешливые взгляды остальных бояр.
Скаля белоснежные зубы, подшутил над ним Яков:
— Не смущайся, боярин: осторожного коня и зверь не вредит!
Всеволод, насупив брови, скосился в его сторону. Яков сразу унял себя, но смех еще долго держался в его глазах.
— Ступайте, бояре, — сказал князь, — а ты, Гюря, останься.
Утомленные беседой, распарившиеся в тепле, думцы удалились, постукивая посохами. Не терпелось им поскорее хлебнуть свежего воздуха, добраться до своих постелей.
А Всеволод еще долго будет сидеть с тиуном, потом отпустит и его, останется один и лишь далеко за полночь пройдет в нетопленую ложницу, где все напоминало ему о Марии, сядет к столу, устало уронит голову на руки и забудется нежеланным и тяжелым сном.
3
Строгая была в тот год зима. По всем приметам, после обильных летних дождей и больших хлебов, такою ее и ждали.
Снег выпадал щедро, морозом быстро подобрало осеннюю сырость, реки сковало крепким льдом, и пролегли во все концы ослепительно блестящие под солнцем молодые санные пути…
В один из таких холодных и светлых дней первозимья подъезжал к Владимиру возвращавшийся из Ростова Великого Всеволодов сын Константин с дружиною и епископом Иоанном.
Обычно молчаливый и угрюмый, на сей раз епископ был словоохотлив и весел.
— Разные люди окружают отца твоего, — говорил Иоанн. — Иной буен и неосторожен, но сердцем прям и верен князю. Иной, помня времена былые, прикидывается, будто он со Всеволодом. А иного сам князь избрал среди прочих и возвысил за кроткий нрав его и рассудительность, а тот возьми да и возгордись. О Луке, давешнем епископе ростовском, мой сказ. Был он безвестен и по безвестности своей неприметен. Леон-то, что до него сидел, тот весь отдался боярам: злобствовал и, как мог, чинил препятствия отцу твоему. Много крови попортил он князю, умер. Тут-то самое хитрое и началось. Тогда никому не ведомо было, что уж выбрал Луку воспреемником своим Леон. Шибко боялись ростовские бояре, что сыщет князь своего человека — тогда вольнице их полный конец. А они еще цеплялись, еще надеялись — вот и поступили по завещанию Леонову: слушок пустили, будто живёт-поживает тихий игумен, приверженный Всеволодовым делам, а князь про то и не знает, не ведает. Со тщанием все сплели, узелки спрятали. Наслушавшись разговоров, отец твой и призвал к себе Луку. Зоркий глаз у князя, да и слишком тихих людей он не жаловал, не понравился ему Лука. Ладно… Долго пребывал Всеволод в раздумье: как быть? А тут ростовские зашумели по сговору: у нас-де свой есть, зачем нам Лука, изберем своего по нраву. Стали Луку поносить, кричать, собирать народ на вече. Тогда-то Всеволод и решись: не угоден вам Лука, так вот же — берите епископа из моих рук, а не по своему хотению, и поставил Луку в Ростов, даже минуя митрополита…
— Знаю, наслышан и я про Луку, — отвечал Константин, но все-таки любопытствовал. — Кротким он и в летописании прослыл, как же это?
— А вот так. Слушок-то, что в народе пущен был, крепко в головы засел, да и на людях Лука умел держаться: сирых жалел, помогал убогим. Не стал Всеволод опровергать молвы — сам ставил Луку, почто себя унижать? И рассудил мудро: недолго пожил старик, скоро богу душу отдал… Отпевали его с почестями, отец твой даже слезу уронил принародно. Вот так… А ведь до чего доходил Лука в своем озлоблении, про то в летописании нет ни слова. Не на твоей памяти это было, а я скажу. Тебе знать надо — ты Всеволодовых дел прямой продолжатель.
Приятны были эти слова Константину, про себя ликовал он, на епископа глядел с благодарностью.
Иоанн понимал его чувства, понимал и другое: настала пора говорить с Константином не как с дитем, а как с мужем. Не всё ему сказки да былины про богатырей, не всё ему пиры да подвиги ратные — одним благородством и мечом земли необъятной, собранной Всеволодом, не удержать. А князь уже не молод, и в любой из дней может случиться: призовет его к себе господь и положат его рядом с братом Михалкой в Богородичной церкви.
— Еще когда отец твои молод был, — рассказывал, покачиваясь в санях, Иоанн, — еще когда за владимирский стол боролся, Глеб рязанский держал противную сторону, с ростовскими боярами снюхался и хотел поделить нашу землю между Всеволодовыми сыновцами Ярополком и Мстиславом. В деле этом он не преуспел, хоть и приводил с собою половцев, и кончил дни свои в порубе. Другим наука. Однако же после смерти Глеба старшие сыновья его не токмо враждовали с младшими, но и причиняли ущерб дружине отца твоего, который хотел их помирить. Тогда осерчал Всеволод и решил примерно наказать Глебовичей. Верной была его задумка. Но тут явился во Владимир черниговский епископ Порфирий, ибо Рязань принадлежала его епархии, тайно связался с Лукой, дары привез ему многие, и Лука вошел с ним в сговор, стал просить Всеволода за Глебовичей. Поверил им князь, отпустил с Порфирием пленников — думал, в мире будут жить с ним рязанские князья, да не тут-то было. Лука знал про замыслы Порфирия, но смолчал, а рязанцы снова стали бесчинствовать… Вот он, лик-то смиренный: под овечьей шкурой прятался злобный зверь. Многой крови стоил потом рязанцам и Всеволоду гнусный обман Луки…
Летели под полозья саней снежные версты, курчавилась позади взвихренная конями поземка.
За Суздалем раскрылись знакомые просторы. Еще недолго — и блеснут посеребренные инеем шеломы боголюбовских церквей, а пока, оставив сани, Константин пересел на скакуна и ехал рядом, с удовольствием подставляя лицо холодному встречному ветру.
День ото дня по-новому раскрывалась перед ним жизнь. А ведь еще совсем недавно все было для него просто, и рассказы пестуна были просты и внятны, и книги, читанные им, вещали со своих украшенных вязью страниц простые и очевидные истины. Были друзья и были враги. Были князья и были бояре. Были холопы и смерды, христиане и поганые. А еще был меч, который, как внушали княжичу, решал все споры, потому что правому помогал бог, а неправого он карал.
Вспоминал Константин как брал его с собою отец на половцев, как подгоняли на него кузнецы новенькие доспехи, как снаряжали на конюшне боевого коня, как плакала украдкой мать и Всеволод мягко журил ее, потому что настала пора приучать сына к нелегкому ратному делу — не век же держаться ему за бабин подол.
Помнил Константин, как, исполненный гордости, ехал он подле отца во главе большого войска.
Шли по левому берегу Дона, располагались на ночлег, окружали стан свой возами, в степь высылали дозорных. Малыми силами прощупывали, далеко ли половцы. Но половцев не было — степняки уползали на юг, боясь опасной для себя встречи.
Звездан говорил Константину:
«Об отце твоем, Костя, далеко разлетелась молва. После смерти Мономаха не было до сей поры князя, который отвадил бы половцев от нашей земли. И виною тому были мы сами. Не иссякло мужество в русском человеке, и храбрые вои у нас не перевелись, и мечи наши не хуже прежних были, а источила нас, как червь источает могучий дуб, усобица: русский бил русского, в соседе видел врага лютого, а чужеземцы брали то, что само шло им в руки. Да что там говорить — сами приводили врагов своих, чтобы справиться брату с братом, сыну с отцом… Много бед претерпели мы, пришла пора сводить счеты. Нынче знают степняки, кто супротив них встал, и сдается мне, пройдем мы до их зимовищ, а не скрестим меча, ей-ей».
Мал был тогда Константин, гордился, что боятся грозные степняки отца его, но жалел: хотелось ему побывать в жаркой сече, покрасоваться на виду у дружины, заслужить у отца скупую похвалу — вот-де сын мой, все видели, как насел он на лихого половецкого наездника, как одним ударом рассек его брони, навзничь поверг и привел в свой стан с веревкой на шее.
Во снах тешил себя Константин: сидит он во Владимире на великом столе, высится на крутом берегу белоснежный терем, Клязьма синеоко поблескивает вни зу, а в сенях, облаченные в причудливые одеяния, толпятся иноземные послы — пришли они с грамотами от своих владетелей из ближних и далеких стран искать его дружбы и покровительства; во дворе холеные кони храпят, седобородые гусляры ждут, когда кликнут их на почестей пир, девицы-красавицы, закинув головы, ищут, не покажется ли в окошке молодой князь, не приветит ли их своей улыбкой. Сладкой далью рисовалось княжичу будущее…
Но разбивали наставники его хрупкие сны. И читал он у прадеда своего Мономаха: «В дому своем не ленитесь, но за всем смотрите; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не насмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим».
«Князева ли это забота, Звездан, — спрашивал он дружинника, — заглядывать у сокалчих в горшки?»
«Князь всей вотчине своей хозяин, — отвечал Звездан. — Ну сам рассуди, Костя, — кому о хозяйстве твоем радеть, как не тебе самому?»
«А смерды, а выжлятники, а конюшие на что?»
«Они тебе помощники. И думцы тож. Как скажешь, так и исполнят. Но слово твое должно быть разумно, Костя. Все, что молвят тебе, выслушай, десять раз проверь, а уж проверив, не отступайся. Ежели, вняв одному, а после вняв другому, поступишь и так и этак, проку не жди. Ежели, не знаючи, начнешь поучать смерда: паши тогда-то и сей, что я скажу, набьешь бретьяницы свои не зерном, но насмешками. Ежели думца своего пошлешь к соседу, предлагая мир, а сосед тебя сильнее, что подумает он о тебе?.. Все знать и все объять должен князь, и в трудах жизнь его, а не в праздности».
Странной тогда показалась Константину твердая речь Звездана. Удивился он:
«Так почто ж тогда всяк хощет быть князем?!»
Улыбнулся Звездан, не ответил ему.
Стал Константин приглядываться к своему отцу — и понял: прав был Звездан. Не утехами и не пирами полон был день Всеволода: вставал он до зари, спать ложился затемно, во все дела вникал князь, на думе молча выслушивал бояр, слово свое молвить не спешил. И то, что раньше было для Константина за семыо печатями, нынче открывалось в суровой повседневности…
…Солнце красным шаром скатывалось за заснежен ные холмы. Заалели сугробы, синие тени разрезали глубокие овражки. С полуночи потянуло холодком.
На подъезде к Боголюбову обоз спустился с пологого берега и вытянулся черной лентой на ледяном покрове Нерли…
4
Во Владимир прибыли, когда было уже совсем темно. В иных домах уже спали, в иных готовились ко сну. На княжом дворе стояла тишина. Лишь когда обоз въехал в ворота детинца, то тут, то там стали появляться люди, засуетилась челядь, выскочили отроки, помогая усталым дружинникам спускаться наземь с опостылевших за долгую дорогу седел.
Бросив мимолетный взгляд на терем, Константин увидел два светящиеся оконца, одно из которых было отцово (Всеволод, страдая бессонницей, давно уже бодрствовал по ночам), а второе оконце выходило на двор из ложницы княжича, и он понял, что Агафья не спит и, предупрежденная кем-то, терпеливо ожидает его приезда.
Постучав на всходе валеными сапогами, чтобы стряхнуть налипший на них снег, Константин дернул на себя тугую дверь и шагнул в темноту сеней, из которых потянуло в лицо ему приятными запахами родного жилья.
Как ни уютно было ему в древнем Ростове, как ни стремился он в прежнюю столицу княжества, где не было присущей Владимиру повседневной суеты и где он мог спокойно предаваться чтению и долгим беседам с книжниками, все чаще волнение охватывало его, едва только представлялся случай побывать в доме, который еще совсем недавно был ему ненавистен, а теперь привлекал все больше и больше, и встреча с Агафьей тревожила его загадочно и непонятно.
Константин не стал беспокоить отца в его уединении (наговориться у них хватит времени с утра), споро пересек сени и вошел к жене.
Не обманулся княжич в своих предположениях: Агафья, точно, ждала его и принарядилась к встрече. Была на ней вытканная золотыми и серебряными нитями тонкая шелковая рубаха, на руках сверкали каменьями массивные браслеты, на шее поблескивало красными рубинами любимое Константиново ожерелье. Тело жены благоухало благовониями, глаза горели призывно и ясно, в разрезе полуоткрытых губ белели влажные зубки, и, прильнув к ним истосковавшимся ртом, он почувствовал их приятный и трепетный холодок.
Возбужденное состояние мужа тут же передалось Агафье, и, стараясь удержать вдруг подступившие к глазам слезы, она смотрела на него снизу вверх бабьим преданным взглядом, но страх и робость были в нем, потому что нежданная нежность Константина могла оказаться мимолетной и доброе начало их встречи не впервой обрывалось то резким словом, то колючей усмешкой, от которой ей так часто делалось не по себе.
А Константин, прижимая к себе жену, не мог не видеть ее тревогу и с незнакомым чувством овладевшего им раскаяния вслушивался в ее прерывистое дыхание, смотрел в ее наполненные слезами глаза, искал в себе добрых слов, однако не находил их, потому что годами воспитанная в нем строгими пестунами приличествующая князю сдержанность подсовывала слова привычные и чужие, говоримые почти всеми мужиками в подобных случаях:
— Ну, будя, будя реветь-то. Видишь, жив я и здоров, злые люди не посекли, волки не съели…
— Господи, да как почернел-то, — отстраняясь, чтобы лучше видеть, разглядывала его Агафья. — Иль не кормили, не поили тебя в Ростове?
— Вот он бабий разговор, — отвечал Константин. — Не на пышные хлеба ездил я в Ростов, а по повелению батюшки. Отъедаться дома буду — небось припасла уж сладких пирогов?
— Как же не припасла-то! — обрадовалась Агафья. — Давно ждала тебя, Костенька, а ты припозднился.
— Иоанн неторопок. С его-то обозом едучи, совсем истомился я, да как оставишь епископа на полпути? Ему поспешать некуды. В своей епархии дела у него всюду, в любой деревеньке с попом протолкует весь вечер, утром не добудишься…
— Обстоятелен старец и оттого батюшке твоему по нраву, — согласилась Агафья, все еще держа руки на плечах у Константина. — Слава богу, что и так доехали.
— Да что нам станется! На своей земле мы хозяева, и дружина у нас молодец к молодцу.
Голос Константина теплел. Напряжение сошло с лица Агафьи. Она откинулась от мужа, засуетилась, сунулась к двери, стала звать девок, чтобы, не мешкая, накрывали на стол.
Константин облегченно сел на лавку, скинул сапоги, расстегнул пояс. Приятная истома настраивала мысли его на спокойный лад. Вот и ладно, вот он и дома. И печи истоплены жарко, и ковры, брошенные на пол, ворсисты и мягки, приятно покалывают ступни ног, и вкусно пахнет дышащей паром снедью, и жена глядит не наглядится, старается предупредить любое желание.
А ладная у него Агафья, даже под просторной рубахой угадывается при движении крепкое молодое тело, открытая шея бела, завитки светлых волос на затылке, пронзенные светом расставленных повсюду свечей, отливают золотом.
Не вытерпел княжич, тихо подошел сзади, обнял жену за плечи, прижался к ее спнне.
— Ой, что ты! — выдохнула Агафья, юрко обернулась, затрепетала на его груди…
Остыли на столе жареные куры, потушенные свечи белели в темноте, Константин лежал, разметавшись, дышал неслышно, как ребенок. Приподнявшись на локте, Агафья разглядывала его лицо, осторожно проводила пальчиком по его нахмуренным бровям. Неужто и впрямь заглянуло в ее окно заблудившееся счастье? Да какому же богу ей молиться, кому ставить свечи?!
Утром был Константин еще приветливее прежнего. Раньше таился он Агафьи, а нынче говорил при ней с отцом о своей поездке в Ростов.
Всеволод слушал его с интересом, переспрашивал — давно уже не бывал он в прежней боярской столице, и былая неприязнь к ней с годами притупилась. Однако же частые поездки Константина настораживали его. Жива, жива еще в нем была давнишняя память: изрядно насолили ему ростовские бояре, да и сейчас, поди, не вовсе смирились — недаром, знать, доносили князю, сносятся они с новгородцами, недаром купцы ростовские чаще других хаживают к берегам Волхова. Оно и понятно: с новгородцами торговать — большая честь, да и выгодно — через них лежат пути за богатое Варяжское море, товаров много идет через Новгород, мена разнообразна, но не наведываются ли вместе с купцами туда и боярские послы, не сулят ли своей помощи, ежели пошатнется Низ, ежели у Всеволода ослабеет рука?
Константин уверял отца:
— Старых врагов твоих в Ростове не осталось — Иоанн вымел их без пощады, а те, что притаились, нам не вредны: не соберется вокруг них большая сила — урок-то, тобою, даденный, пошел впрок. Неповадно им будет в другой раз подставлять однажды битую спину.
— Доверчив ты, Костя, еще не научился глядеть в корень. А смысл в любом нашем действе скрыт великий: что подумали в Ростове, когда увидели тебя живущим у них — и не в гостях, а у себя дома?
— Нравятся мне тамошние края…
— Да мало ли кому что нравится! — воскликнул Всеволод. — Не простой ты каменщик, а сын мой. И не просто живешь ты в Ростове, а, сам того не ведая, вселяешь поверженным боярам ненужную надежду: вот-де Всеволод уйдет, а сын его возродит былое.
— Ложь это, отец, — с жаром возразил Константин. — Нешто я делам твоим супротивник?
— Эко куды хватил! — рассмеялся Всеволод. — Да разве ж я тебя в чем виню?
— Дай мне город на Руси — в Ростов я и ни ногою!
— Вот оно, — сказал князь. — Смекнул я: во Владимире ты — просто княжич, а Ростов тебя из-за того манит, что от меня далече, и там ты все равно что удельный князь…
Не стал лицемерить и изворачиваться Константин:
— И верно, мудро ты рассудил, хоть я об этом и не подумал. Привольно мне в Ростове — сам я себе хозяин.
— Покуда сам, сердце мое не тревожится, — предупредил его Всеволод, — а что, как и теперь уж не сам? Что, как и теперь ведут тебя бояре на невидимой узде?
— Не конь я…
— Все мы не кони. И до тебя жили бойкие князья, а после оглянулись туда-сюда да прикинули, и вышло, что руки у них связаны и творят они уже не свою, а чужую волю. Не все тебе по младости ведомо, а то, что и ведомо, то непонятно. Гляди, стреножат, так уж потом от них не спастись. Ты же у меня старший, и так мню я: старшему должна остаться наша земля, а младшие братья будут тебе верными помощниками…
— Сколь обещаешь, батюшка, а и малого удела мне не дал. Вон Ярослав со Святославом, на что мальцы, меча-то в руке удержать не в силах, а туда же: сидят в своих вотчинах, суд вершат скорый и прямый. Я один, по твоему разумению, не созрел?
— Вон и Юрий тоже.
— Юрий сам за себя скажет. Я же об одном молю: дай мне землю, а терем на ней я и сам срублю.
— Али мой терем тебе не по нраву? — улыбнулся Всеволод с хитрецой.
— Твой терем не по мне покуда — зело велик, — угрюмо ответил сын.
— Я его в твои же лета брал, а не устрашился… Не скрою, годы умудряют. Книги подкрепляют опыт, и любовь твоя к ним мне в радость. Но как научишься владеть мечом, ежели в собственной руке не познаешь тяжести разящей стали?
— Так почто же еще и нынче не уступишь мне своего стола? — внезапно побледнев, произнес Константин, и глаза сына встретились с отцовыми.
Лицо Всеволода покрылось красными пятнами. Агафья вскрикнула по-заячьи беспомощно и перекрестилась.
Вот-вот разразится буря, вот-вот случится непоправимое. Под скулами у Всеволода заиграли железные желваки, глаза сузились.
— Дерзок ты, Костя, — сказал он раздельно, тяжело подымаясь с лавки, — дерзок и неразумен. В пору наказать тебя, да как на родную кровь прогневаюсь?
— Прости его, княже, — едва слышно пролепетала Агафья.
— Молчи уж, — повернулся к ней князь. — Вы, бабы, по-своему мудры, но не мне твои советы выслушивать. Образумь мужа своего — тебе он, может, и внемлет: да видано ли это — хоронить отца своего заживо? Слыхано ли?
— Не я, отец, сам ты начал. А сказанное мною — к слову. На стол твой, на коем сидишь ты по праву, не стремлюсь я и в голове такого не держу. Но как учиться мне владеть мечом, коли не вложен он мне в руку?..
— Не всяк меч тот, что в доброй кузне отлит. Умом изощрившись, сослужишь иную службу земле своей вернее и тверже, нежели на бранном поле, — смягчаясь, проговорил Всеволод. — Вот и не даю я тебе покуда удела, дабы возле меня учился ты непростой науке: на думе не вижу тебя, а вижу — так пребываешь в молчании, яко иные из осторожных бояр. Что за душой у тебя, не ведаю. Мыслей твоих не знаю. Вот и веду свою речь к тому, что настала пора и тебе впрягаться в нелегкий мой воз, чтобы дале тянуть его по ухабам и рытвинам, а то живешь, как вольная птица, — куды там как хорошо и безгрешно: благодать!..
Зря погорячился Константин — не желал ему отец наносить обиды, не хотел унижать перед прочими сынами своими — и впрямь возлагал на старшего лучшие свои надежды.
— Прости, отец, — сказал он, склоняя голову. — Не подумав, сголомя, говорил пустое…
— Не все пустое в твоих словах, сыне. Есть и правда в них, и нетерпение твое мне понятно. Но не потому не даю я тебе и Юрию уделов, что не люблю вас, а потому, что иная у меня задумка. И в трудную минуту хощу я видеть вас рядом с собой, а не в чистом поле по разную сторону: брат против брата, русский на русского, суздальский меч на владимирскую сталь. Хощу, чтоб, взяв и Святослава с Ярославом, стояли вместе против всех, кто посягнет на нашу вотчину. Досталась она нам от Владимира Мономаха, а он был умный князь и не зря поставил над Клязьмою наш светлый град — провидел будущее…
И все-таки не спокойным удалился Всеволод от сына, все-таки зрелым умом своим понимал: полон княжич невысказанных сомнений, и еще не раз всколыхнут они неокрепшие мысли. И либо темные силы разбудят в нем коварство и бессмысленную жестокость, либо светлая цель выпестует гибкость и твердость. И если мысли свои мог он в него вложить, и если вложить мог даже свой опыт, то как вложишь в него свою душу?!
Тонка и неуловима связь прошлого с настоящим, и незримые нити, соединяющие их, проходят не через разум, но через сердце…
Когда ушел отец, когда затихли шаги его в переходе, робко прильнула к Константину Агафья:
— Что пригорюнился, соколик мой? Не серчай на отца. Хоть и сказывал он горячо, а любит тебя.
Усмехнулся Константин, лицом к лицу, утонул глазами в теплом взоре жены:
— Да с чего взяла ты, будто обиделся я на батюшку?..
— Почудилось мне…
Константин отвернулся, отстранил жену, сел к столу, задумался.
Таяла долгожданная радость. Вот и снова он дома.
Глава восьмая
1
В распевной избе было холодно. Чада, подобрав под себя обутые в лапотки ноги, сидели на лавках вдоль стен, согревали, поднося к губам, замерзшие руки. Егорка ближе всех был к дьякону, громоподобный голос Луки оглушал его: Егорка жмурился и мотал головой.
— Почто крутишься, яко грешник на сковороде? — схватил его за ухо Лука. — А ну, встань и повторяй сказанное.
У Егорки память острая, и хоть вертелся он и вид у него был, будто мысли заняты посторонним, а повторил все слово в слово:
— Согласий суть четыре: простое, мрачное, светлое и тресветлое. Распевы же суть володимирский, ростовский и новгородский…
Лука про себя порадовался: хваток, хваток малец, и улыбка чуть тронула уголки его губ, но тут же спохватился и обвел чад суровым взглядом:
— Наука учит умного, ибо пустого меха не надуть, Нешто бьюся я с вами понапрасну? Почто рот разинули, глядите в потолок? Не тот токмо распевщик, кому бог голос дал, — этак-то и глумотворты на торгу не хуже вашего петь горазды… Ты, Прокоп!
— Ась? — поднялся с лавки долговязый паробок. Из коротких рукавов потрепанного кожушка его торчали покрасневшие от холода руки. Выпуклые глаза преданно смотрели на Луку.
Чада зашушукались, послышались смешки.
— Цыц вы! — прикрикнул дьякон громовым голосом. — Куды отлетаешь ты мыслями своими, отрок? Реки, что есть осмогласие.
Прокоп беспомощно оглянулся по сторонам.
— Осмогласие суть… осмогласие суть…
— Эк одно заладил, — фыркнул Лука. — Аль с места не стронешь воза?
Теперь уже все смеялись не таясь. Лука поддернул рукава однорядки:
— Подь сюды!
Прокоп продолжал гнусавить, хлопая глазами:
— Осмогласие суть…
— Подь сюды, кому велено! — зарычал Лука.
— Из памяти вылетело, — захныкал Прокоп, не двигаясь с места. — Пожалей, дьякон…
— Я те пожалею, — шагнул вперед, схватил его левой рукой за шиворот Лука, — я те мозги-то на место поставлю. Сымай порты!
— Да почто порты-то сымать? — дурачком прикинулся Прокоп. — Холодно, чай, в избе.
— Скоро жарко станет, — теряя терпение, зловеще пообещал Лука и стал выбирать прислоненные к углу гибкие березовые прутики: один выберет, хлестнет по воздуху со свистом, другой попробует, а сам на паробка поглядывает — как, мол, нравится?
Униженно улыбаясь, Прокоп развязывал на штанах тесемки.
— Прытче, прытче, — поторапливал его Лука. — За нуждою-то куды как проворен.
— Так то за нуждою, — протянул Прокоп и шмыгнул носом. Не утерпев, Лука сам сдернул с него штаны.
Чада давились от смеха, иные, скорчившись, хватались за животы.
Сухонький Лука статью был едва ли покрупнее Прокопа. Наскакивая на отрока, он подталкивал его к перекидной скамье. Прокоп же дурашливо делал вид, будто запутался в спущенных ниже колен штанах, двигался маленькими шажками, у самой скамьи с грохотом повалился на пол, заскулил, по-щенячьи:
— Ой, убился! Ой, коленку зашиб!..
Встал на четвереньки, чтобы подняться с полу — тут Лука и воспользовался случаем: жарко вжикнул березовый прутик, взвился Прокоп, да поздно — заалела поперек его костлявого зада узкая полоса. Только-только выпрямился он, а дьякон, ловко присев, наложил ему поперек первой вторую полосу.
— Шибко бьешь, дьякон! — заорал Прокоп, отскакивая на середину избы.
— В другой раз умнее будешь, — удовлетворенно проворчал Лука и бросил в угол использованный прутик.
У Прокопа слезы выступили на глазах, но он улыбался через силу; пряча взгляд, дрожащими пальцами завязывал на штанах неподатливые тесемки.
— Плеть не мука, а вперед наука, — пробасил дьякон. — Ступай-ко на место да запомни: перечить мне — ни-ни.
— Запомню, дьякон, — пообещал Прокоп.
Вечером, возвращаясь в монастырь на ночлег, говорил он Егорке:
— Сбегу я от Луки: сечет меня, что ни день. Аль корову я у него съел?..
— Да не со зла он, — пробовал защитить дьякона Егорка. — Нрав у него такой.
Злобно посмотрел на него Прокоп — Егорка прикусил язык, страшно ему стало. Еще свежо было у него на памяти, как встретил его Прокоп в самый первый ночлег.
Всех старше он среди чад, всех крупнее. Бродивший до того со смиренным слепцом, не приучен был Егорка к кулачному бою: старца в народе почитали, жалели и поводыря — добрые бабки обихаживали, молодицы, подавая хлебушко, умиленно ахали, охали, Егорку обласкивали: сиротинушка!..
А тут поглядел Прокоп на его новенькие, Лукою даренные чеботы:
— Кажись, чеботы-то мне по ноге — сымай!
Заупрямился Егорка:
— Не тебе чеботы дьякон дарил.
— Вона как, — ухмыльнулся Прокоп и смазал его кулаком по загривку.
Отлетел Егорка в другой конец кельи, ударился головой о стену и сполз на пол. А Прокоп уже снова над ним стоит, рукав закатывает:
— Так чьи чеботы?
— Мои, — пискнул Егорка, вставая, и новая затрещина откинула его к другой стене.
Больше возражать Прокопу он не стал, покорно снял, отдал ему чеботы. А Прокоп сунул ему свои худые лапти.
Егоркины рубаха и штаны были Прокопу малы, а вот заячью шапку взял — пришлась она ему впору. Забрал он и новую сукманицу, своя-то у него прохудилась.
Утром Прокоп быстро управлялся со своим сочивом, потом съедал половину того, что было в миске у Егорки. Отбирал он еду и у других чад — его все боялись: у Прокопа были крупные крестьянские руки, и тяжелые кулаки его не знали усталости.
По утрам келью, где они жили, полагалось убирать всем по очереди — одного Прокопа это словно бы и не касалось. И опять-таки никто не решался напомнить ему об этом. За Прокопа убирали другие, он в это время блаженствовал, развалившись на своей лежанке, грыз сухари да еще и ворчал, когда его беспокоили.
По ночам стал замечать Егорка, что Прокоп, когда все уснут, выходил будто бы за нуждою, а возвращался много времени спустя. И всегда исчезал он почти в один и тот же час, а возвратившись, подолгу ворочался и чавкал, накрывшись сукманицей.
Вот задача! Надумал Егорка проследить за Прокопом: что это делает он среди ночи на монастырском дворе?..
У Прокопа глаза бедовые: все видит он и все примечает. И шагу не ступит, чтобы кому-нито не навредить. То тын раскачает, то запустит в чужие ворота ледышкой.
Нынче попался ему на глаза ухоженный пес — ясно, с боярского двора: серый с подпалинами, правило пушистое, морда длинная. Помахивая хвостом, доверчиво приласкался к чадам.
— Подь, подь сюды, — чмокая губами, приманил его Прокоп.
Заиграл пес, запрыгал вокруг чада, Егорка уж нащупал за пазухой огрызок аржаного сухарика, хотел угостить его, а Прокоп изловчился да ногою пса по улыбчивой морде — раз.
Завизжала борзая, заскулила, завертелась на снегу. Засмеялся Прокоп, а у Егорки — слезы из глаз.
— Будя реветь-то, — дернул его за рукав Прокоп, — кажись, хозяин объявился…
И верно: из ворот выскочил могучего сложения челядин в овчинном полушубке — морда красная, в ручище здоровенная палка.
Заорал он, кинулся к чадам — тем только дай бог ноги. Челядин толст был и грузен, а они увертливы, но все равно с трудом ушли.
У самого монастыря с трудом перевели дух.
— Да, наломал бы он нам бока, — сказал Прокоп с улыбкой. — Шибко осерчал за пса.
— А тебе-то почто было бить животину? — не стерпел, огрызнулся Егорка. Крутящаяся на снегу борзая с окровавленной мордой так и стояла у него перед глазами.
— Эко жалостливый ты какой, — хохотнул Прокоп и шлепнул Егорку по спине. — Холопа да смерда, чай, тоже бьют, а никто не вступится. Нынче Лука по мне прошелся березовым прутиком — ты слезы не уронил, смеялся небось со всеми…
— Дык за дело тебя Лука-то, — пробормотал Егорка.
— За како тако дело, а? — вскрикнул Прокоп и схватил Егорку за грудки. — За како дело?..
Поперхнулся Егорка, побелел, слова застряли у него в горле.
— Вот стукну тебя — это за дело, — тряхнул его Прокоп, да так, что у чада лязгнули зубы. — Куды судить-рядить меня взялся? Животину ему жаль, а человека ни за что ни про что наказуют, так человека ему не жаль.
Повернул он к себе Егорку спиной, поддал коленкой под мягкое место — покатился малец в сугроб, воткнулся головою в снег по самые плечи, задрыгал ногами.
Подбоченясь, хохотал Прокоп:
— Гляди-ко, крест кладет по-писаному. Ай да Егорка! А и то: с поклону голова не заболит. Выползай покуда — в монастыре ишшо свидимся.
И пустился наутек, потому как заметил приближающегося от ворот детинца Луку.
— Батюшки, — сказал, подходя к торчащему в сугробе Егорке, дьякон, — уж не Прокоповы ли что забавы? Как шел я, кажись, его издалека видел.
Вытянул Егорка голову из снега — поморгал, с удивлением уставился на Луку.
— Кто же это тебя, малец, так ловко пристроил? — покачал головой Лука.
Да не таков был Егорка, чтобы товарищей своих выдавать, отвечал смиренно и со смущением:
— Поскользнулся я, вот и угодил в сугроб…
Ясное дело, не поверил ему Лука, но пытать мальца не стал — пожалел его:
— Хошь, пойдем ко мне, нынче Соломонида пирогов испекла?
— Ну, — вытряхивая снег из ушей, обрадовался Егорка. Непривычно ласковый дьякон насторожил его, однако и расплывшаяся было по лицу улыбка мигом растаяла. — А не врешь?
— Я завсегда правду говорю, — нахмурился Лука. — Дьяконица-то моя тебя заутре поминала.
Пошли к Луке. Сбив с обуви снег на порожке, вошли в избу. Егорка снял шапку, перекрестился на образа, сказал степенно, как взрослый:
— Здрава будь, тетка Соломонида.
— А, Егорка к нам в гости, — отходя от печи с железным противнем в руках, ласково отвечала дьяконица. — Давно не захаживал, раздевайся, садись к столу.
От противня, от распластанного на нем румяного пирога исходил ароматный запах грибов.
Чинно сели на лавки, Лука разрезал пирог, кашлянул и загадочно поглядел на жену.
— Чего тебе? — проворчала Соломонида.
— Медку бы нито…
— Ишшо чего, мальца-то спаивать.
— Мальцу квасу подай.
Соломонида поворчала, но перечить мужу не решилась — только и всего, что, выходя, громко хлопнула дверью. Лука ухмыльнулся. Скоро жена вернулась с двумя жбанами: в одном был мед, в другом — квас.
Никогда прежде не видел Егорка подвыпившего дьякона. И вот, сидя напротив него, дивился безмерно.
На глазах преображался Лука. После первой чары стал он смурным и безулыбчивым, после второй и третьей взялся попрекать Соломониду: и пироги не допеклись, и мед горьковат, и в избе не прибрано, а когда в жбане меду оставалось на донышке, вдруг встал из-за стола, приосанился и запел — да так, что хоть уши затыкай: громче не певал он и в соборе.
Но что больше всего испугало и удивило Егорку — песни Луки, те самые бесовские и богомерзкие песни, которые еще совсем недавно сам дьякон подвергал поруганию.
Со страхом глядел Егорка в широко разевающийся рот Луки: и где это только, в какой неводомой пучине, рождается нечеловеческий, грому подобный рык?!
Замахала руками Соломонида, кинулась прочь из избы, а у Егорки поползли по спине мурашки. Боясь шелохнуться, сидел он, скособочившись, на лавке и, словно завороженный, глядел на Луку.
Глаза дьякона помутнели, на шее вздулись жилы, хилое тело его напрягалось и дрожало. Казалось, тесно Луке в его тщедушной оболочке; казалось, еще немного — и голос разорвет ее и ринется, освобожденный, и не выдержат трухлявые стены избы, и все рассыплется в прах…
Вбежала в избу Соломонида, заверещала, вцепилась дьякону в плечи — и оборвался голос.
— Аль ошалел, оглашенный! — кричала вне себя дьяконица. — Сызнова за старое — выдь-ко, погляди: собрал народ возле плетня всем на посрамление!..
И снова, еще пуще прежнего, испугал Егорку внезапно преобразившийся лик Луки: жилы на его шее опали, с глаз словно сдернули пелену — стали они ясными и злыми.
Оттолкнул от себя дьякон Соломониду, как был, в одной рубахе и холодных штанах, ринулся за дверь — с улицы донеслась брань и истошные крики.
Дьяконица сунула Егорке шапку в руки:
— Беги, беги, милый, нынче нам не до тебя!
Следом за ним вывалилась во двор, где метался на снегу, как подраненный зверь, Лука.
— Сопель! Сопель! — неслось со всех сторон. На плетне висли ребятишки.
Егорка юркнул за их спины и последнее, что увидел он, был дьякон, бегущий к плетню с вывороченным колом в поднятых над головой руках…
2
Возвратившись на монастырский двор, долго не мог прийти в себя Егорка. Может, оттого и спал он плохо, может, оттого и слышал, как заскрипела под Прокопом лежанка.
Приоткрыл малец глаза, вгляделся в темноту — длинная фигура Прокопа неслышно скользнула к двери. Скрипнули державцы, дверь приоткрылась и хлопнула.
Егорка соскочил на пол, сунул ноги в лапти, наскоро накинул кожушок, вышел следом.
За дверью было морозно и ветрено. В ясном небе стояла полная луна — двор был облит ее голубым сиянием, снег колюче искрился, резкие тени пересекали разгребенные монахами дорожки.
С часто бьющимся сердцем Егорка прижался к осыпанным изморозью сосновым кряжам стены. Прокоп был где-то рядом. Мальцу казалось, что он даже слышит его дыхание.
Что-то звякнуло невдалеке, потом — скрип-скрип — донеслись осторожные шаги. Собравшись с духом, Егорка выглянул из-за стены: Прокоп был уже в другом конце двора. «Куда это он? — удивился малец. — Уж не к келарю ли в гости повадился?» Знал он: в том углу, под трапезной, были монастырские кладовые.
Еще сильнее разобрало Егорку любопытство. Едва только скрылся Прокоп под всходом в трапезную, про скочил и он через облитый светом двор, присев на корточки, спрятался за сугробом.
Прокоп, видно, услышал его шаги: взлохмаченная голова его высунулась из-под всхода, повертелась в разные стороны и снова исчезла. Егорка вздохнул с облегчением.
Теперь ему не было страшно, теперь он догадался, куда ходит по ночам Прокоп: отыскал он щелку в кладовых, вот и грызет под сукманицей краденое, а все не в коня корм — иначе с чего бы отбирать ему каждое утро то у Егорки, то у других чад половину налитого им в миски сочива?
Стал Егорка подбираться ко всходу: уж больно хотелось ему хоть одним глазком глянуть, как это ухитряется Прокоп отмыкать навешенный на дверь кладовой тяжеленный замок…
Эх, Егорка, Егорка, невезучий ты человек! Прокоп сколь уж дней пасется на запретных хлебах, а ты и двух шагов не сделал, ты и под всход-то не успел свернуть, только руку протянул к перильцам, как схватили тебя сзади в крепкие объятия.
— Держи! Попался хититель! — завопил истошным голосом келарь.
И как только подкрался он по скрипкому снегу, как только не услышал его малец, — должно, задумался, да что с того: не вырваться ему от келаря, хватка у монаха крепкая.
Стал Егорка, всхлипывая, просить:
— Не губи, отпусти меня, дяденька, не виноват я ни в чем.
Но не смягчить ему сердца келаря: давно примечал тот, что повадился блудливый кот на его припасы, только вот выследить не мог.
А кот оказался чадом Луки, и, поймав его, порадовался келарь: не любил он дьякона и, ежели бы не игумен Симон, ни за что не стал бы кормить будущих распевщиков в своей трапезной: смущали они чернецов суетностью своею и шумом. А келарь был человеком строгих правил.
На шум сбежались во двор заспанные монахи, таращились на Егорку, укоризненно покачивали головами. Келарь, захлебываясь от восторга, рассказывал, как словил его у всхода.
Появился игумен в наброшенной на плечи шерстяной монатье. Спросил мальца:
— Как звать тебя?
— Егорка.
— Почто лазил в кладовые?
— Не лазил я…
— А это уж другой грех. Врать не пристало отроку. Словил тебя келарь…
Нечего сказать Егорке, заплакал он, упал игумену в ноги, лбом ударил в снег. Поморщился Симон:
— Встань, отрок.
Егоркины слезы поколебали его решимость.
— А не ошибся ты, келарь? — обратился он к монаху.
— Да как же ошибиться, — обиделся келарь, — коли сам схватил его у кладовых? Давно смекнул я, что шарит кто-то в наших припасах, вот и подстерег.
Монахи возмущенно зашумели:
— Ишь ты, мал, да удал. Неча на него глядеть!..
— Завелся волчок в нашем стаде, игумен. Почто не веришь келарю?
— Ну, будя, — поморщился Симон. — Спрячьте его под запор. А заутра кликнете ко мне Луку.
Еще большие унижения принял Егорка, когда, заслышав возню, высыпали из кельи удивленные чада, его товарищи. Прокоп тоже был среди них, делал вид, будто только что проснулся, зевал и потягивался (и как только прошмыгнул он, никем не замеченный, через озаренный луною двор?!).
— Вот, — назидательно говорил им келарь, проводя мимо них опустившего голову Егорку, — глядите, чтобы другим было неповадно. Ни от каменя плода, ни от хитителя добра: люди молотить, а он замки колотить, — будя. Спросим с него строго.
Прокоп состроил мальцу гнусную рожицу. Егорка сжал кулаки.
По дороге в темную келарь не жалел затрещин.
— Благодари бога, что спустился игумен, — говорил он, — не то растерзала бы тебя братия…
В темной было сыро и холодно. Сидя у заплесневелой стены на корточках, Егорка проскулил всю ночь: и почто ему так не везет, почто любая беда — на его голову? А с Прокопа — как с гуся вода. Ничто ему не делается — лежит себе сейчас полеживает на лежанке, приятным снам улыбается.
Утром явился в монастырь Лука. С порога стал грозить и ругаться:
— Послала тебя нечистая на мою голову! А ну, встань, да сказывай: аль не поил, не кормил я тебя? Не одевал, не обувал, не учил уму-разуму?
Из-за спины его выглядывал келарь, на каждый вопрос Луки одобрительно кивал головой.
Не слыша ответа, еще больше расходился дьякон, размахнулся, влепил Егорке оплеуху.
— Кого угощала вечор Соломонида пирогом? — наскакивал Лука. — Кого квасом поила?… Брюхо у тебя бездонное, яко дырявая ряднина.
Вспомнив про всегдашнюю доброту к себе дьякона, не выдержал, в голос заплакал Егорка. Но как объяснишь Луке, что не лазил он в кладовые?
А дьякон себе на уме. Откуда было знать мальцу, что до того еще, как встретиться с ним, побывал Лука у игумена.
— Что же ты, дьякон, плохо пестуешь своих чад? — выговаривал ему ровным своим голосом Симон. — Нынче в кладовые, завтра в бретьяницы монастырские, а там и на дорогу с топором выйдут они, яко злобные тати…
— Тревога твоя не напрасна, игумен, — отвечал ему Лука. — И верно, завелась худая овца в моем стаде. Но не Егорку мню я, сей отрок послушен и богобоязнен. Напраслину возвел на него келарь, и, может быть, не по злому умыслу.
— Да как же напраслину, — удивился Симон, — коли схвачен малец не в келье своей, а у кладовых, и замок был потревожен?
— Не знаю я, как такое могло случиться. А не был ли келарь твой пьян?
Прикусил болтливый язык Лука, но поздно. Синие глаза Симона потемнели от гнева.
— Да как смеешь ты, дьякон, говорить такие слова в моей обители? Богохульство сие.
— Прости, игумен. Сказал не подумавши. А за Егорку я могу поручиться и своею головой.
— Что твоя голова, — усмехнулся Симон. — Сам давеча признался, что худая овца пасется в стаде…
— Не Егорка то, вот те крест не Егорка, — побожился Лука, крестясь на икону.
— Так что же хощешь ты? — озадачил дьякон игумена. — Нешто отпустить твоего чада с миром? Каков же будет другим урок?
— Отпусти, игумен. А истинного хитителя я тебе сыщу, — пообещал Лука.
Нахмурившись, задумался Симон. Не кривя душой, и сам он признавался себе, что не шибко верит в вину мальца. Много повидал он на своем веку воров и татей, ловил и казнил их нещадно, и в своей обители встречал нечистых на руку монахов (потому и разгневался на Луку, что обмолвился он, зная правду), предавал их жестокой епитимье и изгонял в мир. Но воспоминание о загнанном Егорке пробуждало в нем жалостливые чувства. Хорошие были глаза у мальца, и слезы его были неподдельны.
— Ладно, — смягчился игумен. — Однако же взять да и выпустить твоего чада я не могу. Почто вертелся он во дворе, мне неведомо. Но так думаю я: сие неспроста. Вот и попытай его, дьякон. Вот и потряси — авось что и вытрясешь. Коли сам не крал он из кладовых, то хитителя знает в лицо.
— Золотые слова твои, игумен, — заулыбался Лука. — Верно ты смекнул, и мне сдается, что знает Егорка, кто повадился за чужим добром, но — упрям малец. Так как повелишь, игумен?
— Пущай покуда посидит твое чадо у меня в темной. А сыщешь хитителя — тут и выпущу я его…
Таково побеседовали Лука с Симоном. Но с Егоркой дьякон был крут. Долго бился он с мальцом, но так ни слова из него и не выжал. Одно твердил Егорка: не крал я, а кто крал, не ведаю.
— Ведаешь, ведаешь. — драл его за распухшее ухо Лука. — А не скажешь — век сидеть тебе в темной.
— Да что говорить-то, дяденька, — верещал Егорка, — коли вышел я на двор по нужде, а келарь меня ни за что ни про что схватил?
— В иной стороне заход-то, в иной, — бормотал за спиною Луки монах. — Не верь ему, дьякон.
— Так почто у кладовых вертелся? — снова схватил Егорку за ухо Лука.
— Ой, больно, дяденька, ой, больно-то как! — закричал не своим голосом малец.
Устал Лука, перевел дух.
— Экой ты, малец, упрямый, — сказал он. — Думаешь, с тобою и ладов нет? Нынче топорщишься ежом, а как посидишь в темной, так и приободришься.
С тем и ушел. Загремели затворы, и остался Егорка опять один на один со склизкими стенами. Обут Егорка на босу ногу, кожушок накинут на исподнее. Покусывает морозец ступни, забирается под одежку: прыгает Егорка, пытается согреться, но нет тепла в его теле. И холодно ему, и голодно, и от отчаяния хоть лютым зверем вой.
3
Один бог знает, как повернулась бы Егоркина жизнь, ежели бы вдруг не случилась с Прокопом промашка. Уверовав в свою удачливость, забрался он на следующий день во двор к Звездану, хотел пошарить в его погребах, но был схвачен конюшим, предстал пред дружинником и, напуганный его грозным видом, признался во всех своих грехах, помянул и про то, как угодил в темницу Егорка.
— Умел грешить, умей и ответ держать, — сказал, выслушав его, Звездан и вместе с Прокопом отправился прямехонько в монастырь к игумену.
— А, ишшо одного пымали! — злорадно воскликнул попавшийся им навстречу келарь.
— Аминь, — оборвал его Звездан. — Вели-ко, келарь, вести сюды из узилища Егорку.
— Что-то загадками ты все сказываешь, дружинник, — растерялся под его взглядом монах, — а я загадки разгадывать не мастер.
— Зато злобы в тебе — хоть отбавляй, — сказал Звездан и даже ногой притопнул, прикрикнул нетерпеливо: — Кому велено?!
Делать нечего, привел келарь мальца.
— Ты Прокопа постереги, — приказал монаху Звездан и, подталкивая перед собой совсем обробшего Егорку, вступил на всход.
— Здрав будь, Симон, — сказал дружинник, входя в келью, в которой бывал уже не раз, и склоняя голову под благословение.
— С приездом тебя, — перекрестил его Симон и с удивлением взглянул на стоящего с ним рядом Егорку.
— И его благослови, отче, — подтолкнул Звездан Егорку. — Не шарил он по кладовым, напраслиной спугнули чада. А истинного хитителя стережет твой келарь. Взгляни-ко в оконце!
Все еще озадаченный, Симон, однако, послушался дружинника, приблизился к окну и выглянул во двор:
— Так вот он кто!.. А я все в сомнениях пребывал: уж больно ясные у мальца глаза.
— У него и душа чистая и светлая, — улыбнулся Звездан, ласково гладя Егорку по голове.
— Все мы грешны, — строго проговорил Симон, но чадо перекрестил. Пожевав в задумчивости ртом, добавил: — Ты на меня, малец, не серчай. И тако скажу я тебе: дьякон, наставник твой, слов келаря на веру не принял, тож уверял меня, что не твоих рук это дело. — Помолчал, подумал еще и договорил: — Любит он тебя…
Едва молвил игумен последнее слово, едва сел на лавку, поставив между колен свой посох, как дверь раскрылась и на порог вступил взволнованный Лука. Во дворе ему уже про все рассказали.
— Так, — произнес дьякон, пытаясь угадать по глазам присутствующих, о чем только что был разговор. Все молчали.
— Так. — повторил Лука неуверенно и теперь пристально смотрел на одною только игумена.
— Бери свово чада, — сказал Симон и глазами показал на Егорку. — Чист он и пред богом и пред людьми.
— Это как же чист-то? — удивился Лука и укоризненно покачал головой.
Не успел Звездан и рта раскрыть, чтобы рассказать про все, как было, — с громкими упреками набросился Лука на Егорку:
— Поглядите на него, люди добрые, стоит пред святым отцом, яко ангелочек! Да не ты ли, душа из тебя вон, извел меня и Соломониду?! Не из-за тебя ли не сомкнул я глаз всю ночь, а Соломонида плакать устала?! И не из-за твоего ли злого умысла запекла она в пироге таракана и того хуже — плеснула мне вечор в чашу вместо меда квас?! Почто молчишь — отвечай же, как на исповеди?
— Остановись, дьякон, — прервал Звездан сбивчивую речь Луки. — Не лай попусту. Ежели был бы ты со мною, когда словил я Прокопа и тот поносил тебя последними словами, язык твой не повернулся и на малую долю из тех упреков, что наговорил ты мальцу… Ступай же, Лука, с миром, и ежели не по душе тебе Егорка, так беру я его к себе. И на том кончим наш разговор.
Оторопел дьякон, не ожидавший такого скорого и решительного отпора. Вытаращил он на дружинника глаза:
— Да на что тебе Егорка? Он и меча-то поднять не в силах — вон как хил. Тетиву ему не натянуть. И на коне опять же он не ездок…
— А уж о том не твоя, а моя забота, — с лукавинкой во взоре продолжал раззадоривать Луку Звездан. — Кашей я его накормлю — подымет Егорка меч. А мясом попотчую, так и тетиву отожмет. Что же до коня, то и это дело наживное: никто из нас не родился лихим наездником.
— Почитал я тебя за человека разумного, Звездан, — сказал, бледнея, Лука, — но вот слушаю и тако думаю: недалеко ушел ты от Егорки, умом скуден, как чадо. Будто мало у тебя своих отроков, будто сесть на коня некому, а того понять не можешь, что голоса такого, как у Егорки, во всем нашем ополье не сыскать. И хоть кашей корми твоих дружинников, хоть мясом — толку от них никакого: кукарекнут — вот и вся песня.
— Да что песня! — засмеялся Звездан. — Песня и есть песня: ни хлеба в твоих одринах, ни золота в бретьяницах от них не прибавится.
Нарочно задирал он Луку и на Симона поглядывал, как заговорщик. Игумен давно уже понял, что к чему, Звездану поддакивал, кивал и хмурился, когда горячился дьякон.
При последних словах дружинника Лука аж подпрыгнул на месте:
— Постыдись, Звездан. Что ты такое говоришь, да как только язык у тебя поворачивается!.. Песнею испокон веку славилась Русь. В почете были песенники да гусляры при Владимире Ясное солнышко, и князь Всеволод чтит нашего брата — слава ему за то и низкий поклон! Весело поется — весело и прядется. Один ты глух, как пень, да что с тебя взять!..
— То-то учишь ты песням дубьем да березовым веничком, — спокойно отвечал дружинник. — Этак-то отвадишь от себя не одного токмо Егорку — все чада разбегутся куда глаза глядят. Не мне стыдиться пристало, а тебе, Лука. Нет, не отдам я тебе Егорку! Почто неволить его, ежели наука твоя ему не в радость, а в муку?
Устремляя помутневшие от негодования глаза на игумена, дьякон сказал:
— Отчего же ты молчишь, Симон? Иль не сказано в евангелии: «В поте лица да добудешь хлеб свой на сущный»? Для праздной ли жизни приготовляю я чад своих?.. О каком злате сказывает тута Звездан? Почто соблазняет Егорку?
Симон смущенно покашлял.
— Скажи, Егорка, — обратился он к топтавшемуся у порога пареньку, — хотел бы ты возвернуться к Луке?..
— Ишшо чего! — вспылив, оборвал Симона дьякон. — Его ли это забота?.. У мальца одно на уме — собакам хвосты крутить, а Звездан своими подстрекательскими речьми и того пуще совращает его: вона сколь на дружиннике злата да серебра надёвано, один пояс стоит три гривны кун, а сапоги, а шапка соболья, а меч! Да какому же отроку не лестно напялить на себя блестящие доспехи!.. Аль сам не видел — толпами увязываются они вослед за дружинниками… Да ежели гончар сына свово не обучит глину месить, а коваль юноту варить крицу, а древодел — рубить и тесать лес; ежели все на коней воссядут да пойдут добывать себе богачество во чистом поле, не уподобимся ли мы безбожным татям и не пустим ли землю свою в разор, хоть и призваны украшать ее и расстраивать?!
Устав от длинной речи, Лука глубоко вздохнул и, не дожидаясь, что скажет игумен, решительно взял Егорку за руку:
— Пойдем, чадо, — Соломонида тебя заждалась.
Простыми словами развеял дьякон приятные сны: нет, не скакать Егорке на боевом коне, не ходить в расшитом жемчугами кожухе, не вынимать из красивых ножен блестящего меча. Вон и Звездан уж боле не противится, и Симон смотрит на них с тихой грустью.
— Благослови же, отче, — склонился пред игуменом Лука, зашипел, в бок подтолкнул Егорку, — тот, насупясь, глядел волчонком.
— Во имя отца и сына… — раздался над чадом ровный и тихий голос Симона.
Тут не выдержал, в рев пустился Егорка:
— Не хощу к Луке!..
— Погодь, погодь, — протяжно проговорил Лука, крепко сжимая его руку. — Это как же так — на хощу? А кормил-поил тебя кто, а одевал-обувал? А распевкам кто учил?
— Меня и слепец распевкам учил, — всхлипывая, отвечал Егорка, — а ты вот взял же да привел к себе и дозволения не испрашивал?
Он с надеждой, сквозь слезы, глядел на Звездана. Дружиннику не по себе стало под его вопрошающим взглядом: вроде смазал он мальцу губы медом, а и лизнуть не дал.
— Не огорчайся, — сказал он ласково, присаживаясь перед ним на корточки и запуская пятерню в его светлые волосы. — Ведь и прав Лука: мал ты еще, куды тебя в дружину? А там как бог даст. Еще свидимся мы с тобою, Егорка, еще прокатимся на моем коне — тебя я не забуду… Как, дьякон, коли выдастся свободный день, отпустишь ли ко мне Егорку?
— Чего же не отпустить, пущай гостюет, ежели тебе не в тягость, — обрадованный спокойным тоном дружинника, сразу же согласился Лука.
— Не плачь, ступай с миром, Егорка, — сказал игумен, — никто нынче не посмеет тебя обижать. А ежели что, то и ко мне приходи. Пустишь ли ко мне чадо свое, Лука?
— Как же к тебе не пустить, игумен! — совсем успокоился дьякон. — Ты наш отец и благодетель.
— Слышал, Егорка? — сказал Симон. — Утри слезы-то… Вот так. Бог отметил тебя чудным голосом — радуйся: не каждому такое дано. И Лука ради тебя же старается. Сие — и хлеб твой, и отрада. А людям радость. Дай-ко облобызаю я тебя в лоб…
Перекрестил Симон Егорку, а Луке наказывал:
— Учи его, дьякон, со тщанием, ибо тако мыслю я: достойно украсит он нашу Богородичную церковь.
— Твоя правда, игумен, — смиренно отвечал Лука и кланялся Симону.
И еще сказал Симон:
— Ты мне знак подай, Лука, как срок наступит: не худо бы показать Егорку нашему князю.
— Облагодетельствуешь, игумен! — обрадовался дьякон, и глаза его засияли. — Да неужто чести такой удостоится мое чадо?
Глава девятая
1
С утра пораньше на Звезданов двор явились гости: Негубка с Митяем, да Крив, да Мистиша.
— Принес бог гостя, дал хозяину пир! — обрадо вался Звездан и, пока накрывали в горнице стол, стал расспрашивать знакомцев, что да как. — Думал уж я, не выпустили вас из Новгорода али в пути беда стряслась?
— В Ростове мы подзадержались, — объяснил Негубка. — В Ростове хорошо царьградский товар шел. А ко Владимиру прибыли только-только, еще бы чуть замешкались — и вмерзли бы в лед. Ну да, слава богу, все обошлось.
— Лед-то когда еще установился, — попрекнул купца Звездан. — Зима в самой силе, а вы только объявились…
— Не серчай на нас, Звездан, — ответил Негубка. — Куплей да продажей торг стоит. И у нас хватает забот. Да вот еще Мистише искали его фаря.
— Сыскали ли?
— Сыскать-то сыскали, но уперся Несмеян.
— Не отдает?
— И не слушает! Я уж ему и мзду предлагал.
— За чужого фаря-то?
— А что делать? Мистише без коня в Триполь возвращаться не можно. Без коня-то беглый он, а с конем — посланный боярина своего Стонега.
Со вниманием выслушав купца, Звездан задумался.
— А что, Негубка, — сказал он, — не поговорить ли мне с Несмеяном?
— Вот бы уважил! — живо кивнул купец. У Мистиши щеки порозовели.
— Тебя Несмеян послушает, — сказал он.
Звездан улыбнулся.
— Погоди радоваться-то, — охладил он паробка. — Торопом вороху не вывеешь. Не знаком я с Несмеяном, а по вашим словам выходит, что человек он несговорчивый.
— Несговорчивый-то, несговорчивый, а Стонега вона как заговорил, — сказал Негубка.
— Так то он Стонега, а то я его самого. Чем бы прельстить Несмеяна?
— А ты не мудри, Звездан, — подал голос молчавший до поры Митяй. — Где просто, там ангелов со сто. Кликни его сюды на пир. Пущай посланный твой скажет Несмеяну: прознав-де про твои заслуги, хощет хозяин мой с тобою знакомство свесть.
— И то, — обрадовался Звездан. — Так, сказываешь, меды пить он горазд? — повернулся дружинник к Мистише.
— Ой, как горазд-то!
— Будь по-твоему, Негубка, — сказал Звездан, — и откладывать задуманного нам ни к чему. Живо кликну я Несмеяна, а медов у меня вдосталь — пущай порадуется.
— Пущай, — кивнул Негубка с лукавой ухмылкой. Уж он-то сразу смекнул про Звезданову хитрость.
Поняли и другие. И покуда ждали Несмеяна, обсуждали, кто и как станет себя вести.
— Всех ли знает из вас Несмеян? — спросил дружинник гостей.
— Меня и Мистишу, — отвечал Негубка.
— Тогда не обессудьте, гости дорогие, — сказал Звездан, — а с вами встретимся мы в другой раз. Нынче же пировать станем вчетвером. Я сяду рядом с Несмеяном, а ты, Митяй, с другого боку. Тебе же, Крив, следить, чтобы чаша у нашего знакомца не была пуста.
Крив впервой был на дому у такого важного дружинника: шутка-ли — к самому князю Всеволоду вхож, сидит у него с другими, как равный, на боярской думе. Поручение Звездана он воспринял со всею серьезностью.
Прощаясь с Мистишей на крыльце, Крив шепнул своему дружку на ухо:
— Ну и попотчую я Несмеяна!..
— Уж попотчуй, Крив, попотчуй.
— Ей-ей, не подымется он из-за стола!
— Одного боюсь я: приедет он в гости не на моем фаре, — засомневался паробок.
— С почетом зван, да не на фаре! — воскликнул горбун. — Плохо знаешь ты своего знакомца. Где похвастаться, где себя показать — там и он. Весь Киев наслышан про его коня, во Владимире тож одолели его с расспросами: не продашь ли, мол, фаря? От бояр приходили, от княжеских думцов… А тут в гости зван. Ни кольчугою Несмеяну не блеснуть, ни дорогим платьем — одним только конем.
Тем временам стол в горнице у Звездана был накрыт по-праздничному: пироги, кулебяки, жареные гуси и рыба, огурчики соленые, и грибки, и разные диковинные плоды, от одного вида которых у Крива потекли слюнки и заурчало в желудке. А когда появилась хозяйка в расшитой жемчугами красной рубахе, показалось горбуну, что попал он в чудесную сказку, что во сне это, а не наяву. Даже за ухо подергал себя, чтобы убедиться: и впрямь на пиру он, и впрямь ломится стол от чудесных яств, а Звездан ласково улыбается хозяйке, ведет ее, придерживая под руку, на почетное место, усаживает на пушистые полавочники.
Все готово, а гостя нет. Сунулся Митяй к оконцу:
— Едут!
Звездан тоже выглянул: впереди посланный отрок на пегой кобылке, за ним — Несмеян на фаре! Вот уж воистину неспроста пустил Стонег своего паробка в погоню, неспроста лишился сна и покоя. Таких коней не видывал еще и Звездан.
Вышел он на крыльцо приветствовать долгожданного гостя, в горницу его вводил, сияя улыбкой; жена Звезданова Олисава принимала у Несмеяна шапку, челядины, толкаясь и мешая друг другу, помогали гостю снимать полушубок.
— Сюды садись, сюды, Несмеян, — указывал Звездан, проводя дружинника по горнице. — Наслышан я о тебе, вот и решил поглядеть, таков ли ты с виду, как люди сказывают.
Сел Несмеян ко столу, приосанился, одной рукой провел по усам, другой на стороны расправил бороду. На Олисаву кинул блудливый взгляд, но тут же спохватился, крякнул и обратился к хозяину:
— Сие великая честь, Звездан. Уж как ни раскину я своим худым умишком, а все в толк взять не могу, почто удостоился. Не спутал ли ты меня с кем другим?
— С кем же другим тебя спутаю, — в тон ему степенно отвечал Звездан, — коли и на княжом дворе слушок прошел, что знатно водишь ты купцов и в обиду их не даешь. А князь наш, что и тебе, должно быть, ведомо, всею душой радеет о торговле. Да вот беда — еще не безопасны дороги, еще не перевелись тати и иные лихие люди. Урон же от них велик… Да что я разговорами гостя потчую! — спохватился он. — Выпьем меду за твое здоровье, Несмеян, а для беседы у нас весь день впереди.
Понравилось Несмеяну хлебосольство хозяина и обнадеживающее начало: знал он по опыту своему, что медуши в таких теремах всегда полны. Но вот хозяек таких, красавиц писаных, еще не встречал он нигде. Может, берегли от него своих жен купцы да ремесленники, а может, были они страшнее жаб? Да что там сказывать, у Звездана все было ему по душе: и почтительность, с какой обратился к нему посланный, и суета челядинов, старавшихся с порога угодить гостю, и сам терем, резной, будто пряник, и праздничный стол. Вот только горбун разве, что сел напротив, смущал и беспокоил дружинника: был у него недобрый пристальный взгляд, и длинные руки его с широченными ладонями казались кузнечными клещами, словно не ложку брал он, а выхватывал из огня горячую поковку.
Ну да ладно, хозяину виднее, кого с собою рядом сажать за стол.
Поднял Несмеян чашу, привстал, поклонился Звездану и Олисаве:
— На добром слове благодарствую!
И сразу вылил ее до дна. Накануне-то с вечера был он зело хмелен, всю ночь маялся от изжоги, выцедил в молодечной полкадушки воды. Вовремя звал его Звездан: еще бы немного — и сам отправился бы он в ремесленную слободу искать своих давешних дружков, с которыми веселился накануне. Так уж повелось исстари: у кого гулял, тот и исцеляет…
Сладок был мед у Звездана, крепок, но первая чаша не облегчила Несмеяна. Покуда есть не хотелось, и он глядел, как закусывали хозяева. Еще бы медку!.. Вот когда оценил он длинные руки сидевшего напротив горбуна — проплыли они над столом, глядь, а чаша снова полна.
Уголками губ улыбнулся Криву Несмеян, а тот подморгнул ему плутоватым глазом.
Не дожидаясь других, вторую чашу выпил гость. Потом Митяй, обходя стол, по очереди разливал всем. Несмеяну из глиняного сосуда с узким горлышком плеснул душистого фряжского вина.
«Зело гостеприимны володимерцы, — чувствуя в груди приятное тепло, расслабленно думал Несмеян. — Нигде еще не потчевали меня с такою щедростью».
И стал размышлять он над собою и своею долей. И чем больше размышлял, тем значительнее сам себе казался. «Иные небрегут мною, а зря — куды им без меня податься?! — рассуждал Несмеян. — На таких, как я, все пути-дороги держатся. Это им не пиры пировать, не красоваться перед девками за крепостными воротами».
Словоохотливый от природы, любил он сказывать случайным знакомцам разные байки про свою опасную жизнь. Не обошелся без них и на сей раз.
Почтительно и со вниманием выслушивали его хозяева.
— А что, — вдруг произнес Звездан, — поди, и фаря своего добыл ты в неравной сече?
Польщенный, заулыбался Несмеян:
— Видал, каков конь?
— Не конь, а лебедь, — кивнул дружинник, а длинная рука горбуна услужливо долила гостю в чашу не то меду, не то вина (хмелен уже был Несмеян и за Кривом не следил).
— Верно, лебедь, — кивнул гость и поискал взглядом хозяйку, но Олисавы за столом уже не было. Жаль, не успел при ней похвастаться он своим конем.
Перехватив взгляд его, Звездан улыбнулся:
— Так как же попал к тебе конь, Несмеян? Не простых он кровей, на торгу такого не купишь…
— Ха, на торгу, — пьяно засмеялся гость, — да где же ты видывал, чтобы вывели на торг такого зверя?
— Вот и я мыслю, на торг такого не выведут. Подарок, что ль?
— Почто подарок? — вдруг насторожился Несмеян. — Не, князья мне подарков не жалуют.
— Откуда же фарь?
— У половцев на волоке отбил, — хоть и пьян был, а складно сказывал Несмеян. — Ночью напали на нас степняки, едва отбились. Почитай, всех положили, а ентот, на фаре-то, едва было не ушел…
— На таком коне да не уйти! — подзадорил его Звездан.
— Пымал я его!
— Неужто?!
— Вот те крест, пымал, — побожился Несмеян и наложил на себя крестное знамение. Однако же рука его, крестившая лоб, дрогнула. Гость опустил глаза и жадно приложился к чаше.
— Как же догнал ты степняка, Несмеян? — словно не замечая смущения дружинника, продолжал допытываться Звездан.
«И чего это он так прилип?» — впервые с неприязнью подумал Несмеян о хозяине.
— Споткнулся фарь на пригорке, — соврал он заплетающимся языком.
— Ну?
— Тут и метнул я стрелу.
— В фаря?
— Почто в фаря? В степняка, вестимо.
— А дале-то?
— Упал степняк. Конь-то над ним и встань…
— Да, — сказал Звездан, — шибко везучий ты человек, Несмеян. Ну-ка, Крив, — обратился он к горбуну, — плесни-ко нам еще в чаши. Что-то пересохло во рту.
— И верно, — подхватил Несмеян, радуясь, что трудный разговор позади. — За вино бьют, а на землю не льют.
Икнул он, поглядел в чашу с сомнением, но выпил до дна. Хозяева, как и до того, свое питье только пригубили.
Убедившись, что Несмеян дозрел, со значением покашлял Звездан в кулак и приступил к главному.
— Славно попировал ты у меня, Несмеян, — сказал он, — терпеливо слушали мы тебя, но всякой сказке бывает конец. Про что иное, может, и правду ты говорил, а про фаря плел нам гнусные небылицы.
— Как же небылицы-то? — пьяно мотнулся Несмеян. — Ты, хозяин, говори, да не заговаривайся. Меды я пил у тебя — на том и спасибо, а поносить меня почто?
— Вот, гляди, — сунул ему под нос княжескую печать Звездан. — Вышло такое дело, что зван я был ко князю нашему Всеволоду. И говорил мне князь: негоже, Звездан, что укрываются в нашем городе тати. Пришла-де мне от Ростислава из Киева такая весточка, что похитил дружинник у боярина Стонега в Триполе лучшего его коня, даренного Романом, и след-де ведет ко Владимиру… Как увидел я твоего фаря, Несмеян, так и обомлел: точь-в-точь по приметам сходен он со Стонеговым конем.
Тяжело дышал Несмеян, в рот глядел Звездану.
— Ну так как же, — прихлопнул ладонью по столу Звездан, — сам вернешь коня али вести тебя на княж двор.
— Вона куды весть долетела, — хрипло пробормотал Несмеян. — Вона как все обернулось.
— Радуйся, что не на улице схватили тебя и что ты мой гость, — сказал Звездан, — не то слушать бы тебя не стали.
— Да не крал я фаря! — вдруг взвился Несмеян. — Не крал, и все тут.
— У половца взял? — усмехнулся Звездан.
— Про половца врал я, — признался Несмеян, — А вот то, что у Стонега увел, — наговор. Сам боярин мне его подарил.
— За что же?
— Бог весть. Шел я от Олешья, гостил у Стонега. Меды пили, вот как нынче у тебя. Боярин мне коня при прощании и подарил.
— Щедрый боярин.
— И я подивился. Но отказываться не стал — худой тогда подо мною был скакун.
— А после?
Замялся Несмеян.
— После-то что?
— Да вот, во Владимире пристал ко мне отрок — от Стонега, говорит, прислан, верни боярину коня…
— Что ж не вернул?
— Жаль стало. Привык я к нему. Да и как дружиннику без коня? Нынче сговариваюсь я с купцами, весною пойду на Волгу в Булгар. Не загуби меня, Звездан. Ну что тебе стоит? Вроде и не был я у тебя, вроде и не приметил ты фаря… А я заутра съеду из Владимира, только меня и видали.
— Нет, Несмеян, — твердо сказал Звездан. — Князю своему лгать я не стану. Но и печаль твоя мне понятна. Гость ты мой, а гостя обижать не след, христьянин я. Дам тебе другого коня, мастью похуже, но быстрого и выносливого. Не останешься ты на меня в обиде.
— И на том спасибо.
— А теперь, — сказал Звездан, — выпьем еще по чаше. Эй, Крив, уснул ты, что ли?
— Тута я! — вскочил горбун и схватился за черпак.
Горькой была для Несмеяна последняя чаша, еще горше будет похмелье.
2
Во Владимире у Негубки, куда ни глянь, всюду родичи и знакомцы. С утра до вечера переходи из дома в дом — все будут тебе рады, везде столы накрыты для дорогого гостя.
Негубка же был человеком рассудительным и хоть родичей и друзей своих не забывал, но и не баловал. Чаще других хаживал он к златокузнецу Некрасу.
Давнишняя дружба связывала их. Недаром говорят: друг другу терем ставит. Не раз выручал златокузнец Негубку из беды, не раз Негубка помогал Некрасу.
А тут едва ли не породниться собрались. Митяй Негубке был все равно что сын родной, а у златокузнеца дочь подрастала, Аринка. Не то чтобы уж очень с лица хороша, но статью пригожа, и нрав у нее был веселый и легкий.
У бывалого купца глаз завсегда приметливый: видел он, как маялся и краснел Митяй в присутствии Аринки. А там на хороводы стали вместе они похаживать, а там и вечером нет-нет да и шмыгнет златокузнецова дочь на огороды. Переглянутся дружки: знамо дело, поджидал ее у плетня Митяй.
— Не пора ли, Некрас, сватов к тебе засылать? — стал поговаривать Негубка, будто в шутку, а будто и всерьез.
Некрасу Митяй нравился. Серьезен, не то что иные. Опять же и хватка у него купцовская. Познав Негубкину науку, далеко пойдет.
И так, откровенничая друг с другом, сначала вроде бы между прочим, а потом не шутя порешили дружки: сходят Негубка с Митяем в Царьград — и самое что ни на есть время будет свадьбу играть.
Радовались купец с Некрасом предстоящему веселью, но молодым про то покамест не сказывали, однако, встречаясь друг с другом, к концу разговор обязательно сводили к свадьбе. Все уж обсудили: и к какому попу венчаться пойдут, и кого позовут в гости, и что Некрас даст в приданое за Аринкой, и какую долю выделит Негубка из своего товара Митяю для обзаведения.
В тот вечер тоже, как и всегда, сидели дружки за столом и тешились.
Среди приятного разговора в избу вошла Некрасова жена Проска с полными водоносами. Прислушалась, покачала головой и, сложив руки на животе, встала возле стола.
— Чего тебе? — недовольно спросил Некрас, потому что вести мужскую степенную беседу в присутствии бабы терпеть не мог и всякий раз злился, ежели Проска досаждала ему своими бестолковыми советами.
— Складненько у вас все получается, мужики, — сказала Проска, презрительно ухмыляясь. — И про попа все-то вы знаете, и про приданое, и в чем невеста к венцу пойдет, и как вырядите жениха, а про то и знать не знаете, что у Аринки не Митяй вовсе, а совсем другой на уме.
— Как? — разом воскликнули Некрас с Негубкой.
— А вот так. Встречается она на огороде с давешним паробком, что приводил ты к нам в гости, купец.
— Быть того не может, — пробормотал Негубка.
— Ты что это такое выдумала, старая?! — рассердился Некрас. — Али белены объелась?
— Как же, — усмехнулась Проска, — кабы белены, а то своими очами видела.
— Отстань, — отмахнулся от жены Некрас, — сослепу тебе почудилось. Ты лучше за сочивом пригляди, чем попусту языком молоть.
— Сочиву ничего не сделается, а забрюхатит девку паробок, никто другой ее за себя не возьмет.
— Митяй не забрюхатит, — спокойно возразил Негубка.
— Митяй не такой, — поддержал его Некрас.
— Да что ж это деется-то! — Проска всплеснула руками. — Я вам про одно толкую, а вы все про свое. Какой Митяй? Почто Митяя поминаете? Не с Митяем вечеряет Аринка у плетня.
— Дык с кем же? — привстал из-за стола Некрас. Негубка тоже приподнялся.
— Месяц ясный на дворе — гляньте сами.
— Нешто охота нам из-за твоей глупости на мороз выходить? — проговорил Некрас, снимая с крюка овчину.
Негубка набросил на плечи шубу, и оба дружка вывалились на крыльцо. Проска с ворчанием захлопнула за ними дверь:
— Избу выстудите, ироды!..
По замерзшим ступеням дружки нехотя спустились во двор, обогнули избу, у колодца остановились, приглядываясь. В конце огорода у плетня стояли двое.
Екнуло сердце у Негубки, Некрас крякнул и, крадучись, пошел по протоптанной дочерью тропке.
Про тропку эту оба дружка знали, даже посмеивались, подмигивая друг другу, — тогда вселяла она в них радость, теперь совсем другие мысли лезли им в голову.
Близко, на два шага от молодых, остановились Негубка с Некрасом. А ведь и верно сказывала Проска: где надо, у нее глаза острее ястребиных. От колодца высмотрела, а они только сейчас разглядели: нет, не с Митяем целовалась Аринка, не Митяю положила она на плечи свои бесстыжие руки.
Узнал Негубка Мистишу.
— Держи его! — закричал купец и кинулся к плетню. Отпрянули друг от друга молодые, Аринка заверещала.
— Ну, гляди мне, — схватил ее за выбившиеся из-под платка косы Некрас.
Негубка тем временем, неуклюже осклизаясь, полез через плетень — догонять убегавшего Мистишу. Да где ему состязаться с паробком! Покуда кряхтел да перелезал он, Мистиша был уже далеко.
— Ужо доберусь я до тебя! — погрозил ему издали кулаком Негубка.
Некрас волок упиравшуюся Аринку в избу. Купец шел рядом.
— А что я вам говорила, — встретила их у порога торжествующая Проска. — Всё не верили мне.
— Нынче поверили, — сказал, задыхаясь, Некрас и швырнул дочь перед собою на пол. — Гляди, мать, какую козу вырастили!..
Не снимая овчины, сел на лавку, решительно расставил ноги:
— Каково?
Аринка, скорчившись, глядела на него с полу затравленным зверенышем. Протяжно поскуливала и всхлипывала, рукавицей прикрывала распухшие губы.
— Ладно еще, ежели соседи не видали, — говорила Проска ровным голосом, ковыряясь кочергой в печи. Лицо ее, освещенное красными угольями, было спокойно-каменно.
Всхлипыванья становились все глуше. Не решаясь подняться, Аринка замерла на полу.
— Встань! — сказал Некрас.
Дочь вздрогнула и снова принялась хлюпать и всхлипывать.
— Вот завсегда с нею так, — объяснил Некрас Негубке, — ежели что не по ней, так сразу в слезы. И ведь знает, что виновата, а через слезы послабленья ждет… Кшить ты! — повернулся он снова к дочери. — Набралась овца репьев, так почто куды не велено лазить? Али с матерью мы тебя такому обхождению учили? Что девичьи думы изменчивы, про то я смолоду знал, да все думал, не про мою дочь говорено. Ан вишь, как оно обернулось. Выходит, и впрямь: бабий ум — перекати-поле… Будя реветь, встань! — сурово сдвинул брови отец.
По-прежнему прикрывая губы варежкой и подвывая, но теперь уже потише, Аринка поднялась с полу, но вдруг снова заголосила и пала матери на плечо.
— Куды, куды? — проговорила Проска, продолжая шуровать кочергой в печи.
— Хоть ты не брани меня, мамонька, — пискнула Аринка, — хоть ты пожалей!..
— За что ж тебя жалеть-то, — с неохотой оторвалась от печи Проска. — Не сама ли сладости себе искала? Чай, не мы с отцом блудили на огородах.
— И вовсе не блудила я, не блудила… — заливалась слезами Аринка, ерзая лицом по материному плечу.
— Да как же это? — отстранилась от нее Проска. — Коли Митяй тебе сужен был, а ты с другим миловалась — не блуд ли?
— Блуд, — кивнул Некрас, продолжая сидеть на лавке, опершись руками в раздвинутые колени. — Блуд. И другого названия греху этому нет.
Аринка провела кулаком под носом, прислонилась к стене и затихла. Отдуваясь от пара, Проска выхватила ухватом из огня горшок и поставила на стол.
Некрас задумчиво поскреб пятерней бороду. Сидя рядом с ним, Негубка молчал.
— А ты почто слова не выронишь? — вдруг обратился к нему хозяин. — Небось твово паробка вкруг носа обвела Аринка.
— Не обвела я его, — закричала дочь, — у нас и разговору такого не было, чтобы женихаться!
— Зато у нас был, — оборвал ее Некрас. — Скажи, Негубка.
Купец замялся, про себя подумал: «А ведь и впрямь, ни Аринке, ни Митяю воли своей мы не объявляли».
— Да что сказывать, — уклончиво начал он, прерывая свою речь тихим покашливанием. — Разговор у нас был, чего ж там. Да только молодых мы не спрашивали.
— Чего же их спрашивать-то? — удивился неразумному ответу своего дружка Некрас. — И так все вокруг знали. На те ж огороды бегала Аринка к Митяю. Вот и соседи…
— Про соседей и не говори, — оборвала мужа Проска, и глаза ее впервые зажглись живым блеском. — Соседи все уши прожужжали: когда да когда свадьба? Нынче что им скажу? Страм…
Она кольнула дочь быстрым взглядом и снова принялась деловито накрывать на стол: мису мужу, мису Негубке, мису себе, а дочери не поставила.
Аринка в который уже раз за вечер принялась хлюпать носом. Смекнула она: сегодня ей не ужинать — издавна повелся у матери такой обычай. Иного наказания она придумать не смогла.
За все время разговора Некрас так и не сменил позы: сидел на лавке, раскорячившись, и только руками то по пузу водил, то за ухом. Теперь был он озадачен странными словами, сказанными Негубкой. Жена не ко времени сбила его с толку, и он мучительно морщил лоб, пытаясь восстановить в памяти утерянную нить разговора.
— Вот и смекаю я, — наконец произнес Некрас, оживляясь, — вот и смекаю я, что спрашивать молодых — только баловать. А ты туды же, Негубка! Да как же не стыдно тебе такое при Аринке сказывать?
— Почто стыдно-то? — посмотрел на него с укором купец. — Не мы ли с тобою желали счастья молодым?
— Ну, мы, — насупясь, кивнул Некрас. — Почудился ему в вопросе дружка опасный подвох. Ухо навострил златокузнец — что еще скажет Негубка?
А Негубка вот что сказал:
— Ежели не по сердцу Аринке Митяй, то неволить ее не надо. Может, Мистиша ей люб?
— Ой, как люб-то, — перестав плакать, подала голос Аринка. Внимательно слушала она купца.
— Так-так, — сказал Некрас и пошлепал сапогами по полу, — так-так, — повторил он и похлопал руками по коленям. — Еще что скажешь, Негубка?
— А ничего не скажу, — отвечал купец. — Все, почитай, и сказано.
— Все ли? — прищурился Некрас.
— Как на духу.
— Лукавишь, купец.
— Окстись, Некрас! — возмутился Негубка. — Да что ты такое говоришь?
— А то и говорю, что лукавишь, купец, — еще тверже произнес златокузнец. — Сдается мне, что и раньше ты не хотел, чтобы брал Митяй за себя Аринку: не пара-де она ему.
— Да почто же тогда встречались мы с тобой да разговоры говорили про свадьбу? — изумился Негубка.
— Про то и я тебя хотел вопросить.
— Брось, Некрас, — не желая заводить ссору, при мирительно сказал купец. — От лукавого это все, а мы ударим по рукам.
— Лукав ты, но и я не прост, — поднялся с лавки златокузнец, — и желаю, чтобы ноги твоей боле не было в моей избе. Вот бог, а вот и порог, Негубка. Ступай, покуда не выгнал тебя взашей!
Метнулась к мужу своему Проска (откуда и прыть така взялась?), повисла у него на поднятой для удара руке:
— Остановись, Некрас! Кому грозишь, кого выставляешь ты из избы?! Не лучший ли тебе друг Негубка, не с ним ли делил ты и хлеб свой, и соль? Не он ли выручал тебя из беды?..
Тут и Аринка заверещала, кинулась к отцу, стала помогать матери, оттаскивать его от Негубки.
Словно волк, обложенный собаками, зарычал Некрас, скинул с себя обеих — еще сильнее обозлился:
— Кшить, заступницы! Не бабьего худого ума это дело. Как сошлись мы с Негубкой, так и разошлись. И нет такой силы, которая соединила бы нас сызнова.
— Угомонись, Некрас, — сказал Негубка, надевая шапку. — Была промежду нас дружба, встала промежду нас вражда. И не по злому навету, а по твоему недомыслию. Ну да как бог даст. Я тебе недругом никогда не был. Прощай. Прощай и ты, Проска, — повернулся он к матери с дочерью и низко поклонился им. — И ты, Аринка, прощай.
Шагнул Негубка за порог, хлопнул дверью. Некрас опустился на лавку и, помотав головой, ткнулся лицом в растопыренные ладони.
3
Не на шутку перепугался Мистиша, когда увидел кинувшегося на него через плетень Негубку.
Еще больше перепугался он, когда подумал, что нужно возвращаться в избу купца, где они жили с Кривом со дня прибытия во Владимир.
И еще стыдно было Мистише перед Митяем, с которым он успел подружиться.
Но что поделать, разве сердцу прикажешь: не на радость себе полюбил он Аринку, а на горе. А расстаться с нею не в силах. И не в силах рассказать обо всем Митяю. Сам ведь Митяй помог ему встретиться с Аринкой, хотя видел он ее и раньше в избе у Некраса (и тогда еще приколдовала она его), а тут такая несуразица случилась: идти Митяю на огороды к Аринке, но кликнул его к себе Негубка и повелел со срочным делом отправляться в Гончарную слободу — одна нога здесь, другая — там. Никак не успеть Митяю, чтобы тут и там зараз побывать. А в Гончарную слободу никому другому идти было нельзя. Вот и попросил он Мистишу сбегать к Аринке, предупредить ее, чтобы нынче вечером его не ждала.
Мистиша рад был для друга постараться: чеботы на ноги, шубейку на плечи — и был таков. Радовался он, что идет к Аринке, но, если бы только знал, чем все это обернется, лучше бы ногу подвернул, лучше бы руку сломал, свалившись на клязьминском откосе…
В тот первый вечер не сразу отпустила его Аринка.
— Коли Митяя нет, то и киснуть мне в избе? Погоди немного — месяц-то какой!.. Неужто охота тебе возвращаться к Негубке?
Промолчал Мистиша, остался. У плетня простояли они весь вечер.
Спрашивала его Аринка:
— Почто ране не встречала я тебя во Владимире?
— Издалече я…
— А Митяя откуда узнал?
— В Киеве повстречались.
— Красив ли Киев-то?
— Красив.
— А Новгород?
— И Новгород красив.
— Шибко разговорчив ты, — сказала Аринка со смехом. — Али боишься меня?
— Чего ж мне тебя бояться? — отвечал Мистиша. — Баба ты и есть баба…
Привык он в Триполе ко взрослому обращению, но это не понравилось Аринке. Отстранилась она от него, погрозила пальчиком:
— Не баба я, а девка.
— Что баба, что девка — все одно, — сказал Мистиша и вдруг почувствовал, что щеки его наливаются жаром. Благо, не солнышко на небе, а месяц — не заметила Аринка его смущения.
Долго еще после того донимала она его расспросами. Осмелел Мистиша и до того разохотился, что рассказал Аринке и про то, как увел Несмеян у боярина фаря и как повстречался ему на дороге Крив и как искали они фаря в Киеве, а потом плыли с Негубкой в Новгород. И про сломанную ногу рассказал Мистиша и про то, как исцелил его чудесный лекарь Кощей.
Долго простояли они у плетня, условились свидеться снова.
— Ну как? — встречал его в тот вечер нетерпеливым вопросом Митяй. — Исполнил ли обещанное?
Не хотел вдаваться в долгие разговоры Мистиша: только и сказал, что с Аринкой виделся, и полез греться на печь.
Не понравился короткий его ответ Митяю. Забравшись следом за ним на теплые камни, стал он шепотом выпытывать: и что сказала она, и не обиделась ли, и где весь вечер пропадал Мистиша.
Притворился паробок, будто сон его одолел, пробурчал невнятное, всхрапнул и повернулся на бок.
Следующий день тянулся до заката без конца. Одного только опасался Мистиша, как бы и Митяю не вздумалось идти к заветному плетню. Но для Митяя снова нашлось у Негубки поручение.
Увидев, как собирается Мистиша, Крив предупредил его:
— Злые люди доброго человека в чужой клети поймали. Куды это заладил ты на ночь глядя? Возьми меня с собой.
— Не боись, Крив, — беззаботно отвечал паробок. — Не с шатучими татями я снюхался. Не стрясется со мной беды.
— Иной и сам на себя плеть вьет, — загадочно сказал горбун и принялся за свою привычную работу — плести Негубке новую сеть. Большой он был мастер сети плести, а купцу в дальнем плаванье добротная снасть — хорошее подспорье.
По совести же говоря, наскучило Криву и это занятие. Бестолковая жизнь его вся прошла в дорогах. И чем выше солнышко, чем ближе весна, тем все больше и больше задумывался Крив, тем все грустнее он становился, все чаще и чаще выходил на торг, заводил разговоры с бывалыми людьми, с завистью провожал отправлявшиеся из города обозы. Манило его приволье полей и лесов, и думал он: вот сойдут снега — одного дня не останусь во Владимире. Когда получил Мистиша через Звездана своего фаря, стал подговаривать его Крив:
— Давай возвернемся в Триполь.
Ни да, ни нет не говорил ему паробок. Удивлялся горбун:
— Да что тебя держит-то?
То морозно, то оттепель — вот и все Мистишины отговорки. Пустое все это. Догадался Крив, что есть причина и поважнее. Не зря пропадает паробок по вечерам.
Так день за днем тянулись. И нынче, как и всегда, проводив Мистишу, сидел Крив один-одинешенек в избе, сеть вязал (работа уж к концу близилась), вздыхал и думал, что зря послушался паробка, зря прельстился Негубкиным гостеприимством. Жил он до сих пор по своей воле, где хотел, там и ночевал, с кем хотел, с тем и дружил — хорошо! «Нет, — сказал себе Крив, — еще раз подступлюсь к Мистише и, ежели не согласится он со мною уходить, все брошу и уйду один».
Тут дверь отворилась, и на пороге появился паробок — будто мысли его подслушал:
— Собирайся, Крив. Я уж фаря оседлал.
— Господь с тобою, — руками замахал горбун. — Ночь на дворе.
— А по мне что ночь, что утро, — отвечал Мистиша, возбужденно шаря по избе и заталкивая в дорожную суму свои вещички. — Так едешь ли ты со мной?
— Что скоро делают, то слепо выходит. Сядь, Мистиша, да объясни толком: аль беда какая стряслась?
— Такая ли беда, что хуже и не придумаешь, — присел на краешек лавки паробок. — В тепле меня холили, сладкими медами потчевали, а я отплатил черной неблагодарностью… Нет, Крив, не жилец я боле в этой избе. И ежели в ночь не уйду из Владимира, то до утра пережду на купецком подворье.
— Нет, негоже это, — укоризненно покачал головой Крив. — Сам же только что сказывал про Негубкино хлебосольство. Так неужто уйдем, спасибо не сказав хозяину? Не в моем это обычае, Мистиша.
— Ну, так оставайся, а я уйду, — поднялся с лавки паробок и руку протянул к двери.
— Никуды не пущу я тебя, — заступил ему дорогу Крив.
— Как же не пустишь-то? — усмехнулся паробок и хотел отстранить горбуна с пути. Но силушка в Кри ве была недюжинная, даже не покачнулся он под его рукой.
— Пусти, — сказал паробок. — Скоро возвернется Негубка, так ни тебе, ни мне несдобровать. Шибко осерчал он. Ежели сами не сойдем, так выставит он нас с позором за порог.
Еще больше озадачил он Крива своими словами.
— Что-то совсем не пойму, я тебя, Мистиша. С чего это вдруг взял да и осерчал на нас Негубка?
— На тебя, Крив, он не в обиде. Ты остаться можешь, а я уйду.
— Уходить, так вместе, — сказал горбун. — Но прежде расскажи мне, что за вечер переменилось.
Замялся паробок, стыдно ему стало. Рассказать — все равно что заново пережить. Но Крив, он такой — с места его не сдвинуть, ежели правды не узнает. А правда горька. Сам Мистиша в случившемся виноват.
Поведал паробок о том, как повадился ходить к Аринке, как словили их вечером и как гнался за ним по огородам Негубка.
— Вона что надумал, — внимательно выслушав его, укоризненно проговорил горбун. — Нехорошо это, Мистиша. Значит, сам девке голову закружил, а теперь — в кусты? Нехорошо… А о том подумал ли ты, каково Аринке будет перед родителями?
— Ох, Крив, и не говори, — вздохнул паробок. — Да что делать? Научи, ежели можешь.
— Ты Негубку дождись.
— Боюсь я его.
— А ты дождись.
— Одно заладил ты, Крив. А того понять не можешь, что пришибет меня Негубка, я же и пальцем не пошевелю.
— Не таков Негубка, чтобы пришибить. Голова у него на плечах, а не кочан. Там сгоряча погнался он за тобой…
На крылечке проскрипели быстрые шаги, дверь отворилась — вошел купец, сапогом о сапог постучал, с усмешкой поглядел на Мистишу, крякнул, скинул полушубок, погрел в кулаке замерзшее ухо, ногою отстранил дорожную суму, покачал головою:
— Бежать наладились?
— Понапрасну не хули, купец, — первым воспрял Крив, подтолкнул Мистишу локтем: не бойся, мол.
— А что за нужда пристала собирать суму?
— Э, — сказал Крив. — Была не была — угадал ты: едва удержал я паробка.
— Вот так-то, — кивнул Негубка. — Значит, не зря поспешал я.
Помолчал, поскреб в затылке:
— Почто же обидел ты меня, Мистиша? Аль не как сына родного привечал я тебя?
Мистиша глядел себе под ноги, хмурился.
— Аль в избе моей тебе не приглянулось? — продолжал Негубка, обращаясь к паробку. — Аль постеля была жестка?
— Всем доволен я, — с трудом поднял глаза Мистиша и прямо посмотрел на Негубку. — И в избе твоей тепло, и постеля мягка, и привечал ты меня, как сына родного.
— Так почто же в путь наладился?
Нет, не смеялся над Мистишей купец. И угрозы не было в его голосе.
— Прости меня, Негубка, — сказал Мистиша. — Но как поделим мы с Митяем Аринку?
— Об этом уж забота не моя, — возразил Негубка.
— Под одною крышею живем мы, спим на одной печи…
— Вот уж верно, — сказал Негубка, улыбаясь, — как бы не намял тебе Митяй мой бока.
— Да что с того пользы? По душе мне Аринка, как Митяю ее уступлю?
— Не меня ли в сваты зовешь?
— Митяй уж просватан…
— Чего нет, крестом не свяжешь, — сказал Негубка. — Но вот тебе мое слово: ни за что не допустит Некрас, чтобы дочь его с тобою в церкви венчали.
— Убегу я с нею…
— Сыщут. Да и Аринка не такова, чтобы на чистое небушко променять отцову надежную крышу.
Не щадил паробка Негубка, хоть и видел, как клонится под тяжестью его слов Мистишина голова.
— Не на радость тебе Аринка, помяни старика. А как быть, не знаю. Никто этого не знает.
Долго молчал Мистиша. Все молчали.
Крив достал из-под лавки свою суму, кожушок на себя напялил, сунул за пазуху рукавицы.
— Пойдем, — сказал он Мистише. — Я с тобою. А тебе, Негубка, сеть-то другие довяжут. Ты уж прости.
— И вы простите, люди добрые, — сказал купец. — Ежели что не так, не взыщите.
Когда съезжали они со двора, почудилось Мистише, будто отпрянула чья-то тень от крыльца. Верно, Митяй это был.
Весела встреча, не весело расставание. Дороги к избе не приставишь, того, что было, не вернешь.
Решил Мистиша твердо возвращаться в Триполь к боярину своему Стонегу.
4
Недолго пожил Звездан во Владимире со своей Олисавой, недолго наслаждался домашним теплом и покоем.
В один из дней, когда ударили вдруг жгучие холода, постучал в ворота усадьбы князев гонец: звал к себе Всеволод дружинника на большой совет.
— Ой, не ко добру это, — запричитала Олисава. — Неспроста кличет тебя князь: чую я — не успели встретиться и уж расставаться пора.
И верно. Сказал Всеволод Звездану:
— Ступай обратно в Новгород. Святославу поклон от меня и от матушки, а Лазарю слово мое княжеское передашь. Говорил-де Всеволод, что о проделках твоих ему ведомо и о сговоре твоем с Михаилом Степановичем тож. Но бог грешников миловал и нам завещал. И потому тако наказывает князь: как и прежде, водись с новым посадником, дары от него принимай, однако же доноси нам о каждом шаге Михаила Степановича. Остальное, мол, дело не твое, и, ежели исполнишь все, как велено, Всеволод забудет прошлое. А не исполнишь, сам на себя пеняй.
Думая о неприметном, но надежном попутчике, Звездан почему-то сразу вспомнил Мистишу. И прямо с княжеского двора отправился к Негубке.
— Не живет у меня больше Мистиша, — отвечал ему купец. — Съехал он на купецкое подворье. Но смекаю я, что нынче и там его нет: говорил мне паробок, будто хощет возвернуться в Триполь. И Крив тоже с ним.
— По боярину своему, что ль, соскучился? — усмехнулся Звездан, догадываясь, что неспроста распрощался Негубка с паробком. Ведь недавно еще собирался Мистиша зиму переждать во Владимире.
Не стал вдаваться в подробности купец.
— У молодых нрав переменчивый. Не все в толк да в пору, кто в мыслях у них прочтет? А ты поспешай, Звездан, может, еще и не поздно, — сказал он.
Повезло дружиннику. На купецком подворье застал он Мистишу.
Удивился тот приходу дружинника.
— Слыхал я, — сказал Звездан, — будто в Триполь хощешь ты возвращаться еще до весны?
— Была такая задумка, — ответил Мистиша.
— А мне говорил, что весною наладишься в путь…
— Зимою полозницы добрые — вмиг долечу до Киева, а то ждать придется, покуда подсохнут дороги.
Но не прочел решимости Звездан в глазах паробка. Не полозницы причиною, что оставил Мистиша теплую избу купца.
— Оно, конечно, прямиком-то ближе, — сказал дружинник, — но не всякий прямой путь вернее окольного. Приехал я сюды не просто поглядеть на тебя, Мистиша.
— Почто же еще?
— Посылает меня князь Всеволод в Новгород. Ищу попутчика.
— Уж не меня ли выбрал?
— Видимо дело, да как ты решишь?
Польстило Мистише Звезданово предложение, но как бросит он во Владимире горбуна?
И об этом подумал Звездан. Видя замешательство паробка, сам поспешил на выручку:
— Вот и Крива возьмем с тобой. Ловко управляется он с луком, а в дороге все может быть. Да согласится ли он?
— Крив не согласится?! — воскликнул паробок и живо выскочил из конюшни. — Крив, а Крив! — кликнул он горбуна: — Подь сюды!
Переваливаясь на длиных ногах, горбун появился в воротах, со света прищурился:
— Почто звал?
— Хошь, возьмем тебя с нами в Новгород? — сразу предложил ему Звездан.
— В Новгород-то? — по природной хитрости своей стараясь казаться равнодушным, спокойно отвечал Крив. — Так в Новгород, говоришь?
Звездан с Мистишей молчали. Горбун, скрывая улыбку, пощупал пальцами нос.
— В Новгород-то я со всею охотой! — произнес он наконец, уже не сдерживая радости.
— Вот и столковались, — кивнул Звездан и сразу перевел разговор на сборы. — Откладывать нам недосуг — заутра тронемся. Тебе, Крив, дам я коня и обоим одежду справную: как-никак, князевы мы послы.
На следующий день рассвет застал их уже далеко за городом. Мороз был крепок, солнце вставало в ярких столбах. Хоть и прибавил просинец дня на куриный переступ, а все к весне. Снег сверкал ослепительно, тут и там на переметенной дороге виднелись звериные наброды, деревья в лесах под приподнятым светлым небом стояли не шелохнувшись на ветках, неприметные летом, проглядывались черные птичьи гнезда.
Взбодренные морозцем, кони бойко шли то наметом, то рысцой.
Глава десятая
1
Как потревоженное осиное гнездо, волновалось и бурлило Олешье.
Никогда еще не видывал Негубка такого беспорядочного скопища судов: почти все устье Днепра от берега до берега было забито насадами, стругами, дощаниками, греческими дромонами и скедиями.
— Что это, Негубка? — спрашивал купца опешивший Митяй.
— А бог весть, — спокойно отвечал привыкший к неожиданностям Негубка. — Должно, взволновалось море, вот и не вышли в срок.
Благо, невелика была Негубкина лодия, ловко скользила между судами к берегу.
— Одного в толк взять не могу, — рассуждал купец, — почто бы это ромейские боевые корабли сгрудились в Олешье. В Русском море, почитай, и так-то не ежедень повстречаешь их, а тута на тебе!..
Еще больше разобрало его любопытство, когда пристали к берегу.
— Батюшки-святы! — хлопнул себя по бокам Негубка. — А народищу-то!..
Все свободное пространство на исаде плотно забито людьми. Трудно удивить купца, а тут изумление так и было написано на его лице.
Горя от нетерпения, первым спрыгнул на берег Митяй, схватил за руку новгородского гостя в синем зипуне:
— Аль беда какая в Олешье?
— А подь ты! — выругался гость, вырвал руку, исчез в толпе.
Негубка уже был рядом. Углядев стоявшего чуть в сторонке, возле сваленного в беспорядочную груду товара, степенного купца с окладистой пегой бородой, улыбчиво поздоровался с ним, как со старым знакомым:
— Не скажешь ли, мил человек, почто суета да шум, как на пожаре? Сколь раз хаживал через Олешье, а такого не видывал.
— Да и я попал нынче, как в мешок головой, — отвечал купец. — Ни дохнуть, ни глотнуть. Царьград, слыш-ко, лыцари повоевали — вот и набежали ромени, кто ноги унес.
У Негубки к коленкам подступила слабость, поискал глазами, где бы присесть. Негде. Зажмурился, про себя подумал: «Свят-свят, уж не послышалось ли?»
— Ты… того, — пробормотал он, — не хлебнул ли с утра-то?
— Не хлебнул я, не сумлевайся.
С трудом пробились через толпу, пошли к избе посадника. На церковной паперти вихлялся юродивый, рвал на себе лохмотья, кричал надтреснутым голосом:
— Братия!.. Христьяне!.. Пришел конец православной вере. Антихриста посадили на патриарший стол!..
Бабы плакали, мужики толпились вокруг угрюмо. Чуть в стороне разглагольствовал жирный ромей в потертой хламиде. Толмач переводил:
— Сие папы Иннокентия козни. И тако говорит сей муж: возгордился папа, вознамерился в гордыне своей положить Царьград к апостольскому престолу. Хитер-де латинянин и зело коварен. А после занесет папа стопу свою и над нашей Русью…
— Кукиш ему! — послышалось из толпы.
— А еще тако сказывает сей муж, — бесстрастно продолжал переводить толмач, не обращая внимания на шум и выкрики, — собралось-де в Венеции войска видимо-невидимо, и дож ихний (князь, должно, по-нашему), какой-то Дандоло, спевшись с папою, принялся соблазнять и златом переманивать к себе ратоворцев: почто, дескать, вам в Египет идти ко гробу господню, когда рядом Царьград, а в нем богатства неисчислимые…
— Ишь ты, — говорили в толпе, — тож себе на уме. Вера верою, да своя рубашка к телу ближе.
Растерянно улыбаясь, ромей кивал мужикам, все бойчее и бойчее лопотал по-своему. Толмач, вспотев от напряжения, едва поспевал за ним:
— И тако дале говорит сей муж: соблазнил-таки ратоворцев тот самый Дандоло, и пошли они и взяли град Задар. Задарские-де купцы зело ловки были в торговых делах и стояли у дожа того, яко рыбья кость в горле.
— Да что там дож! — выкрикнул кто-то. — Наши-то князья тоже друг у друга грады берут.
На него цыкнули. Толмач утомленно провел ладонью по лбу.
— Не томи, дале сказывай, — подстрекнули из толпы. Жарко было, люди дышали тяжело, но никто не уходил. Народу прибывало. Сжатые со всех сторон, Негубка с Митяем пытались приподняться на носках, чтобы лучше видеть ромея.
— Неча понукать, — кинул в толпу раздосадованный толмач. — Что хорошо, то с поотдышкой. Больно мудрено говорит ромей. Погодите, покуда разберуся.
— Разбирайся, да долго не томи, — сказали ему. — И мы, чай, люди. Солнышко-то и нас припекает.
Лица у всех были озабочены, переговаривались шепотом, как на похоронах.
Толмач полопотал с ромеем и, набрав в грудь побольше воздуха, бойко продолжал:
— Что дале-то, енто все обратно от папских хитростей. Тут он вот про что сказывал: мол, и сами ромеи виноваты, не то прошла бы мимо них лихая беда. Лексей, вишь ли, сын ихнего василевса, коего сбросили со стола, прибег к Иннокентию этому самому и стал просить у него за отца: посадите-де батюшку на стол, а мы в долгу не останемся.
— Золотишком, что ль, тоже расплатиться хотел?
— Не. Золотишка у самого папы вдосталь. Пообещал, вишь ли, Лексей, что за подмогу подчинят-де они с батюшкою Царьград со всеми землями и прочими градами апостольскому престолу…
— Иуда Лексей-то, — переговаривались в толпе. — Ишь, како расторговался…
— И пошли ратоворцы ко Царьграду, — продолжал толмач, — и взяли сей святой град, и порушили церкви, и многие дома пожгли, и многих людей побили, яко дикие половцы. И бежали ромеи со своей земли, дедовой и прадедовой, кто куды — иные в Трапезунд, иные к нам, в Олешье.
Говорили в толпе:
— Лихой беды не заспишь — палом она палит. Жалко, робятушки, ромея.
— Да, попало зернышко под жернов. Ни кола ни двора — куды ему нынче податься?..
Расходились в возбуждении, смекали по-простому:
— Выходит, ныне едино что Русь всему православию опора и надёжа.
— Надёжа… Вона и к Роману подсылает папа своих гонцов.
— Да гонит их Роман в шею.
Расходились, возвращались всяк к своим делам. Негубка с Митяем тоже вернулись на свою лодию. Думал-гадал купец: куды подевать запасенный для Царьграда товар? Куды направить стопы? Кому сбывать рыбий зуб, меха и воск?
Вот ведь прельщали же Негубку во Владимире: пойдем с нами в Булгар — купцов там видимо-невидимо, в накладе не останешься… Так нет — дался ему Царьград. А теперь к Булгару поворачивать — все лето потерять, и так подзадержались они из-за поздних холодов на волоках.
Одно только и оставалось, что подыматься к Киеву, оглядеться и либо через Полоцк к немцам на побережье идти, либо к уграм и ляхам через Волынь и Галич.
Ночью по левому и по правому берегу Днепра горели многочисленные костры. Под утро был большой переполох, кто-то сказал, что, пронюхав о добыче, из степи нагрянули половцы.
Еще теснее сделалось на исаде: с левобережья одна за другой прибывали лодии с перепуганными людьми. Рассказывали страшное: много полегло купцов во время набега. Ежели бы дружинники не отбили, ни одному бы не вернуться целу. Шибко свирепствовали степняки, чувствовали себя безнаказанно. Пленных с собою не брали, рубили на месте…
Негубка становился все мрачнее. Никогда еще не видел его таким Митяй. Даже в те далекие дни, когда возвращались они на Русь в лютые холода и вьюги, без товара и без ногаты за душой.
Или старым стал Негубка, или и впрямь знает что-то, чего Митяю покуда не понять?
…Еще день и еще ночь простояли они в Олешье. На третий день с утра велел Негубка кормчему выбираться на стремнину.
2
Привольно и без лишних забот жил в своем Триполе воевода Стонег, хаживал к вдове Оксиньице, поругивал конюшего своего Кирьяка, которому и по сей день не мог простить, что прозевал он угорского фаря, пил меды с приветливым попом Гаврилой да изредка поминал Мистишу. Теперь уж разуверился он в нем и про то говорил попу:
— Сбёг от меня паробок. Остался я и без коня и без отрока.
В то памятное утро, когда отправил он опрометчиво в погоню за Несмеяном Мистишу, въехал в северные ворота Триполя длинный обоз, и на двор к воеводе заявился не кто-нибудь, а передний муж великого князя Рюрика боярин Чурыня со своею сестрой — сухопарой и длинной Миланой.
О том, что Рюрик с женою и дочерью пострижен Романом, Стонег давно знал. Знал он и про то, что ныне сидит в Киеве Рюриков сын Ростислав. Но не стерлось в цепкой памяти его и то, каким соколом глядел Чурыня, когда сидел на совете с Романом в его избе. Не забыл он и того, как вязали на его глазах Рюрика проворные Романовы гридни. В большой лодие плывут по жизни большие бояре, а Стонег гребет в утлой долбленке. И ежели нынче не в чести у нового князя большой боярин, то завтра, глядишь, все другим концом повернется, и потому встречал воевода Чурыню с подобострастием и великой честью, а об изгнании Романа из Киева вроде бы даже и не знал.
Как только мог, ублажал Стонег Чурыню, лавки велел накрывать дорогими коврами, в глаза боярину заглядывал, льстивыми речьми его услаждал:
— Во второй раз удостоился я великой чести встречать тебя, Чурыня. Дорогой гость хозяину в почет. То-то разодрались у меня на дворе куры — к чему бы это, думаю? Ан стук в ворота… Садись в красный угол, боярин, с дороги отдохни, медку испей, а я покуда велю стол накрывать.
Но не удостоил его великой чести Чурыня, только и пригубил меду, а пить не стал. И яств Стонеговых не отведал.
— Не гостить приехал я к тебе, воевода, — сказал он, пристально разглядывая Стонега своими белесыми глазами. — Смута в Киеве, а понеже надумал я, поку да не уладятся промеж собою наши князья, отдохнуть в своей вотчине да за смердами приглядеть.
— Какая же в Киеве смута?! — невольно вырвалось у Стонега. — Слыхал я, вроде Ростислава посадил Всеволод на великий стол, и боярин Славн при нем, и Кузьма Ратьшич, все мужи зело мудрые…
От досады и негодования побагровел Чурыня:
— Славнова имени при мне ты, воевода, лучше не поминай! Зело коварен и переменчив он и нынче новому князю служит, забыв своего благодетеля. Не век носить Рюрику монатью, не век пребывать в затворе, куды упек его Роман…
Икнул Стонег и мысленно перекрестился: аль привиделось ему, аль во сне страшном приснилось, как совсем еще недавно в этой самой избе, сидя на этой же самой лавке, изобличал Чурыня князя своего в угоду Роману?!
— Истинно так, — проговорил он, не смея перечить большому боярину, — мудрые слова твои, и светел разум.
Чурыне понравился покорный вид и смиренные слова трипольского воеводы. Дотоле собранный, размяк он от притворной ласки, руку положил Стонегу на плечо:
— Держись меня, воевода, а я тебя награжу. И помни: первая пороша — не санный путь. Живи на слуху да гляди в оба. К Ростиславу нынче гонцов не шли. Приедут к тебе отроки, гридни придут, про меня пытать станут — ты никому ни слова. Понял ли?
— Как не понять, боярин, — угодливо осклабился Стонег.
Приветливый голос Чурыни сорвался на угрозу:
— А ежели не послушаешься, ежели донесешь, вот тебе истинный крест: возвернусь я в Киев, сыщу не то что в Триполе, а и на днепровском дне…
— Страшно говоришь, боярин, — вздрогнул Стонег.
— Мне не шутки с тобою шутить. Меня ты знаешь.
— Положись на меня, боярин, — пролепетал Стонег. — И не было тебя в Триполе, и слыхом я о тебе не слыхал. Тако ли?
— Верно смекнул.
Так и не понял воевода: почто наведывался к нему Чурыня, почто сразу не подался за Днепр. Тугодум он был. Только через неделю, бражничая у попа, догадался (медок просветлил): побоялся боярин, что не уйти ему незамеченным на левобережье, а воевода, еже ли не припугнуть его, прежде всех разблаговестит аж до самого Киева, что-де проходил через крепость Чурынин обоз, — перехватят боярина еще в пути. А в своей вотчине, ежели только доберется, отсидится он до лучших времен.
Все лето и всю зиму в страхе и ожидании прожил Стонег. Но никто за боярином не последовал, никто не пытал воеводу. Канул Чурыня в степях, стерся из памяти.
Зажил Стонег по-прежнему — легко и праздно. Радовался он: жизнь в крепости текла спокойно. Все ласковее становилась к нему Оксиньица. Слаще прежнего услаждала она его грешную плоть. Поп Гаврила услаждал его душеспасительными речьми. А женкина сестра Настена услаждала воеводу кулебяками и пирогами. Раздобрел Стонег в спокойствии и неге, разжирел, кожухи трещали на его раздавшихся чреслах.
Не знал он, что беда вот-вот постучится в ворота Триполя, что подъезжают к крепости посланные Славном гридни. Покуда по привычке сидел он у попа и, подперев голову, мечтательно смотрел в засиженный мухами потолок.
— Вота он, — сказал, входя в избу, широкоплечий дружинник в сдвинутой на затылок шапке. За ним следом вошли еще четверо. Все в кольчугах, на плечах коцы, на боку мечи.
— Почто не крестите лбов, басурмане? — возопил, поднимаясь из-за стола, пьяненький Гаврила.
Дружинник пятернею, обтянутой перщатой рукавицей, надавил ему на лицо, толкнул обратно на лавку. Поп захлебнулся от страха и негодования.
— Подымайся, Стонег, — сказал дружинник воеводе, — хватит бражничать, пора ответ держать.
Попытался встать Стонег — ан коленки не держат, снова повалился спиной к стене. Гридни подхватили его под руки, выволокли во двор, впихнули в седло. Везли через город у всех на глазах, посмеивались, встречая удивленные взгляды прохожих.
— Велел нам князь Ростислав баньку истопить вашему воеводе.
Настена ахнула, увидев Стонега в обществе ухмыляющихся гридней:
— Ай сызнова светел!
Засеменила впереди, оглядываясь:
— Сюды его, да на всходе не оброните!..
— Неча делать покуда твоему воеводе в избе, — сказали гридни. — Вели мовницу нагреть да не жалей парку.
— Каку таку мовницу? — оторопела Настена. — Нешто нынче праздник?
— Праздник, баба: вспомнил про твово воеводу князь наш Ростислав. Прислал нас к нему со своим словом, а боярин пьян. Дай веничков, приведем его в чувство.
Посадили гридни боярина на приступок, а покуда банька топилась, вошли в избу, потребовали себе еды и меду. Пили, гуляли, воеводу не вспоминали. Настену и дворовых девок лапали. Ни в чем перечить себе не давали.
— Половцы вы, а не княжьи люди, — в сердцах сказала им Настена. — Креста на вас нет.
— Не мы нехристи, а твой Стонег, — отвечали гридни.
— Да как же это? Сами сказывали, с княжеским словом к нему, а позорите на всю крепость. Как он людям заутра на глаза покажется? — пыталась образумить их Настена.
— Поглядим еще, — говорили гридни, — наказ нам строгий даден: ежели не по душе придется воеводе княжье слово, так везти его в Киев. Там язык развяжет!
Нет, не с добром приехали гридни в Триполь, не с дарами от Ростислава за верную службу. Испугалась Настена, запричитала, кинулась вон из избы.
Мовница в самый раз поспела: пресытились гридни медами, пошли тешиться.
Постарались челядины для своего боярина, нагнали в мовницу жаркого пару.
— Ну, воевода, не посетуй, — сказали гридни, разоболокли Стонега и бросили его на полок. Взяли в руки по веничку, стали хлестать воеводу по голой спине и по животу. До прутиков исхлестали веники, били и прутиками.
Очнулся, завопил Стонег. Усадили его гридни, голого, на лавку и стали спрашивать:
— Сказывай, воевода, таить ничего не смей. Не то еще поддадим жару. Кого принимал ты прошлым летом, с кем разговоры ласковые разговаривал? Пошто не слал в Киев гонца?
Помотал головой Стонег, замычал, задергался.
— Много людишек шло через Триполь, всех разве упомнишь?
А сам уж все понял, а у самого перед затуманенным взором Чурыня стоит. И ровный голос его бросает Стонега в дрожь: «А ежели не послушаешься, ежели донесешь, вот тебе истинный крест: возвернусь я в Киев, сыщу не то что в Триполе, а и на днепровском дне…»
— Ты, воевода, себе на уме, — говорили гридни, — но и мы не лыком шиты. Нас на мякине не проведешь. Заодно ты с князевым супостатом.
Старшой из дружинников шибко злючий был.
— Да что с ним лясы точить, — оборвал он гридней, — аль не видите, еще захотел воевода парку — полюбилась ему наша банька.
Голый-то скользкий сделался Стонег, сразу его не ухватишь. Заметался он с криком по мовнице. Забился в угол.
— Приезжал лонись ко мне боярин со своею сестрицей, — сказал он. — Обоз-то длиннющий был… А еще донесли мне, будто перегнали в канун того дня за Днепр большой табун.
— То-то же, — сказали гридни и отстали от воеводы.
Стонегу полегчало. Раз предав, больше он не задумывался. Говорил словоохотливо, даже привирал на радостях, чтобы достовернее было.
Гридни позволили ему одеться, оделись сами.
— Ну, Настена, — сказали, вернувшись впятером, словно давнишние друзья, — теперь попотчуй нас на дорожку.
Прожорливы были гридни. Или в Киеве так повелось: не кормили, не поили их, как собак перед охотой?.. Едва поспевали челядинцы подавать на стол холодные и горячие блюда.
Весь пол забросали костьми, окаянные. Ночью избу сотрясали молодецким храпом. Утром, похмелившись, увезли Стонега с собой. Настена причитала, прощаясь с боярином, воевода глядел с коня хмуро. Не ждал он, что в Киеве станут угощать его сладкими пряниками.
Проезжая по улице, еще больше растравил себя Стонег: у своей избы стояла, пригорюнившись, тихая Оксиньица, ручкой махала, давясь слезами, крестила его, как покойника.
3
Славно припугнул Звездан Святославова пестуна. Удалась Всеволодова хитрость. Прибыв в Новгород к вечеру, наутро увез он Лазаря в Зверинец, и на том же почти месте, где предался тот Михаилу Степановичу, сказал ему, придержав коня, дружинник:
— Приехал я, боярин, от князя суд над тобой вершить да скорую расправу. Предал ты своего господина, вот и пришла пора ответ держать. Молись покуда, а я подожду.
Свалился боярин в снег, на коленях подполз к Звезданову коню.
— Не губи меня, Звездан. Не спеши казнить, а выслушай. Хошь, побожусь: не предавал я Всеволода. Злые языки возвели на меня хулу, завистники одолели…
— Не бери на себя еще одного греха, боярин, — сказал Звездан, обнажая меч. — Всеволода ты обманул — бога не обманешь, лжи он тебе и на том свете не простит. А на этом свете моею рукой свершит правосудие.
И тогда смекнул догадливый Лазарь, что по верному, по горячему следу вышел на него Всеволодов посланец, что отрекся от своего боярина князь, вымарал из жизни своей, как буквицы из греховной книги. И все ж таки униженно вымаливал боярин себе жизнь:
— Повремени, Звездан. Еще успеешь срубить мне голову. Подумай, может, пригожусь я князю. Как-никак преданно растил я его дитя. Не вовсе, чай, чужой человек…
— Сгубила тебя, Лазарь, алчность твоя, — сделав вид, будто подействовали на него жалостливые стоны и причитания боярина, сказал Звездан. — Встань и сказывай, как на духу: кабы помиловал тебя князь, стал бы ты верою и правдою служить ему, как и прежде, или, вымолив жизнь, снова принялся бы лгать и изворачиваться?
За тонюсенькую надежду ухватился Лазарь:
— Не казнишь — так и сделаю все, как повелит мне Всеволод.
Звездан помедлил, кивнул и бросил в ножны обнаженный клинок.
— Повинной головы меч не сечет. Раскаянием спас ты себя, боярин. Ибо князь наш Вселовод чадолюбив и, отправляя меня, оставил тебе право искупить свой великий грех. Пользуйся, но запомни: никто не должен знать о нашем разговоре. И с Михаилом Степановичем как была у вас дружба, так пущай и продолжается. Не сумлевайся, бери дары его — после рассчитаемся. Но за каждый шаг посадника будешь ты предо мною в ответе…
После сказывал Лазарь — не на шутку встревожился Михаил Степанович, когда узнал, что снова появился в Новгороде Звездан. Велел прознать, за какой нуждою прибыл на Ярославово дворище Всеволодов пес.
— Пса я ему еще попомню, — сказал боярину Звездан, — а ты Михаилу Степановичу шепни, что, мол, пронюхали о чем-то в Понизье. Глядишь, что и сболтнет с перепугу, выдаст своих сообщников.
— К тебе придет посадник, — предупредил Лазарь, — хощет сам тебя попытать.
— Хорошо, ежели попытает, — загадочно улыбнулся Звездан.
И верно, не заставил себя долго ждать Михаил Степанович. Темно у него было на душе, чуял он опасность, а откуда грядет она, не знал.
Со Звезданом говорил учтиво, справлялся о здоровье Всеволода и княгини. Напомнил (не забыл), что по просьбе князя тут же отослал во Владимир Кощея.
— Не ведаешь ли, како дошел лечец, облегчил ли Марии страдания?
— Кощея встретил я в пути, — отвечал Звездан, — и, како дошел он, не знаю. Но во владимирских пределах опасаться ему нечего. Это в Новгороде татям и иным лихим людям раздолье, в Понизье же они и носа не кажут.
— Мудр, зело мудр Всеволод, — угодливо согласился Михаил Степанович и утер платочком заслезившиеся от умиления глаза. — Да вот беда, не верит он нам, детям своим, всей правды о нас не знает. Уж ты бы, Звездан, просветил князя-то…
«Как же, как же, — думал Звездан, — соловьем заливаешься, боярин. А на деле? Вон днесь только схватили у Ивана-на-Опоках возмутителя, купцов подговаривал не торговать с Низом. Так куды ниточка-то ведет? Не к тебе ли, посадник?»
Но о том ни слова не сказал Звездан Михаилу Степановичу. На просьбу его отвечал:
— Как возвернусь во Владимир, буду говорить со Всеволодом. И про тебя не смолчу, все расскажу князю.
С лукавинкой отвечал, с подвохом: ступай, мол, разберись, о чем речь пойдет.
Не понравился Михаилу Степановичу уклончивый ответ Звездана.
Звездан же нарочно стал спрашивать про Лазаря:
— Не теснит ли вас, не творит ли беззаконие? Беспокоится Всеволод: упрям боярин, въедлив. Не переусердствовал бы…
— Ох как въедлив-то, — сразу подхватил Михаил Степанович.
Тогда еще камешек бросил Ззездан:
— Может, возвернуть его во Владимир? Может, Якова к вам прислать?
— Всем хорош Яков, — спохватился Михаил Степанович, пристально глядя на Звездана, — но заменит ли он Лазаря при молодом князе? Привык Святослав к своему пестуну…
— И то правда, — согласился Звездан, с удовольствием примечая, как понравился его ответ посаднику.
«Увертлива лиса, — подумал он, когда удалился Михаил Степанович, — ловко следы заметает хвостом, а о том не догадывается, что уж поставили мы на него капкан — только ногой попасть».
4
Днепровским деленым берегом возвращались в Триполь Мистиша с Кривом. Год минул, как встретились они в этих местах, а ничего вокруг не переменилось. И река была все та же, и на том же месте прорастали вислоухие лопухи. Только Мистиши было не узнать: сидел он на фаре, подбоченясь, как заправский дружинник, в седле держался прямо, посматривал с коня спокойно и с достоинством.
Не отпускал его из Новгорода Звездан, княжеской службой прельщал, уговаривал:
— На что тебе, Мистиша, дался Стонег? Каково-то еще примет он тебя в Триполе? Сызнова будешь стягивать с боярина сапоги, а со мною тебе вольно. Со мною ты не пропадешь.
— С тобою мне вольно, — соглашался паробок. — С тобою я — хоть на край земли. Вот сведу боярину фаря, тогда и возвращусь.
…Ехали Мистиша с Кривом по днепровскому берегу, все ближе к Триполю. Вот еще село осталось проехать, где повстречался паробок год назад с обозом боярина Чурыни — и дома он, у знакомого Стонегова терема.
Только что это за чудеса — будто время вспять поворотилось? Не по себе даже сделалось Мистише: и село то же самое, и церковка та же, и тот же у церковки обоз. Не наваждение ли? Вон и всадник скачет встречь, размахивает руками.
Потянул на себя поводья, остановил Мистиша фаря. Горбун перекрестился:
— Пронеси, боже, меня не трожь. Как бы не угодить нам в нерето.
Но, подъехав ближе, всадник поубавил прыти: смутили и его ладные кони и одежда незнакомцев. Мистиша в седле держался гордо, смятения не проявлял. И первым обратился к всаднику с вопросом:
— Не скажешь ли, мил человек, чей обоз в селе и куды держит путь?
— Сразу видать, что вы не тутошние, — сказал, становя коня бок о бок с Мистишиным фарем, всадник. — Бежал из Киева за Днепр боярин Чурыня. Да вот, вишь ли, словили его, ведут на правёж к Ростиславу. А вы отколь?
— Из Новгорода. И путь наш лежит в Олешье, — на всякий случай бойко соврал паробок.
— Никак, своих купцов отправились выручать? — осклабился всадник.
— Почто выручать-то? — не понял Мистиша.
— Вона что! — протянул всадник, радуясь, что впервые слышат они новость из его уст. — Ратоворцы взяли Царьград, так в Олешье нынче народу — тьма. Отовсюду сошлись купцы, набежали ромеи, а плыть им некуды… Ха!
Мистишу с Кривом новость поразила, но ничего сверх того, что сказал, встречный добавить не мог: сам еще толком ничего не знал.
Разговаривая, въехали в село. Но задерживаться не стали. Тут же тронулись дальше. Только когда скрылась за поворотом церковная макушка, вздохнули с облегчением — пронесло.
Сначала на дороге было пустынно, но ближе к Триполю стали появляться встречь ремесленники и смерды. Как ехал Мистиша в Киев, все его узнавали, приветствовали с улыбкой. На этот раз почтительно отступали с дороги, кланялись, избегали смотреть в лицо.
Да-а, лопухи-то как росли, так и растут поныне на том же месте, а паробок переменился — не рабом в душе, не холопом безродным возвращался Мистиша в Триполь и сможет ли, как и прежде, стаскивать с боярина своего сапоги? Впервые задумался он над прощальными словами Звездана — неужели прав был дружинник?.. И все тоскливее становилось ему, все пас мурнее делалось Мистишино лицо, а когда показались валы и городские вежи, в робости остановил он коня. Может, назад поворотить, пока не поздно? Может, погодить и не въезжать в гостеприимно распахнутые ворота? Не торопиться надевать на себя сызнова холопский хомут?..
Походил по земле паробок, попировал со знатными боярами за одним столом, с вольными купцами делил жару и стужу. Стрелять из лука научился не хуже Крива, меч не оттягивал ему руки, в седле держался, как лихой дружинник, — так стерпит ли он былые унижения от Стонега, не возмутится ли, не восстанет ли против хозяина своего и не кончит ли дни свои в порубе, словно мятежный тать?
Вот так думал Мистиша, стоя перед воротами Триполя, и с вопросом в глазах оглядывался на Крива.
— Что, расхотелось, Мистиша, к боярину? — понял его горбун. — Вспомнил небось про батоги да шишки? Пойдем-ка отсюдова, покуда не поздно.
Но решился Мистиша (даже лицо его исказилось от напряжения):
— Въедем, а там будь что будет. Не хититель я, должен вернуть боярину его фаря.
И воротник, с которым знакомцы старые были, тоже не признал Мистишу, и поп Гаврила, попавшись встречь, даже глазом не повел, и конюший Кирьяк, отворивший им, испуганно попятился, сгибаясь в подобострастных поклонах. Но, взяв коня за уздцы, вдруг просветлел, забормотал невнятно:
— Батюшки-святы, ин фарь-то, никак, сам к нам на двор…
Но тут же осекся, вскинув глаза на вершника.
— Господи! — завопил он и кинулся к крыльцу. — Настена! Гляди-ко, кого бог к нам привел.
— Чего орешь? — выплыла на всход Настена, пригляделась к всадникам. — Ступайте, ступайте, увели уж боярина. Неча тут высматривать…
Мистиша спешился, намотав на руку плеточку, взбежал на крыльцо.
— Не признала, Настена?
Стоял рядом, Кирьяк посмеивался в бороду. Настена попятилась, замахала перед собой руками:
— Ишь ты, уж и на крыльцо сразу. Может, мовницу истопить повелишь и меня, как Стонега, — веничком?..
— Каким веничком? Почто веничком-то? — вытаращил глаза Мистиша. Что за напасть — не тронулась ли умом баба?
Кирьяк посмеивался, Настена отступала к двери.
На последнее решился паробок.
— Пощупай, Мистиша я! — крикнул он, и тут только дошло до Настены. Вздрогнула она, обмякла, припала с громким плачем к плечу паробка.
— Вторую седмицу с нею так, — обстоятельно пояснил Кирьяк, — с той поры, как увели в Киев Стонега.
— Стонега-то в Киев зачем? — спросил Мистиша.
— А бог весть, — сказал конюший. — Должно, за боярина Чурыню ответ держать. Шибко измывались над ним гридни, в баньке мыли. Вот и поминает она про венички…
Чудно все это было. Рассмеялся Мистиша, да так, что удержу нет. Едва не покатился со всхода.
— Тебе смех, вона какой вымахал, — попрекнула его Настена, — а боярину каково — душа у него едва в теле. Не вернется он, как есть помрет в порубе. И чего связался с Чурыней, будто своих забот ему мало.
— Чурынин обоз мы нынче видали, так и Стонег не с ними ли?
— Не, его ране увезли, — пояснил Кирьяк. — Уж больно шумные были гридни, едва всю медушу не вылакали.
— Чай, и до них Стонег с Гаврилой полмедуши опростали, — сказал Мистиша.
Дерзко сказал, Кирьяк рот открыл от удивления. Зато на этот раз Настена не растерялась.
— Вольно рабу боярина поносить! — оборвала она паробка властным голосом (слезы еще не высохли на ее щеках). — Не отведать бы тебе с дорожки-то наших батогов?!
— Ставь фаря-то в конюшню, — окреп голосом и Кирьяк, наскочил на Мистишу, будто бойцовский петух.
Серой бледностью покрылись щеки паробка, положил он руку на рукоять меча (Крив, все еще сидя на коне, потянул через голову лук).
— Пропил своего фаря Стонег, — сказал Мистиша сквозь зубы, — а ентот конь мой. Так что попусту рот на него не разевай, Кирьяк. Тебе же, Настена, вот что скажу: не раб я твой. И батогов твоих не шибко боюсь. Меч при мне, даренный Звезданом, Всеволодовым милостником — попробуй кто, подступись. Не ста ну я боле сымать сапоги боярину, в Новгород уйду, в Святославову дружину.
И, перепрыгнув через перила крыльца, вскочил в седло, развернул коня. Засмеялся с издевкой:
— Еще, может, когда и свидимся. Еще, может, и я угощу Стонега распаренными веничками!..
5
На улице тепло, а в палатах у митрополита — холодный полумрак. Едва цедят солнце забранные в мелкие стеклышки оконца…
Опираясь о посох, мертвенно-бледный Матфей сидел в кресле, слушал, как служка читает свиток, окольными путями, через Болгарию, доставленный ему из Царьграда.
Казалось, пергамент жжет руки. Служка сбивался, вздрагивал и вскидывал на митрополита исполненные неподдельного страдания глаза.
Писали Матфею латинянин из Венеции — католический прелат Томазо Морозини, занявший патриарший престол, и избранный крестоносцами император Балдуин Фландрский. В исполненных высокомерия витиеватых выражениях император сообщал о своем восшествии на византийский трон и намекал о выгодах взаимопонимания. Они еще смели грозить Матфею, требуя выдачи бежавших в Киев врагов истинной веры!..
Митрополит поморщился, хотел остановить служку, выразить свой гнев, но сдержался и махнул рукой, чтобы тот читал дальше.
Дерзкие слова глубоко ранили его, боль от случившегося была почти непереносима. Матфей щурился и глубоко вздыхал.
И было от чего: положение его в Киеве с этого дня становилось двусмысленным. С одной стороны — глава православной церкви, с другой — ставленник патриарха, которого уже в Царьграде нет.
Больших сил и средств стоило Матфею добиться киевской митрополии. И что же? Мечта всей жизни рушилась на глазах.
К чему были его усилия, хитрости и подкуп стоявших возле патриарха бессовестных мздоимцев? К чему был отказ от земных, пусть и мимолетных, благ? К чему ночные молитвы и бдения, если все это враз обращается в тлен?..
Неужто в тлен? Тщетно билась мысль митрополита, искала выхода. И не находила. И мрак безнадежности окутывал его старческое сердце.
Если раньше в трудную минуту взор его с надеждой обращался к родине, то теперь и родина расплывалась в неясности, ибо все, что оставлено там, унижено, осквернено, поругано.
Не разверзлись над врагами хляби небесные, и не покарала их десница божия. Торжествуют они победу над руинами Царьграда, а изгнанные из жилищ своих ромеи, рассеянные по свету, горько оплакивают свое былое величие.
Оплакивает его и Матфей и не ищет в молитвах успокоения. Ибо раньше молился он, и не услышал его господь.
Так думал митрополит и тут же сам себя опровергал с беспощадностью. Только ли алчные латиняне — источник и причина обрушившихся на Византию зол? Силою ли своего оружия повергли они в прах могучие стены Царьграда? Не сами ли ромеи подточили их еще до того, как пришли к их подножию и приставили осадные лестницы ослепленные блеском царьградского золота рыцари? Не заботами о единстве и крепости государства жил утопающий в роскоши императорский двор — мелочной враждой, интригами и подкупами. А народ изнывал в нищете, и в упадок приходило некогда сильное войско…
Старательно двигал губами служка — Матфей почти не слышал его. Обычные высокопарные слова, ни к чему не обязывающие заверения и — ложь, ложь, ложь.
Вздрогнул митрополит — свежим воздухом потянуло по половицам. Поднял глаза, удивленно привстал в кресле: в палатах бесшумно появились молодой князь Ростислав и боярин Славн. Склонили обнаженные головы под благословение. Выпрямились, взглянули на служку. Матфей сделал знак — и тот, положив на стол пергамент, тут же исчез.
— Услышали мы о горе, постигшем тебя, митрополит, — сказал боярин.
— Прими наши соболезнования, — вторил ему Ростислав.
Грусть, застывшая в их глазах, тронула митрополита. Матфей выпрямился, улыбнулся, ибо не пристало его высокому сану являть перед паствой земную печаль.
Говорил Славн:
— Унижены мы все, отче, и разделяем твою беду. Святая София осквернена — это ли не кощунство? Но стоит София киевская…
При последних словах он гордо вскинул голову.
— Стоит и стоять будет вечно. Мы тебе порукой, и не иссякнет вера, покуда держит длань наша меч.
Витиевато выразился боярин, и в иные дни показалась бы речь его нарочитой. Но сегодня звучала она уместно, и Матфей вдруг почувствовал благодарность к боярину.
Это не ускользнуло от внимательного взгляда Славна. Он продолжал:
— Не господа ли сие воля, что избрал он нашу землю? Не нам ли, отче, уготовано нести и хранить от врагов свет истинной веры?
Вздрогнул митрополит.
— Что говоришь ты, сын мой? — произнес он пересохшим ртом. — Будто навсегда погребен под пеплом Царьград. Не верю и верить в то не хочу. Не дадут погаснуть, сохранят мои собратья божественный огонь…
— В пещерах? — был беспощаден Славн. — Русь велика, просторы ее необозримы. Не знаешь ты нас, митрополит. Исполненный напрасной тщеты, разум твой спит…
— Да, необозримы просторы Руси, — согласно кивнул Матфей. — Однако же не Христу единому поклоняется твой народ — еще не всюду окинуты языческие идолы, а в сердцах даже тех, кто верует, живет и по сей день Перун. Не знанием, но силой приведены они ко кресту.
— Не для того, чтобы препираться с тобою, пришли мы сюда с князем, — выслушав его, возразил Славн. — Исполнены мы заботой об изгнанных. Доносят нам, что собрались они в Олешье, а иные, оставшиеся без крова, разбрелись в отчаянии по земле. И, поразмыслив, тако решили мы и тебе про то говорим: пущай селятся в Киеве или в иных градах, где будет им по душе, обстраиваются и живут, как у себя дома. Гонений и иных обид чинить мы им не будем.
Устыдился Матфей. Вот оно что: покуда занят он был одним только собою, князь и бояре его думали о бездомных ромеях, изгнанных крестоносцами из Царьграда.
В поучениях своих призывал он паству к состраданию, а сам в себе истинного сострадания не взрастил.
Учил возлюбить ближнего, а сам, получив дурные вести, обеспокоился лишь своею судьбой. А когда протянули ему руку помощи, пустился в рассуждения об истинной и ложной вере, хотя нужно было просто поблагодарить благородных русичей.
Из киевских митрополитов никто до него и он сам так и не поняли русской души. Считал он, что лишь с помощью слова божьего держится эта земля, расцветают искусства и ремесла, а ослабеет влияние церкви на мирские дела — и разбредутся все, погрязнув в невежестве, по лесам, как дикие звери.
Вот к чему приводит высокомерие: сегодня эти же люди преподнесли горький урок своему пастырю…
Ростислав вышел, следом за ним вышел боярин. Во дворе их ждала дружина.
Матфей приблизился к окну, долго смотрел им вслед. Потом, шаркая ногами, вернулся к креслу и тяжело опустился на сидение.
6
С тех пор, как Чурыню со всем его имуществом, с чадами и домочадцами привезли под стражей в Киев, ни Ростислав, ни Славн не встречались с ним, словно совсем забыли о его существовании.
Боярин ожидал, что его бросят в поруб, будут допрашивать и пытать, доискиваться сообщников (так бы поступил он сам), но его не бросили в поруб, не пытали и не допрашивали, а доставили в собственный терем и строго предупредили, чтобы ни в княжеских палатах, ни на улице он не показывался, сидел тихо и ждал, пока призовут.
Быстрей боярина пришла в себя Милана, голос ее все громче и громче раздавался то в людских, то на дворе — лицо Чурыниной сестрицы снова обрело привычное выражение: было оно благолепно и смиренно, словно вырезанный из камня лик Богородицы.
Боярин же, потрясенный случившимся, не то что на улице не показывался, но и не выходил из повалуши, листал евангелие, подолгу лежал на лавке, накрывшись шубой, вздыхал, а во сне постанывал.
Шли дни, проходило первое оцепенение. Разрозненно всплывали отрывки воспоминаний.
…Большим числом явились гридни к засеке, требовали к себе Чурыню, показывали грамоту, скрепленную серебряной княжеской печатью.
Но ни грамоты читать, ни гридней пускать к себе боярин не хотел. Старшой миролюбиво уговаривал его:
— Тебе же лучше будет, ежели сам предашься в наши руки, боярин. Не доводи до греха, не принуждай нас брать тебя силою.
— Силою вам меня не взять, — кричал Чурыня, прячась за частоколом. — Ежели Рюрика упекли в монастырь, так я туды не хощу.
— Опомнись, — говорил старшой. — Нешто сын упек отца своего? Роман сотворил сие бесчестие.
— Роман!.. Боярина Славна это проделки, — возразил Чурыня. — И ныне водит он рукою молодого князя. Печать-то на грамоте Ростиславова, а писана она Славном. Мечтает он о моей погибели, дабы некому было его обличать пред киянами.
Свое гнул Чурыня, нахальством смущал гридней. Откуда знать им, как все на самом деле было? Ведь поставил же Славна Роман воеводою в Киев!
Посоветовавшись, гридни дали клятву боярину:
— Не тронем мы тебя и слова твои Ростиславу передадим. Но не исполнить его приказа не в нашей власти.
Слушок мал, а разрастается в большую молву. Каждый, кто умен, смекает: нет дыма без огня. А в крепостце своей Чурыне все равно не отсидеться. Велел отворять он ворота, велел собирать возы.
Сдержали свое обещание гридни: не бесчинствовали, боярина везли в Киев хоть и под стражей, но с почтением.
И нынче, отсиживаясь в своем терему, так подумал боярин: не тревожат его, потому как был старшой человеком дела и слов своих на ветер не бросал — донес до князя сказанное Чурыней.
Не первую волку зиму зимовать. Мозоли у Чурыни на зубах, знал он что говорит. И ежели подслушал бы беседу Ростислава со Славном, совсем перестал бы бояться.
— Бог был милостив и нам милостивыми быть велел, — сказал князь своему переднему мужу. — Старые долги платить надо, но сдается мне, что и слух прошел неспроста. Сколь помню я Чурыню, никогда не восставал он супротив отца. А то, что соглашался он с Романом, так кто не грешен?
Намек Ростислава, принятый боярином на свой счет, оскорбил Славна.
— Али мне что ставишь в вину?
— Не горячись, Славн. Тебе я верю, но и иным отцовым мужам верить хощу… На кого обопрусь тогда, ежели всех брошу в темницу?
— Не всех, а врагов отцовых и своих. А смилуешься, так сам в поруб угодишь. Такое уж не раз бывало…
Неуверенно чувствовал себя в присутствии Славна князь. Взял боярин в привычку поучать и опекать его… Оборвать бы переднего мужа, поставить на место, но язык у Ростислава на такую дерзость не поворачивался: помнил он, как носил его боярин на руках, сажал впервые на коня. Не до сына было Рюрику — сколько знает Ростислав отца, никогда не приласкал он его, добрым словом не приветил. Либо пировал, либо охотился, либо ссорился со своими соседями.
Славн знал или чувствовал это. Не давая Ростиславу опомниться, говорил по-отечески ласково:
— Ты на меня положись, княже. Худому я тебя не учил, на дурное не подталкивал. Все слова мои с делами сходились. За Рюрика в беде один я восстал. Другие-то голоса своего возвысить на Романа побоялись…
— За мною не пропадет, — сказал Ростислав. — Добрые дела твои я помню, оттого и возвысил тебя. Но возомнил ты, боярин, — продолжал он изменившимся голосом, — возомнил ты, что и шагу мне не ступить без твоих советов. И так говорят в Киеве, что не князь, а Славн, боярин его, всему голова. Князь-де у него едва ли не на побегушках…
— Снова злой наговор! — вскинулся Славн. — Мало ли что болтают на торгу? Не пристало тебе слушать простолюдинов.
Бывало, говорила Верхослава своему мужу:
— Ты на отца моего погляди. Ты с него пример бери. Он и думу с боярами думает, и выслушает каждого, не перебьет. А после свое скажет, и все ему вторят, никто не посмеет перечить. В Киеве же бояре наперед тебя вылезть норовят…
Может, и не ко времени, может, и не по тому случаю вспомнились Ростиславу слова жены? Может, и прав был боярин Славн — не стоило прощать Чурыне всем видимое его предательство?
Но вдруг закусил удила Ростислав, понес, как необъезженный жеребец:
— Будя, будя учить меня!.. Зело предерзок ты, боярин, — язык-то попридержи. Дался тебе Чурыня, что встал супротив него горой. Аль других забот у тебя нет?!
Вот так всегда молодой князь: верных людей отдалял от себя, приближал льстецов и стяжателей. А ведь уверен был, что поступает правильно, что пресекает своеволие бояр. Самим Чурыней брошенный слушок принял на веру.
«Остановись, княже! — хотелось крикнуть Славну. — Опомнись: пропасть перед тобою. Не твердость, но упрямство взяло тебя в полон. Простив Чурыне, развяжешь ты руки не ему одному. Все ринутся к тебе, ища незаслуженных милостей. А после сами же с криками ликования дружно свергнут тебя с Горы!»
Но воздержался, не стал перечить Ростиславу боярин. Поклонился ему и вышел.
Пожалел он о слабости своей, садясь на коня. Хотел вернуться, хотел броситься к ногам князя, попытаться еще раз отговорить его, но представил себе окаменевшее лицо Ростислава, его твердо сжатые губы — и не вернулся, печально понурил голову и медленно съехал со двора…
Если бы знал обо всем этом Чурыня, возликовал бы, лучшую рубаху бы надел, серебром расшитые сапоги, вышел бы на залитые солнцем улицы Киева — вот он я!
Но еще не день и не два пришлось ему ждать, прежде чем принес в его терем гридень приятную весть. И странно: хоть и новую рубаху он надел, хоть и сапоги натянул, расшитые серебром, хоть и возликовал, но порадовался не солнышку, не тому, что князем прощен, а тому порадовался, что волен он теперь исподволь сводить давние счеты.
На лучшем своем коне отправился боярин к Ростиславу, унижался, лебезил, низко кланялся и просил князя:
— Дозволь, княже, взглянуть на трипольского воеводу.
Вторым на примете был у него старый Славн, но это после, доберется он еще и до Славна — лишь бы в самом начале не оплошать. И еще были у боярина задумки, но покуда хранил он их за семью печатями.
Ростислав добродушно посмеялся над боярином:
— Ну на что тебе Стонег? Пущай возвращается в свой Триполь.
— Не все знаешь ты, княже, — заученную речь свою высказал Чурыня. — Сеть хитро сплетена, и Стонег в ней не самая последняя ниточка.
Не столь красноречив был Славн, а у хитровцев язык поворотлив — кого хошь убедит Чурыня. И глаза у него ясные, и улыбка светла, и голова легко опускается в поклоне.
Насторожился Ростислав, как и рассчитывал боярин, самую суть схватил:
— Про какую обмолвился ты сеть, почто Стонег в ней не последняя ниточка?
И снова заученно (все продумал боярин) стал мяться и увиливать от прямого ответа Чурыня.
От нетерпения Ростислав даже топнул ногой:
— Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Покуда всего не скажешь мне, я тебя отсюдова не отпущу.
— Дозволь, княже, прежде как скажу, проведать Стонега, — взмолился Чурыня. — Догадка у меня есть, а хорошего человека долго ли оклеветать? Чай, на себе испытал.
«Хорошо, что не послушался я Славна, — подумал Ростислав. — Чурыня-то мне еще как сгодится!» И еще понравилось ему, что не ссылался боярин на прежние свои заслуги, а ведь он, как и Славн, стоял когда-то у Ростиславовой колыбели, сватом ездил ко Всеволоду, когда брал молодой князь в жены себе Верхославу.
— Что ж, — сказал князь милостиво, — ступай ко Стонегу. Но не закончен наш разговор, помни.
— Уж и как только благодарить тебя, княже! — воскликнул обрадованный Чурыня. — Не пожалеешь ты, что положился на меня. А я для тебя тако ли расстараюсь!..
«Что это с князем стряслось? — удивился боярин, шагая вслед за стражником через двор к порубу. — Ежели так и дале пойдет, то и вторая моя задумка нынче же осуществится».
— Вниз сойдешь, боярин, — спросил стражник, — али сюды вызволить узника?
Из дыры, где сидел Стонег, густо тянуло затхлостью и зловонием.
— Сюды, сюды, — морщась от отвращения, нетерпеливо сказал Чурыня.
Стражник привычно откинул дверцу в полу и спустил деревянную лестницу.
— Эй, Стонег! — крикнул он в темноту. — Подымайся-ко — гости к тебе пожаловали.
Из дыры послышалось ворчание, лестница дрогнула, показалась взъерошенная голова воеводы.
Не сразу узнал его Чурыня: в яме изменился Стонег — борода не чесана, глаза на почерневшем лице ввалились и потухли.
— Батюшки! — всплеснул боярин руками. Это от сердца вырвалось, этого не предусмотрел Чурыня заранее. — Будь здрав, воевода, — сказал он Стонегу и взглядом велел стражнику выйти за дверь.
Стонег обессиленно опустился на лавку. Дурно пахло от него, но Чурыня, помня свое, виду не подал, не отодвинулся от него, заговорил с сочувствием:
— Чай, не у бабы на перине в порубе-то?
— Куды уж там! — угрюмо отвечал Стонег, шевеля напряженными пальцами рук.
— Чай, на волю хочется?
— Кому ж не хочется-то? Охота смертная, да участь горькая…
— Сам во всем виноват.
— Сам ли, не сам ли, а только всё на меня. Пытали меня гридни, упаси бог — света белого не взвидел.
— Я тебе наказ давал, Стонег: про меня ни-ни. За свой язык и поплатился. Я же, како видишь, здоров и цел, у князя меды пил — к тебе пришел исполнить свою угрозу. Готов ли ты, воевода?
Даже сквозь грязь, покрывавшую Стонегово лицо, проступила смертельная бледность. Повалился он с лавки на пол, обнял Чурынины колени, завопил, обливаясь слезами:
— Смилуйся, боярин! И так хлебнул я лиха — век не забуду Ростиславов поруб!..
— Недолго тебе помнить-то осталось, — жестоко усмехнулся Чурыня. — Как смахнут тебе голову, так и память долой.
— Да что же это, господи! — по-собачьи поскуливал Стонег. — Сколь жил я в Триполе, горя не знал, во всем старался угодить князьям. Рюрику верой и правдой служил, Ростислава чтил, яко отца своего, Роману не перечил…
— Остановись-ко, воевода, — вдруг перебил его Чурыня. — Слово у тебя одно нечаянно вылетело, а я его и подхватил.
— Како слово? — поднял к нему мокрое от слез лицо Стонег. — Ишшо что надумал, боярин?
— А вот и не надумал, просто слово поймал. Теперь подумаю, куды его употребить.
У Стонега мелко застучали зубы.
— Боишься? — улыбнулся Чурыня.
— Боюсь, — признался Стонег.
— А как придут голову сечь, еще страшнее будет…
— Еще страшнее, — кивнул Стонег.
— Помирать-то кому охота?
— Ой, вынул ты из меня душу, боярин! — снова принялся вопить и поскуливать Стонег.
— Погоди-ко, — поморщился Чурыня. — Дай думу додумать. Шел я сюды — хотел твоей погибели, а пришел да поглядел на тебя — так сердце у меня и сжалось. И слово, что вылетело из твоих уст, меня надоумило: не желаю я боле твоей погибели, Стонег, а хощу с тобою вместе погубить моего и Ростиславова врага.
— Куды уж мне! — отшатнулся Стонег, догадываясь, что новые козни Чурыни не сулят ему облегчения. Таков уж боярин, что слова просто не вымолвит, а все с заковыкой.
— Ослобони ты меня, Чурыня. А я тебе буду вечный должник.
— Ослобоню, — уверенно кивнул боярин. — Да вот только должок нынче же платить будешь.
— Да како я тебе заплачу, коли пребываю в узилище?
— Не злато мне твое надобно и не серебро. Я слово твое услышать хощу, — задумчиво проговорил Чурыня, не спуская со Стонега пристальных глаз. — Обмолвился ты давеча, что угождал Роману, как был он у тебя в Триполе…
— Да как же князю не угодить! — вскинул голову Стонег.
— Погоди, — нетерпеливо поднял руку боярин. — И боле не перебивай меня, а слушай и запоминай. Знаешь ли ты Славна?
— Кто же его не знает? Пытал меня боярин, про тебя вызнавал.
— Вишь — боярин, а не князь. То его — не Ростислава проделки. И князь пребывает во тьме, ибо не знает истины. Белый свет застил ему боярин Славн. Сам же не во славу Киева, а себе одному на пользу вершит свои грязные дела. И тако скажу — не я, а Славн пожелал твоей смерти…
— Да на что я Славну?!
— Молчи. — Чурыня с пристрастием оглядел воеводу, остался доволен и продолжал. — Ты один был в Триполе свидетелем его предательства. Покуда пировали в твоей избе, сговаривался во дворе со Славном Романов печатник Авксентий. Тогда еще пообещал галицкий князь, что вручит ему Киев.
— Не было этого, — в испуге отшатнулся от Чурыни Стонег.
— Было, воевода, было. И ты, войдя во двор, тот разговор подслушал.
— Не слышал я разговора!
— Ой ли? — нехорошо засмеялся Чурыня и встал, — Ладно, не слышал, так не слышал. Прощай, воевода!
И он решительно шагнул к двери. Передернулся Стонег, в мольбе протянул к нему руки:
— А я как же?
— Ты не мой, а Славнов узник.
— Убьет он меня.
— Убьет, — подтвердил Чурыня и прикоснулся рукою к дверной скобе.
— Погоди, боярин! — завопил Стонег, — Не хощу я помирать, жить хощу.
— Сперва расквитайся с должком. А там и ступай, куды глаза глядят. Вольному воля, спасенному — рай.
— Страшусь я…
— Чего страшишься-то? Пойдем ко князю, я с тобою рядом буду. Поклянешься на кресте, что слышал Славна с Авксентием.
— Ой-ей-ей мне, — снова мелко затрясся всем телом Стонег. Еще немного осталось, еще чуть-чуть припугнуть его.
— Эй, стражник! — позвал, отворив дверь на улицу, Чурыня.
Переломился, упал животом наземь Стонег.
— Был я на дворе в тот день. И Авксентия слышал и Славна. Был, был, — говорил он со стоном, мотая головой.
Глава одиннадцатая
1
Вынужденный Всеволодом отказаться от Киева, раздосадованный Роман возвратился в Галич, недолго побыл в нем и весною отправил гонцов в Краков сказать Лешке и матери его Елене: «Мой и ваш враг Мечислав умер, и я за вас рад. Вы же помнить должны старый наш уговор. Я помог вам против Мечислава, ранен был и потерпел многие убытки. Отплатите мне за содеянное мною добро, а ежели нет у вас столько серебра и злата, то отдайте мне Люблин».
Все хорошо взвесил Роман, одного не учел: не тот уже был Лешка. Не слушался он матери своей, русской княжны, а больше следовал советам окружавших его алчных можновладцев.
Потешался Лешка над Романовыми гонцами:
— Вона чего вздумалось Роману! Злата и серебра захотелось, а не пора ли ему отведать нашего железа? Скачите и передайте своему князю — пусть убирается восвояси, покуда не проучил я его, чтобы впредь не зарился на чужое добро.
Разгневался Роман. В самое больное место ранили его эти слова.
— Жгите, разоряйте и берите все! — сказал он дружине. — Еще поклонится мне Лешка, так ли еще поплачется! — и, собрав войско, двинулся к Сандомиру.
Пока шли через Волынь, погода стояла сухая и ясная, но едва приблизились к польскому порубежью, как зарядили затяжные дожди.
Не часто случалась в здешних краях весною такая непогодь. Ладно бы еще грозы, ладно бы ливень, а то легла на землю вязкая пелена, дороги расползлись, обоз с оружием и доспехами застрял в пути.
Не нравилось это Роману. Сидел он, нахохлившись, в промокшем шатре, слушал, как стучат по натянутому верху дождевые капли, злился.
Пришел печатник Авксентий, отряхнулся, как кот, — стряхнул с корзна холодные брызги; отроки следом за ним вкатили бочонок меда.
— Что это, что?! — взорвался Роман. Глаза его сузились.
Не узнавал Авксентий своего князя. Бывал он буен во хмелю, а в трезвости — спокоен и сдержан. Что случилось с Романом, не может быть, чтобы причиною тому была одна лишь распутица?..
Авксентий подал знак, и перепуганные отроки мигом выскочили из шатра.
— А ты?! — сверлил его острым взглядом князь.
— Тоже гонишь, княже? — с мягкой улыбкой, словно перед капризным ребенком стоял, улыбнулся печат ник. Улыбка подействовала на Романа, он промолчал и отвернулся. Авксентий сел напротив, уперев в колени ладони, ждал.
— С обозом-то как? — не оборачиваясь, через плечо спросил Роман.
— Послал гридней, — сказал Авксентий, — пущай помогут.
Роман кивнул.
— А коней?
— И коней взяли в поводу.
— Наказать бы им, чтоб не жалели. У ляхов не один табун возьмем, а пока нам к спеху. Опасаюсь я, не идут ли впереди войска Лешкины проведчики. Как бы в другой раз не угодить в засаду…
Роман вдруг резко повернулся, склонился к Авксентию:
— Вижу, по глазам вижу — с новостью пришел. С недоброй?
— Бог весть, — сказал печатник, — иная новость и недобрая, а потом добром оборачивается.
— Сказывай.
Поднеся ко рту кулак, печатник прокашлялся:
— Шел тут кружным путем человечек к Матфею. От ромеев.
— Ну?!
— Допросил я его. Ершистый оказался, гордый. Сперва и говорить со мною не хотел: старший князь-де у вас в Киеве, а ты кто такой?
— Ишь ты, — усмехнулся Роман. — Ты, Авксентий, ловок, ты из него небось все вытряс?
— Всё не всё, а кое-что вытряс. Взяли, вишь ли, латиняне Царьград.
Ожил Роман, вскочил, забегал. Остановился над печатником, сопел тяжело.
— Не брешет?
— Куды брехать-то? Сам патриарх его снарядил на Русь. С грамотою…
— Ан жив патриарх!
— Не прежний ныне патриарх в Царьграде, Романе. Нынче все переворотилось. Патриарх и тот не нашей — латинской веры…
Думал Авксентий — сейчас взорвется князь. А тот вдруг рассмеялся. Долго смеялся Роман, вытирал пальцем выступившие на глазах слезы.
— Помнишь, как приходили ко мне легаты от Иннокентия? — спросил, все еще улыбаясь.
— Как не помнить. Настырны были зело. Выпроваживал я их, так идти прочь не хотели…
— Соблазнял меня папа…
— Ох, и соблазнял!
— Хотел королем русским меня учинить… А с дарами-то прибыли легаты скудными. Всё норовили, как бы от нас что с собою унести.
— Зато обещал тебе Иннокентий и злато, и иное богатство, и грады у ляхов для тебя добыть, — напомнил Авксентий.
— А како ответствовал я им? Вот мой меч, сказал я, им распространю и умножу я землю Русскую.
Любил, когда хвалили его, Роман. Лесть любил. Сам похвалялся. Но на сей раз похвалою не себе была исполнена его речь:
— Поучали нас ромеи, быстро забыли, как брал их на щит Олег. Темные-де мы, прячемся от света божьего в леса и болота. Вона как!.. Нынче, поди, в Киев на коленях приползли, просят убежища. А я иду на ляхов — и короля ихнего Лешку, папой венчанного, заставлю трепетать, яко зайца. А ведь тоже горд, тоже себе на уме. Вот и весь мой ответ Иннокентию. И за Царьград, и за поруганную веру нашу.
Теперь уж не смех стоял в его глазах, а застыло светилась ненависть.
Вдруг у самого шатра зачавкала грязь, сполошно заржали кони.
Вбежал отрок, зашатался, прижимая ладонью бок, медленно стал валиться на сторону. Едва успел подхватить его Авксентий, под рукою почувствовал сырое и теплое — кровь. Из спины отрока торчал расщепленный обломок стрелы.
Роман, как был, простоволосый и в одной рубахе, выскочил во тьму.
У костров шла жестокая схватка. Пешие батогами отбивались от конных. Пешие были босы и без кольчуг, на конных знакомо поблескивала дощатая броня. Опешил Роман: ляхи! Откуда?.. Живо повернулся, снова вбежал в шатер, выхватил из висевших на столбике ножен меч. Авксентий все еще склонялся над умирающим отроком, смотрел на князя со страхом.
Роман прыгнул с пригорка, огляделся: где-то рядом должен быть конь. Разглядел, обрубил поводья, вскочил прямо на мокрую от дождя, скользкую спину — вперед.
Тут же насел на него рослый в броне — с свете костра кроваво чиркнул Романов меч, тяжело ударился, вошел в мягкое. Не оглянулся, вперед поскакал князь. Хрипя и размахивая руками, рослый валился с седла, цеплялся за гриву коня, хотел жить, но не удержался, рухнул наземь, затих.
Впереди раздавались крики, удары стали о дерево, мелькали белые рубахи, над ними черно высились всадники, работали, словно лес рубили.
Роман тоже в белом, как и все свои, врезался в свалку, бил мечом, как придется, краем глаза приметил: не он один уже на коне.
Остро кольнуло в левую руку (нет щита!), потом в бок (на гвоздике в шатре висит кольчужка!) — от полученных ран еще злее сделался князь. Окрепший меч его не знал пощады: вот еще один свалился, другой ткнулся носом вперед, словно заснул.
Рядом рубились дружинники, только теперь началась настоящая потеха — попятились ляхи, думали в лесу запутать свой след. Да не тут-то было: сметливые у Романа вои — покуда рубился князь с ляхами у костров, обошли они нападавших и у самой опушки встретили их меткими стрелами.
Тут и сече конец. Попадали ляхи с коней, подняв руки, стали просить пощады. Шибко обозлились на них вои — добивали и на земле, пока Роман не заступился:
— Почто бить, их мужики? — сказал он. — Лучше вяжите да и в обоз, когда подойдет. То-то распашут они нам осенью поля под пшеничку!
— И верно говорит князь, — опомнились ратники, стали вязать ляхов, снимали с них доспехи и сапоги. А одного по знаку Романа вязать не стали, привели в шатер.
— Ну, — сказал Роман, — отколь в гости пожаловал?
Молчал побитый лях, подтекшим глазом смотрел на князя в упор.
Оправившийся от страха Авксентий прыгал вокруг пленника, дергал его за усы:
— Стань на колени, раб! Аль не видишь, князь Роман перед тобой — не простой дружинник! Стань!..
Не хотел вставать на колени лях. Авксентий сказал князю:
— Дай его мне, Романе. Я ему пятки прижгу — живо заговорит.
Лучшая забава для печатника — глядеть, как муча ются другие. Сам-то он, ежели даже и ножичком чуть себя окровянит, так и сразу в обморок.
— Слыхал, о чем просит меня печатник? — снова обратился Роман к пленнику. — Не позавидую я тебе, ежели и впрямь угодишь ему в руки. А ежели на мои вопросы отвечать станешь, то не отдам печатнику, отпущу с миром.
Чувствуя, что добыча вот-вот ускользнет из его рук, стал упрашивать князя Авксентий:
— Вишь, молчит лях. Не станет он с тобою разговаривать. Не лишай меня радости, Романе, дай потешиться. Уж больно разгорелся у меня на него глаз, с чего бы это?
— А тебе и невдомек, что меня спрашиваешь? — усмехнулся Роман. — С виду ты смиренник, а нутро у тебя хуже звериного. Ладно, не обижайся, — заметив, как нахмурился печатник, успокоил его князь, — бери, коли так. Пользы мне от него никакой.
— Будет, княже, польза. Еще кака польза будет, — расплылся Авксентий в улыбке и стал легонько подталкивать ляха к выходу. — Мне все скажет, от меня тайн ни у кого нет… Плохо еще знаешь ты своего печатника!
— Куды как знаю, — состроил брезгливую гримасу Роман. — Велел бы я тебя самого на угольях подпалить, кабы не верность твоя. Зол ты без причины, Авксентий, — так бы весь род человеческий и извел. Тебе только волю дай!..
— Для тебя стараюсь, княже, — почтительно склонился печатник. Дернул пленника за рукав, — Слышал? Подарил тебя мне Романе — радуйся.
Лицо ляха покрылось крупными каплями пота — весь разговор князя с печатником понял он. Вырвался от Авксентия, пал к ногам Романа:
— Смилуйся, не отдавай меня своему человеку, князь. Спрашивай, все тебе скажу — только смилуйся!
— Вот, — кивнул на пленника Роман. — Напугал ты его своими речьми. Придется обратно свой подарочек возворачивать. Ты уж не обессудь.
Раздосадовал он Авксентия. Лакомым куском только подразнил, а уж потекли у печатника слюнки. Проглотил Авксентий тугой комок:
— Щедрость твоя мне ведома, княже. Об чем речь? Нынче не одарил ты меня — одаришь в другой раз. Я терпелив.
— Бог терпел и нам терпеть завещал, — сказал Ро май. — Ступай, Авксентий, я и без тебя обойдусь. Хощу с пленником с глазу на глаз говорить.
— Воля твоя.
Ворча и негодуя, вышел Авксентий.
— Отколь проведали вы, что иду я на Сандомир? — спросил Роман ляха.
Тот отвечал покорно:
— Проведчиков посылал на дороги войт.
— И про обоз донесли проведчики?
— И про обоз, — улыбка тронула губы пленника. — Покуда беседу ведем мы с тобой, княже, обоз твой гонят по другой дороге в Сандомир.
Вскочил князь, побелел, замахнулся:
— Врешь ты все, подлый лях!
— Почто врать мне, Романе? И так прогневался ты, — пожал плечами пленник. — Весь я в твоих руках: захочешь — печатнику отдашь, захочешь — вздернешь на осине.
Понравился Роману спокойный ответ ляха. Сдержался он, сел, стал еще спрашивать:
— А велика ли дружина в Сандомире?
— Дружина невелика, но город на милость тебе не отдастся: страшатся гнева твоего, Романе, не верят, что пощадишь ты не то что воинов, но и малых детей. Матери младенцев именем твоим пугают, говорят: «Вот придет Романе, унесет в свой Галич, закует в железа…»
— Хороша колыбельная! — хрипло засмеялся Роман. — А что, как правду сказывают мамки?..
Помолчал князь.
— Сказки про меня сложили, — сказал он с печалью в голосе и посмотрел на ляха с укором. — Себе на уме ваш войт — один на стену не пойдешь. А как нагнал он на вас страху, так и все за рогатину. Не с бабами да младенцами я дерусь. Лешка — мой давнишний должник. Вот сквитаюсь с ним и уйду восвояси…
Велев напоить и накормить пленных, он кликнул к себе лучших своих дружинников и приказал по пути, указанному ляхом, скакать и вызволять обоз…
2
Опередили Негубку с Митяем — в Галич понаехало столько купцов, что на торгу и не протолкнуться. Через Перемышль и Дуклянские ворота уходили обоз за обозом на Угорщину.
— Нам с ими делать нечего, — сказал Негубка. — Подадимся на Волынь, а оттуда к ляхам. Там народу помене будет.
На Волынь прибыли ко времени: князь Роман, сказали купцам, только-только ушел с войском к Сандомиру, следом за ними идет обоз.
— Дело это верное, — быстро смекнул Негубка, — с князевыми людьми нам по пути.
Старший обоза, высоченный дядька с усами до плеч, басистый и расторопный, сначала брать их с собою не хотел.
— Вы, купцы, народ смирной, — говорил он, — толком и меча взять в руку не умеете. Куды вам с нами? Не в гости идет Роман к ляхам.
— Знамо, не в гости, — отвечал Негубка. — А про купцов ты зря худо подумал. Дай-ко мне меч свой, погляди, как я с ним управляюсь.
— Не смеши меня, старче, — благодушно отмахнулся старшой. — Может, когда и управлялся, а днесь перетянет тебя боевая сталь… Ну да ладно. Вон отрок у тебя — глядишь, и сгодится. Крепкий парень.
Отслужив на ранней зорьке молебен, тронулись с богом. Ехали ходко, с дружиной, ушедшей вперед, пересылались вестунами, радовались ясной погоде, об опасности не думали. В галицко-волынских пределах земля была своя, гостеприимная и добрая.
Хоть и посмеялся над Негубкой старшой (Яном его звали), а в дороге льнул к бывалому человеку.
— Приметил я, не впервой ты, купец, в наших местах, — говорил он, подгоняя коня к Негубкиному жеребцу, — едва ли не лучше меня знаешь здешний путь.
— Лучше, не лучше, а ходить случалось, — с охотой отвечал общительный Негубка. — Ты бы меня поспрашивал, где только быть мне не довелось! Я ведь лишь зимую во Владимире, а летовать, сколь помню себя, ни разу не летовал. Чуть стает снег, чуть стронутся реки — и нет меня. То здесь, то там. Подбивали и нынешней весною дружки идти с ними вместе в Булгар — зря не согласился. А оттуда, глядишь, подался бы и еще дале — в Хорезм. Чудная, сказывают, земля, но добираться до нее не просто — Волгою плыть, Хвалисским морем да через степи, слышь-ко, через безводье и сушь…
— Да-а, — удивлялся Ян. — Одного не пойму: отколь в тебе, купец, этакая прыть?
— Отколь? А вот отколь: нас ноги кормят. А еще разбирает меня охота на другие страны взглянуть. Вот ты небось всю жизнь провел на Волыни?
— А то где?!
— Вот. Ратаи и воины прочно на земле сидят. Ремесленники тож. А я — что твое перекати-поле…
— Хорошо ли это? Землю любить надо.
— Бог весть. И я землю свою люблю: как вернусь ко Владимиру — на колени паду, каждое деревце обнимаю, как ладу. Да только сдается мне, что без нашего брата ни то ни се… Едем мы, к примеру, с тобой, я тебе разные байки сказываю. Ты мои байки после другим передашь, другие — еще кому. Вот и смекает народ: не мы одни землю пашем, не на нас свет клином сошелся. Где-то за порубежьем тоже не звери — люди пашут, ставят соборы, дороги мостят, бабы такие же, как у нас, детишек рожают. Каждый жить хощет, и каждому жизнь дорога… Вчерась пошел, убил ты ляха — вроде и нелюдь он. Нынче лях пришел, убил нашего — вроде и наш для него нелюдь. А почто так?.. От незнанья, от слепоты. Возьми меня — иду я с тобою к Сандомиру, рядом мы, только руку протянуть, а мысли у нас врозь. Тебе все на чужой земле враги (так Роман тебе сказал), а у меня в Сандомире знакомый лях — тож, как и я, купец, гостем у меня во Владимире был, мед пил за моим столом, песни пел. Так отчего стану я дом его предавать огню, жену и детей угонять в рабство?.. Торгуем мы не год и не два — и оба с прибытком, и обоим нам хорошо…
— Вона куды повернулась задушевная беседа, — усмехнулся Ян. — Послушал бы тебя наш князь… Только думаешь, купец, мне охота тащиться за Романом с обозом?.. Но опять же — куды себя подевать? С детских лет я у князей наших обозником. Тем и кормлюсь, тому и рад, что вернусь не с пустыми руками. Каждому господь свое на роду написал: одному торговать, другому водить обозы, третьему железо варить. А уж после все между собой сочтемся.
Так ехали себе они, плохого не думали, о том, что будет, не гадали. Солнце жарко пригревало поля, от сочных зеленей подымались испарения. Казалось, надолго установилось ведро. Но, прислушавшись с вечера к тревожному треньканью и стрекотанью зяблика, Ян покачал головой и предрек к утру дождь…
Сбылось его предсказание. Ночью прохладный ве тер подул, еще до рассвета небо обволокло тучами, заморосило. Солнце едва-едва пробилось, вселило надежду, но спряталось снова, и к полудню дождь припустил с такой силой, что хоть рубахи выжимай.
Развалило дороги, желтая грязь наматывалась на колеса, лошади скользили, падали, рвали постромки, обозники чертыхались, щелкали кнутами — все зря.
К вечеру, когда совсем темнеть стало, прискакали взволнованные гридни:
— Почто, яко на волах, тащитесь?
— А куды шибче? — отвечал за всех Ян. — И без того кони выбились из сил.
— Ты, старшой, обозников погоняй, — сказал один из гридней. — Жаль им лошаденок, а князь серчает.
— Своя, небось, животина…
— То-то, что своя. Гляди, после не раскайся. А ну, обознички! — бодро прикрикнул гридень. — Поднатужьтесь, до ночлега близко — всего за версту отсюдова поджидает вас Роман.
— Нешто в ночь будем гнать? — ворчали в ответ обозники. — Версту-то по такой грязи и до утра не одолеть.
— Это кто там голос подает? — привстал на стременах гридень. — Кому неможется?
Молчали. Стояли с непокрытыми головами вокруг гридней, переминались, вздыхали.
— Ну что, — выручил их Ян, — расстараемся для Романа? Небось наградит нас на ночлеге князь, а?
— Наградит, наградит, — охотно пообещал гридень.
Расходились с тяжелым сердцем, а куда деться? Криками помогали лошадям, подталкивали засевшие в лужах возы. Двинулись нога за ногу.
Совсем стемнело. Во мраке приблизились к лесу, глядели по сторонам с опаской.
Кто-то показался на дороге, за дождем не разобрать — кто. Не один и не двое. Остановились. Чуть не доехав до встречных, попридержали коней и обозники. Ждали.
— Почто стоите? — наехал на передних нетерпеливый гридень.
— Да вон, людишки впереди незнакомые, — отвечая хриплым шепотом, ткнул во тьму кнутом один из обозников.
— Каки еще людишки? — рассердился гридень. Что-то добавить хотел, но махнул рукой, поскакал безрассудно вперед.
— Куды, куды ты! — рванулся за ним Ян.
За пеленой дождя послышалась возня, чужая настороженная речь. Гридень как сквозь землю провалился.
Знакомо фыркнула опереньем стрела, кто-то вскрикнул:
— Ляхи!
Бросив коней, обозники кинулись в чащу. Дышали тяжело, чавкали шкуряками по вязкой грязи.
— Стой! Стой! — поскакал наперерез им Ян.
Впереди на дороге звенели мечи — это гридни вступили в схватку. Но чувствовалось, что ляхов им не одолеть — все ближе подходили они к обозу, все реже звенели мечи, потом и вовсе стихли. Негубка с Митяем не стали ждать беды — тоже порскнули за деревья. Один только Ян остался на дороге. Некуда было ему подеваться — он за всех в ответе. Окружили его вершники, кричали, перебивали друг друга. Потом Ян стал звать обозников:
— Выходите, вас они не тронут.
В лесу надежно — попробуй, сыщи за стволами. Обозники не отвечали.
— Худо Яну, — шепнул купцу Митяй. — Ой, как худо!
— Чего уж Яна-то жалеть, — отвечал Негубка. — Он им нужен, его они не посекут. А вот мы сызнова без товару…
Пошумев без толку, ляхи сами взялись за обоз. Да не тут-то было. Глубже прежнего увязли возы — их и на волах не вытащить, не то что лошаденками.
Снова приступились ляхи к Яну, и снова стал звать Ян обозников. Глухо в ночном лесу, ни звука в ответ.
Дождь так и лил не переставая. Истощилось у ляхов терпение, спешились они и, сбившись в кучу, сунулись в чащу. Обозники, а вместе с ними и Негубка с Митяем побежали без оглядки во влажную лесную глубину. Долго бежали. Устав, остановились, стали прислушиваться, нет ли погони. Погони не было, тишина стояла вокруг, только дождь пробегал по листочкам. Пристроились под кроной старого бука, пригрелись да так и не заметили, как задремали.
Проснулись от шума, протерли глаза, вскочили. Светло уже было. Дождь перестал. Вокруг стояли люди, обличьем русские.
— Челом тебе, купец, — сказал, лукаво улыбаясь, один из воинов. — Хорошо ли спалось, покуда справлялись мы с ляхами?
— Погоди, погоди, — смутился Негубка, — а ты отколь взялся тут?
— Думал, пригрезилось?
— Ей-ей.
— Не боись. Пощупай, коли так.
Негубка и впрямь пощупал его. Стоявшие рядом обозники добродушно смеялись.
Веселой гурьбой возвращались к дороге. Подшучивали друг над другом, вспоминали ночное происшествие:
— Ай да пугнули нас ляхи!
— Кабы не подоспели вовремя дружинники, так и бежали бы до самого Галича.
— Спасибо Роману, позаботился о нас.
— Не о нас, а о своем обозе…
Подъехал Ян, остановился над купцом. На левом его глазу красовался синяк.
— Добро, хоть сыскали тебя, Негубка. А то стронуться не решались. Туды-сюды сунулись, нет купца…
Злобно зыркнул на Яна Негубка:
— Помню, помню, как уговаривал ты обозников. Что — своя жизнь дороже? Ась?..
Смутился Ян, густо покашлял и молча тронул коня.
— То-то же, — смягчившись, пробормотал ему вслед Негубка.
3
Опасаясь новой встречи с рыскающими по дорогам дозорами Лешки, окольными путями добрались наконец Негубка с Митяем до осажденного Сандомира.
Тревожно было в городе, ждали худшего. Невесело встречал сандомирский купец своего гостя.
— Что-то лица на тебе, Длугош, нет, — проходя за хозяином в дом, сказал Негубка, — Вроде бы и не рад ты мне.
— Рад я тебе, да время-то какое! — вздыхал и охал Длугош. — Ссорятся наши князья, а ваш Роман, пользуясь смутой, сеет вокруг себя смерть… Видел ли ты, сколько набежало в крепость народу? Всё лишние рты, а нам и самим прокормиться нечем.
Сильно изменился Длугош, совсем не узнать было в нем когда-то живого и напористого собрата. Взялся успокаивать его Негубка, но напрасно старался.
— Езус-Мария! — закатывал Длугош помутневшие от страха глаза. — Что же делать нам, что же делать?
Помню я ужасные времена: голодные толпы громили склады, безжалостно растаскивали наше имущество, отца моего зарубили на пороге вот этого дома. А у меня четверо ребятишек…
Сверху спустилась жена Длугоша, такая же бледная и испуганная.
— Посмотри только, Андзя, кто к нам прибыл! — изо всех сил стараясь бодриться, однако же уныло воскликнул Длугош.
При виде гостей продолговатое лицо хозяйки еще больше вытянулось, сморщилось, и печальные ее глаза наполнились слезами.
— Располагайтесь, гости дорогие, будьте, как у себя, — сказала она срывающимся голосом и пробежала мимо них, захлебываясь от рыданий.
— За детей скорбит, — сказал Длугош. — Вот уж который день с нею так. А то сидит, молчит, слова из нее не вытянешь…
— Да, — согласился Негубка, — материнское сердце беду чует. Но сдается мне, всполошились вы до срока. Сколь известно мне, Роман надеется миром поладить с вашим Лешкой.
— А тебе откуда знать?
— Дак шел я до вас с Романовым обозом.
Оживился Длугош: вот удача — из первых рук обо всем узнать.
— Скажи, Негубка, — стал выпытывать он у купца, — верно ли, что Роман пашет на пленных?
— Это вас войты ваши запугали, — сказал Негубка. — Отродясь такого не было, чтобы пленных впрягали в орало, яко скот. Обычай мягкий на Руси — сажает Роман ваших людей на новые земли, вот и весь сказ. А поле и наши смерды пашут, так что с того? Хлебушко с неба не дается, потом поливается…
— Успокаиваешь ты меня, купец, — не поверил ему Длугош. — Сердце у тебя доброе.
— Охота мне тебя успокаивать. Или сам не хаживал в наши края?
— Что правда, то правда, — кивнул Длугош, — и я не замечал, чтобы впрягали у вас людей в орало.
— Слава богу, волы еще не перевелись. Не верь своим войтам, Длугош. Мне поверь. А ежели кого и стеречься тебе, то сам знаешь. Сам про то мне только что говорил. Однако же, — он постучал костяшками пальцев по столу, — князья дерутся, а нам промышлять.
Приехал я, чтобы звать тебя с собой в Гданьск.
— Куда звать? В какой Гданьск? — опешил Длугош. — Гостевать у меня гостюй, а ни в какой Гданьск я с тобой не поеду. Что же мне, семью бросить на произвол? Нет, дам я тебе надежного проводника, вот и ступай.
— Да, видно, нам не сговориться, — сказал Негубка.
— И не проси.
— Кто знает, может, ты и прав. Я-то и сам, поди, своих в беде бы не бросил. Прости меня, Длугош, показывай, где ночевать. И проводника твоего мне не нужно — не впервой, доберусь до Гданьска. А там погляжу.
Прощаясь на зорьке с Длугошем, заметил Негубка — облегченно вздохнул купец.
— Все слышал, Митяй? — спросил он своего спутника, когда они отъехали от Сандомира и пылили на возу по хорошо укатанной дороге. — А слышал, так запоминай. Не токмо незнакомых людей разделяют княжеские ссоры, но и друзья забывают, как вместе делили хлеб и соль. Разве я не смекнул, отчего так забеспокоился Длугош? Боялся он не столько Романа, сколько своих доводчиков. Прознал бы войт, что остановился у него русский купец, так возвел бы на невинного человека напраслину, потянул бы к ответу. В такое время ухо держи востро, гляди да оглядывайся, говори, да не заговаривайся. Даже лучше, что не поехал с нами Длугош: от испуганного человека пользы не жди… Сами мы с усами, а язык не токмо до Киева, но и до Гданьска доведет.
— Почто ты, дядько, сподобился идти на Гданьск? — полюбопытствовал Митяй. — Мог бы и в Сандомире обменять свой товар, а отсюда на Русь ближе.
— В Сандомире сейчас переполох. Честного торга нет. А без честного торга не мена — грабеж, — сказал Негубка. — В Гданьске будем с немцами торговать.
— Торговали уж, — намекнул Митяй на то, как однажды возвращались они из Поморья без товару и без ногаты за душой.
— Про что ты думаешь, так это завсегда за нами не пропадет, — отвечал Негубка. — Зато на хорошем торгу стоит наше купецкое счастье. Редких товаров наберем мы в Гданьске — в Новгороде им большая цена.
Эко товар, подумал Митяй. Раньше ходили они длинным обозом, а нынче Негубка поскупился, не все сгрузил с лодии, — прощаясь в Киеве, наказывал корм щику подниматься по Днепру и переволакиваться в северные реки. Встречу назначил в Новгороде.
Храбрился купец, но рисковать, как это раньше бывало, не хотел…
Через несколько дней однообразного пути по чужой земле прибыли они в Гнезно. Погостили недолго, отправились к морю.
Погода сопутствовала им, дни стояли ясные. Кони бежали легко, мимолетные дождички прибивали на дорогах едкую пыль.
У Негубки улыбка не сходила с лица: радостно было, что на этот раз, кажется, подвалила ему удача.
Глава двенадцатая
1
Бурлил, ревом толпы и бесчинствами полнился Новгород.
По настоянию Звездана (владыка Митрофан поддержал его на Боярском совете) молодого князя Святослава перевезли в Городище, вокруг поставили надежную стражу, на воротах обновили затворы — вместо прежних прибили новые, кованные из крепкой стали.
Навлек-таки на себя всеобщий гнев Михаил Степанович, не уследил за ним Лазарь, но немало потрудился и сын Мирошки Нездинича безоглядный и вспыльчивый Димитрий. Помогал ему в этом его брат Борис, еще совсем молодой, но нравом крутой и беспощадный.
Собирались в терему у прежнего посадника, нынче в нем Димитрий жил. Пили, веселились, а между весельем сговаривались:
— Ловко Михаил Степанович обвел вокруг пальца Всеволодова сына. Да и боярин Лазарь и дружинники тож словно бы ослепли: явного не замечают, все больше дают ему воли. Нам же, братия, о себе помышлять надо. Всех, кто прежде Мирошкиничам привержен был, люто изводил Михаил. Так-то к весне всех на корню изведет, и сам корни повыщипает. А Алексей Сбыславич, старый лис, теперь при нем первый подпевала.
— Это какой же Алексей-то?
— Вот оно! — вскакивал с лавки Димитрий. — Честной народ и знать его не знает и ничего о нем не ве дает. Пришел, сказывают, этот людин с Невоозера, мелкой торговлишкой баловался, а уж чем пленил Михаила, про то никто не слышал, сам же он помалкивает. Зато теперь, поглядите-ко, что за терем у Алексея, и торговлишка повелась не какая-нибудь, а с Готландом.
— Лестью, лестью приманил Алексей посадника, — сказал Борис зло. — Мне б его, я б с него спесь-то вместе со шкурой спустил. Почто на шею Новгороду сажать пришлого человека без роду и без племени? Нешто сами плохи? Или слабоваты умишком?
— Слабоваты, свет ты мой. Ой как слабоваты, — с усмешечкой вставил кто-то. Другие подхватили:
— Малолеток Святослав, нам бы покрепче князя.
— Окромя Всеволода, просить не у кого.
— Пущай даст нам Константина, — сказал Димитрий и оглядел заговорщиков. Был он себе на уме, сидел, слушал, смекал что к чему: не князь и не владимирские бояре в городе власть — они чужаки, власть — Михаил Степанович. На его место метил Димитрий. Давнишняя это была у него мечта, еще при жизни отца ее вынашивал. А преставился Мирошка — сейчас Димитрий в колокол, но мало кто в те поры услышал его: еще была свежа в памяти у новгородцев недавняя его разгульная жизнь. Вот и выбрали Михаила себе на голову.
Димитрий прикидывался, будто покладист. Себя не выпячивал, потому как все равно знал: мысли присутствующих обращены к нему. Смекают кончанские старосты, что выиграют, что проиграют от прихода молодого Мирошкинича.
Хоть и подзабыл Михаил Степанович обещания, даденные им при избрании новгородцам, но можно и напомнить. Димитрий же покуда только возводит на всех хулу, а обещать ничего не обещает.
Прижимисты старички, ничего из нажитого потерять не хотят. Ради того и стараются. Но все ж таки гложут их сомнения: а соберется ли выслушать старост посадник? Не обвинит ли в сговоре? Не пойдет ли к Лазарю с жалобою? Не начнет ли пытать и искать зачинщиков?
Верное дело — вече. Но кого выкрикнуть, на кого положиться? Что, как снова осерчает Всеволод и отвернется от Новгорода?..
— Надо идти ко Всеволоду и просить у него сына, — говорили рассудительные. — Но хорошо ли отказываться от Святослава? В чем обвиним мы его?
— Обвинять Святослава? — рассмеялся Борис. — Да в своем ли вы уме?!
— Верно, — согласились с ним, — Святослава обвинять нельзя. Так что же делать?
— То же, что и всегда, — сказал Димитрий. — В мутной водичке и крупная рыбка водится. Поднимем смуту против Михаила — глядишь, что и выловим. И винить его будем в измене, в сговоре со Всеволодовыми супротивниками.
Тут хлопнула дверь, и в повалушку, где все сидели, кубарем вкатился рыжий, как солнышко, отрок:
— Батюшка-боярин, Алексей Сбыславич на нашем дворе!..
Никто ничего толком подумать не успел, как уж стоял поздний гость перед общим столом.
— Здорово, бояре! Почто сидите все в сборе, а меня нет?
Борис побледнел, подпрыгнул, как змеёй ужаленный:
— А ты почто ломишься в избу не зван?
— Зван не зван, а коли здесь я, то ваш гость. Показывай, куды садиться к столу. Озяб я, да и голоден.
И, не дожидаясь приглашения, сам выбрал место, опустился на лавку. Шапку снял, положил рядом с собой, шубу снимать не стал. Оглядел стол, поморщился:
— Скуп ты стал, Димитрий. Ране-то так ли пировал, так ли дружков своих принимал?
— То, что ране было, то прошло, — сдерживая себя, ответил спокойно Димитрий (глядят, глядят на него старосты и бояре — оценивают!).
Хохотнул Алексей Сбыславич, шмыгнул носом, потянулся рукой за куриной ножкой. Впился в косточку, переломил крепкими зубами. Доброхотством дышало его широкое лицо, светлая улыбка так и струилась из глаз.
— Почто замолкли, почто прервали беседу? — поворачивался он то к одному, то к другому, — Подымался я на крыльцо, слышал бойкие голоса. Нешто все уж сказано, нешто сказать боле нечего?
— Ты ешь да помалкивай, — прервал его Борис Мирошкинич, — а то ведь недолго тебя и за порог выставить. Не больно важный гость.
— Куды как приветлив ты, боярин, — ничуть не смутился Алексей Сбыславич и, сочно причмокивая красными губами, потянулся за второй ножкой.
От наглости такой не то что у Бориса — у всех перехватило в груди дыхание. Повскакивали с мест, зашумели, придвинулись с угрозой к Алексею Сбыславичу.
А он будто и не видел, будто и не слышал их. Потянулся за третьей ножкой, икнул, перекрестил рот.
Громче всех надрывался староста Неревского конца:
— Вяжите его, люди добрые! Не то нынче же побежит он к Михаилу с доносом.
Алексей Сбыславич побагровел, скинул доброхотство с лица, словно скоморошью личину.
— А вот и не вытерпел, вот и выдал ты себя, староста, — произнес он угрожающе, бросил куриную ножку на стол, поднялся, ощерившись, словно волкодав.
Сразу притихла, хвосты поджала вся стая.
— А вот и выдал ты себя, староста, — повторил Сбыславич. — О чем доносить побегу, коли съехались вы к Димитрию в терем его на ужин?
— На ужин и съехались, у тебя дозволения не спросили, — на всякий случай спрятался за спины других староста. — Чего бы нам еще вечерять?
— Что ж тогда взгомонились, что вязать меня вздумали?
— Ворвался ты к нам яко тать, а по какому праву?
— Не ворвался, так же, как и все, в гости пришел, — усмешливо прищурился Алексей. — Может, дело у меня до Димитрия, вам-то отколь знать?
— Так и говори, коли дело, а почто народ мутить? — спокойно сказал Димитрий. Из всех, что были в избе, он один не вскочил, не кричал и не стращал угрозами.
— Хорошо, — кивнул Алексей. — Только допрежь того вели всем отсюдова выйти.
— Тебя не выпроводил, как других выпровожу? — улыбнулся Димитрий. — Вона как ты осерчал, а что, как все на меня осерчают? Как на улице покажусь?
— Воля твоя, — сказал Алексей и с сожалением оглядел стол. — Жаль, как был голоден, так не емши и ухожу. Но тебя, Димитрий, предостеречь хощу: еще вспомнишь ты, и не раз, как не захотел меня выслушать. Пришел я к тебе с добром, ухожу с тяжелым сердцем.
Нахлобучил шапку и — за дверь. На всходе подстерегал его незаметно выскользнувший из избы Борис.
— Ты что, ты что? — отпрянул от него Сбыславич.
Прижал его Борис к стене, в лицо дышал луковым перегаром. Глаза бешеные; дергаются, подпрыгивают уголки губ. Говорил тихо, но каждое слово падало, как камень:
— Ты, Лексей, мне голову не дури. Ты меня знаешь. Неспроста явился — уходишь с угрозой. Но не сойти тебе со всхода, коли не выдашь всей правды. И не крути головой — крикнул я людишек своих, ждут они тебя на дворе. Знают людишки мои тихие проруби на Волхове. А ряднина и груз потяжельче у нас завсегда сыщутся…
— Что ты, что ты, Борис! — замахал перед собой руками Сбыславич. — Вроде и не подавали к столу медов, а зело пьян ты, сказываешь несусветное. Да еще прорубью угрожаешь… Просто ехал я мимо, гляжу — у Мирошкиничей свет. Дай, думаю, загляну. Дома-то у меня пустота, сам знаешь: ни жены, ни детей — тоска по вечерам, словом перекинуться не с кем.
— Будя, будя юлить-то, — оборвал его Борис и еще ближе придвинулся. — О чем говорить хотел с Димитрием? Почто с другими говорить не захотел?
— Боюсь я злых языков: услышат одно — разнесут совсем другое.
— Стращал ты его…
— Так это к слову пришлось, это от гордости. Обидно мне сделалось, шибко поносили вы меня. Тебе за дверь выгонять вздумалось, старостам, вишь ли, и того хуже — вязать меня. А за что вязать-то?..
Алексей Сбыславич помолчал.
— Ты правды хотел — вот правду тебе и сказываю. А что вы обо мне думаете, то для меня давно не тайна. Вот-де пришел безродный людин с Невоозера, никто его не знает, а Михаил Степанович к себе приблизил. Смекнули: приблизил — так неспроста, верный пес он у нынешнего посадника. Ходит по городу, вынюхивает и все, что вынюхает, несет своему благодетелю.
Нехорошо рассмеялся Борис:
— А ты умнее, чем я думал, оказался, Лексей. Слушал я тебя, и сердце надрывалось от жалости: бедный, бедный Сбыславич — и дом-то у него пуст, и друзей нет, и молва идет худая. Но всё-то в словах твоих ложь. А еще худо ты обо мне подумал: поверю-де я твоим байкам, слезу уроню, отпущу с миром. Да зря — отродясь не ронял я слезы, другие слезами горькими умывались. Умоешься и ты, Лексей, кровавой слезой.
Железо на железо натолкнулось. Но не равен был поединок: Борис на своем дворе, и полностью во власти его Сбыславич. А то, что угроза Борисова не пуста, не сомневался Алексей. И верно — есть на Вол хове тихие проруби, никто тела его искать в них до весны не догадается.
— Одолел ты меня, Мирошкинич, — сказал, задохнувшись от злобы Алексей. — В другом месте и в другой раз я бы тебя одолел.
— Еще бабка надвое сказала, — отвечал Борис. — Только сызнова не юли — многое мне про тебя известно.
Ох как не хотелось ему признаваться — от бессилия до немоты сжал кулаки Сбыславич:
— Верно, неспроста заглянул я в вашу избу. Не через меня, через других проведал Михаил Степанович, что хотите вы Димитрия выкрикнуть в посадники.
— А еще?
— Еще говорил Степанович, что вы мутите новгородских простцов, что ежели подтвердится его догадка, то пошлет он вестунов ко Всеволоду, чтобы привести вас к порядку.
— Тебе проверить поручил?
— Мне. Про других не ведаю…
Борис поскреб подбородок: та-ак. Долго думал.
— Вот теперь хоть не вся, но половина правды нам ведома, — сказал он.
— Вся правда, вся, — торопливо заверил его Сбыславич.
— Твоя-то вся. Да не ты один советчик у Михаила — нам бы Лазаря пощупать. Да Звездана.
— Те высоко. До тех я не доберусь…
— Сами пощупаем, — сказал Борис и отстранился от Алексея. — Иди, боле тебя не держу.
— Нешто отпускаешь?! — обрадовался Алексей. Борис засмеялся:
— Выкупать тебя завсегда поспеем. Смекнул ли?
— Как не смекнуть!
— Вот и помалкивай, — Борис помедлил. — А в гости к нам приходи, чего ж не прийти-то?
— Нагостился уж, — махнул рукой Алексей и, внезапно огрузнув, на неверных ногах сошел с крыльца.
2
Бурлил, ревом толпы и бесчинствами полнился Новгород. С Великого моста головою об лед сталкивали Михайловых людей.
Звездану бы порадоваться, что сами новгородцы кончают с коварным своим посадником. Но кричали взъерошенные толпы:
— Не хотим Михаила Степановича. Димитрия Мирошкинича хотим!..
Это куды же Димитрию в посадники? Михаил Степанович у Звездана в крепкой узде, а Димитрий придет — не оберешься лиха. Прикидывается он овечкой.
Михайловы доводчики шныряли по городу, искали зачинщиков. В порубах было тесно — узников бросали куда придется, рыли новые ямы. Перепуганный Святослав безвыездно жил на Городище.
Бесполезно пытался успокоить людей владыка. Бесполезно взывал с амвона к их благоразумию.
Теперь, что ни день, собирались у Митрофана вместе боярин Лазарь и Звездан. Сидели, думали, ничего не придумали. По-старому управлять Великим Новгородом они уже не могли.
Как-то застал их во владычной палате Михаил Степанович.
— А я только что от князя, — сказал он тускло. Сел, распахнул на груди шубу; лицо растерянно, в глазах — лихорадочный блеск.
Владыка Митрофан глядел на него, прищурившись, молчал. Тихо горели лампады. От только что истопленной пристенной печи исходил сухой березовый жар.
— Почто безмолвствуешь, владыко? — не выдержав укоризненной тишины, вскинул голову посадник. — Скажи, како мыслишь?..
— А ли не все сказано? — кивнул за окно Митрофан. — Простцы, да ремесленники, да купцы, да бояре, иже с ними, принесли слово свое ко святой Софии — тебя свергнуть хотят, требуют Димитрия.
— Про то всяк знает. Но не простцы вершат свободную волю Новгорода.
— Кто же?
— Ты, владыко.
— А не тобою ли допрежь того против меня настроены были посады и слободы? Не ты ли подбивал на меня Совет, когда призывал бояр и кончанских старост не слушаться их духовного пастыря, ибо посажен он не волею самих новгородцев, но силою и прислан из Понизья, дабы укреплять неугодные святой Софии новые порядки?.. А нынче сам пал жертвою своих козней и ко мне поспешаешь за помощью? Чем помогу я тебе, ежели слово мое втоптано тобою в навоз?
— Ложь это, владыко! — вскочил Михаил Степанович, заметался по палате. — Вот, боярин не даст мне соврать: верой и правдой служил я и тебе и владимирскому князю.
Лазарь нетерпеливо пошевелился на скамье, метнул вопросительный взгляд в сторону Звездана. Тот сидел, положив подбородок на рукоять поставленного между колен меча, казалось, тихо дремал.
— Ну, — подступился к боярину посадник, — ответь владыке.
— К совести моей взываешь? — бледное лицо Лазаря сделалось почти белым.
Михаил Степанович остановился, будто наткнулся на невидимую стену. Перемена, наступившая в боярине, нехорошо поразила его, сердце сжалось и тут же отпустило: кровь ударила в голову.
— Говори!
— Чего ж не сказать, — медленно начал боярин, — я все сказать могу. И про то, как угрожал ты мне, и про то, как подарками задаривал…
— Рехнулся ты, Лазарь! — закричал Михаил Степанович. — Не слушай его, владыко!
— И про то, как хотел посылать в Киев к митрополиту, дабы дал он Новгороду нового пастыря, — продолжал спокойно Лазарь. — А еще подбивал ты кончанских старост народ подымать против Всеволодовых людей, а на Звездана замышлял клевету, очернить его хотел перед владимирским князем…
Глаза полезли из орбит у Михаила Степановича, не хватало ему в палатах воздуха, заклокотало в горле дыхание.
И вдруг засмеялся посадник:
— Так на кого же возводишь ты хулу?!
— Не хула это, а истинная правда, — сказал боярин и размашисто перекрестился.
Звездан с любопытством разглядывал Михаила Степановича.
— На себя, на себя возводишь ты хулу! — выкрикнул посадник и угрожающе приблизился к боярину.
Отшатнувшись, Лазарь выставил перед собою посох. Выкрикнул визгливо:
— Не подступись!..
— Экая ты загогулина, экой ты шелудивый пес, — слова пообиднее отыскивал Михаил Степанович и с наслаждением хлестал ими боярина. — Верно: задаривал я его, покупал с потрохами, — а он-то, он-то продавался, яко распутная девка. Чего глядишь на него, Звездан? Чего медлишь? Вяжи его да вези ко Всеволоду — пущай князю расскажет, сколь принес ему бед.
И откуда только в Лазаре такое проворство: вскочил он, ударил посадника посохом промеж глаз, откинул посох, вцепился Михаилу Степановичу в бороду.
Могутен посадник, широк в кости — отшвырнул боярина, словно котенка. Тот пролетел мимо лавки и шмякнулся мягким местом об пол, быстро-быстро пополз к Михаилу Степановичу на четвереньках.
— Остановись, боярин, — сказал владыка. — Куды как ты горяч, быстро перенял здешний обычай. Да только мы не на Великом мосту, и не пристало передним мужам, как простому быдлу, идти стенкой на стенку. И ты поостынь, — обратился он к Михаилу Степановичу.
— Да мне-то каково? — тяжело дыша, ответил посадник. — Как наскочил на меня боярин, так я и ответствовал. По лбу не я посохом бил, хулу на честного человека возводил не я. Пущай откажется от своих слов.
Тогда заговорил Звездан:
— Не думал я, что прорвет боярина. Однако же не хулу возводил он на тебя, Михаил Степанович.
— Это как же не хулу-то?
— Сам ты признавался, что покупал Лазаря.
— Вместе мы горячились, чего не бывает… А как мог я еще оправдаться перед владыкой?
— Нет, не откажется Лазарь от своих слов, — покачал головой Звездан. — Это у тебя все быстро и просто делается… А только не купил ты Лазаря, а брал он у тебя дары со Всеволодова позволения. Мы же через него следили за каждым твоим шагом. Вот и прикинь, кто над кем верховодил?
— Так и смута нынешняя — ваших рук дело? — пошатнулся Михаил Степанович.
— Нет, нынешняя смута тобою посеяна, — прав был владыка, — сказал Звездан. — А обернулась она против тебя…
— Воистину, покарал господень меч предателя, — произнес Митрофан и поднял руку, чтобы проклясть посадника.
— Остановись, владыко! — воскликнул Михаил Степанович и пал на колени. — Каюсь я! Грешен еси и хощу грех свой тяжкий искупить.
— Запоздало твое раскаяние, — сказал Звездан. — Не в наших силах оправдать тебя перед Новгородом.
— Так нешто раскаявшегося грешника отдадите слепой толпе? — испугался Михаил Степанович. Куда и делась его былая самоуверенность, куда гордость его делась! Не у кого было искать ему помощи. Ехал на владычный двор, искал ее у тех, кого сам предавал. А те, кто с ним был заодно, давно от него отшатнулись. Даже Алексей Сбыславич — и тот переметнулся к врагам. А уж на что был преданный человек!..
Лазарь возликовал:
— А, вот како запел! Овцой заблудшей прикинулся… Не щади его, владыко, прокляни, предай анафеме!..
Митрофан с приподнятого над полом владычного кресла с гадливостью смотрел на поверженного Михаила Степановича.
— Господь был милостив… — начал он нерешительно.
Звездан прервал его:
— Не поспешай, владыко! Подумай… Не верю я в раскаяние Михаила Степановича. Не для благих дел ищет он у нас безнаказанности.
Посадник затравленным взглядом прилип к его губам — знал он, как весомы слова, сказанные Всеволодовым милостником. Даже себя унизив, торопился Михаил Степанович выговорить хоть крохотную надежду:
— Знаю я: прегрешениям моим несть числа, коварству моему нет прощения. Но пред вами и пред богом клянусь — пущай поразит меня рука всевышнего, ежели впредь не отплачу я добром за оказанное мне снисхождение.
— Выйди, посадник, — сказал Звездан. — Без тебя решим мы, как дальше с тобою быть, а после объявим свою волю.
— Да будет так, — произнес Митрофан и ударил посохом об пол. — Выйди.
Удивился Лазарь, когда они остались втроем:
— Что-то не пойму я тебя, Звездан. Пробил час свести давние счеты. В наших руках посадник, а ты медлишь… О чем говорить будем, ежели и так все яснее ясного.
— С тобою тоже все ясно было, — напомнил Звездан, и Лазарь сжался, как от удара, — Иль не правду говорил Михаил Степанович, иль не принимал ты от него даров?
Лазарь нахохлился, пряча глаза, пробормотал:
— Время ли былое поминать?
— Время, — сказал Звездан. — Самое что ни на есть время. Ежели бы я и тогда с тобою так же рассудил, нешто решал бы ты, сидя у владыки, как поступим с Михаилом Степановичем?
— Пререкаться после будем, — мягко остановил Звездана Митрофан.
— Так вот и вопрошаю я вас, — проговорил Звездан, — на руку ли нам Димитрий Мирошкинич?
— Так кого ж иного выкликать? — удивился владыка.
— Димитрий лишь на время утишит бояр и купццов, — продолжал Звездан, — но распри ему не пресечь. Еще пуще прежнего вознегодуют те же, кто нынче собирается имя его выкликнуть на вече. И так подумал я: Михаилу Степановичу покуда деться от нас некуда…
— А о том подумал ли ты, Звездан, как успокоим мы новгородцев? — спросил владыка. Не понравилась ему затея Всеволодова милостника. Уж больно хитроумен он, а времени нет: вот-вот ударят в вечевой колокол.
— Наполовину решим, — сказал Звездан. — Просят новгородцы дать им Константина — в том перечить им мы не станем. И я с ними: Константин повзрослее, потверже Святослава будет. Пущай присылает Всеволод старшего сына. При нем и Михаил Степанович присмиреет. Куды ему деться? А ежели что, так и пригрозим…
«Ишь ты!» — сообразил Лазарь. Звезданова повадка была ему знакома: сам сидел у дружинника на крючке. На такой же крючок поддевал Звездан и Михаила Степановича. Но свою недалекую выгоду увидел в том догадливый боярин.
— Шлите меня ко Всеволоду, — сказал он. — Все сделаю, как повелите, не сумлевайтесь.
— Слово за тобой, отче, — повернулся Звездан к Митрофану.
— Ох, не нравится мне твоя затея, — опуская глаза, пробормотал владыка.
3
К весне добрался Лазарь до Владимира. Прослезился, увидев еще издалека золотые соборные шеломы. Истово крестился, кланялся, встав коленями в подточенный солнцем рыхлый снег.
«Теперь не оплошай, — говорил он себе, — теперь гляди, боярин, в оба!»
Не оплошал Лазарь, бил себя в грудь и униженно ползал у Всеволодовых ног:
— Вот те крест, попутала меня нечистая, княже. Но с той поры, как простил ты меня, служу тебе верой и правдою. И о Святославе пекусь, как о своем дите.
— Старое поминать не будем, — сказал Всеволод. — Ты мне, боярин, о том, что нынче творится в Новгороде, расскажи. Скачут ко мне мои вестуны и гонцы новгородские. Обеспокоен я и решил забрать из Новгорода Святослава и дать им старшего сына. А вот о посаднике мыслю двояко: Михаила Степановича оставить или согласиться на Димитрия Мирошкинича. Что скажешь?
— Да что я скажу, — оправился прощенный Лазарь, — нешто прислушаешься ты к моему совету?
— Говори, а я думать буду. Не советов жду я от тебя, боярин, а хощу правду знать. Почто настаивает Звездан на Михаиле?
Само порхнуло Лазарю в руки прихотливое счастье, бьется, как живая птичка, — не упустить бы.
— То, что Звездан тебе в грамоте отписал, не наша с Митрофаном задумка, — сказал он.
— Тебя послали…
— Меня-то послали, да я себе на уме, — хитро прищурившись, отвечал осторожный Лазарь. Остерегался он, как бы лишнего не сказать, покуда срок не наступил. Не решался рубить выше головы: как бы не запорошила глаз щепа.
Но князь клюнул на приманку. Стал выспрашивать, сердился:
— Недосуг мне твои загадки разгадывать.
— Может, я и худ умом, — не решался подступиться к главному боярин, — может, чего и не смекнул…
— Говори прямо!
— Прямо-то скажу, да как обернется?
— Аль заподозрил что?
— Любишь ты Звездана, веришь ему…
— Верю, — насторожился Всеволод. — Ежели с доносом на него ко мне пришел, так ступай прочь.
— Верно, зря я проболтался, — сказал Лазарь. — Только начал, а ты уж и договорил…
Всеволод насупился, помолчал. Но гнать боярина не стал. Приободрился Лазарь:
— Нынче заступников у Михаила Степановича во всем Новгороде не сыскать.
Исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь. Тихонько нажимал боярин:
— В самый раз избавиться нам от строптивого посадника. Вот и думаю я: пошлешь ты в Новгород Константина, так и Димитрий при нем остепенится…
— Ближе, ближе, боярин, — все больше хмурился Всеволод.
— Ежели что, так ты у Митрофана спроси. Он скажет.
— Митрофан далеко. Да и о чем его спрашивать?
— О Звездане, вестимо…
— Ишь, куды поворотил!.. Так что же сделал Звездан?
— Может, почудилось мне, — сказал Лазарь, — но како пред тобой смолчу? Подбивал нас Звездан, чтобы Михаила Степановича посадником оставить… Вот я и подумал — почто? И тако решил: неспроста это!
— Может, и неспроста, — кивнул Всеволод. — Но токмо все никак в толк взять не могу — к чему клонишь?
— А вот к чему, — решился Лазарь. — Сговорился Звездан с Михаилом Степановичем за нашей спиной.
— Окстись, боярин.
— Ей-ей… Не верь Звездану, княже.
— Кому же верить? — удивился Всеволод.
— А ты никому не верь… И мне не верь, и Звездану. Но над тем, что сказал я тебе, подумай. На что посылаешь Константина, какую готовят ему в Новгороде встречу?
По глазам Всеволода видел Лазарь: поселилось-таки в нем сомнение. Уже одно говорит он, а думает совсем другое. И взгляд блуждает поверх боярской головы.
Тут бы самое время взорваться Всеволоду, исполнить обещанное — выгнать Лазаря, но не выгнал его князь, еще долго беседовал, оставил с собою вечерять. Была это немалая честь, не всякий ее удостаивался.
Рассеян был за ужином Всеволод, почти ничего не ел, пил много.
Видно, предчувствие его мучило: на утро ни свет ни заря подняла его с постели сенная девка — совсем худо стало Марии. Всю ночь просидел подле нее Кощей, да что толку! Не чудодей он, ему ли совладать с безносой, ежели уж занесла она над княгиней свою беспощадную косу?!
На низкую скамеечку присел возле Марии Всеволод, ладонью прикрыл мокрую от смертной испарины руку. Сквозь тяжелое дыхание прорывался тихий шепот жены:
— Устала я, Всеволоже, душа просится на покой. Симону хощу исповедаться в грехах своих, проститься с детьми… В свой монастырь постричься хощу.
Сидел Всеволод, глядел на пожелтевшее лицо жены, хотел уронить слезу, но слезы не было. Сухой огонь сжигал его сердце.
Устал князь, надломился. Встал, вышел, велел звать Симона. Вернувшись к себе, молился, просил господа ниспослать Марии облегчение, за детей просил, за Константина с Юрием, чтобы хоть у смертного одра своей матери протянули они друг другу руки…
Еще горшая встала между ними вражда, когда объявил он, что посылает старшего в Новгород.
Взорвался Юрий, сбежал из терема, ускакал со своей дружиной в Боголюбово. Два дня его не было, вернулся черный и нелюдимый, сидел у себя, запершись.
— Да в чем прегрешил я, господи? — взывал Всеволод к лику спасителя. — Всю жизнь радел за свою землю, о детях заботился, сирых не забывал, учил возлюбить ближнего.
Умолял ниспослать Марии легкую смерть. И опять же думал: а кто помолится за него, кто смежит его очи?
И вставали сомнения: значит, грешен был, значит, не угодил господу. Уж не за гордыню ли карает он беспощадной десницей, уж не за то ли, что вознамерился свершить немыслимое?
Тяжек, ох как тяжек путь к последнему итогу. А ведь казалось: придет он к нему легко и просто. Сил-то было сколько! Думал он, что вечной будет молодость, да вот же и его стала подтачивать коварная хворь.
Молился Всеволод, а краем уха слышал, как суетились в тереме сенные девки, хлопотали вокруг Марии.
— Не призывай ее к себе до срока, господи! Дай отъехать Константину, позволь ему принять ее благословение…
Услышал его господь, сжалился. Через день после приезда Лазаря полегчало Марии. Была в том и немалая толика Кощеевых стараний.
Очнувшись от беспамятства, призвала к себе княгиня Константина, велела оставить их вдвоем.
— Прощай, сыне, — сказала она ему. — Может, и не доведется нам больше свидеться. Ты старший у нас, на тебя я больше всех уповаю. Береги братьев своих, не обижай их. А с Юрием помирись.
— Все исполню, матушка, — встал перед ней на колени Константин, щекой прижался к ее руке. — А прощаешься ты со мною зря. Еще вернусь я во Владимир, еще увижу тебя, как и прежде, здоровой. Нынче дал мне отец удел — словно крылья у меня выросли. Покуда жив буду, не оставлю младших братьев. И с Юрием помирюсь…
Но сказал он это неуверенно, матери обмануть не смог. Крупная слеза скатилась по щеке Марии, хотела возразить она сыну, но только благословила его слабой рукой:
— Ступай княжить. И дай бог тебе силы!
Уехал Константин. Всеволод, братья и передние мужи провожали его до Кидекши. Здесь прощались и служили молебен. Дьякон Лука зычным голосом пел «Вечный лета», Симон крестил и целовал молодого князя в лоб. Всеволод обнимал его и тоже крестил.
Тем же утром Мария постриглась в монашки, а за день до прибытия сына в Новгород тихо скончалась.
Шел год шесть тысяч семьсот тринадцатый (1205) от сотворения мира…
Часть вторая …И ВВЕРГНУЛ МЕЧ СВОЙ
Пролог
1
Жить — не сено трясти: и наплачешься, и напляшешься. Для иного тянутся дни, как на долгом волоку, для другого — просверкнули, и нет их.
Казалось Всеволоду после смерти жены, что не оправится он, не справится с жестоким одиночеством. Но душа меру знает, вылечили его наполненные трудами и заботами быстротечные годы.
Приехали во Владимир сваты от витебского князя Василька. Не долго рядили, пустых речей не сказывали — скоро справили шумную свадьбу.
Как сложится жизнь, никогда наперед не угадать — привели на княжеское ложе молодую дочь Василька Любашу. Ту самую Любашу, с которой коротал когда-то на Днепре теплые летние ночи старший Всеволодов сын Константин.
Пил Константин за отцовым столом горькие меды, мачеху сверлил пронзительным взглядом. Стояла она все эти годы между ним и Агафьей, не уходила в бледнеющую память, зримо оживала в мечтах юного князя.
Пил Константин меды, «горько» не кричал, на отца глядел, как на соперника, глушил в себе сыновние чувства.
Уехал со свадьбы, как в воду канул…
Был широкий пир и Любаше не в большую радость. Думала она: отдают ее за старого и нелюбимого. Отцу своеволия не прощала, боялась на Всеволода поднять опечаленный взор. Роняла украдкой непрошеную слезу, избегала Константинова горящего взгляда. Дрожала в первую ночь на брачном ложе, как осиновый одинокий листок.
Но год прошел — и не узнать ее стало. Распрямилась она, расцвела краше прежнего, почувствовала себя во Всеволодовом тереме не гостьей, а законной хозяйкой.
Любил и холил старый князь молодую жену. Ни в чем не было ей отказа, и скоро поняла Любаша, что сердце у Всеволода пылко, а руки сильны, что седина не испортила, а только украсила его бороду.
Во всем помощницей хотела она быть своему мужу, во всем старалась заменить Марию.
Не перечил ей Всеволод, допускал на боярскую думу, с умилением следил, как пытается она постичь премудрость собранных в харатейной старых книг.
Не мачехой, а родной матерью стала Любаша Всеволодовым сынам. И к строптивому Юрию нашла свой подход: попритих княжич, остепенился. Сопровождал молодую мачеху и в собор на молитву, и на прогулку, а когда Всеволоду было недосуг, выезжал с ней и на охоту. Даже ревновать стал Любашу к нему Всеволод, но все это было пустое — смеялась над мужем Любаша, однако же радовалась: любит, любит ее старый князь.
Бурные это были для Всеволода годы, беспокойные. Первой пришла добрая весть: окончил дни свои на чужбине давний его соперник Роман. И не от чьей-нибудь руки пал он в неравной схватке с ляхами — от руки бывшего союзника своего Лешки. Усыпил его посулами Лешка, заманил в засаду.
А чего боялся Всеволод? Того, что, окрепнув, встанет Галич против Северной Руси? Так зря волновался: не с того начал Роман. Утвердился Всеволод на Клязьме, лишь победив боярское своеволие, а галицкий князь так и не передавил всех пчел: сильны еще были при нем передние мужи, притаившись, вершили свое роковое и грязное дело. Не по ним было Романово буйное семя, не захотели они отдавать княжение малолетним его сыновьям Даниилу и Васильку, вступили в сговор с Рюриком, а Рюрик, скинув с себя монашескую рясу, объединился с Ольговичами. Жестоко бился он с галицко-волынским войском на реке Серете, и, если бы не угры, вставшие на сторону Романовых сынов, бог весть, чем бы все кончилось. Старый друг Романа угорский король Андрей принял у себя в Саноке вдовствующую княгиню и ее сыновей, обласкал их и дал им в помощь своих лучших воевод.
Так доносили Всеволоду быстрые вестуны, но старый князь понимал, что не только заботою о детях Ро мана руководствовался Андрей — были у него и свои задумки: не зря сидел он некоторое время по воле отца своего Белы на галицком столе.
И, когда на следующий год собрались в Чернигове Всеволод Святославич Чермный, Владимир Игоревич северский да Мстислав Романович смоленский с племянниками, когда присоединилось к ним множество половцев, а за Днепром — Рюрик с сыновьями своими Ростиславом и Владимиром и с берендеями и все вместе двинулись к Галичу, понял Всеволод, что настала и его пора, что не может он допустить усиления южных князей, и стал пересылаться гонцами с Андреем.
Тяжелые наступили для Галича времена: как всегда, не приходит беда в одиночку, к разделу лакомого пирога поспешил из Кракова и Лешка, а в самом Галиче подняли голову недобитые Романом бояре. Встал велик мятеж, разъяренные толпы ворвались на Золотой Ток, принялись громить и жечь княжеские терема. Едва успела бежать на Волынь княгиня со своими сынами, а Андрей к тому времени уже перевалил через Карпаты…
И вдруг все остановились в нерешительности: ляхи, угры и русские дружины. Советовались князья и бояре, звал к себе воевод своих Андрей, собирал в своем шатре палатинов Лешка: Всеволод всех вовремя оповестил — дает он Галичу, дабы пресечь усобицу, сына своего Ярослава.
В то время у Андрея назревал заговор в Эстергоме, и Всеволодовых послов принимал он милостиво; Лешка удовольствовался тем, что угорские войска отходят за Карпаты, и повернул на Краков. Русские дружины сделали вид, будто тоже возвращаются в свои пределы, но Ярослав задержался в пути из Переяславля, и это известие остановило их под Галичем. По-новому решать свою судьбу принудило это и галицких бояр. Боясь, как бы снова не осадили города, они послали тайно к Владимиру Игоревичу северскому, который с братом своим Романом украдкой от остальных князей въехал в Галич, сел там на стол, а брату отдал Звенигород. Опоздав всего на три дня, Ярослав возвратился в Переяславль.
Разгневался на него отец, потому что все, так славно задуманное, рушилось на глазах.
Снова великая усобица охватила Юго-Западную Русь. Боясь усиления Романовых сыновей, пошли Игоревичи на Волынь, стали грозить, что не оставят камня на камне, если им не выдадут Даниила и Василька. Бежав через пролом в стене, княгиня передала своих сыновей на попечение Лешки (ведь был же он когда-то другом Роману!), Лешка оставил у себя Василька, а Даниила переправил на Угорщину к Андрею, чтобы тот возвратил ему отчину.
Вот что беспокоило Всеволода: дрались друг с другом русские князья, кровь текла рекой — то один, то другой садились на волынский и галицкий столы, а между тем Лешка распоряжался на Волыни, Андрей — в Галиче. Угорский палатин Бенедикт Бор мучил бояр и простцов, за малую провинность бросал галичан в порубы, казнил и жег, бесчестил жен, монахинь и попадей. Неслыханно это было!
Пакостили русскую землю иноземцы, сажали и сменяли князей, а Мономаховичи с Ольговичами, вместо того чтобы, собравшись вместе, изгнать их, вступили друг с другом в обычную распрю — стали делить старшинство и Киев. Пересилили Ольговичи: Всеволод Святославич Чермный сел на Горе, а Рюрик уехал в Овруч, сын его Ростислав утвердился в Вышгороде, а племянник Мстислав Романович отправился в Белгород. Видя, как безропотно подчинился ему Рюрик, совсем обнаглел Чермный: послал сказать Ярославу Всеволодовичу в Переяславль: «И ты ступай к отцу своему в Суздаль, а про Галич и думать позабудь (помнил он, что сажал Всеволод сына своего на галицкий стол, боялся его!), а ежели не пойдешь добром, так смогу принудить тебя и ратью». Молод еще, робок был Ярослав, на отца не понадеялся, испугался: ушел из Переяславля, уступил свой город сыну Чермного.
Загудел, забеспокоился потревоженный пчелиный рой: снова захватил Рюрик Киев, стал гнать отовсюду людей Чермного, но и Чермный себе на уме — пригласил половцев, жег и грабил все вокруг, сел-таки на Горе. На сей раз не только Переяславль, но и Триполь, и Белгород, и Торческ были отняты у Мономаховичей…
Тогда-то и лопнуло терпение у Всеволода. «Разве токмо Ольговичам отчина — Русская земля, а нам уже не отчина? — сказал он. — Как меня с ними бог управит, хочу пойти к Чернигову». И сел на коня. Но пошел сперва не к Днепру, а на присоединившуюся к Ольговичам Рязань — пленил рязанских князей и собирался уже повернуть свое войско, но тут сообщили ему, что Рюрик снова забрал себе Киев…
Неспокойные, смутные настали времена. Вот и в Рязани разнепогодилось, а ведь она под боком у Владимира. Вскоре, после того как, соединившись в Москве с пришедшим к нему на помощь из Новгорода сыном своим Константином, собрался Всеволод на Чернигов, ему сообщили, что хоть и согласились идти вместе с ним рязанские князья, но для того только, чтобы после удобнее его предать. Не вышло! Изобличил их Всеволод, схватил вместе с думцами и велел в оковах отвезти во Владимир. Взяв после длительной осады Пронск, двинулся к Рязани, и здесь, у села Доброго Сота, вышел навстречу ему рязанский епископ Арсений, стал умолять и просить его, чтобы он не жег ни города, ни его посадов: «Не пренебреги местами честными, княже, не пожги церквей святых, в которых жертва богу и молитва приносится за тебя, а мы исполним всю твою волю, чего только хочешь». Поверил ему князь, посадил в Рязани изгнанного из Переяславля сына своего Ярослава, но не тверды были рязанцы в своей роте: вскоре стали хватать Ярославовых людей и некоторых уморили, засыпавши землей в порубах.
И после этого еще не решился Всеволод брать Рязань и после этого еще хотел образумить рязанцев и помирить их с Ярославом. Но тщетно. И тогда сжег он Рязань, а вслед за ней сжег Белгород. И повелел схватить епископа Арсения и за лживость его отправил во Владимир в оковах.
Тем же годом опустошил он окраины черниговского княжества, взял на щит Серенск, сжег его, а в Чернигов послал сказать: «Это вам за сына моего Ярослава, за то, что изгнали его из Переяславля».
Знатно пугнул он Ольговичей. Пришел к нему из Смоленска епископ Михаил с игуменом Отроча монастыря, просил, чтобы простил их князя Мстислава Романовича, богатые привозил с собою дары, льстивые говорил речи.
С одним только Новгородом так и не мог совладать Всеволод. Возлагал на Константина большие надежды, но был сын его еще не ухищрен, легко поддавался на обман.
Едва только поставили посадником Димитрия, как тут же принялся он сводить счеты со всеми, кто был с ним не в ладах. Приехал во Владимир Борис Мирошкинич, стал жаловаться на Алексея Сбыславича: помог-де он нам против Михаила Степановича, а нынче сызнова подымает новгородский люд, дозволь казнить нам его, княже.
— Аль Константин вам не князь?! — возмутился Всеволод и послал с Борисом Лазаря. Тот на руку был скор: прямо на Ярославовом дворе зарезали Алексея.
Но после оказалось, что у самих Мирошкиничей рыльце в пуху. Как и подозревал Звездан, став посадником, принялся Димитрий за свой старый обычай, но нынче не просто кутил он, — поощренный Лазарем, стал неугодных ему людей топить в Волхове.
Не выдержали новгородцы, а вернулась их дружина из рязанского похода — кликнули вече, пошли на Димитриев двор и сожгли его. На том же вече решили снова просить у Всеволода Святослава, в посадники выбрали сына Михаила Степановича — Твердислава.
Константин получил от отца Ростов.
Но не очень-то утишил Всеволод строптивых новгородцев. Только что дознался он через верных людей, что послали они гонцов в Торопец к тамошнему князю Мстиславу Удалому, сыну Мстислава Храброго. Зачем послали — тут и гадать нечего: хотят они исполнить свою давнишнюю мечту — избавиться от понизовской опеки.
Вот какие приходили во Владимир вести, и было над чем задуматься Всеволоду, было над чем поразмыслить: горела под его ногами земля.
2
Подымаясь от Клязьмы к Волжским воротам, Звездан остановился, чтобы передохнуть. Воздух был морозен, не хватало дыхания.
Накинутая поверх рясы шубейка согревала плохо, зябли обутые в кожаные чеботы ноги — стоя на обочине, Звездан подпрыгивал, хлопал по бокам покрасневшими от холода руками и уже в который раз, глядя на вздымающиеся прямо перед ним высокие стены детинца и поблескивающие за их гребнем купола Успенского собора, думал о прошлом, и к горлу подступала сосущая тошнота.
Как ни пытался он убедить себя, что причин для скорби не было и нет, что, уйдя от мира, он поступил, как хотел, а не как его принудили, а годы, проведенные в монастыре, не прошли даром, умудрили его и научили терпению, позволили без помех углубиться в мир его любимых книг, которых у Симона было собрано в великом изобилии (многие из них Звездан сам принес в дар монастырю), несправедливость Всеволода не забылась, и он часто просыпался по ночам на своем жестком ложе и озирался вокруг, потому что только что видел себя во сне в княжеском терему — точь-в-точь как в тот день, когда возвратился из Новгорода со Святославом.
Час был поздний, в сенях горели свечи, Всеволод сидел, откинувшись, на стольце, рядом на лавке ютился боярин Лазарь в просторном опашне, нахохлившийся как ястреб, а чуть поодаль стоял епископ Иванн, неподвижно смотрел в черное окно, и спина его была согбенна и напряжена.
Звездан вошел, поклонился князю и быстро обернувшемуся епископу. Настроение у него было хорошее, княжича он доставил к сроку, сам, хоть и устал, усталости почти не чувствовал, потому что волновался и все время думал о том, как будет говорить с князем, чтобы убедить его не поддаваться на уговоры и не менять в Новгороде посадника.
Невдомек ему было тогда, что в пути он разминулся с гонцом, посланным к Митрофану, что Константин уже давно живет себе, поживает на Ярославовом дворище и что в то самое время, когда переступил он порог княжеских сеней, Димитрий Мирошкинич пировал со своими дружками, празднуя так легко доставшуюся ему победу.
Не глуп был Звездан, но, как многие умные люди, доверчив. Обманула его в Новгороде притворная услужливость Лазаря, забыл он его хищный нрав, зря послал впереди себя к Всеволоду.
Не перебивая, выслушал Всеволод Звездана, а когда он кончил, ответил с усмешкой:
— Складно сказываешь ты, Звездан. Заслушался я тебя. Будь ты предо мною в другое время, может, и поверил бы я твоим байкам. Но предупредили меня, предсказали все твои речи, а ты их словно по книге прочитал — сошлись они слово в слово. Не оставил тебя мудростью господь, наделил с лихвой, но отрекся ты от наших добрых дел.
Растерянный Звездан повернулся к Иоанну, — может, епископ выручит его? Но смотрел епископ мимо его лица, и ни живой искорки не шевельнулось в его взгляде. Только боярин задергался на лавке, часто закивал головой: он-то знал, о чем говорит Всеволод, он-то давно ждал этой встречи, в сладких мечтах вынашивал свою месть — и вот вершится она не где-нибудь, а на его глазах.
— Что молчишь, Звездан? — продолжал Всеволод. — Почто не оправдываешься? Аль сказать мне нечего?
— Как же нечего, княже, — ответил Звездан, — ежели оклеветали меня, твоего преданного дружинника? Есть что сказать. Давно догадался я, чьих рук это дело. Пригрел ты змея на своей груди и не замечаешь, как копит он против тебя же смертельный яд…
Взвизгнул Лазарь, прочь отбросил степенность, затопал ногами:
— Изворачиваешься, Звездан, пытаешься сбить князя. А вот скажи-ко лучше, как сговаривался с Михаилом Степановичем, как владыку и меня склонял к измене!..
— Не было этого.
— Было. И Митрофан подтвердит. И грамоту, что привез я князю, ты своею скрепил рукой — не я ее вынашивал, писал не я…
— Была грамота, я ее писал, — кивнул Звездан, — и нынче то же самое говорил князю на словах. Так что с того?
— А то, что хоть и твоею рукою писана грамота, а слова в ней чужие. Вспомни-ко, с кем заводил ты тайную беседу, что-де не гнушайся дарами посадника — дары, мол, те еще сгодятся?
— О том и князь знал. Его это повеление.
— Повеление-то Всеволодово, — довольно хихикнул Лазарь, — да кто дары те присваивал?
— Прежде чем такое говорить, перекрестись, боярин, — упрекнул его Звездан.
— А вот и перекрещусь, — размашистый крест наложил на себя Лазарь, — вот и перекрещусь и опять же спрошу: у кого те нечистые дары?
— У меня. Привез я их с собою, дабы пополнить княжескую бретьяницу. И о том было сговорено, — Звездан недоуменно посмотрел на Всеволода.
Всеволод молчал. Казалось, он не слушал боярина. А Лазарь продолжал:
— Не в твою бретьяницу привез он их, княже, — в свою. И злато посадниково за то ему шло, что во всем потворствовал он Михаилу Степановичу, навлек на твоего сына гнев новгородцев и посеял смуту… Ничего, — пригрозил он узловатым пальцем, — на сей раз все на чистую воду вышло. Спасибо, надоумил меня господь, а то все дни пребывал в страхе…
— Не в страхе ты пребывал, боярин, — сказал Звездан, — а плел на меня свою паутину.
Ложь-то грубо сшита была — вздохнул он облегченно. На одни наговоры только и полагался Лазарь.
Тут бы Всеволоду и уличить боярина, но ушам своим не поверил Звездан, когда вдруг прервав молчание, князь заговорил:
— Сгинь с глаз моих, Звездан. Сгинь и не гневи меня. Был я терпелив, когда заблуждался ты в молодости. Прощал дерзость твою, пестовал тебя и к себе приблизил. Надежды возлагал на твое благоразумие. Однако же ошибся я. И с запозданием вижу: не помощник ты в делах моих. И мягкосердие мое мне же во вред использовал. Сгинь!..
Разве что один епископ мог еще вступиться за Звездана. Но снова отвернулся к окну Иоанн, снова напряглась его согбенная спина. Боялся он перечить Всеволоду, сам все больше страшился его внезапного и беспричинного гнева. С годами все подозрительнее становился князь, все чаще видел вокруг себя одну лишь измену и вероломство.
«Зря ищешь ты правду, — говорил себе Звездан. — Зря следуешь заветам мудрых. И не столь уж мудры они, проповедуя добро, когда миром правят лукавство и своеволие, а не разум».
— Уйду в монастырь, — сказал он обнимая, дома плачущую Олисаву. — Прости меня, жена. Но не жилец я в миру, где побиты каменьями добродетели. Буду богу возносить молитвы, чтобы призрел он нашу землю, не отдал на погибель ворогам. Был один человек, в коего поверил я, но и он отдал меня безжалостно на растерзание бешеным псам. Как буду впредь служить ему, ежели верит он токмо хищникам и льстецам?
Ушел Звездан в монастырь, преклонил колена пред Симоном.
— Да что с тобою? — удивился игумен, — Какая печаль привела тебя в святую обитель?
— Хощу остаток дней своих посвятить богу.
Большой вклад сделал Звездан в Рождественский монастырь: не поскупился. Симон выделил ему лучшую келью.
— Дай мне келью такую же, как у всех, — попросил его Звездан. — Не заслужил я у господа чести и пришел в эти стены не ради спокойной жизни. Бежал я от мирской суеты, так стану ли предаваться ей в обители?
— Не ты один таков, — обиделся игумен. — Есть у нас и иные бояре. Так нешто жить им подобно прочим безродным чернецам? Вклад твой в монастырь велик…
— Нет, — сказал Звездан. — Хощу жить, яко безродный чернец. А вклад мой употреби на подмогу убогим и сирым.
Упрям он был, переломил Симона — поселил его игумен в маленькой келье с оконцем на монастырскую стену. Даже в самый погожий день не проникал в нее солнечный луч.
Не оставлял Звездан места для лености и занимался не только чтением привезенных с собой в обитель книг. По утрам, вставая задолго до заутрени, он перемалывал на жернове зерно для всей братии, помогал поварам, носил воду, колол дрова и тем еще больше удивлял Симона.
Два года прошло. Как-то приехал в монастырь Всеволод: будто бы к игумену завелось у него срочное дело, но хотелось князю взглянуть на бывшего своего лихого дружинника.
Кликнул Симон к себе Звездана. Увидев его, даже глаза зажмурил Всеволод:
— Совсем не узнать тебя, Звездан. Был ты в теле и с лица бел, а стал похож на огородное чучело. А говорят, легко живется в обители.
— Вотще, княже, заблуждаешься ты, как и многие. Оглянись-ко да посмотри внимательнее: разве жизнь наша легка?
— Истязаешь ты плоть, а душа твоя спит.
— Кощунствуешь, княже.
Всеволод с любопытством взглядывал то на него, то на Симона.
— Не я, а ты кощунствуешь, Звездан, — спокойно продолжал князь, хотя в другое время и не спустил бы подобной дерзости.
— Монах я.
— То ложь, — быстро вскинул на него блеснувшие глаза Всеволод.
— Правда, княже, — стараясь сдержаться, смиренно отвечал Звездан.
— Был ты милостником моим, завидовали тебе многие. Умен ты, Звездан, и, покуда не вовсе остыла кровь, возвращайся ко мне. Жалеть не станешь…
И дрогнуло сердце Звездана, подался к Всеволоду, вспомнил, как славно было в миру, но тут же отпрянул, крестя пред собою воздух:
— Господи, прости мя, грешного, и помилуй!
Не мог забыть он старой обиды на князя (и это грех — возлюби ближнего!). Не видя и не слыша ничего вокруг, жарко молился Звездан.
— Согрешил я, отче, — обратился он к игумену. — Едва не прельстился, подумал с любовью о суетном. Наложи на меня строгую епитимью.
— Куды ж строже той, что сам ты на себя наложил, — устало отмахнулся Симон, — Иди и молись за нашего князя — пусть ниспошлет ему бог удачу…
Всеволод разочарованно отвернулся.
И было еще искушение: по весеннему солнышку, по тающим пепельным снегам приехали во Владимир Мистиша и Крив.
Просиял, увидев их в монастыре, Звездан. А те удивились:
— Выходит, верно сказывали нам, что искать тебя надобно не на княжом дворе, а в обители! Что привело тебя сюда?
— Об этом после, — отвечал Звездан, с легкой завистью разглядывая статную фигуру Мистиши и густой загар, покрывавший его лицо. — Вы о себе расскажите — не день прошел с нашего расставания, не год. Где водило вас, почто снова объявились во Владимире?
— Были мы далеко и всего отведали досыта, — сказал Мистиша.
— А конь? — улыбаясь, спросил Звездан.
— Так и не попал он к боярину. Засадили Стонега в поруб за его обман, а коня я повел к Роману… Оставил нас Роман в своей дружине…
— Знать, приглянулись ему? — подзадорил его Звездан.
— Не без того, — ухмыльнулся Мистиша, — уж больно понравился Роману Крив — яблоко, слышь-ко, сбил с княжеского стяга. Ну а дале пошли мы под Сандомир. Шибко пугнули ляхов — король ихний Лешка запросил у Романа мира. Перейдя Вислу, остановился Роман под Завихвостом, расположился станом, а Лешке только того и надобно было. Отправились мы с князем на охоту да и угодили в засаду — жаркая была сеча. Ляхов-то более чем вдвое было супротив нас. Тут князь и полег со всей дружиной. Мы с Кривом едва ли не одни спаслись, скорбную весть принесли в Галич…
Ветром давно ушедшей жизни повеяло на Звездана. Плеснулась в глазах его былая синь.
— После того ничто уж нас не держало — отправились в Киев, — продолжал Мистиша, — из Киева в Новгород подались, думали встретить тебя там, потом около года обитали в Торопце у князя Мстислава. Приехали во Владимир, стали тебя искать да купца Негубку. Негубка-то с Митяем в Булгар отправились да там и сгинули. Сколь уж времени, говорят купцы, ни слуху о них, ни духу… А нам, вишь ли, помог дружок твой старый. Веселица. Приглянулись мы ему — так он нас и ко князю Юрию свел, нынче мы в его дружине…
К самому нелегкому клонилась беседа.
— Почто сидеть тебе в монастыре? — пристал к Звездану Мистиша.
Очнулся Звездан, растаяла синь в его глазах. И снова предстал он пред своими знакомцами в чернецком скромном одеянии, едва не в рубище — потерлась, обветшала ряска на локтях, шапчонка старенькая да выцветшие чеботы.
Замкнулся Звездан, перекрестил Мистишу с Кривом:
— Ступайте, а мне пора на молитву.
Так и не ответил он на Мистишин вопрос, вратарю строго-настрого наказал:
— Никого ко мне в обитель не пущать.
И попросился у игумена в затвор. Целый год сидел в темнице, изнуряя себя строгим постом. Вышел на волю — и закружилась голова. Но на сердце было легко и ясно.
И снова молол он зерно для братии, помогал поварам, рубил дрова и носил воду.
Время словно бы остановилось на гребне монастырской стены…
3
Необозримы дороги, ведущие в мир. Кто-то прожил свой век в небольшом селе, — кажется, все луга и леса окрест исходил и вдруг на склоне лет открыл для себя небывалое: новую тропинку пробил в дремучей чаще лось, поднялось у обочины новое рябиновое деревцо, иным цветом украсилась знакомая с детства лужайка; подмыв берег, ушла в другое русло река; где был омут, насыпало отмель, где раньше была отмель, распахнулась темная бездна. Озерцо, в котором купался мальчонкой, заросло ряской и мхом, и вместо рыбы в сети все чаще попадаются вертлявые лягушата, а рядом просверлил суглинок новый родничок, положил начало бойкому ручейку, а тот с годами положит начало большой реке…
Другому открывается иная новизна. Не живется ему на месте — не такая у него душа. Застоится — затоскует, а чуть стронется — и оживет, жадно всматривается в незнакомые приметы: то это зелень бескрайних трав, то угрюмая скованность гор, то синь морская, то непривычные очертания чужих городов, а то и просто непонятная, чудная речь. И неумолима притягательная сила, влекущая человека все дальше и дальше за отступающий окоем.
Увели от дома дороги и Негубку с Митяем, а когда оглянулись, страшно им стало: долгие месяцы пути остались за их спиной.
И чего только не повидали они, чего не наслышались!
От Булгара плыли вниз по Волге на лодиях, потом долго тащились через бесплодную пустыню. В Хорезме дивились обилию сладких плодов. В Отраре, рядясь на торгу, глаз не могли оторвать от блестящего китайского шелка.
Тут бы и остановиться им, тут бы и повернуть назад — за диковинный товар получили бы они у себя на Руси немалый прибыток.
Но Негубка был ненасытен: покрутившись среди купцов, сговорился с тангутами:
— Возьмите меня с собой.
— Пойдем, — сказали ему тангуты. — Все, что видел ты в Отраре, лишь малая частица тех богатств, которыми щедро наделена наша земля.
— Прошусь я не ради богатств, — с достоинством отвечал им Негубка, — а хочу взглянуть, где и как живут люди.
— Живут по-разному, — уклончиво сказали ему тангуты. — А попутчику мы рады. Ты многое повидал, кое-что повидали и мы — вместе нам будет хорошо.
— А далека ли дорога?
— Дорога далека, но вот пришли же мы в Отрар.
Били по рукам, переложили поклажу на верблюдов и ранним утром двинулись в степь.
В большой караван собрались купцы, говорили на разных языках, а понимали друг друга с полуслова. Держались с достоинством, всяк свою охранял честь, каждый пекся за свой товар, но чем дальше, тем все неспокойнее становились Негубковы спутники. Приуныла и охрана (солнышко, что ли, их припекло?), приуныл и караван-баши: то и дело он придерживал своего прыткого ослика, оглядывал из-под руки изгорбленный холмами край степи и поцокивал языком.
— Что испугало вас? — обратился к нему Негубка.
Тот ответил не сразу.
— Ты чужеземец, и тебе еще не все известно, — сказал он наконец. — Большие перемены случились в нашей степи. Раньше торговый путь был приятен и безопасен, теперь беда подстерегает нас на каждом шагу…
— Но с вами надежная стража!
— Э, какая же это стража, — помотал головой собеседник. — При одном только виде монголов все эти красавцы воины разбегутся, как дикие джейраны.
— Ты сказал: при виде монголов, — продолжал допытываться Негубка. — О монголах слышал я краем уха и в Отраре. Что это за народ и почему его все так боятся?
— Когда-то были они мирными аратами и пасли свой скот, — начал рассказывать караван-баши. — Но объявился Темуджин, которому присвоили имя Чингисхана, собрал вокруг себя всех монголов, отдал пастбища нойонам и пошел войною на соседние племена. Теперь он мечтает о завоевании Тангутского царства…
— Но ты же сам говорил мне о могуществе твоей страны.
— Да. Император Ань-цюань отгородился от степи крепкими стенами крепостей — ему монголы не страшны. А как быть нам? Купцы беззащитны всюду.
Рассказ караван-баши встревожил Негубку. Услышав о грозящей им опасности, Митяй испугался:
— Зря поехали мы с тангутами. Лучше бы вернулись домой.
— Об этом и думать не смей, — оборвал его Негубка. — Али по нашей земле ходили мы без опасностей?
— Там все свое. А отсюдова, случись беда, не выбраться нипочем. Истлеют наши косточки на чужбине — никто и не поведает о том, как сложили мы свои головы…
Но бог миловал купцов. Еще несколько дней прошло — и стали забываться страхи.
— Ну, теперь уж недалеко, — приободрился караван-баши.
Перевалили через горы, снова вышли в степной простор.
— Вот и наша земля! — радовались купцы, да недолго. К вечеру показались на горизонте незнакомые всадники.
Воины растерянно заметались, обнажили кривые мечи, бестолково пускали в воздух стрелы. Неразборчиво закричали по-своему.
Негубка вытащил из-под тюка с мехами припасенный еще во Владимире острый боевой топор.
Неизвестные всадники приближались на рысях. Кони в мыле, из-под копыт — пыль столбом. Сшиблись со стражей, смяли — уцелевшие тангуты бросились в степь.
Словно кровавый вихрь промчался вдоль каравана. Двое монголов насели на Негубку с Митяем. Купец с трудом отбивался от них топором, Митяй размахивал мечом, нехорошо ругался. Вдруг потемнело в глазах — тугая петля перехватила ему горло…
Очнулся он от холода. В ночи перекликались люди, горели костры. Рядом застонал и пошевелился Негубка.
— Жив, дядько?
— Жив…
Лежали молча, ждали, что будет дальше. В высоком небе медленно передвигались звезды, в траве звонко стрекотали кузнечики.
Подошел низкорослый, взмахнул зажатой в руке плетью, прокричал что-то непонятное. Негубка понял его по жесту, с трудом встал на ноги, Митяй тоже поднялся.
Долго петляли между костров, всматривались в озаренные пламенем узкоглазые лица. Остановились перед высоким шатром. За откинутым пологом горел тусклый свет, доносились голоса людей. Монгол подтолкнул их вперед, тьма расступилась. Посреди шатра — просторный ковер, по краю его сидят, поджав под себя ноги, воины, прямо перед входом на возвышении — бородатый человек в расстегнутом на груди халате, лицо сморщенное, сухое, губы сжаты, полуприкрыты глаза.
Приведший их в шатер монгол гортанно вскрикнул и стал стегать плетью по спинам. Негубка с Митяем поняли, опустились на колени.
— Чингисхан, Чингисхан, — прошелестело вокруг.
Поднялся один из воинов и, поклонившись хану, обратился к пленникам на тюркском языке:
— У вас светлые бороды и голубые глаза. Вы не похожи на всех, кого мы встречали до сих пор. Хан милостив, он дарует вам жизнь. Но скажите, кто вы?
Негубка понял его, но говорил с трудом:
— Мы русские и идем с товарами в Чжунсин.
— Чжунсин падет к стопам покорителя вселенной. — сказал воин строго и покосился на хана. Тот пожевал губами, что-то невнятно выкрикнул.
— Великий Чингисхан спрашивает вас, — перевел воин, — что это за племя — русские — и почему он до сих пор ничего о них не слышал?
— Мы живем далеко, очень далеко, — объяснил Негубка.
Чингисхан спрашивал, Негубка отвечал, воин едва успевал переводить:
— Что значит — далеко?
— Мы шли сюда целых два года.
— И велик ваш народ?
— Очень велик. А живет он в лесах от Варяжского до Русского моря.
Чингисхан улыбнулся, в глазах его засветилось лукавство:
— Разве два года пути так уж и далеко?
— Далеко, великий хан, — отвечал Негубка. — И не всякий отваживается пуститься в такую дорогу.
— Но ты же отважился?
Негубка молчал.
— Значит, ты храбрый человек?
— Всякий русский храбр, — с достоинством ответил Негубка и прямо взглянул в глаза Чингисхана.
— Хорошо, — сказал Чингисхан, — я не причиню вам зла. Ступайте к себе на родину и расскажите обо всем, что видели. Велико Тангутское царство, но я покорю его. Мои бесстрашные тумены пройдут по всей земле. И не так уж много минует лун, как познают силу моего оружия и в ваших пределах…
Словно страшный сон это был. Потрясенные, Негубка с Митяем вышли из шатра.
Глава первая
1
Ох, и живуч был род Михаила Степановича! На что совсем уж было зачах он после того, как сел на отцово место Димитрий, — Мирошкиничи-то давние их были враги. Так нет же — воспрял.
Новый посадник Твердислав весь был в своего батюшку: так же настырен и изворотлив.
Пораскинув мозгами да пооглядевшись вокруг, понял он, что по батюшкиной стезе ему не идти. Слишком извилиста и опасна она была, едва не привела его к гибели. Твердислав решил князю Всеволоду ни в чем не перечить, с боярами против него не замышлять, а жить себе поживать в свое удовольствие: пить, пока пьется, плясать, пока пляшется.
К юному Святославу на Городище стал он первый ходок (после недавнего позора князь побаивался жить в городе), а еще взялся он обхаживать давнего своего знакомца Словишу, который еще при старом Якуне помогал Всеволоду утверждаться в Новгороде, а теперь после того, как отошел от дел Звездан, снова вошел в прежнюю силу. Не обходил Твердислав вниманием своим и Веселицу, разбитного дружинника, Словишиного дружка, — тот и вовсе был покладист. Однако же примечал новый посадник, что хоть и хмелен через день Веселица, а Всеволодово право блюдет строго.
А еще пустился Твердислав на поклоны к Митрофану — владыка был строг и неподкупен, но падок на лесть. Черту эту за ним Михаил Степанович не приметил — сын же его был зорчее. Даже в споры с Митрофаном пускался Твердислав. А всё для чего? А всё для того, чтобы побиту быть и после признаться владыке:
— Умен ты, отче. Зело начитан, и мне тягаться с тобою грешно.
Со Словишей вел Твердислав иные разговоры. Помнил, как не любил он Якуна.
— Эко осерчали новгородцы на Димитрия Мирошкинича, погребать не хотели, — говорил он. — Да невдомек им, что обитается на юге еще один Димитрий — тот пострашнее Мирошкинича будет…
— Уж не про сына ли ты Якуна Мирославича? — с подозрением посмотрел на него Словиша. — Одного только я не пойму — к чему склоняешь беседу?
— К чему склоняю, про то ты и без меня догадался, — подмигнул Твердислав. — Али мало попортил крови Всеволоду Якун? Небось его дочка была за Мстиславом, когда собирал тот новгородскую рать против Владимира. Старое долго не забывается…
— Старое не забывается, да всегда ли на старое свернешь?
— В Новгороде — не в Понизье. Здесь бояре твердые, порядки свои, заведенные от дедов, оберегают и чтут. Стоит искре упасть, а пламя само займется…
— Что-то не договариваешь ты, Твердислав.
— А вот поразмысли-ка, слушки-то, что на торгу обретаются, собери, — ежели умен, так и сам поймешь.
— Слушки, сказываешь? — насупился Словиша: как же так недоглядел он; почто Веселица меды пьет, а мышей не ловит; почто посадник идет к нему с тревожной вестью?
Твердислав насладился растерянностью Словиши и тут же перевел разговор на другое. Но у дружинника словно кол засел в голове. Вокруг одного и того же крутились мысли. Не выдержал он:
— Откуда Димитрий Якунович весть подает?
— С юга и подает, — ждал его вопроса Твердислав, отвечал бойко, словно повторял заученное.
— Ох, и мудришь ты, посадник, — смеясь, погрозил ему пальцем Словиша. — Все знаешь, да задорого продаешь.
— А ежели и продаю?
— Всему своя цена. Да только Димитрий и тебе не приятель. По глазам вижу — встревожился ты, боярин.
— Чего ж мне тревожиться-то?
— Сам знаешь. Придет Димитрий — тебе несдобровать. Так что цена новости — твой посох, посадник. Не юли, а напрямик мне сказывай: что пронюхал-то?
— Что пронюхал, то со мной. А ты прав: Димитрий мне — яко рыбья кость поперек горла… Ну так слушай, Словиша: не все спокойно в Новгороде. Ждет кой-кто великих перемен.
— Кому перемены на руку? Ты мне имя назови.
— Что имя! Рядом сидишь с супостатом на боярском совете, а мыслей его не прочел.
— Неужто Ждан?
Вспомнил Словиша вечно потную, угрястую физиономию боярина, и тошно ему стало. Громче всех кричал Ждан за Святослава, больше всех клялся в преданности Всеволоду. Так вот что скрывалось за его покорством и готовностью услужить! И верно: худо ловит мышей Веселица — у Ждана на дворе он первый бражник. Говорят, и чара особая для него боярином припасена, никто к ней не притрагивается.
Нашептывал Твердислав Словише:
— Так ежели кликнут Димитрия, нешто потерпит он у себя понизовский дух?
— Значит, и о перемене князя ползет слушок?
— Ползет, еще как ползет…
— Да кого же хотят Ждан и те, кто с ним, на место Святослава?
— Мстислава торопецкого!
Аж за сердце схватился Словиша — больно кольнуло его в левый бок.
— И уж послали к Мстиславу своих людей?
— Чего не знаю, про то не скажу, — помотал головой Твердислав.
«Вот и ладно, — подумал он, — хорошо раззадорил я Всеволодова дружинника. Пущай дальше сам разматывает клубок».
Стал Словиша клубок разматывать, кликнул к себе Веселицу, набросился на него с упреками:
— И где только тебя носит, когда под носом крамолу куют?
От Веселицы сладко медами пахло, глаза улыбались с вызовом.
— Ты о чем, Словиша?
— А вот о чем: слал Ждан гонцов в Торопец…
— Так они у меня в порубе сидят!
Будто ножом отрезал Веселица. Словиша рот открыл от изумления: как же так?
— Сидят, да и всё тут. Не зря припасена у боярина для меня особая чара.
Да и верно — не зря. Только теперь по-настоящему оценил своего дружка Словиша. Мед-брагу пей, да дело разумей. Провел-таки Ждана Веселица, а тот и рад, что ушли гонцы за Волхов, думает, поди, что приближаются они к Торопцу.
Твердислав, узнав про новость, досиживал у Словиши вечер, как на раскаленных угольях. Все не терпелось ему уйти поскорее. Но и послушать хотелось, о чем еще говорить станут Всеволодовы дружинники.
А те быстро раскусили посадника и повели сторонний разговор — Веселица хвастался, как запорол днесь в Зверинце набежавшего на него медведя.
— Врешь ты все. С такими-то хмельными глазами собака тебе заместо медведя показалась, — издевался над ним Словиша.
Веселица горячился, боярин хмыкал, не зная, на чью сторону встать: ежели молчать будешь, обидишь Словишу, а ежели, не ровен час, не то слово выронишь, так припомнит Веселица.
— А ты что в рот воды набрал, Твердислав? — приступил к нему Словиша. — Так запорол Веселица медведя али бродячего пса порешил?
— Медведь Веселице под стать, — уклончиво отвечал смущенный посадник.
— Да когда видывал ты в Зверинце медведей?! — не отставал Словиша.
— Так-то оно так, — изворачивался Твердислав и вдруг нашелся: — Может, из лесу забрел косолапый?
— Угодлив ты, боярин, — сказал со смехом Словиша. — Ступай уж, скоро ночь на дворе — поди, заждалась тебя твоя боярыня.
Вот оно — гонит его Словиша, потому как сейчас только и пойдет у них толковый разговор! Но делать нечего — шапку нахлобучил на лысый череп посадник, раскланялся с хозяином и веселым его гостем да и на двор.
А на дворе холод лютый, а на дворе поземка метет — ехать бы Твердиславу, не мешкая, к своему терему, где и впрямь заждалась его неспокойная жена. Да не тут-то было! Велел он отроку, погонявшему лошадей, сворачивать на улицу, где высились резные палаты именитого боярина — дородного Ждана Иваныча.
— Добрый вечер, Ждан! — приветствовал он хозяина, вваливаясь к нему в повалушу прямо в белой от снега лохматой шубе.
Ждан сидел за столом в исподнем, доедал, отпыхиваясь, зажаренного поросенка. Пот струился с его лилового лица, маленькие глазки лоснились от удовольствия.
Испортил ему Твердислав вечернюю трапезу. Икнул Ждан, отложил на блюдо надкусанное свиное ухо в розовой хрустящей корочке, набычился, будто на рога собрался поддеть незваного гостя.
Но делать нечего, обычая не преступить, надо звать посадника к столу.
— Садись, Твердислав, — неохотно указал он на лавку, — Сымай шубу — у меня, слава богу, жарко топлено.
Во второй раз приглашать Твердислава не нужно. Снял он шапку, стряхнул с ворса мокрый снег, шубу стаскивать терпения не хватило, сел против Ждана, локти упер в столешницу:
— Слышь-ко, Ждан, схватили понизовские чьих-то гонцов. Сказывают, посланы они были в Торопец ко Мстиславу.
— Да в своем ли уме ты, посадник! — притворно возмутился боярин. — Кому это такая блажь вступила? Вроде живем тихо-мирно, от Димитрия Мирошкинича избавились, ни купцов, ни посадских, ни нас не притесняет Святослав…
— То-то и оно. А вот на ж тебе!.. Может, ты, случаем, что слыхал?
— Да отколь мне! — отмахнулся Ждан. — Ты меня знаешь, человек я оглядчивый.
— Вот и я про то же подумал — куды там Ждану!.. Да только имячко твое вроде бы где-то промелькнуло, — осторожно пощупал боярина Твердислав.
— Какое такое имячко? — насторожился Ждан и, чтобы скрыть волнение, потянулся к надкусанному свиному уху. Сунул в рот, пожевал с неохотой. — Ты говори, посадник, говори, да не заговаривайся.
— Мне-то что! — почмокал губами Твердислав. — Мне-то ничего. Я и помолчать могу. Хотел упредить я тебя, боярин, но вижу — намеку моему ты не внял.
— Ишь, каков! — оправившись, спокойно возразил Ждан. — Ходишь тут, высматриваешь, а чуть что — и на Городище к своим понизовским дружкам: так, мол, и так — Ждановы это гонцы. А почто Ждану чужую вину на себя брать? Ну скажи — почто?!
— Куды как раскипятился ты, боярин, — успокоил его Твердислав, — сколь всего на себя наговорил. А у меня и на уме ничего такого не было. Слышал я — вот тебе и сказал. Ну, а ежели обидел, то прощевай, на поросенка твово я не напрашиваюсь…
Все по задуманному вышло, ни в чем не допустил оплошки посадник: и у Звездана он свой человек, и Ждана предупредил. Куда ни качнутся весы — Твердислав наверху.
Теперь и домой можно возвращаться. Теперь и боярыня хоть до полночи пили — не испортить ей его хорошего настроения!..
Но ни Твердислав, ни Словиша с Веселицей всей правды не знали.
2
Пойманные гонцы ничего толком не могли сказать дружинникам. Грамоты при них не было, а послали их говорить Мстиславу изустно: так-де и так, просит тебя Великий Новгород к себе князем.
— Кто же слал вас? — допытывался у них Словиша. — Посадские?
— Не.
— Купцы, что ль?
— Может, и купцы. А может, и нет. Кликнули нас на торгу, отвели в церковь: так, мол, и так — людишки вы надежные, скачите в Торопец. И пенязей насыпали полные пригоршни. Да еще заставили тут же в церкви, пред аналоем, клясться, что все исполним, как велено, и никому не скажем ни слова. Нарушили мы клятву!..
— Клятвы вашей бог не услыхал, — сказал Словиша. И задумался. Что-то разобрало его сомнение — странно отправляли к Мстиславу гонцов. Вроде бы и не всамделишные они, вроде бы нарочно выбрали на торгу первых попавшихся мужиков. А что, как умнее оказались заговорщики? Что, как боятся — пронюхали о их заговоре, а время не ждет? Вот и пустили по ложному следу, а настоящие вестуны давно в Торопце, и Мстислав, не мешкая, вздевает ногу в стремя?
Недалек от истины был Словиша, когда посылал во Владимир Веселицу:
— Коня не жалей. Скажи Всеволоду, что замышляют против Святослава новгородские бояре…
А Ждан Иваныч тоже времени не терял. От Твердислава узнал он, что удалась его хитроумная затея. На другой день, после того как побывал у него посадник, кликнул он к себе Домажира, Репиха и Фому — передних новгородских мужей:
— Возрадуйтесь, бояре: не долго осталось ждать. Скоро заживем по-иному. Мстислав всегда стоял за старый порядок, не позволит он понизовским хозяйничать на нашей земле.
Раскраснелись, расхрабрились бояре, закричали наперебой:
— Повадился к нам Всеволод, как из лесу волк. Будя!
— Не стадо мы, чтобы нами помыкать!
— Не для того кровью своей багрили мы наше порубежье!
Откричались, преданность свою Ждану показали, пришла пора спокойно думать:
— А кого поставим в посадники?
— Вот он, мужеский разговор, — сказал Ждан. — Рад я, что рассуждаете вы здраво и поняли, что Твердислава оставлять не годится.
— А ежели не Твердислава, то кого же? — спросил Домажир, поглаживая свою холеную ромейскую бороду.
— Старого Михаила Степановича, что ли, снова звать? — покачал лохматой головой Фома.
— Не, Михаил Степанович себе на уме, — вторил ему длинный и тощий Репих.
Ждан Иванович с удовлетворением оглядел бояр.
— А вы сметливы, — сказал он, — все верно рассудили. И Твердислава оставлять нельзя, и Михаил Степанович — плохой нам посадник.
— Вот Якун Мирославич был бы жив, — неуверенно начал кто-то.
— Чего уж покойничков беспокоить, — подал голос Домажир, — Не томи, Ждан, видим мы по твоему лицу, что есть у тебя достойная задумка.
— Есть, — согласился Ждан и заговорил тише, словно его еще кто-то мог услышать. — Вот вы Якуна помянули — с Юрьевичами у него давние счеты. А как поглядите, бояре, ежели попросим мы вернуться на отчую землю кровного сына его?
— Димитрия?! — воскликнул Репих.
Ждан пристально посмотрел на него:
— Аль не по душе он тебе?
— С чего бы это? — отстранился Репих. — Только больно уж чудно мне показалось — сколь годов уж не объявлялся Димитрий в Новгороде, поди, и сгинул на чужбине…
— Не объявлялся, потому как нипочем не простили бы ему отца понизовские, — сказал Ждан. — А ежели бы объявился?
— Ну, ежели бы объявился… Подумать надо, Ждан. — смущенно заговорили бояре.
— А вы споро думайте. Времени у нас мало. Так как, выкликнем Димитрия?
— Ежели объявится, чего ж не выкликнуть, — сказали бояре. — Помнят еще в Новгороде Якуна. Всеволоду-то не шибко баловать позволял, не то что Мирошка.
— Мирошку вы не беспокойте, — оборвал их Домажир. — Мирошка за Новгород пострадал. Сын вот у него только непутевый был… Слышь-ко, Ждан?
— Чего тебе?
— Кровь-то кровью, а что, как и Якунов сыночек зачнет у нас бесчинствовать — так не оберешься греха?
— Димитрий Якунович — не Мирошкинич. Тот еще когда нам всем надоел.
— Ну, а ежели? — не отставал прилипчивый Домажир.
— Так и его скинем, — раздраженно ответил Ждан и оглядел присмиревших бояр. — А вы почто молчите? Али один Домажир за всех нынче ответчик? С князем всё враз решили, а о посаднике уж сколь времени в ступе воду толчем. Так звать ли нам Димитрия Якуновича али кого другого назовем?
— Кого уж другого, коли ты посох приять не согласен, — сказал Репих и приложил ладонь к тугому уху: экую наживку бросил он — чай, и самому Ждану лестно положить начало новому роду новгородских посадников.
Ждану приятно было, но сам лезть на рожон он не хотел.
— Ты, Репих, про меня и говорить забудь, — обрезал он боярина, и тот сразу отшатнулся от него, замахал руками:
— Что ты, что ты, батюшка, я ведь любя!
Бояре облегченно зашумели. Так вот что мешало им — боялись Ждана обидеть! Засмеялся Ждан:
— А вы уж подумали, что я о себе пекусь…
— Ты бы нам был любезен, — за всех отвечал Фома.
— Спасибо вам, бояре, за верность, — сказал Ждан. — Но токмо так и не понял я — согласны ли вы на Димитрия Якуновича?
— Согласны, — в один голос отвечали бояре.
Ждан загадочно улыбнулся и вышел за дверь. Вернулся скоро, и не один. Следом за ним в повалушу протиснулся дородный дядька с огненно-рыжей бородой и слегка косящими, внимательными глазами. Все настороженно уставились на него.
— Никак, Митя? — приподнялся на лавке Домажир.
— Он и есть, — сказал Ждан и отступил в сторону.
— Челом вам, бояре, — сказал Димитрий с хорошей улыбкой и поклонился до пола, грива густых рыжих во лос упала ему на лицо. Выпрямляясь, он откинул ее назад легким движением ладони и смущенно покашлял.
— Садись, Митя, ты у себя дома, — указал ему на свое место во главе стола Ждан, а сам сел с краю. — Бояться тебе здесь некого.
— Вот и слава богу, — засуетился оправившийся от изумления Репих. — Как дошел, Митя, до Новгорода?
— Дошел как дошел, жив — и то ладно, — слегка волнуясь, отвечал Якунович и снова покашлял. Не очень-то он был пока расположен к разговору с незнакомыми людьми.
— Вижу, не припоминаешь ты меня… — не отставал от него Репих.
Глаза слегка прищурил, пригляделся к боярину Димитрий:
— Нет, не припомню.
— С батюшкой твоим мы приятели были.
— Много было у батюшки приятелей, да как помер он, так все и сгинули.
С болью в голосе отвечал Репиху Димитрий — лучше было и не заводить этот разговор. Ждан одернул боярина:
— Будя язык-то чесать. Не на поминки приехал Димитрий — ты дело говори.
— А что дело-то? Дело-то когда уж обговорено. — Еще что-то пробормотав, Репих замолчал и до конца беседы не проронил больше ни слова.
Расходились поздно. Зарывшись в господские шубы, возницы дремали на дворе.
Прощаясь со всеми в обнимочку, каждому в отдельности Ждан говорил:
— Про Димитрия никому ни слова.
И каждый честно отвечал:
— Положись на меня, боярин.
Разъехались полюбовно. А утром кто-то загремел колотушкой в ворота, да не просто, а так, как только хозяин греметь умел. Ждан отволокнул высоко нависшее над улицей оконце, высунулся по пояс в одном исподнем:
— Кого бог принес?
— А вот отворяй, так увидишь!
— Ну, Димитрий, — прибежал предупредить гостя перепуганный Ждан, — кажись, беда стряслась. Кто-то донес на тебя. Беги, покуда не поздно!
Сунул Димитрий ноги в сапоги, на плечи шубу да и за Жданом — во двор, а со двора — на заметенные снегом огороды.
У трясущихся от ударов ворот взад и вперед бегал насмерть перепуганный тиун.
— Отворяй! — приказал ему Ждан, приняв степенный вид: позевывая, будто спросонья, приготовился встречать непрошенных гостей.
Въехал Словиша, с ним двое отроков — все в доспехах и при мечах.
— Кого я вижу! — притворно обрадовался Ждан. Словиша только покосился на него, сам, как сыч, смотрел через голову боярина — там поскрипывала на ветру отворенная на огороды калитка. Приметил-таки Всеволодов прихвостень свежий следок, убегающий к Волхову!..
— Догнать! — обернулся Словиша к отрокам.
— Да кого догнать-то? — сунулся к его коню Ждан, а сам побелел, зуб на зуб не попадает, рука, взявшая повод, дергается и пляшет.
— Что, перетрусил, боярин? — обнажил в усмешке ровные зубы Словиша.
— Вона как нагрянул ты — тут перетрусишь, — ответил Ждан, с беспокойством оглядываясь вслед ускакавшим отрокам. — Кого ловишь в моем дворе?
— Кого ловлю, того поймаю, — сказал Словиша. — От меня далеко не убежишь.
Он слез с коня и прохаживался по двору, с удовольствием разминая ноги. Снег сочно похрустывал под его сапогами. Пряча лицо в мех поднятого воротника, Ждан смотрел на него с ненавистью. «Вот кого первого — в поруб», — думал он о Словише. И откуда только такое в голову лезет — ему бы о себе поразмыслить: к кому поруб ближе?
Отроки возвращались, между коней мелко потрухивал Димитрий Якунович — шуба нараспашку, шапка где-то обронена, рыжие волосы в беспорядке спадают на плечи.
— Так что я говорил, боярин? — торжествующе повернулся к Ждану Словиша. — Далеко ли ушел твой гость? Как звать-прозывать тебя, мил человек? — обратился он к Димитрию.
Тот супил брови, смотрел себе под ноги, молчал.
— Экой ты, Димитрий Якунович, неразговорчивый, — сказал Словиша и раскатисто рассмеялся. — Думаешь, я тебя не признал? Давненько мы с тобой не виделись, а мир тесен — вот и встретиться довелось. Словиша я.
Вздрогнул, злобно, словно вилы, воткнул в него свой взгляд Димитрий и тут же снова потупился.
— Эх ты, — посмеялся Словиша, — тучен стал, бегать не горазд. Случись мне быть на твоем месте, ни за что бы не догнали.
— Еще побываешь на моем месте, — подал охрипший голос Димитрий Якунович, — еще побегаешь…
— Вона как!
— От отца бегал…
— Бегал, — согласился, нисколько не обидевшись, Словиша. — Да что-то не видно Якуна, а я тута!
Он повернулся к Ждану:
— Собирайся, боярин. Али собран уже?
— Куды это? — встрепенулся Ждан.
— К Святославу на Городище. А там видно будет. Может, и в поруб. Небось припас для меня местечко? Вот и для тебя сгодится.
Мечтал, возвращаясь в Новгород, Димитрий: колокольным звоном, хлебом-солью будут встречать его земляки. Да не сбылось — шел он, словно безродный тать, на суд и великое посрамление.
Зато Словиша радовался: когда ехал, и не думал застать у Ждана Димитрия. Просто попугать, пощупать хотел боярина. Ведь не случайно же от него топтали дорожку к Мстиславу в Торопец. И вот — щедрый подарочек.
Сам перед собою выхвалялся Словиша: славный, славный у Святослава дружинник. Эк угораздило его — на самом корню смуту пресек! Честь ему и хвала.
3
Чего уж там говорить — и впрямь ловок был Словиша. Но смуты он не пресек: когда въезжал дружинник с пленниками на Городище, Мстислав подходил к Торжку.
Торжок стоял на пути всех, кто хотел воевать Новгород. Понизовский хлебушко шел через Торжок, в Торжок сходились торговые люди со всех концов Руси; переваливали товары с возов на возы, торговали солью и кузнью, мехами и воском.
Вслед за гонцами от Ждана прибыли в Торопец, к берегам Соломеноозера, иные гонцы, принесли совсем иные вести: Ждана схватили, бояре, иже с ним, попрятались, боясь мести от Всеволода… Вот и ступай, кня жить, когда хозяев, звавших в гости, поймали и заковали в железа!
Но, начав что-либо, не привык отступаться Мстислав Удалой, не привык поворачивать, своего не добившись, с половины пути. Ежели добром не отдастся Новгород, то он возьмет его силой.
Ехал во Мстиславовом обозе бежавший от Словишиных исполнительных людишек боярин Домажир. Сам он теперь себе не верил, понять не мог, как удалось ему уйти за городскую ограду. Страху лютого натерпелся, пробираясь к Торжку, а под Торжком встретил его Мстислав:
— Куды это ты, боярин, в этакую рань, да в худом зипунишке, да с батожком наладился?
— Спаси, батюшка-князь, и помилуй мя, — упал ему в ноги Домажир. — Гонятся за мною Всеволодовы псы, поймать хотят и, как Ждана, ковать в железа!
— У страха глаза велики, — засмеялся Мстислав. — Никто за тобою не гонится, и никому ты не нужен — оглядись вокруг себя! А то, что звали вы меня, оторвали от сладкой чары и сесть на коня принудили, — это уж вам на страшном суде зачтется.
— Что ты такое говоришь, княже, — как листок на ветру, затрепетал Домажир, — почто на верных слуг своих серчаешь?
— Да как же мне на вас не серчать? Не по своей воле собрался я с дружиной. А теперь куды себя деть?
— К Новгороду иди. Новгород тя встретит.
— Стрелами калеными да сулицами?
— Хлебом-солью.
— Пустое мелешь, боярин. Лишь тогда встретит меня хлебом-солью твой Новгород, когда сам я того захочу. Вот зажгу Торжок, так и спохватятся ваши крикуны, признают во мне хозяина.
— Дело говоришь, княже, — взбодрился Мстиславовой решимостью Домажир. — Зажги Торжок, припугни. Неча на них глядеть!
— Аль не жаль тебе, что пущу я по миру вдов, что прибавится сирых и бездомных в твоей земле?
— Отныне и твоя это земля, княже, — подольстил боярин. — А что до сказанного тобою — так то ж для острастки, то ж любя…
— Полюбил волк овцу, — усмехнулся Мстислав. — Ну да ладно. Ступай, боярин, в обоз да сиди тихо.
Тихо сидел Домажир, только и дел у него было, что приглядывать за обозниками.
Бывало, встанут на привал, запалят костры, а он тут как тут. Стоит у огня, посошком поправляет поленья, в кучку сгребает прыгающие угольки:
— Куды глядите, мужики? Этак весь лес вокруг спалите.
— Лес не огород. Не ты его садил, — отвечали те, что были побойчее.
— Мой это лес, — говорил боярин.
Или набьют зайцев, кинут сокалчим:
— Свежуйте, сокалчие!
А боярин опять с попреками:
— Пузо у вас бездонное. Куды зайцев набили?
Батожком замахивается на ретивых охотничков.
— Да что ты, боярин? Твои, что ль, зайцы?
— А то чьи же! Ежели лес мой, то, стало быть, и зайцы мои, — говорил Домажир.
Всем надоел боярин: от скуки в каждый котел совал он свой нос:
— Мясо не пережарьте!
— Сочиво не передержите!
— Чесночку добавьте!
После сокалчих первым пробовал еду боярин. И все ворчал:
— Слушались бы меня, так не переварили бы…
— Не пересолили…
— Не переперчили…
Все вздохнули с облегчением, когда, встав под стенами Торжка, забрал его из обоза Мстислав.
— Вот что, боярин, — сказал ему князь. — Думал я, думал и так порешил. Ступай-ко ты в крепость да скажи, чтоб сдавались подобру-поздорову: не чужак-де пришел и не дикий половец.
Без особой охоты отправился боярин в Торжок. Впустили его в город, отвели к посаднику.
— А я-то думаю, кто это в гости ко мне пожаловал! — обрадовался, увидев Домажира, посадник. — Садись, боярин, к столу!
— Некогда мне с тобою меды распивать, — от гордости распирало Домажира. — С повелением я к тебе от Мстислава: сдай город, и зла он ни вам, ни домам вашим не причинит. А буде не сдадитесь, буде упрямиться станете, так возьмет вас князь наш на щит.
— Что-то запамятовал ты, боярин, — сказал посадник. — Князь наш Святослав, сын великого Всеволода. А Мстислава мы не звали. Кто звал, тот пусть его и встречает. Да только сам ты, Домажир, бежал из Новгорода, а Ждан сидит в оковах.
— Погода, посадник, в наших краях переменчива, — намекнул Домажир, — как бы кому другому в оковы не угодить.
— Зря вздумал ты меня стращать, боярин. Покуда нет мне повеления веча и владыки Митрофана, со стен не сойду и ворота не открою.
— Так и передать Мстиславу?
— Так и передай.
Другого ответа от посадника Мстислав и не ждал. Ничуть не удивился он, выслушав Домажира, и стал готовиться к осаде. Знатоки своего дела, первейшие плотники, ехали с ним в обозе; срубили они в лесу крепкие стволы, обили комли железом — бить в городские ворота; натесали длинных жердин, сделали лестницы — лезть на городские стены; лучники насмолили пакли, чтобы стрелы с огнем метать за городницы — зажигать в городе избы…
Русский на русского пошел, брат на брата — жаркая сеча завязалась на городских валах. Взял Мстислав Торжок, отдал своим воинам на поток и разграбление. И одним из первых ринулся к одринам боярин Домажир, полные возы набил, а ему все мало — даже бедных изб не оставил без внимания, отовсюду что-нибудь да взял: там горшок, там ухват, а где и колыбельку из-под младенца. Сидел довольный на куче сваленного добра — никого к себе не подпускал, сам никуда не отлучался.
Но розыскал его посланный от Мстислава.
— Будя, боярин, на куче-то сидеть, — сказал он с усмешкой. — Зовет тебя к себе князь.
— Да как же брошу я свою кучу? — разворчался боярин. — Воины ваши нехристи и хитители — останусь я, отлучившись, ни с чем. Может быть, ты постережешь мою кучу?
— Еще чего выдумал, боярин!
— Постереги, а я тебе перстенек серебряный дам.
— Больно дешево ценишь ты кучу свою, боярин. Не стану я стеречь ее за серебряный перстенек.
— Ну так дам золотой, — скрепя сердце, пообещал боярин.
— Дай сейчас перстенек, тогда и постерегу.
— Экой ты хват, право, — разворчался Домажир. Но уж так ли не хотелось ему расставаться со своей кучей!
— Ладно, — сказал боярин, — бери перстенек, да стереги в оба. Чего не доглядишь, с тебя после спрошу.
— Ну сумлевайся, боярин, — пообещал гонец, любовно примеряя на палец перстенек.
С тяжелым сердцем ушел от своей кучи Домажир, но делать нечего: опасался он Мстиславова гнева.
Князь сидел на скинутом наземь седле перед посадниковой избою в окружении еще не остывших от битвы дружинников. Посадник стоял перед ним, понурясь.
— Ну что, — ехидно спросил его Домажир, — кого нынче признаешь за своего князя?
— Как и ране, признаю над собою Святослава, — упрямо твердил посадник.
— Чего глядеть на него, княже? — повернулся к Мстиславу Домажир. — Долго ли еще терпеть будешь такую дерзость?
— А ты помолчи! — оборвал его князь. — Не для того зван, чтобы давать мне советы.
Домажир обиделся: вот и служи князьям — с утра не знаешь, как повернется к вечеру. Еще и сам во всем виноват будешь.
— По душе мне верность твоя, посадник, — сказал Мстислав. — Ты вот ответь мне: а ежели меня выкликнут на вече, так же верен будешь и мне?
— Ежели выкликнут, ежели присягну, то и тебе верен буду до гроба, — твердо проговорил посадник.
Ответ его понравился Мстиславу.
— Вот, — сказал он всем и задержал взгляд свой на Домажире. — Слышали?
— Как не слышать, княже, — вразнобой заговорили все. Домажир громче всех постарался.
— За верность друзей своих я гривной жалую, а врагов не наказую, — сказал Мстислав. — Ступай и ничего не бойся, посадник. Дел у тебя много. Пущай возвращаются жители в дома свои — прощаю я им невольную их вину. Тебя же, боярин, — повернулся он к Домажиру, — звал я, чтобы скакал ты без промедления в Новгород и так бы говорил новгородцам: «Кланяюсь святой Софии, гробу отца моего и всем вам: пришел я, услыхав о насилиях, которые вы терпите от Святослава, жаль мне стало своей отчины».
Вот и снова повис над Домажиром карающий меч: не хотелось ему скакать в Новгород, где ждали его на расправу, — боялся он, что примут его не как Мстиславова неприкосновенного гонца, а как мятежного боярина.
Но мог ли он не послушаться своего нового хозяина? Чтобы скрыть смятение, низко поклонился князю Домажир:
— Повеление твое исполню, княже.
И побежал трусцой к своей награбленной куче. Тяжелое было у него предчувствие, под ложечкой сосало — так и есть: ни воина, ни кучи на старом месте не было. Только и осталось, что несколько побитых горшков.
Зато рядом другая куча выросла. И сидел на ней другой боярин, причмокивая, раздирал жареную курицу.
— Ты почто это мою кучу под себя перетащил? — закричал Домажир.
— Моя это куча, — спокойно отвечал боярин и бросал под ноги Домажиру куриные косточки.
— Нет, моя, — сказал Домажир и хотел схватить боярина за ногу. Но боярин неподатливый оказался, лягнул Домажира в плечо — тот кубарем с кучи.
Шум поднялся, как на торгу, — сбежались отроки, стали растаскивать бояр. Давешний Мстиславов человек тоже возле них объявился.
— Возвращай перстень, не то пожалуюсь князю! — накинулся на него Домажир. — Ты почто не стерег мою кучу, как сговаривались, а отдал ее другому боярину?
— Окстись, — упрекнул его Мстиславов человек, — никакого перстня ты мне не давал, а всё-то выдумал. Ежели хочешь очернить меня пред людьми, так ничего у тебя из этого не выйдет. Пойдем к Мстиславу и поглядим — позволит ли он унижать тебе своего милостника!
Испугался Домажир: как бы новой беды не нажить, плюнул и ушел восвояси. Добра себе от Мстислава он не ждал: крутенек был торопецкий князь.
4
Словиша на Городище был, когда ударили в вечевой колокол. Прискакал поздно — народ на площади стоял густо, не пробиться к степени. Бояре дело свое тихо сделали, крикунов было много, и никто не вступился за Святослава.
— Мстислава хотим! — неслось отовсюду.
Говорил длинный и тощий Репих:
— Доколь терпеть будем бесчинства? Что хотят, то и творят Святославовы людишки — вчера Ждана с Димитрием Якуновичем схватили, гноят в сыром порубе, завтра за нас возьмутся, повезут на правёж во Владимир, домы наши разграбили, купцам пресекли дорогу за море-океан, жен и дочерей наших бесчестят.
Поди спроси, кого обесчестили, — страху нагонял Репих. За ним вскарабкался на степень Фома:
— Правду сказывает Репих, вовсе не стало нам никакого житья. Владыка Митрофан тож не за нас печется — не выбирали мы его, как ведется в Новгороде, сажали его нам на шею понизовские, дозволения не спрашивали. Да и Твердислав какой посадник? Не в городе живет он, а на Городище, Святославу ино место лижет!
— Хотим Димитрия Якуновича! — заорали в толпе.
Твердислав тут же, на вечевой степени, стоял сам не свой.
Словиша крикнул с коня:
— Дайте Твердиславу слово сказать!
— Неча давать ему слова, — повернулся к Словише чернявый Домажир. — Наслушались его, будя. И ты, Словиша, помолчи-ко, покуда не скинули в Волхов.
— Не, — оборвал его Репих. — Пущай говорит. Пущай скажет Великому Новгороду, как Ждана с Димитрием без вины вязал…
— Пущай скажет! — заволновались в толпе. Просунули к дружиннику требовательные руки, стащили с коня, стали грубо подталкивать к степени.
Словиша поднялся на помост, снял шапку, поклонился на четыре стороны.
— Ишь ты, уважительный какой сделался, — нехорошо засмеялись в толпе. — Чего его слушать? В Волхов — да и всё тут.
У Словиши лицо стало белым, рука взволнованно сминала шапку, но говорил он спокойно:
— Дети вы неразумные. Наслушались своих бояр и рады: случай выпал повеселиться. Да когда же зло вам чинил Святослав? Когда мал и неразумен был или нынче, когда кликнули вы его снова, чтобы привел он к порядку бесчинствующих Мирошкиничей? Не вы ли отказывались погребать прежнего Димитрия и не владыко ли Митрофан вразумлял вас и ходил по городу со крестом, дабы упредить разбой и насилие? И когда посту пал против вашей воли Всеволод? Попросили вы у него Константина — дал вам Константина, попросили снова Святослава — дал Святослава. И посадника вы сами здесь же выбирали. Никто вам его не навязывал. А ежели истинных врагов своих сыскать надумали, так почто ходить далеко — рядом они: Репих с Домажиром да Фома. Это они насильничали и грабили купцов, а сами всё на Святослава сваливали. Это их людишки толкают Новгород к усобице. Отвечайте же: али Всеволод сжигал Торжок, али не Мстиславовых рук это дело? Али не ваши же бояре зорили своих же, новгородцев?..
Ко времени хорошие слова пришли дружиннику на ум. Обычно говорить он был не горазд, а тут все само вылилось. Притихла площадь. Переглядывались люди, понять ничего не могли. Вот вроде бы только что яснее ясного сказывали Репих с Фомой, а поднялся Словиша на степень — и ему такая же вера, и у него все концы сходятся.
Опять взялись за свое крикуны:
— Врет Словиша, не слушайте его, новгородцы. Наши бояре нашу правду говорят, а он из Понизья, человек пришлый. Возьмем в посадники Димитрия Якуновича, отец его всегда за правду стоял. А в князья просите Мстислава Удалого — он Всеволоду не даст у нас своевольничать!
На вече как на море — то в одну сторону качнется волна, то в другую. Пересилила боярская сторона, не было у Словиши надежной поддержки.
— Хотим Мстислава! — самозабвенно орали волосатые рты. — Хотим Димитрия Якуновича!
— Пошли, мужики, Ждана с Димитрием из поруба вызволять!
— В Волхов Словишу!
— В темницу Святослава!
— Под затворы Митрофана! Кликнем другого владыку!..
Одним духом кончали с прошлым. Подталкивая перед собой Словишу, буйной толпой шли к Городищу. Смяли нерешительную стражу, ворвались на двор, растеклись по палатам, все громя и руша.
Бледного Святослава вытащили из постели, вязали дружинников, взламывали замки на порубах — освобождали узников. Димитрия Якуновича со Жданом несли на руках. В освободившиеся темницы запирали ненавистных Всеволодовых людей.
Потом двинулись на Софийскую сторону к владычным палатам. Митрофана в самый раз застали — он уж коня оседлал, пытался бежать. Тоже привезли в Городище и тоже бросили в узилище.
Однако же недолго продержали владыку (трезвые умы возобладали), на следующее утро выпустили, а Святослава с дружиной перевели в Новгород и оставили под стражей во владычных палатах. Побоялись все же его отца и держали под залог, покуда не въедет Мстислав.
Мстислав въехал с честью и был по древнему обряду посажен на новгородский стол. Твердислава прогнали, Димитрия Якуновича в тот же день избрали посадником.
Никогда еще не были новгородцы так близки к осуществлению своей давнишней мечты. Сладкой жизнью зажил боярин Ждан. Перепадали лакомые куски и Домажиру, и Репиху с Фомой.
Для Словиши испросил Ждан у князя особой чести — взял его из владычных палат и препроводил в поруб на своем дворе. Кормил его, как собаку, объедками со стола, каждый день над ним измывался.
— Погоди, как уладимся со Всеволодом, — обещал он, — я тебя на цепь посажу возле своего крыльца. Пущай все знают, каков боярин Ждан, — другим неповадно будет поднимать на него руку.
— Ну-ну, — отвечал Словиша, — как бы цепь та не на тебя самого была кована. Всеволод обид не прощает, сына своего в беде не оставит, а Мстиславу путь укажет обратно в Торопец. Я моего князя знаю, недолго вам ждать осталось…
— Поспешаешь, Словиша, — засмеялся Ждан. — Тогда, чтобы поздно не было, нынче же повелю приковать тебя к крыльцу.
И угрозу свою исполнил. Пришли как-то утром ковали, принесли тяжелую цепь, одним концом взяли в оковы Словишину ногу, другой конец прикрепили ко всходу, бросили дружинника на снегу.
Вечером пьяные бояре кидали Словише с крыльца кости.
— Как, скоро придет вызволять своего дружинника Всеволод? — кричал, размахивая чарой, Ждан.
— Зверь ты лютый, а не человек, — отвечал Словиша. — Не всё ты сверху, придет и мой час — помни.
Прознал о бесчинствах Ждана владыка, отправился к Мстиславу, стал обличать его в присутствии передних мужей:
— Так-то начинаешь ты в Новгороде свое княжение! Судят бояре твои без суда, над достойными людьми измываются, словно рабов, сажают у крыльца своего на цепь. Сроду такого не слыхано было на Руси.
Мстислав выслушал его, не перебивая, тут же велел коня себе подавать, поехал с владыкой к Ждану. Глазам своим не поверил: и верно — сидит дружинник у боярина на цепи, вокруг кости разбросаны.
Схватил за бороду Ждана князь, тряс его, разгневанно кричал в лицо:
— Самого на цепь, самого в порубе сгною!
— Эко ты, батюшка, разгневался, — с трудом оправился все еще хмельной со вчерашнего перепоя Ждан. — Подшутил я над Словишей, а владыко сразу в колокол! Нехорошо, святой отец, ай как нехорошо по пустякам беспокоить князя.
Отковали дружинника, три дня пребывал он в беспамятстве на владычном дворе, едва выходил его Кощей, едва отмороженную ногу спас.
В последние дни зачастил на Софийскую сторону Твердислав. Ждан к нему милостив был, — как забрал у него князь Словишу, так он и бывшего посадника выпустил из поруба: не хотелось еще раз иметь дело с Мстиславом.
Приходил Твердислав на владычный двор, подолгу сидел возле Словиши.
— Упреждал я тебя, — говорил он, — а ты меня не послушался.
— Худо упреждал, — отвечал Словиша, — Не то бы и по сей день все шло по-старому. Хотел ты всякому люб остаться. Небось и Ждану обо мне исправно доносил?
— И как только язык у тебя поворачивается! — притворно возмущался Твердислав. — Бывал я у Ждана — в том винюсь. Но ведь тоже, чтобы тебе угодить.
— Ты сказки-то свои для батюшки своего оставь, — устало отворачивался к стене Словиша. — Батюшка у тебя шибко мудрым был — с него вся непогодь и началась. Ну да ничего: переболит, переможится. Вернется за сыном Всеволод — все по местам своим, как было, расставит…
Еще неприветливее встречал бывшего посадника Митрофан. Теперь Твердиславу и лесть не помогала — гнал его от себя, стуча посохом, владыка:
— Изыди, сатана!
Нашумевшись вдоволь, новгородцы тоже стали трезветь. Оглядываясь, почесывали затылки: и кого это посадили они себе на шею? Нынешний Димитрий еще хуже прежнего был. Тот хоть своим худым умом пробавлялся, а Якунович шага не ступит, не посоветовавшись со Жданом. Нет, не отцова у него была хватка — тот собою помыкать никому не давал, всем при нем была полная воля. Теперь же только Ждановы дружки с прибытком, ходят возле князя, как тень, никого к Мстиславу и близко не подпускают…
Притих Великий Новгород, притаился — ждал перемен, ждал вестей из Понизья. И то, что молчал Всеволод, то, что не слал гонцов, не могло обмануть привыкших к его крутому нраву новгородцев: собиралась гроза. И скоро донеслись первые раскаты грома.
Глава вторая
1
— Вот что, дьякон, — сказал Всеволод Луке, — ты своего Егорку от меня не прячь.
— Да как же осмелюсь я, княже, — говорил, стоя перед ним на коленях, дьякон. — Все мы дети твои, а ты нам отец родной.
— Тогда почто не прислал Егорку, как я повелел?
— Болен он был, голоса лишился.
— А нынче?
— Нынче здоров.
— Ну так веди на мой двор. Сам знаешь, прибыл во Владимир митрополит. Нешто ударим перед ним лицом в грязь?
Вернувшись домой, прямой и торжественный, Лука сказал сидевшему у него Егорке:
— Собирайся, да поживее: кличет тебя князь в свой терем.
— Боязно, дяденька, — сжался Егорка.
— А ты не боись, — наставлял его Лука. — Не на правёж кличет князь, а на великую честь: сам митрополит Матфей послушать тебя захотел. Ишь, куды донеслась молва!
Незаметно пролетело время. Давно ли взял Лука Егорку к себе в обучение, давно ли потчевал его за провинности березовой кашей, а теперь на голову перерос малец своего учителя, да и мальцом его уж больше не назовешь (это один только Лука еще себе позволял по старой памяти): широко раздвинулся в плечах Егорка, и не пушок, а пробилась на его щеках пушистая бородка, голос не только не утратил своей прежней силы, но еще сильнее сделался, и сам Лука это признавал: на торжественных службах в Богородичной церкви уступал ему свое место.
В гости к Всеволоду наряжала Егорку хлопотливая Соломонида: перво-наперво извлекла из ларя новый кожух (давно уж купила на торгу — берегла для торжественного случая), в самый раз пришелся кожух Егорке — в рукавах не жмет и по длине в самую пору. Потом достала мягкие сафьяновые сапожки (не в чеботах же идти на княжий двор) — и сапожки были Егорке по ноге. Лука перепоясал его широким усменным поясом — носи, Егорка, радуйся, ничего для тебя не жаль. Вот только коня у дьякона не было, а то бы проехался Егорка по городу не хуже любого дружинника.
Однако от Волжских ворот до детинца и так рукой подать — робко ступил Егорка на княж двор. Растерялся он: встречали его на княжом дворе два отрока, едва не под руки, как почетного гостя, ввели на всход.
В сенях Всеволод ждал его, рядом в высоком кресле сидел почтенный старец с белой бородой до пояса, с серебряным посохом в руке, с добрыми выцветшими глазами на темном сморщенном лице.
Низко поклонился князю Егорка, с почтением приблизился к руке митрополита. Матфей благословил его.
— Наслышан, зело наслышан я о тебе, — проговорил он надтреснутым голосом и коротко взглянул на Всеволода.
— Хощет в службе тебя попытать митрополит, — сказал князь Егорке, — но я так мню — еще и до службы не порадуешь ли нас? Вот и княгиню думаю я кликнуть, и Юрия с Владимиром и Иваном.
Польстило Егорке ласковое обращение Всеволода, опустил он глаза, едва пролепетал закосневшим языком:
— Как повелишь, княже.
Тотчас же отворил Всеволод дверь и что-то шепнул подскочившему отроку. Покуда княгиня с детьми не пришла, стал расспрашивать Егорку:
— Сказывали мне, живешь ты у Луки?
— Всё так, княже.
— А не обижает тебя дьякон?
— Как можно, княже, — возразил Егорка. — Лука — человек добрый. И Соломонида со мной ласкова.
— А то слышал я, шибко строг дьякон? — продолжал Всеволод.
— Не без этого, княже, — все более осваиваясь, смелее отвечал Егорка, — да кака же учеба без строгости?
— И то правда, — кивнул князь. — Жигуча крапива родится, да в хлебове уварится. Добрых выучеников дал земле нашей Лука.
В сени вошли Любовь и Всеволодовы сыны. Юрий был ростом с отца, да и Владимир с Иваном мало в чем уступали ему.
— Вот, Матфей, моя поросль, — сказал Всеволод митрополиту. — Старший-то, Константин, нынче на пути из Ростова, а Святослав в Новгороде сидит взаперти на владычем дворе. Не дело замыслил Мстислав, да я ему не спущу. Сынов отправлю с дружиной — пущай сами братца своего вызволяют.
— Хороши у тебя сыны, — кивнул Матфей и благословил их. — Все один к одному. А Мстислава я тоже не одобряю — дело твое правое.
— Скоро ли выйдем в поход, батюшка? — обратился к отцу Юрий.
— Аль не терпится? — заулыбался Всеволод.
— Так доколь Святославу в узилище томиться?
— Вот дождемся старшего, он и возглавит рать, — сказал Всеволод.
— Кабы не замешкался Костя, так были бы мы уже под Торжком, — заметил Юрий и насупился.
— Все к старшему меня ревнует, — по-домашнему просто объяснил митрополиту Всеволод. — А ты не ревнуй, не ревнуй — на то он и старший…
— И без него бы управились.
— То ли управились бы, а то ли и нет. Как знать? — сказал Всеволод наставительно. — Скороспелка-то до поры загнивает.
Покуда шел у Всеволода с сынами свой разговор, Егорка глаз не спускал с молодой княгини. Знал он прежнюю жену Всеволода Марию, часто видел ее в монастыре у Симона: привозили ее к игумену, немощную, худую и желтую с лица. Но глаза у нее были добрые.
И сердце было доброе: всякий раз щедро одаривала она чернецов и иноков. Егорка тоже получал от нее подарки и целовал ей руку. До сих пор помнит он, как пахла ее рука воском и ладаном.
Лицо молодой княгини дышало здоровьем. Высокая грудь с трудом умещалась в расшитом бисером сарафане, светлые волосы со старанием убраны в осыпанную драгоценными каменьями кику, руки белы, с розовыми блестящими ноготками.
Егорка невольно вздрогнул, когда его окликнул Всеволод. — пора было начинать: все уже расселись вдоль стен на лавках, князь — сбоку от митрополита, Юрий, Владимир и Иван — у самого входа. Юрий подрыгивал ногой и смотрел на Егорку исподлобья — неожиданный вызов отца оторвал его от своих дел, Иван разглядывал носки своих аккуратных сапожек, Владимир рассеянно смотрел за окно, княгиня, сложив руки на коленях, улыбалась, слегка приоткрыв губы.
— Что петь повелишь, княже? — обратился он к Всеволоду.
— Пущай митрополит скажет, — ответил князь и повернулся к Матфею. Тот сидел, полузакрыв глаза, и молчал.
Тогда, еще чуть-чуть помедлив и прокашлявшись, Егорка начал свой любимый псалом из «Песни песней». Митрополит вздрогнул и удивленно вскинул на него глаза.
Говорил Егорке Лука, чтобы он расстарался для князя. Расстарался Егорка, сам себя превзошел — голос его звучал светло и ясно, как никогда.
Впалые щеки митрополита окрасились румянцем, княгиня выпрямилась на лавке, вся подалась вперед, судорожно сцепив на коленях пальцы рук. Юрий замер, не отрывая глаз, зачарованно смотрел на Егорку. Притихли Иван с Владимиром. Всеволод сидел, откинувшись, и то свет, то тени пробегали по его обмякшему лицу.
Пел и пел Егорка, и никто не остановил его. А когда кончил и обессиленно опустил руки вдоль тела, долго еще стояла в сенях нетронутая тишина.
Первым хрипло заговорил Матфей:
— Ну, порадовал ты меня, отроче. Сроду голоса такого не слыхивал. Много сказывали мне о владимирских чудесах, любовался я лепотою ваших храмов, а нынче вижу — нет у меня в Софии киевской такого распевщика. Ехал я сюды — думал, на окраину Руси, а оказалось — в самое сердце. Порадовал, уважил ты меня, княже…
Всеволод ласково оглядел Егорку.
— Что, шибко понравился тебе мой распевщик? — прищурившись с хитрецой, обратился он к митрополиту.
— Не человечий — божий дар у него, — сказал Матфей.
— А хошь, отче, отдам тебе моего отрока?
Побледнел митрополит, посмотрел на князя с недовернем:
— А не жаль?
— Еще как жаль. Но не простой ты гость у меня — чем за честь такую тебя еще отдарю?
— Смотри, ввечеру не раскайся, княже.
— Бери отрока с собою в Киев, — вспоминать меня добрым словом будешь, — сказал Всеволод и, встав, положил руку на плечо обомлевшему от радости и от страха Егорке: удача-то какая — в киевской Софии петь! Но как жить он будет на чужбине без Луки? Чай, слезами изойдет привязавшаяся к нему Соломонида!..
— Вижу я, шибко возликовал отрок, — сказал, покачивая головой, митрополит. — Ты его спроси, княже, хощет ли он ехать со мною в Киев.
— Куды как жалостлив ты, отче, — рассмеялся Всеволод. — Да нешто стану я у всякого спрашивать, согласен ли он исполнить мою княжескую волю?! Ступай, Егорка, к митрополиту да служи ему верой и правдой. А ежели возвернет он тебя во Владимир, так я с тебя строго взыщу, — и он подтолкнул распевщика к Матфею.
— Спасибо тебе за щедрый твой дар, княже, — сказал митрополит с дрожью в голосе и, как собственность, придирчиво оглядел Егорку. — А ты, отроче, не грусти — жить тебе в Киеве будет вольготно.
У Егорки дрогнули губы. Всеволод улыбнулся:
— Что, с Лукою не хошь расставаться?
— Жалко мне дьякона, — признался Егорка.
— Все равно не век тебе жить при Луке, — сказал Всеволод. — Стар он стал, немощен. А Матфей о тебе позаботится.
Митрополит согласно закивал головой.
— Покуда ступай к дьякону, простись с ним, — продолжал князь. — Ввечеру петь будешь в моем соборе, а заутра с богом тронетесь в путь.
2
Не просто в гости приехал к Всеволоду Матфей. Трудный у него был разговор, а все начиналось в Киеве.
Прибыл к митрополиту посланец от черниговского князя Всеволода Чермного — тайно прибыл, опасаясь Рюриковых пронырливых доносчиков.
Согнав Чермного с великого стола, снова вошел в прежнюю силу Рюрик, — с той поры, как постриг его Роман, много накопилось у него гнева, со многими не терпелось свести давние счеты. Перво-наперво прощупал он своих старых бояр: Славна, за то что воеводою был при Романе, выслал, на место его посадил Чурыню: забыл, как предавал он его в Триполе, Стонеговым байкам поверил. А Стонег все говорил по Чурыниной подсказке: надоело ему сидеть в порубе, потянуло на волю, к Оксиньице.
— Вот оно, — говорил Рюрик, с жадностью внимая его лживым речам. — В беде познаются друзья и недруги. Еще тогда усумнился я в верности Славна, а теперь вижу, что не ошибся. Ступай, Стонег, в Триполь, а ты, Чурыня, отныне будешь моею правой рукой.
Не зря чуть не каждый день навещал Чурыня Рюрика в монастыре, не зря нашептывал ему, чтобы скинул с себя монатью. Есть, говорил он ему, княже, еще у тебя преданные людишки — не навсегда потерян киевский стол. А Романа зарезали ляхи — так подвинь сына своего из Киева, отомсти Галичу.
Хотел Рюрик и жену свою с дочерью взять из монастыря, но те отказались. Тогда, сев на Горе (сын противиться ему не посмел), соединился он с Ольговичами и пошел отнимать наследство у Романовых сыновей.
Вот что значит сказанное ко времени доброе слово: нагнал он страху на галичан. И не беда, что в битве на Серете не удалось ему одолеть своих врагов, не беда, что после временно сел на киевский стол Всеволод Чермный, а Рюрик удалился в Овруч, — такое и раньше бывало. Главное, скинул он с себя смирение, силу почувствовал, понял, что еще рано ему на покой. И верно: скоро выгнал он Чермного и теперь никому уж боле не собирался уступать свое место.
Однако же осмотрительнее стал Рюрик — с годами пришла к нему запоздалая мудрость: ревниво следил он за своими недругами, радовался, что и в Рязани побил Всеволод Ольговичей, клялся владимирскому князю, вечному заступнику своему, в любви и верности.
И не знал Рюрик, что недалеко отсюда, в митрополичьих палатах сидел в это время и беседовал с Матфеем гонец из Чернигова.
— После смерти Романовой великая настала смута в нашей земле, — говорил он митрополиту, — и хощет мой князь пресечь ее, не дать снова разгореться вражде между Ольговичами и Мономашичами. А как сделать сие? Вся надежда на тебя, Матфей. Просит тебя Чермный ступать во Владимир ко Всеволоду, дабы склонить его к миру. Многие убытки потерпела наша земля: князья рязанские до сих пор томятся в оковах, в неволе епископ Арсений. Ежели освободит их Всеволод и не будет держать против Чермного зла, клянется князь мой ходить по всей его воле.
Опытного гонца отправил в Киев Чермный, сумел он убедить митрополита.
Тогда отправился Матфей к Рюрику и сказал ему, что намерен по церковным нуждам навестить Митрофана в Новгороде, а также Арсения во Владимире, — истинную причину он от князя скрыл.
Насторожился Рюрик, но слишком далек он был от мысли, что вступил митрополит в сговор с Чермным, — долго выспрашивал у Матфея, что за нужда. Матфей был готов к этому, отвечал бойко. Рюрик дал ему дружину — ступай, отче, передай от меня поклон Всеволоду.
Поклон Всеволоду митрополит передал, а разговор повел хитрый и трудный. Стал выгораживать перед князем Арсения, долго и нудно описывал его добродетели.
Всеволод прервал его:
— Вижу, с нелегким делом прибыл ты во Владимир, отче. И чем ходить вокруг да около, сказывай прямо. Догадался я, что не Рюриком послан ты ко мне.
— Верна твоя догадка, княже, — сказал митрополит. — Приехал я не от Рюрика. И забота моя не токмо об Арсении — хощу я видеть плененных тобою рязанских князей.
— Хорошо, князей ты увидишь, — ответил Всеволод, — но для чего они тебе? Пребывают они в полном здравии и ни на что не жалуются. А в невзгодах своих сами виноваты. Не я на них, а они на меня. Что же мне делать оставалось, когда вызревал за моей спиною коварный заговор?
— В своих поступках ты сам себе господин, — сказал Матфей. — И не обсуждать их приехал я к тебе, а взывать о милосердии. И послан я черниговским князем.
— С этого и начинать надо было, — нахмурился Всеволод. — Так чего же ждет от меня Чермный?
— А ждет он от тебя мира, — сказал митрополит.
— Хитер князь, — улыбнулся Всеволод. — Сам затеял вражду, гнал сына моего Ярослава из Переяславля, Рюрика свергнул с Горы, а теперь взывает о мире? Не потому ли, что снова замышляет усобицу? Не потому ли, что не может смириться с потерей Киева? Прав был Рюрик, что не стал терпеть его на старшем столе.
— Твой стол ныне на Руси старший, — сказал митрополит. — И еще раз говорю тебе, княже: не поехал бы я в такую даль, ежели бы не поверил Чермному. Боле не покусится он на Рюрика, а сам помириться с ним не может.
— Значит, я помирить их должен?
— Ты, княже.
— А залогом мира станут рязанские князья?
— Всё так.
— Ну, а ежели Чермный просит мира, почто я-то должен перед ним заискивать?
— Чермный клятву верности тебе дает и впредь обещает ни против Рюрика, ни против кого другого из Мономашичей зла не замышлять. Но каков же мир, ежели Ольговичи томятся в неволе?
Всеволод задумался. Была в словах митрополита своя правда. И верно: каков мир, ежели Ольговичи у него в плену? Мир так мир — все должны разойтись по своим уделам довольные. И все-таки не зря учила его жизнь осторожности. Не сказал он митрополиту ни да ни нет.
Первой беседой недоволен остался Матфей. Зато хорошо понял Всеволод — слишком зыбки были обещания Чермного.
Тогда стал он просить свидания с рязанским епископом Арсением.
Всеволод не противился. Свиделись духовные пастыри. Давно не встречал Матфей рязанского епископа — сильно изменился за последние годы Арсений, мрачным стал, озлобился. Всеволода грязными словами поносил.
— Вижу я теперь, что прав владимирский князь, — со скорбью сказал Матфей. — Как допустить тебя к пастве?
— Не Всеволоду я служу, а своей земле, — возразил Арсений. — Почто пожег он Рязань?
— Сами вы пожгли свою Рязань, — сказал митрополит. — Был к вам Всеволод милостив, поверил в твою клятву, когда просил его повернуть войско.
Арсений молчал.
— А как поступили вы после? Как бояре распорядились? — повысил голос Матфей. — Приняли сына его Ярослава с честью, но токмо для виду: сами давно уже приготовили ему вместо княжеских палат смрадный поруб…
— Не стал он с нами советоваться, правил по всей отцовой воле…
— А по чьей воле должен был он править? Это вы отцу его давали клятву. За то и пощадил он Рязань — лишней крови не хотел, а вы кровью бредили. Знаю я, как расправлялись с Ярославовыми дружинниками. Мало того, что кинули их в узилища, так еще присыпали землей.
— Жестокости этой я противился, — оправдывался Арсений.
— Так не послушались тебя! — Матфей провел ладонью по лбу. — И после этого еще не пожег Рязани Всеволод, вышел с вами на ряд, уговорить вас хотел… Так нет, сызнова возгордились рязанцы, говорили буйно по своему обычаю и непокорству. Что оставалось Всеволоду? И дале терпеть вашу измену?
— Наши князья — Ольговичи…
— Вот и зорите Русскую землю. Думал я, ты князей своих поумнее, да, знать, ошибся.
Встал Матфей во гневе, чтобы уйти, но кинулся ему в ноги Арсений:
— Помоги, отче, вызволи! Не дай пропасть в неволе!
— Да как же я вызволю тебя, — задержался митрополит, — ежели упорствуешь ты? Как поручусь я за тебя перед князем?
— Каюсь, отче. Помутило мне рассудок…
— Молись. Простит тебя бог, так и князь пожалеет. А покуда возвращаюсь я к себе ни с чем. Мог бы и не ехать. Одному только радуюсь, что взглянуть довелось на Всеволодов чудный град. И думаю я так: не откуда боле — отсюда пойти новой Руси. Светлый разум у здешнего князя, дай бог ему долгих лет!
С тем и покинул распростертого на полу Арсения. Всеволоду Матфей честно сказал:
— Прав ты, княже, что не поверил одним словам. Так и передам я Чермному.
— Еще бы погостил, отче, — стал упрашивать его Всеволод.
— И не проси. Хватится меня Рюрик, заподозрит неладное, а я не по сговору у тебя.
— Вона как, — сказал князь, — Выходит, Рюрик об истинных твоих замыслах и не догадывается?
— Побоялся я открыться ему. Побоялся, что хуже будет. И ты пойми меня, княже, — не с простым прибыл я к тебе делом.
— Ну так передай Чермному: за спиною Рюрика на мир с ним я не пойду.
— Все передам, — пообещал митрополит.
Большой пир был перед его отъездом из города. А до того стояли торжественную службу в Богородичной церкви.
Последний раз пел Егорка во Владимире, последний раз оглядывал замутненным слезами взором украшенные коврами княжеские полати, сверкающие позолотой иконостасы, киворий и расписанный ликами святых просторный купол.
Далекий лежал перед ним путь, и все, что было с ним до сих пор, оставалось в потревоженной памяти.
Соломонида накануне испекла для Егорки последний свой пирог с грибами. Лука к пирогу почти не притронулся, пил мало, но глаза у него были соловые и печальные.
— Всему в жизни свой срок, Егорка, — говорил он, ероша молодому распевщику волосы на затылке. — И не мучай себя напрасно, что покидаешь нас. Не сегодня, так завтра все равно это должно было случиться. И не век я буду подле тебя. А Киев — та же Русь. Оглядись, науку мою не позабудь, собери вокруг себя голосистых отроков — с них вторая жизнь твоя начнется, как моя в тебе продолжается…
Утром двинулся митрополичий обоз из детинца через Золотые ворота на Москву.
Много народу высыпало на улицы провожать Матфея. Всеволод ехал рядом с митрополитом до Поклонной горы. Здесь прощался с ним, принимал благословение. Дальше провожала обоз одна только дружина.
Сидя на санях лицом к задку, Егорка жмурил глаза от яркого света, старался подольше не потерять из виду золотую маковку надвратной церкви Положения риз бо гоматери. Но кони тащили под уклон, дорога виляла из стороны в сторону, и скоро всё вокруг заступили покрытые снегом кудрявые сосны.
3
Перед детинцем — столпотворение. Все смешалось в движении: съехались во Владимире Константин и Юрий с Ярославом, а с ними их дружины. Прибыли они по зову отца своего — великого князя Всеволода. Нечего Мстиславу на чужой пирог рот разевать, говорили в народе. Славная будет потеха — не усидеть торопецкому князю в Новгороде. Разве супротив такой-то силищи ему устоять?! Вона какие молодцы собрались: один другого приметнее. Все в доспехах и при оружии, кони кормлены отборным овсом, стяги полощутся на ветру, гудят барабаны и рожки, зычно покрикивают сотники…
Но приметливый глаз выхватил из общего скопища и другое: владимирская, суздальская и ростовская дружины старались держаться порознь, пререкались друг с другом. Дружинники ревниво оглядывали соседский строй, вели себя гордо и независимо. Неприязнь, установившаяся между княжичами, передавалась даже простым воинам. Кое-где, подальше от детинца, дело доходило до кулачного боя.
Проезжая с епископом в возке через город, Всеволод цедил сквозь зубы:
— Вона до чего докатились. Будто чужестранцев свела судьба под одной крышей.
— Ничего, княже, — успокаивал его Иоанн. — Вот пойдут на Мстислава, так свои обиды забудутся. Что ни случись, а тебя сыны не посрамят.
— Уже посрамили, — оборвал его князь.
Иоанн не сразу нашелся что ответить — тревога Всеволода была обоснована. Так и промолчал епископ, только глухо кашлянул и прильнул лицом к оконцу возка.
Всеволод тоже притих — казалось, задремал. Но епископ знал, что это обман: просто забылся князь, ушел в свою неотступную думу — и так все чаще и чаще случалось с ним в последние дни.
Когда-то казалось Иоанну, что знает он все помыслы князя, гордился этим и даже решался советовать Всеволоду: это-де во благо, а это во зло. Ныне же душа ста рого князя была темна и смятенна. И епископ, страшась недалекого будущего, самого себя уже вопрошал, и не раз: что вызревало во Всеволодовом сердце? Какое решение взрастало в темнице его мыслей?
Что разрывалось его сердце между сынами — об этом епископ знал. Не проходило и дня, чтобы не вспомнил Всеволод о Константине или Юрии. Однако же, будучи в других своих делах дальновиден и мудр, миря между собою кровно ненавидевших друг друга князей, не мог он помирить единоутробных братьев, плоть от плоти его, продолжателей мечты его и ратных дел.
Никто не знал, как тяжело думалось Всеволоду: неужто не разум, а рок стоит за деяниями нашими?.. С младенчества внушал Всеволод сынам свои мысли, да и сами они видели всю пагубность усобиц и раздоров. Но прошли годы, и новая усобица зарождается не где-нибудь, а в самом Всеволодовом терему!.. И порою, измученный, во мрак пустой ложницы шептал князь: почто не вечен он, почто? И не малодушие это было пред неизбежным — все мы смертны, — а бессилие перед незнаемым.
Жить бы да жить ему: собирать землю, крепить рубежи, ставить храмы и города. Так нет же — все сгинет во прахе, как было и до него, все возвратится на вечные круги своя… Неужто в этом и скрыта вся мудрость человеческой жизни?
— Господи, просветли, — украдкой молился Всеволод, — за что наказуешь мя?..
Смятенность эта была непонятна Иоанну. Был он человеком от земли (далеко ему было до Микулицы, наставлявшего Всеволода в юные годы!) и знал нехитрую истину: всё, что вокруг, — всё от бога. Нынче Всеволод сверху, а завтра, глядишь, возвысится кто иной. Нынче Владимир главный город, завтра — Ростов. На том стояла Русь, на том и будет стоять вовеки. Собирал вокруг себя лоскутные уделы Ярослав Мудрый, собирал Мономах, а после сколько перебывало в Киеве разных князей! Все летописание, уходящее во тьму веков, — все та же усобица и раздоры… Лишь временами щемило и жгло Иоанна смутное беспокойство, но объяснить его он не мог и Всеволода так до конца и не понял.
Возок подъехал к детинцу, стражники бросились отворять ворота, вокруг засуетились люди, послышались голоса; князь встряхнулся, вышел из возка, поднялся на всход, епископ проследовал за ним через весь терем в покои, где их уже ждали молодые князья.
Сошлись бояре, расселись по своим местам, ждали, что скажет Всеволод.
Опередив отца, первым нарушил молчание Юрий.
— Благослови, батюшка, — нетерпеливо сказал он. — Прибыли мы все по твоему зову. Когда повелишь выступать?
Всеволод ответил не сразу, долго глядел на сына, потом задержал свой взгляд на старшем, Константине.
— Ты почто молчишь? — обратился он к нему.
Константин открыл было рот, чтобы ответить отцу, но тут снова опередил его Юрий:
— И еще тако мыслю я, батюшка, — сказал он, — пущай всяк останется со своей дружиной. Поглядим, кому большая выпадет удача…
Константин укоризненно взглянул на брата. Всеволод напрягся. Сидевший рядом с ним епископ покачал головой. Бояре выжидали.
— Что же ты, Юрий, — неожиданно тихим голосом заговорил князь, — что же ты, Юрий, предлагаешь неразумно? От тебя ли выслушивать мне такое?.. Нешто не пошла тебе впрок моя наука? Или хочешь повторить Игорев великий позор, когда замыслил он один присвоить себе всю славу, а вместо этого угодил половцам в сети?..
— Не против половцев идем мы, отец, — попытался возразить ему Юрий.
— Молчи! — вскипел старый князь. — Молчи и слушай, покуда жив я. Мстислава торопецкого шапками не закидать. На поле брани равного ему нет. Побив тебя, побьет он и Константина. А ежели выступите вместе, не решится он на неравный бой, без крови уступит Новгород…
— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его, — тихо произнес епископ.
— Вот-вот, — быстро взглянул на него Всеволод и снова обратился к Юрию. — Начав делить с братом общую славу из гордости, из гордости же поделите и всю нашу землю.
Бесполезно было спорить с отцом, да и правым себя в этом споре молодой князь все равно не чувствовал. Просто обидно ему вдруг сделалось: что, так и быть всю жизнь у Константина на побегушках, так и глядеть, что достанется ему из его руки? Лучше бы родиться ему молодшим и неразумным, как Иван…
Была трещина между братьями — разрасталась она в бездонную пропасть. И не задумывался Юрий, кто в этом виноват, — во всем винил одного только Константина.
«Пущай, — подумал он, бросая на брата хмурые взгляды, — еще поглядим, каково управится он со Мстиславом. Это ему не книги читать да вести умные беседы с монахами. Поглядим».
Глаза братьев встретились. Юрий поклонился отцу и вышел, придерживая рукою меч, на крыльцо.
Глава третья
1
Ни вон, ни в избу живут Константин с Агафьей. То тепло и солнышко светит, а то снова нагрянет зимняя стужа.
С тех пор, как появилась во Владимире молодая Всеволодова жена Любаша, с каждым днем все больше менялся Константин.
Уж так ли старалась Агафья, щечки румянила, лучшие надевала сарафаны, а редко когда заметит ее Константин, редко когда одарит ласковым взглядом — будто и не прожили они с ним вместе столько лет, будто и не она народила ему здоровеньких сынов-крепышей.
После отъезда в Ростов вроде бы оттаял он чуть-чуть, а возвратились во Владимир — снова принялся за старое.
Пробовала выговаривать ему Агафья:
— Куды глаза пялишь, Костя? Чай, не одни мы. Чай, не слепые вокруг нас. Стыдно.
— А ты бы помолчала, — огрызался Константин. — Эко в твой бабий ум втемяшилось — куды как мало у тебя иных забот, только что за мною приглядывать.
— Да что за тобою приглядывать, — всхлипывала Агафья. — За тобою и пряглядывать не нужно — весь ты и так на виду. Вон и батюшка, поди, серчает — ему-то каково?
Зря старалась она — падали слова ее в пустоту. Константин с досадой отмахивался:
— Нишкни.
Молчала Агафья, терпеливо ждала: ладно, мужики все одинаково скроены. Пройдет время — образумится Константин.
Да не тут-то было.
Как-то Юрий остановил ее на гульбище, пытливо заглянул в глаза:
— Что-то закручинилась ты, Агафья. Глаза печальные, похудела. Не захворала ли?
Вспыхнула Агафья, поняла: все знает и все видит Константинов брат. Заплакала, закрыла лицо руками. Но тут же спохватилась, смекнула: не из жалости посочувствовал ей Юрий, что-то выведать хочет. И, вытерев слезы со щек кулачком, отвечала с достоинством:
— И верно, неможется мне. Должно, сквознячком продуло.
Подобрав сарафан, хотела уйти, но Юрий заступил ей дорогу. Сделала вид, будто осерчала, Агафья.
— Пусти. Полно озоровать-то.
— Али я один озорую? — усмехнулся Юрий, заглянул ей в глаза:
— Не ветерком тебя продуло, Агафья.
— А кабы и не ветерком, тебе-то что за забота! — сказала она.
— Забота у нас общая, — не отставал Юрий. — Что в дому неладно, то всем попрек.
— Вона что выдумал!
— Кабы выдумал, а то и отроки шепчутся промеж собой.
— Да о чем же шепчутся-то?
— А о том и шепчутся, что неладное с Костей творится. Аль одна ты и бродишь в потемках?..
— Пусти-ко, — отстранила Агафья Юрия и, стараясь держаться прямо, вступила в терем.
У себя в ложнице дала она волю слезам. Обидно ей было. Старалась гнать от себя воспоминания о Константине и не могла. Сама себя все эти годы обманывала. Даже когда прискакал в Ростов гонец от Всеволода и екнуло у нее сердце от дурных предчувствий, даже и в тот день сказала она себе: «Пустое. Не оттого обрадовался Константин, что увидит Любашу, а оттого, что зван отцом».
Зимняя дорога во Владимир была скучна и утомительна. Утопали в снегах редко встречавшиеся деревень ки. Ночами, на привалах, лежа одна в постели, Агафья с холодеющим сердцем прислушивалась к завыванию ветра, к волчьим, исполненным неземной тоски голосам.
Все это плыло в тумане, одно вспоминалось отчетливо: как-то раз вошел в избу Константин — шуба залеплена снегом, снег на валеных сапогах и на шапке. Не раздеваясь, сел на постель, на смятое беличье одеяло, безумным взглядом обшарил лицо Агафьи, холодными ладонями обхватил ее за спину, приподнял, стал целовать в глаза, в щеки и в губы. Шептал что-то невнятное. А она не обрадовалась, испугалась, отстранилась от него, стала вырываться. Он обнимал ее все сильнее, давил ее тяжелым телом, шарил ладонью под рубашкой, впивался ртом в ее сомкнутые губы…
Радоваться бы ей тогда, обнять бы и ей мужа, но не превозмогла себя Агафья, мимолетное счастье упустила, а может быть, с того бы и началась у них новая жизнь?
Скоро Константин отрезвел, отстранился, опустил руки, сидел молча, и снег, тая, осыпался с шапки и с воротника на пол.
Агафья только тут спохватилась, стала ластиться к нему, шапку с него сняла, взъерошила кудри, и жалость забилась в ней, и слезы на руку его — кап-кап.
— Глаза у тебя, Агафья, на мокром месте, — сказал забирая руку из ее ладоней, Константин, встал, стряхнул с шубы остатки снега, вышел, хлопнул дверью.
Вскочила, бросилась за ним Агафья, босая, выбежала в сени, но и вторая дверь закрылась перед самым ее носом, а когда приотворила она ее, колючий ветер метнул в лицо, ожег ей щеки; только и услышала, как за метелью похрустывают, удалаяясь, тяжелые шаги мужа.
Да полно: одна ли Любаша — не сама ли она виновата в том, что после, до самого Владимира, ни разу больше не наведался в ложницу ее Константин?..
Кабы заглянула она в смятенное сердце мужа, кабы на ласку лаской отозвалась, остался бы тогда с нею Константин — верно почуяла она его тревогу, а до конца не поняла: не то обида старая, не то женская гордость переборола в ней разум. Только ума и хватило, что слезу пустить, а ведь не ее утешать приходил он — приходил за ее утешением.
Сроду такого раньше не бывало, чтобы пирами тешился Константин, а тут будто бес в него вселился: в Суздале три дня упивались дружинники во главе с молодым князем медами и бесовскими играми. Даже Всеволод про то проведал и, когда прибыл во Владимир, осыпал сына попреками.
Не оправдывался, молча слушал отца Константин. И самому-то ему было тошно, голова раскалывалась с похмелья. А когда принялся Всеволод по привычке вспоминать поучения Мономаха, восстававшего за трезвую и праведную жизнь, не утерпел, зевнул, чем еще больше рассердил отца.
— Ступай, проспись, — нахмурился Всеволод, — а нынче говорить с тобой — все равно что с колодой.
Константин облегченно вздохнул, поклонился отцу и вышел. Весь день до позднего вечера провалялся он в отведенных для него покоях. Во время ужина сидел тихо, опустив глаза, ел мало, пил и того меньше, в беседу почти не вступал, даже с Юрием не поссорился, хотя тот и петушился и задирал его, как всегда. Только раз взглянул на сидящую рядом с отцом Любашу, а после уже не глядел и заговаривать с нею не решался.
…Поздний месяц посеребрил сгребенные к частоколу снега. У въезда в детинец горбилась озябшая фигура воротника, поблескивало стальным жалом прислоненное к плечу копье. Константин постоял у оконца и вышел в переход, ведущий мимо харатейной на полати придворной церкви. Сердце замирало от сладкого ожидания, стесненное дыхание с трудом вырывалось из груди. Что это? Предчувствие? Почему он крадется по отцовскому терему, словно гнусный вор? Почему оглядывается и старается ступать осторожно, боясь, как бы не скрипнула половица?..
Тихо в хоромах, все спят, в переходе густой мрак, рука скользит по деревянным навощенным стенам. Вот и знакомые ступени (их три), вот и дверь с массивным кольцом — Константин приоткрыл ее.
Но что это? Он остановился, провел рукою по лицу: не на полатях, а внизу, у самого иконостаса, смутно виднелась фигура коленопреклонной женщины. Князь сразу узнал ее, не мог не узнать, потому что и шел он в церковь вот с этой неясной надеждой, будто кто-то подсказал ему, будто кто-то шепнул, что именно так все и будет.
И дальше все было предсказано — ноги сами понесли его по лестнице вниз. Холодом повеяло от каменно го пола, холодом потянуло от расписанных фресками каменных стен, но липкий пот заливал лицо Константина, и руки его дрожали, когда он встал рядом с женщиной на колени и, не глядя на нее, принялся так же, как и она, жарко и истово молиться.
И, словно издалека, совсем из другого мира, долетело до него:
— Господи, выслушай и помилуй мя!.. Господи, почто послал ты мне сие испытание?..
— Любаша, — сказал Константин, не глядя на мачеху и продолжая страстно креститься и кланяться. — Не гони меня, Любаша. Дай помолиться с тобою рядом, дай взглянуть на тебя, а после будь что будет.
— В божьем-то храме, — затрепетала Васильковна, — пред налоем, где были мы с отцом твоим венчаны… Уйди, Костя, не вводи меня во грех. То, что было, давно прошло, и вины моей пред тобою нет.
— Нечто так все и забылось?
— Забылось, Костя. Да и было ли что?..
Иконы поплыли перед глазами Константина, впервые он повернулся, пристально посмотрел в глаза Васильковны. И не смогла она отвести от него свой взгляд, сил у нее не стало снова обратиться к богу.
— Не верю я тебе, Любаша, — сказал молодой князь, — не верю, что мил тебе мой отец. И хоть много лет минуло с той поры, как виделись мы с тобой, а забыть меня ты не могла…
— Забыла, Костя, многое я позабыла. Не гляди на меня так и себя понапрасну не терзай.
— Да как же не терзать, коли не идешь ты у меня из ума! — воскликнул Константин и взял ее за руку.
Любаша затрепетала, потупилась еще больше, но руки не отняла, и тогда смелее стал Константин, придвинулся, обнял ее за покорные плечи.
— Господи, грех-то какой! — вдруг отстранилась от него Любаша. И снова стала молиться, и снова клала земные поклоны. И рядом с нею молился и клал земные поклоны Константин.
Но молились они о разном и разное просили у бога. Любаша просила о твердости и вызывала в сердце своем образ старого Всеволода («Дай силы мне, боже!») — Константин же просил милосердия («Помоги ей, боже, просвети — неужто не видит она моих страданий?!»).
Долго ли, коротко ли пребывали они в церкви — первой поднялась с колен Любаша. И, взглянув ей в лицо, Константин понял: не его услышал бог. Яркий румянец окрасил щеки молодой княгини (пылал он даже в полумраке), губы ее были твердо сжаты.
— Прощай, Костя, — сказала Васильковна. — Укрепил меня господь, в другой раз не ищи больше встречи, — и, повернувшись, быстрыми шагами поднялась на полати.
Дверь скрипнула почти перед самым ее лицом — кто-то быстро удалялся по переходу. Но не страшно ей стало, не задержалась она, не затаила дыхание — не было на ней вины, и в ложницу к мужу вошла она прямо и не таясь.
Всеволод сидел на ложе, свесив ноги. Любаша опустилась перед ним на пол, сунулась лицом в колени, зарыдала громко, по-бабьи…
Помолчав, Всеволод спросил:
— Никак, в церкви была? Никак, молилась?
Подслушал он ее разговор с сыном, обмирал, стоя за преградою на полатях, — теперь Любаша была ему милее во сто крат. Но горечь осталась, и досада была на сына и жалость к самому себе: ушли годы, смерть стоит у порога — и вот на ж тебе: запоздало познал он не только любовь, но и ревность…
2
Шумно и многолюдно, как никогда, было в эти дни во Владимире. В молодечных тесно, избы по всему посаду забиты воями. На улицах шум и гам, по вечерам костры горят на Клязьме, слышатся девичий смех и разухабистые песни.
Молодо — весело: Мистиша тоже пристрастился прыгать через огонь и кататься с девчатами на салазках. Сидеть по вечерам с Кривом ему наскучило, а у Веселицы в гостях только и всего, что мудреные разговоры. Пухла от них у Мистиши голова — на Клязьме же он себе уж и ладу приглядел: румяную да белую, стрекотунью и хохотушку — мостникову дочь Ксеньицу.
Как в кремне огня не видать, так до поры и сам Мистиша думал, что все это забава да и только: протрубит труба, уйдет он с Юрьевой дружиной на Новгород, а там другая начнется жизнь. Плохо знал он себя, успел позабыть, что так же все начиналось и с Аринкой.
Зато Ксеньица, хоть с виду и простушка, а девка была хваткая. Да и отец ее, мостник Вавила, цепким оказался мужичком. Мало что знал про него Мистиша, раз всего и видел на валу, когда ставили новые городницы. Ничем не походил он на свою дочь: черный, как грач, горбатенький, хмурый. Вроде бы и по сторонам не поглядывает, вроде бы ничего не замечает и до Ксеньицы ему дела нет, а сам когда еще смекнул, что лучшего для дочери жениха ему не сыскать.
Время быстро бежит — сегодня здесь молодой дружинник, а завтра его и след простыл: прикидывать, что да как, было Вавиле недосуг. И с дочерью разговоры заводить, кроме как ему самому, было больше некому: мостникова жена, Ксеньицына мать, вот уже пять лет как богу душу отдала.
Раз вечерком, выбрав удобный случай, стал Вавила исподволь выспрашивать дочь: не скучает ли, не случилось ли чего — вон и подружки в их избу с некоторых пор почти не заглядывают. А после сказал напрямик:
— Шила в мешке не утаишь. Ну-ка, сказывай, с кем на Клязьме бываешь и почему отцу про то — ни полслова?
Ксеньица повела плечиком, отшутиться надумала — чего это ты, батюшка? — но не тут-то было.
— Не вертись, яко сорока на плетне, а отвечай мне все по порядку, — нахмурился мостник.
Смекнула Ксеньица, что не отмахнуться ей на сей раз от отца: давненько готовился он к этому разговору. Но еще упрямилась, еще прикидывалась, что не понимает.
Тут отец кулаком ударил по столу да так на нее глянул, что сердце у дочери укатилось в пятки.
— Мистишей его зовут, — призналась она.
— Эко удивила, — усмехнулся отец, — про то всяк в посаде давно уже знает.
— Чего ж тебе еще-то надобно, батюшка?
— Будто и не смекнула? Будто и впрямь тебе невдомек? — прищурился Вавила.
— Может, и вдомек, — оправилась Ксеньица и прямо посмотрела отцу в глаза. — Како отвечать велишь, батюшка?
— Экая ты ловкая да изворотливая, — успокаиваясь, сказал Вавила. — Вся в меня, а не в матушку — матушка-то у тебя совестливая была… Мир же в су етах, а человек во грехах. Да бог простит. Говори-ко, Ксеньица, по душе ли тебе Мистиша?
— Ой как по душе-то!
— А не бражник ли он?
— Что ты, батюшка?!
— А не бабник ли?
— И про то не спрашивай.
— Так за чем же дело стало, доченька? — совсем воспрял Вавила и с нежностью погладил Ксеньицу по голове.
— Боюся я — не простец он, а в дружине…
— Чего ж бояться? Чай, и сам не из бояр?
— Про то не ведаю.
— Зато я смекаю, — кивнул Вавила. — И ежели мил он тебе, так дело мое совсем простое.
И другим утром, принарядившись в новое, мостник отправился в гости. Мистиша не удивился его приходу, даже порадовался:
— Заходи, Вавила, видеть я тебя рад.
Мостник бочком присел на скамью, помял в руках шапку.
— Не богатое у меня угощение, — сказал Мистиша, — ну да что бог послал. Ты уж не обессудь: избы я пока во Владимире своей не поставил и жены в моем доме нет.
— Изба и жена — дело наживное, — отвечал Вавила, скромно потупляя взгляд. — А живешь ты не хуже других: не где-нибудь — на княжом дворе.
Хорошо начинался у них разговор — прямо с самой сердцевины. Хорошо сказал Мистиша про избу и хозяйку в той избе. За тем и шел к нему Вавила. Куда ни поведет Мистиша в сторону, о чем ни заговорит, а мостник снова возвратит его незаметно на старую стезю:
— Гляжу я на тебя: и кафтан новый, и сапоги, и чести у тебя в избытке, а всё ровно не то… Про избу-то ты да про хозяйку в самый раз молвил.
Это он только простачком прикидывался, а сам уж давно сообразил Мистиша, с чем пожаловал к нему мостник. Допрежь того они не встречались, а Ксеньица про отца своего ему не раз рассказывала. Вот и выходит, что пришел к нему Вавила вроде бы свататься. И то: не пора ли и впрямь обзаводиться Мистише своим надежным углом?
— Да вот, — сказал он мостнику, избу ставить покуда не на что, а жену — ту и вовсе не сыскать. Чай, красный товар у вас не залеживается. Чай, добрых молодцев во Владимире не счесть?
— Молодцев не счесть, да всяк ли девице по душе? — сказал Вавила, настораживаясь. Не понравилось ему, что закивал вдруг Мистиша на других. Не побаловаться ли надумал, а сам в кусты?
И решил он действовать наверняка: благослови бог почин, а там само покатится.
— Не я ли на думу твою ответ припас? — сказал мостник и придвинулся к Мистише. — Не от себя токмо, но и от Ксеньицы пришел я к тебе. И не квас твой пить, а с ласковым словом. Коли по душе тебе дочь моя, так за чем дело? Шли сватов на мой двор, а я за Ксеньицей ничего не пожалею.
Вона как — сразу все и высказал Вавила. Хоть и был готов к такому обороту, но от мостниковой прямоты Мистиша растерялся. Да и не слыхивал он до сего, чтобы невесту так-то вот прямо навяливали: что, как окручивает его мостник, что, как девке подеваться некуда?
Даже холодный пот выступил у Мистиши на спине, даже озноб прошел по всему телу.
Глядя, как засмущался дружинник, еще больше насторожился Вавила, еще нажимистее стал:
— Аль не по нраву она тебе? — сверлил он Мистишу взглядом. — Аль со скуки повадился с нею на Клязьму? А то тебе невдомек, что едва ли не весь город видел вас на реке, как прыгали вы через огонь и веселились, а после провожал ты ее до моей избы?
Мистиша растерянно молчал. Вот ведь как получилось: и Крива нет рядом (когда нужно, он всегда в отлучке), и посоветоваться не с кем.
А мостник совсем распоясался:
— Почто молчишь?
Кто бы посмел так на княжом дворе в иное время разговаривать с дружинником? Ясное дело — некуда подеваться девке, носит она под сердцем чужое дитё. Совсем утвердился Мистиша в своей догадке и теперь отступиться от нее никак не мог. И все больше смущался под Вавилиным пронзительным взглядом, и язык его будто к нёбу прирос.
— Ладно, — сказал мостник, вставая. — Вижу, зря потерял время, а надо было сразу ступать ко князю. Много вас съехалось сюда, кобелей, да коли я Ксеньицы своей не уберегу, то кто за нее заступится?
— Постой, мостник, не спеши, — с трудом разлепил сомкнутый рот Мистиша. — Куды как скор ты. Облил меня ровно из ушата холодной водой, а туды же — ко князю. Да разве нынче князю досуг в твоих делах разбираться? Разве хощешь ты выставить Ксеньицу на всеобщее осмеяние?
— Вона како запел, — ухмыльнулся, снова опускаясь на лавку, Вавила, — и про ушат помянул, а мне-то каково?
— Не баловал я с твоей дочерью, мостник, — все больше обретая уверенность в голосе, хрипло заговорил Мистиша, — да вот сам ты меня смутил. И подумал я (не гневайся, Вавила!), уж не тяжела ли Ксеньица, — оттого и пришел ты ко мне?
Мостник так и подскочил на лавке:
— Да в уме ли ты, Мистиша? Да что ты такое про Ксеньицу мою выдумал!
И принялся смеяться и хлопать себя по ляжкам:
— Вот уж и впрямь насмешил ты меня!.. А я-то тоже, старый, — как же сразу не смекнул?! Вот те крест, не тяжела моя дочь, и до тебя сидела она в избе моей под крепкими запорами. Бери ее, Мистиша, после не раскаешься.
На том, как на торгу, били по рукам. «Ровно кобылицу купил», — с грустью подумал Мистиша и стал дожидаться Крива.
Горбун пришел, когда уже совсем стемнело. Удивился:
— Почто сидишь, как на похоронах?
— Небось, пригорюнишься, — отвечал Мистиша. — Нынче думы моей и вдвоем не раздумать.
— Эк тебя угораздило, — сел рядом с ним Крив. — Что случилось, сказывай все толком. Не с Ксеньицей ли поссорился? Не другого ли привела она молодца?
— Кабы так, а то только что пред тобою вышел от меня мостник Вавила…
— Погоди-ко, погоди, — заулыбался Крив, — да не Ксеньицын ли это батюшка?
— Он и есть, — обреченно откликнулся Мистиша и тяжело вздохнул. — Велит сватов засылать, дочь свою за меня отдает…
Крив заулыбался:
— Вот оно что!.. А сам-то, поди, рад?
— Чего радоваться-то?
— Усумнился я в Ксеньице, — сказал Мистиша, — уж больно жал меня мостник. — И, помолчав, добавил: — Били мы с ним по рукам…
— Как так?
— А вот так. Не позже, как на неделе, отправишься к нему сватать своего дружка.
Тут уж не до смеха стало Криву, тут и он озаботился.
— А не выдумал ли ты все, Мистиша? — придвинулся он к товарищу, обнял его за плечо. — А не наговорил ли сам себе на Ксеньицу? Ведь недавно, вчера еще, не мог ты ей нарадоваться?
— Да вот как обернулось…
— Время у тебя есть, — сказал Крив, — и кручиниться — только сердце разрывать. А там отправимся мы на Новгород, пущай тогда сыщет нас мостник.
— Ко князю грозился пойти…
— А хотя бы и ко князю.
Мистиша с лавки вскочил:
— Тебе легко говорить!
— Ишь ты, — понял его Крив. — Вона как: и хочется, и жжется… Так в чем меня винишь? Почто кидаешься? Коли по нраву тебе Ксеньица, так и бери ее, ни о чем не думай. Не то спохватишься, как с Аринкой, а ее, глядь, за другого просватали.
Не пожалел его Крив — сказал твердо и то, о чем сам Мистиша подумал, а признаться себе не смел. Уж больно напугал его мостник, а то бы и сам заслал он к нему сватов.
3
Уже давно пришла пора выступать на Новгород, уже были снаряжены обозы, и все истомились от безделья, но погода неожиданно испортилась — сначала пошел обильный снег, так что счищать его не успевали, а потом подули северные безостановочные ветра, дороги перемело, и нужно было ждать, потому что и в ясные-то дни не пробьешься на север через леса, а в такую непогодь и думать было нечего.
Город опустел, улицы словно вымерли — редко встретишь пробирающегося через снежную замять случайного прохожего. Затворились люди в своих дворах, нос боятся высунуть, опустел всегда шумный и оживленный торг.
Гостей не ждали, городские ворота стояли крепко запертыми, воротники отдыхали в избах, пили меды (не во всякий день себе такое позволишь), играли в зернь.
И немало удивлен был страж у Серебряных ворот, когда однажды ночью в самую злую круговерть кто-то застучал железякой в дубовые створы.
Сначала воротнику, не очухавшемуся со сна, почудилось, что это озорует ветер, но, отворив дверь избы и прислушавшись, он понял, что в ворота и впрямь стучали громко и требовательно.
Поздних гостей было двое. Оба озябшие и залепленные снегом, едва проскользнув в ворота, они тут же кинулись в избу к жарко натопленной печи.
— И отколь только вас принесло? — ворчал воротник. — Нешто переждать не могли в Боголюбове?
Не слушая его, ночные странники все ближе прижимались к огню, посапывали и покряхтывали от удовольствия. Снег с них быстро стаял, и только тут воротник увидел, что одеты они беднее бедного — даже нищие, вечно ютящиеся под сводами ворот, сроду не нашивали на себе таких лохмотьев. На ноги у странников не нашлось и худой обувки: были они обернуты грязными лоскутками, кое-как перевитыми обрывками лыка.
«Экие оборванцы!» — подумал воротник. А еще подняли его со сна. Ничего бы им не сделалось — небось и под воротами бы переночевали. Все равно деться некуда, а теперь их не выставишь из избы.
Обогревшись, странники сели на лавку, и теперь воротник мог спокойно разглядеть их лица.
Один, тот, что повыше и пошире в плечах, весь до самых бровей оброс нечесаной бородищей — сквозь шерсть глаза блестели затравленно, как у пойманного зверя. Другой, поменьше ростом, был еще страшнее: желтолиц, широкоскул, глазки узенькие, лисьи, бороденка редкая (волосок от волоска — как на худом поле колос от колоса), под приподнятой верхней губой — белые хищные зубы. Ясное дело — пришлый. А вот от кого? Ни среди булгар, ни среди половцев таких-то вот воротник не встречал. «И откуда только не бредет нынче народ ко Владимиру», — повздыхал он и, кряхтя, полез в печь — там в горшке оставалось с ужина еще немного горячего варева: как-никак, а и эти страннички тоже небось люди, тоже баба, а не волчица их родила.
Под пристальными взглядями незваных гостей он вывалил варево из горшка в глиняную миску, развернул холстину, нарезал на ней хлеба, бросил две ложки на стол — вечеряйте, мол.
Переглянулись страннички, кинулись к столу, застучали по краю миски ложками. Ели жадно, под ложки подставляли то корочки хлеба, то обмороженные ладони. Мигом управились с варевом. И тогда тот, что с бородищей, низко поклонился воротнику и к великому изумлению его по-русски сказал простуженным голосом:
— Благодарствую за угощенье, Кукша. А меня, как вижу я, так ты и не признал.
Еще больше удивился воротник:
— Свят-свят, уж не ты ли это, Митяй, или я обознался?
— Не обознался ты, Кукша. Сколь лет прошло, как выезжал я с Негубкой из этих же самых ворот, а всё будто вчера было.
— Господи! — всплеснул руками воротник. — Всякого повидал я на своем веку. И Веселица здесь же, под этими сводами, побирался с лихованными, но чтобы в таких лохмотьях купцы возвращались, такого еще видано мною не было. Да где же кони твои, Митяй?
— Сгинули мои кони, — грустно отвечал Митяй. — Далече отсюда сгинули.
— А товар?
— И товар сгинул.
— А Негубка? — спросил и осекся воротник. Но сказанного не вернуть.
— Нету больше Негубки, — проговорил Митяй, и глаза его наполнились слезами. — Схоронил я лихого купца в чужой неведомой земле — мир праху его.
— Мир праху его, — покорно вторил Митяю обескураженный Кукша и с жаром перекрестил себе лоб. — А енто кто? — кивнул он в сторону присмиревшего на лавке чудного незнакомца.
— А это Вэй, — сказал Митяй. — Не нашей он крови и веры чужой и идет со мною от самой страны тангутов.
Услышав свое имя, человечек с лисьими глазками встрепенулся и что-то пробормотал по-своему, глядя на Митяя. Митяй отвечал ему на том же непонятном языке — человечек кивнул, поворочался и снова притих, прислонившись спиной к стене. Сон смежил его глаза, послышалось ровное дыхание.
— Ишь ты, — почесал за ухом воротник. — Воистину огромен мир, и несть ему конца. Куды ж занесло тебя с Негубкой, Митяй? И пошто не объявлялся ты все эти годы?
— Долог мой рассказ, Кукша, — отвечал Митяй, прислушиваясь к завыванию ветра за дверью избы. — А покуда нет у меня сил, клонит ко сну, и до дома своего мне не добрести…
— Да разве кто гонит тебя? — удивился воротник. — Ложись и спи. А рассказать обо всем и после успеешь…
Спал на лавке Вэй, на брошенной на пол шубе спал Митяй, а Кукша сидел за столом, глядел на них и то усмехался, то хмурился.
Всю жизнь, почитай, провел он возле этих ворот. Когда маленьким был, стоял у въезда его отец. Потом брат стоял, сейчас его черед. И без малого двадцать годков сторожит он город от нечаянных бед.
Много разного люда прошло перед его глазами, и всех почти владимировцев знал он едва ли не наперечет: и бояр, и дружинников, и ремесленников, и купцов, и даже нищих.
Знал он и то, кого какая печаль или радость уводила на просторы равнинного ополья — к Боголюбову, к Суздалю и дальше — к Ростову Великому.
И был он всегда исполнен гордости за порученное ему дело. Ведь не зря же пал брат его от половецкой стрелы, когда привел рязанский Глеб под стены Владимира войско беспощадных степняков, — подал знак, не отворил ворот, не поддался соблазну, хоть и обещали ему немалую награду.
Не довелось Кукше вкусить братниной славы — теперь уж нет охотников брать Владимир на щит, теперь поглядывают на стены его с опаской; перевелись окрест и шатучие тати. Однако же и по сей день все городские ворота на запоре — береженого бог бережет, да и почто шляться по стольному граду кому не лень? Первый досмотр у ворот — Кукшин, а там уж разбираются посадник, и бояре, и боярские тиуны… Кому почет и красное место, а кому — зловонный поруб.
Но, стоя у ворот, не всегда только гордостью был преисполнен Кукша — с годами все больше обуревала его неясная тревога. Глядел он, опершись о копье, на убегающие вдаль поля, на синюю, окантованную лесами кромку видимой земли и завидовал всем идущим и едущим.
Вроде бы и завидовать нечему — не от радости, не от безделья отправлялись люди в нелегкий путь: вели их на дорогу каждодневные заботы и тревоги. Кому приспело зверя добывать, кому скакать с грамотой, а кому просто искать пристанища — тесно во Владимире, все труднее дается хлеб насущный, все больше лихованных скапливается под сводами ворот.
Но вот заковыка: больше других слыхивал Кукша рассказов о далеких странах и населяющих их народах, о разных разностях и прочих чудесах. И так однажды, в такую же непогожую, как и нынче, ночь, подумалось ему: вот стоял мой батька у ворот, и братка стоял, и я который уж год стою, да так и умру, не взглянув и на сотую долю того, что даровал людям господь. Всем всего поровну дал: и лесов, и рек, и морей. И расселил по ним все сущие народы. И не разделил их, а проложил по земле дороги, весь мир собрав воедино. Так почто боярину, или князю, или тому же купцу — ступай, куда хошь, а ему — стоять у ворот, как батька и братка стояли, а когда сложит у тех же ворот свою голову, то встанет на его место сын, а на место сына — внук, и так до скончания времен?..
Жалел Митяя и завидовал ему Кукша, с тягучей тоской глядел на спящего тангута: поди-ко, снятся ему необычные сны, отлетает он мыслями своими далече. А куда воротнику отлететь во сне? Как и наяву, видятся ему в ночи все те же Серебряные ворота…
4
В молодечную с ветром и пляшущими снежинками ввалился белый ком.
— Хозяевам хлеб да соль, — прошепелявило из заиндевелой бороды.
Дружинники сидели вокруг стола, кончали вторую корчагу меда и играли в кости. Все уже друг другу надоели, хоть в драку лезь. Новому человеку обрадовались, смотрели на него с радостным ожиданием: коли в такую непогодь занесло на княжий двор, значит, дело важное.
— Проходи, гостем будь, — соскочил с лавки Крив. — Почто у порога торчишь?
Мужик распахнул шубу, встряхнулся, как пес, снял шапку, махнул по сапогам. Пристальные глазки быстро обежали сидящих за столом, в недоумении задержались на Криве.
— Зашел, гляжу, а мово знакомца нет, — сказал гость и неуверенно помял в руке шапку. Постоял, подумал, нахлобучил ее на голову и поворотился к двери.
— Постой-ко, — остановил его Крив. — Это ты про какого знакомца здесь сказывал?
— А про того и сказывал, — обернулся дядька, — что промеж вас похожего на него нет.
— Уж не Мистишу ли ищешь?
— А хотя бы и его.
— Вавилой тебя кличут?
— Ну, Вавилой, — неохотно отозвался мужик.
— Да что же тебя в молодечную привело к Мистише, за каким важным делом?
А про себя Крив так подумал: «Боится мостник, как бы не скрылся женишок».
Дружинники, бросив кости, с любопытством прислушивались к их разговору.
Вавила сказал:
— А ты почто в чужие мысли встреваешь?
— Мысли твои мне ведомы, — спокойно отвечал ему Крив, — потому как с Мистишей мы старые дружки.
— А коли старые дружки, — оживился мостник и снова снял шапку, — то вот и скажи мне, куды подевался Мистиша? Небось тоже в непогодь не по-пустому его носит?
— Мы люди князевы, и заботы у нас князевы, — сказал Крив с достоинством, — нам погода нипочем.
Вавила подозрительно оглядел уставившихся на него дружинников и поманил Крива за дверь. В сенях было холодно, ветер задувал в щели мелкую снежную крупу.
— А ты не врешь, что его дружок? — совсем близко придвигаясь к лицу горбуна, быстро прошептал мостник.
— Чего ж врать-то?
— И про сговор наш знаешь?
— Э, — протянул Крив, — сговора-то покуда не было.
— Это как же так не было? — отшатнулся Вавила.
— А вот так и не было. Сватов к тебе Мистиша еще не засылал. Но нынче гляжу я на тебя, Вавила, как повадился ты хаживать к нам в молодечную, и думаю: а не отговорить ли Мистишу? Уж больно нахваливаешь ты свой товар. Как бы не обвел ты дружка мово вокруг пальца…
— Погоди-ко, погоди, — хищно сузил глазки Вавила, — уж не от тебя ли тем ветерком подуло?
— Может, и от меня, — кивнул горбун. — Мистишу я в обиду тебе не дам. Уж больно прыток ты, уж больно норовист. А с девкой пущай они сами сговариваются.
Вавила медленно покачал головой:
— Теперь вижу я — верно в городе сказывают, что у Всеволода в дружине одни кобели.
— Стой, мил человек, — оживился Крив, — вот и словил я тебя. Так где это про князя и его дружину такое говорят?..
Оцепенел Вавила, на Крива уставился побелевшими от страха глазами. Да вдруг как бухнется перед ним на колени, как завопит:
— Помилуй! Вырвалось у меня по неразумению, а подумал уж после. Ничего худого о князе я не говорил.
— Али оглох я? — оттолкнул его от себя Крив, радуясь, как складно все само по себе получилось. Теперь не ему уговаривать Вавилу, теперь пусть Вавила перед ним поползает. — Пришел на княж двор не зван и на дворе его князя хулить? Али татей безродных собрал вокруг себя Всеволод?
— Про татей я и не обмолвился, — пробовал беспомощно защищаться Вавила.
Посмеивался горбун над мостником:
— А вот как кликну я сейчас отроков?
— Не губи ты меня, — взмолился Вавила, — отпусти с богом.
— Так вдругорядь заявишься…
— Ей-ей, не заявлюсь.
— А про свадьбу что слышно?
— Подцепил ты меня на уду, горбун…
— Впредь оглядчивее будешь. А Ксеньицы твоей не позорил Мистиша, и зазря страмишь ты его на всю молодечную. Коли полюбится она ему, так и без тебя сватов пришлем.
— Так что ж не полюбиться? Девка она ладная…
— Иди, покуда не передумал, — подтолкнул его Крив. Помягчевший голос его снова вселил в мостника надежду. И отворил он было рот, чтобы еще что-то сказать, но Крив повернулся на своих тонких ножках и скрылся за дверью.
Все еще стоя на коленях, в сердцах плюнул ему вдогонку Вавила.
<текст утрачен>
бормотал он, кряхтя, поднялся и вышел во двор.
Метель не утихала. Косые полосы снега, как плети, больно хлестали по лицу.
А Мистиша в это время сидел неподалеку, в Негубкиной избе, прислушивался к шороху ветра и думал о том, что только что рассказал ему Митяй.
В печи потрескивали дровишки, красные угольки прыгали по загнетке, было тепло и уютно.
Митяй, уже постриженный и умытый, в новой синей однорядке, прикрыв глаза, потягивал из чары брагу. Узкоглазый Вэй, пристроившись у его ног на полосатых половичках, покачивался и напевал что-то тоскливое.
Случайной получилась эта встреча, а засиделся Мистиша до самого позднего вечера.
С утра кликнул его к себе Веселица, велел съездить к кузнецам, поглядеть, готовы ли новые брони. Возвращаясь, увидел Мистиша курящийся над Негуб-киной избой дымок.
Сперва подумал он, что почудилось, что не дымок это вовсе, а ветер сдувает с конька недавно выпавший снег. Но у ворот была протоптана дорожка, и видимые за плетнем тропки пересекали двор.
Мистиша растерянно придержал коня, привстал на стременах, черенком плети постучал в воротную верею. Никто не отозвался на его стук, да за ветром и не было его слышно.
Ворота оказались не запертыми. Мистиша въехал во двор и спешился. Взошел на крыльцо, толкнул дверь. В сенях было темно и нелюдимо. Однако же и здесь, на припорошенных снегом досках, Мистиша увидел недавние следы.
Вторая дверь — в повалушу — сама отворилась ему навстречу. Мистиша отступил в растерянности: из дверного проема скалилось в улыбке чужое узкоглазое лицо.
— Ты кто? — спросил Мистиша, и рука сама непроизвольно потянулась к висевшему на поясе ножу.
Чужое лицо изобразило безобразную гримасу и отпрянуло. На месте его замаячила русая борода.
— Мистиша!
Дверь распахнулась настежь, и дружинник не успел опомниться, как оказался в крепких объятиях.
Только тут догадка его разрешилась — живой и невредимый Митяй стоял перед ним: и глаза те же, и улыбка та же, одна лишь борода была непривычна.
— Да что же стоим мы на пороге-то? — потянул его в повалушу Митяй, скинул с него шапку, взъерошил волосы. — А я-то думал: кто первый из старых моих дружков в гости ко мне наведается?..
Когда отъезжали Митяй с Негубкой в Булгар, Мистиша был далеко от Владимира, и расставались они не друзьями — стояла еще тогда между ними Аринка. Думали, больше не встретятся. Думали, навсегда разошлись их пути. Да верно говорят: пора пройдет — другая придет. Теперь и не вспоминали они былые обиды — не до них было: старая дружба новыми побегами проросла.
Сидели они за столом друг против друга, и Мистиша будто волшебную сказку слушал. Жизнь-то всяк по-своему меряет. Казалось ему, уж больше его с Кривом никто лаптей не истоптал — где только их не носило! Да зря похвалялся он пред собой. То, что Митяй сказывал, и во сне хмельном не снилось молодому дружиннику. А ведь иной раз такое привидится, что диву даешься.
Отпущенные Чингисханом, трудно добирались Негубка с Митяем до Отрара. Торговые пути опустели, колодцы занесло горючим песком, вымерли напуганные кочевниками селения…
— Ежели бы не Вэй — ласково посмотрел Митяй на сидящего рядом безмолвного тангута, — не один Негубка, и я бы лег костьми в безводной пустыне…
— А что же купец? — нетерпеливо спросил Мистиша.
— Скосила его неведомая болезнь, — сказал Митяй, — а я так думаю, что помер он от тоски. Перед самой смертью-то только и вспоминал он, что нашу Клязьму. Не дойти мне, говорил он, до Владимира, а тебе, Митяй, помирать еще рано. Не можно так и сгинуть нам обоим в чужих краях. Страшная беда нависла над Русью, и слова ихнего хана не пустая похвальба. Куды там наши половцы!.. Да что ты, успокаивал я его, о смерти думать тебе еще час не пришел, еще окунешься ты в нашу Клязьму, а беда покуда далече — почто сердце себе надрывать? Но неустанен был Негубка в своей тревоге. Молод ты еще, упрекал он меня. И все торопил — коней заморили мы подле самого Отрара. Вот тут-то Негубка и кончился. Песчаная буря захватила нас возле колодца — целую неделю пролежали мы, погребенные песком, в жару и безводье: в колодце-то том воды было едва только на донышке — всю мы ее в первый же день и вычерпали. А когда набрели на нас люди, Негубка уж бездыханен был — так и схоронили его на чужбине…
— И вот что чудно, — продолжал Митяй, — потешались над нами в Отраре: напугали-де вас разбойники, вот и бормочете бог весть что. Взгляните-ко, какие стены окружают Отрар…
— А может, и верно — зря беспокоился Негубка? — прервал его Мистиша. За окнами ветер завывал, в избе было мирно и тепло. Привычно было, но узкоглазый Вэй сидел, поджав под себя ноги, на полу, и Мистиша отводил от него смущенный взгляд.
Другим стал Митяй, словно подменили его за эти годы. И только сейчас заметил дружинник в волосах его серебристую седину.
Глава четвертая
1
Скоро прошла метель, и дороги выправились. И тогда явились сыновья к Всеволоду за благословением.
— Ты горячка, — сказал старый князь Юрию, — а ты, Ярослав, еще молод. Во всем слушайтесь Константина. А тебе, Костя, мой наказ таков: попусту Мстислава не задирай, и ежели дело обойдется без крови, то и слава богу. Митрофан пущай в Новгороде как сидел, так и сидит. А Святослава забери — не по его зубам оказался орешек, сами в другой раз разгрызем…
Была у него заветная дума: самому встать во главе войска, примерно наказать Мстислава, чтобы сидел в своем Торопце и на большее не покушался. Понимал он, что на сей раз не захудалого князя избрали для себя строптивые новгородцы и ежели дальше так же пойдет, то со многим придется мириться. Но сил уже прежних не было, крутой недуг все чаще приковывал его к постели, и не то что взобраться в седло, иной раз и из терема выходил он с опаской.
Еще день пошумел, пображничал Владимир — и ушло войско. Тихо сделалось в городе. Недолго вспоминали владимирцы шумные игрища и пиры — скоро жизнь потекла обычным чередом.
Одного только Всеволода и продолжало терзать беспокойство. Ходил он по ложнице, как пойманный в клетку зверь, то и дело припадал к оконцу, будто увидеть что пытался, будто взглядом своим мог помочь сыновьям. Мысленно представлял себе пройденный ими путь, высказывал жалобы свои Любаше:
— Нет в молодых князьях согласья, поди, и нынче уже перессорились. Что одному бог дал, тем другого обделил. Спокоен и рассудителен Константин, а Юрий решителен, да без головы — ему хоть в омут. Ярослав же у Юрия в поводу…
— Вот и не печалуйся, — успокаивала его Любаша. — Что одному недостанет, то другой возместит с лихвой. А Константин молодшим как коню узда.
— Узда-то узда, — покачивал Всеволод головой, — да как бы конь седока не сбросил. Тихий ездок-то.
Говорил и посматривал на жену с подозрением. Всякий раз, когда хвалила она старшего сына, словно бы что-то сжималось у него в груди.
Но Любаша глядела на него ясным взором, бережно поправляла подушки, и он снова успокаивался.
«Пустое, — думал Всеволод, — к чему терзать себя понапрасну? Это от молодости у него, а вот пройдет время — и перебесится. Хорошо, что поставил я его над Юрием и Ярославом. Пущай привыкает. Умру — все ему отойдет, отца своего помянет добрым словом».
Вот управится он со Мстиславом, сделает все, как повелел, — тогда и на покой, тогда ничего не страшно старому князю. А смерть, она у всех над головой — ее воеводами не пугнешь, самой лихой дружине с нею не сразиться. И не защитят от нее Всеволода ни молитвы ни высокие городницы, ни глубокие рвы.
И все-таки умирать не хотелось, все-таки думалось: доведу дело свое до конца сам. Ведь вона как сызнова заколобродила Русь: в Галиче смута, Чермный так и норовит Рюрика спихнуть с горы (а ведь сам из Ольговичей), Мстислав утвердился на берегах Волхова, подвигнулся на неслыханное — Всеволодова сына упрятал под крепкие затворы.
Или почуяли все, что ослабла его рука?
Нет, зря успокаивал себя Всеволод: не в ясности и сознании силы кончал он свои дни.
И все чаще сиживал старый князь с Иоанном и Симоном, все чаще спорил с ними и в спорах пытался открыть для себя истину. Но скоро понял он, что не просветят его, а сами ждут от него ответа духовные пастыри.
— Вольно вам за моей спиной, — сердился Всеволод. — А есть ли правда?
— Истинно так, — говорил Иоанн.
— Смирись, — вторил ему Симон.
— Меня не вразумил господь, — криво усмехался Всеволод, — а вы и вовсе пребываете в потемках.
Как-то сообщили князю, что на торгу и в ремесленном посаде странные плодятся слухи: будто далеко отсюда, на восходе солнца, собирается бесчисленная рать, будто идет она на Русь и грядет то ли всеобщее разорение, то ли даже конец света.
— Сыскать зачинщика, — повелел князь, — и бить кнутом нещадно на моем дворе.
— Не иначе как все от купчишек пошло, — намекнул ему Кузьма Ратьшич.
— Потрясите-ко купчишек, — повелел своим людям Всеволод.
Добрый дал совет Кузьма — и дня не прошло, как притащили отроки пред княжеское крыльцо мужичонку.
— Тебя как кличут? — нахмурился Всеволод.
— Митяем, — отвечал купец.
— Ты что же, купец, зловредные слухи по городу распустил? Народ смущаешь, байки свои за правду выдаешь?
— Хошь верь, хошь не верь, княже, — сказал Митяй, — но я не скоморох и до баек не охоч. И всё в словах моих истина. Что же до других, то я за них не ответчик.
— Смел ты, купец, как я погляжу, — проговорил Всеволод в задумчивости: смутила его Митяева прямота. — Наказать я тебя всегда успею, а вот и мне не расскажешь ли, где был и что видел и отколь в тебе такая уверенность?
— Отчего же не рассказать? — ответил Митяй.
Вечером званы были в большую палату передние мужи. Ввели Митяя, поставили перед княжеским стольцом.
Бояре перемигивались друг с другом, некоторые про себя ехидно посмеивались: вот-де дожили, вовсе в детство впадает Всеволод, кличет, как на думу, слушать потешины — ни медов, ни браги не выставляет.
Но князь, разгадав их мысли, глянул сурово — и все притихли, ладони к ушам приставили: ну, ну, коли новый пошел обычай, так отчего бы и не послушать.
— Начни, — повелел Всеволод Митяю и устало откинулся на спинку стольца.
Помялся Митяй, покашлял, собираясь с мыслями. Страшно ему было: ведь не за чаркой крепкого меда в корчме — перед боярской думой говорил он и за каждое свое слово держал ответ. Не убедит он князя — и обещание свое Всеволод исполнит: будут бить его при народе кнутом за гнусную ложь.
Начал он с того, как выплыли они с Негубкой от Булгара. Вяло продвигался его рассказ — бояре зевали, Всеволод нетерпеливо ерзал на стольце. Но чем дальше, тем увереннее становился окрепший голос молодого купца. А когда дошел он до того места, как схватили тангутов и как беседовал с купцами в шатре своем Чингисхан, сонливость будто ветром сдуло с боярских лиц.
Нет, не был похож на сказку пространный рассказ Митяя. И не лицедействовал он, когда смахивал со щеки непрошеную слезу.
Всеволод впился в лицо его горящим взглядом, с силой сжимал в кулаках подлокотники кресла. Бояре растерянно безмолвствовали.
Первым очнулся игумен.
— Все кочевники вышли из Етривской пустыни, — сказал Симон. — Причудлив и непонятен мне рассказ сего купца. А о монголах мы никогда не слышали.
Бояре зашевелились.
— Не может того быть, — говорили одни.
— Может, — говорили другие.
— Почто тезики нам про монголов не донесли? — сомневались некоторые. — И что это за земли такие, где живут язычники?..
Всеволод слушал их, глядел на Митяя, и сердце его учащенно билось.
«Вот оно», — вдруг толкнулось в грудь, и кровь прилила к голове. Не он ли когда-то вычитал в латинских хрониках, как пришли с востока несметные полчища варваров и поглотили беззаботный Рим?.. Быль и небыль сплетались под перьями переписчиков, но память хранила главное. Да и разве сам он не видел развалины древних городов?
Неужто снова грядет жестокая гроза, неужто снова собираются зловещие тучи? И не предчувствие ли великой беды водило все эти годы его делами и помыслами?
В большом и малом видел он свою правоту, и теперь выступала она все с большей и большей ясностью. Так неужто ему одному открылось неизбежное? Неужто все эти люди, сидящие в палатах улыбающиеся и беззаботные, незрячи, как только что появившиеся на свет щенки?..
Но вот хмурится, покусывая седой свой ус, Кузьма Ратьшич, вот Яков притих и с немым вопросом в глазах глядит на князя, вот часто крестится и беззвучно шепчет молитву епископ Иоанн. Нет, прозрели и они, тревога цепенит и их сердца.
Всеволод обессиленно откинулся на стольце: рано, рано уходит из него жизнь. Все тело его охватила болезненная слабость, руки стали липкими и бесмощными. Любаша закричала, бояре повскакивали с мест. Перепрыгивая через лавки, Яков первым оказался возле стольца, подхватил на руки сползающее на пол тело князя.
— Лекаря! — закричал Кузьма, ударом ноги распахивая дверь в переход.
— Лекаря! Лекаря! — зашуршало, затрепетало из уст в уста, покатилось по лесенкам, долетело до каморы, где отдыхал на лежанке Кощей.
Будто огнем его прижгло — вскочил он, кинулся в сени.
Всеволода уложили на ковер, Любаша рыдала у его изголовья, вокруг кучно стояли бояре. Кощей опустился на колени, осторожно приоткрыл князю веки, подержал его обмякшую руку в своей, торопливо расстегнул на груди кафтан, приложился ухом к сердцу — жив. Скользнул взглядом по лицу Кузьмы — тот понял его, растолкал бояр, быстро подошел к окну, распахнул створки: морозный ветер ворвался в сени, белой пеной закучерявился на половицах. Бояре поежились, заворчали на Кощея.
— Неча, неча толпиться! — прикрикнул на них Кузьма. Яков выталкивал любопытных за двери:
— С богом, с богом, бояре…
Чувствуя себя ущемленными, думцы выходили неохотно, сердито стучали посохами. Не терпелось им словить последнее дыхание Всеволода.
Но князь уже приподнялся на руках Якова, пытался встать на ноги.
— Экой же ты, княже, — терпеливо, словно ребенку, выговаривал ему Кощей. — Сколь раз тебя остерегал, а ты все за свое. Почто травку не пил, почто бояр собрал на думу? Не молод ты, чай, а всего все одно не переделаешь. И без тебя управились бы думцы. Им что — они вон у тебя какие ражие.
Всеволод добрался до стольца, сел, откинув голову, отмахнулся от лекаря, как от назойливой мухи.
— Не томи мне душу, Кощей. Изыди. И от травок твоих мне нет облегчения, а бояре мои куды тебя поречистее.
— Потому и нет облегчения, что непослушен ты, княже, — обидчиво пробормотал лекарь. — Ты на земле своей хозяин, знаешь, чем кормит она и чем поит, — там свои хвори, и на думу твою я не ходок. Но ежели держишь ты меня при себе, то не зря же есть мне свой хлеб. Душу твою я не тревожу, а тело вижу насквозь.
— Полно, Кощей, не сердись ты на меня, — мягко проговорил Всеволод. — Ступай, полегчало мне. А ежели снова худо станет, кликнут тебя.
Кощей поклонился князю и удалился.
— И вы ступайте, — сказал Всеволод Кузьме и Якову. — Ты же, Любаша, останься, — повернулся он к жене.
Тихо стало в сенях, тишиной оглушило князя. «Словно в могиле», — подумал он. Любаша опустилась перед ним на колени, заглянула в глаза.
— О чем думаешь, княже?
— О тебе, — сказал Всеволод.
— Да что обо мне думать-то, — слабо отозвалась Любаша. — Ты о себе подумай. Верно сказывал тебе Кощей: всякой думы не передумаешь, а дней впереди много…
— Не много уж осталось, Любаша.
— О том ли скорбишь?
— И о том тоже. Кому умирать охота? А еще тревожит меня — как останешься ты одна? Кто приласкает тебя, кто приголубит? Сынам моим доверяешь ли?..
— Уйду в монастырь, — сказала Любаша.
— Вот оно! — встрепенулся Всеволод. — Значит, загубил я твою молодость?
— Счастлива я…
— А ты поверь мне, княже…
Всеволод вздохнул и отвернулся. Все мешалось в голове, теснили друг друга беспокойные мысли. Хорошо, когда в доме много детей, но худо — когда все они молодые князья. Не успел рассеять он их по Руси, не успел каждому выделить свой удел. А Владимиро-Суздальскую землю начнут между собою делить — тут всему конец. И не станет ли стольный град его вторым Киевом?
Стемнело. Неслышно вошли со свечами слуги. Так же неслышно вышли.
2
Плохо спалось в ту ночь Мстиславу. Выйдя заутра на городницу, он увидел скачущего во весь опор по берегу Волхова одинокого всадника.
«Никак, и боярам худо спалось, никак, и посаднику что-то загрезилось, — подумал князь. — А то бы с чего ни свет ни заря слать ко мне на Городище гонца?»
Всадник и верно был послан Димитрием Якуновичем. Едва отворили ворота, едва влетел он на усадьбу и спрыгнул с коня, как встретил его спутстившийся с вала Мстислав.
— Беда, княже! — падая на колени, завопил гонец.
Эк его разобрало, к чему такая спешка?
— Уж не свеи ли вошли в новгородские пределы? — улыбаясь, спросил Мстислав.
Гонец был молод, редкий пушок едва пробивался на его верхней губе. И уж ясно, с первым поручением скакал он на Городище. Оттого и сияют его глаза, оттого и прерывист голос:
— Кабы свеи, княже, а то велел передать тебе наш посадник: двинулся-де Всеволод с Понизья на Тверь, а дальше путь его лежит на Торжок.
Крепко напугал новгородцев владимирский князь — вона как сразу зашевелились. А ведь не дале как вчера в том же терему, у того же посадника, собравшись вместе, укоряли бояре Мстислава, что худо радеет он о своей земле, что, когда ходил на литву, оставил себе половину добычи, когда положена ему треть.
— Это кто же так положил? — посмеялся над думцами князь.
— Вече.
— Ну так пущай мужики ваши и боронят пору бежье, — сказал Мстислав, — а моя дружина кормится с конца копья.
Знал он себе цену, знал, что уступят ему бояре. Но уперся Димитрий Якунович:
— Негоже ломать тебе старый обычай.
— В Торопце у меня обычай иной.
— Но сидишь-то ты на Городище! — воскликнул Димитрий, ища поддержки у думцев. Бояре, стоя за его спиной, согласно потряхивали головами.
— Что за честь! — рассмеялся Мстислав в лицо посаднику. — На Городище — не на Ярославовом дворе.
Зашумели, закричали, слюной забрызгали бояре.
— Полно, — остановил их Димитрий Якунович и повернулся к князю: — Али не мы с тобою заключали ряд?
— Али не я тебя вызволил из узилища? — в свою очередь вопросил его Мстислав. — Кабы не кликнули меня из Торопца, кабы Христом-богом не просили, то и по сей день хозяйничал бы у вас Святослав, а владимирцы путали свои бретьяницы с вашими.
— На том благодарствуем тебе, княже, — степенно отвечал посадник, и ни один мускул не дрогнул на его лице, — но на старом порядке испокон веку стоит вольный Новгород, и батюшка твой законов наших не нарушал…
Твердолоб Димитрий Якунович — достойный сын своего отца; твердолобы бояре, купцы твердолобы, воеводы и ремесленники — всяк в Новгороде твердолоб.
Взбесили думцы Мстислава. Ударил он кулаком по столу — проломил столешницу. Побледнели бояре, отступили от гневливого князя, но, только снова завязался у них разговор, как снова принялся Димитрий Якунович за свое.
Мстислав непривычен был торговаться — жил он широко и бездумно. И не ради добычи шел сюда из своего Торопца. А дразнить бояр ему просто нравилось.
— Ни ногаты не уступлю, — сказал он твердо. — Видел я, как ваш Домажир сидел в Торжке на ворованной куче.
За самое живое задел он думцев. Завопили они, размахались руками. Чернявый Домажир беззвучно хватал ртом воздух, закатывал глаза.
— Навет это, бояре, — вступился за него молчавший до сих пор Ждан. Обильный пот струился по его угрястому лицу. — А тебе вот что скажу я, княже: ты на бояр голоса не подымай. Ты бояр слушайся — худа мы тебе не хотим, но и себя не дадим в обиду. Так и знай.
Но еще долго заставил Мстислав попариться бояр. И когда все накричались и выдохлись, сказал:
— Негоже нам из-за третьей доли ссориться. Оставьте, бояре, сие на мое усмотрение. А не то хоть завтра возвращусь в Торопец.
Вот как припугнул их Мстислав. Такого доселе еще не бывало. Другие-то князья за великую честь почитали, ежели их приглашали в Новгород. А этот упрямится да еще покрикивает, и деться думцам некуда: он один только и в силе защитить их от притязаний Понизья, с ним только и считается Всеволод.
Прикусили бояре языки, ни да ни нет Мстиславу не сказали, новым уговором себя связывать не захотели. С тем и отбыл он к себе на Городище.
И вот не много дней прошло — на следующее же утро поклонился ему Боярский совет.
Гонец глазами поедал прославленного князя.
— Что повелишь боярам сказать, княже?
— Скажи, отдыхает князь. А как отдохну, так и прибуду на Ярославово дворище.
Гонец поскакал обратно к Новгороду. Выслушав его, Димитрий Якунович рассердился, не выдержал, при гонце обругал Мстислава:
— Спесив, да не умен. Вона как с высока полета закружилась у него голова.
Гонец поджал губы: не понравилось ему, как ругают при нем Мстислава. И Димитрий Якунович заметил это.
— Ты ступай, — сказал он гонцу, — да вели, чтобы собирались бояре…
Старыми обидами считаться было сейчас не время. Того, что Святослава пленили, Всеволод Новгороду не простит. Не слишком ли круто начал Мстислав? А ежели в себе уверен, то пусть заваренную кашу сам и расхлебывает.
Так думал Димитрий Якунович, так и сказал собравшимся боярам.
— Назад всегда не поздно ступить, — добавил он. — Но вижу я в строптивости Мстислава и немалую для нас выгоду, Никто доселе Всеволоду дерзить не смел. А этот не испугался. Что, как и впрямь оградит он нас от Понизья?
Мысль его всем была мила и заманчива. Давненько не представлялось Новгороду такого счастливого случая.
И все бы шло хорошо, если бы вдруг, взметая буруны, не подъехал к терему посадника возок владыки Митрофана.
Бояре повскакали с лавок, прилипли к окнам. Опираясь о плечо служки, владыка выбрался из возка и грузно поднялся на крыльцо. Тут же бояр будто ветром сдуло от окон, все чинно расселись на лавках вдоль стен, придали лицам своим благочинное выражение.
Войдя, владыка обвел присутствующих неприязненным взором, повернулся к Димитрию Якуновичу:
— Почто, посадник, правишь Боярский совет без главы его и духовного пастыря?
Лицо Димитрия Якуновича было темно и неприступно. Владыка ударил в пол зазвеневшим посохом — иные бояре вздрогнули, опустили глаза долу.
— Ответствуй же! — прорычал Митрофан и шагнул на середину горницы.
— Боярский совет заседает в твоих палатах, владыко, — отвечал Димитрий Якунович с достоинством и не сгибая спины, — а у меня собрались гости.
— Гости? — усмехнулся Митрофан. — А почто ни медов, ни яств не вижу я на столах? Почто песен не слышу, а тихую беседу? Почто сокалчие притушили на кухне огни? И на скорбных поминках больше веселия, нежели на вашем пиру…
Что было сказать на это посаднику?
— А! — воскликнул Митрофан. — Вот и нечего тебе молвить, вот неправда твоя вся наружу и вылезла. Вотще! На словах печетесь вы о мире со Всеволодом, а за моею спиною плетете паучью липкую сеть. Так вот воссяду я по чину во главу стола и погляжу, куды дальше потечет беседа.
И с этими словами он продвинул свое грузное тело под образа, отпихнул замешкавшегося долговязого Репиха и опустился на лавку:
— О чем судить-рядить будем, бояре?
Димитрий Якунович поморщился, как от зубной боли, — всю задумку испортил владыка, а ведь кто-то ему сболтнул из своих. Кто? По глазам не прочтешь, в душу каждому не влезешь. И как знать, кто замыслил гнусное предательство?
Оно бы еще ничего, как-нибудь выкрутились бы, ежели бы с минуты на минуту не должен был заявиться Мстислав. А уж тогда и вовсе объяснять нечего.
Перестук копыт послышался во дворе.
— А вот и самый главный гость, — улыбнулся Митрофан, потянувшись к окошку.
В терем вошел Мстислав, крикнул с порога:
— Здорово, бояре!
Повернулся в красный угол, перекрестился и вдруг увидел Митрофана. Глаза их встретились.
— Ай-яй-яй, — покачал владыка головой. — Весь совет в сборе, а ты ждать себя заставляешь, княже. Нехорошо.
Мстислав в изумлении покосился на посадника. Димитрий Якунович только рукой махнул. Митрофан уже освоился, чувствовал себя за столом старшим, хоть и не в своих палатах, хоть и тоже в гостях.
Бояре сопели, кой-кто прятал в ладошку ехидную ухмылку. Вот этих-то, с ехидцей, посадник сразу взял на заметку. Не иначе как от них и полетела весточка на владычный двор.
Мстислав был человеком сметливым, но осторожничать не умел. Да и не в его правилах было отступаться от однажды начатого. Все равно узнал бы Митрофан про боярский сговор. А уж коли решится Мстислав идти на Всеволода, то поперек дороги ему не становись: проломится он, как медведь через чащу, руки-ноги переломает, а от своего не отступится.
С легкой улыбкой, нарочито медленно прошел он на другой конец стола и сел против мечущего глазами молнии Митрофана.
— Вот и ладно, вот и хорошо, что владыко с нами, — сказал он и, устроившись поудобнее, поставил меч между колен. — Так почто звали меня, бояре?
Никто ответить ему не решился, все выжидающе смотрели на посадника. Димитрий Якунович тоже молчал. Тогда Мстислав сам подтолкнул осторожничающих думцев:
— Ежели правду говорил мне гонец, то собрал Всеволод изрядное войско, и со дня на день ждать нам его в Торжке.
— Вот! — торжествующе встрепенулся владыка. — Вот почто гости у тебя на дворе, посадник!
— Зря обличаешь меня, отче, — сказал наконец Димитрий Якунович. — Сам ты во всем виноват. Поса дили тебя блюсти права Великого Новгорода, а ты Всеволодов подпевала. Как верить тебе?
— Грядет, грядет отмщение, — с торжественностью в голосе возгласил Митрофан, не слушая посадника. — за слезы молодшего князя, за поруганную дружину воздастся вам всем с лихвой. Ай, Димитрий-Димитрий, недолго тебе уж осталось — скоро и тебя поволокут на правёж. А тебе, Ждан, и тебе, Домажир, и тебе, Фома, и тебе, Репих, за деяния ваши, за злобу и коварство — самая лютая казнь.
Как перед скончанием века делил и судил думцев Митрофан. И сам себя все больше распалял своими речьми. Сперва Мстислав забавлялся, но скоро надоело ему его слушать. Он ударил ножнами меча в пол, и владыка смолк на полуслове.
— Что бояр ты обличал, то и я с тобою, — сказал в наступившей тишине Мстислав. — Но всему свое время. А нынче зван я на совет по иной причине.
— По иной, княже, по иной, — облегченно закивали думцы.
— Призывает тебя Новгород, княже, и со всею твоею дружиною выйти встречь супостату и не пустить его в наши пределы, — обратился к нему Димитрий Якунович. — А коней мы тебе дадим, и оружия, и одежи, и пешцов…
Митрофан снова перебил посадника:
— Слепцы вы все. Выпустите Святослава — и ссоре вашей конец. Поклонитесь Всеволоду.
— Всеволоду кланяться не станем, — сказал, как отрезал, Димитрий Якунович. Владыка даже вздрогнул. Бояре, соглашаясь с посадником, одобрительно загудели.
Мстислав снова ударил ножнами в пол, прерывая излишние разговоры.
— Дале говори, посадник.
— А дале и говорить нечего. Всё, княже, в твоих руках.
Димитрий Якунович сел и провел ладонью по вспотевшему лбу. Все, повернувшись, смотрели на Мстислава. Владыка даже напряженно приподнялся с лавки, даже ладонь приставил к уху.
Мстислав резко встал — Димитрий Якунович вскинул на него испуганные глаза.
<текст утрачен>
князь и вышел из терема: дальше забавлять себя пустыми разговорами он не хотел.
Яснее не выразишься. Димитрий Якунович даже побледнел от облегчения, бояре обмякли. Зато владыка так и взвился, загрохотал посохом, едва не в щепки разбил половицы:
— Еще раскаетесь, бояре, что меня не послушались. Еще умоетесь кровавой слезой!
И тоже вышел вслед за князем. Бояре, скинув с себя степенность, снова прильнули к окнам. На крыльце служка все так же почтительно подставил Митрофану плечо, проводил до возка.
Димитрий Якунович истово перекрестился.
3
Прежде чем вернуться к себе в детинец, владыка объехал город и вынужден был отметить, что Боярский совет на этот раз времени зря не терял: весть о готовящемся походе пробудила ото сна ремесленные посады. Особенно много дел было у оружейников, щитников, тульников и бронников: повсюду дымились кузни, вздувались горны, стучали молотки.
Хотя и готов был Митрофан ко всему, хотя и знал, что думцы сговариваются за его спиной, но все-таки покоробило его, что впервые не спрашивали они у него совета, впервые обходились без его благословения. Порушив давний порядок вещей, не открыто пока, но явственно намекали они, что в случае удачи не потерпят присутствия Митрофана на владычном дворе. Да и каков он владыка, ежели не избран, а поставлен силой. Когда же на силу противная поднялась сила, то что удержит бояр в безумстве, что помешает им и его бросить в узилище, как они уже бросили молодого князя и всю владимирскую дружину?..
И все-таки не зря доверился ему Всеволод — не сдастся Митрофан без борьбы Боярскому совету. А ежели что, то и ударит в колокол: не все же в Новгороде погрязли во грехах и безумстве, нешто не сыщется светлой головы?.. А начинать нужно с зачинщиков: не Димитрий Якунович всему голова. Боярин Ждан — вот начало всех начал. Из его терема ползут зловредные слухи, а Репих, Домажир и Фома разносят их по всему городу.
Словиша ждал владыку с нетерпением. Святослав — тот еще грядущей бедой не проникся, до сих пор живет только старой обидой, бестолково суетится, грозит кому-то, стращает батюшкой.
Выбравшись из возка, разговаривать со Словишей на крыльце Митрофан не стал: боялся посторонних ушей.
Вошли в палаты, владыка прямо на пол скинул у порога шубу, шумно дыша, опустился на пристенную лавку, посох небрежно прислонил к углу.
Словиша не донимал его лишними расспросами, стоял рядом, сложив руки на груди.
— Святослав далече ли? — оглядываясь по сторонам, по-домашнему просто спросил Митрофан.
— Почивает княже. Шибко устал, тебя ожидаючи.
Владыка кивнул, улыбнулся растерянно.
— С худыми прибыл я вестями, — сказал глухо.
Словиша молчал.
— Верно нам донесли — сбирал у себя Митька Боярский совет. На Всеволода подымает Новгород. Мстислав был зван. А еще проехал я по ремесленным посадам — все о походе только и говорят.
— А мы здесь будто погребены, — сказал Словиша. Ни самим не выбраться, ни весточки Всеволоду не подать. Крепко нас стерегут.
— Но все ж таки весточку бы подать не худо.
— Да как?
— Человечка верного сыщем. Не в том беда.
— А в чем же?
— С чем вестуна пошлем?
А ведь и верно — отсюда им многое виднее. А Всеволоду задумку не трудно разгадать: станет он требовать Новгорода для Святослава. Нынешний же князь горяч. Что, как столкнутся они, а одолеть Мстислава будет невмочь?
— Это Всеволоду невмочь? — удивился Словиша. Что-то смутное говорил владыка. Уж не припугнули ли его на Митькином дворе?
— Вижу, усумнился ты, — искоса поглядел на него Митрофан.
— Не обессудь, усумнился, владыко…
— А зря. За Новгород не ты один — и я тако же в ответе. И потому предвижу: не будет битвы, а будет ряд. И мнится мне, что на том ряду постарается немалую пользу для себя выговорить Мстислав.
— Польза ему одна — остаться в Новгороде.
— Верно. И Святослава он отцу возвернет. И дружину возвернет. А дале? То-то же: еще крепче сядет он на берегах Волхова. Бояре же и слова ему поперек не скажут. Им бы только свое за собою удержать, а лучшего князя где сыщешь? Единством Боярского совета силен Мстислав.
— Хитер ты. Вона куды клонишь…
— Еще не все высказал, — оборвал Словишу Митрофан. — А слать нам гонца нужно вот с какою вестью. Ежели-де, княже, рядиться станешь, то и еще одного не позабудь: проси, дабы наказаны были Святославовы унизители. Брать-де в оковы я их не хощу, а ежели сам с ними справишься, то вот тебе их имена: бояре Ждан, Домажир, Репих да Фома. Из-за них, мол, я и гневаюсь на Великий Новгород, а то, что на вече тебя к себе звали, это их дело. А не накажешь сих бояр, то нас бог рассудит. Пущай знают новгородцы, кто им враг, а кто друг истинный. За тех бояр все спинами своими со мною рассчитаются… Нам же зевать нечего: дабы не скрыл уговора Мстислав, пустить слушок об этом на торгу. Искорку зароним — большой разгорится пожар. А как не станет Ждана и всех, кто с ним, то и посадник поубавит прыти. Тут и о новом посаднике подумать придет пора. От посадника же ниточка ко многим тянется — глядишь, и повернем на свою сторону новгородское вече, бояр припугнем.
— Ну, владыко, золотая у тебя голова! — восхищенно воскликнул Словиша. — Не зря ставил тебя Всеволод. А я уж подумал, не смирился ли ты.
— С чем мириться-то? — горько усмехнулся Митрофан. — Вона какая выпала мне честь — не то владыко, не то узник. Но приметил я, что не все у Митьки в тереме были за него, на то и уповаю. Ратное-то счастье зыбкое, а теми боярами откупиться куды как просто. Заманчиво сие: ей-ей, сглотнут они нашу наживку.
— Добро бы сглотнули…
— Сглотнут, — уверенно кивнул Митрофан. — Но, главное обговорив, пора помыслить и о малом: кого пошлем ко Всеволоду вестуном?
— Может, из наших дружинников?
— Наши в узилище все наперечет.
— А на тутошних я не положусь.
— Тутошний-то как раз и сгодится. Подозрение на него не падет, выпустят из города свободно.
Стали всех, кого знали, перебирать: один хорош, да бражник, другой не бражник, так болтун, а третий и вовсе драчун — человек приметный, его сразу хватятся. Выбор свой остановили на Якимушке-гусляре.
Во владычные палаты звать Якимушку не стали, хотя с песнями ему повсюду свободный вход.
— Пошлем к нему сокалчего Лемира, — сказал владыка. — За ним одним догляда нет.
И верно, ходил Лемир через ворота без княжеского дозволения: то травок на торгу купить, то сговориться о доставке хлеба. Одному ему из всех владимирских и было такое послабленье. Но мужик он догадливый, и голова у него на плечах: через Лемира и узнал владыка, что собираются бояре у посадника на Ярославовом дворе.
Кликнули сокалчего. Митрофан ему сказал:
— Славно сослужил ты мне, Лемир, единожды. Сослужи-ко еще раз.
— Чего ж не сослужить, — сказал сокалчий. — Осетринки али стерляди подать к столу?
— Осетринкой да стерлядью попотчуешь нас в другой раз. А вот сходить на торг да сыскать Якимушку только тебе и вмочь.
— Чего ж не сыскать, — сказал Лемир, поскучнев, но только для виду — небось сразу он смекнул, что разводить с ним по-пустому разговоры владыка не станет: для разговоров у него и Святослав, и Словиша под боком…
— Сыщи Якимушку и грамотку нашу ему передай. А еще, — сказал владыка, — передай ему вот этот перстень.
— Якимушке-то перстень за что? — невольно вырвалось у Лемира.
Митрофан по-своему расценил его вопрос. Не думая, он тут же снял с пальца и протянул ему другой перстень с голубеньким камушком.
— А ентот кому? — удивился Лемир. — Нешто сызнова гусляру?
— Перстень сей твой, — проворчал владыка. — Но дарю я его тебе не за яства, а за услугу. Ясно ли?
— Кажись, ясно! — обрадованно схватил и примерил перстень сокалчий.
— А на словах Якимушке вот что передай: донеси, мол, гусляр, сию грамотку до Всеволода али до сынов его — кто впереди окажется, и никому боле ее не показывай. А как вернешься, владыка тебя и в другой раз отметит. Все ли уразумел?
— Все, — сказал сокалчий, прикинув, что коли так уж расщедрился Митрофан, то и его опять же не обойдет, что и ему хоть что-нибудь достанется.
— Ну так ступай.
И Лемир кинулся со всех ног выполнять поручение.
— Теперь об одном молись, — сказал владыка Словише, — только бы не попало писанное в чужие руки.
О том же думал, отправляясь на торг, и проворный сокалчий.
В воротах его не задержали, как и всегда. На торгу тоже никто не обратил на него внимания. Якимушку сыскал он скоро. И не на площади, и не в боярском терему, а в питейной избе.
Не то что учитель его старый Ивор, живший в строгости и воздержании, — до медов и сладких баб шибко охоч был молодой гусляр.
— Гляди, мужики, — заметив входящего Лемира, приподнялся на лавке охмелевший гусляр, — кого бог на нашу беседу прислал!
Все закричали и застучали чарами. Сокалчий же подошел спокойно, не обращая на бражников внимания, и потянул Якимушку из-за стола.
— Эй, мужики, куды ж это тянет меня Лемир! — вдруг воспротивился гусляр.
Но бражники только засмеялись на это, и никто из них не поднялся, не остановил сокалчего.
Делать нечего, пришлось Якимушке выбираться на вольный воздух.
— Эх ты, — сказал ему Лемир, — все знали мы старого Ивора. Ты же вовсе по другим пошел стопам.
Упрек сокалчего не понравился гусляру.
— Нашелся кто мне упреки выговаривать, — сказал он. — Каждая пичужка знай свое место. Нешто я нос сую в твой котел?
— В котел мой носа ты не суешь. Но и медов ты не сытивал, а вона как направо и налево льешь.
Были они квиты и друг на друга не серчали.
— Почто из избы выволок? — спросил Якимушка. — Не владыко ли послал тебя, чтобы выслушать мои песни?
<текст утрачен>
ну, — сказал Лемир, — а вот подарок он тебе прислал.
И с этими словами сокалчий сунул под нос гусляру тяжелый перстень.
— Ай да владыко! — вскричал Якимушка, хватая подарок и рассматривая камушек на свет. — А ты говоришь, что я не достоин Ивора: учитель мой сроду таких перстеньков не нашивал.
— Зато в порубах посидел всласть — за то ему и великая честь.
— Нынче, слава богу, в поруб гусляров не бросают…
Лемир ничего не сказал ему на это, Но издали намекнул: мол, подарок и отработать надо.
— За песнями тебя ко мне владыко не посылал, сам только что сказывал, — изумился гусляр, — так что ему от меня надобно?
— А надобно ему всего пустяк, — сказал находчивый сокалчий, — чтобы по дороге на Тверь, как будешь ты во Владимирских пределах, нашел бы князя Всеволода али сынов его и передал им грамотку.
— Это почто же мне идти на Тверь, — сказал, все более изумляясь, Якимушка, — коли дорога моя самая ближняя лежит на Белоозеро?
— А ты на Тверь пойди, — вкрадчиво перебил его сокалчий, — вот и твой перстенек, а возвернешься, так и еще одарит владыко. На Белоозере же живут одни убогие. Там тебе за песни твои и хлебушка не подадут.
Гусляр наморщил лоб. Сказанное Лемиром поколебало прежние его задумки. А ведь и верно: почто брести ему на Белоозеро? Это страннички его соблазняли, а странничкам, поди ж ты, не подносят с камушками перстеньки.
— Уговорил ты меня, Лемир, — сказал он наконец сокалчему. — Давай свою грамотку, все исполню, как просит меня владыко.
— Да не потеряй, смотри, — предупредил Лемир. — Потеряешь — снимут с тебя лихую головушку. Никто после не помянет — не то что Ивора. Никто и знать про тебя не будет.
— Экий же ты въедливый, Лемир, — обиделся Якимушка. — Панихиду по мне рановато справлять. А помянут ли — не помянут, не нам с тобою судить. Песни-то мои тож люди, а не скоты слушают, бабы слезы льют, молодицы радуются… Придет срок, еще похваляться будешь, что был ты моим дружком.
Все, как велено было, исполнил Лемир и вечером сообщил об этом владыке.
Митрофан обласкал его взглядом и похвалил чесночный соус, чем вверг сокалчего в великое смущение: чесночного соуса доднесь владыка и на дух не переносил.
4
С бабой нелегко, но и без бабы мужик — все равно что на плодовом дереве корявый дичок.
На что Якимушка бродяга, бесприютный человек, но и у него была молодица на Чудинцевой улице в Неревском конце, толстушка и хохотушка Панька, вдова помершего богомаза Секлетея.
К ней и направился гусляр после беседы с Лемиром, оставив в питейной избе своих обескураженных дружков-бражничков.
Панька встречала его не улыбками и не медовыми пряниками.
— Явился, чертово бороздило! Ковш тебе, знать, души дороже.
Но против своего обычая подразнить разговорчивую Паньку на сей раз Якимушка выслушивал ее со вниманием и даже с ласковой улыбкой на лице.
Смиренность гусляра скоро сбила молодицу с толку. Выговорилась она, а Якимушка — ни слова в ответ. Встревожилась Панька:
— Уж не обидел ли кто? Уж не захворал ли ты?
А гусляр и на этот ее вопрос — молчок. Тихохонько прошел мимо бабы в избу, сел к столу, поглядывает загадочно.
— Ты почто же молчишь-то? Ты почто же язык-то проглотил? — подсела к нему Панька. Даже по голове погладила, даже плечиком притулилась к его плечу.
— У пьяного семь коров доится, — сказал наконец Якимушка, с достоинством отстраняясь от вдовицы. — Про то с упреком говорят, а мне и впрямь подвалило счастье.
— Да что за счастье, коли на той неделе пропил ты гудок, а нынче, поди, и гусли уже не твои? — сказала Панька.
На что Якимушка ей отвечал:
— Гусли вот они — у тебя в избе за печью, а принес я от самого владыки подарок.
— Это с каких же пор стал одаривать владыко гусляров да скоморохов? — не поверила ему Панька, подумав, что и впрямь тронулся он умом. И еще ласковее прижалась к Якимушке. Был он ей мил, а ворчала она на него по привычке: не поворчишь, так и вовсе отобьется от рук гусляр, мужики нынче вздорные пошли.
— Вот, гляди-ко, — Якимушка выбросил из кулака на стол засверкавший камушком золотой перстенек.
Но вместо радости еще больше огорчил Паньку. Сперва-то было и у нее осветились глаза при виде дорогой вещицы, но едва только коснулась перстенька пальцами, как тут же отдернула их, будто дотронулась до раскаленного железа.
— Ой, лишенько мне! — завопила молодица. — Ой беда-то какая! Так и знала я, что не доведут тебя до добра меды. Спутался ты с шатучими татями, и теперь нам обоим великий позор. А тебя, нечестивец, как есть, упрячут в поруб и невзвидешь ты больше ясного солнышка. Почто на чужую вещь позарился?
— Да сколь толковать тебе, — рассердился гусляр, — сколь толковать, что не крал я, а перстенек сей — подарок от владыки, и можешь брать его в руки, не таясь…
И Якимушка поведал вдовице, как разыскал его в питейной избе Митрофанов сокалчий, и что говорил, и куда велел ехать. А чтобы окончательно успокоить Паньку, достал из шапки и показал ей вверенную ему Лемиром грамотку.
Панька пощупала свернутый в трубку пергамент, понюхала его для верности и только тогда взяла и надела на палец владычный перстенек. Велик он ей оказался, но камушек сверкал и радовал сердце.
Однако же недолгой была ее радость. Смущение снова изобразилось на ее лице.
— За просто так владыки перстеньки не раздаривают — сказала она в задумчивости. — На опасное дело подвигнул тебя Лемир. Почто сам не отправился он с грамоткой ко Всеволоду?
— Да как отправиться ему, ежели за всеми, что в детинце, крепкий надзор? — сказал гусляр. — Через день хватились бы сокалчего да пустились вдогон, а мне все пути-дорожки открыты. Все равно собирался я на Белоозеро, так нынче пойду на Тверь.
— И гусли возьмешь с собой?
— Ежели что, поломают тебе гусли…
— Вот баба! — воскликнул Якимушка. — Гусли пожалела, а о том не подумала, что, прежде чем гусли ломать, мне самому переломают ребра!..
Тут же прикусил Якимушка язык — понял, что лишнее по простоте своей выболтал, но Панька уже снова принялась вздыхать и охать:
— Вернул бы ты лучше перстенек и никуды не ехал.
— Я от слова даденного не отступаюсь, — сказал гусляр, — и чем попусту причитать, лучше бы вшила ты мне грамотку в зипун, чтобы незаметнее было.
На сей раз Панька перечить ему не стала, — проливая слезу, быстро вшила грамотку, перстенек спрятала в ларец, собрала в суму съестного и, перекрестив гусляра, прильнула к его груди:
— Ступай с богом.
И утром Якимушка через Ильину улицу, миновав Великий мост, вышел на зимнюю дорогу, оставив справа Рюриково городище, — берегом Волхова идти он опасался: уж больно много шастало в тех местах Мстиславовых дружинников. Еще поволокут на княж двор, еще заставят петь, а времени у него в обрез. Грамотка должна быть доставлена к сроку — тогда лишь и наградит его во второй раз владыка, тогда лишь и приблизит к себе, а о Иворовой славе Якимушка и не мечтал.
В пути на морозце и на ярком солнышке думалось легко. Но чем дальше отходил гусляр от Новгорода, чем безлюднее становились места, тем все больше и больше охватывала его тревога, и мысли, обращаясь к прошлому, все меньше радовали его.
Вспомнил он Ивора, каким впервые встретил его на пути из Поозерья. Тогда уж великая шла по Руси слава о новгородском певце, тогда уж стекались послушать его огромные толпы народа, тогда уж ходил он у князей не в чести, но ничуть не печаловался от этого.
Сказывали, будто долго сидел он во владимирском порубе, будто и от песен своих отрекался, будто и вовсе зарекался петь. Но ненадолго хватило зарока. Только выбрался из смрадного узилища — и снова зазвенели на торгу его звончатые гусли.
И снова сажали его в поруб, а иной раз богато одаривали. Но Ивор не присваивал себе богатых даров, избы себе не ставил, двора не обносил высоким тыном: как жил бесприютно, так и продолжал жить и славою своей не кичился.
Не за то ли любили его простцы и смерды, не за то ли и выносили с торга на руках и не давали приблизиться к нему княжеским дружинникам? Оберегали Ивора, прятали в своих избах, на свадьбах и на поминках сажали в красном углу, чару ему подносили, и выпивал он всякую чару до дна.
Всякую чару выпивал до дна и Якимушка, да были эти чары совсем не те. Горький был в тех чарах осадок.
Когда возвращался Ивор из Поозерья и на ночлег останавливался в их избе, утром увязался за ним, очарованный песнями его, Якимушка — от мамки с батькой сбежал: ему, вишь ли, тоже захотелось Иворовой сладкой славы.
Но не сразу разгадал его старый певец: лестно ему было, что не умрут, перейдут его песни в молодые уста. Так и остался Якимушка при Иворе, так и ходил с ним по Руси, ловя и запоминая каждое его слово. От Иворовых праздников и ему кое-что перепадало, перепадало ему кое-что и из Иворовых тумаков.
Полюбились Якимушке Иворовы праздники (за ними и бежал он из родной избы), но Иворовы тумаки озлобили молодого гусляра.
— Почто обходишь ты боярские терема? — удивлялся он старику. — Почто не берешь подарки, а спишь на дырявой сукманице?
— Экая же ты простота, — отвечал ему на это Ивор. — Нешто и до сей поры не смекнул: боярские дары — все равно что клетка для соловья. Сгинет в клетке той вольная птица, а ежели и принудят ее петь, то совсем другие это будут песни. Я же хочу петь то, что поется, а не по боярскому замышлению.
И смотрел на Якимушку со снисхождением, как на несмышленое дитя. Верно, думал Ивор, что когда подрастет молодой гусляр, когда оглядится вокруг приметливым оком, то и сам все поймет: не тем славен певец, что на ногах сафьяновые сапожки, а на шее золотая гривна (таких-то сколь развелось в богатых теремах!), а тем, что сирым помогает в их неисчислимых бедах, а павшим помогает встать. Не для услады пресыщенного боярина, не для славы его, что развеется как туман, слагается песнь (иначе и она легче легкой дымки), не для пиров, на коих один пред другим похваляется, не для жен и дочерей боярских. Перед трудной битвой поможет песнь уставшему ратнику, и пахарю послужит она, и кузнецу, и иному умельцу, когда уж иссякнут силы и нет впереди ни светлого проблеска, ни манящей надежды…
Нет, не такого ответа ожидал Якимушка от старого Ивора. И с годами не стали очи его зорчее, и сердце не открылось добру.
Осерчал Ивор, прогнал его от себя:
— Сломал бы я твои гусли, да, может, еще образумишься. Но со мною пути тебе нет.
— Ну и оставайся один, — не выдержал, высказал ему молодой гусляр, — авось кто другой закроет твои очи.
И ушел от старца, и пошел по боярским дворам. И добился бы он в жизни своей многого, во многом бы преуспел, но сгубила его любовь к хмельному зелью.
К тому времени Ивор скончался — бог весть, может, Якимушка и ускорил приход его смертного часа: очень переживал старец, что ошибся в своем ученике. Говорят, хотел он перед самым концом податься в монастырь, но по неспокойности нрава своего повздорил с игуменом и пострига принимать не стал. Схоронили его в Новгороде, много стеклось народу прощаться с любимым певцом. Но отслужить панихиду по нем едва сыскали захудалого попика. И Якимушка был на погребении, и слезу обронил, но слеза та была больше от хмеля, чем от горя. А ежели и горевал о чем молодой гусляр, то о том только, что прав оказался в своем предсказании Ивор: славы вечной Якимушка не заслужил, а из боярских усадеб его гнали. Никому не нужен был вечно хмельной и распутный гусляр.
И стал Якимушка забавлять людей, где придется, но от песен его не было никому ни тепло ни холодно. Все слова растерял он по питейным избам, а брань его слушать никто не хотел. Одни только бражники и привечали молодого гусляра, и то только покуда выставлял он им меды. А без медов в свой круг и они его не принимали.
Злобился Якимушка, шагая по морозцу. «Вот ужо приветит меня владыко, — говорил он себе, — так не то что медов вам не выставлю, а буду гнать от своего порога».
Веселым и беззаботным рисовалось ему его будущее, и сам себя в вере своей он укреплял, будто что и впрямь изменится в его жизни.
А того и не знал, что вернется и пропьет владычный перстенек, и другого ему дарено не будет.
Глава пятая
1
Ясная зимняя погода и умеренная стужа способствовали быстрому продвижению объединенного войска Всеволодовых сыновей. Почти в ту же саму пору, когда они приближались к Твери, с противоположной стороны, от Новгорода, к Вышнему Волочку подходил со своим войском Мстислав Удалой. И, всего лишь на день опережая его, ехал в обозе соляников с зашитой в зипун Митрофановой грамотой Якимушка.
За песни взяли его с собой обозники, дозволили ехать на переднем возу, даже шубу подложили, а другою накрыли гусляра. Первую песню на привале спел он им не свою, а Иворову. Понравилась мужикам смелая песня, хвалили они Якимушку, наваристой угощали ухой, даже сунули ему под голову сулею с крепким медом, чтобы не скучал в пути.
Но с сулеею гусляр управился быстро, стал выпрашивать для себя вторую.
Чего не отдашь за хорошую песню! Дали ему и вторую сулею обозники. Радовались они:
— Повезло нам, что едет с нами гусляр. Не помрем в дороге от скуки.
Спел им Якимушка и еще одну Иворову песню. А больше он не знал — позабыл за временем. Дальше песни пошли свои. И уже не радовались, а только хмурились и дивились обозники:
— Будто подменили тебя, гусляр. Али лучшие песни бережешь для иного случая? Хоть мы люди и простые, а ты нас не обижай. Нешто худо тебе с нами? Нешто уха наша не по тебе, нешто меды не сладки?
Сладки были у них меды, и уха была навариста, а других песен у Якимушки в запасе не оказалось. И когда однажды, присев у костра, снова забренчал он на гуслях и пропел свой обычный зачин, мужики сказали ему:
— Ладно, повезем тебя ко Твери и без песен. А про бояр да воевод слушать твои былины мы не хотим.
К вечеру другого дня обозники забрали у него шубу, потом забрали и другую шубу — ту, что служила ему подстилкой. Тогда обиженный Якимушка зарылся в сено. Но и тут его побеспокоили.
— Ступай-ко на последние сани, — сказали гусляру мужики.
На последних санях и сена не оказалось. А мороз крепчал. Особенно холодно было по ночам. Совсем коченел в своем ветхом зипунишке гусляр.
Уже на самом подъезде к Твери стало Якимушке вовсе невмоготу. В другое время он и не подвигнулся бы на такое. А тут еще злость взяла на обозников.
Знал он, где хранятся у них меды. Пробрался тихо, напился и, возвратясь, заснул на своих санях. Утром его едва добудились. Стали браниться, а после пожалели: сам бог наказал строптивого гусляра — обморозил он себе ноги. Сколько ни терли снегом, а оттереть так и не смогли.
Прибыв в Тверь, забитую дружинниками и пешцами, первым делом стали искать лекаря. А Якимушка плакал да все про какой-то перстенек поминал. Наконец вспомнил и про грамотку.
— Несите меня ко князьям, — требовал он у обозников.
— Глупая твоя голова, — увещевали его мужики, которые уж раскаивались, что так жестоко обернулась гусляру их наука. — Да на что тебе князья, ежели обезножел? Не станут они слушать твоих песен.
— Одну песню выслушают, — стеная и охая, заверил их Якимушка.
Делать нечего, приволокли гусляра к избе посадника, где стоял Константин. Вышедший на крыльцо постельничий князя рассердился:
— Почто, мужики, выставили пред княжеские окна калеку?
Обозники смутились, стали оправдываться:
— Не калека это, а гусляр.
— Ну так почто гусляра приволокли? Пиры князь правит вечером, а по утрам у него боярская дума.
— Из Новгорода я, — еще не отошедший с похмелья, пробормотал Якимушка.
На шум возле крыльца вышел сам Константин в накинутой на плечи волчьей шубе. Обозники, словно подкошенная трава, попадали на колени. Якимушка же как лежал на возу, так и продолжал лежать, только шею вытянул.
— Вот, княже, — сказал постельничий, — хощет видеть тебя гусляр. Я уж толковал ему, что час неурочный, а мужик — всё свое. Из Новгорода он. — И тихо добавил: — Видать, бражник. И так смекаю я, не помутился ли у него рассудок?
Константин, придерживая рукой спадающую с плеча шубу, сошел с крыльца, приблизился к саням.
— А ты почто не падешь перед князем? — сурово спросил он гусляра.
— Поморозил он ноги, княже, — сказал один из обозников. — Ночью зело светел был, вот и недоглядел…
Якимушка пробормотал с натугой:
— Не слушай мужиков, княже, — меня выслушай: от владыки я к тебе с грамоткой.
— С грамоткой, говоришь? — насторожился Константин. — Ну так волоките его, мужики, в избу.
Обозники перепугались — так вон это какая птица! А они над ним потешались, как бы теперь не стряслось лиха: чего доброго, пожалуется на них гусляр, и тогда всем несдобровать… Мешая друг другу, кинулись поднимать певца, бережно внесли в избу, усадили на лавку.
— Ступайте прочь, — вытолкал их постельничий. Крестясь и охая, обозники горохом покатились со всхода.
А Константин вскрыл доставленную Якимушкой грамотку, покачал головой и так сказал гусляру:
— За весточку, доставленную мне от Митрофана, спасибо тебе, Якимушка. А в награду за то отдаю я тебя Кощею. Славный он лекарь и на ноги тебя поставит. И с тем же прощаю тебе твою вину: что, как упился бы ты и вовсе замерз и грамотки мне не доставил? За сие полагается тебя бить батогом.
— А как же обещанная владыкой награда? — взмолился гусляр.
— Али моих слов не слышал? — нахмурился князь. — Али и впрямь отдать тебя на расправу моим отрокам, чтобы впредь был умнее и знал, где князево дело, а где мужичье?
Все сказал Константин, отвернулся, дальше вести разговоры с гусляром не стал.
Два дюжих гридня, подхватив под руки, отвели Якимушку к Кощею.
Кощей воскликнул:
— А не ты ли это тот малый, что ходил со старым Ивором?
— Я и есть, — не без гордости отвечал Якимушка. Вона как: и после смерти своей оберегал его и помогал ему Ивор.
И добавил:
— Нынче и меня всяк в Новгороде знает.
— А вот я так не слыхал, — с усмешкой отвечал Кощей и велел снимать обувку. Увидев обмороженные ступни, рассердился:
— И как тебя только, гусляр, угораздило?! Али пьян был, что не поберегся стужи?
— Ты, лекарь, поостерегись-ко, — важно оборвал Якимушка Кощея. — Слал меня к тебе Константин не для разговоров.
— Оно-то так, — скрывая улыбку, неопределенно пробормотал Кощей. Наметанным глазом он уж прикинул, что не сильно пообморозился гусляр. Но пальцы на правой ноге придется резать, пальцы ему не спасти.
Как услышал об этом Якимушка, так и побледнел, так и занялся истошным криком:
— Вот она, княжеская благодарность! Почто отдал меня Константин в твои руки? Лучше бы спознался я не с тобой, а с бабкой-зелейницей.
— Не с зелейницей бы спознался ты, а со смертушкой, — спокойно отвечал ему Кощей. — А чтобы не страшно было, так выпей-ко, гусляр, моего медку. Сроду не пивал ты такого настоя.
На сонных травках настаивал лекарь свои меды. И ножи у него были острые, и руки были ловкие.
Крепко заснул Якимушка, улыбался, когда резал ему пальцы Кощей. Проснулся — солнышко на дворе, ноги кровавыми тряпками обернуты. Похолодел он от страха:
— Что же ты наделал со мною, лекарь?
— Молись богу, гусляр. Могло быть и хуже. А в другой раз пить беспробудно поостерегись.
— Не по своей напился я вина, обидели меня обозники. Шубу взяли, сено повыгребли — куды было мне подеваться?
— Знать, неспроста обиделись?
Иворовы песни, так всё для меня. Справедливо ли сие?
— Бог тебе судья, — сказал Кощей. — А обозников за то, что не уберегли тебя, сыскали, бросили в поруб, и старшого велел Константин бить на виду у всех.
— Нешто? — обрадованно сверкнул глазами Якимушка.
Кощей посмотрел на него долгим взглядом и тихо отошел. На миг пожалел он, что спас гусляра. Все было в его руках. Но тут же отогнал от себя грешную мысль. Даже ужаснулся, как могло такое прийти ему в голову.
2
Мстислав был храбр, но не совсем безрассуден, как думали о нем бояре. И не хотел он бездумно испытывать свою судьбу. Многие сломали себе зубы о новгородскую вольницу, многие потерпели неудачу, пытаясь вступить в единоборство со Всеволодом. Пока жив владимирский князь, ухо нужно держать востро.
Потому-то еще до похода и отправился он на Софийскую сторону к владыке.
Митрофан был немало удивлен, увидев на своем дворе Мстислава, велел служкам приглашать его в большую палату. Встречая князя, благословил его, был приветлив, не то что в терему у Димитрия Якуновича.
Мстислав тоже был спокоен и почтителен и даже прикоснулся губами к руке владыки.
Беседа текла плавно, как вода в широкой реке, но покуда главного они не касались. А едва коснулись, как владыка вспыхнул. Однако же Мстислав сразу охладил его:
— Не ссориться я к тебе пришел, отче. О том бы и сам смекнуть мог.
— Я уж о многом смекнул, — сказал Митрофан, — как поглядел на тебя на Боярском совете.
— Там одно было. Здесь пришел я к тебе с другим.
— Так с чем же? — склонил голову набок владыка. Мстислав помедлил.
— Знаю, блюдешь ты в Новгороде Всеволоды права, — заговорил он наконец тихим голосом, — меня же звала к себе противная сторона. И нынче вроде бы оказались мы на разных берегах. Но крови безвинной, поверь, владыко, и мне проливать не хочется…
— Так почто же не вернуть тебе Святослава отцу его? — спросил Митрофан.
— Али ты и впрямь думаешь, что печется Всеволод об одном лишь сыне? — усмехнулся Мстислав. — Сына его держим мы не в порубе и не на хлебе да воде. В твоих палатах ему и вольготно и сытно.
— А всё ж под стражею юный князь. Всё ж Всеволоду нанесен ущерб, и он этого так не оставит, — твердым голосом проговорил владыка.
— Ущерб сей не столь велик, ежели вернем Святослава.
— А дружину его?
— Вернем и дружину. Но удовольствуется ли одним только этим Всеволод? — попытался разведать мысли владыки Мстислав. Было у него подозрение, что не так уж и тихо сидит Митрофан, что сносится он со своими, хоть, никто на выходе из Новгорода задержан и не был.
Однако же владыка ничем себя не выдавал.
— Ты меня знаешь, отче, — снова начал Мстислав, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, — боярам новгородским и я веры не иму и в хитрые их задумки не вникаю. Но хощу, чтобы знал ты и другое: просто так из Новгорода я не уйду. К позору я не привык, и ежели скажет мне Всеволод: «Ступай отсюда», то бог нас рассудит.
«Да, этот не уйдет», — подумал Митрофан. Крепенького сыскали новгородцы Всеволоду супротивника. Однако же не одним только приступом, но и стоянием города берут. Самовольства Мстиславова недолго потерпит Боярский совет, и не только Митрофан, но и Всеволод это знает.
— Ты Святослава-то допрежь всего возверни, — потупясь, посоветовал владыка. — С этого и начинай разговор.
— С этого и качну, — кивнул Мстислав. — А еще велю я посаднику собрать от Новгорода дары.
— И это дивно, — подбодрил его Митрофан. — Только не все бояре с тобой согласятся. Иным легче руку отдать, нежели с кулем ржи расстаться. Вот Ждан, например…
К своему клонил владыка, как мог, помогал Всеволоду издалека. Но на боярах остановилась их беседа. Мстислав или почувствовал неладное, или и в самом деле не хотел покуда ссориться с Боярским советом, а в Боярском совете Ждан со своими дружками — немалая сила. И Димитрий Якунович крепко-накрепко ими повязан: как-никак, а это они ставили его в посадники, сговаривали вече. Да и Мстислава звал из Торопца не Митрофан.
— На Ждана я не в обиде, — сказал князь, насупившись. — То, что он тебе давеча в тереме у посадника перечил, так и сам ты, отче, на всех кричал и стучал посохом.
— Было дело, — улыбнулся Митрофан. Нравился ему спокойный и вразумительный разговор. Многое извлек он из него, утвердился в своих смутных догадках. Вовремя отправил он гонца с грамотой. Если будут молодые князья расторопны и настойчивы, если поставят своим условием гнать Святославовых притеснителей, Ждана и иже с ним, а Мстислав, боясь кровопролития, примет это условие, то крепко пошатнет он под собою новгородский стол.
И, боясь до времени насторожить князя, владыка сказал:
— То, что печешься ты о мире, зело похвально. И я всегда с тобою, так и знай. Не откажет тебе Всеволод, а ежели и заупрямится, то самую малость. А что не об одном сыне своем печется он, то и дитю неразумному ясно: хощет владимирский князь жить с Новгородом в любви и мире. Сам посуди, княже, как пребывать Всеволоду в спокойствии и слушать долетающую с берегов Волхова разнузданную брань?.. А како расправился посадник со Святославом?
Голос Митрофана вдруг снова возвысился, а посох будто сам по себе застучал в половицы. Мстислав охладил его:
— До срока не гневайся, отче. И я с тобою согласен: самоволию новгородскому давно пора положить конец. Негоже это, чтобы были князья у Боярского совета на побегушках. А покуда благослови, — и Мстислав стал на колени.
— Во имя отца и сына, — перекрестил его Митрофан, а сам в это время с тревогой подумал: «Что, как не дошла до князей моя грамотка? Что, как зря понадеялся я на гусляра?». И тут же его просветлило.
— Хорошо бы, княже, — сказал он, стараясь не выдать волнения, — хорошо бы послать тебе встречь Всеволодовым сынам не простого дружинника, а знакомого им человека. Да и Святославу было бы с тем человеком спокойнее.
— Говори, отче.
— Снаряди-ко ты Словишу гонцом — он и хват, и умом изворотлив. Сделает все, как надо.
— Словишу, так Словишу, — сказал, помедлив, Мстислав, кивнул и вышел.
Митрофан облегченно опустился в кресло, вызвал служку и велел ему разыскать дружинника. Ждать Словишу пришлось недолго.
— Кажется услышала нас пресвятая богородица, — сказал ему владыка. — Сам Мстислав был у меня…
— То-то же, как выглянул я в оконце, вроде показался мне знакомым конь.
— Тебе велено будет проводить Святослава до нашего стана.
— Слава тебе, господи! — обрадованно выдохнул Словиша. — Да нешто вырвусь я из этого узилища?!
— Цыц ты! — оборвал его Митрофан. — Говори, да не заговаривайся: иль мои палаты узилище? Знать, не спознался ты еще до сих пор с настоящим порубом.
— Прости, владыка, запамятовал я, что выручил ты меня из беды, — поклонился ему Словиша. — В твоих палатах жил я, как у Христа за пазухой.
— Гляди мне, — погрозил ему Митрофан перстом, — в другой раз не запамятуй: сдается мне, что не добрался до наших гусляр, так ты передай все, что в той грамотке писано.
— Можешь на меня положиться, владыко, — сказал Словиша, — Князей я упрежу и все сделаю, как ты повелишь.
— Святослава береги.
— Сам паду, а князя в обиду не дам.
— Бояр стерегись. Бояре тебе больше других в опаску.
— Постерегусь, отче.
Со Словишей долгие разговоры заводить — только время тратить. Понял он все и с полуслова. Теперь Митрофан был спокоен: дело сделано, а все остальное не в его власти.
А на дворе посадника в тот же день, но чуть попозже, случился изрядный переполох. Доносчики быстро справились со своей работой. Не успел Мстислав и съехать с владычного двора, как у ворот Димитрия Якуновича вынырнул из толпы неприметный мужичок: треух сбился на ухо, из продранных чеботов торчат голые пальцы. Загрохотал колотушкой.
— Чего тебе, голь перекатная? — отворил калитку воротник. — Иди куда глаза глядят, а здесь тебе не подадут.
— Тебе отколь знать? — сказал нахальный мужичок и просунул в калитку ногу. — Здесь-то мне, кажись, и подадут. А ну-ка, поворачивайся — зови ко мне тиуна, да поживее.
Голос у мужика твердый, глазки так и секут — затрусил воротник к тиуну, калитку с перепугу отворенной оставил. А когда вернулся с тиуном, незваного гостя и след простыл.
— Чего поднял меня со сна! — рассердился тиун и влепил воротнику затрещину.
Юркий же мужичок тем временем уже сидел в повалуше у Димитрия Якуновича и рассказывал, как наведывался ко владыке Мстислав и как провожали его со двора со всем почтением.
Скоро тот же мужичок обежал бояр, и стали съезжаться на Ярославово дворище богатые возки, слуги сопровождали думцев, на всходе встречал их посадник.
— Худо дело, бояре, — сказал Димитрий Якунович, когда все были в сборе. — О чем говорили владыка с Мстиславом, мне не ведомо. Но, чай, не меды пить приезжал к нему князь.
— Оно и понятно, — кивали думцы, — медов и на Городище вдосталь.
— Вот и выходит, — продолжал посадник, — что одно говорит Мстислав в моей избе и совсем другое — у владыки. Что делать будем?
— Сказывай прямо, — подал голос больше других обеспокоенный Ждан, — не замиряться ли решил ты со Всеволодом?
— Я-то завсегда с вами, — сказал Димитрий Якунович, — а вот за Мстислава не поручусь. Что-то не то у князя на уме.
— Он и на совете задирался, — напомнил кто-то, а допрежь того торговался с нами из-за трети.
— Одно слово, нет ему нашей веры.
— А князю все равно, — сказал посадник. — И вот почто звал я вас: не приставить ли нам к Мстиславу верных людишек, чтобы без нашего дозволения не сту пил он ни на шаг и никаких разговоров со Всеволодовыми сынами без нас не заводил?
— Ох, и толков ты, посадник, — одобрил его лохматый Фома. Домажир поддержал приятеля:
— Ежели кого выбирать, так пошли меня, Митя. Мы со Мстиславом с каких еще пор вместе!
Быстро работала у Домажира голова. Свою выгоду он в любом предприятии сыщет. Знал ведь боярин, что первая добыча завсегда возле князя. А где дружине кусок, там и он. Если же одолеют Всеволодовых сынов, то всякого добра навезут с собою столько, что и не примут старые бретьяницы — придется рубить новые. А он человек запасливый: когда еще свез себе на двор новые бревна… Зря, что ли, старался?
— Хорошо, — сказал посадник, — пойдешь ты со Мстиславом. А еще Ждан.
— Стар я, Митя, — вдруг запротивился боярин, будто чуял неладное, — куды мне по санному-то пути?..
— Тогда пущай идет с Домажиром Репих.
— Не пожалеешь, — сказал Репиху Домажир, — вот и Фому еще возьмем с собой.
Отказ Ждана смутил Репиха, стал и он юлить и ссылаться на разные хвори. Зато Фома согласился сразу, он больше на Домажира поглядывал: этот не даст маху, этот мимо рук ничего не пропустит.
Скоро Димитрий Якунович всех отпустил, велел остаться у себя Фоме и Домажиру. Ждан тоже замешкался. Глядя на него, замешкался и Репих.
Сели к столу впятером. Вспомнив, что так же они сидели, когда впервые объявился Димитрий Якунович в Новгороде, посадник улыбнулся.
— Есть у меня, бояре, преданный мужичок, — сказал он. — Возьмите с собой, он вам сгодится: стрелу там метнуть али ножичком побаловаться…
— Господь с тобой! — отстранился от него Домажир. — Уж не на князя ли ты замахнулся?
— А хотя бы и на князя? — вызывающе глянул на него посадник и тут же засмеялся: — Эко взбредет же тебе, боярин, такое на ум. А всё же смекай.
— Не, — сказал Домажир, — я с вами не пойду.
И стал, пыхтя, напяливать на себя шубу. Тяжело думая, Ждан продолжал сидеть.
— А ты почто не выйдешь со своим приятелем? — спросил посадник.
Ждан поморщил лоб, поскреб ногтем столешницу:
— А я что? Я завсегда с вами, бояре…
3
Пришел срок, и встали два войска супротив друг друга. Всеволодовы сыновья выжидали в Твери, Мстислав — в Вышнем Волочке.
Святослава со Словишей и с другими владимирскими дружинниками содержали хоть и не под стражей, но присмотр за ними был бдительный. О каждом их шаге исправно доносили Мстиславу.
Как-то погожим зимним утром (все истомились в ожидании) в избу явились двое дружинников, велели молодому князю собираться.
— Что за спешка такая? — встревожился Словиша.
Дружинники попались разговорчивые.
— Да вот, — сказал один из них, — будто бы возвращают Святослава к батюшке. А обоз с дарами уже стоит на дороге ко Твери.
— Это как же возвращают? Это какой же такой обоз? — так и подскочил Словиша.
— Ты нас понапрасну не пытай, — засмеялись дружинники, — что сами слышали, то и тебе передаем. Не хощет князь наш ссориться со Всеволодом — вот и передает отцу его возлюбленное чадо. Почто зазря проливаться безвинной крови?
С тем и ушли. И Святослав ушел с ними. Словиша досадовал: дети они с владыкой, дети и есть — подразнил их Мстислав сладким пряником, а сам поступил по-своему. Не дойдет до князя Митрофанова весточка (откуда было знать Словише, что гусляр добрался до Твери в срок?).
Что делать? Как определить Мстиславовых послов? — вот какая дума мучила Словишу.
И решил он, что, покуда не поздно, нужно выбираться из города, сыскать доброго коня да и скакать во весь опор — авось еще не все потеряно.
…Ах, как жжется гибкая плеть, ах, как кусаются острые шпоры, — вскинув гордую морду, рванулся конь в городские ворота, только прянули от него на стороны перепуганные воротники.
Тут бы в самый раз и оглянуться Словише, тут бы и поосторожничать: не притаился ли кто-нибудь за городницей, не подглядывает ли за ним, не сдергивает ли с плеча тугой лук.
Мужичонка в потрепанном треухе, сам хиляк и невзрачный с виду, выдернул из тулы стрелу, тетиву натянул, пустил каленую вослед одинокому всаднику.
Вот она, смертушка, где настигла дружинника — стрела прободала его кафтан, вышла у самого горла. И упал Словиша на гриву коню, и набравший скорость рысак не остановился, так и нес обмякшего седока по белой дороге…
— Неспроста, неспроста поспешал дружинник, — сказал Ждан, выслушав прибежавшего к нему с городницы мужичка. — Ловко ты его подцепил, а уверен ли, что наповал?
— Как неуверену быть, боярин? Вон и конь к своей коновязи возвернулся, а Словиша лежит на дороге. Коли хошь, так хоть сам на него взгляни.
А Мстиславов обоз с послами и со Святославом двинулся тем часом через те же ворота, через которые недавно выехал Словиша. И первое, на что наткнулись скакавшие впереди, было бездыханное тело с торчащей из спины стрелой. Святослава, ехавшего в возке, охватило недоброе предчувствие, едва только послышались встревоженные голоса.
Откинув полсть, он высунулся и поманил к себе гридня:
— Что за переполох на дороге?
— Сказывают, — отвечал гридень, придерживая коня, — что наткнулись на убитого человека.
— Уж и впрямь убитого? — с возрастающей тревогой переспросил князь.
— Может, и поранетого, — сказал гридень, привставая на стременах и вглядываясь в столпившихся возле тела воинов.
— А ты погляди-ка да мне скажи.
— Мы могем, — кивнул гридень и поскакал по дороге. Тем временем и княжеский возок подтянулся к злополучному месту.
— Ну что? — спросил Святослав возвратившегося гридня.
— Кажись, дышит…
— Дай-кось и я погляжу.
Дружинники расступились перед князем. «Бог ты мой — Словиша!» — сразу же узнал раненого Святослав. Двое приподняли обмякшее тело, повернули лицом к князю.
Глаза Словиши были приоткрыты, в них еще теплилась жизнь.
Святослав склонился над дружинником.
— Да кто же это тебя? — спросил он и обвел окружающих подозрительным взглядом.
— Прощай, княже, — едва слышно прошептал Словиша. — Прощай и братьям своим передай… и Всеволоду…
Но страшная боль оборвала его слова. Струйка крови медленно стекла на подбородок.
— Стрелу-то… выньте, — прохрипел Словиша.
— Ишь, как мается, — шептались между собою воины. Один из них приблизился и взялся за стрелу. Святослав зажмурился. Когда он открыл глаза, все уже было кончено. Словиша лежал на снегу спокойно, вытянув вдоль туловища отяжелевшие руки.
Тут от ворот подскакал на сивом мерине боярин Ждан и с ним еще трое.
— Что, что стряслось-то?
У Святослава вздрагивали губы. Но князю плакать не к лицу. Сдержал он себя, шагнул к возку, остановился на полпути, обернулся, с ненавистью посмотрел на боярина:
— Мало тебе крови, Ждан?
Боярин глыбой высился в седле, угрястое лицо его подергивалось не то от волнения, не то от скрываемого смеха.
— Да что ты, княже? Почто меня-то при людях честишь? Кого хошь спроси, только нынче выехал я из ворот. Мстислав послал узнать, почто сгрудились вы на дороге…
Святослав не сказал ему больше ни слова, сел в возок, через некоторое время снова высунулся из-под полсти:
— Словишу-то не бросайте, положите на сани. Как возвернусь во Владимир, так схороню в родной земле.
— Как же, как же, — засуетился боярин. — Нешто бросим? Ты, княже, не сумлевайся.
И во второй раз пронзил его твердым взором Святослав. «Волчонок!» — едва не вскрикнул Ждан в сердцах.
Но князь и мысль его понял, резко задернул полсть, обессиленно откинулся на подушки.
Глядя вслед обозу, Ждан мстительно улыбнулся:
«Ну что, князюшко, это тебе, чай, не под батюшкиным крылышком».
Однако же, как ни успокаивал он себя, а глодала тревога. Все равно что угодившая в Словишу стрела и у него застряла под сердцем.
«Старею, старею», — с жалостью подумал о себе боярин и развернул коня обратно к городу.
Мстиславу он сказал:
— Должно, разбойники подстерегли дружинника — стрела-то не наша.
А вечером боярин кликнул к себе проворного мужичонку:
— Сгинь.
И сгинул мужичонка. Никто даже припомнить его не мог, никто не видел, как взбирался он на городницу, Один только воротник, кажись, что-то такое припомнил, вроде бы с вала метнули стрелу. Но, когда Мстислав стал допрашивать его с пристрастием, от слов своих отказался:
— Может, почудилось, княже. Глядел-то я совсем в другую сторону…
4
Юрий и Ярослав сидели в шатре старшего брата. Константин полулежал на ковре, смотрел на них, прищурившись, с нетерпением.
Юрий говорил:
— Сладкоречивы Мстиславовы послы. Зря слушаешь ты их, Костя, зря время теряешь. Привезли они нам Святослава и дары немалые. Ладно. А почто Словишу убили до смерти?
Ярослав поддерживал его:
— У Мстислава кишка тонка супротив нас. Боится он открытой встречи. А у нас вона сколько войска! Только знак подай…
Некоторые бояре тоже были на стороне молодших князей и зело дивились неуверенности Константина:
— Почто мешкаешь, княже? Нынче в самый раз внезапно ударить на Мстислава.
— Будя им измываться над нашими людьми, — говорили они. — Словишу-то, поди по наущению посадника кончили. Скакал он к нам не простым гонцом — иначе зачем под стрелу подставлять спину? Упредить о чем-то хотел.
«Да, — мысленно соглашался с ними Константин, — неспроста поспешал Словиша. Не Митрофан ли его поторопил? Но уж пришел ведь к нам в стан гусляр — и грамотка была при нем честь по чести».
Во многом на отца своего был похож старший сын Всеволода, в безоглядчивости ни одного, даже самого верного, дела не начинал. И на меч полагался меньше, чем на смекалку.
Всех он выслушал, никого не перебивал и, лишь когда все высказались, сам взял слово:
— Есть правда в ваших речах. И я так думаю, что новгородцы из страха мира просят. Но когда они увидят, что мы от них более, нежели терпеть можно, требуем, то, вооружась, будут себя оборонять. Иные тут говорили, что, мол, настала пора указать Мстиславу: ступай, мол, из Новгорода в Торопец. Вотще, не послушает он нас, его вече избрало. Значит, нужно нам его принудить. Но кто может на слепое счастье надеяться? И ежели им счастье послужит, то мы примем стыд и вред, а новгородцы еще больше возгордятся…
Боярин Яков тут же принял сторону Константина:
— Вот слова истинно Всеволодовы, как если бы отец ваш сидел перед вами, — обратился он к молодшим братьям. — Слепое счастье испытывать и отец ваш не любил. Вспомните, сколько дён стоял он против Святослава на Влене, а свое выстоял и ни единой души безвинно не загубил.
— Так то был Святослав! — воскликнул Юрий. — Великий киевский князь. А Мстислав кто?
— Не хули врага своего, княже, — спокойно проговорил Яков. — О Мстиславе молва идет, как о смелом князе. В бою равного ему нет.
— Так мы, выходит, трусливы? Ну, уважил ты нас, боярин, — еще больше разгорячился Юрий.
— На то и приставлен я к вам Всеволодом, дабы сдерживать ваш нетерпеливый нрав, — строго, как наставник, сказал Яков. — И еще раз говорю, с Костей я во всем согласен. И позора нашего в этом нет — не мы его, а он нас просит о мире, и Святослава нам возвратил, и многие прислал дары. Останется нами доволен Всеволод. И владимирцы нас поддержат: кому охота без пользы помирать?
— Это как же без пользы-то? — не унимался Юрий. — Чай, за свои права…
— А коли свои права и без крови можно отстоять, да еще и с немалой честью, разве это не победа? Полно уж. Скажи лучше, княже, что захотелось тебе помахать мечом, показать свою удаль, но для этого и другой сыщется случай.
— На охоте вон удаль свою показывай, — произнес Константин.
Юрий вспыхнул. Вон на что намекает старший брат. Совсем недавно был такой случай — выгнали на Юрия матерого лося, а он замешкался, стрелы наготове не оказалось, вот и пришлось метнуться в кусты.
Выходит, в смелости его усумнился Константин.
— Ну, спасибо, брате, — сказал Юрий. — Вовек я тебе присказки этой не забуду.
Константину не хотелось вступать с ним в спор, сказанное Юрием он равнодушно пропустил мимо ушей.
Яков спросил:
— Так как решили, князья? Время ли звать Мстиславовых послов?
— Еще не договорили мы, — начал было Юрий, но Константин оборвал его:
— Зови!
Яков встал и вышел из шатра. Юрий сжал кулаки. «Ладно, придет срок — еще сочтемся», — подумал он о брате.
Степенно, один за другим (руки на животах), в шатер входили новгородские думцы. Впереди — длинный и тощий Репих с желтым, будто восковым, лицом.
Константин принимал их с честью, рассаживал, придвигал им меды и яства. Будто други давние встретились, будто и не о жизни и смерти шел разговор. И этому учил его отец, и науку его сын запомнил накрепко.
Репих, принимая чару, справлялся о здоровье Всеволода и о здоровье всех его сыновей по отдельности.
— Слава богу, все мы здоровы, — отвечал Константин. — А здоров ли Мстислав?
— И Мстислав, слава богу, здоров.
Потом перешли к главному — тоже неторопливо и соблюдая посольский обычай.
Приняв условия Мстислава и соглашаясь на мир, Константин вдруг высказал еще одно условие, о котором на совете не было сказано ни слова:
— А еще хотим мы, дабы наказаны были гнусные возмутители, кои и ввергли нас в недостойную распрю и едва не толкнули братьев к пролитию невинной крови. Святослав от них же пострадал, а Всеволод зело опечалился…
У Репиха кусок застрял в горле, поперхнулся он, закашлялся, вмиг утратил былое спокойствие. Боярин Яков приподнялся в изумлении, Юрий и Ярослав недоуменно переглянулись.
— Кого имеешь ты в виду, княже? — спросил Репих, так и не дожевав куска.
— А кто же, по-твоему, смущал новгородцев и подвигнул их на расправу с нашими дружинниками, кто Святослава бросал в узилище?
Репих помедлил, чтобы дать себе время оправиться. Наконец он сказал:
— Как отправлял нас ко Твери Мстислав, об этом у нас разговора не было, и обещать я тебе, княже, ничего не могу.
— Ну так возвращайтесь, — сказал Константин, — и передайте все, что слышали. А пуще всего хотим мы видеть наказанным боярина Ждана. Зело зловредный он человек, и через него больше всего унижений принял Святослав, да и мы с братом нашим вместе. Таковы мои последние слова, и боле нам говорить не о чем. А буде воспротивится Мстислав, то пусть выводит свою дружину, мы же выведем свою и поглядим, как нас бог рассудит.
— Что это ты еще такое выдумал, княже? — набросился на него Яков, едва только послы удалились из шатра. — Только что пекся ты о мире, а нынче снова ввергаешь в распрю.
— А ты как думал, боярин, — окинул его Константин ледяным взглядом. — Послы прибыли к нам со своим, а мы свое требуем. Почто бы тогда и сходиться нам, ежели бы мы все приняли, что Мстиславу на руку, и разошлись по домам. Пущай-ко подумает он, что не на простаков нарвался. И ежели в самом деле ищет он мира, то будет с нами согласен. А ежели кривил душой то нечего было послов гонять.
Теперь Юрий восхищенно смотрел на брата.
— Прости, Костя, — сказал он, — что худо я о тебе подумал, — и подмигнул смущенному Якову: — Ась, боярин, никак, наша взяла — не пора ли и сбор трубить?
— Экий ты торопыга, — улыбнулся Константин. — Нешто я на драку напрашивался?
— А то как же! — вскричал Юрий.
— Погодь-ко, остынь маленько. Думаю я, согласится с нашим условием Мстислав. Покуда он не в полной силе еще, да почто лезть ему в драку из-за бояр. Они ему в собственом дому хуже чем нам надоели…
Только теперь стал доходить до Якова тайный смысл совершившегося, только теперь оценил он по-настоящему сметливость Константина:
— Так вот куды ты гнул. Молод, а изворотлив. Батюшка останется тобою доволен…
А Репих и с ним все послы покидали утром Тверь с унылым видом. Желанной победы Мстиславу они так и не везли, а унижений хлебнули большою мерой.
Но еще и другое беспокоило Репиха: ведь если согласится Мстислав с Константином, то в числе самых близких к Ждану людей окажется и он, родовитый и удачливый боярин. Как же быть? Едино что надеяться на Ждана.
Не передать Мстиславу Константиновых условий Репих не мог, а Ждан пущай разубеждает князя — не о чужой, о своей голове пойдет речь. А за свою голову и расстараться можно.
И решил он, что как въедет в Вышний Волочок, то прежде чем торопиться ко князю, навестит своего закадычного дружка. Бояре без него Мстиславу ничего не скажут.
Так Репих и поступил.
— Вы поезжайте-ко, — сказал он спутникам, — а я мигом обернусь. И ко князю без меня не ходите. Говорить со Мстиславом буду сам.
— Беда, боярин! — ворвался он в избу к Ждану. — Такая ли беда, что и в худом сне не привидится. Ты вот меды распиваешь, а не догадываешься, что нависла над твоей и моей головой секира.
Репихова тревога Ждану быстро передалась. Зря боярин беспокоиться не станет.
— Садись, — указал он Репиху на лавку, — да все по порядку сказывай.
И Репих рассказал Ждану о переговорах с Константином.
— Достойный родителя своего вырос сынок, — выслушав его, покачал головой Ждан, — а когда сидел у нас в Новгороде, так куды какой покорный был.
— Один щенок в дворняжку израстается, а другой — в борзую, — сказал Репих. — Нынче схватил он нас за пятки.
— Прав ты. Дело наше худо, боярин. Мстислав за нас не вступится.
— А как же быть?
— И ума не приложу. Но только, как агнца на заклание, ему меня не свести.
— А меня?
— Обо всех речь. Небось и Фоме с Домажиром сегодня икается.
Ждан быстро оделся, и они поехали к Мстиславу вместе.
— Скажи, как службу мою справил да как встретили тебя молодые князья? — обратился Мстислав к Репиху.
— Князья встретили нас с почтением и за дары тебя благодарят. И Святослав рад был увидеться с братьями, — пряча глаза, пробормотал Репих.
— Что-то никак не пойму я тебя, боярин, — удивился Мстислав. — Вести радостные принес, а сам морщишься, как от кислого?
— Не все радостно, что я принес, есть и заковыка, — покорно отвечал Репих, исподлобья взглядывая на Ждана. — Не только твое принял, но и свое условие поставил Константин. И тогда нет препятствий к миру…
— Да что же это за условие? — нетерпеливо придвинулся к нему князь. — Говори, не бойся.
Репих посопел, посопел и сказал:
— Пущай-де Мстислав, так Константин говорил, накажет наших оскорбителей и всех тех, кто бросал в узилище Святослава и всю владимирскую дружину…
— Вона что тебя смутило! — засмеялся, отодвинувшись, Мстислав. — Да сие каждому ведомо: боярин Ждан, ты да Фома с Домажиром зачинщики. Вам и отвечать!
Репих даже с лавки вскочил, услышав такое, затрясся от возмущения:
— Предаешь верных слуг своих, княже?
— Смилуйся! — возопил, падая на колени, Ждан.
— Да что же вас так разобрало-то? — с улыбкой разглядывал их князь. — Не сегодня же велю я вам ссечь головы, еще поживете. А ссориться со Всеволодом из-за вас я не хочу.
— Что ж, что не сегодня-то, — пролепетал Ждан, — и завтра помирать мне не хочется.
Мстислав подумал.
— Хорошо, бояре. Сам я над вами расправу чинить не мочен, — сказал он, — и в Новгород в оковах не повезу. Но и от веча не скрою, какая назначена за вас цена.
Как побитые псы, вышли Репих со Жданом из его избы. Теперь и между собой настало время сводить счеты.
— Всему ты зачинщик, — сказал Репих Ждану, — все с тебя началось.
— А не ты ли Димитрию Якуновичу нашептывал, чтобы брали Святослава в железа?
— Нет, ты! Митрофана кто хотел туды же со всею дружиною — в поруб? А кто Словишу на чепь сажал?
— А вот я тебя посохом!
Но Репих ждать не стал, когда его ударят, — сам размахнулся и огрел Ждана поперек спины. Тот так и взвыл, так и завертелся на месте.
— Аль еще добавить? Вот тебе и еще!
Но от второго удара Ждан увернулся, хватил Репиха посохом по голове.
К месту свалки быстро сбегался народ. Люди толкались, спрашивали:
— Кого бьют?
— Бояре подрались.
Толпа смеялась и улюлюкала. Отбросив посохи, бояре под шум и хохот вдохновенно валтузили друг друга кулаками. А там вцепились в бороды, покатились наземь, — едва растащили их князевы дружинники.
А Мстислав как раз вышел на крыльцо. Драку он видел в оконце, сидел, посмеивался.
Бояре разом очухались, как были в снегу — повернулись, поклонились князю. Подобрали посохи, побрели в разные стороны.
Малой ценою был достигнут мир. Один только Словиша и пал в этом походе, а беспутный гусляр Якимушка возвратился в Новгород калекой.
Глава шестая
1
Мстислав умел держать слово. И в этом превосходил он иных из князей.
Бояре Ждан и Репих не чувствовали за собой присмотра, в оковы их не брали, на пиры звали, как и прежде. Но стали сторониться их остальные думцы.
И волей-неволей поссорившись, снова стали они меж собой искать близости. В Новгороде перед посадником и перед вечем им вместе ответ держать.
Вестуны уже обо всем сообщили Димитрию Якуновичу. Однако же, несмотря на то, что все обдумать времени было достаточно, при виде Ждана с Репихом он растерялся.
Ведь не кто иной, как Ждан, расстарался, когда его ставили в посадники. Да и Жданово первое слово было, чтобы звать в Новгород Мстислава.
И никак не мог посадник в толк взять, отчего это так легко согласился Мстислав с Константином. И так рассуждал: пока за Ждана взялся, а немного времени пройдет — возьмется и за меня. Два лежало перед Димитрием Якуновичем пути, два было выбора: либо отдаться полностью на волю князя и тем заслужить его доверие либо поддержать бояр и вести дело к тому, чтобы изгнать Мстислава. Какой путь предпочесть? И то в одну сторону он метался, то в другую. За этими сомнениями и застали его Ждан с Репихом, когда вошли в терем и остановились у порога.
«Как же быть-то, как же быть?» — суетливо думал Димитрий Якунович.
— Принимай, посадник, неурочных гостей, — с кривой улыбкой сказал боярин Ждан и продвинулся, как бывало, уверенной походкой на свое обычное место возле косящатого окна. Репих, снимая шапку и крестя лоб, семенил за ним следом.
— В любой час вы у меня ко времени, — откликнулся посадник и, отворив двери, крикнул в переход: — Эй, кто там! Несите вечерять, да чтобы быстро!..
Сел против гостей с елейной маской на лице, приготовился слушать.
— А говорить нам нечего, — сказал Ждан. — Все, поди, и до нас слышал.
— Слышал, слышал, — повздыхал посадник. — Удивлен зело и огорчен был и, как помочь вам, не знаю.
Репих кашлянул, Ждан помолотил пальцами по столешнице:
— Вот как встретил ты нас, посадник.
— А что же встретил-то? Встретил да и уважу — свеженькой стерлядкой попотчую. Мужички наловили, с утра расстарались. Будто знал я, что вы будете ввечеру.
— Пустяковую завел ты с нами беседу, — нахмурился Ждан. — Про стерлядок пущай сокалчие думают, а нам и о чем другом подумать срок приспел. Старый-то должок за тобой, — может, не забыл? Аль память отшибло?
— Чего же память-то отшибло? Все помню, — сказал Димитрий Якунович.
— Ну, ежели помнишь, так и легче зачин. Али вовсе без зачина обойдемся?
— Можно и без зачина.
— Значит, не забыл, кто тебе посадников посох добывал? — уперся в него взглядом Ждан.
— Не ты один.
— Да с меня все пошло. Вспомни-ко, Митя, как убегал ты от Словиши по огородам. Не я ли тебя от поруба спас?
— Ты и о себе тогда думал.
— Вестимо. А все ж таки?
Трудным представлялся посаднику этот разговор, но еще труднее получился он на самом деле. Накрепко его веревочка связала со Жданом, много образовалось узелков. А распутывать все по одному надо, не то другие распутают да и притянут заодно с боярином к ответу.
И еще Ждан такое сказал:
— А мужичонку со мною ты посылал, он и пронзил Словишу стрелой.
Нет, просто так не отвертеться Димитрию Якуновичу. Вот ведь беда-то какая. И хоть не хочется, а беседу со Жданом нужно вести степенную, по-пустому не гневить боярина.
— Зря ты хватаешь меня, Ждан, за горло, — проговорил он наконец. — Я ведь тебе не супротивник, и не моя это задумка, чтобы верных моих друзей призвать к ответу. Сам подумай, на кого же мне тогда опереться, ежели вас не будет рядом. А что до стерлядки, так ведь она разговору не помеха. Вот отведаем рыбки, да мед ку попьем, да вместе и подумаем, как дальше быть. Одно тебе скажу: на свою голову призвали мы Мстислава.
— Это нынче ты так заговорил, — усмехнулся Ждан, — а ране радовался. Кабы не Мстислав, так и не сидеть бы тебе в этом тереме, а изгнивать в узилище.
Двери открылись, и в повалушу вошли слуги с яствами. Расставили на скатерти миски и солила, кланяясь, удалились. За накрытым столом посадник почувствовал себя увереннее. Приятно ему было выступать в роли рачительного и хлебосольного хозяина. Да и любой, даже самый трудный, разговор обретал за угощеньем непринужденность и простоту.
И рыбка, и мясо, и приправы — все оказалось кстати. Увидев такое изобилье, бояре вдруг вспомнили, что с утра не побывало у них во рту ни маковой росинки. Ведь только тем они и заняты были, что толковали да перетолковывали о своем будущем. Не до еды было, не до питья.
И все бы хорошо, да вдруг Репих ни с того ни с сего сказал с набитым стерлядкой ртом:
— Все стерпится, покуда смерть, как мышь, голову не отъест.
Ждан так и бросил перед собой ложку:
— Будя, посадник. Угостил ты нас рыбкой — теперь мудрым словом угости.
— Да где ж у меня мудрые-то слова? — поперхнулся Димитрий Якунович. — За мудрым словом ступали бы ко владыке. Он с богом накоротке.
Глаза у Ждана налились кровью:
— Это к кому же ты нас посылаешь?
— Не беленись ты, Ждан, — сказал смущенно Димитрий Якунович. — Я ли не за вас? А коли пришли в гости, так почто ругать хозяина?
— Сыт я, Митя, — отодвинул от себя миску Ждан. И чару недопитую отставил, — Вижу я тебя насквозь: и по сей час не решил ты, чью держать сторону. Али не угадал?
— Все мы по одну сторону, боярин, — сказал Димитрий Якунович и тоже отставил чару, — Не о себе токмо, но и о Новгороде я пекусь.
— Новгород и без нас проживет, — отрезал Ждан, — а нам друг за друга держаться надо. Думаешь, ежели Всеволодова сторона верх возьмет, так про тебя и не вспомнят? Еще как вспомнят, еще и батюшкины грехи на тебя повесят — вот тогда и закрутишься, вот тогда снова к нам прибежишь. А мы тебе — кукиш. На-кося, выкуси!..
Димитрий Якунович отшатнулся от него и прикрыл лицо локтем.
— Что, испугался? — злорадно сказал боярин. — Слова не проняли, так иначе тебя проймем.
Встав, он возвысился над притихшим посадником:
— Не нас одних искупают в Волхове, мы и тебя с собою возьмем. И мужичка твово сыщем — пущай всем расскажет, как ты его подстрекал на гнусное душегубство.
Димитрий Якунович засмеялся тихо, потом громче, потом и вовсе захохотал. Бояре смотрели на него с удивлением.
— Во второй раз вспоминаешь ты мужичка, Ждан, — сказал он, стараясь подавить смех, — а его и нет, да и не было вовсе…
— Это как же так не было, ежели был? — покачал Ждан головой. — Сам же я его к тебе и отсылал.
— Отсылать-то отсылал, а по дороге оплошка вышла: сгинул где-то мужичок, до Новгорода не добрел.
Ждан и Репих слушали его оторопело.
— А то, что посох посадника ты мне сунул, — продолжал, все больше вдохновляясь, Димитрий Якунович, — то ведь не меня жалеючи, а из собственной выгоды. Мне же выгоды знаться с вами нет. Вы кашу заварили, вы и расхлебывайте.
«Вот и слава богу, — подумал он, — вот и все само по себе решилось: со Мстиславом я, а ентим потакать — только самому лезть в петлю по доброй воле».
— Вот как ты повернул-то, Митя, — прошипел, приходя в себя, боярин Ждан.
— Да тебя за это!.. — выскочил из-за стола Репих, но Ждан перехватил его поднятую для удара руку:
— Не трожь его, и так на нас много грехов повисло, — и, повернувшись к посаднику, по-потешному поклонился ему в пояс. — Щедро, ох как щедро отблагодарствовал ты, Димитрий Якунович! Исполать тебе.
— Ступайте с богом, коли весь разговор, — отмахнулся посадник.
Стараясь не унизиться, держа спины прямо, бояре вышли. Димитрий Якунович перекрестился на образа, облегченно опустился на лавку, прижался затылком к срубу.
2
От посадника Репих со Жданом метнулись к Митрофану:
— Заступись, владыко!
Митрофан допустил бояр к руке, сам сел на свое место, Ждана с Репихом усадил и лишь после этого спросил с участием:
— Кто обидел вас, бояре?
— Одним словом и не выскажешь, отче, какая постигла нас беда. Так ты уж не торопи и выслушай нас со вниманием, — сказал Ждан.
— Я — владыко и ваш духовный пастырь. Ничего не таите, бояре, сказывайте по порядку.
«Ишь, как надулся, — с неприязнью подумал о нем Ждан, — а ведь давно ли сам страшился переступить порог своих палат». Но теперь только в нем видел он свое спасение. И вел себя почтительно и покорно — не то что в тереме у Димитрия Якуновича.
— Много за нами грехов, отче, — начал он. — И против Святослава мы замышляли, и тебя не чтили в твоем высоком сане. Бес нас попутал, но вот одумались мы и пришли к тебе с покаянием.
— Покаяние всем нам во спасение, — прервал его владыка. — Хоть и поздно, но и то хорошо, что вы одумались.
Надежду подал им Митрофан, и глаза Ждана засветились радостью.
— Мудр и незлобив ты, отче, — заговорил он быстро. — И то, что прогневался ты на нас — всё справедливо. Но простишь ли грешных?
— Христос прощал и нам повелел, — кивнул Митрофан. — Говори дале.
— Помирился Мстислав со Всеволодом…
— Слава тебе, господи, — осенил себя крестом владыка. И бояре, глядя на него, тоже перекрестились.
— Худой мир лучше доброй ссоры, — сказал Митрофан.
— Мир-то и впрямь худой, — подхватил Ждан и оглянулся на Репиха.
— Худой, отче, и впрямь худой, — вторил боярин.
— Да чем же худ-то мир?
— А тем худ, отче, что откупился Мстислав от Всеволодовых сыновей нашими головами, — сказал Ждан.
— Не то говоришь ты. Зрю я: головы ваши на своих местах.
— Покуда на своих местах, а вот что дале будет? Обвинил нас Константин, будто мы всей смуты зачинщики…
— А разве нет? — сказал владыка. — Ты же сам, боярин, только что винился, и в грехах своих каялся, и при том говорил: мы-де на Святослава и на тебя замышляли. А ежели вы не зачинщики, то почто каяться ко мне пришли?
Как с утра не задастся день, так и до вечера все идет кувырком. Начал Ждан во здравие, а кончил за упокой. От такого крутого поворота беседы оба боярина смутились и потупили взоры.
— Гляжу я на вас, — сказал Митрофан, — и думаю, что не прощения за грехи свои пришли вы ко мне просить, а искать защиты от возмездия. И ежели нынче я вас прощу и огражу от Мстиславова гнева, то завтра вы опять же приметесь за старое, а мне от вас пощады не ждать.
— Что ты, отче! — в отчаянии вскричал Ждан. — Разве мы похожи на шатучих татей?
— Хуже, — сказал Митрофан, ударяя посохом по полу, — хуже вы шатучих татей, ибо из собственной выгоды готовы предать свою отчину. И убийство Словиши — ваших рук дело. Так кто же вы есть?
И тут Ждан решился.
— Не мы убивали Словишу, — сказал боярин. — И даже зная, мог бы я промолчать. Но коли винишь нас в несодеянном, то всю правду выскажу я тебе, владыко, а ты поступай, как знаешь. Словишу Митька прикончил, и то не своими руками, а подговорил на гнусное дело своего раба.
— Митькиных рук дело? — насторожился Митрофан. — Да как же Митькиных, ежели самого его не было во Мстиславовом войске?
Ждан придвинулся к владыке и заговорил шепотом:
— Подслушал я, как снаряжал он мужика. А в Вышнем Волчке убийцу я приметил, однако ж поздно было…
— Что поздно-то? Почто князю ни словом не обмолвился? — склонился над ним Митрофан. Дышал тяжело, глядел Ждану в глаза. Жаркий был взгляд у владыки — боярин даже зажмурился от страха.
— Свят-свят, — обомлев, перекрестился Репих и стал сползать с лавки.
Владыка схватил его за руку:
— Куды?!
— Худо мне, отче…
— Сядь.
Угрястое лицо Ждана лоснилось от напряжения.
— Так почто знал про убийцу, а князю не обмолвился? — повторил Митрофан свой вопрос, снова склоняясь над боярином.
— Боялся я, — Ждан провел рукой по мокрому от пота лбу.
— Боялся? Кого?
— Митьку — вот кого я боялся! — выкрикнул Ждан. И вдруг заговорил быстро: — Все так, слышал я их разговор, а Митька меня за дверью словил и тому мужичку показал да и сказал ему: вот, мол, боярин все слышал и ежели кому про нас обмолвится, то у тебя и вторая найдется стрела…
Ловко он соврал. Но Митрофан продолжал стоять, нависнув над Жданом. Не поверил он ему.
— Верь мне, владыко, — взмолился Ждан, — не я, а посадник зачинщик, и, ежели был бы жив тот мужичок, он бы тебе то же сказал.
— Ой ли? — покачал головой Митрофан, повернулся, сел на свое место, задумался.
В палатах сделалось тихо, только в печи потрескивали березовые дровишки.
— А что, — внезапно встрепенулся он, — отколь тебе ведомо, что мужичишка тот мертв?
Снова Ждан оплошал. И снова, потея, выпутывался:
— Так сам посадник мне про то и сказал.
— Что сказал-то? Что?!
— А это когда я ему нынче про мужичонка того намекнул. Рассмеялся он да так и говорит, что мол, убийцу волки давно съели…
— Так, — насупился владыка и сгреб рыжую бороду в кулак. — И ране я подозревал, теперь же зрю воочию: страшное гадючье гнездо свили бояре за моей спиной.
— Всех бояр под одно не ровняй, — заикнулся было Ждан. — Я тебе все сказал, как на духу.
— Не всё! — взорвался владыка. — Не все ты сказал и главное утаил. Про то и словом не обмолвился, что тебе поручил того мужичка посадник. Думал, туманом меня отуманил, а я не простак. Однако же разговор наш не без пользы: открыл ты мне Димитрия Якуновича…
— Так нешто за правду не простишь нас, владыко, так и не заступишься?
— Так и не заступлюсь.
— Тогда нам один путь — правды искать у самого господина Великого Новгорода, — сказал Ждан, и они с Репихом вышли из палат.
3
— Что ты задумал, Ждан? — испуганно спросил его Репих, когда они садились у владычного всхода на коней. — Что такое говорил про Великий Новгород?
— Ежели жизнь дорога, так езжай со мной, — процедил сквозь зубы Ждан. — Не мы с тобой двое ответчики, пущай и Фома с Домажиром не прячутся по своим норам.
Поехали к Фоме.
— Эй, Фома! — застучали в ворота, — Отворяй-ко, да поживей!..
Боярин зевал и почесывался, будто его подняли со сна. Но дотошный Ждан сразу понял по его глазам, что не спал Фома — ждал, знал, что приедут к нему его дружки.
— Вместе мы пировали, вместе нам и похмеляться, Фома, — сказал он хозяину. — Надевай свой лучший кафтан, поедешь с нами.
— Никуды я не поеду с тобою, Ждан, — замахал на него руками Фома, и лохматая его голова затряслась от возмущения. — Зря стучался ты в ворота, зря подымал меня с постели. С сего дня я тебе не товарищ. И тебе, Репих, советую возвращаться домой. Не езди со Жданом по улицам, беду на себя накликаешь.
— Нет, Фома, так легко тебе со мной не расстаться, — пригрозил Ждан. — Ежели я потону, так и ты не выплывешь. Вместе пойдем ко дну. А без дружков моих мне будет скучно.
И он стал звать в горницу слуг:
— Несите боярину вашему лучшее платно, да шапку с алым верхом, да новые сапоги, да пояс с каменьями, чтобы перепоясал он чресла, да меч да седлайте коня!
— Что это ты в моем доме расхозяйничался? — ворчал Фома. Однако же дал себя и одеть и обуть и позволил посадить на коня.
— Теперь путь наш к Домажиру, — распоряжался Ждан.
Домажир встречал незваных гостей в исподнем. Расплылся в улыбке, руки раскинул для объятий:
— Вот радость-то! Входите в избу.
Вошли, сели. Ждан удивился:
— Чему это ты, боярин, обрадовался?
— Да как же так? Али вы ничего не знаете?
— Что надо, то знаем. А в чужие дела нос не суем.
— Да какие же это чужие дела? Князь наш на литву собирает войско.
— Ну и что? Тебе-то что за забота?
— Не забота, а хлопот полон рот, — сказал Домажир, потирая ладони. — Иль не приметили вы, что достроили мне скотницу?
— Вот оно что, — протянул Ждан. — Ну так знай, что скотница тебе ни к чему.
— Это как же так — ни к чему?
— А вот так. Ответ нам с тобою держать. И мне, и Репиху, и Фоме.
— Да мне за что?
— Аль в совете со мною не сиживал?
— Сиживал.
— Аль Митьку в Новгород не звал?
— Ну, звал.
— Аль Святослава не ты брал на Городище?
— Был грех, брал. Так что с того?
— А то, что не всё коту масленица… Одевайся, и поедем с нами.
Поехали. На вечевой площади в подполе купеческой избы сыскали пьяного звонаря. Вытащили за шиворот на свет:
— Ударь в колокол!
Звонарь не сразу сообразил, что к чему, заупрямился. Фома привел его в чувство затрещиной. Только тут разглядел мужичок, что перед ним не простцы, не дружки его бражнички, а важные бояре. Подхватил свисающие порты и — к колоколу.
Сполошный призывный звон поплыл над Новгородом. Прилежно раскачивал звонарь тяжелое било, повисал на веревке, подобрав под себя ноги, старался угодить передним мужам. А те гуськом уже поднимались на степень.
Скоро на площади яблоку негде было упасть. Сбежались кто в чем, тревожно расспрашивали друг дру га, по какому случаю собрано вече, с любопытством разглядывали стоящих на возвышении бояр. Добродушно переговаривались друг с другом:
— Вот этот — Ждан.
— А тощий — Репих.
— С лохматой головой — Фома. А тот чернявенький-то, что за Репиха прячется, — Домажир…
Недоумевали:
— В колокол ударили, а ни владыки, ни посадника не видать.
— Должно, скоро объявятся…
Но Ждан выступил вперед и начал говорить:
— Низкий поклон тебе, господин Великий Новгород!
Толпа задвигалась, зашумела. Голос боярина беспомощно таял в воздухе. На какое-то мгновение Ждан растерялся, и хитрая его задумка вдруг показалась ему никчемной.
Но лица всех были устремлены на него с ожиданием. И, набрав в легкие побольше воздуха, Ждан дрогнувшим голосом вопросил:
— Все ли вы знаете меня, люди добрые?
— Как не знать, — отвечали из толпы. — Говори, боярин, а мы тебя слушаем. Почто колоколом всполошил?
— На вече попусту не зовут. На литву идем — про то мы ведаем. Аль еще какая стряслась невзгода?
— Невзгода, люди добрые, ох невзгода-то, — подбодренный откликами, закатил глаза боярин. — Сызнова провели вас, как простаков, а вы и рады. Думали вы, что волю вам добыли Мстислав с посадником, а они припасли для вас еще горший хомут.
Люди смотрели на него с недоумением. Чудно говорил Ждан и не совсем понятно. Но помалкивали, знали: почти всякий раз на вече начинали смутно. Зато кончали едва ли не всеобщей свалкой. Как-то на сей раз обернется?
— Припасли для вас хомут, — продолжал боярин, — ибо не мир принесли они вам, а позор и унижение. Как были володимирские сверху, так и остались. А им за это давали еще великие дары…
— Да ты-то куды глядел? — послышалось из толпы. — Чай, и сам был вместе со Мстиславом?
— Вместе был, да думал порознь, — нашелся Ждан. — А князь с посадником спелись. Продали они нашу волюшку. Обещали, слышь-ко, Всеволоду за то, чтоб повернул он свои рати, наши головы.
— И енти туды же! — взвизгнул кто-то. — Мало понизовским Мирошки Нездинича?
— А не врешь, боярин?
— Вот те крест, не вру, — все более приободряясь, отвечал Ждан. — Так не пришла ли пора, Великий Новгород, о посаднике и о князе помыслить? Обманывает вас Боярский совет, владыко тож со Всеволодом.
— Владыку мы не избирали.
— Его и митрополит не утверждал.
В толпе были знающие. Не все драли глотку, иные и думали. А среди думающих были и такие, что сомневались.
— Нам бы посадника послушать, — стали требовать они.
— А и впрямь, — подхватили с разных сторон, — почто пришли на вече без посадника? Обвиняете его, а спросить нам не с кого.
— Зовите Димитрия Якуновича! Пущай скажет и он нам свое слово.
А Димитрий Якунович, поднятый колоколом с постели, уже пробивался через толпу к помосту.
В распахнутом кафтане, борода взлохмачена ветром, — Димитрий Якунович вышел вперед и поднял руку, призывая к тишине.
— О чем брехали вам тут бояре, я не слышал, — сказал он убежденно, — но привела их к вам, новгородцы, лихая забота: замыслили они смутить ваши души неверием и посеять средь нас вражду. Не о Новгороде пекутся они, а о своей выгоде. Ко мне сунулись думцы — я их слушать не стал, сунулись к владыке — и он прогнал их из своих палат. Вот и решили они, что вы за них заступитесь. А вспомните-ко, кто недавно на этом же самом месте смущал вас и толкал к убивству? Не те ли же самые бояре? Не они ли насылали вас на Святослава и шли во главе смущенных на Городище? И не они ли накликали на Новгород беду? Не из-за них ли разгневался на нас Всеволод? И не их ли стараниями снова ввергнуты мы в кровавую распрю?..
Красноречив был Димитрий Якунович. До сей поры ни разу еще он с народом так не говаривал. И когда Ждан попробовал отстранить его и еще раз обратиться к вечу, на него закричали со всех сторон:
— Не трожь посадника!
— Изыди, слушать тебя не хотим!..
— Все вы обманщики и кровопийцы!
А кто-то уже подстрекал заколебавшуюся толпу (не один явился Димитрий Якунович):
— С моста их да и в Волхов!
Бояре, подобрав полы шуб, стали пятиться и потихоньку спускаться с помоста, но резвый голос поджег вечников:
— Глядите, куды бояре подались!
К подножью степени, размахивая клюкой, подкатился гусляр Якимушка — самым бойким из зачинщиков он оказался (вернувшись из Твери, владыкой принят он не был, зато посадник его приметил и нет-нет подкармливал на своем дворе).
— Не замай, Якимушка, — сказал ему Ждан, — лучше уйди поздорову с дороги.
Но гусляр замахнулся на него клюкой, промазал и сам рухнул в утоптанный снег. Ждан перешагнул через него, хотел прыгнуть к коню, однако же на полпути перехватили его чьи-то руки, потянули к земле, ослепленное злобой бородатое лицо ощерилось гнилозубым ртом:
— Калеку бить?!
Полетело, покатилось по площади:
— Бьют… Бьют гусляра бояре!
И многоустно отозвалось:
— Чего глядеть, на мост их!
Репих беспомощно трепыхался и постанывал в объятьях двух озлобленных вечников, обмякшим Фоме и Домажиру вязали поясками руки за спину. Ждан всхлипывал, говорил, озираясь на Димитрия Якуновича:
— Что, Митька, верх взял?
Посадник отвечал с помоста:
— Злодею палка завсегда найдется. Худо, что не со мной ты, Ждан, да делать нечего. Выпью медку за твой упокой…
— Захлебнешься медком — горек он.
— Ничего. Другие пооглядчивее будут.
А вечникам, державшим бояр, он сказал:
— Чего замешкались? Волоките их к Волхову!
Толпа, подталкивая перед собою пленников, двинулась к мосту.
— Да неужто и впрямь потопят нас, как хотят? — озираясь, спрашивал Домажир. — Так почто же ставил я бретьяницу, почто злато копил?
— Молчи, — сквозь зубы ответил Ждан. — Молись богу, а не о злате думай. Кинут нас в прорубь, так пойдут зорить усадьбы. Али сам не подбивал, бывало, вечников? Али сам чужим добром не пользовался?
Фома со страху идти не мог. Мужики тащили его, как куль, на своих плечах, злились:
— И чем только набил ты свое чрево, боярин?
Якимушка, целый и невредимый, подпрыгивая на одной ноге, опережал толпу, сыпал и прибаутками и присказками. Димитрий Якунович, подбоченясь, высился над всеми на вороном коне.
И вдруг надеждой плеснуло боярам в лицо, Якимушка замер с поднятой над головой клюкой: от детинца навстречу толпе скакал молодой вершник, размахивал руками:
— Стой! Стой!
Толпа недоуменно замерла. Державшие Фому мужики отпрянули в стороны, и боярин с тяжелым хрястом рухнул им под ноги.
Яркое солнце било в глаза, и Димитрий Якунович, приложив ко лбу ладонь козырьком, чтобы защититься от слепящих лучей, увидел спускающийся от ворот знакомый возок владыки.
Возок повихлял по намерзшим на тесинах льдинам, кони захрапели и остановились. Владыка, опираясь о посох, вышел на мост.
Димитрий Якунович недовольно нахмурился. Толпа притихла, передние попадали на колени. Якимушка перекрестился, попятился и юркнул за спины мужиков.
Митрофан молча приблизился, оглядел связанных бояр, спросил, обращаясь к посаднику:
— Почто вече правили без владыки?
— Не мы правили, отче, — нетерпеливо ерзая в седле, отвечал Димитрий Якунович, — бояре сами ударили в колокол…
— Сами, сами… — зашелестело в толпе.
— Почто же подняли переполох? — обратился владыка к Ждану.
— Правды искали, отче. Да вот как все обернулось.
— А вы, — ткнул владыка перед собой посохом (мужики отшатнулись), — вы-то правду сыскали ли?
Все смущенно молчали.
— Не мешай нам, отче, — поморщившись, сказал за всех Димитрий Якунович, — что вече постановило, тому так и быть.
— Ой ли? — взметнул бровь владыка. — Не твои ли людишки подбили народ, а теперь прячутся за чужие спины? Не ентот ли громче всех кричал? — шагнул ом к Якимушке. Гусляр побледнел, озираясь, и пал на колени. Мужики отодвинулись от него.
— Ты?! — грозно сверкая глазами, подался к нему Митрофан.
— Помилуй, отче! — взмолился гусляр, подползая к его ногам. — Не по своей шумнул я воле.
Владыка перевел взгляд на Димитрия Якуновича:
— Аль мало тебе крови, посадник? Аль и свои грехи задумал вместе с ними припрятать в проруби?
— Да в уме ли ты, отче? — деланно возмутился посадник и тихонько понукнул коня на сторону (сгоряча, чего доброго, вместо бояр-то его сунут в Волхов!).
— Как с владыкой разговариваешь! — закричал Митрофан и ударил посохом так, что ледяные искры брызнули во все стороны. Якимушка выронил клюку и закрыл лицо ладонями. Мужики, крестясь, отодвинулись к перилам. Конь посадника уже почти выбрался из толпы; приподняв плечи, Димитрий Якунович все ниже склонялся к гриве, все сильнее вонзал шпоры в поджарые бока. Искоса поглядывая на него, владыка довольно усмехнулся, обратился к растерянным людям на мосту:
— Вины боярской я не умалю. Водится за ними грешок, и в совет мы их боле не допустим (Ждан вздрогнул и опалил его ненавидящим взглядом)… Однако ж и за посадником глаз да глаз нужен. А на Всеволода вы не серчайте — ну какой бы стерпел отец, ежели бы сынов его терзали на чужбине?
— Оно-то так, — послышался неуверенный голос. Другие тут же подхватили, даже вроде бы и с облегчением:
— Курица и та за своих птенцов…
— Чай, родное семя…
— Ты уж не гневись на нас, владыко. По неразумению мы — крикуны смутили…
Кто-то находчивый предложил:
— А может, Якимушку бросим в прорубь?
Гусляр вскрикнул, забился в ногах владыки:
— Не дай, отче, толпе на поругание!
Жалостливый голос сказал:
— Ишь, как взвился сердешный. Куды уж бесполезный мужичонка, а тож хочется жить.
— Отпустите вы его, — заохали затесавшиеся в толпу бабы, — худого вам не сделал человек, — глядишь, на что и сгодится…
— Да на что сгодится-то? — мялись, сдаваясь на их уговоры, вечники. — К одному только и приучен он, что меды пить.
Чувствуя настроение толпы, Митрофан с улыбкой сказал:
— И впрямь, не троньте Якимушку, он вам еще песню споет.
— Спою, ей-богу, спою, — ухватился Якимушка за последнюю надежду.
— Помалкивай уж, — совсем добродушно прицыкнули на него, — наслушались мы твоих песен — муторно с них. Ты лучше меды пей да на вече наперед других не высовывайся, коли разумом тебя господь обделил. Как-нибудь и без тебя разберемся.
Глава седьмая
1
Только на Всеволодовой силе и держался Рюрик в Киеве — не то давно бы скинул его Чермный.
Но шли дни и годы, жизнь старого князя была хмельна и неразумна, болезни, приходившие одна за другой, подтачивали его, и как-то однажды утром, проснувшись, он едва поднялся с ложа.
На столе дожидалось его обычное вино в принесенном из ледника жбане (слуги были обучены, и вот уже много лет ни разу не случалось, чтобы князь проснулся, а вина на столе не было).
— Господи, господи, — пробормотал старый князь и, едва передвигая скрюченными ногами, по стенке, по стенке добрался до стола. В чару, стоявшую рядом, вино наливать не стал — пил прямо из жбана, вздыхая и покряхтывая.
«Да что было-то, что было?» — мучительно вспоминал князь вчерашний вечер.
А ничего особенного и не было. Как обычно, как все эти годы, Рюрик правил пир. И бояре были на пиру, и торговые гости. Званы были и гусляры и скоморохи.
Но с некоторых пор наскучили князю обычные забавы. От гусляров бросало в сон, скоморохи не то что развеселить его не могли, а даже ввергали в гнев. И их выталкивали еще до того, как Рюрик сдергивал со стола скатерть и начинал топтать опрокинутые на пол блюда с яствами.
Другие придумывали для него развлечения, но самую лучшую из забав выдумал сам князь.
— Господин я в своем городе али не господин? — говорил он, аж вращая белками глаз.
— Воистину, господин. — отвечали ему, кланяясь.
— Ну, а ежели господин, так все со мною! — распоряжался он и в растерзанном кафтане выскакивал во двор, садился на коня и в полночь-заполночь отправлялся полошить уснувшие посады. Бояре и купцы тоже были с ним, а ежели кто увиливал, того брал на заметку Чурыня, снова передний муж и самый близкий к Рюрику человек.
Убедив через Стонегову ложь Ростислава в своей преданности старому князю, устранив Славна (тот убрался в свою вотчину и больше в Киев не показывался), уговорив Рюрика расстричься, Чурыня зажил на Горе припеваючи.
Коварный боярин, находчивый и увертливый, как уж, во всем подпевал Рюрику. И забава с посадами тоже им была намеком подана, а князь решил, что она ему самому пришла в голову.
Вот и вчера налетел Рюрик со своими сотрапезниками на гончарную слободу. У печей побили посуду, раскидали горшки и корчаги, а одного из юнот обмазали глиной и затолкнули в горн. Увезли с собою девок, усадили в тереме на столы, и снова бражничали, и снова потешали себя скоморохами…
Крепкие ромейские вина лились рекой. Ничего не жаль было Рюрику — лучшие годы утекли, чего уж там жалеть! Спешил он добрать недобранное, а того не замечал, что потерял большее, чем в хмельной реке утопил и молодость свою, и былые надежды.
В другие дни, бывало, после заветного жбана слабость быстро исчезала, но сегодня она почему-то держалась стойко, а от ног подымалась к сердцу противная знобкость.
Дверь скрипнула, кто-то вошел в ложницу. Рюрик не пошевелился, даже не приподнял головы. Только приоткрыл отяжелевшие, чужие веки, увидел бородатое лицо, внимательные, в прищуре, глаза. Догадался: Чурыня.
— Чего тебе?
— Худо, княже?
— Ох, как худо. Почто свет заслонил? Уйди.
Чурыня тихо отодвинулся, но из ложницы не вышел. До Рюрика доносилось его ворчливое бормотание, поднимавшее в князе беспричинный гнев.
«Вот все они так. Умереть — и то спокойно не дадут», — подумал он, закрывая глаза.
В темноте было спокойнее, обрывками грезилось приятное. Все гуще обволакивал голову прилипчивый хмель. А от ног поднимался пугающий холод…
Чурыня продолжал бормотать, постукивал жбаном — должно, допивал оставленное князем. А чтоб его!..
Рюрик резко повернулся — вскрикнул от боли в боку, сжался от страха. Чурыня снова приблизился, низко склонился над ним, глядел молча.
— Почто молчишь? — рыкнул князь.
— Не истопить ли баньку?
Рюрик помолчал, прислушиваясь, как все упорнее леденит поясницу холод. Ступни ног покалывало, немели пальцы. Может, и впрямь попариться — полегчает?
— Так повелишь, ли, княже? — словно угадывал его мысли Чурыня.
— Велю, — сказал Рюрик, лишь бы поскорее избавиться от настырного боярина. Чурыня отпрянул от него, побежал поднимать слуг. Оставшись один, князь вздохнул облегченно.
И снова загрезилось, снова вырвались из памяти приятные сны. А холод все упорнее сковывал ему чресла, и голова кружилась — но уже не от вина.
Внезапно Рюрика охватило беспокойство: такого с ним еще никогда не бывало. Он попробовал пошевелить ногами, но они были закованы в ледяные железа и не двигались. Рюрик приподнялся, протянул руку, коснулся живота и вздрогнул: живот был чужой, холодный и скользкий, как у лягушки.
У ложа появились люди. Чурыня прижимал Рюрика за плечи к подушке, кто-то плескал ему в лицо душистой водой.
— Что это ты, батюшка, такой скорбный нынче? — ворковал Чурыня. — Что это тебе привиделось?
Рюрик пытался вытянуться. Ему казалось, что если он хорошенько вытянется, то холод не достанет до сердца. Тупая, ноющая боль пронзала ему грудь.
— Эко холодный ты весь какой, — сказал Чурыня и, обернувшись к стоящим за его спиной, крикнул: — Несите одеяла, да поболе: знобко нашему князю!
Одеяла навалили на Рюрика горой, а ему чудилось, будто это земля, будто схоронили его заживо.
— Ну как, полегчало, княже? — спрашивал с воли испуганный голос Чурыни.
— Худо, совсем худо, — слабо отвечал из могилы Рюрик. — Землю-то скиньте… давит.
— Потерпи, князюшко…
— Холодно…
Куда уж боле — все одеяла, что были в тереме, собрали и накинули на князя. Постельничий прибежал с охапкой шуб.
— Ступай, ступай, — зашикали на него. — Аль не видишь, отходит князь. Лицо-то как посерело, язык едва ворочается…
А Рюрик говорил с присутствующими:
— Анну берегите. Сыновей, сыновей… Чермному — кукиш: Киева ему не отдавайте. Зовите Ростислава.
Но это только ему казалось, что он говорил. Никто не мог разобрать его слов. В горле князя хрипело и булькало.
Все ближе к сердцу леденящий холод, все сильнее стужа. Вытянуться, приподняться… Еще немного. Ага, сдается, окаянная! Теплом повеяло от земли, все легче несметная ноша.
— Никак, воспрял князь! — удивился кто-то.
«Схоронили, — со злорадством подумал Рюрик, — а я жив, жив…»
И ложница стала медленно выступать из мрака.
2
Сидя в Чернигове, Всеволод Чермный со дня на день ждал кончины Рюрика.
И весть, принесенная из Киева, взбодрила и порадовала его: теперь осталось недолго, добьют старого князя меды.
Но, чтобы не дать промашки, он решил еще раз уговорить митрополита отправиться во Владимир, а причина для этого была веская. Решился Чермный на последний шаг — отдать дочь свою за Всеволодова сына Юрия, узами брака связать Мономашичей и Ольговичей.
Случай представлялся удобный: митрополит сам прибыл в Чернигов.
Чермный был человеком расчетливым, но если надобилось, то и хлебосольным. Матфея встречал он пышно, колокола звонили по всему городу.
Митрополит, привыкший у себя в Киеве к скромности, даже упрекнул князя. Но Чермный ему на это отвечал:
— В долгу я перед тобою, отче.
— Это в каком же долгу-то? — спросил Матфей. — Был я во Владимире по твоей просьбе, но вернулся почти что ни с чем.
— Да кое с чем вернулся, — загадочно сказал князь. — Не все сразу делается. Помягчал ко мне Всеволод, не вовсе отринул. И в том твоя большая заслуга.
— Ну, коли тебе и этого довольно, то благодарствуй, — сказал Матфей. — Однако же и я зело рад, что довелось мне побывать в Залесской стороне…
Большое дело не сразу делается. И Чермный решил серьезный разговор отложить до следующего раза. А покуда сопровождал он митрополита по городу, стоял службу в церквах, молился истово, изо всех сил старался показать Матфею свою набожность.
Старику нравилось проявленное к нему внимание. Был он и на пиру у Чермного и немало дивился, как чинно и благопристойно вели себя в Чернигове бояре. Не то что Рюрик и его думцы, от которых стонал Киев.
И Олег, брат князя, понравился митрополиту. Был и он, как и Чермный, почтителен и набожен. Смиренно подходил к руке Матфея, стоял, потупясь, как девушка.
Понятно, не вовсе слеп был митрополит — видел он и то, что не для кого-нибудь, а для него расстарался князь. Но разве это плохо?
И если Чермный думает, как бы сесть после Рюрика на Горе, то и Матфей с ним. Лучшего князя на сю пору для киян все равно не сыскать.
Вот почему он не удивился, когда на третий день после пиров и празднеств сам Чермный напросился к нему в гости. Приехал он к митрополиту на двор с одним только меченошей, и Матфей не выставлял на стол ни медов, ни утонченных яств. В скромной горнице все было обставлено по-скромному. Да и сам митрополит выглядел по-домашнему просто.
— Всему свой срок, — сказал он, усаживая князя, — и знаю я, что приехал ты ко мне не без нужды.
— Угадал ты, отче, — ответил Чермный. — Нужда у меня к тебе есть, и немалая.
— Тогда не будем время тянуть. Говори, да покороче.
И Чермный сразу приступил к делу.
— Тебе, отче, больше других ведомо, что дни Рюрика сочтены.
— То одному богу ведомо, — отозвался митрополит, прикрыв глаза и осеняя себя крестом. — Однако же и я так мыслю: невоздержан князь, пьет сверх меры, долго ему не протянуть.
— Вот, — подхватил Чермный, — сие всем видимо, а кияне ждут не дождутся его кончины…
— Грешно сие, — сказал Матфей.
— Грешно, да куды подеваться? И так говорили мне: теперь Рюрик слаб, никто его не боится — ступай и свергни его с Горы. Устали мы от его проделок.
Матфей кивнул, но ничего не сказал. Глаза его, как и прежде, были прикрыты.
Чермный продолжал:
— Но я ответил киянам отказом. Не вижу в том великой для себя чести — идти и свергать больного князя. И так уж он одною ногой вступил в могилу, вторую подталкивать не хощу.
Митрополит открыл глаза, поглядел на Чермного с любопытством. Не часто доводилось ему обнаруживать в князьях такое благородство: чаще они готовы были и по малому случаю, ежели такой представится, перегрызть друг другу горло. Чермный удивлял его и озадачивал.
Князь улыбнулся, догадавшись, о чем только что подумал Матфей. И, чуть помешкав, продолжал:
— И еще есть к тому препятствие. Два старых корня дают на Руси соки могучему древу. Но то один корень перехлестнет, то другой. А земля едина, и ссориться нам ни к чему. Однако же мономашич Всеволод может не принять меня на киевском столе…
— Всеволод разумен, — заметил митрополит.
— Оно так, отче, — кивнул Чермный. — Но все ж таки без его благословения мне на Горе не быть. А сяду — так сызнова пойдет великая распря.
Матфей улыбнулся, остановил Чермного движением руки:
— Не хощешь ли ты, чтобы в другой раз навестил я Всеволода в его Залесье?
— Хощу, отче, — воспрял Чермный, радуясь, что митрополит сам направил беседу в нужное русло. — Хощу, отче, но знаю, что будет это тебе не легко.
— С чем же отправлюсь я ко Всеволоду? — спросил Матфей. — Ведь на прежнюю твою просьбу он уж ответил отказом. А новая и вовсе не проста.
— Кто же говорит, что проста! — воскликнул Чермный. — Иначе снарядил бы я с грамотой гонца, а не просил тебя об услуге. И не с пустыми руками поедешь ты, отче.
— Духовные пастыри не везут с собою даров, — нахмурился митрополит. — Сие есть суета сует, и мне не приличествует по сану.
— Вот ты о чем подумал! — улыбнулся Чермный. — Да разве дарами, пусть и самыми богатыми, прельстишь владимирского князя! У него и злата, и серебра столь, что ежели сгрести вместе все наши бретьяницы, то и половины не наскребем.
— Тогда почто смущаешь меня, князь?
— О другом моя речь. И забота моя иная. Я ведь и допрежь того, как сели мы к столу, тебе сказывал: два корня на Руси. У Всеволода сын подрос, а у меня дочь на выданье. Что, как сыграть нам свадьбу, да породниться, да и кончить былые счеты?..
— Вона куда ты метнул! — разулыбался Матфей. — Уж не сватом ли ты меня послать хощешь во Владимир? Сроду не знавал я, чтобы ходили митрополиты в сватах.
— Так кого иного о том попрошу? — отчаялся Чермный. — Иного-то Всеволод и слушать не станет. Ты один только это и сможешь, отче.
— Сроду не хаживал я в сватах, — задумчиво повторил митрополит. Но заметно было, что слова Чермного возымели действие. Дальше он слушал князя с еще большим вниманием.
— Не глух же Всеволод и должен внять голосу разума. Ежели прежде хотел он иметь на дружбу со мною согласие Рюрика, то нынче надежды сии пусты. Не токмо со мной, но и не с кем другим не станет мириться Рюрик, ибо во всех видит только врагов, покушающихся на его стол, — говорил Чермный. — Куды уж дале, ежели и сына своего Ростислава велел от себя гнать, подозревая его в заговоре, а младшего, Владимира, держит при себе, как в заточении, — ни удела ему не дает, ни на думу не кличет. Все передоверил боярину Чурыне, а Чурыня корыстолюбив и злопамятен, близость свою к князю использует, чтобы извести прежних своих врагов… И мнится мне, что Всеволод про все это знает, ибо дочь его Верхослава не из тех, что у мужа под каблуком. Умна она и начитанна, и нрав у нее крутой и решительный, как у отца.
Матфей подтвердил его догадку.
— Сие подтверждают и письма ее к игумену Симону, — сказал он и тут же спохватился: как бы не подумал Чермный, что церковная братия перехватывает грамоты. Поправился: — О том сам игумен мне говорил и гневался на печерского черноризца Поликарпа, досаждающего Всеволодовой дщери своими честолюбивыми мечтами: наскучило-де ему у нас и нельзя ли получить епископство.
— Вот видишь, отче, — сказал Чермный (о том, что письма, посылаемые в Печерскую обитель, вскрываются и о содержании их доносится митрополиту, он знал уже давно и только про себя посмеялся Матфеевой оплошке), — вот видишь, отче, — не пусты и не бесплодны мои задумки.
Он и не надеялся на то, что митрополит сразу же даст свое согласие. Еще долго пришлось ему уламывать Матфея, прельщать его выгодой предстоящего хождения в Залесье. Да и дорога была нелегка и опасна. Сам он тоже в митрополитовы-то годы не сразу бы на нее решился.
— Дам я тебе, отче, для охраны своих людей. Лучших дружинников отберу. Лучших коней пригоню из своих табунов. Ни в чем не будет тебе отказа. Покуда лежит зимний путь, доскачешь быстро.
— Хорошо, уговорил ты меня, — сказал Матфей. — Нужную дорогу правит бог. А чтобы в Чернигове не засиживаться, вели сегодня же собирать возы. Ежели все будет ладно и в срок, ежели твои люди не замешкаются, то в конце седмицы и тронемся, благословясь.
— Ну, Егорка, — сказал дьякон Богдан, входя в избу и от двери бросая шапку свою на лавку. — Нынче зван я был к митрополиту — так велел он тебя собирать в дорогу.
— Куды же это? — удивился Егорка. — Коли в Киев, так почто и ты не с нами?
— Мне-то в Киев возвращаться велено. А ваш с Матфеем путь лег ко Владимиру.
У Егорки аж дух перехватило от радости. Не поверил он Богдану: дьякон был известный в Киеве пересмешник и охотник до разных невинных проказ. Нешто снова соврал? Но вид у Богдана был серьезный и даже озабоченный.
— Ну, что глаза на меня вылупил? — прикрикнул он на Егорку. — Сколь раз тебе повторять: обоз уж стоит, и митрополит, поди, вышел на крыльцо, глядит по сторонам, тебя дожидаючись.
Нет, не врал Богдан, сам снял со стены суму, стал набивать ее разным дорожным барахлом: сунул Егоркино исподнее, новые чеботы, принес из сеней краюху замерзшего хлеба, отрезал кусок копченой оленины, завернул в тряпицу, в кожаный мешочек, чтобы не намокла, насыпал соли.
Прыгая то на одной, то на другой ноге, Егорка быстро напялил на себя теплые штаны, сорвал с гвоздика полушубок. И, схватив со стола суму, сразу кинулся к двери.
— А прощаться кто будет? — сказал с упреком Богдан. — Али мы с тобой нехристи?
Егорка засмущался и приблизился к дьякону. Богдан обнял его, заглянул в глаза:
— Рад?
— Еще как рад-то!
— Ну, иди, — оттолкнул его от себя дьякон, и Егорке показалось, будто блеснула в Богдановых глазах слеза. Да и у него самого вдруг защипало в носу. С чего бы это?
Жили они с Богданом не то чтобы душа в душу, но с первого же дня, как Егорка появился в Киеве, дьякон почувствовал к нему расположение. И всем это было заметно, заметил это и Егорка.
Не в общую избу повел Богдан молодого певчего, а к себе домой. Помыл его в баньке, кашей накормил, спать уложил, утром стал про жизнь расспрашивать. И чем дольше рассказывал про себя Егорка, тем все теплее становился у дьякона взгляд. А когда молодой певчий кончил свою историю, стал свою историю сказывать ему Богдан. И оказалось, что жизнь у них сходна, как две капельки родниковой воды.
Как и Егорка, дьякон не помнил своих родителей. Бродил и он с каликами по Руси, и его, как Лука Егорку, пригрел у себя заботливый старец — и ему, вишь ли, голос Богданов приглянулся…
— Оставайся со мною, — сказал молодому певчему дьякон. — Вместе службу править будем, вместе добывать свой хлеб насущный.
Не велика была у Богдана изба и редко водились в ней пироги. По-разному жили они. Иногда ссорились. Раз был случай такой, что Богдан даже поднял на Егорку руку. Да на кого не находят затмения? Егорка ведь тоже спуску ему не давал. Не прежний он был малец, окреп и возмужал. И когда однажды насели в слободе на Богдана бражники, крепко он ему помог: вдвоем-то они шестерых раскидали.
А вообще-то Богдан перед Егоркой никогда не распинался. Был он замкнут, а ежели выпадали минуты редкого настроения, то употреблял он их разве что на шутки. И ни единому слову его в такие дни Егорка не верил.
Вот и сегодня подумал — не потешается ли над ним Богдан? Ан нет. И впрямь ползет митрополичий обоз вдоль замерзшей Десны, то на берег взбирается, то спускается на лед.
Не так уж и много дней пройдет, как покажется в лесистой дебри Москва, а там на Клязьму выедут, а там пойдет дорога до самого Владимира, и однажды утром блеснут им в глаза золотые шеломы Успенского собора.
Разное приходило Егорке на ум, но чаще всего вспоминался ему Лука и добрая его жена Соломонида. Теснило в груди от предчувствия скорой встречи.
Однако же до встречи еще неблизко было. А покуда кони несли Егорку то полями, то балками; то сыпал снег, то крутила поземка. И все казалось ему, что медленно едут сани, что и быстрей бы могли. А уж куда быстрее? И так заморили возницы лошадей — торопил их митрополит, боялся распутицы. Да и дело, с кото рым он поспешал во Владимир, не терпело — к весне ждал его Чермный обратно с добрыми вестями.
Все бы хорошо, кабы и кончилось, как начиналось. Но неподалеку от Москвы случилась большая заминка.
Попал встречь обозу бывалый человек:
— Куда поспешаете, людишки?
— А ты очи отвори, — строго отвечал ему скакавший впереди сотник, — тебя мы не знаем, а с нами сам митрополит.
Мужик сошел с дороги, перекрестился, поклонился переднему возку до полоза. Из возка выбрался Матфей, мужик и Матфею поклонился.
— За чем заминка? — спросил митрополит.
— Да вот людин встал поперек дороги, — сказал сотник и замахнулся на мужика плетью. — Я вот тебя!
— Прости, отче, — упал мужик на колени перед Матфеем. — Не знал я, не ведал, кто вы такие. Вот и хотел предостеречь, — мол, дальше ехать опасно. А теперь вижу, что сам митрополит, так тебе, отче, всюду дорога открыта.
Матфей перекрестил мужика и направился сесть в возок, но услышал, как любопытствовал сотник:
— А ну-ка, сказывай, что за беда стряслась?
Митрополит митрополитом, а жизнь его в руках дружинников. Строгий дан был им наказ, и сотника наставлял сам Чермный: «Гляди в оба, чтобы и волоска не упало с головы Матфея!»
Мужик помялся, позыркал по сторонам, — бежать некуда, вокруг поле и снегу по пояс.
— Дык пожгли, вишь ли, деревни вокруг Москвы, — сказал он.
— Пожег-то кто? — конем напирал на него сотник.
— Сам не видел, не знаю. А людишки сказывают, будто приходили князь Кир с Изяславом Владимировичем да и пожгли. И по сей день где-то здесь обретаются…
«Вот те и преподнесли подарочек Ольговичи, — с досадой подумал Матфей. — Да как же я Всеволоду на глаза покажусь?»
Неладно получилось в конце дороги, но не обратно же поворачивать.
Бросив откатившегося к обочине мужика, сотник приблизился к Матфею:
— Что делать будем, отче?
— Езжайте, как ехали, — сказал митрополит и забрался под полсть.
— Трогай! — послышалось впереди.
«Хорошо бы на Кира взглянуть, — досадовал Матфей, — я бы ему выговорил».
Скоро на дороге стали попадаться беглецы. Люди шли со скарбом на плечах, гнали перед собою скот.
Показалась и первая деревенька, являвшая собою скорбное зрелище. На склоне холма стояли сгоревшие срубы, тут и там курились над пепелищем горькие дымки.
Вокруг Москвы остались одни уголья, но городские стены были почти не повреждены. На городницах толпился вооруженный народ.
С холма к обозу подскакал всадник в малиновом кафтане, резко осадил коня. Сотник выехал ему навстречу. Недолго поговорив, они разъехались, и обоз беспрепятственно втянулся в раскрывшиеся ворота.
Остановились посреди площади. Митрополит сошел с возка, засеменил, окруженный служками, через плотную толпу к указанной сотником избе. Люди падали на колени, крестили лбы. Матфей рассеянно благословил их.
На крыльце произошло движение, воины подались в стороны, и митрополит оказался лицом к лицу с князем Юрием.
«Так вот ты каков», — подумал Матфей, вглядываясь в его лицо и пытаясь определить по нему сходство со Всеволодом. Но отцовские черты были в Юрии почти неуловимыми. И смуглым цветом кожи, и темными волосами, и свободным разлетом черных бровей он больше походил на мать. Вот только разве в прищуре серых глаз сквозила Всеволодова лукавинка.
Юрий опустился на колени, приложился теплыми губами к руке митрополита. Матфей перекрестил его, приподнял и поцеловал в уста.
— Рад видеть тебя, сын мой, в добром здравии, — сказал он обычную в таких случаях фразу, вкладывая в нее особую нежность и теплоту.
Вечером обрадованные своим спасением московляне угощали митрополита и князя на славу и от всей души. Хоть и на бойком месте стояла Москва, а чтобы сразу нагрянуло столько важных гостей, случалось нечасто.
Окруженный всеобщим вниманием, разомлевший от обильных яств и от крепких медов, но еще больше от недавно одержанной победы, Юрий рассказывал Матфею, как, возвращаясь от Твери, столкнулся на Дрезне с Изяславом.
— Вот ведь что князья-то выдумали: ушло-де наше войско к Новгороду, так не поживиться ли легкой добычей, — говорил он, расслабленно откинувшись на лавке и обводя присутствующих блестящим взором. — Куды было им смекнуть, что мы так быстро управимся со Мстиславом. Константин от Твери повернул к себе на Ростов, а я с Ярославом прямехонькой дороженькой повел свою дружину на Москву. Вроде бы мы уж и дома, а тут — смерды при дороге: спаси, княже, неведомые люди зорят наши гнезда… Пронюхав про нас через лазутчиков, Кир вовремя убрался, а Изяслав замешкался, так мы половину его дружины вырубили — впредь потеряет охоту хаживать во владимирские пределы. Самого-то Изяслава тоже едва не взяли, дружинник мой Веселица так и висел у него на хвосте, да не той дорогой пошел, завяз в болоте…
Не довелось Юрию схватиться с новгородцами у Твери, так хоть здесь ему посчастливилось. Был он возбужден и словоохотлив. Совсем заговорил Матфея.
— А ты за какой надобностью поспешаешь к отцу, отче? — поинтересовался он у митрополита.
Матфей всей правды открывать ему не стал, сослался на то, что дело у него к епископу Иоанну.
— Батюшка будет тебе рад, — кивнул Юрий и дальше распространяться с вопросами не стал.
Зимой темнеет быстро. Князья и бояре отправились на ночлег по своим избам, но дружинники и вои еще долго сидели у костров за воротами у крепостного вала — в городе разводить огонь было опасно: кто коня своего расчесывал, кто правил на оселке притупившийся меч, а кто просто разговаривал с соседом.
Егорка с любопытством переходил от костра к костру — то здесь присядет, то там. Уж очень хотелось ему встретить хоть одного знакомого.
А на ловца, говорят, и зверь бежит. У самого большого огня, сбившись в кучу, грелись боголюбовские пешцы. Егорка подошел, присел на корточки, стал слушать, как тешил своих товарищей байками веселый горбун.
— Ты, Крив, ври, да не завирайся, — тут перебил кто-то горбуна. — Сроду я не поверю, чтобы взял тебя в свою дружину Роман, а что оберегал ты его от ляхов под Завихостом — так и вовсе брехня.
— Да я хоть на кресте побожусь, — возмутился Крив. — Экой ты молодой, Прокоп, а веры в тебе ни во что нет. Чего ни скажи, все не так. А сам, поди, и меча-то из ножен еще не вынимал, разве что накрошить капусты. Видел я, как вчера удирал ты от Изяславова конника, а того и не ведаешь, что ежели бы не моя стрела, так сегодня не сидел бы ты у огня и не слушал моих баек…
Знакомое имя насторожило Егорку. Стал он приглядываться к молодому пешцу и понял, что не ошибся. Не зря разыскивал он по стану своих земляков. Один сыскался-таки.
Прокоп заметил устремленный на него Егоркин взгляд и сам несколько раз посмотрел на него со вниманием.
— Погоди-ко, погоди, — вдруг отвлекся он от рассказа горбуна и встал, раскинув руки. — Ты ли это, Егорка?
Егорка тоже вскочил и кинулся к Прокопу. Поздоровались они в охапочку и ну бить друг друга по плечам и по груди да приговаривать:
— Прокоп!
— Егорка!
— Ну и здоров же ты!..
— Да и тебя не узнать!..
Выходило так, будто и не лежала между ними давняя обида. Стали вспоминать Луку, как учил он уму-разуму шаловливых чад.
— Жив ли старче? — спросил Егорка.
— А куды ж ему подеваться, — ответил Прокоп. — Не шибко много времени-то прошло, как увез тебя в Киев митрополит. А я вот, вишь ли, мечом перепоясался, — добавил он с гордостью.
Признаться, Егорка ему позавидовал. На долговязом Прокопе и кафтан и сапоги сидели ладно. Лицо обветрено, опушено ранней темной бородкой. Егорка в своей шубейке и торчащей из-под нее ряске выглядел неказисто.
— Эй, знакомцы! — позвал их Крив. — Будя вам на ветру шептаться, ступайте к костру.
— Ну-ко, спой, Прокоп, — послышалось со всех сторон. — Позабавь честной народ.
— Да что же вам спеть, мужики?
— А что хошь, то и пой.
Прокоп взглянул на Егорку и лукаво улыбнулся:
— Ну а ты, подпоешь ли мне? Али только псалмы петь и горазд?
— Отчего же псалмы? Можно и вашу, молодецкую.
— Ай да чернец! — развеселились пешцы и стали просить обоих: — Спойте лучше про добра молодца.
Нет, не совсем зазря хаживал Прокоп к Луке, не зазря угощал его дьякон березовой кашицей — пусть и рубака из него не ахти, пусть и бежал он от Изяславова конника, а песни его полюбились пешцам, да и дружинники собирались в кружок, едва только слышали его голос.
Хорошо пел Прокоп, но когда подхватил его напев густой басище Егорки, то все сидевшие у костра едва в снег со страху не попадали.
— Вот это да! — качали головами мужики. — Труба, а не голос у тебя, Егорка. И почто ему в церкви пропадать? Иди к нам — и уха тебе будет и первая доля с добычи. А девку тебе такую найдем, что и сотник позавидует.
Хороший народ сидел у костра, так и остался бы с мужиками Егорка, но митрополит был строг и придирчив — назавтра велел он ему петь в церкви заутреню, сам хотел служить молебствие во славу Юриевой дружины.
— Спасибо на добром слове, мужики, — поклонился Егорка. — Еще не раз свидимся.
— Да свидимся ли? — сказал Крив, — Во Владимире тебе, чай, не до нас будет.
Глава восьмая
1
В Киеве в тот год рано сошли снега — теплынь стояла и благодать. А в княжеских палатах жарче прежнего топили печи: Рюрик мерз, кутался в шубу, покрикивал на истопников, чтобы не жалели дров.
В ложнице, как в предбаннике, денно и нощно плавал сизоватый полумрак.
Пиров в тереме больше не правили, бояре редко заглядывали в терем. Один только Чурыня не отходил от Рюрика ни на шаг. Оберегал его от сквозняков, смекал — не дай бог, помрет князь, так ему и подеваться некуда. А что еще хуже — не потерпят его, расправятся с ним мстительные думцы.
Дошел до него опасный слушок, будто выехал из своей вотчины боярин Славн и не сегодня-завтра объявится в городе. И будто, отъезжая в Киев, он так говорил: «Князь скоро помрет, а Чурыню я сам изведу. Много горя хлебнули из-за него кияне».
Похоже, что это были его слова, а Славн впустую угрозами не разбрасывается, и третьего дня Чурыня отправил своего человека проверить слухи. Ежели Славна и впрямь в вотчине не окажется, то нужно ловить его по дорогам либо в самом Киеве.
И еще одна забота точила Чурыню: по весеннему паводку вернулся из своей поездки во Владимир митрополит Матфей. По пути он гостил в Чернигове у Чермного, но недолго, однако же; о чем говорили они, боярин не знал. Но догадывался: неспроста повадился митрополит по гостям. В прошлый раз просил он позволения у Рюрика и не скрывал, что беседовал со Всеволодом во Владимире и что Всеволод велел кланяться великому князю и спрашивал его, согласен ли он на мир и дружбу с Чермным. В тот раз Рюрик рассердился и выговаривал Матфею за самоволие — на этот раз митрополит даже не пришел к нему с дороги, даже не справился о здоровье. А ведь зимою едва не помер князь, едва его выходили. И в самую ту пору снова Матфей встречался с Чермным.
Все, все в один клубок скручивалось, и одно только смущало Чурыню: неужто не отдаст Всеволод Киева Ростиславу?
Не верилось в это, и верить не хотелось.
Закутавшись в шубу, Рюрик тихо сидел у стола, тоскливо смотрел на боярина.
— Что, князюшко, снова лихо тебе? — заботливо спрашивал князя боярин. — Не велеть ли свечечку запалить?
Рюрик отрицательно мотал головой, тихо отвечал:
— Скучно мне, боярин.
— А ты святое писание почитай, вот и развеселишься.
— Какое же это веселье? Чудно говоришь ты, боярин.
— Чудно, да праведно. Все великие праведники исцеляли себя святым писанием от недугов, изгоняли соблазнявших их бесов.
— Не праведник я, зело грешен, — жаловался Рюрик. — И не спасет меня ни твое писание, ни посты, ни молитвы. Огненная геенна припасена для меня в аду…
— Всем князьям дорога в рай уготована, — говорил Чурыня.
— Да много ли ты знаешь, — криво посмеивался Рюрик. — Сам-то тоже небось побаиваешься — и ты грешен, и ты пролил реки крови, всю жизнь пребывал в суете и лжи.
Никогда еще так не говаривал с ним князь. И от этих разговоров Чурыня смущался еще больше.
Как-то Рюрик ему сказал:
— Нет ли слухов каких от Славна?
И это обеспокоило боярина. Готовясь к смерти, что-то совсем не то припоминать стал князь.
— А что Славну сделается? — сказал Чурыня. — Живет себе, поживает в своей вотчине. Про нас он и забыл.
— Да вот я про него забыть не могу, — вдруг признался Рюрик, — Нынче снова пришел он ко мне во сне, грозился, хмурился, ногами топал…
— Это на него похоже, завсегда был он на тебя в обиде. Поди, и сейчас если и поминает, то недобрым словом.
Про слушок о выезде Славна Чурыня промолчал, но так подумал: «Вещие снятся князю сны».
Тем вечером прибыл к нему наконец-то посланный в Славнову усадьбу человек.
— Ну? — нетерпеливо спросил его Чурыня.
— Всё так, боярин. Нет Славна в усадьбе.
— Да хорошо ли ты поспрашивал? Да всё ли, как надо, проведал?
— Всех поспрашивал, боярин-батюшка. Всю округу излазил.
— И ничего? И никто даже возка его не видал?
— И ни возка, и ни боярина. Ну будто сквозь землю он провалился.
— Та-ак, — протянул Чурыня и своему человеку сказал: — Ищи Славна в городе. Не иначе как обретается он в Киеве у своих дружков.
Когда слухи подтвердились, боярин совсем потерял покой. Ведь понимал же он, что неспроста поднялся старый ворон со своего насиженного гнезда. Значит, почувствовал — запахло мертвечиной, значит, не он один, у есть и еще в Киеве людишки, которым тоже спится и видится, как лежит Рюрик в гробу. Дальние у них задумки, и уж Чурыню в любом случае они не обойдут вниманием: больно насолил он всем. За все теперь с ним сполна сведут счеты.
Вот почему так он оберегал Рюрика, вот почему и свежего воздуха боялся впустить в князеву ложницу. Покуда Рюрик жив, и ему опасаться нечего. Не даст его в обиду князь…
Да вот не даст ли? Ишь, как старый вдруг заговорил про Славна! Чего доброго, велит к себе звать, приласкает, как в былые годы.
А человек, которому Чурыня доверился, рыскал между тем по посадам и по боярским теремам, у купцов и у слуг по-разному выспрашивал. И к тем лишь купчишкам он приставал, что ходили на Чернигов, — никак не миновать им было в пути Славновой вотчины. Но купцы отвечали, что боярской дружины им не попадалось. Так, может, без дружины, а только со слугами прискакал Славн в город? Нет, и таких видеть не доводилось.
Бродя у боярских теремов, Чурынин человек беседовал с сокалчими и конюшими. Про то, про се заводил речь, а больше про гостей — где какой пир пировали и много ли народу было звано на пир.
Но сокалчие и конюшие тоже уши держали топориком: не очень-то позволяли им хозяева болтать незнакомым людям лишнее. А этот вертлявый и вовсе был подозрителен.
— Ступай, ступай мимо, — гнали его от ворот.
Возле усадьбы боярина Миролюба попался человеку совсем еще юный гридень.
— Здрав будь, добрый молодец, — ласково приветствовал его человек. — Что сидишь, пригорюнился? Али на солнышке греешься, али кого дожидаешься?
— На солнышке коты греются, — с достоинством отвечал гридень, — а я дожидаюсь своего хозяина.
— Дай и я с тобой посижу!
Слово за слово — не только сам был разговорчивый человек, но и кого хошь разговорит. Не учен еще был гридень, всей житейской премудрости не понимал. Вот возьми он да и сболтни: то туда, то сюда пошлют — замаялся я со своим боярином.
— А что так? — насторожился человек.
— Съехались, вишь ли, два боярина, сидят в тереме, а других к себе кличут. Сами же на улицу ни на шаг. Вот и разъезжаю я по городу, аж голова кругом идет…
— Они, бояре-то, все такие. А ежели Славн у вас в гостях, так его и на волах не вытянешь из дома, — посочувствовал ему человек.
— Славн и есть! — обрадовался гридень. — Да ты-то как догадался?
— Я, брат, всех бояр знаю в Киеве наперечет, — сказал человек, порадовался своей догадливости и вечером предстал с улыбкой перед Чурыней.
— Никак, сыскал? — обомлел от счастья боярин.
— У Миролюба он.
— Ай да Миролюб! — так и подскочил Чурыня. — Самый смиренник промежду думцов.
— В тихом омуте черти водятся, — сказал человек, и Чурыня прикрикнул на него:
— Не тебе о боярах судить да рядить. Покуда не кликну, на двор ко мне ни ногой.
Не сразу задумка сложится, иной раз и сложится, да сбыться ей не суждено.
В этот день Чурыня вернулся домой раньше обычного. Сестра его Милана рассердилась:
— Что ни день, жду я тебя к ужину, да все ты в княжеских теремах. Так нынче вечеряй голодный.
— Куды как ловка ты, — осадил ее боярин. — Нешто кладовые наши пусты?
— А и не поешь, брюхо твое тоньше не станет.
— Ништо, — сказал боярин, — Голоден я, а своими речьми ты меня не накормишь. Кличь сюды слуг, пущай мечут на стол. Да вина, что приберег я для лучшего случая, тоже вели принести.
— Это почто же вина-то? — застонала Милана. — Одна только корчага у нас и осталась.
— Не одна осталась, — спокойно возразил Чурыня, — а ежели бы и одна, то и ее не жалей. Буду я пить и думу думать.
Не часто пил боярин, был он оглядчив и прижимист, но ежели втемяшится ему что в голову, то без чарочки — ни-ни. За чарочкой мысли его текли плавно и туда, куда их сам Чурыня направлял, а не в разные стороны, как у некоторых.
Скоро стол был накрыт, боярин сел, а сестрицу сесть не пригласил: лишний человек — пустые разговоры, а у Миланы язык что твое помело.
Налил боярин заветную чарочку и задумался.
Вот и потянул он за ниточку, вот и стал распутываться опасный клубок. А что в том клубке, пока никому неведомо.
Если бы Чурыня в ту пору о главном узнал, то и вовсе лишился бы покоя. Истекало его время, торопились последние денечки.
В Чернигове снаряжали свадебный поезд. Митрополит Матфей не зря ездил во Владимир, не зря вел долгие переговоры со Всеволодом, да и Юрий не был против того, чтобы взять в жены дочь Чермного.
Желая помириться с Ольговичами, Всеволод когда-то отдал за старшего Святославова сына Владимира свою племянницу Пребрану, да крепкого союза не получилось: породнившись с великим киевским князем, хлебнул он немало лиха. Теперь роднился с младшим. И даже далеко вперед глядел — надеялся, что, сев после Рюрика на киевском столе, Чермный не пойдет по стопам своего отца, хотя и он был крут и своенравен.
Умудренный умом своим, понимал владимирский князь, что, покуда расколота Русь, покуда враждуют Ольговичи и Мономашичи между собой, о единстве и думать нечего. Не извести ему Ольгова племени, глубоко вросло оно в Русскую землю, да и не одна ли у них отчина?
Чермный смирился, признал его старшинство, без его благословения о Киеве и думать не смеет. Может, с него, думал Всеволод, и настанут новые времена?
Перепутались, смешались друг с другом старые роды. И не только дедовы и прадедовы счеты сводят между собой князья. Вторгались новые причины. Вон Мстислав Удалой — тоже Мономашич, а сел в Новгороде, изгнав Мономашича же — Святослава… Даже со Всеволодом не посчитался, хотя он и старший в их племени.
Так рассуждал Всеволод, беседуя с Матфеем. Так думал и митрополит. Оторванный от Византии, теперь радел он о крепости последнего оплота православной веры. И немало преуспел в этом, пустившись, в отличие от своих предшественников, вынужденных то и дело оглядываться на Царьград, в улаживание ссор и недоразумений, связанных с мирскими делами, а не только с нуждами церкви.
А Чурыня сидел за чарой, словно век ему еще впереди отпущен, сидел и думал, как бы словить боярина Славна. Пустыми затеями тешил себя, все еще полагая, что он в прежней силе.
Когда же к утру сплел он свою хитрую сеть, то тут же ее и спрятал: не ловить Славна, а искать с ним близости настал последний срок. Еще день-другой пройдет — и поздно будет.
На зорьке прискакал к нему взволнованный боярин Сдеслав Жирославич.
— Худо, Чурыня, — сказал он с порога. — Прознали мои людишки, почто Матфей зачастил в Чернигов, почто во второй раз ездил ко Всеволоду. За нашей спиною сговариваются с Чермным. Покуда отдает он дочь свою за Юрия Всеволодича, а там сядет и в Киеве. И так смекаю я: не по той ли самой причине объявился в городе Славн?
— Так ты и про Славна все знаешь? — удивился потрясенный новым известием Чурыня.
— Не ты один в трудах и премногих заботах, — ответил Сдеслав.
— Значит, дело наше обчее, — кивнул Чурыня и задумался. Хорошо, что еще один сообщник объявился, смекнул он. А там, глядишь, и еще кто поможет. Ежели придет Чермный в Киев, то не одному только Чурыне несдобровать. Новый князь новых бояр приведет с собой из Чернигова, а из прежних только тех оставит, кто докажет ему свою преданность.
И, как назло, ничего толкового Чурыне в голову не приходило.
— Трудненько нам будет с тобой к Чермному лицом поворачиваться, как стояли мы все эти годы к нему спиной, — сказал он Сдеславу.
— Трудненько, — согласился тот.
Угнетенно помолчали.
— Да неужто Славн переметнулся к черниговскому князю? — высказал сомнение Чурыня.
— Вот и меня смутило, — сказал Сдеслав. — Но потом я так рассудил: а чего бы и не переметнуться? Служил он Рюрику верой и правдой, и сыну его служил, а в трудную годину, когда бесчинствовал у нас Роман, справно оберегал от невзгоды Киев. А Рюрик чем ему за это отплатил? Черной неблагодарностью! И сын недалеко ушел от отца.
— А я уж подумал, не Ростислава ли видит он на киевском столе?
Сдеслав промолчал. Такая мысль и ему приходила в голову. Как знать, может, и впрямь берет к себе Всеволод дочь Чермного, а о том, чтобы Киев ему отдать, даже и не помышляет? Тогда, кроме Ростислава, некому занять великий стол.
Вот и гадай теперь, вот и кумекай: голова раскалывается. Не встретившись со Славном, главного вопроса им с Чурыней все равно не разрешить, сколько ни старайся.
И надумали они подальше припрятать свою гордыню и идти на поклон к своенравному боярину.
В тот же день при полуденном солнышке постучали они в ворота Миролюба:
— Отворяй, боярин. В гости мы к тебе и Славну.
Миролюб впустил их, но от Славна стал отнекиваться: чего-де выдумали, никакой другой боярин у меня не обретается. А про Славна только и слышал, что живет он себе, поживает в своей вотчине. Вот туда к нему и направляйте свои стопы, ежели вам так приспело.
— Ты, Миролюб, ловок, а мы тебя половчее, — сказал Сдеслав и дальше в переговоры пускаться с ним не стал. — Сам смекни, когда бы прибыли мы к тебе с дурными намерениями, то были бы не одни. Мы бы дружинников с собою взяли, чтобы гостя твоего вязать, — и, оттерев хозяина плечом, вошел в терем. Следом за ним вошел и Чурыня. Растерянный Миролюб последним переступил порог.
И впрямь, слушок, дошедший до бояр, был верен: старый Славн в одной рубахе сидел за столом и ел карасей в сметане. Густые поседевшие брови свисали ему на глаза. Из-под ворота рубахи виднелась волосатая грудь.
— Здорово, Славн, — сказал Сдеслав и, сев рядышком, тоже выудил в блюде жирного карася. — Давно мы с тобой не виделись.
Чурыня сел напротив, но карасей он не любил, а потому сидел, глядел на Славна белесыми глазами и только хлопал ресницами.
Славн рыгнул, руки вытер о скатерть и только тогда ответил:
— И вам поклон, бояре. С чем пожаловали?
— Скор ты в беседе, боярин, — сказал Сдеслав, — а я ишшо карасика не съел.
— Ну так ешь, да побыстрее, — усмехнулся Славн, не то мне самое время отходить ко сну.
— Наспишься, Славн, — сказал Чурыня. — Но сдается мне, что это только к слову, а самому-то не до сна.
— С чего бы это? — повел бровью боярин.
— А с того, что и тебе не терпится узнать, как это сыскали мы тебя и по какой причине явились. Ведь не по князеву указу покинул ты свою вотчину.
— А может, и по князеву?
— Мне лучше знать, — спокойно возразил Чурыня. — И обретаешься ты в Киеве не потому, что вздумалось потолкаться на торговище.
— Да почему бы еще? Забот у меня иных нынче нет.
Тут Сдеслав управился наконец с карасишкой и тоже вступил в разговор:
— Слух такой прошел, боярин, будто объявился ты в Киеве накануне больших перемен.
— В Киеве завсегда перемены, — сказал Славн, — а я живу на покое. Не до вас мне. Вон и Миролюба спроси, почто я в городе объявился.
Миролюб открыл было рот, чтобы поддержать гостя, но Сдеслав отмахнулся от него, как от мухи, и снова впился пристальным взглядом в Славна:
— Твой хозяин тебя не выдаст. А вот ведь что мне на ум пришло. Сколь лет ты в своей вотчине, да в Киев раньше не наведывался. А только Рюрик занемог, так ты и здесь!
— Так и вы со мною раньше дружбы не водили! — засмеялся боярин. — А тут, гляди-ко, сыскали. С чего бы это?
Умел Сдеслав развязывать языки. Вот и Славну язык развязал. Дальше речь его покатилась плавно:
— Небось не мы одни, и ты смекнул, что Рюриковы дни сочтены.
— На сей раз не выбраться ему, — поддакнул Чурыня.
— Вот, — указал на него Сдеслав. — Кому, как не Чурыне, про это знать.
— Да уж кому-кому, а ему-то я верю, — сказал старый боярин и снова срыгнул. — Хороши у тебя карасики, Миролюб.
— Ты про карасиков забудь, — рассердился Сдеслав. — Ты от беседы не уходи.
— А ежели мне карасики куды как приятнее вашей беседы? — нахохлился Славн.
— Вот закончим подобру-поздорову, — терпеливо сказал Сдеслав, — так хозяин тебе еще карасиков подаст.
Миролюб, стоя у стола, угодливо закивал головой. Напугали его незваные гости, так он уж и не рад был, что приютил у себя Славна. Теперь не оберешься лиха, теперь и ему ответ держать.
Старый Славн заметил его растерянность.
— Ты, боярин, не бойся, — сказал он, — Это они со страху. Скоро кончится их время, вот и лютуют.
— Ишь, како запел! — так и взвился Чурыня.
— Вот, — кивнул в его сторону Славн. — Небось и сам зришь. Ничего они с нами не сделают.
— А вот и сделаем, коли упрямишься, — пообещал Сдеслав. — Из терема тебя не выпустим и кликнем отроков. Покудова в Киеве наша сила.
— То-то же, что покудова, — сказал Славн, — а завтра иные наступят времена.
— Тебя только разозлить, боярин, а после ты сам заговоришь, — рассмеялся Сдеслав, — Ну так сказывай, по чьему указу ты в Киев пришел. Может, и мы с вами.
— А почто вам с нами быть? Вам и с Рюриком хорошо, — смирившись с тем, что таиться без толку, отвечал Славн. — Мы с вами по разные берега, а река промежду нас. Оба берега вместе не соединить.
— Так вот ты соединил же.
— Я завсегда у одного берега был. Где Киев, там и я. А вы глядели, где посытнее. И нынче не о себе, и не о Рюрике, я пекусь, и не о Ростиславе. Все бояре, что поумнее, пойдут к Чермному на поклон. Не то испоганят нашу землю половцы и вот такие сребролюбцы, как вы с Чурыней.
Все высказал боярин, теперь задумка его была как на ладони.
— Видит бог, не хотели мы тебе зла, — сказал, вставая, Сдеслав. — Да сам ты, Славн, себя не пожалел. И коли нет среди вас и нам с Чурыней места, то благодарствуем на карасиках да и в путь.
И Чурыня привскочил, чтобы двинуться вслед за Сдеславом к двери. Но Славн остановил:
— Не поспешайте, бояре, а лучше поспрошайте хозяина, нет ли у него и еще чего, кроме карасиков.
— Такими-то яствами мы холопов своих потчуем, — оглянулся с порога Чурыня — Не застряла ли у тебя кость в горле, Сдеслав?
— Застряла, да еще какая, — в тон ему отвечал приятель. — Плохой у тебя сокалчий, Миролюб: карасики-то были не дожарены. Чего же еще от него ждать? Мы уж дома повечеряем.
<текст утрачен>
дома вечерять. Вы шибко-то не рядитесь, бояре, а снова садитесь к столу, покуда мы не раздумали.
И Славн ложкой постучал по столешнице. Миролюб перекрестился и юркнул за дверь: вот — чего боялся он, то и сбывается. Уверял его старый боярин, что все обойдется без насилия, что людишек своих попрятал он по всем закуткам из осторожности. Ан, нет: неспроста таились в его тереме Славновы молодцы — теперь не иначе как повяжут передних мужей, а спрос будет с него. Никого не следовало ему пускать к себе на двор. И Сдеславу с Чурыней не нужно было открывать ворот.
Вошли в горницу Славновы люди. Чурыня попятился и повалился спиной на лавку, Сдеслав отскочил к столу.
— Так будем и дальше судить-рядить, бояре? — спросил Славн, улыбаясь, — Или тихо поладим? Эй, Миролюб, — крикнул он за дверь, — ты куды это запропастился?
3
На Горе все сбились с ног, разыскивая Чурыню. Но толком так ничего узнать и не смогли. Потрясли челядь, тиуна допросили с пристрастием. Но тиун только и смог сказать, что заезжал к боярину как-то утречком Сдеслав, а после вместе они выехали, а куда — не сказывались. Как подъезжали бояре к усадьбе Миролюба, никто не видел. Так и оборвался в безвестности след Рюрикова любимца.
А князю с каждым днем становилось все бесприютнее и тоскливей. Все чаще преследовал его призрак приближающейся смерти.
И Рюрик не выдержал — запил снова. Впервые после долгого перерыва опять засветились в ночи окна княжеского терема, опять послышались веселые голоса скоморошьих дудок и сопелей, сгрудились у коновязей боярские холеные кони.
Выставлял князь меды и киянам, но кияне почему-то не веселились, хоть и не отказывались от угощения. Рюрик объезжал посады, удивлялся:
— Будто подменили моих киян.
А возвратившись в терем, говорил за ломящимся от яств столом:
— Это обо мне они скорбят.
И пил вино из большого рога. Не закусывал, не отдыхал, снова и снова подставлял рог виночерпию:
— Лей, не жалей! Уважь хозяина своего перед кончиной!
Или вдруг хмурился и начинал придираться к боярам. Как-то выбрал он среди всех Миролюба:
— Что это у тебя, боярин, рожа такая кислая?
— Да с чего ты взял, княже? — вздрогнул Миролюб.
— Весь вечер за тобою наблюдаю и все понять не могу: али пуще, чем меня, скрутила тебя хвороба? Ране-то ты куда как жаден был — пил за троих да еще норовил утащить в рукаве жареного гуся.
— Сроду такого не бывало, княже, — смутился боярин. — У меня и своих гусей полон двор.
— Так то свои гуси, а то княжеские. Коли тащил их со стола, значит, были они вкуснее.
Все посмеялись Рюриковой шутке, хлопали Миролюба по плечу:
— А как поглядеть, не спрятал ли он и нынче что-нибудь в свои рукава?
Дергали боярина со всех сторон, пьяно улыбались. Рюрик подозвал виночерпия и велел наполнить свой рог. Протянул Миролюбу:
— Пей.
У боярина глаза полезли на лоб:
— Разве мне с тобою, княже, потягаться? Да я с этого рога под столом проснусь.
— Вот и спи. Но покуда сидишь, от подарка моего отказываться не смей.
Не потому не пил боярин, что здоровьем был слаб, а потому что боялся: не дай бог, проговорится во хмелю, что гость у него в тереме. И с тем гостем под строгим присмотром живут-поживают потерявшиеся бояре — Чурыня со Сдеславом.
Невдомек ему было, что и другие многие из пировавших тоже со Славном виделись и были с ним в полном согласии. А ждали они только Рюриковой смерти, чтобы сразу же после этого слать гонцов к Чермному в Чернигов, звать его на киевский стол. И таких было даже больше, чем тех, что скорбели о близкой утрате. И выявлять они себя не спешили и делали вид, что все идет по-прежнему.
Миролюб принял от князя рог с поклоном, дрожащей рукой расплескал вино, перекрестился и выпил все до дна. Перевернув, потряс пустой посудиной над головой.
— Вот теперь иное дело, — сказал Рюрик, — вот теперь я вижу, что и ты любишь своего князя.
Дальше — больше, скоро бояре оглохли от скоморошьих гудков, Рюрик поднялся из-за стола, замахал руками. Гудки смолкли.
Тут все увидели, что князь необычно бледен. Глаза выкатились, на губах пузырится желтая пена.
Бояре повскакали со своих мест, одни кинулись к Рюрику, другие к двери…
Миролюб очнулся на дворе. Сквозь слипшиеся веки видел: на гульбище мечутся люди с факелами, на всходе беспомощно барахтается людской клубок. Истошный женский голос вопил:
— Христиане, куды вы? Князь наш преставился.
Кто-то подхватил боярина под мышки, поволок во тьму.
— Да что с тобою, батюшка, — постанывал у самого уха знакомый голос отрока, — чего это ты оброб?
Потом все покатилось во тьму. Очнулся Миролюб у себя в тереме на неразобранном ложе. Руки занемели, в голове клубился розовый туман.
Вдоль стен на лавках сидели Славн и некоторые другие знакомые бояре, улыбались. Миролюбу сделалось не по себе. С чего бы это такое сборище?
— Доброе утро, боярин, — сказал Славн. — Каково спалось?
— Да вы-то почто у меня расселись, как у себя дома? — проворчал боярин, садясь на ложе.
День ото дня не легче. То Славн один со своими людьми у него жил, то Чурыню со Сдеславом приютил Миролюб. А это что же — всю думу кормить-поить?!
Так и сказал он боярам:
— Похмеляться к себе я вас не звал.
— Это тебе нужно похмелиться, Миролюб, после вчерашнего княжеского подношения, — за всех ответил ему Славн, — а бояре трезвехоньки.
— Всю ночь пировали, а трезвехоньки? — ухмыльнулся Миролюб.
— Рюрик их отрезвил…
— А что же князь? — спросил Миролюб.
— Да ты и впрямь не в своем уме, — сказал сидевший ближе всех к нему боярин Федосей. — Кончился наш князь. Как выпил ты свой рог, так и кончился.
— Неужто? — не поверил Миролюб. Потешно начиналось утро в его терему. Уж не еще ли одна это Рю рикова забава? Но тут из липкого тумана стало обрывками всплывать вчерашнее, будто въявь, услышал он женский голос на всходе: «Христиане, куды вы?..»
Так вот оно что, так вот почему собрались в его тереме люди!
— Ты, боярин, князевых служек теперь не пасись, — успокоил его Славн. — Кончилось их время. А за то, что приютил ты меня, что в нашем деле ты был сподвижником, тебе сторицей воздастся.
— Как же, воздастся, — сказал Миролюб ворчливо. — Как начнут по одному тягать, так и до меня доберутся.
— Не доберутся, — уверил его Славн и обратился к боярам: — Так все ли со мною согласны, думцы? Будем Чермного звать или кто инако мыслит?
— Инако никто не мыслит, — ответил за всех Федосей. Остальные молчали.
— Что безмолвствуете, бояре? — насторожился Славн. — Или не по душе вам князь? Так говорите прямо.
— Чего ж не по душе-то, — раздались голоса. — Мы за Чермного. Да вот Всеволода Юрьича не прогневим ли? Батюшка Чермного с ним завсегда не в ладах был.
— О том не печалуйтесь, — сказал Славн. — Был у Всеволода Матфей, так они обо всем столковались. Не прогневается на нас Всеволод, он и дочь Чермного за Юрия взял. Родня!
— Родня-то родня, — сомневались бояре, — а все ж таки… Вон Ростислав-то Рюрикович тоже ему не чужой.
— Ростислав у нас покняжил, — возражали другие. — Не для Киева он. Слабовата у него жила.
— Киеву сильный князь нужен.
— Чермный нам худа не учинит. Как-никак — отцова вотчина.
К Чермному склонилось большинство бояр. За Ростислава никто не высказался.
На том и порешили: сослать послов в Чернигов к Чермному, просить его на киевский стол.
Миролюб к тому времени очухался. Хмель понемногу выветривался из головы. Степенные речи бояр успокаивали: уже ежели собрались они открыто у него в терему, уж ежели не таятся, то и ему бояться нечего. Боле того: коль скоро у него в хоромах зачин был столь важным делам, то со временем сбудется и предсказание Славна. Неужто всех вспомнит Чермный, а про него забудет? Нет, решил Миролюб, такому не бывать. И от правился тормошить челядинов, чтобы споро разводили под котлами и сковородами огонь и поглядели, что есть послаще в медушах.
Когда он вернулся, умывшись, причесавшись и надев нарядное платно, бояре говорили уже кто о чем. Увидев его преображенным, Славн приветливо помахал рукой и сказал:
— Как снаряжали мы послов, то про Миролюба забыли. Негоже хозяина лишать столь высокой чести.
Бояре закивали, соглашаясь со Славном, а Миролюб стал отнекиваться. Но никто и слушать его не хотел.
Так и ему легла дорога к Чернигову. Что и говорить, отнекивался он только для виду, а доверие, оказанное ему думцами, было приятно.
Слуги тем временем накрыли столы, и Миролюб звал всех отведать его яств.
Тут кто-то вспомнил про пленников. Другие подхватили:
— Сказывай-ко, боярин, где прячешь ты Чурыню со Сдеславом?
— Где же и прятать их, — отвечал Миролюб с лукавой улыбкой, — окромя как в подклети?
И вопросительно посмотрел на Славна.
— Веди их сюды, — сказал Славн, — поглядим, как воспримут они благую весть. Да и попотчуем бояр со своего стола.
— Что, — воскликнул, появляясь в горнице Сдеслав, — пошумели да и на мировую? Вона сколь вас собралось, но не ждите, что замолвлю я перед Рюриком за каждого словечко.
И Чурыня, чернее тучи, угрюмо сказал:
— Нынче ты, Славн, от меня в вотчину свою не сбежишь. А тебе, боярин, — он повернулся к Миролюбу, — я ишшо припомню твой подклет. Крысы тамо у тебя как собаки. Да и сам ты хуже пса!
Миролюб вздрогнул, а Славн рассмеялся:
— Вот напугал! У всех у нас коленки трясутся. Что, бояре, поклонимся Чурыне со Сдеславом, попросим у них прощения?
Бояре подыграли ему:
— Не гневайся на нас, Чурыня. И ты, Сдеслав, на нас не гневись. Чего не бывает. А теперь вы у Миролюба гости. Глядите, каких нажарил он для вас куропаток. А гуси каковы?!
<текст утрачен>
рыня. — А теперь нам ко князю поспешать: поди, заждался нас Рюрик.
— Ох как заждался-то, — сказал Славн. — Да только как ни спешите, а вам его все равно не догнать.
— Чего ж не догнать-то? — начиная догадываться, пролепетал Сдеслав. И Чурыня, глядя на приятеля, прикусил язык.
— Почил в бозе Рюрик, — ответил Славн и налил им по чаре. — Выпейте, бояре, за нового князя.
— Не Ростислав ли возворачивается на отчий стол? — с плеснувшей в глазах надеждой воскликнул Чурыня.
— Великим князем зовем мы на киевский стол Чермного, — сказал Славн и поднял свой кубок. — Так выпьем за Чермного. А кому не нравится, — скосил он взгляд в сторону все еще стоящих у порога Чурыни и Сдеслава, — тех мы не держим, пущай ступают на все четыре стороны.
Хлестко сказал боярин, лучше не скажешь. Но Чурыня со Сдеславом, пораженные известием, не двинулись с места.
Давно ли в этой же самой горнице они угрожали Славну, а теперь стояли посрамленные и униженные.
И Сдеслав первым робко поднял чару.
— За Чермного, — сказал он и выпил вино до дна. И Чурыня грустно вторил ему:
— За Чермного.
4
Быстро, быстрее ветра разносятся по миру худые вести. То странник их пронесет, то поспешающий вершник. А то подхватит злой человек да и нарочно передаст их другому.
В степи же вести ловятся на лету. Чутким ухом прослушивают Русь половецкие дозоры.
И о том, что умер Рюрик и что Киев остался без князя, в степи узнали раньше, чем добрались неторопливые послы до Чернигова.
— Гей-гей! — пролетело от табуна к табуну.
— Гей-гей! — полетело от становища к становищу.
К ногам хана упал гонец:
— Рюрик умер! Киев без князя!..
— Подумай, хан, — сказали мудрые старики и беки. — Истосковались твои воины без дела. Давно не привозили они в степь хорошей добычи. Загоны наши пусты, давно нет в них русских пленников.
Озадачился хан. А ведь правы старики и беки: другого такого случая скоро не представится. Знал он — не скоро угомонятся князья, таков у них древний обычай: начнут друг у друга рвать Киев из рук, повернутся к степи незащищенной спиной. И, пока заняты они дележом, самое время не мешкать.
И на следующее утро задвигалось, всполошилось половецкое поле. Взметнулись над весенними травами потревоженные шумом ястребы, закружились над головами воинов вороны, ненасытно закаркали: неужто сбылось, неужто справят они свой печальный пир?
Сбылось. Справили вороны свой первый пир в степи неподалеку от Переяславля.
Ехал себе дозором по сочным травам небольшой русский отряд. День был ясный, яростно палило солнце. У воинов глаза слипались от дремы, старшой лениво покачивался в седле. Лишь время от времени он приоткрывал глаза и оглядывал пропадающий в мерцающем мареве спокойный горизонт.
Ничто не предвещало ненастья. Разве что вон та маленькая тучка прольет долгожданный дождь. И думал старшой о том, что хлебам этот дождь оказался бы в самую пору. А еще, подумав о хлебах, вспомнил он свой дом, жену, белоголовых ребятишек. И улыбнулся своим приятным мыслям. Скоро, скоро вернется он на оставленную ниву, поднимется на косогор — и сочные зеленя приласкают его взор. По всем приметам, добрый подымается в этом году урожай, — значит, с хлебом будет родная деревня, в каждом доме поселится достаток. До следующей весны, до новых хлебов.
Идет по травам, поекивая селезенкой, сильный конь, и из-под копыт его с фырканьем взлетают перепелки. Коню жарко, но он терпелив, приучен к дозорной службе, знает — не забудут, вовремя накормят его и вовремя напоят. Вот переметнется солнце за этот пригорок — и покажутся два деревца, а под деревцами теми — прозрачный ключ…
— Эй, старшой! — вдруг прервал его мысли молодой дружинник.
— Чего тебе? — пробудившись от дремы, вскинул голову старшой.
— Да вон вроде вспылило что-то.
Старшой протер глаза, вгляделся.
— Так енто облачко, — успокоил он молодого, — я уж его когда приметил.
Молодой воин приотстал, старшой снова смежил веки. «Эх, молодо-зелено, — подумал он, погружаясь в привычную дрему. — Всюду ему половцы мерещатся. Да отколь им в такую-то пору. Поди, и вовсе забыли дорогу на Русь. А вот, бывало…»
Но дружинник во второй раз прервал его спокойные мысли:
— Нет, не облачко енто, старшой, а вроде что-то движется.
— Тьфу ты! — выругался старшой. — Прилип, как овод. Ну где движется-то?
— А ты взгляни.
— Глядел уж…
— Точно, движется. Али ослабел ты, на глаза, старшой?
Дружинник завертелся на коне, оглядываясь на товарищей. Те тоже привстали на стременах. Похоже, что и они что-то высмотрели.
«А и впрямь ослаб я на глаза, — с грустью подумал старшой. — Раньше-то глядел зорчее ястреба. Вот когда ходили со Святославом в степь…»
Снова его не в ту сторону потянуло, а дружинник вертелся перед ним на коне, кричал уже почти озверело:
— Вона, вон они!
Тут уж дрему сняло как рукой. Старшой вгляделся и обмер: в половецких конников тучка-то обернулась. И быть дождю, да только не тому, которого жаждут нивы. И грому греметь, да не небесному.
— Поворачивайте-ко, робяты, — приказал он, — да скачем зажигать сигнальные огни.
— Может, схватимся, а? — крикнул, поблескивая белками глаз, молодой дружинник.
— Они тебе схватятся! — рассердился старшой. — Они тебя и близко не подпустят — снимут стрелой. Поворачивай, кому велено!
Развернулись, пустились вскачь. Один из курганов, где был заранее сложен сухой хворост, был уже захвачен половцами, до второго — не рукой подать. А костер зажечь, оповестить дымами об опасности — первая заповедь дозорных. Сам умри, а искорку в хворост брось…
Но и половцы были не из простаков. Русскому обычаю их сами же русские обучили. И, приметив, куда поскакали дозорные, они ринулись им наперерез.
Не зря досыта кормили на порубежье коней, не зря поили чистой водой, не зря купали в реках, терли скребницами, не зря подковывали их лучшие ковали — словно ветер, несли они на своих спинах пригнувшихся, к лукам дружинников.
Да проспал старшой самый заветный миг: не намного, а опережали их степняки. Два отряда мчались к кургану друг другу наперерез. Чьи кони выносливее, чья возьмет?
Вот и рядом заветная куча, еще немного — и дружинники наверху. Но и половцы тут как тут: криком всполошили степь, рвут кривые мечи из ножен.
Не успеть, не зажечь костра, если хоть чуть-чуть не сдержать лавину. И старшой осадил коня, только молодому крикнул:
— Скачи, не робей, Ванятка!
Сбились в кучу, подняли пыль до небес. Рубили, оглядываясь: успел ли?
Нет, еще далеко ему до вершины, а к половцам подмога спешит. А русским неоткуда ждать подмоги.
Эх, ослабел на глаза старшой, опозорился. Но не опозорит его испытанный меч. Направо и налево разит он врагов, в крови весь, зазубрился.
То тут, то там падают дружинники. Падая, оборачиваются: поспел ли Ванятка, пустил ли к небу спасительный дым?
Последним из всех пал старшой. И, умирая, не плакал он, не стонал, а улыбался: черный змеящийся столб поднялся над курганом.
Спасибо, Ванятка. А теперь дай бог быстрые ноги твоему коню. Рано тебе спознаваться со смертью — живи!
И совсем уже вздел молодой дружинник ногу в стремя, а вторую занес, чтобы вскочить в седло, но увидел, что топчут его костер поганые.
Да разве позволит Ванятка умереть своему живому огню! Не за то пали его друзья, чтобы он удирал от половцев, как трусливая лиса…
…Отсверкало полуденное солнце, улегся томительный зной. На кургане тишина, в степи еще тише. Только возы скрипят, да ржут обеспокоенно кони.
Это половцы идут к Переяславлю, проходят мимо мертвых, порубленных тел. Но не радует их легкая победа: затушили они Ваняткин огонь, да поздно — чуть подальше другие дымы протянулись к небу, а там еще и еще.
Надеялись половцы, что застанут Русь врасплох, но просчитались. И еще не один такой Ванятка встретится на их пути. А беки говорили им: возьмем Переяславль, вернемся в степь без собственной крови. Да вот уж пролилась, она у первой заставы, а сколько таких застав впереди!..
От селенья к селенью летела поданная Ваняткой весть. В Переяславле подхватил ее резвый гонец, понес в Чернигов.
А в Чернигове гонца встречал малиновый перезвон.
— Что это? — спросил у воротника удивленный гонец.
— Пришли бояре из Киева, зовут Чермного на великий стол.
Князь с епископом и послами только что отстоял в соборе обедню. Прямо на паперти запыленный гонец преклонил перед Чермным колени:
— Выслушай, княже.
— Ты кто? — удивился князь.
— Прислали меня в Чернигов переяславцы. Снова половцы вступили на нашу сторону — большая стряслась беда!
— Видишь, — сказал стоявший поблизости Славн, — выходит, в самое время мы тебя к себе призвали. Почуяли степняки, что остался Киев без князя.
И епископ тут же обратился к Чермному, крестя его.
— Благослови тебя бог. Нелегкое выпало тебе испытание: ступай, княже, и прогони поганых.
Скорым шагом на другой же день Чермный двинулся на выручку Переяславлю. А следом за ним от Десны к Дону шла великая рать…
5
Хорошо и спокойно жилось Константину в Ростове. Весною на озере Неро — голубое раздолье.
Князь сидел у окошка над раскрытой книгой, глядел в необъятную даль.
Утрами над водой растекался туман, вечерами вода вишнево зажигалась в заводях. И с первой до последней зари в волнах невесомо порхали белые паруса рыбачьих лодок.
Расставаясь с запечатленной на пергаментных листах мудростью древних, Константин уходил на зеленые берега, тащил с отроками невод, хлебал уху из простой медяницы и возвращался в терем, пропахший дымом костра и запахами свежей рыбы.
После похода с братьями на Мстислава в душе у молодого князя впервые за многие годы установилось спокойное равновесие.
Была одержана бескровная победа, наконец-то они помирились с Юрием (возвращаясь во Владимир, Юрий к тому же отвел душу, разбив на Дрезне Изяслава), Агафья была ласкова и любима, а воспоминания о Любаше все меньше и меньше тревожили князя. Отец писал ему пространные письма, хвалил за прилежание и рассудительность, звал гостить во Владимир.
Но расставаться с Ростовом Константин не хотел, на письма Всеволода отвечал уклончиво и вволю наслаждался долгожданным покоем.
Обычно от озера он возвращался пешком, отрок вел за ним коня в поводу, бояре, глядя на пешего князя, покачивали головами:
— Больно прост наш князь.
Не одобряли они и того, что большую часть времени Константин проводил над книгами, а не в пирах, но в спор с ним вступать побаивались. Чудной, непонятный был у него нрав: то доступен, как гридень, играет с дружинниками в зернь и даже проигрывает без озлобления, то уйдет в себя, в свои неведомые мысли, и тогда к нему не подступись.
В то утро, как всегда, день свой Константин начинал на озере. Было росно и холодно, но князь не побоялся спуститься в воду, вел свой конец не по берегу, а на глубине и теперь, пока чистили еще живую рыбу, грелся у костра, подставляя огню то спину, то грудь.
Отроки привыкли к князю, не стеснялись его, вели себя так же, как и всегда, потешались друг над другом, рассказывали байки, и Константин с охотой встревал в их разговор.
Скоро уха закипела, медяница была перенесена в круг, и все расселись на траве, приготовив ложки.
Но как раз в этот миг, не раньше и не позже, к берегу подскакал вестун, спрыгнул с взопревшего коня и, поклонившись, вручил князю грамоту:
— От батюшки твоего из Владимира.
— Садись к котлу, — пригласил Константин вестуна, а сам тем временем сорвал с шелковой веревочки серебряную печать.
По мере чтения лицо его все более темнело, а когда он кончил, то и вовсе помрачнел.
Отец писал ему, что со дня на день ожидается свадебный поезд от Чермного, что Юрию он берет дочь черниговского князя (все давно с митрополитом сговорено), зовут ее Агафьей: «Как и твою жену, Костя. Нынче две Агафьи будут в нашем роду!», и что как ни любезен ему Ростов, а на венчании не быть нельзя.
«Всех сынов своих и всех дочерей зову я во Владимир, — писал Всеволод. — Пир будет велик, да и радость немалая: наконец-то все птенцы мои слетятся в мой терем».
Константин сунул грамоту за пазуху, поднялся и, не говоря никому ни слова, быстрым шагом направился в крепость. Отроки переглянулись и тоже побросали ложки, смущенно глядели князю вослед.
Жена встретила Константина уже умытая и причесанная. От нее так и веяло утренней свежестью. Последнее время и она, как и муж, была счастлива и спокойна, и облачко печали на лице Константина смутило ее и встревожило.
Кое о чем она догадывалась, потому что вестун не сразу подался к берегу, а сначала заглянул в терем. Раньше в отсутствие Константина все письма от Всеволода принимала она, но на сей раз вестун настойчиво требовал князя.
— Велено передать из рук в руки, — сказал он.
— Что пишет батюшка? — спросила Агафья мужа, как только он переступил порог.
Константин молча сунул ей в руку свиток. Пробежав его глазами, Агафья изменилась в лице. Поездки к Всеволоду во Владимир всегда были связаны для нее с тяжелыми переживаниями. И Константин чувствовал это. Однако же успокоить ее он не мог. Ехать нужно было, и ехать не медля: ослушаться отца он не решился.
Дорога была долгой и утомительной. Но прибыли они в срок. Все Всеволодово многочисленное семейство было уже в сборе. Гонцы, прискакавшие от Москвы, сообщили также, что и свадебный поезд из Чернигова должен вот-вот въехать в Золотые ворота.
Встречали невесту пышно. Несмотря на то, что был недужен, Всеволод вышел на всход, троекратно лобы зал раскрасневшуюся от волнения княжну. Любовь Васильковна, тут же увела молодую на свою половину терема. Юрий, стоя рядом с отцом и братьями, приветствовал гостей, среди которых было множество именитых черниговских бояр, а также племянник Чермного Ингварь Ярославич и зять Кир пронский.
Обнимая Кира, Юрий не удержался, шепнул ему на ухо:
— На Дрезне не поздоровкались, так хоть нынче на тебя взгляну.
Глаза молодого князя озорно улыбались, но Кир сделал вид, будто не расслышал сказанного. Ведь ничего другого ему и не оставалось: едва не расстроили они с Изяславом свадьбу, когда, позарившись на легкую добычу, пришли под Москву. Бес их тогда попутал, и от Чермного обоим была изрядная трепка.
Но и по другой причине не хотел Кир вспоминать прошлого: ведь не пришел он тогда на помощь Изяславу, перепугался, бежал от Юрия.
Когда Чермный призвал его и, хмурясь, сказал, что и он с Ингварем должен ехать во Владимир, Кир было заупрямился.
— Ишь, чего выдумал, — рассердился Чермный, — Нет уж, любезный зятюшко, за тебя твою кашу расхлебывать я не стану. А уж как с Юрием разойдетесь, дело твое.
Добро бы только тем и кончилось, что шепнул ему Юрий на всходе такое обидное, чего бы в другой раз Кир ни за что не стерпел, — однако же разошлись они, и, казалось, все было забыто. Но вечером на пиру завязалась серьезная ссора.
Кир, понятно, кругом был виноват, и сам бы он прошлого вспоминать не стал. Но очень уж не терпелось Юрию и себя перед отцом и боярами выставить, и Киру еще раз насолить. Вот и принялся он сидевшему рядом с ним Якову громко рассказывать, как рубился на Дрезне с Изяславом, а после несколько гон шел по Кирову следу.
— Да вот, вишь ли, так его и не догнал, — закончил он свой рассказ. — Заячья, знать, душонка была у князя, а со страху ноги вдвое быстрее несли. На что у меня в дружине у всех лихие кони, а за Киром угнаться не смогли.
Разговор этот все за столом слышали. Кир сидел напротив и, насупившись, молчал. Когда же Юрий стал попрекать его заячьим нравом, вдруг изменился в лице, резко вскочил, опрокинул блюдо и прямо через стол полез к своему обидчику.
Юрию только того и надо было. Он тоже вскочил и тоже перегнулся через стол, норовя схватить Кира за бороду. Присутствовавшие на пиру бояре кинулись их разнимать. Черниговские повисли на Кире, владимирские — на Юрии. Едва их утихомирили. Но ужин был испорчен, и, прежде чем отойти ко сну, Всеволод, оставив сына, долго выговаривал ему за несдержанность.
— Прости, батюшка, — вяло оправдывался Юрий, — но видеть я Кира за нашим столом не могу.
— Не тобою званы гости во Владимир, — сказал отец. — Срам да и только: сроду такого обычая не было на Руси, чтобы младший наперед старшего в драку лез. Вон и со Мстиславом ты петушился по молодому обычаю. Благо, Костя рядом оказался.
— Только Костькой ты меня и попрекаешь, — сузил Юрий потемневшие глаза. — А я и нынче скажу: не все, что им сделано, то и хорошо.
— Злая у тебя, Юрий, память. Добра ты за братом своим не видишь, — сказал Всеволод, сердясь. — Да все не пойму я: с чего бы это? Константин — старший в нашем роду, его любить надо.
— Пущай Агафья его любит, — огрызнулся Юрий.
— Так что же, — пристально посмотрел ему в глаза Всеволод. — Как помру я, так вы и начнете усобицу? Младших братьев тоже промеж собой поделите?
— Эко куды загнул ты, батюшка, — кривя губы, с неохотой ответил Юрий. — Тебе на покой еще рано, а там как бог даст.
— Не у бога спрашиваю, — оборвал его Всеволод, — от тебя услышать хощу. Не избу оставляю я вам — Русскую землю. Али к роте тебя привести, что не станешь ты худа замышлять против старшего? Нешто не слышишь ты зова родной крови?
— Кровь у нас у всех твоя. — сказал Юрий.
— Так мою кровь проливать будете? — пристально глядел на него Всеволод.
— Ну что ты, батюшка, право, — обиделся сын. — Начали про Кира, а вона куды повернул ты наш разговор.
— Повернул, потому как вижу твой необузданный нрав. Прежде думать надо, а после браться за меч. У тебя же все наоборот. И в кого только ты такой вышел? И мать у тебя вроде кроткая была, То-то подивилась бы она, нынче на тебя глядя. Хотя и ране-то, до своей кончины, помаялась с тобой Мария…
Всеволод вздохнул и отвернулся:
— Иди. Не внял ты моим словам, а помысли. И к Киру подступаться больше не моги.
— Пущай и он кулаками-то не размахивает, — проворчал Юрий.
Вот ведь упрямец какой, последнее слово всегда за ним. Всеволод вспылил, хотел еще ему выговорить, но дверь за сыном уже захлопнулась.
Утром же молодого князя будто подменили: был он весел, даже с Киром разговаривал, улыбаясь, и Всеволод успокоился: знать, вчерашний разговор не зря пропал, знать, упали на добрую ниву его слова.
Отцу всегда лестно хорошо подумать о сыне. Оглядывая в соборе всех своих детей, прислушиваясь к вдохновенному голосу Иоанна, свершавшего обряд венчания, старый князь успокаивался все больше.
И так ему думалось: может, от многих недугов мерещится ему беда? Может, придирчив он стал и свою позабыл молодость? Вона что вчера сказал сыну: и в кого, мол, ты такой уродился? А сам, сам-то не был ли в его годы так же горяч и безоглядчив? Тоже ведь не с отцовой кровью передалась и ему житейская мудрость. Сколь раз, бывало, осаживал его Михалка. Сколь раз спокойно и терпеливо поучал Микулица!
А когда запел «Вечныя лета» Лука, когда молодых повели к венцу и Иоанн возложил им на головы руки, Всеволод даже прослезился. Вдруг вспомнилось ему давнишнее, как здесь же, в этом же самом, но тогда еще одноглавом и тесном соборе, он сам стоял рядом с Марией и тайно искал ее трепещущей руки, не слыша ни слов протопопа, ни трубного голоса дьякона.
Мария… Как была, так и осталась она неистребимо в его памяти, и хоть Любашу он любил не меньше, а по ночам не она приходила к нему в тревожных снах. И не старой и немощной вспоминал он свою первую жену, а всегда молодой, и чаще не одну, а с сыном или дочерью на руках. Любаша была бесплодна.
Вот стоит она рядом, искоса взглядывает на него заботливым взором, тоже близкая и родная, но той, прежней нежности в нем почему-то нет. Почему-то не сжимается сердце, не замирает в горле дыхание, не сохнут от волнения губы. Или и это печать свою наложили прожитые годы?
Снова стеснило грудь, задрожали ослабевшие ноги — где-то близко ходит она, безносая, а все не может его найти. Только страшит прикосновением своей костлявой руки — и проходит мимо.
Всеволод покачнулся, но тут же закрыл глаза и сосредоточился: не время было пугать окружающих. Одна лишь Любаша и заметила, что с князем неладно. В глазах ее полыхнулась тревога, но Всеволод успокоил ее взглядом.
Чинно и празднично обряд венчания шел своим чередом.
Глава девятая
1
Короткое лето кончилось — будто и не было его, будто совсем недавно и не полыхали в сухмень зловещие пожары. Осень прошла холодная и дождливая, а потом повалил обильный снег, ударили морозы.
По холоду, по высоким сугробам пробивался через леса запряженный четверкой лошадей возок. Впереди и сзади возка скакали дружинники.
В возке, забившись в шубу, нахохлившись, сидел молчаливый Митрофан.
Время было позднее, собирались сумерки, лошади выбивались из сил. Наконец за поворотом показалась долгожданная деревня. Все приободрились, кони пошли веселее. Митрофан приоткрыл полсть и поморщился — ветер швырнул ему в лицо ледяную крупу.
Лошади остановились у новой избы с подклетом, дружинники загрохотали в ворота.
Вышел хозяин в накинутом на плечи зипуне, прикрывая рукой лицо от ветра, вгляделся в поздних гостей.
— Батюшки-светы! — воскликнул он. — Да, никак, возок-то владыки?
— Отворяй, отворяй, — ворчливо поторопили его дружинники.
Возок въехал во двор, Митрофан выбрался на снег, размял затекшие ноги и поднялся на крыльцо. Мужик, пропуская его вперед, угодливо распахнул перед ним дверь.
В избе было темно, в углу потрескивала лучина, пред иконами скупо теплился огонек лампадки.
Митрофан широко перекрестился на образа и сел на лавку.
— Благослови, отче! — упал перед ним на колени мужик. Митрофан нехотя осенил его крестным знамением.
Ужинали скудно, спать легли на полу. Дружинники храпели, хозяин вздыхал и вертелся с боку на бок.
Митрофан не спал, глядел во тьму широко раскрытыми глазами, перебирал в памяти минувшее.
Все свершилось неожиданно и быстро. Он и в голову не мог такое взять — только накануне Димитрий Якунович был у него в палатах, говорили спокойно и мирно. Посадник нахваливал квас, уходя, с почтением приложился к руке Митрофана.
А утром в детинец явились бояре, и тот же Димитрий Якунович был среди них, но уже совсем другой — одна ночь его враз переменила.
Владыка удивился:
— Почто в такую рань?
Димитрий Якунович сказал:
— Всему свой срок. А пришли мы тебя спросить: сам отречешься от сана али силою выведем тебя из палат?
Митрофан даже растерялся от такой наглости, даже речи лишился. Но, придя в себя, стал топать ногами и греметь посохом:
— Не вы меня ставили во владыки, не вам меня и убирать.
Димитрий Якунович даже вроде повеселел от таких его слов.
— А и жребий за тебя не тянули, — сказал он. — Поставлен ты был Всеволодом, и противу воли Великого Новгорода. Митрополит тебя тоже не утверждал. Вот и выходит, что вроде бы и сидел ты все эти годы у нас незаконно.
— Это как же так незаконно?
— А вот так.
В долгие споры посадник вдаваться не стал, дал знак вошедшим вместе с ним отрокам, и те, не смущаясь, стали вырывать у владыки посох.
Митрофан был силен, а во гневе звероподобен. Посоха он не отдал, расшвырял отроков и кинулся на посадника. Димитрий Якунович вспрыгнул на лавку, бояре повисли на владыке, как гончие. Срывали с него одежды, панагию бросили на пол и топтали. Плевали Митрофану в лицо.
— Устыдись, — сказал владыка, когда его, связанного, усадили на перекидную скамью и сгрудились вокруг, не зная, что делать дальше. — Не меня, но церковь посрамил ты в моем лице. Али ничего святого для вас уже нет?
— Слушать мне тебя недосуг, — ответил ему на это Димитрий Якунович. — А Мстиславов наказ таков: везти тебя в Торопец и содержать под запором.
— Да где это видано, чтобы владыку держали в узилище? — испугался Митрофан. — Ежели Всеволод про ваше самоуправство узнает, ни тебе, ни князю вашему несдобровать.
— Всеволоду теперь не до тебя, — сказал, ухмыляясь, посадник. — Кажись, светлые наступают времена.
— Ты, посадник, говори, да не заговаривайся, — впадая в растерянность, проговорил Митрофан, — Это почто же Всеволоду не до меня?
— Готовится он ко встрече с господом.
— Окстись!
— А вот те крест, — побожился Димитрий Якунович. — От Кощея весточка пришла, что и до весны не протянет князь.
От таких слов посадника совсем не по себе сделалось Митрофану. Не мог он поверить в дурные вести. Но и Димитрию Якуновичу с чего бы врать? Небось все эти годы жил да только и делал, что оглядывался на Понизье. А тут на ж тебе — каким смелым стал.
И загрустил Митрофан. Тихим сделался и покорным. Потом уж он узнал, что еще до того, как свергли его с владычного места, в Новгород пришел Добрыня Ядренкович, нарекли его Антонием и поставили во владыки.
Теперь Антоний входил в палаты, как в свой дом. Самого подходящего пастыря выбрали себе новгородцы: был Антоний тих и покорлив, князю и Димитрию Якуновичу в рот заглядывал.
Круто менялись времена. Простцам всей истины открывать не стали, ввели их в заблуждение, объяснив, что Митрофан сам отрекся от сана по нездоровью.
Вона что выдумали! Будто и по сей день не гнул бывший владыка подковы, будто не ходили бояре, кинувшиеся его усмирять, с синяками да шишками. Спознались они с его силушкой, а он-то каков: еще когда нужно было раскусить Димитрия Якуновича! Теперь кулаками размахивать поздно…
«Неужто Всеволод и впрямь так плох?» — думал Митрофан, ворочаясь на шубе и вглядываясь в светлеющие щели заволоченных окон. Явное никак у него в голове не укладывалось, еще надеялся он на чудо, еще ждал, что вот-вот нагонит их в пути посланный из Новгорода гонец, велит возвращать владыку.
Но гонца не было, дружинники богатырски храпели, по крыше шуршал ветер, перегоняя с места на место ледяную крупу.
К утру владыка задремал, но тут забухали в дверь, послышались шаги и чей-то писклявый голос.
— Эй, хозяин! — басисто окликнул старшой.
— Чегой-то? — всполошился на лавке мужик. Сел, потер кулаком глаза.
Старшой стоял у порога и держал за шиворот незнакомого человека:
— Твой?
— Впервой вижу, — удивленно сказал хозяин и подошел поближе.
— Ты кто? — спросил старшой пойманного и тряхнул его так, что у того замоталась голова. — Почто хоронился в стогу, почто не шел в избу?
— Куды уж мне в избу-то?
— Поговори, поговори, — пригрозил старшой. — Байками нас не потчуй, а прямо отвечай, коли спрашивают.
— Гусляр я…
— Гусля-ар? — протянул старшой и с недоверием добавил: — Ну а коли гусляр, так где твои гусли?
— Пропил.
— Так какой же гусляр пропивает свои гусли?
— А вот и пропил. Так, стал быть, и не гусляр я нынче, а кто — и сам не вем, — не то посмеивался над старшим, не то правду говорил незванный гость.
Митрофан сразу узнал Якимушку.
— Оставь его, — сказал он старшому, — я его знаю.
— А коли знаешь, так почто молчал?.. Постой, постой, а не из твоих ли он, не из володимирских? — с подозрением пригляделся к владыке старшой. — Не знаки ли он тебе подавал?
— Батюшки! — вдруг изменился в лице Якимушка. — Да ты ли это, владыко?
— Не владыка я боле, а пленник, — буркнул Митрофан и, отвернувшись, снова накрылся шубой.
— Да как же не владыко-то, ежели сам перстенек мне жаловал? — не унимался Якимушка.
— Цыц ты! — прикрикнул на него старшой. Но Якимушку не просто было унять. Уж коли разговорился он, так выскажется до конца. И обида у него на Митрофана была давнишняя.
— Второго-то перстенька, обещанного, ты мне так и не дал, — сказал он с укором.
Владыка лежал, накрывшись до затылка шубой, и молчал. Старшой полюбопытствовал:
— А что, отче, и впрямь задолжал ты перстенек гусляру?
Митрофан не пошевельнулся.
— Задолжал! — сказал Якимушка и шагнул к лежащему под шубой владыке. — А ну, как стребую я с тебя должок?
Митрофан не выдержал, приподнялся и тихо упрекнул старшого:
— Почто слушать мне этого гусляра? Врет он все. И никакого перстня я ему не давал. А уж о должке и подавно ничего не знаю. Гони его из избы, а мне дай поспать — вишь, как под утро-то разморило.
— Спать тебе не доведется, отче, — сказал старшой. — Заря на дворе, а нам ехать не близко. Так что вставай.
— Чтоб тебя, — выругался Митрофан и вылез из-под шубы. — Ты хоть его-то гони, — кивнул он на Якимушку.
— Да что гнать-то, что гнать? — зачастил Якимушка. — Как надо было, так все обещал. А вот теперь слова тебе мои будто живой укор.
Старшому интересен был неожиданный разговор.
— Ты гусляру, отче, ответь, — посоветовал он.
— Отвечать мне нечего, — разозлился Митрофан. — Мало ли что простец сболтнет? А мне за его бахвальство ответ держать?
— Не сболтнул я. Тебе с перстеньком расстаться жаль, а мне подыхать с голоду? Видно, не зря прогнали тебя из Новгорода: радости от тебя не было никакой. Да и днесь доброты твоей не вижу. Так вернешь ли перстень?
— Пшел отсюда! — пугнул владыка Якимушку. Тот и с места не сдвинулся:
— Ох и жаден же ты, владыко. Но мне-то что? Сама судьба нас свела: в Новгороде ты высоко сидел, здесь — поближе.
— Куды глядишь? — обратился Митрофан к старшому. — Почто волю ему даешь?
— Дык, может, ты и впрямь чего гусляру задолжал? — засомневался старшой, переминаясь с ноги на ногу.
— Тебя зачем со мной слали? — злые глаза Митрофана так и сверлили дружинника.
— Препроводить в Торопец…
— А ишшо?
— А ишшо, чтобы ты не сбег.
— А ишшо?
Старшой растерянно промолчал.
— То-то же, — сказал Митрофан. — Приставили тебя ко мне, чтобы всякие людишки на дороге не приставали. А ты како князев наказ блюдешь?
У старшого служба подневольная, и, видно, прав владыка: мало ли что на ум взбредет случайному путнику?
Схватил он Якимушку за поясок да за шиворот и выкинул за двери.
— Не всяк тот гусляр, — назидательно сказал Митрофан дружиннику, — кто песню сложил. А у ентого и песни-то не свои, а все Иворовы. Нынче же и вовсе петь он разучился.
Кое-как позавтракав, снова пустились в путь. И снова сидел владыка, забившись в угол возка, снова то в отчаяние впадал, то тешил себя пустыми надеждами.
Может, и оправится Всеволод, — что, как ошибся Кощей? Нешто допустит великий князь, чтобы унижали его верных слуг? Нешто не подымет голос свой в защиту Митрофана?..
2
Казалось долгие годы: как новый порядок вещей установился, так и стоять ему незыблемо до скончания дней.
Мстислав первым трещинку разглядел, насторожился в Киеве и Чермный.
Всеволод умирал. Дурные вести от него скрывали, хороших вестей не было.
Во Владимир потихоньку съезжались Всеволодовы сыновья. И стал великий князь делить между ними свою землю:
— Два старших города в Залесье: Ростов и Владимир. Ты, Константин, самый первый из всех — даю тебе Владимир, а ты, Юрий, второй мой сын, — ступай в Ростов. Живите в дружбе и согласии и младших братьев своих не обижайте.
Но не о таком разделе мечтал Константин. Познал он до самых глубин отцовскую непростую науку и вдруг заупрямился:
— Батюшка! Ежели ты меня и впрямь считаешь старшим в нашем роду, то отдай мне старый начальный город Ростов и к нему Владимир или, ежели так тебе угодно, дай мне Владимир и к нему Ростов.
Всеволод рассердился: никогда еще до сей поры не бывало, чтобы так круто не согласился с ним его сын.
— Езжай к себе, — сказал он Константину, — а я свою волю тебе объявлю.
— Мое слово твердо, — глядя в глаза отца, решительно сказал Константин и вышел.
Всеволод всем велел удалиться из гридницы, оставил при себе одного Иоанна.
— А ты како мыслишь, епископ? — спросил он его.
— Сыновья твои, тебе виднее, княже, — уклончиво молвил Иоанн. — Одно только скажу: не ожидал я от Константина такой прыти.
— Так как же мне быть?
— Вот и прикинь, кто из сынов тебе дороже.
— Оба одинаково дороги. Потому и дал Константину с Юрием старшие города. Так положено по исстари заведенному обычаю.
— Ну а коли положено по обычаю, так и стой на своем, — почему-то не очень уверенно поддержал его Иоанн. — Ничего, свыкнется Константин. А то вона чего захотел!
Всеволод долго и напряженно думал.
— Обидел меня Костя, — проговорил он недужным голосом. — Хотел порадовать его: как-никак, а оставляю на своем месте. Не Стародуб же даю и не Москву. А он: «Слово мое твердо» — и тут же отбыл в Ростов. Даже денька не посидел возле хворого отца…
— Ничего, — повторил Иоанн, — вот вернется к себе и одумается.
— Кабы так, — вздохнул Всеволод. — Долго готовился я к этому дню, много провел бессонных ночей. Теперь боюсь: как бы и Юрий не воспротивился.
— Ему-то что противиться? Приметил я: как объявлял ты свою волю, радостью зажглись его глаза. А ведь боялся, боялся он, что не дашь ты ему Ростова.
— И то ладно. А покуда оставь меня, Иоанн. Еще побыть хощу наедине со своими мыслями.
Епископ вышел. Старый князь поднялся с лавки, где пребывал в глубокой тени, и перебрался к окну.
Но сегодня и солнце его не порадовало, смятенно было у Всеволода на душе. И беседа с епископом не принесла облегчения.
Константин никак не выходил у него из головы. То ребенком видел его, то зрелым мужем, а то вдруг вспомнилось, как стоял сын в церкви на коленях рядом с Любашей, а Всеволод, наблюдая за ними, прятался на полатях.
Знал старый князь: о Константине и в народе и среди бояр разные ходили слухи. Будто и хвор он, и духом немощен, и что впору ему не княжеское платно, а монашеская ряса. Но разве была в этих слухах хоть малая толика правды? Уж кто-кто, а Всеволод хорошо знал своего сына. И если пред богом говорить, то и свершенного Константином поступка он тоже ждал.
Во многом прав был старший сын. И не от гордости и не от книжной премудрости дерзко говорил с отцом: ведь ежели отделить Ростов от Владимира, то все возвращалось к истоку. Не преминут, начнут спорить между собою старшие города, и некогда могучее княжество снова погрязнет в кровавой усобице.
Но было и другое: усобица могла возникнуть и по другой причине. Юрий ненамного младше Константина, и, ежели отказать ему, ежели все отдать старшему, смирится ли он, не поднимет ли руку на то, что ему принадлежит по праву?
Помирить хотел сыновей своих Всеволод, а уже при жизни ввергал между ними меч. И не видел из этого выхода.
Кто-то тихо вздохнул за спиной. Всеволод вздрогнул и обернулся.
— А, это ты, Любаша, — произнес он, и лицо его осветилось улыбкой.
— Задумчив ты, княже, — сказал жена. — Уж не занемоглось ли снова?
— Оттого и пришла?
— Слышу, тихо в палате… Испугалась. Глядь, а ты сидишь у окошка. День-то сегодня какой ясный. Не велишь ли заложить возок?
— И впрямь, — согласился Всеволод, гладя ее руку, — Повели конюшему — пущай закладывает, да побыстрее.
Давний был у него обычай: в трудную минуту всег да выезжал он на улицы города. Раньше верхом, теперь — в возке.
От свежего воздуха у Всеволода закружилась голова.
«Хорошо, ах, как хорошо-то», — подумал он, поглядывая по сторонам.
Кони бежали легкой рысью — возница боялся растрясти князя. Сама Любаша ему наказывала, чтобы был осмотрительнее.
Когда сходили с крыльца, хотела и она сесть в возок, но Всеволод сказал, что поедет один. Перечить ему княгиня не стала.
Выехали из Золотых ворот, поднялись на Поклонную гору. Здесь ветерок был еще свежее. Повсюду, радуя глаз, зеленой дымкой окутывались холмы и перелески.
Всеволод обернулся — вот он, его город, весь виден, как на ладони. Могучие стены исполинами поднялись над глубокими рвами, а над городницами с темными прорезями скважней, поблескивают золотые купола церквей.
Невольно взгляд отыскал и маковку Успенского собора Княгинина монастыря. Недолго уж осталось — скоро свидится он с Марией. И сердце Всеволода защемило предсмертной холодной тоской.
Со всеми скоро он свидится: и с братом Михалкой, и с Микулицей, и с Евпраксией. И с друзьями и с врагами своими — и с Глебом рязанским и с киевским Святославом. А о чем беседовать они будут в райских кущах? Нешто и на том свете продолжат свой земной, неразрешенный спор?
Да и в райские ли кущи уготован ему путь? Не грешен ли он, и не расплата ли ждет его за его грехи?
Тут вдруг вспомнилось, как этим же самым путем выезжал из Владимира изгнанный им сын Боголюбского Юрий. Не был ли тогда Всеволод чересчур жесток, не предал ли голос родственной крови?..
Кто ответит? Кто разрешит извечный и трудный спор между делами и сердцем, между любовью и долгом?
«Грешен, грешен еси», — думал Всеволод. И не свершает ли он последний свой, самый тяжкий, грех, рассекая землю, облитую кровью и потом, между своими сынами?
А как быть? Выхода не было.
Благо, не знал еще Всеволод, что худшее впереди. Что не просто исполнит он свою волю, а собрав бояр и всех передних мужей на собор, выслушав их внимательно, разгневается и скажет так:
— Ослушался меня Константин, мнит поступить по-своему. Не хощет брать Владимира, а Ростов уступить Юрию. Так пусть же свершится моя воля: отбираю я у него старшинство и Юрию отдаю Владимир с пригородами.
Ужаснутся думцы. Кузьма Ратьшич, убеленный сединой, бросится к Всеволоду и станет на коленях умолять его, чтобы изменил свое решение. Но не внемлет ему князь, даже не выслушает, встанет и уйдет, отринет от себя друзей — так суровая складка и не разгладится на его челе даже и в гробу. И, глядя на него, будут со страхом перешептываться люди:
— Господь отвернулся от нашего князя, и дьявол подвигнул его на немыслимое.
И будут всматриваться в небо и ждать страшного знамения. Но не разверзнутся небеса, и даже собиравшийся с утра дождь не прольется на смущенную землю.
А покуда князь был еще жив, и измученное недугами его тело жаждало тепла и покоя.
Легкая тучка заслонила солнце, от Клязьмы подуло прохладным ветерком.
— Поворачивай! — крикнул Всеволод вознице. Тот полуобернулся, оскалил в улыбке белые зубы и стал осаживать лошадей.
Вот тут-то, в виду раскрывшегося во всю ширь города, и народилась шальная мысль: почто сделал брат мой Андрей главным младший город на Руси, почто бы и младшего сына не посадить во Владимире?
Всеволод даже пристал в возке, даже перекрестился и, глядя по сторонам, постарался отвлечься. Но куда бы он ни глядел и о чем бы ни помышлял, а мыслями все обращался к старому…
Возвратившись в терем, он тем же вечером уединился в харатейной и написал грамоту, в которой упрекал Константина за своеволие и подтверждал, что отдаст ему Владимир, а о Ростове пусть он и думать позабудет — Ростов, как и сказано было, отойдет Юрию.
Константин ответил ему отказом.
3
Всеволод скончался на Пасху, и Юрий, облеченный властью, сел во Владимире на старшем столе. Ярослав остался в Переяславле, Святославу отошел Юрьев, Владимиру Москва, а самому младшему, Ивану, — Стародуб на Клязьме.
Вроде бы мирно поладили, никто не возражал, Константин тихо отмалчивался в Ростове.
Минуло сорок дней, и Юрий впервые почувствовал себя во Владимире хозяином. Корста с прахом отца была поставлена в Успенском соборе, княгиня Любовь Васильковна постриглась в монашки, жизнь пошла своим обычным чередом.
Но необычно было молодому князю в старом отцовском тереме. Вроде бы все и знакомо, вроде бы с детства обшарены все углы и закоулки, а все открывалось вновь, во всем обнаруживалось глубокое значение: и детинец теперь не Всеволодов, а Юриев, и резной всход его (захочу, так и переделаю), в конюшне кони стоят Юрьевы, Юрьевы расторопные девки стучат на кухне ножами, готовят яства для Юрьева пира.
А больше всего гордился молодой князь, когда входил в гридницу и садился в отцовское потертое кресло. Вот и возвысился он над всеми своими братьями, вот и Константина обошел нежданно-негаданно, и нет у него к нему прежней неприязни: пущай живет себе в своем Ростове, в дела его Юрий вмешиваться не станет. И так изрядно наказан старший брат, еще когда позабудет нанесенную ему обиду. Да и на Юрия гневаться не за что: не он отнял у него старший стол, Всеволода не он подговаривал. Разве вот только не отказался от высокой чести, да и кто откажется?
Нет, не грызла Юрия нечистая совесть, и это было великое благо: от всей души звал он братьев к себе на пир.
Агафья тоже была счастлива, тоже не могла нарадоваться столь неожиданной перемене. Давно ли входила она в эти палаты невесткой, давно ли смущалась, боялась не то сказать и не так ступить?!
Теперь осанка ее стала горделивой, походка плавной, голос распевчивым, взгляд милостивым. А по натуре была она добра и отзывчива, и скоро все полюбили ее во Владимире.
Старых отцовых бояр князь Юрий не притеснял, как и прежде, звал на думу, внимательно выслушивал, но все чаще стали появляться среди них молодые, а то и никому не ведомые. С ними молодой князь и держал свой главный совет. Но старики не были на него в обиде.
Однако же понемногу первые светлые дни стали все чаще уступать место делам и тревогам. А тревожиться было от чего. То о боярине слух пройдет, то о воеводе — отъехали-де они в Ростов. То вот и Кузьма Ратьшич вдруг засобирался.
— Ты что это, Кузьма, — обиделся Юрий, — али притесняю я тебя, али чем обидел?
— Не обидел и не притесняешь ты меня, княже, — сказал, пряча глаза, Кузьма, — а охота взглянуть на пожалованные мне Всеволодом угодья, что под Ростовом. Давненько уж там не бывал.
— А жену-то, а детей-то почто взял с собой?
— Пущай отдохнут.
Отъехал Кузьма, за Кузьмой отъехал Иван Родиславич, за Иваном — Андрей Станиславич. Зато во Владимир прибыл из Ростова с чадами и домочадцами именитый боярин Еремей Глебович.
То туда, то сюда переметывались растерянные люди. Раньше все они служили Всеволоду, а теперь не знали, где лучше.
Не на шутку встревожился Юрий, звал к себе Еремея, выспрашивал у него о брате.
— Одно слово, серчает на тебя Константин, — сказал боярин.
— За что же ему на меня серчать? — с удивлением допытывался Юрий. — Стола владимирского я у него не отнимал — сам отказался, не захотел послушаться батюшку.
— А это уж ты сам у него спроси, — уклончиво ответил Еремей. — Но только сдается мне, что в покое он тебя все равно не оставит.
Тут и того хуже. Поспорили Юрий со Святославом (оба горячи!), а тот возьми да и переметнись в Ростов. Следом за Святославом подался к Константину и Владимир.
Не по себе сделалось Юрию. Вдруг почувствовал он, что тишина во Владимире опасна, что зашатался под ним великий стол. И тогда позвал к себе Веселицу и велел ему срочно скакать в Переяславль к Ярославу. «Ежели и Ярослав против меня, то дело совсем худо», — подумал князь.
Дорогою встречь попался Веселице купец из Новгорода. Дело к вечеру было, разложили костер, подвесили над огнем котелок, разговорились.
Любознательный оказался купец, много повидавший и много знающий.
— Где была вода, там и опять будет, — говорил он, помешивая ложкой закипающую уху. — Не добрые пришли времена, погоди чуток — и примутся наши князья за старое. А такого, как Всеволод, нынче уж нет на Руси князя.
Веселица попытался возразить ему. Но купец так поглядел на него, что он сразу осекся.
— Молоды Всеволодовы сыны, молоды и неразумны, — сказал он. — Один разве что Мстислав из Мономахова семени… И храбр, и справедлив, да нет у него крепкого корня. Нынче здесь он, а завтра уже там. Вон недавно слух прошел, будто притесняет Чермный галицкого Даниила, Романова сына, — так Мстислав тут как тут. Неймется ему без драки, а мы, новгородцы, народ торговый — почто лезть во всякую свару, когда и у себя дома дел невпроворот? Русь-то со своей избы начинается. А коли нет ни кола ни двора, так и все нипочем.
Умно говорил купец, рассудительно. Не согласиться с ним было нельзя. Вот и Веселица вставил словечко:
— С чего Юрьевичи в силу пошли? Не стали, как иные, переходить из удела в удел, ища старшинства, а прочно сели у себя в Залесье.
— Видать, и ты смекалист, — обрадовался купец, — и по всему — не простой смерд, а человек княжеской либо боярский. Так ли?
— Угадал. Дружинник я князя Юрия, и путь мой лежит в Переяславль к Ярославу.
— А я в самый раз из Переяславля.
— Ну как там?
— Да все так же. Разве что пообветшали стены вокруг города, а новые ставить — все недосуг. Вроде бы Ярослав и не хозяин в своей вотчине, вроде бы куды в другое место замыслил направить свои стопы.
— Да что же ему из города в город бегать? Да и куды — все грады поделены Всеволодовыми сынами, и свободных нет.
— Свободных-то нет, — отвечал купец, — а кой-кого и потеснить можно.
— Ни Константин, ни Юрий вотчин своих ему не уступят, — сказал Веселица.
— Вона куды хватил! — засмеялся купец. — Не так прост Ярослав, как кажется. Он-то других своих братьев еще и пооборотистее. Не гляди, что третий в роду, а отцова наука мимо него не прошла. Юрий-то все больше был возле батюшки, Константин тоже недавно получил Ростов, а до этого недолго княжил в Новгороде, да что с того — тут же его и прогнали. А Ярослав с ранних лет приучался думать своей головой. И не у братьев будет он воевать себе землю.
— Так у кого же?
— Да у того же Новгорода! — ошарашил Веселицу купец.
— Видать, умом ты тронулся, — придя в себя от неожиданности, сказал Веселица. — Нешто уступит ему Мстислав Удалой свое место?
— Так разве у Мстислава станет он его просить?
— А у кого же?
— У Боярского совета, у передних мужей — вот у кого.
— Э, вот тут и дал ты маху, купец, — засмеялся Веселица. — Самому Всеволоду Боярский совет перед кончиной его не покорился.
— То Всеволоду. А нынче нет его. И начался в Новгороде иной сказ. Мстислав не всем по душе. Иные держатся и противной стороны, надеются, что Всеволодовы сыны будут с ними поприветливее. И первая весточка у меня с собой — Димитрия-то Якуновича скинули!..
— Да ну! — ахнул Веселица, — Кого же на его место поставили?
— А Юрия Ивановича.
— Кто ж он такой?
— Сын Иванка.
— Постой, постой, — стал припоминать Веселица, — это не того ли самого Иванка, который вместе с посадником Мирошкой, Борисом Жирославичем, сотским Никифором и Фомою приходил ко Всеволоду на поклон и просил дать им в Новгород сына его Святослава?
— Того самого, — подтвердил купец. — Вот и выходит, что и Юрий Иванович держится вашей стороны. А раз так, то недолго и ждать, как выкрикнут на вече князя из Всеволодова гнезда. Константин и Юрий поделили старший стол, им покуда не до Новгорода — друг с другом еще никак не разберутся. Ярославу же в самый раз помыслить, коли такая удача сама идет в руки. Не Святослава же звать Юрию Ивановичу! Святослава дважды изгоняли из города, в третий не позовут.
— Ну а Владимир чем плох?
— Не знаю. Но до меня такой слушок дошел, что выкрикнут Ярослава.
Утром Юриев гонец расстался с доброжелательным и словоохотливым новгородским купцом. А на следующий день он уже был в Переяславле.
Князь принял его милостиво, со вниманием выслушал переданную изустно просьбу Юрия:
— Если пойдет на меня Константин или Владимир, будь ты со мною заодно, а если против тебя пойдут, то я приду к тебе на помощь…
— Ишь ты, каков ростовский-то медведь, — сказал Ярослав. — Он и прежде был упрям, а теперь, когда остались мы без отца, и вовсе осмелел. Мы же крест батюшке целовали, что Юрию сидеть старшим на владимирском столе.
Но на просьбу брата своего не сразу дал он ответ. Накормил, напоил гонца, отправил спать, а сам собрал у себя в гриднице передних мужей.
— Отец мой отошел к богу, — сказал он им. — Скажите же: хотите ли и впредь иметь меня своим князем и головы свои сложить за меня?
Бояре отвечали в один голос:
— И очень хотим. Ты наш господин, ты наш Всеволод.
— Ну так целуйте крест.
И бояре целовали крест, а когда обряд был исполнен, Ярослав рассказал им о приезде гонцов и о просьбе Юрия.
— Что ответим моему брату? — спросил он их.
— А ты бы что ответил, княже?
— Я бы сказал ему: где ты, там и я с тобой.
— А мы с тобой, княже, — сказали думцы.
Так поделились надвое Всеволодовы сыны: с одной стороны Константин, Святослав и Владимир, с другой — Юрий и Ярослав.
Обласканный, хмельной и веселый возвращался во Владимир Веселица. Думал — добрую весть несет, а нес весть страшную: накануне гибели своей встала некогда могучая и процветающая Русь. Нависла над ней невиданная доселе кровавая усобица.
4
Узнав о том, что поделились братья, Звездан явился к игумену Симону и объявил, что принял решение покинуть его обитель.
— Еще когда я предрекал, — сказал он, — что слеп стал в своей гордыне Всеволод. Вот и принял он на себя перед смертью великий грех. Иду к Константину в Ростов — за ним, как за старшим, правда, а с младшими сынами я и знаться не хощу.
Симон перечить ему не стал: сам он еще тогда пребывал в великом смущении.
Скинув с себя монашескую рясу, перво-наперво явился Звездан к себе домой.
Увидев его на пороге, Олисава едва памяти не лишилась; не кинулась к нему, не обняла — села, заплакала навзрыд.
— Что же ты, женушка, мужу своему не рада? — спросил ее Звездан.
— Да какой же ты мне муж, — сказала ему Олисава сквозь слезы. — С богом ты повенчанный. А пришел, только чтобы пуще прежнего меня растравить.
— Ишь ты, что вздумала, — улыбнулся Звездан. — Не плачь, взгляни на меня хоть разок — разве похож я на смиренника.
Олисава посмотрела на него и покачала головой:
— Нет, не похож. Нешто вышел из монастыря?
— Вышел. И обратно туды уже больше не возвернусь.
Только тут Олисава и поверила в свое запоздалое счастье. Вскочила, повисла у него на шее, горячими слезами оросила ему лицо.
— Всё у баб один обычай, — мягко проворчал Звездан. — Горе — в слезы, радость — опять в плач.
— Как же мне не плакать-то, — сказала, счастливо улыбаясь, Олисава, — когда похоронила уж я тебя, а ты снова предо мною воскрес?
И тут же бросилась подымать слуг, чтобы скорее топили баньку, вздували на кухне огонь.
Потом они сидели вдвоем за большим, празднично накрытым столом, почти не ели, почти не пили, а только смотрели друг на друга и все не могли насмотреться.
Ночью, раскинувшись на просторном ложе (в монастыре-то спал он на одних досках), Звездан сказал Олисаве:
— Во Владимире нам больше делать нечего, поедем в Ростов.
— Что же в Ростов-то? — зевнув, спросила жена.
— Константину буду служить.
— А чем тебе Юрий хуже?
Звездан помолчал, замешкался. Зря в первый же день всполошил он Олисаву. Еще не насладились они желанной близостью, а вот — мысли его опять же далеки от дома.
Олисава насторожилась.
— Да сказывай, сказывай. Что замолчал-то?
— А я все сказал.
— Нет, не всё еще, — склонилась над ним Олисава. — У всех мужики как мужики — один ты у меня не такой, как все. Да неужто не заслужила я хоть недолгого покоя? Неужто столь грешна, что и пожалеть некому?
— Я грешен, — сказал Звездан. — И пред тобою грешен, и пред своею отчиной. Ты меня простишь, простила уже. А ежели не выберу я сейчас свой путь, так простят ли меня люди?
Все теперь было между ними сказано. И Олисава поняла, что другим себе мужа ей не вернуть.
— Хорошо, Звездан, — согласилась она. — Видно, выпала мне такая доля. Ежели ты меня не забыл, так и я тебя не брошу никогда. И рожу тебе славного сына.
Через два дня Звездан с Олисавой и со всем своим домом готовы были отъехать в Ростов. Вдруг заявился на их двор Веселица.
— А я-то слышу, что вышел ты из монастыря, — воскликнул он, обнимая друга, но, оглядевшись, тут же помрачнел. — Погоди, Звездан, а это что за обоз? Почто разорил ты свой терем? Почто пусто в нем?
— Таиться от тебя не стану, — сказал Звездан. — В трудный час хощу быть рядом с Константином.
— И ты туды же?
— Али еще кто подался в Ростов?
— Решились иные из бояр, — помолчал. — А вот я во Владимире остаюсь: отчая здесь земля…
— Да не отчее право, — отрезал Звездан. — По отчему праву не Юрию здесь сидеть.
— То Всеволодова воля, — смущенно сказал Веселица. — Сам знаешь: крутенек был князь.
— Вот от крутости его и стряслась беда. Одною рукой собирал он вокруг себя Русь, другою — все собранное разрушил. И вот, подумай-ко, не еще большую ли навлек на нас напасть?
— Да какая же напасть, ежели бы Константин смирился?
— А почто смиряться ему? Все едино коренная земля расколота надвое. Ежели Владимир и Ростов не вместе, так где же она, его держава?.. Нет ее.
— Столкуются сыны. Нешто братнюю кровь прольют?
— Не столкуются, Веселица. То, что Всеволодом посеяно, взойдет не добрым хлебом, а горьким чертополохом. Попомни! И ежели хощешь ты на правую сторону встать, так поедем со мною в Ростов.
— Какая же это правая сторона? — обиделся Веселица. — Вон и Ярослав заодно с Юрием.
— Ну, так прощай.
— Прощай.
— Нешто не свидимся?
— Бог весть. А то еще и свидимся.
— Хорошо бы не на бранном поле.
— Хорошо бы за чарой.
Обнялись они в последний раз, и обоз двинулся из города. Долгим и печальным взглядом, провожал его Веселица, а потом вдруг тронул коня, пустил его вскачь, догнал Звездана почти у самого детинца.
— Погоди, Звездан.
— Ну, чего тебе еще? Простились ведь, — нахмурился Звездан.
Веселица отстегнул от пояса и протянул ему меч:
— На память возьми.
— Дорогой подарок…
— Возьми, возьми, — настаивал Веселица.
Тогда Звездан снял с себя и тоже подал ему меч:
— Вот тебе и моя память, Веселица.
Помолчали они и разъехались в разные стороны. А кабы знать им, что скоро, очень скоро поразят они друг друга своими мечами на поле возле Липиц!..
Но так далеко вперед и мудрые вещуны не заглядывали, куда уж было им заглянуть.
Через несколько дней томительного пути Звездан был в Ростове. К тому времени тишина установилась на Руси: все бояре и воеводы, пометавшись в разные стороны, прибились к своим князьям.
Константин был рад прибытию Звездана.
— Вот оно — все лучшие батюшкины мужи собираются вокруг меня, — сказал он, приветствуя дружинника троекратным лобызанием. — Отдыхай покуда, приглядывайся. А понадобишься — я тебя призову.
Печальный вид являл собою Ростов после недавнего большого пожара. Посады выгорели начисто. Огонь охватил и центральную часть города — повсюду торчали обуглившиеся срубы, на пепелищах копошились обездомевшие люди. Те, что были побойчее, уже ставили новые избы, плотников повсюду брали нарасхват. А покуда многие жили в наспех вырытых землянках.
Звездана с Олисавой на время приютил у себя боярин Волос, человек бережливый и везучий. Все вокруг пожрал ненасытный огонь, а боярской усадьбы не коснулся.
— Бог меня давно полюбил, — охотно рассказывал про себя Волос, — Вот и на сей раз усмирил стихию у самых моих ворот. Только верею слегка огоньком и лизнуло.
Для гостей, присланных князем, боярин щедро выделил половину терема:
— Живите, не тужите. А придет срок — так и ты мне, Звездан, протянешь руку. В беде сбережешь, на ухабе подопрешь. Все мы люди.
Дни проходили за днями, время тянулось медленно. И лишь изредка то одно долетит известие, то другое. Звездан прислушивался к ним с жадностью.
Константин покуда пересылался с Юрием грамотами, но каждая новая грамота была все несдержаннее другой. В последней так было написано:
«Брат! Ну разве можно сидеть на отцовском столе меньшему, а не мне, большему?»
На что Юрий отвечал:
«Если хочешь Владимира, то ступай садись в нем, а мне дай Ростов».
Но на один только Владимир Константин не соглашался, у него и с отцом из-за этого вышел спор. В Ростове он хотел посадить сына своего Василька. И так отписал Юрию:
«Ни Владимира, ни Ростова я тебе не дам. Ежели хочешь, садись в Суздале».
Возмутившись, Юрий ответил отказом и тут же отправил гонцов к Ярославу, велев брату своему передать на словах:
— Идет на меня Константин. Ступай к Ростову, и как там бог даст: уладимся или станем биться.
Так впервые выступили братья друг против друга. Сошлись две рати на речке Ишне, что под самым Ростовом. Непогодь в ту пору была, река вздулась, броды стали непроходимыми — четыре недели братья простояли каждый на своем берегу, но никто из них так и не решился перейти на другую сторону. Разошлись, на время помирившись, однако же обид своих забыть не смогли.
В другой раз усобицу начал Владимир Всеволодич. Выбежав из Юрьева, он захватил Москву, а Константин вслед за ним взял на щит Солигалич и Нерехту, а после сжег дотла Кострому.
Тогда Юрий с Ярославом снова собрали свои дружины и снова двинулись на Ростов и снова остановились у той же реки Ишни. Но опять же никто не решался первым одолеть неудобные броды.
Зато Владимир зря времени не терял. Покуда старшие братья без всякой для себя пользы стояли на Ишне, он двинулся с москвичами к Дмитрову и едва не вошел в город, да дмитровцы оказались находчивыми: сами спалили свои посады и накрепко заперлись в крепости, так что взять ее Владимир не смог.
Долго стоял он у Дмитрова и достоялся до того, что старшие помирились, и Ярослав с Юрием поспешили на помощь своим: Владимир испугался, бежал и стал ждать братьев в Москве. Однако же сил у него было мало и выдержать приступа он бы все равно не смог. Пришлось отступить. Посоветовавшись, старшие братья решили избавиться от Константинова подпевалы и, расщедрившись, отправили его княжить в Переяславль Южный…
И снова наступило затишье, но ненадолго. В Новгороде, как и предсказывал давешний купец, победили бояре, державшие противную Мстиславу сторону. На поклон к Ярославу пришел сам посадник Юрий Иванович, тысяцкий Якун и еще десять человек от купцов.
— Иди к нам княжить, — сказали они.
Ярослав торжественно вступил в Новгород. И первое, что он сделал, это расправился со всеми, кто держался Мстиславовой стороны: двоих бояр заковал в железа и отправил в Тверь, на вече обвинил тысяцкого Якуна в измене и натравил на него разъяренную толпу. Дом боярина сожгли, жену схватили, сына Якуна, Христофора, заточил в поруб сам Ярослав.
Но дальше все пошло не по задуманному. Под шумок жители Прусской улицы убили боярина Овстрата с сыном и тела их бросили в ров. Овстрат был приверженцем нового князя, и, разгневавшись, Ярослав решил наказать строптивых новгородцев: выехал из города, сел в Торжке и, воспользовавшись тем, что год был неурожайным, велел не пропускать в Новгород ни одного воза с хлебом из Низовой земли.
Глава десятая
1
Быстро летело время. И стал Константин искать дружбы с торопецким князем. Рано ли, поздно ли, а все равно они должны были прийти друг к другу.
Лучшего посла, чем Звездан, для того, чтобы шел в Торопец, сыскать было трудно.
— Вот, — сказал Звездан Олисаве, — и мой час настал. Не тужи, жена, расставание наше ненадолго. Скоро сядет Константин во Владимире и Ростове — и тогда заживем мы с тобой, не зная забот.
— Полно уж обещать, — отмахнулась от него Олисава. — Сколь живем тут, а перемен я не вижу. Вот разве что свой терем срубили да сын народился…
А ведь верно — не день, не два прошло: три года они в Ростове. Сынок Ванюшка уж на ноги встал.
— Зря ты меня укоряешь, — сказал Звездан. — И Ваняткой зря попрекнула.
Тут и сынок из светелки вынырнул кстати. Звездан подхватил его на руки, поднял над головой:
— Гляди, какой вымахал, — весь в меня!
— Будя хвалиться-то, — грустно улыбнулась Олисава. — Ежели весь в тебя пойдет, так и его жене не будет покоя.
— Ну и ворчливой ты стала, жена, — засмеялся Звездан, опустил Ванюшку на пол, привлек к себе, обнял Олисаву. А она вдруг заплакала:
— Не езжай, Звезданушка, — уж больно дурной сон мне сегодня приснился…
— Да ты что? — сказал, отстраняя ее, Звездан. — Как посмею я ослушаться князя?!
Знать бы ему, что это последний их денек, так не спешил бы, еще одну ночку для себя выговорил. И жену бы обнял крепче обычного, и целовал бы ее не на ходу, и в глаза бы ей посмотрел дольше обычного.
Видно, бабы лучше чуют беду, а у Звездана одно лишь князево поручение на уме: некогда ему лясы точить, кони ждут на дворе, копытами роют землю.
Почти не отдыхая в станах, и день и ночь скакал он к Торопцу. И прибыл в город как раз о ту пору, когда Мстислав принимал у себя посланцев из Новгорода.
— Прости нас, княже, и помилуй, — стояли они перед ним на коленях с обнаженными головами, — Совсем уморил нас Ярослав. Последнюю краюшку хлеба доедаем. Кадь ржи продают у нас по десяти гривен, овса — по три гривны. А те, у кого денег нет, едят сосновую кору, липовый лист и мох и детей своих отдают в вечное холопство. На торгу, по улицам, по полю — всюду трупы. Новую скудельницу набили мертвыми телами по самый верх… Нет больше мочи, возвращайся к нам, огради от еще горших бед. Не то все перемрут али разбредутся по чужим странам…
Страшно рассказывали бояре.
— Вот видишь, — сказал Мстислав Звездану, — призывают меня в Новгород дети мои.
— Туды тебе и дорога, — ответил потрясенный Звездан. — Но одно только помни: не каждый Всеволодович Ярослав, и Константин всегда с тобою.
— Иного я от Кости и не ждал, — кивнул задумчиво Мстислав. — Еще когда он был рассудительнее братьев! Но нынче же ответа ему дать я не могу. А вот управлюсь, так и съедемся. Я за него всей душой…
— А не возьмешь ли и меня с собою, княже? — спросил его Звездан.
— Ты — посол. Тебе-то почто в драку лезть?
— Да вот, вишь ли, возвращаться в Ростов без твоей грамотки мне все равно нельзя. Возьми, княже.
— Куды ж тебя деть? — улыбнулся Мстислав. — Ладно, ступай в мою дружину.
Некогда было править долгие сборы — новгородцы поторапливали Мстислава. Выехали вьюжистым утром, шли на рысях, на привалах подолгу не задерживались.
Скоро навстречу им стали попадаться беженцы. Не врали пришедшие в Торопец гонцы: рассказы беженцев были еще страшнее.
Однажды вечером дружина наехала на лежащего возле обочины, полузанесенного снегом старика. Спугнули севшую ему на голову ворону. Птица противно каркнула и перелетела на ветку.
Звездан спрыгнул с коня, потряс старика за плечо. В обледенелой бороде еще теплилось живое дыхание. Старик разлепил опущенные инеем ресницы.
— Да, никак, это ты, Кощей? — присел перед ним на корточки Звездан.
Лекарь не сразу узнал дружинника. Долго смотрел на него, не мигая. Потом застонал и повалился набок. Звездан подхватил легкое тело Кощея, перенес его к костру. Еще бы немного — и не застали его в живых.
Лекаря укутали в шубы, напоили отваром целебных трав. Воспрял Кощей, обрел дар речи. И еще одну печальную историю услышали дружинники из его уст.
— Так худо никогда еще не бывало в Новгороде, — сказал он. — Иное и в жутком сне не привидится. До того дошло, что не только псы, но и люди стали пожирать трупы. Спешите, братия, не то скоро совсем опустеет город — некого будет вам спасать.
Крепкую удавку изготовил для новгородцев Ярослав — такой удавкой не брал их за горло даже Всеволод. Загнали коней Мстиславовы дружинники, себя тоже не жалели. И не встречали их ни колокольным звоном, ни радостными криками — сил не было у жителей взглянуть на прибывшего к ним на выручку князя.
Тишина стояла на улицах и во дворах. Только возле одной избы раздавались веселые голоса.
Мстислав удивился:
— Это по какому случаю праздник?
— Ярославов наместник Хота Григорьевич дочь свою выдает за боярина Будимира, — сказали ему.
Гневом распалился Мстислав, пустил коня своего вскачь, въехал в распахнутые ворота. Дружинники заполнили двор, слуги попрятались кто куда.
Пьяный Хота вышел на крыльцо:
— Это кто посмел беспокоить меня на пиру?
— Протри очи, боярин, — сказал Мстислав с коня. — Что-то забывчив ты стал. Али не признал своего князя?
Хмель бушевал в голове у Хоты, все ему было нипочем. И принялся он ругать Мстислава последними словами:
— Никто тебя в Новгород не звал. Возвращайся, откуда приехал. А мой князь — Ярослав Всеволодич.
— Хватайте его! — приказал Мстислав дружинникам. — И всех, кто в его избе правит пир, хватайте и везите ко мне на Городище.
Дружинники кинулись к Хоте, связали его и бросили в возок. Другие хозяйничали в избе, вязали и выкидывали во двор гостей.
Мстислав высился над копошащейся пьяной кучей, говорил с коня:
— Вот до чего вы дожили, бояре: на кладбище, в кое превратили улицы Новгорода, справляете гнусный пир. Так знайте — никому из вас не будет пощады.
Тут приволокли и бросили на снег рядом с боярами тщедушного человечка.
— А этот почему не вязан? — спросил Мстислав.
— Не боярин я, — завопил человечек, на четвереньках подползая к Мстиславову коню.
— Не боярин, так почто на пир зван?
— Гусляр я… Якимушкой меня кличут.
— Хоть и гусляр ты, а в страшную годину и тебе не место на боярском пиру.
— Не по доброй воле я, а по принуждению…
— Не слушай его, княже, — мрачно сказал с возка протрезвевший Хота. — Вели вязать, как и всех. Служит он Ярославу, а ко мне приходил с доносом на своих соседей: держатся, мол, они противной тебе стороны. Так не кинешь ли их в поруб, а мне бы отказал соседову избу…
Якимушка побледнел, задрожал, бежать хотел, но на отмороженной ноге далеко не ускачешь. Связали и его, придвинули к общей куче.
— Хорошо ты придумал, Хота, — сказал Мстислав. — Сразу всех ваших я и взял — меньше будет забот.
— Ишшо как обернется, — хмуро ответил Хота. — Новгородцы нынче худые тебе помощнички — ни одному из них и меча-то в руке не удержать, а у Ярослава большое войско.
— О том не печалуйся, — усмехнулся Мстислав. — Не одним числом города берут, а со мною святая София.
В тот же день он собрал у себя на Городище оставшихся в живых преданных ему бояр и думцев. Стал советоваться с ними, что делать дальше. Бояре были растеряны.
Князь будто по книге читал их мысли:
— Оробели, бояре?
— Да как не оробеть? — отвечали те. — Дружина твоя невелика, а больше помощи ждать неоткуда.
— Миром бы поладить…
— Уговорить Ярослава…
— В чистом поле нам его не одолеть…
— Ты бы к брату своему двоюродному Владимиру послал в Смоленск.
О брате и Мстислав подумывал и уже грамоту ему отписал и отправил со Звезданом. Но до Смоленска не рукой подать, а Ярослава жди со дня на день.
— Хорошо, — согласился князь с боярами. — Пока надумает Ярослав, и мы соберемся с силой. Давайте снаряжать посла.
Был Мстислав на подъем скор, но ежели надобилось, так и ждать умел.
Послали в Торжок священника (самого смирного выбрали), и на словах он должен был сказать Ярославу от имени новгородского князя:
— Кланяюсь тебе: мужей и гостей, коих у себя задерживаешь, отпусти, из Торжка выйди, а со мною любовь возьми.
Надежд на то, что Ярослав послушается его, было мало. Но время Мстислав выиграл. Звездан вернулся из Смоленска и сказал, что Владимир Рюрикович с ним.
Скоро возвратился и посланный в Торжок священник. Принесенные им вести были печальны: Ярослав продолжал гневаться и на мир с Мстиславом не шел. А всех задержанных у себя новгородцев велел вывести в поле, заковал в железа и отправил по своим городам. Имение и лошадей их роздал дружине.
Мстислав кликнул вече на Ярославовом дворе.
— Пойдемте искать свою братью и землю, — сказал он народу, — чтоб не был Торжок Новгородом, а Новгород — Торжком, но где святая София, там и Новгород. И в силе бог, и в мале бог да правда!
2
Весь север Руси пришел в движение.
Святослав Всеволодич осадил Мстиславов город Ржевку, где от него отбивался с сотнею воинов посадник Ярун. Новгородский князь двинулся на помощь осажденным. Святослав бежал, Мстислав занял Зубцов, и здесь, на реке Вазузе, его настиг с подмогой Владимир Рюрикович смоленский. Путь на Торжок был открыт, и нетерпеливые бояре, собравшись на совете, стали торопить Мстислава:
— Идем к Торжку, покуда Ярослав не совсем опустошил новгородскую землю.
Но у Мстислава иные были задумки. Шире и дальше своих бояр глядел он.
— И так измучили новгородцев усобицы, — сказал он. — Покуда Ярослав стоит в Торжке, пойдем к Переяславлю. Там встанет на нашу сторону Константин, а Ярослав сам не вытерпит, вылезет из своей берлоги. Да и места в Поволжье богаты хлебом — не побил бы прошлогодний недород, в Торжке же брать нам нечего.
Расчет его быстро оправдался. Скоро лазутчики донесли, что Ярослав выехал с передними мужами из Торжка в Тверь, а оттуда поспешил в Переяславль.
И еще одно известие порадовало Мстислава: передовой его отряд встретился на реке Саре с Константином.
Объединенное войско Двинулось к Переяславлю и стало у его стен на Фоминой неделе. Однако Ярослава в городе не оказалось: накануне он выехал к Юрию.
Теперь все братья объединились против Константина, примкнул к ним и Владимир.
Три стана расположились на просторах Ополья: Ярослав и Юрий с братьями стали на реке Кзе, Мстислав и Владимир смоленский с новгородцами близ Юрьева, а Константин — на реке Липице.
Константин стал просить Мстислава:
— Может, еще и миром поладим? Как-никак, а все-таки братья.
Сговорившись, послали к Юрию сотского Лариона.
— Княже, — обратился к нему сотский, — кланяются тебе Мстислав и брат твой Константин и так повелели сказать: у нас с тобою ссоры нет, ссоры у нас с Ярославом. Отойди в сторону, и мы тебе вреда не причиним.
— Ишь, чего выдумали! — рассмеялся Юрий. — Нет, не отступлю я в сторону, и ежели надо, то буду биться. Так и скажи своим князьям.
И тогда князья послали сказать Ярославу:
— Отпусти новгородцев и новоторжан, возврати Новгороду взятые тобою земли, с нами помирись и крест целуй, а крови не проливай.
И Ярослав над ними посмеялся:
— Мира я не хощу. Новгородцев и новоторжан при себе держу. Вы далеко шли и вышли, как рыба, насухо.
Тут бы и биться им, но снова послали они гонцов:
— Князья Юрий и Ярослав. Пришли мы не на кровопролитие. Мы все одного племени: так дадим старшинство князю Константину и посадим его во Владимире, а вам вся суздальская земля.
Ярослав задумался, но Юрий за всех ответил послу.
— Скажите князьям Мстиславу и Владимиру: пришли так ступайте, куда хотите. А брату князю Константину скажи: перемоги нас, и тогда тебе вся земля…
Далеко зашла ссора. Видать, и впрямь без крови ее не разрешить. А молодым князьям казалось, что только пугают их Мстислав с Константином, — плохо знали они Удалого, вот и радовались. Вечером, справляя пир, делили между собой Русскую землю. Юрий говорил:
— Мне, брат Ярослав, Владимир и Ростов, тебе Новгород. Смоленск отдадим брату нашему Святославу, Киев оставим черниговским князьям, а Галич тоже возьмем себе.
Вино распаляло их, а тут подлил масла в огонь кто-то из бояр.
— Не было того ни при прадедах, ни при деде, ни при отце вашем, чтоб кто-нибудь вошел ратью в сильную землю суздальскую и вышел из нее цел, хотя бы собралась тут вся Русь.
И тогда Ярослав дал такой наказ:
— Когда достанется нам вражеский обоз, то будут вам кони, брони, платье, а кто вздумает взять живого человека, тот будет сам убит. У кого и золотом будет шитый кафтан, и того не жалей. Ни одного не оставим в живых. А тех, кого схватите, то вешать или распинать. О князьях же мы подумаем после.
Все хвалились на пиру, один лишь боярин Андрей Станиславич не пил, не хвалился и сидел мрачнее тучи.
— А ты почто молчишь, боярин? — спросил его Юрий.
— Да что говорить, ежели не дело вы задумали, — смело ответил боярин.
— Али ты не с нами? Али врагам нашим предался?
— Одумайся, княже!
— Так почто же не весел?
— А веселиться охоты нет. Не дело вы задумали, князья. И кровь, что утром прольется, будет на вашей совести. Сколь раз присылали к вам Мстислав с Константином мириться, а вы все стоите на своем. И нынче такой повели разговор, что впору только поганому половцу…
— Поостерегись, боярин, — хлопнул Ярослав рукой по столу. — Кому речи такие сказываешь?
Но боярина уже трудно было остановить.
— Не ворог, а брат вам Константин. И по ту сторону не враги против вас стоят, а русские люди. Подумайте только: брат на брата пойдет заутра, отец на сына, а сын на отца. А не лучше ли протянуть вам друг другу руку и дать Константину старшинство?..
— Эко распирает тебя, боярин, от святости, — нехорошо засмеялся совсем охмелевший Юрий. — Да нам ли шапку перед Костей ломить? Не силой захватил я старший стол — отец мне его дал. И вы все при жизни его крест мне целовали. Да и бояться нам нечего — сила на нашей стороне: гляди, какое мы собрали войско!
— Что войско! — воскликнул Андрей Станиславич. — Князья-то у них мудрые, смышленые, храбрые. Мужи их, новгородцы и смольняне, смелы в бою, а про Мстислава вы и сами знаете, что дана ему от бога храбрость больше всех.
Но пали слова его в пустоту.
— Ступай, боярин, — сказал Ярослав. — И впредь с такими речьми ко мне не подступайся.
— Дело твое, княже, — поклонился ему Андрей Станиславич и вышел. Тревожно было у него на сердце — жаль, не послушались его князья. А утром уж будет поздно. Утром взревут боевые трубы — и двинутся друг на друга владимирские, новгородские, ростовские, смоленские рати. Окровавятся мечи и топоры, понесут смерть на своих опереньях меткие стрелы. Не остановить людей, не образумить. Опьяненные, будут они рубить и калечить друг друга, и слетится на мертвое поле прожорливое воронье…
Много, много слез будет пролито по Русской земле — и в богатых теремах, и в бедных избах… И даже одно упоминание о Липице долго будет отзываться болью во всех русских сердцах.
Память бесстрастна. Не лукавя, донесет она и до нас горечь того кровавого утра: «Не десять человек убито, не сто, но всех побито 9233 человека; крики, вытье раненых слышны были в Юрьеве и около Юрьева, не было кому погребать, многие перетонули во время бегства в реке; иные раненые, зашедши в пустое место, умерли без помощи; живые побежали одни к Владимиру, другие к Переяславлю, некоторые в Юрьев…»
Еще много веков спустя будет натыкаться у Липиц соха земледельца то на заржавленный меч, то на шлем, то на секиру…
Но в тот день ликовали победители. Бояре поздравляли Константина и Мстислава, Константин и Мстислав одаривали бояр.
Перепуганный насмерть Юрий, загнав трех коней, на четвертом прискакал во Владимир в одной сорочке. Ярослав затворился в Переяславле.
Не Всеволодова воля предрешала будущее Руси. Юрий был вынужден сдаться. Константин отдал ему на кормление Городец на Волге, захудалую окраинную крепость, куда тот и отбыл на лодиях с женой и всем своим двором. Говорят, перед отплытием князь зашел в Успенский собор, поклонился праху отца своего и со слезами в глазах сказал: «Суди, бог, брату моему Ярославу, что довел меня до этого».
Ярослав же все еще надеялся отсидеться в Переяславле. Озлобившись пуще прежнего, он покидал в порубы всех бывших в городе новгородских купцов, многие из которых скончались. Но, когда приблизилось Константиново войско, он понял, что за стенами ему не укрыться, выехал навстречу брату, ударил ему челом и униженно просил: «Господин! Я в твоей воле: не выдавай меня тестю моему Мстиславу и Владимиру Рюриковичу, а сам накорми меня хлебом».
Никто в ту пору не мог и предположить, а сам Ярослав всех менее, что именно его племени суждена будет великая честь собирания Руси, что его сын Александр прославит имя свое в битвах со шведами и немецкими рыцарями, а род Константина захиреет и затеряется в безвестности.
Прошли годы. После смерти старшего брата опальный Юрий все-таки вернулся во Владимир и сел на отцовский стол. Жизнь, казалось, вошла в привычное русло — ожили клязьминские берега, потянулись с разных концов света купцы с диковинными товарами, нарядились в деревянное кружево новые терема…
Но не сгинуло в вечности, набухло, набралось коварной силы брошенное в землю у Липиц семя междоусобной вражды.
Из летописи:
«В лето 1223 по грехам нашим пришли народы незнаемые при Мстиславе князе Романовиче в десятое лето княжения его в Киеве.
Пришла неслыханная рать, безбожные моавитяне, называемые татары, их же никто ясно не знает, кто они и откуда пришли, и каков язык их, и какого племени они, и что за вера их…»
Словарь старинных и малоупотребительных слов
аксамит — бархат
бодни — шпоры
братчина — товарищество, общество
бретьяницы — кладовые
булгары — тюркоязычные племена, жившие по средней Волге
Варяжское море — Балтийское
василевс — император (греч.)
вежа — здесь: крепостная башня
вира — окуп, штраф
выжловка — гончая собака; отсюда: выжлятник — псарь
Гора — местонахождение княжеской резиденции в Киеве
городники — строители городских укреплений
городницы — укрепления; срубы, заполненные землей
гридень — член княжеской дружины; дружинник
детинец — внутреннее укрепление города, кремль
детские — младшие дружинники
Дышучее море — Северный Ледовитый океан
ендова — широкий сосуд с носиком
жеравцы — петли у ворот
заборола — колья на вершине крепостного вала
завора — запор, засов
зернь — игра в кости
знаменный звукоряд — русские церковные напевы
исад — пристань
камчуг — болезнь (подагра, карбункул)
караван-баши — голова, староста азиатского каравана
кат — палач
киворий — ковчег для освященного хлеба, дарохранительница, сень, под которою на престоле освящаются дары
клевец — топорик с острым зубом на конце
колты — серьги или подвески к серьгам
кондак — краткая песнь во славу Спасителя, богородицы или святого; гимн
корзно — плащ
корста — гроб, домовина
котора — вражда, ссора, раздор, смута, распря
коц — старинная верхняя одежда, род плаща
крица — свежая глыба вываренного из чугуна железа, идущая под огромный водяной (кричный) молот для отжимки, проковки и обработки в полосовое и др. железо, кричник — работник при отжиме и отделке криц
кросенный стан — ткацкий стан
крюковое письмо — нотное письмо
легат — посол, нунций (латин.); здесь: уполномоченный римского папы
личина — маска
ложница — спальня
муравленая печь — изразцовая печь
мыто — пошлина за провоз товара
наброды — следы
навис — хвост и грива у коня
Низ — Владимир (относительно Новгорода)
ногата — древняя монета
нойон — начальник, господин (у ряда восточных народов)
нунций — посол римского папы
обронные украшения — украшения выпуклой, чеканной работы
огнищане — земледельцы, крестьяне, пахари, мужики
одрины — сараи
орарь — часть дьяконского облачения, перевязь с крестами по левому плечу
паволока — шелковая ткань
палатин — воевода, наместник в Польше
паробок — парень
патриарх — титул духовного лица в православной церкви, обладающего высшей властью; в XII веке патриарха на Руси не было, он находился в Константинополе
пенязи — деньги
передние мужи — старшие дружинники, бояре
печатник — хранитель печати, должностное лицо в Галицко-Волынской Руси
платно — платье, одежда
повалуша — здесь: горница
повечерие — вечерняя церковная служба
поруб — яма со срубом, место заключения
правило — хвост борзой и псовой собаки
престол — столик в алтаре перед царскими вратами
просинец — январь
ратоворцы — рыцари
ромей — грек
рота — клятва
Румский султанат — государство, основанное тюрками в Малой Азии
рюхи — игра в городки
ряд — договор
седмица — семь дней, неделя
скважни — бойницы
скудельница — кладбище, общее место погребения, общая могила погибших по какому-либо несчастному случаю
скурат — маска
смерд — свободный крестьянин
сокалчий — повар
сочиво — постная пиша
степень — помост
столец — княжеское кресло
сукманица — суконный кафтан
сукрой — круглый ломоть хлеба, во всю ковригу
сыновец — племянник
тангуты — кочевое население Тибетского нагорья в Китае
тезик — купец из Средней Азии
угры — венгры
усменный — кожаный
усмошвец — сапожник
фарь — верховой конь
фелонь — риза священника
харатейная — здесь: книгохранилище
хмурень — сентябрь
хронограф — книга или рукопись, описывающая событие по годам; летопись
чабер — растение, содержащее эфирные масла
Чёрные клобуки — тюрские племена, жившие в лесостепных районах Руси
чресла — поясница
чудь — племена, жившие во владениях Великого Новгорода
ясский — осетинский
1
Что за страна. Все разбойники. О, черт возьми! (нем.)
(обратно)2
6676–1168 год.
(обратно)3
Владыка — так в Новгороде называли архиепископа.
(обратно)4
Убрус — полотенце, платок.
(обратно)5
Шатучий тать — разбойник.
(обратно)6
Кожух — кафтан на меху.
(обратно)7
Челядин — слуга.
(обратно)8
Ряд — договор.
(обратно)9
Ложница — спальня.
(обратно)10
Смерды — феодально-зависимые крестьяне в Древней Руси.
(обратно)11
Поршни — вид обуви.
(обратно)12
Детинец — внутреннее укрепление города, кремль.
(обратно)13
Корзно — плащ, обычно княжеский.
(обратно)14
Панагия — икона, носимая епископом на груди.
(обратно)15
Имеется в виду Владимир Мономах, киевский князь. Мономашичи — потомки Мономаха.
(обратно)16
Мних — монах.
(обратно)17
Лепота — красота.
(обратно)18
Скотница — помещение для хранения денег и других ценностей.
(обратно)19
Резана — самая мелкая монета.
(обратно)20
Гривна — самая крупная монета.
(обратно)21
Польга — польза.
(обратно)22
Древний Новгород делился на пять административных районов — концов, во главе каждого конца стоял выборный кончанский староста.
(обратно)23
Поруб — яма со срубом, куда сажали провинившихся.
(обратно)24
Златокузнец — ювелирных дел мастер.
(обратно)25
Зипун — кафтан с короткой спинкой, был особенно распространен в Новгороде.
(обратно)26
Меченоша — оруженосец.
(обратно)27
Городище, или Рюриково Городище, — загородная резиденция новгородских князей.
(обратно)28
Столец — княжеское кресло.
(обратно)29
Полынья — незамерзающее место на Волхове у Великого моста.
(обратно)30
Людин — мужик, вольный человек.
(обратно)31
Всход — крыльцо.
(обратно)32
Боронить — охранять.
(обратно)33
Рота — клятва.
(обратно)34
Однорядка — долгополый, однобортный кафтан без ворота.
(обратно)35
Седмица — неделя.
(обратно)36
Гридень — младший дружинник.
(обратно)37
Тиун — управляющий в княжеской, боярской вотчине.
(обратно)38
Юнота — ученик ремесленника.
(обратно)39
Городник — строитель городских укреплений.
(обратно)40
Мостник — строитель мостов, городских мостовых.
(обратно)41
Древодел — резчик по дереву.
(обратно)42
Опонник — ткач.
(обратно)43
Ногата — мелкая денежная единица, 1/30 гривны.
(обратно)44
Стулья — бревна-коротыши, поставленные под углами избы.
(обратно)45
Чело — передняя часть избы.
(обратно)46
Потоки — желоба для отвода воды с кровли.
(обратно)47
Подзоры — украшение под карнизом.
(обратно)48
Полотенце — нижний резной конец причелины.
(обратно)49
Резоимец — ростовщик.
(обратно)50
Рез — процент.
(обратно)51
Изгой — проторговавшийся гость.
(обратно)52
Долбленка — челн-однодеревка.
(обратно)53
Исад — пристань.
(обратно)54
Сидша — булгарский хмельной напиток.
(обратно)55
Лодейная изба — надстройка на палубе, в которой жили во время длительного плавания.
(обратно)56
Братина — сосуд, в котором разносят пития.
(обратно)57
Угры — венгры.
(обратно)58
Орать — пахать.
(обратно)59
Черные Клобуки — тюркское объединение в лесостепных районах Руси.
(обратно)60
Послух — свидетель.
(обратно)61
Одрины — сараи.
(обратно)62
Подклет — нижнее жилье избы, подызбица.
(обратно)63
Бретьяница — кладовая.
(обратно)64
Рядович — простолюдин.
(обратно)65
Оскорд — секира, большой топор.
(обратно)66
Гридница — приемная древних князей.
(обратно)67
Ковуи — кочевники тюркского происхождения, осевшие на территории Киевской Руси.
(обратно)68
Десница — правая рука.
(обратно)69
Урема — пойменный лес.
(обратно)70
Власяница — грубая одежда из волоса, надеваемая на голое тело.
(обратно)71
Зарев — август.
(обратно)72
Кадь — здесь: мера сыпучих тел.
(обратно)73
Уборок, половник, оков — меры сыпучих тел.
(обратно)74
Закуп — на время закабаленный человек (купа — ссуда, долг, который закуп погашал работой на феодала).
(обратно)75
Полстница — шатер.
(обратно)76
Конюший — должность при княжеском (боярском) дворе.
(обратно)77
Кроп — разбавленное водой вино.
(обратно)78
Черевистый — толстый.
(обратно)79
Житня, житница — строение для хранения вымолоченного зерна.
(обратно)80
Старина — былина.
(обратно)81
Охота — погоня.
(обратно)82
Колты — женское украшение в виде подвесок.
(обратно)83
Уха — мясная вообще всякая похлебка.
(обратно)84
Дощаник — большая плоскодонная лодья с палубой.
(обратно)85
Коц — плащ.
(обратно)86
Можновладцы — крупные феодалы в Польше XII в.
(обратно)87
Палатин — военачальник.
(обратно)88
Порадльное, подворное, поволовое, подымное — виды натуральной ренты в Польше XII в.
(обратно)89
Нарез, сеп — виды оброка в Польше XII в.
(обратно)90
Войт — воевода (польск.).
(обратно)91
Степень — помост на вечевой площади в Новгороде.
(обратно)92
Варедной — раненый.
(обратно)93
Лавник — присяжный в польском суде.
(обратно)94
Нунций — постоянный представитель римского папы.
(обратно)95
Трясца — лихорадка.
(обратно)96
Прах — здесь: пыль.
(обратно)97
Горбы — Карпаты.
(обратно)98
Орало — плуг.
(обратно)99
Булла — грамота, документ.
(обратно)100
Послушник — человек, готовящийся стать монахом.
(обратно)101
Келарь — инок, заведующий монастырскими припасами.
(обратно)102
Веретень — расстояние на пашне между точками поворота сохи.
(обратно)103
Свейские — шведские (свеи — шведы).
(обратно)104
Сигтуна — город в Швеции.
(обратно)105
Сукманица — суконное одеяло.
(обратно)106
Россечь — лесное угодье.
(обратно)107
Горнец — горшок.
(обратно)108
Сукрой — ломоть хлеба во всю ковригу.
(обратно)109
Зиждитель — зодчий.
(обратно)110
Знамено — княжеский или боярский знак.
(обратно)111
Городницы — срубы, заполненные землей; укрепления.
(обратно)112
Вежи — башни.
(обратно)113
Насад — судно.
(обратно)114
Кросенный стан — домашний ткацкий станок.
(обратно)115
Вира — штраф.
(обратно)116
Назола — досада, огорченье.
(обратно)117
Суконник — верхняя одежда.
(обратно)118
Печать — пропуск для выхода из монастыря в город.
(обратно)119
Погост — здесь: несколько деревень под одним управлением.
(обратно)120
Ромей — грек.
(обратно)121
Кат — палач.
(обратно)122
Шелепуга — палка, плеть. Здесь: плеть.
(обратно)123
Охлуп — конек крыши.
(обратно)124
Дворский — род приказчика в княжьих или боярских вотчинах.
(обратно)125
Обояр — ткань.
(обратно)126
Пряслиице — грузило.
(обратно)127
Мастика — растительная смола.
(обратно)128
Оберега — талисман.
(обратно)129
Поклониться большим обычаем — поклониться низко, до земли.
(обратно)130
Мягкая рухлядь — меха.
(обратно)131
Очелок — шесток, место впереди чела, топки.
(обратно)132
Вадега — подводная ямина.
(обратно)133
Стрельни — башни.
(обратно)134
Мытник — сборщик пошлины за товар.
(обратно)135
Оконница — форточка.
(обратно)136
Толмач, — переводчик.
(обратно)137
Окоем — горизонт.
(обратно)138
Платно — одежда.
(обратно)139
Болонья — низменная равнина у реки.
(обратно)140
Опашень — верхняя одежда с короткими, широкими рукавами.
(обратно)141
Выжлятник — старший псарь.
(обратно)142
Сокалчий — повар.
(обратно)143
Обельный холоп — раб.
(обратно)144
Гульбище — балкон, веранда.
(обратно)145
Руда — кровь.
(обратно)146
Кияне — киевляне.
(обратно)147
Гудок — род старинной скрипки.
(обратно)148
Мех — пергамент.
(обратно)149
Летник — мужская верхняя одежда.
(обратно)150
Зарод — стог.
(обратно)151
Вёдро — ясная погода.
(обратно)152
Домовина — гроб.
(обратно)153
Поприще — расстояние, равное дневному переходу.
(обратно)154
Дощатая броня — броня, набранная из стальных пластин.
(обратно)155
Квасник — пьяница.
(обратно)156
Пустынь — уединенная обитель.
(обратно)157
Тула — колчан.
(обратно)158
Деревянное масло — лампадное масло.
(обратно)159
Личина — маска.
(обратно)160
Золотушник (девясил) — трава, которую использовали в прошлом вместо дрожжей.
(обратно)161
Сенозарник — июль.
(обратно)162
Хиосское вино — греческое вино с острова Хиос.
(обратно)163
Блазень — шут.
(обратно)164
Отдаться под покровительство св. Петра — отдаться под покровительство римского папы.
(обратно)165
Прапор — знамя.
(обратно)166
Мироны-ветрогоны — по народному календарю 21 августа.
(обратно)167
Сочиво — постная пища.
(обратно)168
Провидчик — разведчик.
(обратно)169
Нерето — сеть.
(обратно)170
Деисус — три иконы: Спасителя, Богоматери и Предтечи, — которые ставились, по обычаю, вместе.
(обратно)171
Дежень — толоконная болтушка.
(обратно)172
Кежа — вид ткани, пестрядь.
(обратно)173
Лихованный — человек, разоренный ростовщиком, нищий.
(обратно)174
Куны — деньги.
(обратно)175
Атказ — порода коня (по-кипчакски — атказ, по-русски — «конь-гусь»).
(обратно)176
Капь — весовой эталон.
(обратно)177
Пестерь — высокая корзина.
(обратно)178
Бирич — глашатай.
(обратно)179
Калита — сума.
(обратно)180
Яблоко, огниво, железцо, крыж — части боевого меча.
(обратно)181
Барабан — цилиндрическая часть собора, служащая основанием купола.
(обратно)182
Налой — в церкви столик для чтения и положения иконы.
(обратно)183
Плинфа — плоский кирпич.
(обратно)184
Ветрила — паруса.
(обратно)185
Ратай — пахарь.
(обратно)186
Понёва — юбка.
(обратно)187
Медуша — погреб для медов и вин.
(обратно)188
Одесную — справа.
(обратно)189
Балясина — точеный столбик.
(обратно)190
Дроводель — лесосека.
(обратно)191
Полати — возвышение, княжеское место в соборе.
(обратно)192
Заборола — колья на городницах.
(обратно)193
Скважни — прорези для стрельбы в нападающих.
(обратно)194
Писало — палочка, приспособленная для письма.
(обратно)195
Пастись — остерегаться, опасаться.
(обратно)196
Ступни — лапти с большими передами без запятника.
(обратно)197
Ветряная рыба — вяленая рыба.
(обратно)


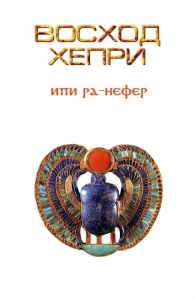



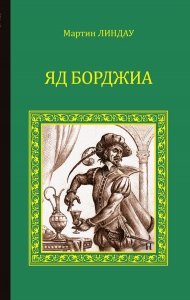

Комментарии к книге «Русь. Книги 1-4», Эдуард Павлович Зорин
Всего 0 комментариев