Роман Воликов
Бургомистр
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
© Роман Воликов, 2019
Мы не ангелы, темные твари сорвали нам планки. Если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели… Нету к таким ни любви, ни доверия, люди глядят на наличие перьев…
18+
ISBN 978-5-4483-0914-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
Бургомистр
Первым делом я, конечно, подумал о Ганночке. С прошлой осени она училась в индустриально-педагогическом техникуме в Москве. Надо ехать, забирать, пока не поздно. В том, что немцы к августу будут в Белокаменной, я почти не сомневался
Вечером «на огонёк» заглянул Каминьский.
— Ну, что, дождались?! — сказал он и поставил на стол бутылку «Командирского».
— Не говори гоп, — сказал я. — Третий день войны, неизвестно, как повернётся.
— Я был сегодня в райисполкоме, — Каминьский налил две рюмки. — Паника и неразбериха полнейшая, представляешь, что на фронтах творится. Ну, за скорое освобождение, Константин Павлович.
С Каминьским мы вместе сидели в иркутской пересылке. Сразу подружились, у нас у обоих судьбы как перевёртыши. Я в шестнадцатом ушёл со студенческой скамьи Петербургского университета добровольцем на Мировую. После революции воевал с красными в армии Комуча[1], потом у Колчака, с двадцать первого командир пулемётной команды в отряде эсеров Вакулина и Попова[2], которые с большевиками на Волге сражались.
Каминьский с февраля восемнадцатого года в Красной Армии. Он по паспорту поляк, по матери немец, а в душе русский. Когда кайзеровские войска под Псковом стояли, пошёл, сопливый мальчишка, Отечество защищать. Большевики тогда всех принимали, не больно-то много желающих воевать за народную власть находилось. Защищал, правда, Каминьский Отечество больше писарем при штабах.
Меня в конце двадцать первого года в бою под Всехватском тяжело ранили. Еле выжил, Анна, моя будущая жена, выходила. И пошла у нас жизнь на перекладных, в одном городе поживём, в другом, я документы раздобыл поддельные, очень мы надеялись в Харбин уйти, но не получилось.
Каминьский после Гражданской вернулся в Петроград, закончил с отличием Политехнический институт и трудился химиком на заводе «Революция». Болтал много лишнего, недовольство совдеповскими порядками проявлял, поэтому после убийства Кострикова [3]поехал, как миленький, десять лет мотать, ещё по-божески дали на изучение географии от Ледовитого океана до Тихого.
В том же году мы с Анной посоветовались и решили, что мне лучше явиться в органы с повинной.
— Надо сделать опережающий ход, — сказала Анна. — Всю жизнь бегать всё равно не удастся, сочиним легенду, что тёмный был, запутавшийся, а потом боялся сознаться, в боях не участвовал, по интендантской линии служил, кто сейчас проверит, столько лет прошло.
Так оно и вышло, чекисты не стали подробно интересоваться моей биографией, влепили пять лет поселения и закрыли дело.
В тридцать седьмом в Сибири меня снова забрали, верно, узнал кто из тех «чоновцев»[4], с которыми на Волге воевал, копать начали подробно, но повезло, расстрельный вал такой был, что не до старых дел, власть своих выкормышей гнобила.
Меня и Каминьского освободили по бериевской амнистии тридцать восьмого года. Мы ткнули пальцем в небо, в список городов, не запрещённых для проживания, и поехали на Орловщину, он — инженером на спиртовой завод, я — преподавателем физики в техникум.
— Я тебя понимаю, Константин Павлович, — сказал Каминьский. — Я от фрицев сам не в восторге. Звери они, что ни говори, слышал от беглых поляков, что они в тридцать девятом в Польше творили. Но по мне лучше немецкая палка, чем большевистская.
— Без палки никак? — сказал я. Мы уже почти приговорили бутылку коньяка.
— О чём ты, — отмахнулся Каминский. — На нынешнем историческом этапе никак. Ты посмотри, что в мире творится: диктатор на диктаторе сидит и диктатором погоняет, хоть в Англии премьер-министром называется, а в Америке президентом. Про нас скромно промолчу. Эпоха острых социальных противоречий. А потом я тебе так скажу, если дать народу право своей судьбой распоряжаться, ничего путного не выйдет. Ты же за свободу этого народа кровь проливал, а потом полжизни по норам прятался и в камере сидел. Спасибо народу от пояса!
— Это не народу, — сказал я. — Это победителям. А чего ты хотел? Чтобы меня в покое оставили? Так не бывает.
— Мне пяти лет в лагере ой как хватило, — сказал Каминьский. — Я этих гадов большевиков голыми руками давить буду. Глотки буду рвать и не подавлюсь.
— Наше дело в это лихолетье выжить, — сказал я. — За дочкой хочу поехать, из Москвы забрать, дома под мамкиной юбкой как-то спокойнее.
— Если ехать, то не откладывая, — сказал Каминьский. — Всеобщая мобилизация объявлена, людям призывного возраста запрещено покидать место жительства. Пока бардак, можно проскочить. Директор наш в запое, со страху, видно, что на передовую отправят, я тебе командировочные бумаги за него выправлю.
— Выправляй, — сказал я. — Завтра и поеду.
— — — — — — — — —
Городок наш имеет смешное название — Локоть. Городок не велик, но и не мал, пять тысяч душ по последней переписи. Бывший царский конный завод, фельдмаршалом Апраксиным основанный, спиртовой завод, молочный, на окраине две современные лесопилки. Среди бескрайних брянских лесов, на берегу притока Десны — Неруссы, воздух такой, пить хочется. До революции здесь было личное имение великих князей Романовых, они красивый парк обустроили, несколько каменных зданий на главной улице возвели. Народ живет степенный, солидный, к культуре тянется, при тех же князьях хорошую библиотеку организовали, по воскресеньям два раза в месяц в клубе дают театральное представление. Труппа любительская, но недурная.
— Не думал, что так жизнь повернётся, — сказал я вполголоса, покидая ранним утром на подводе сонный городок. — Видно, бог решил, что я не навоевался.
Когда с Анной и Ганночкой поселились в Локоти, я был убежден, что доживу свой век спокойно. Конечно, совдеповские порядки сидели мне в печёнках, эта вечная русская дурь и тупость, помноженная на демагогию, какой при царях не было, жизнь с оглядкой, перед тем как сказать, сто раз подумай, но с другой стороны, сорок шесть лет, дочка — взрослая барышня, ей бы из этого скотства, в котором мы пребываем, вырваться.
Я был абсолютно уверен, в отличие от многих, что войны не будет. Они, конечно, оба монстры, Гитлер и Сталин, но если передерутся, то победителей не окажется, оба издохнут. Когда в тридцать девятом пакт о ненападении подписали, я так Анне и сказал: «Не видать нам нормальной жизни, так и помрём под деспотом». Но, видно, что-то не срослось у них, каждый решил, что он хитрее дьявола и святее Папы Римского, вот и побежали наперегонки, власть голову вскружила.
До Брянска добирались долго, муторно. Шоссе было забито в обе стороны, и на запад, и на восток. На запад шли военные колонны, как я понял, курсанты пехотных училищ. Мальчишки совсем, держались молодцевато, ухарски, пели песни и кричали похабщину. На восток тоже двигались по большей части автомобили, партийные и советские работники со скарбом, кто с семьями, кто поодиночке. Все такие же командировочные, как и я.
В Брянске узнал о взятии Минска. После сообщения по радио в городе началась паника. Грабили магазины, били стёкла в учреждениях. Проходившие на фронт военные смотрели на эти безобразия равнодушно. «Как быстро всё разваливается, — подумал я тогда. — Не ожидал, признаться, что так быстро».
Милиция постреливала по паникёрам, больше для видимости, сам видел, как милиционеры, разогнав толпу выстрелами, набивали «сидоры» продуктами. На центральной площади один пьяный дед помочился на статую Ленина напротив обкома партии. Его тут же шлёпнули.
Я разжился консервами и двумя буханками хлеба в опустошённом советскими гражданами продмаге и отправился на вокзал.
Мною владели двоякие чувства. Как я ждал этого часа, часа крушения Советской власти, уже не чаял, уже не надеялся, и вот оно — кровавое и хаотичное мельтешение эпохи, дурачки солдатики, что едут на верную погибель, ополоумевшие от предстоящей неизвестности мирные жители. Не так я себе это представлял.
Я, конечно, далёк был от фантазии про воспрянувший духом русский народ, который единым порывом сбросит опостылевших большевиков и начнёт строить новую свободную жизнь. Насмотрелся в Гражданскую, как крестьяне, столь обожаемые петербургскими и московскими профессорами, нас, их от большевиков защищавшими, этим же большевикам при первом удобном случае сдавали. Насмотрелся, навоевался, больше не хочу. Но вот так, под немецким сапогом, лапотно шапку снимая и в три погибели кланяясь какому-нибудь Гансу-Вильгельму. Как бы не прав Каминьский, не может быть в наше время государства без диктатора, без палки, хоть советской, хоть немецкой.
На вокзале царила полнейшая вакханалия. Штатские и военные орали друг на друга, НКВД и след простыл, всё пространство пола была заставлено чемоданами, тюками, ящиками, набитыми всякой ненужной дрянью. На перроне, посреди толкотни, сидела в обнимку с кактусом красивая дама, похожая на актрису и ревела в голос. Вдоль составов стояли редкие солдатики с винтовками, мрачно курили и упорно делали вид, что всё в порядке.
Ну что ж, мне к панике не привыкать, научили комиссары. Я побродил вокруг составов, выбрал литерный вагон и нагло скомандовал часовому: «Наркомфиндел!». Тот дёрнулся, поправил винтовку на плече, но в вагон пропустил.
Я не ошибся. В вагоне ехали партаппаратчики, судя по приглушенным разговорам, спешно эвакуированные из Белоруссии. Я вручил проводнику шмат сала и первач, взятые из дома.
— Пеняйте на себя, если документы проверят по дороге, — хмуро сказал проводник.
— Документы нормальные. Когда трогаемся?
— Не знаю, скажут. Постельного белья не дам.
— Перебьюсь, — я вышел в тамбур. В тамбуре курил высокий человек, одетый, несмотря на жару, в плотную байковую рубашку, на вид моих лет.
— Из Минска? — я тоже закурил.
— Из Витебска, — человек недоверчиво посмотрел на меня. — Зампредгорисполкома Штыло.
— Не волнуйтесь, — сказал я. — Я в ревизионном управлении служу наркомфиндела. Возвращаюсь в Москву из командировки.
— Домой, значит, — человек закурил новую папиросу. — Домой это хорошо.
— А вы куда?
— Не знаю, — человек тоскливо посмотрел на переполненный гражданами перрон. — Не знаю, никаких внятных указаний не поступало, не до того, знаете, было. Может, на фронт, а может в Алма-Ату. Ничего не знаю.
— Ну, на фронт и вы, и я по возрасту не очень подходим, — сказал я. — Страна большая, всех примем.
— Это, конечно, нелепые слухи, — сказал Штыло. — Даже провокационные, но говорят, в окружение под Минском больше миллиона наших попало. Если так будет продолжаться, и детей мобилизуют, и стариков.
— Броня крепка и танки наши быстры, — сказал я. — Не переживайте, победа будет за нами.
— Пойду в купе, — сказал Штыло. — Жена не любит, когда я надолго отлучаюсь.
— — — — — — — — — — — — —
Москва встречала как всегда беззаботно. В начале тридцатых мы жили здесь, снимали комнату в коммуналке на Самотеке, я учился в электротехническом институте по поддельным документам, на имя Якова Лошакова. С Ганночкой часто ходили в уголок Дурова, всего квартал от нашего дома. Ганночке нравился слон, а ещё больше маленькая девочка, внучка дедушки Дурова, которая танцевала на спине элефанта с разноцветным обручем.
Когда дочка подросла, мы с Анной посоветовались и рассказали ей правду. В тех пределах, разумеется, которые в состоянии понять ребенок. «Считай, что это такая игра, — сказал я. — На улице и в школе ты будешь слышать одно, дома я и мама будем говорить тебе немножко другое. Тебе нужно научиться держать своё мнение при себе. Это не значит обманывать, просто перед тем, как что-то сказать, надо сначала как следует подумать».
Я выпил газировки на площади Киевского вокзала. Лёгкий город Москва, веселый, бесшабашный. Прохожие торопились на работу, мороженщицы раскладывали товар, в воздухе стоял обычный, немножко суетливый говор. Всё так, будто и нет никакой войны и будто немец застрял на государственной границе.
Может быть, так и надо, подумал я, что толку от мрачных причитаний и горьких стенаний. Бисмарк же говорил, что с Россией воевать бесполезно. С Россией — согласен, а с Совдепией? Бойся патрулей, сказал старый конспиратор внутренний голос, чем спокойнее в городе, тем больше энкэвэдэшников на улицах.
В каком-то смысле мой арест помог дочке. Теперь она была дочерью ссыльного, подкулачника, как любили говорить на собраниях, дружить с ней не то чтобы чурались, но относились с объяснимой опаской. Меня переводили из одного сибирского захолустья в другое, не больше полгода на одном месте, Анна с Ганночкой ехали вслед за мной, друзья у неё просто не успевали появляться. Взрослая барышня, подумал я, кавалеры вьются, я не очень хотел, чтобы она уезжала из Локоти учиться в Москву, но с другой стороны, ей всё равно придётся встраиваться в эту советскую жизнь, папа и мама ей не помощники в этом деле, девчонка она умненькая, сумеет найти нужный баланс. Плохо, что война началась, только мы начали, как говорят большевики, выстраивать «правильную линию поведения». А теперь — хаос, ни линии, ни поведения, главное — уцелеть под артобстрелом и облик человеческий постараться не потерять.
Общежитие техникума, где училась Ганночка, находилось в Хамовниках. В прошлой жизни, шестнадцатилетним юношей, перед поступлением в петербургский университет я приезжал сюда из Чернигова. Давний знакомый отца дядя Коля владел двухэтажным домом с мезонином на самом спуске к Москве-реке, с яблочным садом, даже с натуральным огородом, как выражались москвичи, аптекарским садом. Не помню, чем занимался дядя Коля, кажется, был инженером городской электростанции. Сын дяди Коли, тоже не помню, как его звали, года на два младше меня, показывал древнюю столицу, мы дурачились на Тверской, показывая барышням язык. Что с ними сталось, не знаю, да и дома, наверное, уже нет, снесли или перестроили «под уплотнение».
Общежитие занимало бывший корпус для паломников, уныло липнувший к величественной стене Новодевичьего монастыря. Двери были нараспашку, будка вахтера пуста, коридор был усыпан порванными газетами и промасленной бумагой, в которую обычно заворачивают колбасу или рыбу. Я поднял обрывок газеты. «Немец это не человек. Немец это скот. Поэтому души его голыми руками, рви его глотку зубами…» Статья была подписана Ильей Эренбургом.
«Ишь, как! — подумал я. — А ведь интеллигентный человек писатель Эренбург, в Германии учился, если мне память не изменяет. А он сам не хочет против танков с голыми руками…»
Нигде не было ни души. Неужели эвакуировали, тревожно подумал я, или в ополчение студенты подались. Разговоры о формировании народного ополчения, как в войну двенадцатого года, я слышал на улицах.
— Ганна! — крикнул я в гулкой тишине. — Ганна, отзовись!
— Папа! — Ганночка выглянула из самой последней по коридору комнаты. — Ты здесь! А я как раз вам с мамой письмо пишу.
— Слава богу! — я обнял дочку. — Собирай быстро вещи, уезжаем прямо сейчас, мама очень волнуется.
— Мальчишек всех мобилизовали на третий день войны, — рассказывала дочка, укладывая чемоданчик. — А нас, девчонок, отправили на курсы медсестер, и санитарками помогать в госпиталях. Ты поэтому меня и застал, что я после ночной смены. Начальница курсов сказала, что, возможно, скоро отправят на фронт, потери большие. Да я и сама от раненых слышала, какой ужас там творится, на западе.
— Нам эта власть чужая, — сказал я. — Мы её, дочка, защищать не будем. Как там под немцем будет, не знаю, знаю только, что с ними можно попробовать договориться. Это лучше, чем умирать из-за бездарей.
— Пап, а ведь мои документы в техникуме. Как без документов ехать?
— Прорвёмся, — уверенно сказал я. — Вокруг такой бардак. У меня большой опыт в этих делах. Готова? Тогда пошли.
— — — — — — — — — — — —
Из Москвы выбрались чудесно. На Киевском вокзале я подошёл к начальнику одного из воинских эшелонов, капитану, по манере поведения из недавно призванных.
— Странно, — сказал капитан. — Все с запада бегут, а вы, напротив, туда.
— В Москве в командировке был, — сказал я. — Домой добраться надо.
— Дочка? — капитан посмотрел на Ганночку.
— Студенка, — сказал я.
— В лихую годину надо держаться вместе, — сказал капитан. — В вагонах у меня места нет, да и не пущу я дивчину к солдатикам. В паровозе поедете до Новозыбкова, оттуда своим ходом.
— Спасибо, капитан, — сказал я. — Предельно обязан.
— Сочтёмся, — ответил он. — Земля маленькая.
Домой доберёмся, поставлю в храме свечи и за себя, и за Ганночку, и за капитана. Домой. Дом давно стал меня понятием расплывчатым. Когда-то был родительский дом в Чернигове, отец и мать умерли от тифа во времена Центральной рады[5], из-за моей дикой жизни я узнал о их смерти только в двадцать третьем году, когда удалось доехать до Чернигова. Мы с Анной были в городе моего детства всего несколько часов, сходили на кладбище и сразу уехали, слишком многие меня знали здесь в лицо.
Москва никогда не была домом, приходилось жить, озираясь как волку. Потом сибирские поселения, тюрьма, Локоть это первое место на земле, где я почувствовал себя спокойно.
В ту ночь, на двадцать пятое сентября 1941 года, я спал тревожно. Я видел бой на окраине Самары. Красные заняли почти весь город, моя пулеметная команда огрызается с третьего этажа бывшего дворянского собрания. Говорят, нам на выручку идут «капелевцы». Красные упорные, выложили на площади бруствер мешками с песком, из пушки бьют прямой наводкой по зданию. Дворянский дом ходит ходуном. «Наверное, так было в Помпее», — посещает меня глупейшая мысль. «Ленту давай, гимназист!», — кричу я помощнику. Я оборачиваюсь. Гимназист, полулежит, прислонившись к патронному ящику, на его лице нелепая улыбка трупа. Я слышу взрыв, пол проваливается подо мной, вместе с пулемётом я лечу вниз.
Я бездельничаю. Из-за войны занятия в техникуме отменили. Слухи ходят самые разные, один кошмарнее другого. Немцы взяли Ленинград. Нет, в Крыму высадились двадцать английских дивизий и ведут наступление на Одессу. Нет, на Дальнем Востоке хозяйничают японцы, они назначили новым русским царём атамана Семенова, нас всех ждёт монархия. Я помалкиваю. Более-менее правдивая информация есть только у Каминьского, он спрятал, невзирая на строжайший запрет, радиоприёмник на чердаке, иногда ему удается послушать немецкое радио. «Немцы в Киеве», — сказал он мне позавчера. «Значит, скоро будут и у нас». Каминьский ничего не ответил.
— Схожу за продкарточками, — сказала утром Анна. — На новый месяц надо получить.
— Я с тобой.
— Смотри-ка, на райисполкоме флага нет, — сказала Анна. — Ночью, что ли, дёру дали господа хорошие.
Мы вошли в здание. Двери кабинетов были раскрыты нараспашку, на железной решетке кассы висела обгоревшая лента продовольственных карточек. Тишина была как в морге.
— Кончилась, похоже, советская власть в нашем городе, — негромко произнёс я.
С улицы раздался шум мотоциклетки. Я осторожно вышел на крыльцо.
В мотоциклетке сидел майор Ермолаев, начальник райотдела милиции, и равнодушно смотрел на меня. С Ермолаевым, как всякий бывший зек, я был знаком, мужик он был незлобный, привередливый ровно в рамках инструкций, нормальный человек настолько, насколько это возможно для милиционера.
— Карточки хочу получить на следующий месяц, — сказал я.
— Да какие теперь карточки, — сказал майор. — Ночью пришла депеша, весь аппарат срочно вывозить, немецкие танки прорвали оборону под Трубчевском. Собрали весь наличный автотранспорт и отправили людей в сторону Москвы.
— А вы? — спросил я.
— А я остался, — спокойно сказал майор.
— Говорят, немцы чекистов и коммунистов сразу вешают.
— Говорят, — сказал майор. — У жены родственники в деревне живут. У них спрячусь, там места болотные, никто не доберётся — ни свои, ни чужие. У меня дитя малое и жена молодая, не до подвигов мне воинских, впрочем, не мне вам объяснять, вам Советскую власть любить не за что.
— Не за что, — сказал я.
— Вот что, Константин Павлович, — сказал майор. — У меня в райотделе арсенал не заперт. Там хороший запас стрелкового оружия, для партизан готовили. Не знаю, что и как с партизанами будет, а вы себе и друзьям вашим и знакомым заберите, пригодится в случае чего. Ну, дай бог, свидимся, — Ермолаев завёл мотоциклетку и уехал.
— Пойдём домой, — тронула меня за рукав Анна.
— Иди. Я к Каминьскому в гости зайду.
— Я уже к вам собирался, — сказал Каминьский, едва поздоровавшись. — Что делать будем, Константин Павлович?
— Для начала остановим неизбежную панику и мародерство. Я насмотрелся, когда в Москву ездил.
— Берём власть в свои руки? — спросил Каминьский.
— Больше, как я понимаю, некому, — сказал я. — Давай составим список людей, которым можно предложить войти в состав администрации. Предлагаю Мосина Степана Васильевича, заведующего отделом народного образования и Романа Тихоновича Ивонина, начальника лесопилки. Оба из «лишенцев», люди дельные, не будут в хате с края отсиживаться. В отделе милиции большой склад оружия, десятка бы два крепких парней подобрать, из них первый взвод охраны порядка создадим, можно назвать народной дружиной.
— Я пойду на спиртовой завод, — сказал Каминьский. — Там нормальные парни есть, и я у них авторитетом пользуюсь. Прямо сейчас и займусь.
— На финансы позовём Якова Моисеевича Жабинского, бухгалтера райпотребсоюза. С финансами сейчас беда будет. Карточек нет, какими деньгами пользоваться неясно, пока сохраним советские.
— Плохо, что еврей, — поморщился Каминьский. — Немцы недовольны будут.
— Мы не девушки, чтобы нами довольными быть. Немцам порядок нужен в тылу, как любой наступающей армии, а нам спокойная жизнь. Вот мы такой порядок и станем создавать. В шесть вечера собираемся у меня, проведём первое заседание партактива, как большевики любят выражаться. Выработаем первоначальную программу действий, напишем воззвание к населению и завтра я перед жителями выступлю. И вот ещё что, Бронислав, власть и оружие, бывает, человека развращают. Я надеюсь, ты не начнёшь сводить личные счёты?
— Я-то не начну, — сказал Каминьский. — Но порядок придётся поддерживать железной рукой, вы это понимаете, Константин Павлович?
— Понимаю, — ответил я. — Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
— — — — — — — — — — — —
«Двадцать четыре года мы не имели права говорить правду и только сейчас, сбросив каторжные цепи рабства и лжи, можно послать проклятие злодею Сталину, затопившему кровью Россию…»
Я посмотрел на лица людей, заполнивших первый этаж техникума. Собралось немного, несколько десятков, больше помещение не вмещает. Ещё сотни две, как мне шепнул Каминьский, слушают мою речь снаружи, через открытые окна. Слушают настороженно, молча, не перебивая.
«Я объявляю о создании Локотского самоуправления. В состав администрации вошли, — я перечислил фамилии и должности. — Их распоряжения носят характер закона. В ближайшее время будут разработаны и опубликованы гражданский и уголовный кодексы Локотской республики. Для тех, кто помнит добольшевистские времена, эти законы понятны и приемлемы. Просьба к ним разъяснить молодежи. Предупреждаю, случаи мародерства и грабежей будет караться беспощадно, по законам военного времени. Ношение оружия без разрешения самоуправления запрещается».
— А что с немцем? — раздался первый голос.
— По имеющейся информации, немецкие воинские части будут в Локоти в ближайшие несколько дней. С командиром этих подразделений самоуправление сразу начнёт диалог о сотрудничестве.
— С хлебом-солью немца встречать? — выкрикнул кто-то из толпы.
— Не вижу в этом ничего зазорного, — сказал я. — Если кому большевики нравятся, скатертью дорога, не задерживаем, бегите в направлении Москвы. Немцы, разумеется, не ангелы, но и нам дураками неповадно быть, умный человек всегда сможет договориться и свою выгоду сохранить. Наша же выгода на настоящий момент проста — самим выжить и детей не погубить.
— А как в магазинах отовариться, — спросила женщина. — Карточек не будет теперь?
— Мы оставили в городе два магазина, оба под охраной народной дружины. Расчёты в советских деньгах, по старым советским ценам. Потребуется время для восстановления хозяйственной жизни. Надеюсь, что через месяц возобновится работа предприятий и школ. Много зависит от вас самих, дорогие земляки, мы общими усилиями должны создавать новую жизнь.
— Читали мы в листовках про новый порядок, — крикнул голос. — Чего-то я не уверен, что он лучше будет, чем прежний.
— Уверен-не уверен, — Каминьский, одетый в военный френч, поднялся со стула и грозно посмотрел в толпу. — Советы нас бросили, это факт. Будет ли с немцами лучше, не знаю, лукавить не стану. Могу ли лишь полностью поддержать Константина Павловича, с немцами надо учиться договариваться, в этом больше шансов, чем с коммунистами. В соседнем Брасове Красная Армия элеватор с зерном сожгла перед отступлением, мол, пусть население с голода пухнет, лишь бы врагу не досталось. Мы для Сталина уже не люди, отбросы, их не жалко.
— Я повторяю, — я снова взял слово. — Кого не устраивает нынешнее положение вещей, может бежать к красным, удерживать силой никого не будем. Но и партизанщины не допустим, говорю это ответственно, как человек, прошедший империалистическую и Гражданскую. А сейчас, дорогие земляки, если вопросов больше нет, предлагаю водрузить над бывшим зданием райисполкома белый георгиевский флаг, первый символ нашего освобождения.
Передовой отряд немцев появился в городе 10 октября. Два бронетранспортёра под командой учтивого обер-лейтенанта. Он охотно пообщался с Каминьским на родном языке, оставил письменное распоряжение о моём назначении старостой Локотской волости и рекомендовал вступить в контакт с генерал-майором Брандтом, начальником тылового района 2 танковой армии.
— Генерал очень практичный человек, — сказал обер-лейтенант. — Не сомневаюсь, что он весьма заинтересуется вашим построением. Партизанки, партизанки! — весело закричал он вслед двум молоденьким девчушкам, проходившим по улице, и довольный собой, сел в бронетранспортёр и двинулся дальше.
— Поезжай в Орёл, Бронислав Владиславович, — сказал я Каминьскому. — Ты по-немецки свободно говоришь, убеждай генерала дать нам автономию.
— Давайте вместе, — предложил Каминьский.
— Я на хозяйстве останусь, дел невпроворот. Сегодня ещё пятьдесят окруженцев в город пришло.
Наши вооруженные силы растут как на дрожжах. Красноармейцы, вырвавшиеся из Трубчевского и Брянского котлов приходят в Локоть, больные, голодные, многие раненые, большинство без оружия. Для их дислокации определили бывший царский конезавод. С каждым беседую лично, некоторым предлагаю вступить в народную дружину, с оружием в руках бороться против коммунистов. Других отправляю на хозяйственные работы, налаживать жизнь города.
— Уже не дружина, — гордо сказал Каминьский. — Почти полторы тысячи человек. Можно сказать, армия. Так и предлагаю назвать — РОНА — русская освободительная народная армия.
— Хорошо, — сказал я. — Так и назовём. Поезжай к генералу, наша свобода сейчас в твоих руках.
— — — — — — — — — — — — — —
Я сплю мало, не больше четырех часов в день. Работы непочатый край. Поездка Каминьского к немецкому командованию прошла блестяще. Генерал Брандт даже не стал скрывать, что появление нашего самоуправления равноценно манне небесной. «Все силы концентрируются для последнего рывка на Москву», — доверительно сообщил он Каминьскому.
Каминьский привёз приказ командующего 2 танковой армии вермахта о создании Локотского уезда со статусом самоуправления. В уезд вошли восемь районов Орловской области, территория по размерам больше Бельгии, население почти полмиллиона человек. И ни одного немецкого солдата. Только в Севске расквартирован венгерский батальон снабжения. Мы о такой независимости даже не мечтали.
— Но имейте в виду, — сказал генерал Брандт, вручая приказ о создании Локотского уезда. — Ваша милиция, или ваша полиция, или ваша армия, как хотите, можете назвать, мне наплевать на эти стилистические тонкости, должна полностью нейтрализовать партизан в Брянских лесах. В противном случае, прощай, автономия.
— Не волнуйтесь, господин генерал, — Каминьский вытянул руку в нацистском приветствии. — Людей достаточно, оружия, брошенного Красной Армией вдоволь. Мы обеспечим полное спокойствие в вашем тылу.
После возвращения Каминьского из Орла я назначил его командиром сформированной бригады РОНА. В бригаде три с половиной тысячи человек. Пушки, пулемёты, миномёты, все советского производства. Есть два танка, но без снарядного боезапаса, могут вести только пулемётный огонь. Состав разношёрстный, в основном бывшие красноармейцы, к сожаленью, мало офицеров. У нас, как после большевистской революции, сержанты командуют батальонами. Каминьский сказал немцам чистую правду — людей достаточно, мобилизацию среди населения необходимости проводить нет, люди нам благодарны, поэтому обстановка и в Локоти, и в других поселениях спокойная, я бы даже сказал, доброжелательная. На первое декабря запланировали открытие школ и ремесленного училища в Брасове, которое моим приказом переименовано в технический лицей. Вечером с Анной и Ганночкой идём в театр, который открылся в бывшем сельском клубе, на первое представление. Первая постановка, разумеется «Князь Серебряный». Мы долго шутливо переругивались со Степаном Васильевичем Мосиным, бывшим заведующим отделом народного образования, утверждая театральный репертуар, и пришли к общему выводу, что более актуального для сегодняшнего времени произведения, чем роман А.К.Толстого, не подберёшь.
Партизан в наших краях пока нет. О них ходят неясные слухи, мой жизненный опыт подсказывает, что никаких партизан на деле нет в помине, а есть чекистские диверсионные группы, которые забрасываются в немецкий тыл. Вермахт на подступах к Москве, так что красным не до нашей глухомани. Но РОНА под командованием Каминьского усиленно тренируется, готовится к возможным боям. Господи, жить бы спокойно, хотя бы до конца войны.
Конечно, не всё так радужно, как мне хотелось бы. В город пришло много окруженцев. Люди среди них разные. Есть очевидно просоветские. Из городской больницы прислали нарочного, попросили меня и Каминьского срочно приехать.
— Не знаю, что делать с этим лейтенантом. Иванов фамилия, — сказал главврач. — По уму, его бы одного в палате оставить, но раненых очень много, у меня каждый миллиметр пространства на вес золота. Да вы заходите, сами посмотрите.
Я вошёл в палату. В койке у окна полусидел на высоких подушках старший лейтенант с бледным обескровленным лицом. «Тяжелое ранение в живот, — шепнул врач. — Его бойцы пятьдесят верст на носилках тащили, как выжил, уму непостижимо. Видно, человек со стальным характером».
— Ты, что ли, главная шкура? — спросил старший лейтенант.
Раненые, человек двадцать, молча уставились на меня.
— Глава администрации Локотского уезда Воскобойник Константин Павлович, — ровным тоном представился я. — Если бы не наш лазарет, пел бы ты сейчас строевую песню в другом мире, старлей.
— Не твоё, сука, дело, — сказал старший лейтенант. — Продались за краюху хлеба. Русские люди на фронте гибнут, а вы тут с немцем лясы точите, иуды.
— Я сам воевал, — сказал я. — Поэтому раненых не добиваем и не бросаем в лесу умирать. Хотя по закону военного времени имею полное право расстрелять тебя за враждебные разговоры. Выздоровеешь, тогда поговорим. Это всех касается, — я обвёл взглядом раненых. — Понятно?
В больничном коридоре Каминьский сказал мне: «Опасный зверь. Выживет, начнёт народ будоражить. Таких оставлять нельзя».
— Расстреливать раненых не будем. Не будем уподобляться красным.
— С лекарствами у нас плохо, — сказал Каминьский. — Глупо получается, на ноги поднять, а потом расстрелять.
Через два дня я увидел фамилию старлея в списке умерших в больнице. Я посмотрел на Каминьского и промолчал.
— — — — — — — — — — —
Вечерний визитёр был одет в немецкую форму без знаков различия. Всю долгую дорогу от Смоленска он проделал в штабном автомобиле в сопровождении двух мотоциклеток охраны.
— Редлих Роман Николаевич, — представился он. — Сотрудник 12 отдела Генштаба «Иностранные армии Востока».
— Садитесь, — я показал на стул. — Выпьете что-нибудь?
— Выпью, — сказал Редлих. — У меня с собой баварский коньяк. Не французский, конечно, но пить можно.
Мы оба были дико уставшие, он — после дороги, я после кошмарных событий сегодняшнего дня.
Сегодня ранним утром произошло первое столкновение с партизанами. Взвод РОНА в окрестностях Локоти находился на тренировочном марш-броске, без оружия, это страшное упущение Каминьского. Их накрыли пулемётными очередями, положили всех, тридцать человек.
Бригаду подняли по боевой тревоге. «Москва наконец заметила нас», — грустно констатировал Каминьский.
Бригада пошла в преследование по следам на снежных полях. Настигли в районе деревни Балымово. Диверсионная группа отбивалась отчаянно, по слаженности боя чувствовалась подготовка профессионалов. Часть группы пробила окружение и ушла в лес. Оставшиеся заперлись в деревенском доме и отстреливались. «Я послал в Локоть за огнемётом, — сказал Каминьский. — Сожжём к чёрту».
«Сдаёмся!» — раздался голос из дома.
«Выходи по одному!» — крикнул Каминьский.
«Не могу, — ответил голос. — В ногу ранило. Остальные погибли».
Два бойца РОНА вошли в дом и в этот момент взорвалась граната.
— Соболезную! — сказал Редлих. — Ваше первое боевое крещение!
— Завтра похороны, по христианскому обряду. Первые герои нашей маленькой республики.
— К сожаленью, не последние, — сказал Редлих. — Немецкое наступление начинает захлебываться. Похоже, вермахту не удастся взять Москву.
— Вы русский? — спросил я.
— Немец. Родился и вырос в Москве. Моей семье в двадцать девятом году удалось эмигрировать из СССР.
— В двадцать девятом я жил в Москве, — сказал я. — Могли встречаться.
— Могли, — сказал Редлих. — Я член Народно-Трудового Союза. Есть такое эмигрантское объединение. Слышали о нём?
Я кивнул головой.
— После начала войны Союз выдвинул лозунг: «Не с Гитлером, не со Сталиным, а с русским народом». Немцам такая постановка вопроса не слишком нравится, но специалисты по работе с военнопленными им нужны, поэтому я в России.
— У нас нет военнопленных, — сказал я. — Бывшие красноармейцы либо поступают на службу в РОНА, либо направляются под надзором на хозяйственные работы.
— Мой интерес несколько выходит за рамки служебных полномочий, — сказал Редлих. — Кроме того, в Берлине, в одной организации, просили подготовить подробную записку о вашем административном образовании. Эта организация называется абвер — военная разведка, её возглавляет адмирал Канарис.
— Вы действительно полагаете, что война начинает затягиваться? — спросил я.
— Да. Если Япония не вступит в войну, а она не вступит, — Редлих сделал ударение на частице, — по самым разным причинам, под Москвой немцев ждёт поражение. Что будет потом, не берусь прогнозировать, но, судя по всему, это противостояние на годы. Черчилль сумел сделать ловкий и грандиозный ход — столкнуть двух монстров лбами, они будут биться, пока не выпотрошат друг друга.
— Я тоже так думал, — сказал я. — До войны. Но началась война и у меня не осталось выбора, чью сторону занять.
— Я навёл о вас справки, — сказал Редлих. — Полагаю, что свой выбор вы сделали ещё в семнадцатом году.
Я утвердительно кивнул.
— Мне крайне импонирует то, что вы делаете, — продолжил Редлих. — Не засовываете голову в песок с причитаниями: «Ой, что будет!», а мужественно и методично налаживаете нормальную жизнь. Больше бы таких на оккупированных территориях.
— Спасибо за комплимент, — сказал я. — У Вас конкретная задача или так — общее изучение обстановки?
— Пока, к сожаленью, ничего определённого, — сказал Редлих. — В отношении будущей русской государственности в среде эмиграции полный разброд и шатание. Одни рвутся воевать с большевиками, другие, напротив, готовы быть со Сталиным заодно, лишь бы сокрушить нацистов. Особенно популярны такие настроения во Франции, что понятно, Франция оккупирована немцами, война была проиграна лягушатниками бездарно и нелепо. Немцы ко всем вариантам национальных вооружённых сил народов Советского Союза относятся крайне настороженно. В конце июня во Львове гестапо арестовало двух главных украинских националистов — Бандеру и Шухевича — за несанкционированное провозглашение независимого украинского государства. Насколько мне известно, они оба сейчас в концлагере. Их партизаны на Западной Украине воют со всеми, больше всего с польским мирным населением, многовековая лютая ненависть к панам прорвалась.
— Вы полагаете, что началась вторая гражданская война? — спросил я.
— Не думаю, — сказал Редлих. — Во всяком случае, такое утверждение было бы сильным преувеличением. Почти двадцать пять советской жизни не прошли бесследно. До приезда к вам я много времени провёл в Белоруссии и Смоленске. Мой вывод таков: основная часть советского населения занимает выжидательную позицию, в душе склоняясь больше в сторону коммунистов, чем немцев. Знаете, как в плохой поговорке: сволочь, конечно, и душегуб, но свой, родной, а эти чужие, чужие порядки принесут, нам этих порядков не надо.
— Сколько вам лет? — спросил я.
— Тридцать два.
— Значит, в той гражданской войне не участвовали. А я участвовал и, как вы выразились, выжидательную позицию населения на своей шкуре прочувствовал пулевыми ранениями. Наш народ будет держать нос по ветру. Победят немцы, будет под них подстраиваться, победят красные, обратно в колхозы и на фабрики пойдут. В оправдание своему народу могу сказать лишь одно, так, наверное, любой народ устроен.
— Но вы же не стали сидеть и выжидать, — возразил Редлих. — Вы проявили инициативу, довольно успешную, и с точки зрения вермахта и на взгляд населения. Или я ошибаюсь?
— Не ошибаетесь, — сказал я. — Я и мои товарищи так долго сидели в погребе, признаться, уже не сомневались, что в этом погребе, в этой темноте и бездарности, помрём. Поэтому когда забрезжил свет, не смогли сидеть равнодушно по хатам. Но, к сожаленью, прав мой заместитель Каминьский, порядок придётся поддерживать железной рукой. События сегодняшнего дня подтвердили это с грустной очевидностью. РОНА неизбежно превратится в карательные части. Двадцать лет назад я воевал с красными карателями, их называли «чоновцы», теперь карателем стану сам. Поверьте, метаморфоза не из самых приятных.
— Жизнь это не шахматная доска, разлинованная на чёрно-белые квадратики, — сказал Редлих. — Извините, за философскую сентенцию. Весной я был в Югославии, сформированный из бывших врангелевцев казачий корпус немцы направили туда, воевать с местными партизанами. По их манере поведения — натуральный Иностранный Легион, со всеми бесчинствами и непотребством, свойственным наёмникам. Неизбежная логика войны.
— На войне нет логики, — сказал я. — На войне есть только насущная необходимость выжить. Если удалось при этом не потерять человеческий облик, ты уже почти герой. Удаётся, как вы понимаете, не всем.
— Начальник моего отдела, полковник Гелен, доверенное лицо адмирала Канариса в Генштабе. У него, как и у его патрона, куда более взвешенное отношение к русским проблемам, чем у руководства нацистской партии и самого Гитлера. У тех всё просто, заморить подавляющую часть славянского населения голодом и непосильной работой, примерно как индейцев в Латинской Америке во времена конкистадоров, в общем, чистой воды «Моя борьба», что будет во время мира, никто задумываться не хочет. Все как-то забывают, что «Майн Кампф» была написана в двадцать третьем году и служила идеологией прихода к власти. Практическая сторона дела всегда сложнее — одни евреи отправляются в концлагеря или высылаются из Германии, другие — полукровки, их называют мишлинге — служат в вермахте и успешно воюют за новую империю.
— Я читал «Майн Кампф», — сказал я. — Книжка, действительно, талантами не блещет.
— Как любая прокламация, — сказал Редлих. — Её задачей было разбудить низменные инстинкты населения. Мои германские покровители, Гелен и Канарис, прекрасно отдают отчёт в том, что в Россию не привезёшь негров из Африки и она слишком велика, чтобы тотально уничтожить всё население. Поэтому рано или поздно, но потребуется политическое решение. Очень вероятно, что ваше административное построение один из камешков в основании будущего решения.
— Если немцы победят, — сказал я.
— Я почти уверен, — сказал Редлих, — что победы не будет в том смысле, как обычно она понимается, поверженная Москва или поверженный Берлин, парад победы и прочее в том же духе. Когда стороны выдохнутся в противостоянии, они начнут договариваться о разделе интересов и территорий. Здесь как раз и появляется зазор для нового русского государства, без большевиков.
— Насколько я понимаю, Москва начнёт усиливать партизанское движение на оккупированных территориях, — сказал я. — Если немцы будут срывать злобу на мирном населении, тогда каюк всем возможным политическим решениям. Как вы, наверное, знаете, Наполеон в 1812 году обещал русским крестьянам освобождение от крепостного права, а они пошли за дворянами в Отечественную войну. Выходит, что не поверили крестьяне французу. Ваши покровители это понимают?
— Понимают, — сказал Редлих. — Но они, к сожаленью, не всесильны. Мы реально ничем не можем помочь нашим военнопленным. Немцы оказались не готовы к такому количеству, около четырех миллионов красноармейцев, да и не очень-то хотят тратить на них продовольственные и медицинские ресурсы. Смертность страшная, думаю, что подавляющее большинство погибнет.
— Четыре миллиона за пять месяцев боёв?! Доруководились страной товарищ Сталин и компания. Ни при одном царе супостате такого разгрома не было. Нам бы этих бойцов в РОНУ.
— Об этом можно только мечтать, — сказал Редлих. — На сегодняшний момент действует категорический запрет фюрера на формирование русской освободительной армии. Я организую вашу встречу с адмиралом Канарисом. Если немцы возьмут Москву, вы получите официальное приглашение на парад вермахта на Красной Площади. Если их остановят, тогда встреча будет в начале будущего года…
— — — — — — — — — — — — —
— Мне страшно, — сказала ночью Анна. — Говорят, что в соседней Брянской области в одной деревне партизаны старосту, назначенного немцами, повесили, а его жену и детей в доме заживо сожгли. Говорят ещё, что в Брянских лесах партизан тьма. Зря мы, наверное, в это всё ввязались.
— Теперь уже поздно, — сказал я. — Теперь только воевать. Каминьский настроен решительно.
— Дикий он человек, — сказала Анна. — Опустошённый, для него война плохо закончится.
От генерал-майора Брандта поступил приказ: сформировать полк численностью не менее двух тысяч человек и направить в район Клетнянских лесов в распоряжение немецкого командования. Иметь с собой месячный запас продовольствия.
Доставивший приказ немецкий офицер прокомментировал: готовится операция по нейтрализации «бандитов», как он выразился. Немецкий пехотный полк плюс ваши «орьли», сказал он на коверканном русском. Участились подрывы железнодорожного полотна, «в разгар наступательной операции это никуда не годиться». Командование приняло решение СС не привлекать, сказал офицер, СС признаёт только тактику выжженной земли, вермахт таких методов чурается.
— Сколько партизан в Брянских лесах? — спросил Каминьский.
— Точно неизвестно, — поморщился офицер. — У жителей на лбу не написано, кто он. Не думаю, что много, не более тысячи. По агентурным данным, костяк составляет диверсионный отряд «Митя», состоит из чекистов и спортсменов, этих человек сто. Но один маленький вошь весь улей будоражит, как у вас говорят.
— А что под Москвой? — спросил я.
— Под Москвой идут бои, — уклончиво ответил офицер.
Морозы стоят страшные, под сорок. Представляю, каково сейчас солдатикам в окопах. Поэтому «командировочных», так решили назвать отправляемых на совместную операцию с вермахтом бойцов РОНА, экипируем серьёзно, каждому тулуп, вязаные носки, сменная пара валенок, в обозе достаточный запас провизии и первача. Отправляем только тех, кто не старше тридцати, они холод легче переносят. Немецкий офицер смотром остался чрезвычайно доволен: «Блестящие результаты за столь короткий период. Они действительно все искренне ненавидят большевиков?»
— Проверим в бою, — сказал Каминький. — В душу не заглянешь, а вот присмотреть можно за каждым, тем более в боевой обстановке. Наши солдаты точно знают — любая попытка перебежать к красным карается расстрелом на месте. Да и вряд ли их там ждут с распростёртыми объятиями.
— Хорошо, — сказал офицер и посмотрел на часы.
— Не желаете ли отобедать? — я проявил радушие гостеприимного хозяина.
— С удовольствием, — сказал немец. — Очень уж у вас холодно, в вашей родной стране.
— Кстати, как у вас с еврейским вопросом, — спросил он после сытного обеда. — Вермахта это не касается, но господа из СС проявляют любопытство. К вам ещё не приезжали?
— Никого не было, — сказал Каминький. — Евреи у нас, конечно, есть, но не так много. Черта оседлости в царской России, где они жили, проходила значительнее западнее наших краев. Но мы держим вопрос на контроле.
— Лучше бы у вас их вообще не было, — расхохотался офицер и выпил залпом рюмку водки. — Нет евреев — нет проблем.
— Останетесь ночевать? — спросил я.
— Нет, — ответил офицер. — Служба не ждёт. Рад был познакомиться, господа. Надеюсь увидеться на параде в Москве.
Евреев у нас живёт действительно немного, те, кого я знаю, безусловно, порядочные люди. Один Жабинский чего стоит — золотая голова — в ситуации безвременья наладил финансовую систему на нашей территории. Пока обходимся полумерами, опубликовали запрет на браки с лицами еврейской национальности, справедливо рассудив, что во время войны не до свадеб. Надеемся, что до создания гетто, как в Варшаве и Киеве, о которых мы уже слышали, не дойдёт. Посмотрим. Пока война, пока надо подстраиваться под текущие обстоятельства.
— Ты будь поосторожнее, — сказал я утром Каминьскому, прощаясь. — Пуля, как водится, дура, а ты мне живым нужен. И людьми без нужды не жертвуй. Немцам, как ты понимаешь, на нас наплевать, они твою бригаду в самое пекло направлять будут. В общем, действуй по обстановке.
— Не волнуйтесь, Константин Павлович, — сказал Каминьский. — Меру возложенной ответственности понимаю. Если сможем партизан загнать вглубь брянских лесов и нам здесь полегче станет. На какое-то время, во всяком случае.
— Ну, с богом, Бронислав Владиславович! За красными позади Москва, а за нами — Родина.
— — — — — — — — — — — — —
«Сего числа приступила к работе Народная социалистическая партия России. Народная социалистическая партия была создана в подполье в сибирских концлагерях. Краткое название Народной социалистической партии — «ВИКИНГ» (Витязь).
Народная социалистическая партия берет на себя ответственность за судьбы России. Она берет на себя обязательство создать правительство, которое обеспечит спокойствие, порядок и все условия, необходимые для процветания мирного труда в России, для поддержания её чести и достоинства.
В своей деятельности Народная социалистическая партия будет руководствоваться следующей программой:
Полное уничтожение в России коммунистического и колхозного строя.
Бесплатная передача крестьянству в вечное, наследственное пользование всей пахотной земли с правом аренды и обмена участков, но без права их продажи (в руках одного гражданина может быть только один участок). Размер участка около 10 гектар в средней полосе России.
Бесплатное наделение в вечное, наследственное пользование каждого гражданина России усадебным участком, с правом обмена, но без права продажи. Размер участка в средней полосе России определяется приблизительно в 1 гектар.
Свободное развёртывание частной инициативы, в соответствии с чем разрешается частным лицам свободное занятие всеми ремеслами, промыслами, постройка фабрик и заводов. Размер капитала в частном владении ограничивается пятью миллионами золотых рублей на каждого совершеннолетнего гражданина.
Установление на всех видах производств 2-х месячного годового отпуска в целях использования его для работы на собственных усадебных участках.
Примечание: На вредных производствах продолжительность отпуска увеличивается до 4-х месяцев.
Наделение всех граждан бесплатно лесом из государственных дач для постройки жилищ.
Закрепление в собственность государства лесов, железных дорог, содержимого недр земли и всех основных фабрик и заводов.
Амнистия всех комсомольцев.
Амнистия рядовых членов большевистской партии, не запятнавших себя издевательством над народом.
Амнистия всех коммунистов, с оружием в руках участвовавших в свержении сталинского режима.
Амнистия Героев Советского Союза.
Беспощадное уничтожение всех евреев, бывших комиссарами.
Свободный труд, частная собственность в пределах, установленных законом, государственный капитализм, дополненный и исправленный частной инициативой, и гражданская доблесть явятся основой построения нового государственного порядка в России.
Настоящая программа будет осуществлена после окончания войны и после прихода Народной социалистической партии к власти.
В первую очередь все льготы получат граждане, с оружием в руках не щадя жизни участвовавшие в построении и укреплении нового строя.
Всякому паразитизму и воровству объявляется смертельная борьба.
Наша партия — партия национальная. Она помнит и ценит лучшие традиции русского народа. Она знает, что викинги — витязи, опираясь на русский народ, создали в седой древности Русское государство.
Наша страна разрушена и разорена под властью большевиков. Бессмысленная и позорная война, вызванная большевиками, превратила в развалины многие тысячи городов и заводов нашей страны.
Но партия «ВИКИНГ» верит в могущество и гражданскую доблесть русского народа и даёт клятву возродить русское государство из большевистских развалин.
С образом Георгия Победоносца сражалась и побеждала русская армия в старину, так будет и впредь, а потому наше национальное знамя — белое полотнище с образом Георгия Победоносца и с георгиевским крестом в верхнем левом углу знамени.
Каждый гражданин, разделяющий программу нашей партии, должен вести запись граждан, желающих в нее вступить.
По всем областным и районным центрам необходимо организовать комитеты партии «ВИКИНГ».
Народная социалистическая партия шлёт привет мужественному германскому народу, уничтожившему в России сталинское крепостное право.
Руководитель Народной социалистической партии
Инженер Земля (КПВ)».
Я положил на стол ручку-самописку, закурил и негромко рассмеялся. Вошёл, так сказать, в сонм авторов манифестов. Это, конечно, «не призрак коммунизма бродит по Европе…», но написано недурно. Про евреев мне не очень хотелось упоминать, но куда денешься от текущего политического момента. Впрочем, выкрутился я ловко, сколько там на самом деле евреев-комиссаров. В Гражданскую было много, а потом большинство Сталин перестрелял.
Морозная ночь, тихо, домашние спят. Завтра в восстановленной типографии будут отпечатаны 500 экземпляров моего манифеста, точнее, манифеста первой российской партии после Гражданской войны.
«При живом-то усатом!» — гордо подумал я.
Я перечитал короткий доклад Каминьского, присланный с нарочным из Клетнянских лесов. Бои с партизанами идут упорные, среди бойцов РОНА было несколько случаев мародерства, виновных он расстрелял на месте. Двадцать восемь партизан захвачено в плен, доставлены в Локотскую тюрьму. Предлагает судить на открытом процессе, требовать смертной казни через повешение.
«Каминьский становится лихим воякой». Когда я впервые сказал ему о необходимости создания национальной партии, он вяло отмахнулся: «Константин Павлович, я простой инженер, в этом деле плохо разбираюсь. Да и война сейчас…» Зато за обустройство локотской тюрьмы взялся рьяно и ответственно. Ну, что ж, каждому, как говорится, своё. При добром правителе должен быть зверь полицейский.
Я пробежал глазами по тексту манифеста и снова рассмеялся. Да уж, добряком меня не назовёшь. Диктаторская власть, слегка приправленная демократической демагогией, но лучше уж так, чем просто под немецким сапогом. Из соседних областей регулярно отправляются эшелоны с рабочей силой в Германию и туда, что раньше называлось Польшей. В основном женщины и подростки, мальчишки и девчонки. У нас такого нет. Генерал-майор Брандт, назначенный начальником тылового управления группы армий «Центр» держит слово — ни одного немецкого солдата на вверенной мне территории, ни одного угнанного в Германию. Немцы в соседних областях не распустили колхозы, просто поменяли название на «общие дворы», по всей вероятности, рассчитывают, что так проще будет обеспечивать поставки продовольствия в армию. Это плохо, если следующим осенью дело дойдёт до продразверстки, только добавит масла в партизанский огонь.
План поставок на 1942 год, присланный нам из тылового управления вермахта, чудовищен по объему. Придётся напрягать все силы, убеждать граждан, что лучше честно заплатить тяжелые по причине военного времени налоги, чем нарваться на грубое изъятие. В общем, весна ожидается жаркой. Вернулось много раскулаченных, мы приняли однозначное решение — вернуть прежним хозяевам их земли и, по мере возможности, имущество, с этой целью создали отдел землеустройства. Очень на них надеюсь, на раскулаченных, для них новая власть — благо.
Жабинский — золотая голова — придумал, как одним махом убить двух зайцев. Учитывая неясную перспективу советского рубля, налоги взымать натурой, как в Средневековье, рассчитав количество продукта по каждой сельской общине. Павлюченко, бывший главный агроном Севского района, составил примерную схему, летом будем кочевать по территории Локотского самоуправления, уточнять параметры на месте, в каждой деревне и селе, сверяясь с планом немецких поставок. Жарко будет, трудно и тяжело. Придётся практически доказывать, что старая русская община эффективнее колхозного строя.
Жабинский показал мне карбованцы, напечатанные немцами для оккупированной Украины. Странные деньги. На немецком языке: «выпущено для использования на территории Украины. Центральный банк. Киев». Портрет счастливой девочки не вполне ясной национальности, рядом орёл, сжимающий в когтях свастику. Может быть, прав Редлих, немцам интересны в первую очередь пахотные украинские земли, там «жизненное пространство» для колонистов и ветеранов, а нам, в наших лесах, удастся постепенно обустроить русское государство, не такое амбициозное и велеречивое, как прежде, но крепкое и живое.
Яков Моисеевич, к моему удивлению, внимательно изучил партийный манифест: «Я ведь, Константин Павлович, в восемнадцатом жил в Киеве. Регулярно посещал заседания Центральной рады. Гордился, первый национальный парламент. А в один прекрасный день в здание вошла рота немецких солдат и офицер скомандовал: „Всем разойтись. Рада распущена приказом командующего оккупационных войск“. Вот и весь тебе национальный парламент».
— На исторических уроках надо учиться, — сказал я.
— Надо, — сказал Жабинский. — Только получается плохо.
Через три дня после обнародования манифеста партии «Викинг» меня вызвали в Орел, в штаб 2 танковой армии.
Я поехал с тяжелым сердцем. Похоже, я сглупил. Надо было согласовать с немцами создание партии. Отправят в концлагерь, как этого львовского Бандеру. Поторопился, злился я на самого себя.
— Вас примет командующий, генерал-полковник Шмидт, — сказал мне адъютант начальника штаба.
«Для отправки в концлагерь слишком почётно», — подумал я.
— — — — — — — — — — —
Генерал-полковник Шмидт был высокий, худощавый человек, с большими ушами, какие обычно бросаются в глаза на фотографиях портных, не молодой, но молодящийся. Генерал хорошо изъяснялся по-русски.
— В тридцать четвертом я стажировался на высших курсах командиров РККА, — сказал он. — Был знаком с Тухачевским и другими вашими заговорщиками. Вы не очень похожи на викинга, господин Воскобойник, больше на добропорядочного петербургского профессора.
— Я учился в петербургском университете. В шестнадцатом ушёл добровольцем на фронт.
— В той войне я не участвовал в восточной компании, — сказал генерал. — Воевал в Бельгии и в Италии. Хотите кофе?
— С удовольствием, — сказал я. — Я уже забыл, когда последний раз пил кофе.
— Вы можете говорить со мной вполне откровенно, — сказал генерал. — Я не люблю людей из СС. Я вообще не очень уверен, что у этой войны правильная цель.
— Вы имеете в виду свержение большевиков?
— Я говорю о сокрушении России. Те, кто нами правит, неадекватно вас оценивают, господин Воскобойник.
— Я тоже абсолютно убежден, господин генерал, — сказал я, — что Россия без большевиков воспрянет духом. Также я не сомневаюсь, что будут сделаны исторические выводы, союз с Германией позволяет прекратить это многовековое противостояние: Запад — Восток.
— Возможно, — сказал генерал. — В конечном счёте, дальнейшее развитие или, напротив, исчезновение России с карты мира будет зависеть от той элиты, которая сформируется в ходе войны и сразу после неё. Я не считаю, что русские должны исчезнуть, поэтому готов помогать вашему самоуправлению всеми доступными способами. Во вверенных мне частях на сегодняшний день служат около тридцать тысяч русских и украинцев, в вермахте им присвоена классификация — Ost-Hilfwilligen, восточные добровольные помощники: сапёры, водители, повара, обслуживающий персонал. Я отдал приказ сформировать из наиболее достойных шесть вооружённых батальонов для исполнения полицейских функций, прежде всего.
— Ясно, господин генерал. Могу ли я проводить политическую работу новой российской партии за пределами Локотского самоуправления?
— Не торопите события, — сказал Шмидт. — Ситуация обостряется. Война продолжится в будущем году, диверсии в нашем тылу активизировались. Нам приходится проводить контрмеры, брать в заложники население и расстреливать в отдельных случаях, когда в оккупированной зоне гибнут немецкие солдаты и офицеры. Ваше самоуправление находится на исключительном положении, поэтому проводите пока политическую работу только у себя. Результатов вашей деятельности ждут многие, я говорю о людях, близких к фюреру. В том случае, если война будет затягиваться и если в вашем самоуправлении будут достигнуты очевидные успехи по противодействию партизанам и налаживанию экономической жизни, вероятность создания полноценной русской освободительной армии увеличивается. Хотя, конечно, такое решение может принять только сам Гитлер.
— Вы не уверены в победе германского оружия? — решился я задать главный вопрос.
— Не так важно, в чём я уверен, — ответил генерал. — Более важно другое, господин Воскобойник. У вас и ваших соратников обратного пути нет.
— — — — — — — — — — — — —
Каминьский вернулся из Клетнянских лесов 2 января. О событиях в Тарасовке уже было известно.
Село Тарасовка находится в двенадцати километрах от Локоти, в центре болотистого массива, на берегу лесной речки Железная. Напротив сельцо Шемякино, так что по сути это один населённый пункт, около шестисот жителей. Вокруг мощная стена сосновых и дубовых деревьев, передовой форпост Брянских лесов.
В новогоднюю ночь сюда нагрянул двумя колоннами кокоревский партизанский отряд, о нём мы слышали в ходе декабрьских боев. Деревенских мужиков из самообороны взяли тёпленькими, знали, сволочи, что основные силы бригады РОНА находятся далеко. Сначала пытали активистов, отрубали пальцы рук и ног, протыкали раскалёнными шомполами уши, поиздевавшись, расстреляли. Сельского старосту и его семью повесили на крыльце управы. Когда местные жители стали умолять о пощаде, построили длинную шеренгу из человек ста и положили всех из пулемета. Оставшихся загнали в несколько деревенских домов, заперли и сожгли живьем. Даже детей не пожалели. Уходя из Тарасовки, «кокоревцы» оставили прощальную записку: «Локотчане! И вас ждёт то же».
Каминьский сказал только одно: «Я эту красную плесень калёным железом выжигать буду».
Я подписал приказ, им подготовленный: «Применяемые партизанами в неограниченном масштабе изуверские методы вынуждают нас отвечать на их экзекуции и террор беспощадным террором всего нашего народа, жаждущего спокойствия, мира и занятия свободным трудом. Я верю в силу и мощь нашего народа, гнев и возмущение которого против действий „скорпионов“-партизан перешли всякие границы. Поэтому от лица всего населения вверенного мне уезда я открыто заявляю, что на их террор, экзекуции и грабежи мы ответим удесятеренным террором, всей силой и мощью нашего огня и будем его применять до тех пор, пока на территории Локотского уезда не останется ни единого бандита».
В Локотской тюрьме находятся восемьдесят два партизана и лица, обвиняемые в сотрудничестве с красными. Завтра по приговору военно-полевого суда они будут расстреляны на ипподроме конезавода.
Казнь будет публичная. Мера, конечно, дикая, но выбора нам не оставили.
С утра народ потянулся к месту казни. Пришло не так много жителей, человек двести, ещё пятьдесят приехали из соседнего Брасова. Стояли молча, смотрели на партизан, которых построили двумя шеренгами. Священник отец Иннокентий обошёл строй, некоторые целовали крест. Тишина стояла гробовая.
Начальник штаба бригады бывший майор Кравченко прочёл приговор военно-полевого суда. «Скажете что-нибудь?» — спросил меня Каминьский.
«Нет, слова больше не нужны. Командуй».
Место у пулемёта заняла Антонина Гинзбург. Молоденькая девчонка, лицо фанатичное, тупое, я на такие лица насмотрелся в Гражданскую, и с той, и с другой стороны. «Сама вызвалась, добровольно, — сказал Каминьский. — Я согласился, профессия палача не слишком привлекательная».
«Пли!» — скомандовал Каминьский. Антонина перезарядила ленту и выпустила первую очередь. Через несколько минут всё было закончено.
— Похороните в общей могиле, — сказал я Каминьскому. — И пусть в церкви заупокойную прочтут, если отец Иннокентий не возражает.
Потомки предадут нас анафеме, сказал я Анне, вне зависимости от того, кто победит в этой войне. Внуки и правнуки будут рисовать картину прошлого большими мазками, главные события — танковые сражения и оборона городов, с участниками всё просто: эти звери, эти жертвы, эти предатели, а эти герои, местонахождение, как обычно, определят победители, так хорошо рассуждать о добре и зле, когда не стреляют и страсти кипят лишь в бульварных романах. Они не смогут нас понять, и не захотят осознать, что на самом деле все были винтики и те, кто перемалывали, и те, кого мололи.
— Если вообще что-то будет, — сказала Анна. — Вспомни, как люди резко поглупели после революции. Мне кажется, этот процесс не остановить никакими усилиями.
— Не знаю, — сказал я. — Мы вступили в ту жизнь, когда, если завтра жив, уже счастье. Жаль, что нам не удалось после Гражданской уйти в Харбин.
— Ты знаешь, — сказала Анна. — Мне кажется, что спокойного места на Земле, где можно просто жить, уже не осталось.
— — — — — — — — — — — — —
Снег скрипит под ногами. Возвращаемся с Анной и Ганночкой из церкви, светлый праздник Рождества. Храм в строительных лесах, при большевиках, естественно, был заброшен, ремонтом занимаются прихожане на добровольных началах.
Шок, испытанный жителями Локоти после событий в Тарасовке, постепенно проходит. У торговых рядов людно, все радостно поздравляют друг друга с праздником. Улицы и особенно окрестности охраняются усиленными патрулями РОНА. Ждём гостей. Вся бригада находится в полной боевой готовности, думаю, что отмена этого приказа произойдёт только после окончания войны.
Вчера в Локоть пришёл сильно обмороженный человек, можно сказать, перебежчик. Он из партизанского отряда «дяди Мити», тот мародерствовал в районе Клинцов, сжёг местный маслобойный завод, венгры, там расквартированные, крепко потрепали «дядю Мити» и вояки ушли на север. Так, во всяком случае, рассказал перебежчик.
— Худо у нас, — сказал парень. — Припасов почти нет, крестьяне кормить не хотят, орут, что у самих ничего не осталось. Боеприпасы только те, что в лесах находим, брошенные Красной Армией. Москва обещает помогать, но по радио всё время передают, что самолет не может вылететь из-за плохой погоды.
— Сам откуда? — спросил Каминьский.
— Ростовский я, — сказал перебежчик. — Срочную проходил в 38 стрелковой дивизии. Мне бы до дома добраться, я там сховаюсь, мне эта ваша война знаете где.
— Не обещаю, — сказал я. — До конца войны будешь на хозяйственных работах. Нам крепкие руки очень нужны.
— Есть у меня для вас ценная информация, — сказал парень. — В новогоднюю ночь в расположение нашего отряда прибыла на аэросанях группа под командованием капитана Емлютина, человек шестьдесят, я точно не считал. Экипированы с иголочки, и со жратвой у них всё в порядке, и с вооружением. Так вот, эта группа имеет приказ, бургомистра, — он посмотрел на меня, — они так вас называют, и комбрига Каминьского ликвидировать. Когда, не знаю, но, видимо, в самые ближайшие дни.
— Провокация? — спросил Каминьский, когда перебежчика увели.
— Не факт. Решение ликвидировать тебя и меня вполне логичное. Как говорится, рыба тухнет с головы, вот голову и надо отсечь, вполне по-большевистски. В НКВД работают неглупые люди, они удостоверились, что у нас не стихийное образование, которое развалится от первого же грозного пука.
— Красиво, конечно, — сказал Каминьский, — было бы заманить эту группу Емлютина в Локоть, здесь накрыть и потом судить всем миром, чтобы рассказали, какие они народные мстители.
— Предлагаю поступить следующим образом, — сказал я. — Объявим, что восьмого января в театре (сельский клуб мы переименовали в свободный театр) состоится первое заседание партии «Викинг». Мол, будет всё руководство. Лучшей засады не придумать.
— Рискованно, Константин Павлович, — сказал Каминьский. — Они профессиональные диверсанты, каждый десятерых наших стоит. Глупо получится, если в заварухе руководство погибнет.
— В здании только я буду находиться. На глазах у всех жителей отправлюсь на торжественную церемонию. У партизан, наверняка, в городе свои стукачи есть. Я и послужу приманкой, ну, а твоя задача не облапошиться, когда незваные гости в театр явятся.
Я положил пистолет Токарева во внутренний карман пиджака. Давно не стрелял, почти двадцать лет, из пистолета даже не помню, стрелял ли вообще, я же пулеметчиком был и в мировую, и на Гражданской. Анна в курсе, кого ждём сегодня вечером. Самообладание у неё, позавидуешь. Поговорили за обедом о мелочах, Ганночка пропадает целыми днями в Брасовском лицее, преподает математику, часто остаётся ночевать в комнате для учителей.
«Во всяком случае, это официальная версия», — чуть заметно улыбается Анна.
— Есть подробности о кавалере? — спрашиваю я.
— Ни слова, — говорит Анна. — Нынешняя молодежь скрытная, стесняются там, где не надо.
— Ну ладно, — говорю я. — Придёт время, скажет.
Ночью в подвале театра разместили сотню самых толковых бойцов РОНА. Надеюсь, что прошло незаметно, после десяти вечера в городе действует комендантский час. Наблюдатели расставлены по всему периметру вокруг Локоти. Если будет возможность, Каминьский тут же известит о подходе партизан.
Если они подойдут, я смотрю на часы, без четверти семь вечера. Должны подойти, хорошие диверсанты всегда на вес золота, они не могут вечность сидеть в лесах и надеяться, что бургомистр, надо же, как назвали, каждым штрихом хотят подчеркнуть, что неметчина всё это, противное истинным русским, отправится грибы собирать или с девками втихаря шалить. Должны подойти, красные на волоске над пропастью, Москву отстояли, как я понимаю, из последних сил, для них каждый победный жест ценнее десятков человеческих жизней.
Каминьский прислал с нарочным записку: «Идут со стороны села Игрицкое тремя колоннами, около пятисот человек».
Много, подумал я, бойню хотят устроить до начала комендантского часа.
Я быстро написал короткий приказ: «Патрулям всех жителей загнать по домам, причины не объяснять. Шесть пулемётов разместить на чердаках соседних к театру домов. В бой не вступать, даже если будут потери личного состава. Дождаться, когда колонны войдут на площадь и косить кинжальным огнём. Выезды из города перекрыть танками и автомобилями с лучшими стрелками».
Я вручил приказ нарочному: «Стрелой лети!» и спустился в подвал.
— Сколько у тебя пулемётов?
— Один, — ответил командир роты. — И двенадцать автоматчиков.
— Всем на крышу. Лежать тихо, без моей команды не стрелять.
Я закурил и пристроился в уголке широкого подоконника. Пыльная тяжёлая штора напомнила новогодний маскарад. Когда война закончится, поедем с Анной в Крым, в Судак, на месяц, а лучше на два. Я читал когда-то в газете очерк про этот Судак, автор утверждал, что волшебное место. Будет гулять босиком по тёплому песку, жарить вкусную рыбу и пить холодное вино.
С окраины города послышались первые выстрелы. Я посмотрел на часы, восемь пятнадцать. Плохо, что не было возможности предупредить жителей. Патрули не успеют всех разогнать по домам.
Я поднялся на крышу:
— Слушай меня! На город наступает отряд диверсантов. Задача ваших товарищей загнать их в ловушку на площади перед театром. Огонь открывать только по моей команде. Вопросы есть?
— Нет, — прозвучал неровный хор.
Я лёг рядом с пулемётчиком:
— Опыт есть?
— Есть, — ответил тот. — Я и в Финскую воевал.
Справа и слева канонада усиливается. «Молодец, Каминьский, — думаю я. — Правильно сжимает, не даёт в сторону отклониться».
Первая группа партизан появилась на площади. Затем вторая и ещё одна. Человек сто пятьдесят. Больше ждать нельзя, иначе ворвутся в театр. «Огонь!» — кричу я.
Через полчаса всё стихло. Мы с Каминьским стоим посреди разрушенного взрывами театрального фойе. У Каминьского кровоточит ухо. «Ерунда, — говорит он. — По касательной зацепило. На площади двести трупов. В городе подсчитываем. Часть красных вырвалась».
— Наши потери?
— Сто двадцать человек. Сколько мирных жителей, пока не знаю. Несколько домов успели поджечь. Ваш дом тоже.
— Анна?
— Анну я ещё днем отвёз в администрацию, — сказал Каминьский. — Ты извини, Константин Павлович, что не сказал. В реквизитной на втором этаже заперлись человек десять, из тех, что в театр ворвались. Отстреливаются, гранатами забросать?
— Предложим сдаться, — сказал я. — Пошли к реквизитной.
— Лучше бы гранатами, — сказал Каминьский. — Чего на подонков слова тратить.
В коридоре перед реквизитной к стене прислонён бюст Горького. Я присел рядом:
— Говорит бургомистр Воскобойник. Предлагаю сдаться, гарантирую жизнь.
— Ты, что ли, бургомистр? — раздался из реквизитной резкий голос.
— Я — бургомистр! — крикнул я.
— А вот не верю, — повторил резкий голос. — Шавку прислали, сдадимся, а вы нас в расход.
— В лицо меня знаете? — спросил я.
— Ну, положим. Ты выйди, бургомистр, на освещённое место, чтобы мы поверили.
— Ты что, — дёрнулся Каминьский.
Я встал напротив двери реквизитной и как в медленном танце увидел очередь «дегтяря», распоровшую мой старенький тёмно-коричневый костюм точно также как иголка швейной машинки вонзается в ничего не подозревающую ткань.
«Тогда в двадцать первом, — успел подумать я, — из-под огня „чоновцев“ меня вытащила Анна, волочила на себе версту и выходила, и вернула с того света. Жаль, что её сейчас нет рядом…»
— — — — — — — — — — — —
Константин Павлович Воскобойник был похоронен в Локоти 11 января 1942 года. После восстановления Советской власти его могилу сравняли бульдозером.
Локотское самоуправление существовало до августа 1943 года. Партизанское движение на территории самоуправления отсутствовало.
Перед наступлением Красной Армии около восьмидесяти тысяч мирных жителей ушли на запад с частями вермахта. Вооруженное сопротивление Советской власти на территории бывшего самоуправления продолжалось до 1951 года.
Бригада РОНА (двадцать тысяч военнослужащих) была преобразована русскую дивизию СС, в отечественной историографии заклеймена как банда палачей и карателей, что в значительной степени является правдой. Командир дивизии Каминьский Б. В. в августе 1944 года застрелен в Германии при невыясненных обстоятельствах.
О судьбе жены К.П.Воскобойника Анны и его дочери Ганны неизвестно ничего…
[1] Комитет членов всероссийского учредительного собрания, первое антибольшевистское правительство, организованное 8 июня 1918 года в Самаре. В декабре того же в результате военного переворота ликвидировано Верховным Правителем А. В. Колчаком
[2] повстанческие антибольшевистские отряды в Тамбовской и волжских губерниях в 1920—21 гг.
[3] Настоящая фамилия С.М.Кирова, революционера, советского партийного и государственного деятеля. Занимал пост первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б), убит в результате покушения 1 декабря 1934 года, что послужило началом Большого Террора.
[4] части особого назначения (ЧОН) — карательные подразделения Красной Армии в 1921—25 гг.
[5] Первый украинский законодательный орган, в ноябре 1917 года провозгласил Украинскую Народную Республику. В конце апреля 1918 года Рада была упразднена в результате переворота гетмана Скоропадского, поддержанного немецкими оккупационными войсками.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
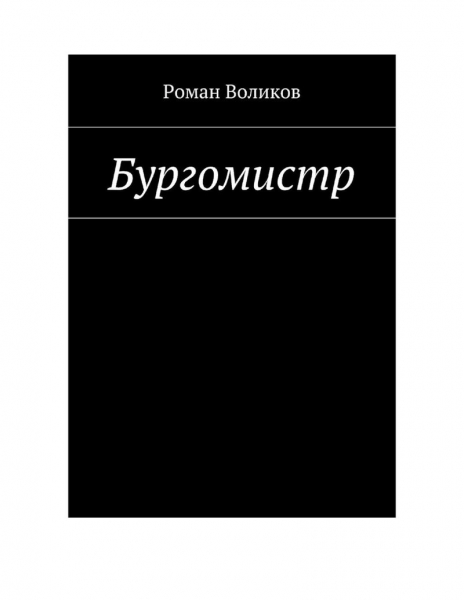




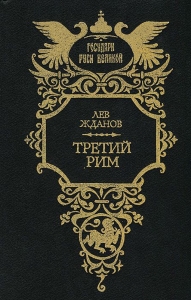
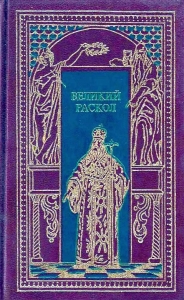

Комментарии к книге «Бургомистр», Роман Владимирович Воликов
Всего 0 комментариев