Евгений Салиас де Турнемир Петербургское действо. Том 1
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
* * *
ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ НАРЫШКИНУ
…а совершилось оное действо с общего от всех состояний согласия и восторга; и самое происхождение всего было без единой капли пролитой крови.
Из частного письма современника переворотаMais c’est un conte de nulle et une nuits!! – Разумеется, это сказка из «Тысячи и одной ночи»!!
Восклицание Людовика XV при чтении депеши посла о воцарении Екатерины IIЧасть первая
I
Зима, мороз трескучий, полночь, но светло как днем!..
Вдали от жилья, среди густого леса, укрываясь среди чащи, где топырятся и переплетаются голые сучья и ветки, обсыпанные серебристым снегом, стоит человек.
Среди глуши и дичи леса, среди тиши ночной, ярко озаренный лунным светом, так что лиловатая тень пятном лежит за ним на сугробе, – он один здесь – шевелится, дышит, живет… Все окрест него мертвец немой и бездыханный, увитый белым саваном.
Мороз все убил, и всё зарыли, будто кованые и закаленные, снеговые глыбы.
Круглый месяц сияет среди ясного, синеватого неба, и только изредка укрывают его низко и быстро несущиеся округлые и крепкие облака. Как клубы дыма, облака чередою на мгновение застилают месяц и желтеют от сквозящего света… Но тотчас же месяц, будто сам прорезав их, вылетает из облачной паутины и могучим взмахом стремительно идет прочь, будто несется победно в беспредельной и многодумной синеве ночи.
И каждый раз только легкая и мгновенная тень скользнет по белым глыбам снегов и исчезнет… Будто таинственный призрак безмолвно, бесследно пронесся по земле и умчался в свой неведомый путь!..
А ясный месяц в небе, холодно-веселый, будто тоже льдистый, равнодушно глядя сюда с великой заоблачной шири, только и находит, что голую, серую, шероховатую чащу лесную да белые глыбы. И все здесь серебристо, лучисто и мертво… Только синие и пунцовые огоньки и искры вспыхивают, сверкают и меркнут, будто бегают и играют по стволам, ветвям и сугробам.
Незнакомец стоит на самой опушке леса, полуукрытый сосной, а перед ним маленькая прогалина лесная, и бела она… Бела и чиста, как только может быть бела снежная полянка среди дремучего бора, по которой нога человечья не ступала еще ни разу с начала зимы. Ни пятнышка, ни соринки, ни единой точки темной. Ясная и гладкая глыба, как бы сахарная, вся усыпана алмазными искрами и серебрится, играя в лучах месяца; а утонет он на мгновение в облаках – то синевой отливать начнет глубокий сугроб.
Человек этот – охотник. Близ него, на подачу руки, стоят, у ствола дерева, короткий мушкетон и длинная, здоровая рогатина о двух стальных зубцах. Но охотник забыл, видно, про оружие и, прислонясь спиной к большому обледенелому дубу, откачнулся на него, засунув руки в карманы мехового кафтана, закинул голову в меховой шапке, и все задумчивое лицо его в лучах месяца. Высокий ростом, плотный, могучий в плечах, удалый по лицу и взгляду, он или забыл, зачем стоит в ясную полночь среди дикого леса, или просто усыпило его – дело привычное. Или просто скучно стало, потому что давно уж он здесь. Во всей фигуре его есть что-то осанистое и гордое, что-то простое и важное вместе и в лице, и в позе, и даже в одежде. Молодое выбритое лицо, без усов и бороды, красивый профиль чистого лица, большие темные глаза, задумчиво следящие за игрой месяца с облаками, – все говорит, что это не простой охотник-зверолов из-за куска хлеба.
Тишь полночная не нарушается уже давно ни единым звуком, и немудрено было задуматься ему и заглядеться на небо. Долго стоял он так, не двигаясь и опрокинув голову, но, наконец, шевельнулся, тихо опустил голову, опустил глаза на серебристую полянку и вымолвил шепотом:
– Эх, моя бы воля…
Он вздохнул, зашевелился, передвинул ногами на утоптанном им снегу и стал озираться.
Оглядел он полянку, голую сеть стволов, ее окаймлявшую, потом глянул около себя на оружие, но, казалось, не вполне еще сознавал окружающего. Мысль его была еще слишком далеко и еще не вернулась сюда, в глушь, где топырится кругом этот обмерзлый лес, где этот мороз трещит и где стоят, прислоненные к обледенелой коре, рогатина и мушкетон, для любимой забавы, для боя один на один со страшным и сильным, но всегда побеждаемым врагом.
Однако он взял машинально сильной большой рукой тяжелую рогатину, откачнулся от дерева и оперся на нее – ради перемены положения и отдыха тела.
Полупрерванная движением его мысль снова овладела им.
– Да, моя бы воля! – вдруг вслух сказал он, и его собственные слова разбудили и его самого, и окрест молчащий лес.
Вдали раздался едва слышно какой-то звук. Не то хрустнуло что-то, не то звякнуло. И после одинокого робкого звука снова воцарилось то же затишье, тот же застой… Только и жизни что в облаках, а на земле все замерло, все недвижно.
– Что ж, однако… Тоска какая… Да и морозно! Ныне, должно быть, незадача от немцева глазу, – пробормотал он едва слышно и повел плечами.
Он начинал чувствовать, что сильный мороз стал, наконец, пробираться и под его меховой кафтан, опоясанный ремнем с серебряными насечками. За ремнем торчал большой турецкий пистолет и висел длинный кривой кинжал. Но, однако, охотник тотчас же снова поднял голову лицом к месяцу, снова забыл про мороз, лес и свою затею.
– Да. Лейб-кампанцы… в одну ночь все действо произвели! – вымолвил он снова вслух, но вдруг тотчас же как бы опомнился, огляделся на дикий лес и задвигался, окончательно разбуженный собственными мыслями.
Не сказанного вслух оробел, конечно, молодец, а тех мыслей, что наплывали, бились, роились и, не укладываясь в голове его, бежали и сменялись другими. Одна только из них постоянно будто резала остальные, пропускала их все, а сама оставалась в голове; точь-в-точь как вот этот месяц пропускает мимо себя встречные причудливые кучки облаков и режет их… Они бегут прочь, дальше, неведомо куда, по далекой синеве и исчезают в полночном небе, а месяц хоть будто и плывет, а все тут, на месте, и снова светит, и снова сияет.
Мысль эта тоже, как месяц в небе, давно ясно и несменяемо воцарилась в голове его. Мысль эту неотвязную он и выразил вслух, словно в ответ на все остальное, что наплывало в молодую голову и смущало ее образами и картинами, которые, одна ярче другой, одна заманчивее другой, были все вполне чужды всему окружающему. Чужды и окрестному дикому лесу, и его вооружению. И, знать, не забавит его та затея, которая привела его сюда: мерзнуть терпеливо на морозе и, озираясь, прислушиваться ко всякому шороху или звуку, ко всему, что может ожить вдруг среди этой немоты ночной, среди глубоких снегов и помертвелой чащи.
– Времена не те были… Да!.. – снова отдался он своим грезам. – Зато в одну ночь… Простые рядовые, гренадеры… Теперь они лейб-кампанцы да дворяне, а то Ваньки да Васьки были. А лекарь-то этот, француз, да еще с французскими же и деньгами, был тут ни при чем. Эдакого дела одними деньгами не купишь!.. Сама государыня, сказывают, только вздыхала да робела… Лесток чуть не силком свез ее в казарму… Божье изволенье все сотворило. Глас народа – глас Божий. А не будь его, какие тут французские червонцы что сделают. А ныне глас народа воистину слышен. И черный народ, и наш брат, дворянин, и гвардия… Только клич кликни кто… первый! Да, но кто?! Кто?.. Моя бы воля… Эх, все пустое! Мысли одни!!
Раздался шорох среди чащи направо от полянки, и охотник привычным глазом быстро и зорко окинул оружие за поясом, крепче обхватил рогатину и стал глядеть пристальнее в чащу. Что-то хрустнуло звучнее и ближе, и шорох приближался… Охотник выдвинулся слегка из-под дерева и стал на краю опушки, весь освещенный луной. В ту же минуту на противоположной стороне тоже появилась фигура человека и раздался голос:
– Эй! Не медведь. Смотри, не пальни!
– А я уж было думал и он! – отозвался этот.
Появившийся на опушке был тоже охотник и будто двойник первого. Такого же могучего роста, такой же плечистый и молодец с виду. Оба они были к тому же и одеты и вооружены одинаково, только у второго не было рогатины.
Охотники-богатыри, увязая в снегу по колено, сошлись на ясной полянке. Это были братья Орловы: первый – Григорий, вновь подошедший – Алексей.
II
– Что, Алеханушка?.. Видно, чухонец-то во сне видел мишку… Должно, медведей тут и не бывало никогда с тех пор, что мы целую семейку об Рождество ухлопали.
– Не может статься, Гриша, – отозвался младший брат. – Тут на сто лет хватит и лосей, и медведей, и всякого зверья. Просто незадача. Говорил я – сглазит нас этот проклятый Будберг. Знамо дело! Молодцы едут на охоту, а он пути желает да удачи… Ну и сглазил окаянный голштинец.
– Видишь ли, по-ихнему, из вежливости так след. Да это и вздор… глаз-то, – вымолвил Григорий Орлов.
– Вздор… Толкуй. У тебя все вздором стало после заграничного житья. Это российская примета – самая верная.
Братья помолчали. Алексей снова заговорил:
– А меня, брат, мороз стал одолевать с тоски. Пора бы уж в Красный. Поужинаем – да и домой. Ей-богу! Мало ль что?.. Может, даже нужда в нас случится. Да и морозина тоже чертовский, всю ночь не выстоишь. Как, Гриша, на твой рассудок?
– Обидно с пустыми руками.
– Наших-то не слыхать. Словно померли все… Надо думать, они за версту уползли. Если и поднимут мишку, не нам достанется. Пойдем-ка к лошадям? А?..
– Пойдем, коли хочешь, – равнодушно отозвался Григорий.
– У меня поистине и не то на уме. Не так, как бывало прежде. Какие теперь забавы да охоты… – тише сказал Алексей Орлов.
– Да. Ныне не такой медведь из Немеции пожаловал вдруг да на шею сел! – весело рассмеялся вдруг старший брат, потрясая могучими плечами, и звонко раздался его смех богатырский среди серебристой чащи.
Несколько снежинок от смеха и от движения его посыпались с ближайшей сосенки и засверкали при беззвучном падении.
– Тише… Чего горланишь…
– В лесу-то? Господь с тобой, Алеханушка.
– В лесу? При Биронове, сказывал родитель, опенки из лесу бегали доносить про все, что толковалось в чаще.
– А тут теперь и опенок нету. Зима! – шутил Григорий Орлов.
– Береженого Бог бережет. Да, времена ныне пришли. Два месяца, как померла Лизавет Петровна, а что уж воды утекло… А все этот принц. Все он. Государь тут, ей-ей, ни при чем. Не приезжай он…
– Да этот принц Жорж не то что вон лесной Михаил Иванович Ведмедев, – тише вымолвил брат. – Этот не нас одних сомнет своими порядками.
– Нас?.. Как бы всю гвардию не помял, – отозвался Алексей. – Да что гвардия! Все может поломать и вверх ногами вывернуть. А мы будем смотреть да моргать! Да! – как-то странно и желчно выговорил он. – Мы будем в кустах сидеть, да ворчать, да шиш показывать за версту. И не робость помехой делу. А стыд сказать что… Лень! Да, лень… Все как-то через пень колоду валим. Погодите, да обождите, да отдохните… Да эдак вот два месяца и годим. Устанем от сиденья – на охоту… А то за бабьем ухаживать… И как, право, не наскучит? Все бабы да бабы, да все разные. Что ни неделя, новая зазнобушка. Чудно, право. Да и тому ли теперь на уме быть?
Алексей замолчал и будто слегка приуныл.
Григорий заговорил первый после минутного молчания, и голос его зазвучал как-то нежнее, будто он винился. Упрек брата прямо относился к нему, и он мысленно сознавался в правоте его.
– Что ж, Алехан. Я не отпираюсь. Правда твоя. Да ведь это с тоски. А начните, поведите дело по-еройски. И все я брошу. И охоту, и вино, и картеж… А барынь-то ваших я и без того порешил бросить. Ну их…
– Толкуй! – усмехнулся недоверчиво Алексей. – Бросишь? Ты? Да тебе без них дня не прожить. Ты с колыбельки бабий угодник уродился.
– Угодник? Никогда я им не бывал. А по пословице: на ловца и зверь бежит. Я только не зеваю. А искать, я не ищу.
– Почему бы это так? – веселее заговорил Алексей. – Я зачастую вот думал: ведь не краше же ты других наших молодцов. А ни за кем из них наши франтихи так не бегают. И чем ты берешь?.. Наговор, что ли, какой ведаешь? У немца за границей купил?
– Наговор? На кофейную гущу натощак дую. Угольки по воде пускаю да причитываю, – рассмеялся Григорий. – Нет, брат. Мое колдовство простое, да невдомек вашим молодцам, хоть они и прытче меня. А нет проще дела.
– Что же? Приворот, что ль, какой из трав заморских?
– Мой приворот тот, что у меня любовное дело – мертвое дело!
– Поясни!
– Да, мертвое. Такое дело, что про него я один знаю да она одна знает. А это ныне в Петербурхе для всякой молодицы – чужой жены и довольно. Когда дело какое ни есть – мертвое, так тут все одно, что есть оно, что нет его.
– А Апраксина? Всему Питеру, брат, ведомо, что ты из-за нее чуть не по трубе водосточной лазил да по крыше.
– Это одно дело с оглаской и было. И то потому, что она сама хотела на всю столицу нашуметь. Ее воля была. Зато полсотни было таких, об коих ты, брат родной мой, никогда и в уме ничего не держал. Да что, Алеханушка!.. Коли к слову пришлось! – Григорий Орлов оживился, и глаза его блеснули ярче. – Может, и теперь вот… Может, со мною теперь такое приключается, такое на душе легло, что кабы ты ведал, так ахнул бы… Какое тут ахнул? Заорал бы благим матом на весь вот этот лес.
– В принцессу, что ль, какую влюбился? – рассмеялся Алексей. – Их теперь с принцем Жоржем много приехало из Голштинии.
– Нет. Что мне твои принцессы? Невидаль! Повыше их!
– Не ври.
– Зачем врать… Мы здесь не в трактире, – грустно вымолвил Григорий. – Да и не ради похвальбы я речь завел. А ради тяжести душевной… Вот уж неделю камнем лежит оно у меня на душе.
– Кто ж такая твоя новая ворожея? Такой и нет в столице. Русских принцесс у нас в Питере теперь нету! – весело говорил Алексей, но вдруг, глянув в лицо брата, запнулся и прибавил взволнованным голосом: – Гриша, балагуришь? Во сне видел…
Григорий Орлов махнул рукой и прошептал:
– Ох нет, в яви, брат. А и рад бы в ину пору, чтоб мне та явь сном обернулась!
Алексей Орлов схватил брата за руку и замер в движении.
– Гриша, да господь же с тобой… – шепнул он, почти задохнувшись.
– Алеханушка, я не говорил… а коли ты сам по догадке дошел, то молчи.
– Молчать… Я?.. Что ты, Гриша? Да тут Иуда промолчит, а я тебе брат… Ты сам-то… Сам молчи. Себе самому в горнице не сказывай!.. Гриша… Зачем? Ведь это нашему делу только помеха! И как это все? Ах, Гриша… Ведь это смертью пахнет.
– Любовь что пьянство, Алеханушка! Себя не помнишь… Да и сердце нешто спрашивается? А что смертью пахнет, мне всегда любо было, – воскликнул Григорий Орлов чуть не на весь лес. – Чудны вы, погляжу я. Ты вот в трактир ломишься, где Шванвич со всей своей компанией буянит и где тебя могут кием или кулаком убить зря… В битве на пушки да на завалы лезешь, где тебя самый лядащий немец может из пистоли уложить как муху… Ночью опять, бывает, проселком где едешь, зная, что весь тот путь грабители заставили и, того гляди, ухлопают из-за забора или из-за пня… Ну? А ведь не робеешь, лезешь на смерть!.. А тут, в любовном деле, трусить, об опаске думать!.. Тут, когда, бывает, тебя ждет твоя… твоя… Уж не знаю, как и назвать-то… Вся-то жизнь твоя и душа-то твоя там будто осталась с вечера да опять поджидает… Так тут, видишь ли, раздумывай да опаску соблюдай… Что ты, брат!.. Тебя, знать, еще ни одна не ждала. Смертью, говорит, пахнет. Тогда и любо, брат, как в ночь-то вы втроем на свидании: ты, она да смерть за плечами.
Алексей Орлов стоял понурившись и не шевелясь и уныло глядел в чащу лесную.
– Что?.. Не по-твоему?.. Эх, брат, право, тем жизнь и мила, что смерть есть.
– Ох, Гриша, Гриша…
– Чего?..
– Ох, Гриша… Что ты мне сказал! Ведь за это хочь прямо на площади голову снимай.
Григорий Орлов выпрямился.
– Голову! За что? Любовь никому не обида! А если б и так. Пускай!.. Ты, Алеханушка, знать, еще не любливал никого, как я теперь. Голову, говоришь? Да десять, сто их сымай, тыщу… Голову! Да я сам себе, коли нужно, оторву свою обеими руками да брошу ей в ноги. На, мол! Чем богаты, тем и рады!!
Григорий смолк и, сдвинув шапку на затылок, проводил рукой по горячему лбу. Алексей тихо поднял голову и задумчиво глядел на круглый месяц, сиявший в небе.
III
Прошло несколько минут молчания. Григорий Орлов собрался было снова заговорить, но младший брат вдруг поднял на него руку и стал прислушиваться. Оба вдруг притаили дыхание. Особый шорох послышался невдалеке от них; что-то хрустнуло и зашуршало, потом все смолкло… потом опять хрустнуло что-то… Других охотников, кроме них, вблизи быть не могло.
Братья поняли, переглянулись и усмехнулись. Страсть к любимой забаве сказалась сразу. И все было забыто! Оба лица, за мгновение унылые, просветлели.
– Мишенька! – почти нежно и страстно шепнул Григорий Орлов.
– Твое счастье. На тебя вышел, – отозвался брат тоже шепотом.
Шорох близился, и наконец шагах в двадцати от них показалось за прогалиной, на противоположной опушке, что-то круглое, темное, и странно двигалось оно, будто катилось клубком по снегу.
Алексей Орлов быстро достал из-за спины мушкетон.
– Палить? – шепнул он вопросительно брату. – Я на тебя поднять… а не бить.
– Да, пугни! Нет, бей по лапам. А то на двух, пожалуй, не выйдет.
Раздался выстрел. Животное рявкнуло и повернуло было в чащу, но Алексей Орлов крикнул, затопал и, достав пистолет, выпалил снова наудачу.
Медведь, матерый, темно-рыжий и огромный, вернул на охотников. Поднявшись в тени, среди голых стволов, он зашагал на задних лапах и вышел на свет, отчетливо рисуясь на освещенной луною прогалине. Длинная синяя тень легла перед ним на сугроб и двигалась вместе с ним на охотников.
Григорий Орлов, готовый на бой, будто преобразился, будто вырос еще на аршин. И от него немалая тень шевелилась на хрустящем снегу. Ухватив рогатину наперевес, он шагнул широко на медведя и гаркнул весело:
– О-го-го, миша, здорово! Вишь ты, какой почтенный! Стоит погреться с тобой.
Медведь, испуганный выстрелами и криками двух врагов, злобно сопел и нес себя высоко на ногах.
Орлов шагнул еще ближе к самому животному и привычной рукой размашисто ткнул в него рогатиной, глубоко всадив зубцы. Медведь заревел.
– Раз! – весело крикнул сзади Алексей и прибавил крепкую шутку, от которой брат рассмеялся; но дикий рев заглушил и слова и смех.
Медведь ударил лапами по рогатине, вонзенной в его живот, и обхватил ее. Оружие дрогнуло от этих ударов в руках охотника; он быстро вырвал лезвие и тут же снова вонзил. Кровь, дымясь, хлестнула из раны на серебристый снег.
– Два! Мишенька! – крикнул он весело, чуть не на весь лес. – Ой! Шибко бьет, разбойник! Придержи, Алеханушка.
Оба брата с одушевленными лицами уперли толстую и длинную рогатину в землю и держали. Медведь все ревел, все более налезал на лезвие, рвавшее его внутренности, топтал под собою окровавленный снег и, уже хрипло завывая, слабее бил по рогатине, напрасно стараясь достать удалых врагов. Пар легкими клубами валил от него и дымкой вился на морозе вокруг мохнатой шкуры…
– Сядь, миша, сядь! – весело крикнул Григорий.
– Полно хлопотать-то, садись. Гостем будешь, – прибавил и Алексей.
Животное, ослабевшее наконец от потери крови, осунулось и слегка опустилось, поджимая задние лапы. Только дикий рев оглашал лес.
– Валить? – сказал Алексей, придерживавший рогатину.
– Чего? Не слыхать. Ишь орет…
– Валить, говорю? Не встанет небось…
– Рано. Ну, да вдвоем-то осилим. Не здоровее же он Шванвича! – крикнул Григорий.
Оба брата при этом имени громко расхохотались. Медведь с испуга приподнялся снова от дружного взрыва смеха, но осунулся опять и совсем сел. Братья вырвали из снега свой конец рогатины, уперлись в нее оба и с усилием повалили животное навзничь. Медведь слабо забарахтался среди окрашенного сугроба и затем, несмотря на вырванную рогатину, не поднялся.
Григорий Орлов достал длинный кинжал из-за пояса, быстрым движением нагнулся над животным и, размашисто вонзив весь кинжал, распорол горло. Медведь зашипел и, зарывая горячую морду в снег, только судорожно подергал задними лапами и распластался во всю свою длину.
– Ладно, миша. Так-то лучше… – весело сказал Григорий. – Погрелись, однако, знатно, – обратился он к брату и, сняв меховую шапку, обтер себе лоб.
– Да, силен был покойник Михайло Иваныч.
– Будь один с ним – пришлось бы палить. Сдался бы ты, мишутка, не инако как на немцев лад. А то ли дело эдак… Побарахтаться да погреться! Ишь ведь здоровенный!.. – нагнулся Григорий над медведем.
– Пожалуй, даже посильнее Шванвича, – усмехнулся Алексей. – Того мы вдвоем легче одолеваем.
Братья рассмеялись.
– Ну, теперь надо звать Ласунского и своих чухон.
– Вряд дозовемся. Коли на зов горластого мишки не прибежали, стало, так далеко, что и не докличешься.
Алексей Орлов достал из-за спины охотничий рог и стал трубить. Потом прислушался.
Все было тихо, и не только ответного звука другой трубы, ни шелеста, ни шороха не слышно было кругом среди морозного затишья и застоя.
– Вот что, брат, нечего даром-то за музыкой время терять, – сказал он. – Берись! Впрягемся мы в мишку, как парой в сани, да за задние лапы и потащим к лошадям. Тут более версты не будет.
И два богатыря, ухватив распластавшуюся лохматую махину, легко потащили ее, бодро шагая рядом.
Кровавый след багровой лентой вился за ними по серебру снегов.
– Эх, кабы нам, братец, дела наши все так же вот лихо вершить, как на охоте!
– Кабы суметь управиться так же споро, как мы вот с мишками справляемся, – договорил Григорий Орлов на ходу.
– Там не сила, а рассудок да смекалка дело вершат… А главное и первое всему начало – согласье… – отозвался Алексей.
– Я все тут стоял в лесу… Ждал вот этого… А прозевал бы непременно, потому что все в голове у меня лейб-кампанцы прыгали… Вот кабы эдак-то!.. В одну ночь… Без шуму, без драки… без убивства своего брата офицера какого иль солдата.
– Вишь чего захотел! Нешто можно? Статочное ли это дело? Ведь тут не тетушка Леопольдовна да шестимесячный младенец на престоле… Да оба немцы… Да и охраны никакой…
– А ныне-то кто ж? Все то же…
– То же, да не то. Те же щи, да с говядинкой… Голштинское-то войско глядеть, что ли, будет?.. Да что голштинцы!.. Вон свои измайловцы да семеновцы по сю пору никаким голосом не откликаются. Э-эх. Все это… сновиденья одни наши! – вздохнул Алексей Орлов.
– На мой толк, Алехан, прежде всего рогатиной нам хохлацкой заручиться. Тогда все как по маслу пойдет.
– Какой рогатиной?!
– Хохлацкой. В ней вся сила! – смеялся, шагая, Григорий.
– Что ты приплетаешь? Какая хохлацкая рогатина?
– А гетман! Граф Кирилл Григорьевич.
Алексей Орлов усмехнулся и тряхнул головой:
– Мудрено. К Разумовским и ворот не найдешь; не знаешь, с какой стороны и подъехать к ним. Они оба доки мягко стлать.
– Говорю – пустите меня!
– Пустите! Рано. Что зря в петлю лезть! – отвечал серьезно младший брат. – Они по первому слову велят тебя арестовать и поедут к государю… Нам за тобой вслед и пересчитают всем головы. Да и зачем? Мы еще и не знаем сами, с какого конца взяться.
– Гетман не таков человек, чтобы доносить. Да и хитер. Он, поди, давно носом чует, чего вся гвардия желает.
– Вся гвардия! Вся ли, Гриша? Кабы вся-то желала, так мы с тобой не болтали бы зря, а дело делали.
– Ну а не в пример мудренее, говорю, начать, коли гетмана не достанешь себе.
– Начинать-то, Гриша, покуда нечего, а то и без него обойдемся. Что тут гетман?.. А тяжел ведь, проклятый. Руки обломаешь об него.
– Гетман-то? Да, ленив на подъем; как все они, сказывают, хохлы.
– Вот этот гетман тяжел, говорю! – рассмеялся Алексей Орлов и бросил лапу животного.
Братья остановились отдохнуть и молча стали над медведем.
– А вот что, Гриша, – выговорил вдруг Алексей. Веселый и бодрый голос его понизился и звучал иначе. – Ты подумал ли о том, братец, что ныне пост идет? Не за горами и Страстная да говенье. Как же теперь быть, если священник на духу что-либо такое к нашему делу подходящее спросит вдруг?
– Не спросит, не бойсь.
– Не спросит? Ты всегда так. Ну а спросит, говорю?..
– Да с чего ж?..
– А хоть с того вот, что уж месяц целый то и дело у нас спрашивает всяк: что у тебя на дому за сходбища да что мы засиживаемся за полночь? Пить не пьем и спать не идем.
Григорий Орлов глянул на брата и молчал.
– А лгут, Гриша, на исповеди только перекрести из татарвы.
– Вестимо. Но и открыться на духу, Алеханушка, хоть бы малость – избави бог. Не можно. Поп из-за камилавки – из мухи слона сделает и в набат ударит.
– Вот то-то и есть! Я вот эдак и думаю все: как быть?.. – тихо выговорил Алексей.
И два молодца-богатыря задумались, стоя над мертвым мишкой. Огромное лохматое животное, сраженное в пятиминутной борьбе, было для них дело заурядное, над которым думать не пришлось. А говеть или нет, лгать на духу или нет – это был вопрос далеко не заурядный. Было о чем молодецкие головы поломать.
– Что ж? Отложи говеть до времени, – вымолвил наконец Григорий Орлов. – Бог простит!
– А ты, Гриша? – с изумлением воскликнул брат.
– Вестимо, тоже… Я, ты знаешь, завсегда за тобой. Как ты… А попадемся в чем после, так в Березове уж и отговеем, – усмехнулся он. – И времени-то там у нас, Алеханушка, много будет, Богу-то молиться. Молись себе да молись – никто не помешает; хоть Четью-Минею там на память себе вычитывай.
– Где?
– А в Пелыме, в Березове иль в Соловках.
Алексей Орлов в свою очередь весело рассмеялся, но тотчас стих и, раздумывая, вздохнул.
– Так, стало, не говеть? – сказал он наконец, как бы решаясь.
– Не говеть… Что ж? Бог простит.
– Ну ладно… Берись-ко.
Братья снова ухватили медведя за задние лапы и снова легко поволокли лохматую махину по сугробам… Широкое темно-багровое пятно осталось на месте, где лежал медведь, и снова узкий кровавый след ложился по их следам на лесных сугробах…
IV
После получаса ходьбы Орловы вышли из лесу на опушку, где, близ шалаша, стояли две тройки, привязанные к деревьям, и нетерпеливо двигались на месте, позвякивая бубенчиками. Кучера спали в шалаше и богатырски храпели, увернувшись в рогожи.
Алексей Орлов растолкал людей, разбранил их за то, что полузамерзшие лошади были брошены без надзору.
Оба кучера стали класть медведя в большие сани, но не могли поднять его настолько, чтобы перетащить через откосы на дно саней. Лошади оглядывались, храпели, а ближайшая пристяжная уж фыркнула раз и, поджимаясь, собиралась ударить…
Орловы велели одному из кучеров садиться, другому держать тройку и, легко взмахнув медведя, бросили его в сани и затем уселись тоже. Приказав другим саням дожидаться капитана Ласунского, который с двумя крестьянами и со проводником из чухонцев еще оставался в лесу, они двинулись с своей добычей…
– Скажи Михайле Ефимовичу, – весело приказал младший Орлов, – что мы вот лапу его тезки изжарим для него под соусом в «Кабачке». Чтобы скорее ехал. А если они еще долго провозятся в лесу, то чтоб не заезжали в «Кабачок», а ехали прямо в город. Мы там долго не засидимся. Ну, пошел!
Лошади, прозябшие на морозе, охотно взяли с места вскачь, звонкий колокольчик громко залился среди снежной равнины, и скоро тройка исчезла из глаз кучера, оставшегося с другими санями ждать капитана Ласунского, приятеля Орловых.
Алексей Орлов всю дорогу покрикивал на лошадей, наконец, недовольный ездой кучера, перелез на облучок и забрал сам вожжи.
– Гляди, ротозей! Это что? Коренник шлепает в хомуте. Пристяжные то и дело что рвут да отдают. Эх ты, Маланья – пеки оладьи… Где тебе править!
Алексей выровнял вожжи в руках и, взмахнув ими, ахнул на тройку… Почуяв ли другую руку или по натянутым вожжам прошла искра какая-то в коней, но они дружно и ровно подхватили сани и лихо помчались.
– Мне бы в ямщиках быть, Гриша, – крикнул Алексей Орлов, обернувшись к брату с облучка. – Какая смерть стоять на ученье ротном; а тут гляди… Сани-то самые живыми кажут!.. Вся-то тройка с санями точно зверь какой трехголовый катится по снегу. В книге Апокалипсиса такой-то вот нарисован…
Тройка неслась во весь опор по гладкой, однообразно белой равнине, окаймленной лесами; морозный воздух резал лица, и мелким сухим снегом, как песком, швыряло из-под пристяжных и закидывало Григория Орлова и шкуру медведя, лежавшего в его ногах. Голова, отвиснувшая, с тусклым глазом, с кровью у оскаленных зубов, да одна лапа с острыми когтями торчали из саней. Григорий наступил ногой на лохматую спину животного и пристально глядел на него, почти не слушая брата. Ему пришло на ум: куда девалось теперь то, что ревело на весь лес под рогатиной? куда девалась эта сила, что налегала на него, когда он сдерживал этого мишку? Был страшный зверь, а теперь лежит шуба какая-то. А где же то… что было в этой шкуре еще час назад?
– Если б я был богат, – продолжал брату кричать с облучка Алексей, оборачиваясь и не глядя почти на несущуюся вихрем тройку, – богат, вот как граф Разумовский, я бы не стал служить, а уехал бы в вотчину да завел бы сотни, тысячи коней и все катал бы на них… А что теперь при нынешнем государе в столице? Утром ученье на ротном дворе; в полдень ученье на полковом дворе, а там сейчас ученье и смотр на плацу, а вечером артикул прусский, экзерциции. На дому еще обучайся у немца какого… Ты выучил, как к ноге спускать, чтоб тыр-тыр-то этот выходил? Гриша! Ты не слушаешь?
– Вот погоди, не так еще учить начнут. Доконают совсем! – отозвался Григорий.
– А что?
– Новый учитель приедет на днях из Берлина, от Фридриха. Любимец его, слышь. Государь его выписал. Ему даже целый флигель, говорят, готовится в Рамбове. Сначала он государевых голштинцев обучит, а потом за вас примется.
– Кто ж такой?
– Офицер фридриховский, звать Котцау. Он из лучших тамошних фехтмейстеров.
– Как? Как?!
– Фехтмейстер.
– Это что ж такое?
– Мастер, значит, на эспантонах драться и вообще насчет холодного оружия собаку съел. Как приедет, так ему чин бригадира и дадут.
– Ну, вот еще!
– Отчего же не дать? Золотаря да брильянтщика из жидов, Позье, сделали бригадиром. Спасибо скажи, что еще не командует вашей какой ротой преображенцев.
– А ты нас не хай! Благо сам артиллерии цалмейстер! – шутливо крикнул Алексей.
Братья замолчали.
Григорий Орлов задумавшись глядел на медведя, щуря глаза от снежной пыли и комков, что били и сыпались через крылья саней. Алексей, повернувшись к лошадям, передергивал и подхлестывал пристяжных, а потом стал снова учить кучера, показывая и рассказывая.
Вскоре снова пошел густой бор; высокие ели и сосны, обсыпанные снегом, стояли, как в шапках. Внизу чернелись, в полусумраке, толстые стволы, макушки же ярко рисовались на чистом небе и блестели. Луна сбоку смотрела через них на тройку, и деревья будто проходили под ней мимо несущихся саней.
Через полчаса тройка была уже в виду трех изб, стоявших одиноко среди леса. Невдалеке, отдельно от них, виднелся большой двухэтажный дом, с двором, обнесенным тыном. Это был прежде простой кабак, постепенно превратившийся в большой постоялый двор. Он стоял почти на полпути из Петербурга в Петергоф. Здесь останавливались всегда проезжие, ради отдыха лошадей, и здесь же братья Орловы отдыхали всегда после своих медвежьих охот. Этот постоялый двор остался со старым прозвищем: «Красный кабачок».
V
С лишком восемьдесят лет назад, в то время, когда по указу молодого царя Петра Алексеевича властолюбивая Софья была схвачена в Кремле и отвезена в Девичий монастырь, в селе Преображенском мимо восемнадцатилетнего Петра шли тихо, рядами, бунтовщики-стрельцы, неся в последний раз на плечах свои буйные головы; а затем, на глазах его, кто волей, а кто неволей, клали они эти головы под топоры работавших палачей. В одном из проходивших рядов орлиный взор царственного юноши случайно упал на очень высокую, осанистую и богатырскую фигуру седого старика с окладистой серебряной бородой.
Он мерным, степенным, боярским шагом бестрепетно выступал вперед среди других осужденных, робко шагавших к месту казни, и среди других лиц, запуганных и искаженных страхом наставшего смертного часа, его лицо глядело бодро, воодушевленно и почти торжественно. Будто не в последний раз и не под топор нес он свою поседевшую голову, красивую и умную… а будто в праздник большой от обедни шел или в крестном ходу за святыми иконами…
Царь остановил старика и, вызвав из рядов, спросил, как звать.
– Стрелецкий старшина Иван Иванов сын Орлов.
– Не срамное ли дело, старый дед, с экими белыми волосами крамольничать?! Да еще кичишься, страха не имешь: выступаешь, гляди, соколом, будто на пир.
Старик упал в ноги царю.
– Срам велик, а грех еще того велий, – воскликнул он. – Не кичуся я, царское твое величество, и иду радостно на смерть лютую не ради озорства. Утешаюся, что смертью воровскою получу грехам прощение и душу спасу. Укажи, царь, всем нам, ворам государским, без милости головы посечь. Не будет спокоя в государстве, пока одна голова стрелецкая на плечах останется. Ни единой-то единешенькой не повели оставить… Попомни мое слово, стариково.
Но царь молодой задержал старика стрельца расспросами о прошлых крамолах и бунтах. А ряды осужденных все шли да шли мимо… и головы клали. И все прошли под ту беседу. И все головы скатились с плеч, обагряя землю. И не кончилась еще беседа царя с старшиной крамольников, как пришли доложить, что все справлено, как указал юный царь, только вот за «эвтим дедом» дело стало…
– Иду! Иду! – заспешил дед.
– Нет, врешь, старый! – сказал царь. – Семеро одного не ждут. Из-за тебя одного не приходится сызнова начинать расправу. Коли опоздал, так оставайся с головой.
Из всех осужденных голов, за свои умные ответы, осталась на плечах одна голова старшины Ивана Орлова.
Сын его, Григорий Иваныч, участник во всех войнах великого императора, даровавшего отцу его жизнь, отплатил тою же монетою, не жалея своей головы в битвах, как не жалел ее Иван Орлов, неся на плаху. Зато, когда он был уже генерал-майором, великий государь собственноручно надел на него свой портрет. А не много было так жалованных.
Григорий Иваныч, всюду и всегда первый в битвах и никогда нигде не побежденный и никогда нигде не плененный, вдруг заплатил дань искушениям мирским. Уже имея полста лет на плечах и чуть не полста ран в могучем теле, был он в первопрестольном граде Москве без войны завоеван, сражен к ногам победителя и полонен навеки. Сразил воина-генерала, как в сказке сказывается, не царь Салтан, не швед-басурман, а царевна красота; не меч булатный, не копье острое, а очи с поволокою, уста вишенные да за пояс коса русая. Григорий Иваныч был полонен без боя в Москве белокаменной пятнадцатилетней дочерью стольника царского Ивана Зиновьева. И тут, в Москве, женился он и зажил. Прижили муж с женой пять сынов, и после долгой, мирной жизни, близ Никитских ворот, скончались оба и ныне лежат там же рядком, в церкви Егорья, что на Всполье…
Сыны стали служить родине, как учил их служить своими рассказами о себе Григорий Иваныч. Старший из братьев, Иван Григорьевич Орлов, один остался в Москве и, схоронив отца, заступил его место – в любви и почтении остальных братьев. Второй, Григорий Григорьевич, был отправлен еще отцом в Петербург, в сухопутный кадетский корпус, и, выйдя из него, полетел на поля германские, где шла упорная и славная борьба.
Двадцатилетний Орлов не замедлил отличиться и после кровопролитной битвы при Цорндорфе стал всем известен, от генерала до солдата. Он попал в тот отряд, который неразумием начальства был заведен под пыль и дым от обеих армий и, неузнанный своими, полег от огня и своих и чужих. Раненный не раз, и опасно, Орлов до конца битвы стоял впереди своих гренадер. И все они стояли без дела, и ни один не побежал, и многие полегли.
После трудной кампании 1758 года русская армия отправилась на роздых в Кенигсберг, и там началось веселие, не прекращавшееся всю зиму. Победители мужей германских объявили теперь войну женам германским и на этом поле битвы равно не посрамились. Григорий Орлов был первым и в этой войне.
Кенигсберг изображал тогда полурусский город. Русское начальство не жалело рублей на увеселения и торжества, да и рубли-то эти чеканились хоть и на месте, немцами, но с изображением российской монархини Елизаветы.
Через год после своих воинских и любовных подвигов Григорий Орлов вернулся в Петербург. Взятый тогда в плен граф Шверин, любимый адъютант короля Фридриха, был вытребован императрицей в столицу, а с ним вместе должен был отправляться приставленный к нему поручик Орлов.
В Петербурге Орлов увидал братьев, служивших в гвардии, преображенца Алексея, семеновца Федора и юношу-кадета Владимира. Он вскоре сошелся ближе с братом Алексеем и очутился, незаметно для обоих, под влиянием энергической и предприимчивой натуры младшего брата.
Получив от брата Ивана, безвыездно жившего в Москве, свою часть отцовского наследства, неразлучные Григорий и Алексей весело принялись сыпать деньгами, не думая о завтрашнем дне. Скоро удаль, дерзость и молодечество, неслыханная физическая сила и, наконец, развеселое «беспросыпное пирование обоих господ Орловых» вошли в поговорку.
Последний парнишка на улице, трактирный половой, или извозчик, или разносчик Адмиралтейского проспекта и Большой Морской знали в лицо Григория и Алексея Григорьевичей. Знали за щедро и часто перепадавшие гроши, знали и за какую-нибудь здоровую затрещину или тукманку, полученную по башке, не в урочный час подвернувшейся им под руку – в час беззаветного разгула, буйных шалостей и тех потешных затей, от которых смертью пахнет.
Дерзкие шалуны были у всех на виду, ибо двор и лучшее общество Петербурга давно приуныло и боялось веселиться, как бывало, по случаю болезни государыни Елизаветы Петровны, которая все более и чаще хворала. Балов почти не было, маскарады, столь любимые прежде государыней, прекратились, позорищ и торжеств уличных тоже уже давно не видали… Даже народ скучал, и все ждали конца и восшествия на престол молодого государя. Все ждали, но все и боялись… Давно уже не бывало царя на Руси! И боярин-сановник, и царедворец, и гвардейцы: бригадир ли, сержант ли, рядовой ли, и купцы, и последний казачок в дворне боярина – все привыкли видеть на престоле русском монархов-женщин и как-то свыклись с тем, чтобы Русью правили, хоть по виду, женские руки и женское сердце.
От наследника престола и будущего государя можно было ожидать много нового, много перемен и много такого, что помнили люди, пережившие Миниховы и Бироновы времена, но о чем молодежь только слыхивала в детстве. Для нынешних молодцов-гвардейцев россказни их мамок о злом Сером Волке, унесшем на край света царевну Милку, и рассказы их отцов о Бироне слились как-то вместе, во что-то таинственное, зловещее и ненавистное. А тут вдруг стали поговаривать, что с новым государем – опять Масленая придет немцам, притихнувшим было за Елизаветино время. Говорили тоже – и это была правда, – что и Бирон прощен и едет в столицу из ссылки.
Еще за несколько месяцев до кончины государыни и восшествия на престол нового императора слава о подвигах всякого рода Григория Орлова дошла до дворца и наконец до покоев великой княгини. Екатерина Алексеевна пожелала, из любопытства, лично видеть молодого богатыря и сердцееда, кружившего головы многим придворным дамам. При этом свидании унылый образ красавицы великой княгини, всеми оставленной, и ее грустный взор, ее грустные речи глубоко запали в душу молодого офицера… После нескольких частных свиданий и бесед сначала с великой княгиней, а потом с вполне оставленной супругой нового императора, Орлов подстерег в себе новое чувство, быть может еще не испытанное им среди своих легко дающихся сердечных похождений и легких побед. Он смутился… не зная, кто заставляет порывисто биться его сердце – государыня ли, покинутая царственным супругом, избегаемая всеми, как опальная и даже оскорбляемая подчас прислужниками и прихлебателями нового двора, или же красавица женщина, вечно одинокая в своих горницах, сирота, заброшенная судьбой на чуждую, хотя уже дорогую ей сторону, но где теперь не оставалось у нее никого из прежних немногих друзей. Кто из них не был на том свете – был в опале, в изгнании. Давно ли стала она из великой княгини русской императрицей, а завтрашний день являлся уже для нее в грозных тучах и сулил ей невзгоды, бури, борьбу и, быть может, печальный безвременный конец в каземате или в келье монастырской. И вот случайно или волею неисповедимого рока нашелся у нее верный слуга и друг. И кто же? Представитель цвета дворянства и блестящей гвардии, коновод и душа отчаянного кружка молодежи, заносчивый и дерзкий на словах, но об двух головах и на деле. Этот известный всему Питеру, и обществу, и простонародью Григорий Орлов всецело отдал свое сердце красавице женщине, всецело отдался разумом и волей одной мысли, одной мечте – послужить несчастной государыне и отдать за нее при случае все, хотя бы и свою голову, хотя бы и головы братьев и друзей… Эти младшие братья его, Алексей и Федор, из любви к брату были готовы тоже на все. Но им и в ум не приходило, что не один разум, а равно и сердце брата Григория замешалось теперь в дело. Их мечтанья знали и разделяли человек пять друзей, а за ними сплотился вскоре целый кружок офицеров разных полков.
Пример подвига лейб-кампанцев двадцать лет назад был еще жив в памяти многих и раздражал молодые пылкие головы, увлекал твердые и предприимчивые сердца, разжигал честолюбие… Но повторение действа лейб-кампании, часто в минуту здравого обсуждения и холодного взгляда на дело, казалось им же самим бессмысленным бредом, ибо времена были уже не те…
Однако эта мечта, этот призрак – вновь увидеть на престоле самодержца-женщину, – не их одних тревожили. Призрак этот тенью ходил по всей столице: он мелькал робко и скрытно и во дворце, укрывался и в хоромах сановников, бродил и по улице, любил засиживаться в казармах, заглядывал и в кабаки, и в трактиры, в простые домики и избы столичных обывателей центра и окраин города. И всюду призрак этот был и опасный и желанный гость и всюду смущал и радовал сердца и головы.
У призрака этого на устах была не великая княгиня, не государыня, а свет-радость наша матушка Екатерина Алексеевна.
И все рядовые гвардии знали матушку свою в лицо. Однажды, среди ночи, в полутемном коридоре дворца, часовой отдал честь государыне, одиноко и скромно проходившей мимо, под вуалью. Она, невольно озадаченная, остановилась и спросила:
– Как ты узнал меня?..
– Помилуй, родная. Матушку нашу не признать! Ты ведь у нас одна – что месяц в небе!
VI
При звуке колокольцев около постоялого двора в доме засветились и задвигались огоньки, и, когда сани остановились у крыльца, человека четыре вышли навстречу. Впереди всех был маленький старый человек, одетый в кафтан с нашивками и галунами.
– Агафон! Небось все простыло? – выговорил Григорий Орлов, вылезая из саней.
– Что вы, Григорий Григорьевич, все горячее-распрегорячее, – отвечал Агафон, старик лакей, бывший еще дядькой обоих офицеров. Агафон отодрал за ухо убитого медведя, нисколько не удивляясь обычному трофею господ, и обратился к младшему барину, сидевшему на облучке: – А ты опять в кучерах! Эк, охота в этакий холод ручки морозить. Небось, поди, скрючило всего морозом-то… Ишь ведь зашвыряло-то как! Небось всю дорогу вскок да прискок.
– Ах ты, хрыч старый, – весело отозвался Алексей Орлов, отряхиваясь от снега. – Тебя скрючило, вишь, так ты думаешь, что и всех крючит.
– Ну, ну, мне-то седьмой десяток идет, а тебе-то два с хвостом махоньким… А все ж таки неправда твоя. Меня не скрючило. А ты доживи-ко вот до моих годов, так совсем стрючком будешь.
Сани с медведем между тем отъехали и стали под навес.
Григорий Орлов был уже в сенях; Алексей, перебраниваясь и шутя со стариком, вошел за ним.
В маленькой горнице был накрыт стол, и среди белой скатерти и посуды тускло светила нагоревшая сальная свеча. Тепло и запах щей, доходивший из соседней горницы, приятно охватили приезжих, простоявших на морозе несколько часов.
– Ну, поживей, Агафон. Проголодались мы, – приказал Григорий.
– Живо, живо, старая крыса! – шутливо добавил и Алексей.
– Все готово-с! Ключик пожалуйте от погребца. Он у вас остался. А то б уж давно все на столе было.
– Он у тебя, Алеша… Ах нет, тут!..
Григорий Орлов достал ключи из кармана и, бросив их на стол, сел на лавку.
Старик отпер дорожный погребец, купленный в Кенигсберге, в виде красивого сундучка и стал доставать оттуда приборы; потом, очистив от мелочей верхнюю часть сундучка, вынул за ушки большую посеребренную суповую миску с крышкой и начал из нее выкладывать такие же металлические тарелки.
Вынимая тарелку за тарелкой и дойдя до двух мисок, которые вкладывались одна в другую, помещаясь таким образом в большой суповой миске с ушками, Агафон начал качать головой и бормотать.
Алексей Орлов стоял, подпершись руками в бока, среди горницы, за спиной Агафона и, молча мотнув брату головой на старика, подмигнул. Григорий, полулежа на лавке, поглядел на лакея.
– Что? Сервиз? – вымолвил он и усмехнулся.
Агафон обернулся на это слово заморское, и морщинистое лицо его съежилось в добродушно-хитрую улыбку.
– А то нет! – воскликнул он. – Сто лет буду перебирать и в толк не возьму! Нет! Какова бестия! – И Агафон ткнул пальцем в погребец. – Что бы ему разложить все в сундуке рядышком! Нет, вишь, анафема, что придумал. Одно в одно. Соберешь со стола кучу, а уложишь, и нет ничего! Одна миска! Сто лет, говорю, буду выкладывать и эту бестию немца поминать… Уложить рядышком – какой ведь ящик бы надо… саженный. Так нет же! Он, анафема, вишь… одно в одно… Прямая бестия, плут.
– Ну, Агафон, вот что… Соловья баснями не кормят. Давай скорее… – терпеливо, но угрюмо сказал Григорий Орлов.
– Зараз, пане, зараз! – отозвался Агафон, почти не обращая внимания. – Как были мы с вами в Вильне, помню я, тоже эдакую штуку один жид продавал.
– Ты болты болтать! – закричал вдруг Алексей Орлов громовым голосом. – Постой, болтушка! – И, живо подхватив старика за ногу и за руку, он поднял его, как перышко, на воздух, над головой своей.
– Ай!! Ай!! Убьешь! Ей-богу, убьешь! Барин! Золотой! – заорал старик. – Обещался никогда этого не делать. Стыдно! Григорий Григорьевич, не прикажите. – И старик, боязливо поглядывая сверху на богатыря-барина и на пол, кричал на весь дом.
– Расшибу об пол вдребезги!.. – крикнул Алексей и держал старикавысоко над головой. Так как горница была низенькая, то он, наконец, припер старика к балясинам потолка.
– Гриша, пощекочи его…
– Голубчик! Барин! Ради Создате… Ай-ай!
– Пусти его, Алеша. Ей-богу, есть хочется.
Алексей спустил бережно старика и поставил на пол, но едва Агафон был на ногах, он нагнулся и начал щипать его за икры.
– Бери сервиз!.. Живо… Защекочу… Прямая Фофошка, болтушка.
Агафон увертывался вправо и влево, хрипливо хихикал и вскрикивал, поджимаясь для защиты икр; наконец, он наскоро ухватил мисы и тарелки и, поневоле пятясь от барина задом наперед, кой-как пролез в двери, но разронял приборы на пороге.
– Ты в самом деле ему руки не сверни как-нибудь… – сказал Григорий, когда старик скрылся.
– Вот! Я ведь бережно… Зачем Фофошку калечить? Недаром он нас на руках махонькими таскал.
– Кости-то у него старые… Недолго и изувечить, – заметил Григорий.
Через минут пять Агафон появился с подносом. Из большой миски дымилась похлебка, из другой торчал хвост рыбы, в третьей, маленькой, миске были печеные яблоки. Лакей, уже не боясь затейника-барина, с ужином в руках, расставил все на столе, подал тарелки, приборы и, отошед в сторону с салфеткой на руке, сказал торжественно:
– Пожалуйте откушать на здоровье.
Братья порядливо, не спеша перекрестились и весело принялись за ужин.
– Вы кушайте, а я буду вам сказывать… что тут было с час места тому.
– Ну, теперь болтай, Фофошка, сколько хочешь, – весело сказал Алексей Орлов. – Ты нам сказывай, а мы будем тебя не слушать.
– Ан вот и будешь… – поддразнил его старик, поджимаясь и вытягивая шею вперед.
– Ан не буду! – гримасой и голосом удивительно верно передразнил его Алексей.
– Ан будешь… Да еще обеими ухами будешь слушать и кушать перестанешь от любопытствия того, что я сказывать буду…
– Ну, ну, говори!
– То-то вот… Говори теперь… Да я не тебе и говорить хотел! И презанимательная происшествия, Григорий Григорьевич, – обратился Агафон серьезно к своему барину.
Вообще старик лакей хотя любил равно всех своих господ, и маленького кадета Владимира Григорьевича, и озорника, вечного спорщика и «надсмешника» Алексея Григорьевича, но уважал он только Ивана Григорьевича Орлова, старшего из братьев, и потом боготворил своего барина Григория Григорьевича, с которым совсем не расставался уже за последние двенадцать лет ни в России, ни за границей.
– С час тому места, барин, – начал Агафон, ухмыляясь, – сижу я с содержателем Дегтеревым. Хозяйка-то, стало быть, говорит вот насчет кушаньев вам поужинать. А мы двое сидим да беседуем. Он меня про немцеву землю спрашивает, про Конизбер-город и про прусского… энтого… ну про Хредлиха, что немцы королем своим считают, благо у него длинен нос, до Коломны дорос, а все, поди, на глазах торчит.
Братья Орловы невольно усмехнулись тому, что называли «старой Фофошкиной песенкой». Агафон не любил немцев. Прожив между ними четыре года в Кенигсберге, он еще пуще невзлюбил их, но короля Фридриха почему-то особенно ненавидел до глубины души. Как и за что явилась эта ненависть в добром старике, он сам не знал. В Агафоне как будто что-то оскорблялось и негодовало, когда ему говорили, что Фридрих – король… монарх… Такой же вот царь немецкий, как Петр Алексеевич был русским царем. Агафон злобно ухмылялся, тряс головою и не мог никак переварить этого; если же беседа об Фридрихе затягивалась и ему доказывали неопровержимо, что Фридрих царь прусский, как и быть должно… да еще, пожалуй, «Великим» потом назовется… то Агафон, не находя опровержений, принимался ругаться, называя своего собеседника басурманом и изменником.
– Ну, ну, Фридриха ты, брат, не тронь, – сказал Алексей Орлов. – Знаешь, ныне времена не те. Это при Лизавет Петровне с рук сходило; а теперь ты, Фошка, это брось. Скоро мы вот замиримся с Хредлихом с твоим, и как ты его ругать – тебя и велят ему головой выдать. Он тебя и казнит на сенной площади в Берлине.
– Казнит! – сердито отозвался Агафон.
– Да. Сначала, это, отдерут кнутьями немецкими, а там клейма поставят, и тоже с немецкими литерами, а там уж и голову долой.
– Коротки руки – литера мне ставить…
– Дай ему, Алеша, сказывать, – вмешался Григорий.
– А ты язык-то свой попридержи, Алексей Григорьевич. Жуй себе да молчи. Ну-с, вот и беседуем мы с Дегтеревым. Вдруг, слышим, бух в двери кто-то. Меня с лавки ажио свернуло, так, скотина, шибко вдарил с размаха. Точно разбойник какой. Уж я его ругал, ругал потом за перепуг.
– Да кто такой?.. – спросил Алексей.
– А ты кушай да молчи… Ну, вот, Григорий Григорьевич, отворил Дегтерев дверь… Лезет, дьявол, звенит шпорьями, кнут в руке, верхом приехал. Морда вся красная, замерз, бестия. Глянул я… Вижу, он как и быть должно… Все они эдакие, прости господи, дьяволы…
– Так-таки сам дьявол? Что ты, Фоша?! – шутливо воскликнул Алексей Орлов.
– Пост ноне, Великий пост Господень идет, Алексей Григорьевич: грех это – его поминать! – укоризненно заговорил Агафон.
– Сам ты два раза его помянул.
– Я не поминал… Поклепов не взводи. Я немца ругал, а не его поминал. Ну вот слушайте. Вошел и кричит.
– Да кто такой? Ты же ведь не сказал, – заметил Григорий Орлов.
– А голштинец!
– Голштинец?
– Да. Солдат из потешных, из аранбовских. Вы слушайте, Григорий Григорьевич, что будет-то… «Хочу, говорит, я комнату занять. Эту самую вот. Для моего ротмейстера, кой будет сейчас за мной». Мы говорим: «Обожди, не спеши. Горница занята, и ужин там накрыт моим господам». – «Мой, говорит, ротмейстер государев».
– По-каковски же он говорит-то?
– Что по-своему, а что и по-нашему. Понять все можно. Русский хлеб едят уж давно, грамоту нашу пора выучить. Мне, говорю ему, плевать на твоего ротмейстера. Мои господа, говорю, московские столбовые дворяне, батюшка родитель их был, говорю, генерал… Да, вот что, голштинец ты мой! А ты, говорю, обогрейся в людской да и ступай с богом… откуда пришел. Он на это кричать, буянить. Подавай ему горницу и готовь тоже закусить для его ротмейстера. Спросил Дегтерев: «Кто таков твой начальник?» Говорит ему: «Имя я сам не знаю». – «Ну а коли ты и званья своему барину, говорю я ему, не ведаешь, то, стало, верно, прощелыга какой». И Дегтерев говорит: «Господина твоего ротмейстера я не знаю, а вот его господа завсегда у меня постоем бывают с охоты, и теперь, говорит, тоже горница занята для них. А я, говорит, господ его не променяю на голштинца. Пословица ноне сказываться стала: „От голштинца не жди гостинца”». Вот что!..
– Ну, что ж, понял он пословицу-то?
– Понял, должно, буянить начал… А потом сел, отогрелся и говорит: «Погодите, вот ужо-тко подъедет ротмейстер, всех вас и ваших герров официров кнутом отстегает». Ей-богу, так и говорит! Меня со зла чуть не разорвало… Сидит, бестия, да пужает… Посидит, посидит да и начнет опять пужать… Погодите вот на час, подъедет вот мой-то… Даст вам…
– Ну что ж, тот подъехал? – спросил Алексей Орлов.
– То-то не подъехал еще.
– Ну а солдат?
– И теперь тут. Ждет его. И все ведь пужает. Ей-богу. Сидит это, ноги у печи греет и пужает. Пресмелый. Ну и как быть должно, из себя рыжий и с бельмом на носу.
– На глазу то ись… Фофошка.
– Нет, на носу, Алексей Григорьевич. И все-то ты споришь. Ты не видал его, а я видел. Так знать ты и не можешь где. А учить тебе меня – не рука… Врать я – в жизть не врал.
– Да на носу, Фоша, бельмы не бывают. Не путай!..
– У немца?! Много ты знаешь!.. И не такое еще может быть… Хуже еще может быть. Ты за границу не ездил, а мы там жили с Григорьем Григорьевичем. Да что с тобой слова тратить!.. – И Агафон сердито вышел вон, хлопнув за собою дверью.
– Озлил-таки Фофошку! – рассмеялся весело Алексей Орлов.
VII
Через четверть часа послышался около постоялого двора звон жиденьких чухонских бубенцов, без колокольчика, а затем кто-то громко и резко крикнул на дворе хозяина.
– А ведь это он, пожалуй, ротмейстер этот. То не наши, – сказал Алексей.
– Позовем его с нами поужинать, – отозвался Григорий Орлов. – Я давно уже по-немецки не говорил. Поболтаю.
– Все эти голштинцы превеликого ведь самомнения… – отозвался Алексей с гримасой.
– Ничего. Ради потехи лебезить буду да по шерстке его учну гладить. Об прусском артикуле пущуся в беседу! А как подымется каждый восвояси – тогда я ему на прощание немцеву породу и его Хредлиха самого выругаю поздоровее, – рассмеялся Григорий.
– Что ж, пожалуй. Вместе детей не крестить. Поужинаем и разъедемся… А то скажи ему, как Разумовский сказал какому-то нахалу. Тот напрашивался все к нему силком на бал, он и ответил: неча делать, наплевать, милости просим!..
В эту минуту в сенях раздался крик и кто-то грохнулся об землю. Затем раздался визгливый и яростный крик Агафона:
– Меня свои господа вот уж тридцать лет не бивали! Вот что-с!..
Алексей Орлов кинулся на крик лакея, но дверь распахнулась, и Агафон влетел с окровавленным носом.
– Глядите что! – завопил старик. – Нешто он смеет чужого холопа бить?
– Dumm! Wo sind diese Leute?[1] – кричал голос в сенцах.
– А-а! Вот оно какое дело! – выговорил Григорий протяжно и поднялся из-за стола. Вывернув высоко вверх локоть правой руки, он гладил себя ладонью этой руки по верхней губе. Нервное дыхание сильно подымало его грудь.
Алексей Орлов быстро обернулся к брату. Этот жест и хорошо знакомая ему интонация голоса брата, говорившие о вспыхнувшем гневе, заставили его схватить брата за руку…
– Гриша, не стоит того. Стыдно! Господь с тобой.
Григорий Орлов стоял не шевелясь за столом.
На пороге показалась высокая и плотная, полуосвещенная фигура голштинского офицера в ботфортах, куцем и узком мундире с расшивками на груди. Прежде всего бросились в глаза его толстые губы и крошечные глазки под лохматыми рыжими бровями. На прибывшем была накинута медвежья шуба, на голове круглая фуражка с меховым околышком и с зеленым козырьком.
– Как вы смеете бить моего человека?! – крикнул из-за стола Григорий Орлов по-немецки.
Алексей, не понимавший ни слова из того, что говорил брат, прибавил тихо:
– Не стоит связываться, Гриша. Уступим угол горницы. Все-таки офицер…
Прибывший ротмейстер в своей шубе едва пролез в дверь и, увидя две богатырские фигуры двух братьев, сказал по-немецки несколько мягче, но все-таки важно и внушительно:
– Я, как видите, офицер войска его величества. Еду из Ораниенбаума к его высочеству принцу Георгу по важному делу… Я желаю поужинать и отдохнуть. Очистите мне сейчас эту горницу.
– Черт с ним, – шепнул Алексей брату, – позвать его поужинать с нами. А Фофошкин нос склеим, некупленный! – рассмеялся он добродушно и весело.
Ротмейстер, очевидно не понимавший ни слова по-русски, принял вдруг смех этот на свой счет и, сморщив брови на Алексея, важно закинул голову.
– Хотите ужинать с нами, – сказал Григорий Орлов уже мягко, но улыбаясь гримасам брата на Агафона, мочившего нос водой в углу горницы.
– Спасибо! Danke sehr![2] – презрительно отвечал вдруг обидевшийся немец. – Я этого не ем. – И он мотнул головой на стол. – Это глотать могут только русские.
– Ну, так эта комната и стол заняты нами! – грубо и резко вымолвил Григорий Орлов, садясь снова. – Хотите, так займите вон угол и ешьте там свою колбасу. Только живее кончайте и уезжайте, потому что меня от колбасного запаха тошнит.
– Что? Аль он заупрямился? – спросил Алексей, ничего не понимавший. – Мы ведь не в мундирах, Гриша, он, может, думает, купцы проезжие.
– Наше общество вас не унизит. Мы тоже офицеры войск его величества, – объяснил Григорий.
– Русского войска?
– Ну да, русского. Мы не в мундирах, потому что заехали сейчас с охоты.
Немцу, очевидно, показалось последнее заявление Орлова сомнительным.
«Эти два дюжих парня вряд офицеры. Скорее два русских бюргера», – подумал ротмейстер, приглядываясь к обоим, и затем вдруг крикнул в дверь… Явились два рейтара голштинского войска.
– Уберите все это вон! – приказал он по-немецки, показывая на стол. – И вы тоже – вон. Fort! Fort!..
– Ruhig!..[3] Кто тронет этот стол, тому я расшибу голову об стену! – крикнул Григорий по-немецки.
Рейтары остановились у дверей.
Хозяин Дегтерев показался смущенный за ними. Офицер грубо захохотал в ответ на угрозу и сбросил шубу и шапку. Затем, подойдя к столу, он взял первую попавшуюся под руку миску с рыбой, шлепнул ее на пол и взялся было за другую.
Алексей и Агафон ахнули. Григорий Орлов выскочил из-за стола и одним ударом кулака опрокинул ротмейстера навзничь, на его же шубу.
– Ко мне! Ко мне! Бей их! – закричал ротмейстер по-немецки.
Рейтары бросились было на Григория, но один из них попал под руку Алексея Орлова и, сбитый с ног, отлетел на старого лакея, которого своим падением сшиб тоже с ног. Рейтар так застонал, что товарищ его быстро отступил сам.
В минуту Алексей вышвырнул обоих солдат из горницы и запер дверь на щеколду.
Между тем Григорий Орлов уже ухватил толстого ротмейстера за шиворот и, сев на него верхом, тащил его за шею и подъезжал на нем к самому столу. Голштинец побагровел от напрасных усилий, отчаянно барахтался и хрипел.
– Алеша! Держи свинью! Гни! – крикнул Григорий, слезая с ротмейстера. Передав его в руки брата, он взял со стола большую миску и, опрокинув ее на голову ротмейстера, облил его остатками еще теплой похлебки, а затем надел опорожненную миску ему на голову.
Вся голова офицера ушла в нее. Григорий с большим усилием, сопя и кряхтя, бережно согнул на голове голштинца серебряную мису и, сдвинув края на щеки, подогнул ушки под его жирным подбородком, лишь слегка поранив ухо и помяв шею. Затем он велел брату выпустить ротмейстера из-под себя и, оттолкнув его в угол, крикнул злобно, смеясь:
– Вот вам новая голштинская каска! А имя мое – Орлов.
Офицер совершенно обезумел от совершенного вдруг над ним и, качаясь как пьяный, отодвинулся и сел на лавку. Он притих сразу и с телячьим взором глядел на братьев из-под миски. Руки его поднялись было бессознательно разогнуть ушки на подбородке и снять миску, но, тронув их, он и пробовать не стал. Он обомлел от изумления, смутно поняв, что случилось что-то невозможное, даже немыслимое.
Миска, плотно обхватив затылок и темя, торчала над лбом в виде чепца, а загнутые широкие ушки держали ее и не позволяли не только снять с головы, но даже чуть-чуть сдвинуть. Чтоб разогнуть миску, нужна была та же сверхъестественная сила, которая надела ее. Голштинец сидел недвижно и ошалелым взором глядел на одевавшихся наскоро врагов.
– Гут? А? Гут, что ли? – смеялся, одеваясь, Алексей.
Агафон быстро и злобно собирал посуду в погребец, изредка косясь на главную миску, недостававшую теперь в приборе. Увы! Она неожиданно получила совершенно новое назначение.
Братья вышли в сени. Рейтары вежливо пропустили силачей. Через несколько минут Орловы уже скакали в санях по дороге в Петербург.
– Скверно! Погорячился ты. Скверно! – повторял Алексей брату. – Имя-то он не слыхал, но по миске узнают, кто такие с ним пошутили. Теперь не след было гнева государя на себя обращать. Ты знаешь, как он за голштинцев своих обижается всегда.
Агафон, сидевший боком на облучке около кучера, бормотал себе что-то под нос и махал руками по воздуху отчаянно и злобно. Наконец он обернулся к господам и сказал, вне себя от ярости:
– Отдуть бы здорово! Так!! След! Чтоб помнил, бестия. Так нет! Добро свое зря портит. Финты-фанты показывать!
– Да на миске-то вырезаны еще большие литеры: глаголь и он! – прибавил Алексей.
– Не будьте в сумлении, – язвительно отозвался Агафон, – и без литер узнается, кто такое колено отмочил. Нешто всякий это может? – воскликнул он вдруг. – Ваш покойный родитель да вы, господа, его детки. Кабы даже и не ваша посудина была, так всякий, глянув на его башку, скажет, что миска господ Орловых. Я бы взял на себя, – помолчав, серьезно выговорил старик, – да не поверят… Как вы полагаете, Григорий Григорьевич?.. А то я возьму на себя, скажу, я, мол. Мне что ж сделают?
Оба брата вдруг так громко, раскатисто захохотали на это предложение, что даже пристяжные рванули шибче. Агафон сердито махнул рукой и, отвернувшись лицом к лошадям, обидчиво молчал вплоть до Петербурга.
Между тем ротмейстер, оставшись на постоялом дворе в той же горнице, позвал солдата, заперся и возился напрасно с своей новой каской. Он пришел в себя окончательно и понял весь ужас своего положения, когда Орловы уже уехали; иначе он готов бы был просить хоть из милости снять с него миску. Напрасно оба рейтара его возились над ним и, уцепившись за края и ушки миски с двух разных сторон, тащили их из всей силы в разные стороны. Ушки не подались ни на волос из-под толстого подбородка офицера. Кроме того, один из рейтаров был гораздо сильнее товарища и при этой операции, несмотря на все свое уважение к Herr’у ротмейстеру, ежеминутно стаскивал его с лавки на себя и валил на него слабосильного товарища. При этом доставалось пуще всего голове ротмейстера, от боли кровь приливала к его толстой шее, и он боялся апоплексии.
Наконец, голштинец обругал рейтаров и не велел себя трогать. Они отступили вежливо на шаг и стали – руки по швам.
Ротмейстер просидел несколько минут неподвижно, очевидно раздумывая, что делать. Наконец, ничего, вероятно, не придумав дельного, он вдруг поднял руки вверх, как бы призывая небо в свидетели невероятного происшествия, и воскликнул с полным отчаянием в голосе:
– Gott! Was fьr eine dumme Geschichte!![4]
Оставалось положительно одно – ехать тотчас в Петербург, к медику или слесарю, распиливать свою новую каску… Но как ехать?! По морозу! Сверх миски теплая шапка не влезет! Отчаяние голштинца взяло, однако, верх над самолюбием, и он, выпросив тулуп у Дегтерева, велел себе закутать им голову вместе с миской… Рейтары его обвязали наглухо, вывели под руки, как слепого, и посадили в санки. Ротмейстер решился в этом виде ехать прямо к принцу голштинскому, Георгу, дяде государя, жаловаться на неизвестных озорников и требовать примерного наказания. Дегтерев, разумеется, не сказал ему имени силачей, отзываясь незнанием, а сам офицер не запомнил русскую, вскользь слышанную фамилию. Вензель Г. О., вырезанный на посудине, он видеть у себя на затылке, конечно, не мог.
Когда ротмейстер, чудищем с огромной головой, отъехал от постоялого двора, Дегтерев, уже не сдерживая хохота, вернулся в горницу, где жена подтирала пол и прибирала остатки растоптанной рыбы…
– Ай да Григорий Григорьевич! Вот эдак-то бы их всех рамбовских. Они нашего брата поедом едят… Не хуже Бироновых «языков». Спасибо, хоть этого поучили маленечко… А лихо! Ай, лихо! Ха-ха-ха!
Дегтерев сел на лавку и начал хохотать, придерживая живот руками. Вскоре на его громовой хохот собрались все работники от мала до велика со всего двора и слушали рассказ хозяина.
– Горнадеры-то его… Ха-ха-ха. Один в эвту сторону, на себя тянет, а тот к себе тащит, да оба мычат, а ноги-то у них по мокрому полу едут!.. А ротмистр-то глаза пучит, из-под миски-то… Ха-ха-ха! Ох, батюшки! Живот подвело. О-о-ох! Умру!..
Батраки, глядя на хохотавшего хозяина и представив себе постепенно все происшедшее сейчас в горнице, начали тоже громко хохотать.
– Этот сюда тащит, а энтот туда… А ноги-то… ноги-то – по полу едут! – без конца принимались повторять по очереди батраки, после каждой паузы смеха, будто стараясь вполне разъяснить друг другу всю штуку. И затем все снова заливались здоровым хохотом, гремевшим на весь «Красный кабак».
VIII
У ворот большого дома Адмиралтейской площади, стоящего между покатым берегом реки Невы и Галерной улицей, ходит часовой и от сильного мороза то и дело топочет ногами по ухоженному им снегу, ярко облитому лунным светом. Здесь в больших хоромах помещается прибывший недавно в Петербург принц голштинский, Георг Людвиг. Хотя уже четвертый час ночи, но в двух окнах нижнего этажа виден свет… Горница эта с освещенными окнами – прихожая, и в ней на ларях сидят два рядовых преображенца. Они часовые, но, спокойно положив ружья около себя, сидят, пользуясь тем, что весь дом спит глубоким сном; даже двое дежурных холопов, растянувшись также на ларях, спят непробудно, опрокинув лохматые головы, раскрыв рты и богатырски похрапывая на всю прихожую и парадную лестницу. Рядовые эти – молодые люди, красивые, чисто одетые и щеголеватые с виду. Обоим лет по двадцати, и оба светло-русые. Один из них, с лица постарше, плотнее, с полным круглым лицом и светло-синими глазами, тихо рассказывает товарищу длинную, давно начатую историю. Это рядовой преображенец – Державин.
Другой слегка худощавый, но стройный и высокий, с живым, но совершенно юным, почти детским лицом, с красивым орлиным носом и большими, блестящими, темно-голубыми глазами. Даже в горнице, полуосвещенной дрожащим светом нагоревшей свечи, глаза его блестят особенно ярко и придают белому, даже чересчур бледному, матовому лицу какую-то особенную прелесть, живость и почти отвагу. Лицо это сразу поражает красотой, хотя отчасти женственной. Он старается внимательно слушать товарища, но зачастую зевает, и на его лице видно сильное утомление; видно, что сон давно одолевает его на часах. Это тоже рядовой – Шепелев.
Державин кончал уже свой рассказ о том, как недавно приехал в Петербург и нечаянно попал в преображенцы.
– Так, стало быть, мы оба с вами новички, – выговорил наконец Шепелев. – А я думал, что вы уже давно на службе.
– Как видите, всего без году неделя. А вы?
– Я на Масленице приехал. Наведался прямо с письмом от матушки к родственнику, Петру Ивановичу Шувалову, и узнал, что он уже на том свете. Да, приезжай я пораньше, когда государыня была жива и он жив, то не мыкался бы, как теперь. Это не служба, а работа арестантская.
– Да, – вымолвил Державин, вздохнув, – уж ныне служба стала, государь мой, не забава, как прежде была. Вы вот жалуетесь, что на часах ночь отбыть надо… Это еще давай господи. А вот я так рад этому, ноги успокоить. А то во сто крат хуже, как пошлют на вести к кому. Вот у фельдмаршала Трубецкого, помилуй бог. Домочадцы его хоть кого в гроб уложат посылками. То сделай, туда сходи, в лавочку добеги, к тетушке какой дойди, который час – сбегай узнай, разносчика догони – вороти. Просто беда. А то еще хуже, как с вечера дадут повестки разносить по офицерам… Один живет у Смольного двора, другой на Васильевском острову, третьего черт угнал в пригород Коломну, ради собственного домишки либо ради жизни на хлебах у родственника… Так, знаете, как бывает, выйдешь с повестками до ужина в сумерки, самое позднее уж часов в шесть, а вернешься в казармы да заснешь после полуночи. А в семь вставай на ротный сбой да ученье, а там пошлют снег разгребать у дворца, канавы у Фонтанки чистить или на морозе поставят на часы да забудут смену прислать…
– Как забудут?
– Да так! Нарочно. Меня вот теперь наш ротный командир ни за что поедом ест. Он меня единожды двенадцать часов проморил на часах во двору у графа Кирилла Григорьевича.
– Кто такой!
– Граф Кирилл Григорьевич? Гетман. Ну, Разумовский. Нешто не знаете? «Всея Хохландии самодержец» зовется он у нас… Теперь только вот обоим братьям тесновато стало при дворе, кажется, скоро поедут глядеть, где солнце встает.
– А где это? – вдруг спросил Шепелев с любопытством.
– Солнце-то встает? А в Сибири. Это так сказывается. Да… Так вот, об чем, бишь, я говорил? Да об гоньбе-то нашей. Пуще всего в Чухонский Ям носить повестки. Тут при выходе из города, где овражина и мостик, всегда беды. Одного измайловца донага раздели да избили до полусмерти.
– Грабители?
– Да. Говорят, будто из ихних… – И Державин мотнул головой на внутренние комнаты. – Два голштинских будто бы солдата, из Рамбова.
– Вот как?
– Да это пустое. Ныне, что ни случилось, сейчас валят на голштинцев, как у нас в Казани все на татар, что ни случись, сваливают. Надо думать, разбойники простые. Им в Чухонском Яму любимое сидение с дубьем.
– Что вы! Ах, батюшки! Вот я рад, что вы меня предуведомили! – воскликнул Шепелев. – Я туда часто хожу. У меня там… – И молодой малый запнулся.
– Зазнобушка!
– Ох нет! То есть да… То есть, видите ли, там живет семейство одно, княжны Тюфякины.
– Ну вот! Князь Тюфякин. Да. Я ему-то и носил прежде повестки. Ныне он уж не у нас.
– Ну да, конечно. Он же ведь прежде преображенец был и недавно только в голштинцы попал. Я женихом считаюсь его сестры…
– Хорошее дело. Через него и вы чинов нахватаете. Да и как живо! Но как же это вы с Масленицы здесь, а уж в женихах?
– Ах нет. Это еще моя матушка с их батюшкой порешили давно. Мы соседи по вотчинам и родственники тоже. Теперь, вот как меня произведут в офицеры, и я женюсь! Так завещал родитель их покойный. Но один Шепелев был женат уже на одной Тюфякиной, и она приходилась золовкой, что ли, моей тетке родной. А невеста моя, хоть и от второго брака, но, может быть, это все-таки сочтется родством.
– Какое ж это родство! – рассмеялся Державин. – Вместе на морозе в Миколы мерзли. Любитесь небось шибко… Небось девица красавица и умница.
– Из себя ничего… Только я эдаких не жалую. Девица должна быть смиренномудрая. Так ведь! А эта насчет ума и других прелестей – столичная девица! Молодец на все руки. Уж очень даже шустра и словоохотлива. Она и родилась здесь. Батюшка мой покойник и матушка тоже заглазно мне ее определили в жены. Ну, да это дело… Это еще увидится. Я отбоярюсь. Мне с князем Глебом уж больно шибко неохота родниться.
– А что же? Он ныне в силе. Голштинец, хоть и русский.
– Нехороший человек. Я уж порешил отбояриться от его сестры.
И молодой малый тряхнул головой и усмехнулся с напускной детской важностью. Он, как ребенок, хвастал теперь перед новым знакомым своей самостоятельностью относительно вопроса о женитьбе.
– Вы одни у матушки?
– Один как перст.
– И вотчины, и все иждивение будет ваше.
– Да, но… – Шепелев снова запнулся в нерешительности: сказать или нет? И, как всегда, совестливость его и прямота взяли верх. – Нечему переходить-то… – продолжал он. – У матушки имение хотя и есть… но покойник родитель оставил ей такой чрезмерный должище, что заплатить его не хватит никаких вотчин. Если б и весь уезд был нашей вотчиной, так не хватило бы.
– И в этом мы с вами ровни. У меня тоже немного. Но все-таки вы не живете в казармах! – прибавил Державин.
– Я у дяди Квасова на хлебах…
– Господин Квасов, гренадерской роты нашей. Знаю его за добрейшей души человека, – сказал Державин и в то же время подумал про себя: «Как этого лешего не знать!»
– Он из лейб-кампании, – как-то странно сказал Шепелев, будто предупреждая вопрос Державина. – Но я его очень люблю…
– Как же, позвольте… – заговорил этот. – Извините за нескромность. Как же господин Квасов оказался вашим дядюшкой?..
– Видите ли… Когда их всех царица покойная произвела в дворяне, по восшествии своем на престол, то брат младший Квасова, тоже бывший солдат-гренадер, но очень видный и красивый, прельстил одну мою тетку двоюродную, которая всегда жила в Петербурге. Он на ней и женился и вскоре умер. Вот господин Квасов и выходит мне теперь…
– Да… Опять тоже на морозе вместе мерзли… Какая ж это родня! – рассмеялся Державин.
– Да. Но я его очень люблю. Он истинно добрый и благородный человек, хотя происхождения и не нашего, дворянского.
– Вы у него, стало, и живете в качестве родственника. Ну-с, я не так счастлив, живу с рядовыми солдатами. Плачу за себя пять рублей в месяц одному капралу Волкову и у него же в горнице, в углу, и живу за перегородкой. Тяжело. Придешь иной раз домой, уходившись в рассылках, или с вестей, или после ученья, хочешь заснуть, а тут ребятки орут, бабы их меж собой ругаются, а то и в драку полезут. А мужья их мирить да разнимать – помелом, бревном либо и кочергой. А начальство ни в грош не ставят. Кричи не кричи. Помню вот как-то ночью просыпаюсь – шум, гам в казармах, а меня с кровати кто-то тянет за одеяло да молится, пусти его на постель. По казарме ходят, орут, ищут. Очнулся я совсем, смотрю – наш же флигельман, Морозов. «Ты что?» – спрашиваю. «Убить хотят. Дежурный офицер отлучился на вечеринку. Не выдавайте им меня. Защитите, родной, до утрова, а то убьют спьяну. Удрать не могу – ворота стерегут. Спасите. Вас, как барского роду, не посмеют тронуть». – «Да как же мне, – говорю, – тебя спасти?» – «Пустите, – говорит, – лечь на вашу кроватку под одеяло. А сами уйдите куда-нибудь». Что ж делать-то? Пустил, а сам встал и пробрался тихонько на улицу. Всю ночь они проискали его – убить, а моей кровати не трогают… Это, говорят, наш барчук спит. Так он до зари, зарывшись в мое одеяло, и пролежал, покуда офицер не вернулся и не унял пьяных. А ведь флигельман нас же и обучает и, стало быть, такое же начальство, что и офицер. Да-с, повиновения у нас мало. Буяны все да озорники. С жиру бесятся.
– Отчего ж они буянили-то спьяну?
– Да. Первое дело, у нас новый путало завелся, господин Орлов. Слыхали, я чаю, два брата, силачи эдакие. Другой-то брат, старший, артиллерии цалмейстер… Не знаете?
– Нет.
– Что это вы ничего не знаете? Я вот и недавно прибыл, а все знаю. Ну, вот этот Орлов – воистину путало – зачастую угощает вином свою роту. Так, зря, видно, денег девать некуда. Вот они в те поры и напились. А как флигельман Морозов больно доехал их ученьем, то они спьяну и полезли. Да, сказывают, и Орлов за что-то зол на Морозова и их науськивал на него. Выйдет, мол, шум, другого назначут флигельмана. А эдакое ему зачем-то на руку. Двуличневый этот народ – оба брата.
– Орловы?
– Да-с. Деньги тратят большие, а состояния большого у них нет. Всякий вечер у них сборища офицеров! Крик, гам, затеи шальные. А ведь квартира-то их на видном месте, недалече и до самого дворца. Был уж, говорят, раз приказ им от принца – держать себя скромнее. И ничего не помогло. Говорили, будто даже один из них, наш же офицер, Пассек, отвечал: «У вас-де там пиво пьют; а мы матушку-сивуху тянем, так мы друг дружке не помеха».
– Однако дерзость какая? Что ж на это принц ответил?
– Ну, до принца-то оно, положим, вряд дошло. Кто ж эдакое пойдет передавать? Сам ног не унесешь… Что это такое?! – вдруг прибавил Державин, прерывая беседу и оборачиваясь в окно. – Будто подъехали. Слышите, полозья скрипят по снегу.
Оба рядовых прислушались и, под здоровый храп спящих на ларях холопов, с трудом расслышали шум полозьев и звук бубенцов. Они глянули в окно и среди яркой, белой улицы, освещенной как днем, увидели сани парой, с кучером чухонцем, а в санях что-то огромное, странное. За санями ехали верхом двое солдат.
– Рейтары! – воскликнул Державин. – Голштинцы!
– Ночью? Что ж бы это значило?
– Привезли в санях что-то. Да нет! Это живой человек, сам встает. Что за притча! Пойдемте на крыльцо…
Часовые взяли ружья с ларя и вышли.
IX
Чудовище, выползшее из саней при помощи рейтаров, был, конечно, добравшийся кой-как в город несчастный ротмейстер. Солдаты ввели его под руки на крыльцо и стали вводить на лестницу.
Но часовые были уже внизу и, загородив лестницу, остановили и опросили прибывших.
– К его высочеству! – загудело что-то по-немецки из-под тулупа, наверченного над медвежьей шубой, там, где предполагалась голова.
Часовые, однако, не решались пропускать.
– Кто вы? Мы ночью не имеем приказа впускать кого-либо, помимо офицеров ваших, – сказал Державин также по-немецки.
Офицер раскутался при помощи рейтаров. Молодые люди сначала остолбенели от удивления при виде чего-то блеснувшего и не сразу разглядели, что именно блестит на голове приезжего. Первое движение Державина было гнать всех троих вон; он вспомнил вдруг о разных глупых шалостях, которые позволяли себе разные гвардейцы с принцем Жоржем и которые все учащались за последнее время вследствие его доброты и безнаказанности со стороны начальства. Приняв теперь вновь прибывших за переодетых балагуров, он быстро сообщил свою догадку Шепелеву. И оба часовых, отступив в верх лестницы, стали на пороге самых дверей с твердым намерением не пропускать ряженых озорников.
«Небось тоже из отчаянной компании господ Орловых! – подумал Державин. – Из-за них, проклятых, сам в ответ попадешь».
Между тем тоже поднявшийся офицер порывался решительно войти в двери, и лицо его было вовсе не забавно, голос вовсе не шутлив. К тому же и офицер и солдаты были, очевидно, неподдельные немцы.
– Я ротмейстер голштинского войска, – сказал офицер на чистом немецком языке. – Прикажите сейчас вызвать камердинера его высочества Михеля. Сию минуту…
– Послушайте! – заметил наполовину понявший Шепелев. – Он не пьян ли? У него только на голове что-то диковинное! А мундир – ничего! Являться в таком виде к принцу и голштинцу нельзя позволить. Он хоть и не ряженый, но дело-то все-таки неладно. Опросите его толком, в чем дело.
Державин объяснил приезжему то же подозрение, по-немецки спрашивая, что за причина его головного убора. Ротмейстер настойчиво, силой пролез в переднюю мимо юных часовых, резко заявив, что это не их дело и что объяснение всего – тайна, которая касается одного принца.
Разбудив храпевшего лакея, часовые поневоле велели ему идти будить главного принцева камердинера Михеля.
Парень, по имени Фома, спросонья чуть не принял прибывшего офицера за самого черта и, перекрестившись, попятился на ларь.
– Ну, ну, небось. Иди будить… – сказал Державин.
Ротмейстер молча и угрюмо сел на лавку около окна… Серебряная миска ярко блестела и переливалась в два света: и в лучах свечи, и в лунном свете, падавшем в обледенелое окно.
Рейтары почтительно стали у дверей около часовых…
Державин и Шепелев, очнувшись от первого удивления и поняв, что приезжему не до шуток, переглядывались, кусая себе губы, и едва сдерживались от невольного смеха.
Вышел наконец, позевывая, сонный Михель и, вытаращив заспанные глаза, уперся, не подходя близко к офицеру. Этот встал и приблизился. Михель ахнул и ругнулся по-немецки, затем возопил хрипливо:
– Gott! Вы ли это, господин Котцау?.. Was hat man?..[5]
Но офицер его перебил:
– Уведите меня к себе. Я вам все объясню. Теперь, – обратился он к рейтарам, – ступайте домой. Скажите, что я остался у его высочества. Там, у себя, никому ни слова. Как сказано! Слышите?!
Рейтары вышли и уехали. Часовые остались в прихожей, и Шепелев, упав на ларь, начал хохотать, закрывая рот руками, чтоб не огласить хохотом спавший дом. Державин тоже смеялся весело…
– Что же это такое? – сказал, наконец, Шепелев.
– А вот наутро встанет принц, объяснится машкарад этот. Может, это новый шлем такой голштинцам дан, – острил Державин. – Недаром сказывали, что к Святой всем полкам гвардии перемена мундиров будет. А ведь я эту фамилию что-то слышал. Котцау?! И не раз слышал.
– Кастрюля, как быть должно! – выговорил, зевая, Фома, снова укладываясь на ларе и не обращая внимания на двух солдат часовых. – Вот завтра принц наш переймет, себе тоже такую наденет.
– Это же почему? – спросил Шепелев, переставая смеяться и удивленный отчасти той грубостью, с какой парень отзывался о принце, в доме которого служил.
– Почему! Этот немец нашего каждодневно учит, на… как бишь, на шпатонах, что ли? Ну вот на эдаких на длинных тесаках, что ли.
– Какой немец?
– А этот вот самый, Котцапый имя-то; вот что в кастрюлю-то нарядился. Он у нашего вот третий день бывает и обучает его по-военному, тот глядит да перенимает. Что тот ни сделает, а принц за ним то же. Ногами так топочут оба по горнице, что страсть! Ну вот теперь этот кастрюлю вздел, а наш, стало быть, завтрева уж целый чугун нацепит… А то и нам всем, дворне, по горшку из-под каши наденут. Это верно! О-хо-хо-хо!
– Хорошо вам тут жить аль дурно? – спросил Державин, догадавшись по нахальному тону лакея, что он недоволен житьем своим.
– Нам-то?.. Хорошо! – лениво выговорил Фома, поворачиваясь на ларе на бок, к ним спиной. – Уж так эвто хорошо! – мычал он уже в стену. – Так то ись хорошо… что, поди, еще лучше вашего.
– А что?.
– Немцы? Что?! От голштинца не жди…
– Не жди гостинца. Слыхал я это…
В эту же минуту в доме зашумели и заходили. Послышался чей-то голос, потом другой, говорившие по-немецки.
– А ведь, верно, разбудили принца. Стало быть, дело-то важное выходит, – заметил Шепелев, и оба юных часовых прислушались.
К ним по коридору шел кто-то, звеня шпорами. Они стали на места, схватив с ларя положенные ружья.
– Эту ночь, видно, не посидишь! – усмехнулся Шепелев.
В прихожую вышел офицер, тоже в мундире голштинского войска, и обратился к ближайшему Шепелеву на довольно правильном русском языке, но с иностранным акцентом. Это был адъютант принца, Фленсбург. Приняв Шепелева за простого солдата, он приказал ему немедленно разыскать медника, слесаря или кого бы то ни было с подпилком и с разными инструментами.
– Понимаешь зачем? Видел? – кратко выговорил он.
– Офицер в кастрюле то ись? – отозвался Шепелев.
– Да. Ты город знаешь небось наизусть. А?.. Знаешь? Найди же скорее и приведи сюда.
– Я города совсем не знаю! – отозвался сумрачно Шепелев. – Я сюда недавно и приехал, ночью же и совсем можно сбиться…
– Русский солдат по всему! – резко сказал Фленсбург как бы себе самому. – Вместо скорого исполнения приказа офицера – болтовня. Ну, не знаешь города – так поди узнай, а чтобы через полчаса слесарь был здесь! – начальственным голосом прибавил он. Но, постепенно вглядываясь в изящную фигуру и красивое лицо Шепелева, он прибавил мягче: – Из дворян, что ли?
– Да-с.
– Ну, пожалуйста, будьте так добры, сделайте это для принца. Тут несчастье… Глупая дерзость. Надо скорее помочь… Это не обязанность часового, но этих животных послать нельзя! – показал Фленсбург на сладко уже храпящего Фому. – Пойдет, провалится и ничего не найдет до утра. Пожалуйста. Его высочество приказал…
– Я бы очень рад, – отозвался Шепелев, поглядывая на Державина, который осторожно отошел в сторону. – Но я не ручаюсь, что найду ночью слесаря, не зная города.
– Надо найти! Я вам передаю, наконец, приказ его высочества, государь мой! – уже нетерпеливо вымолвил Фленсбург.
– Постараюсь, – сухо отозвался Шепелев, весь вспыхнув. – Сделаю, что могу.
– Надеюсь… – усмехнулся Фленсбург презрительно.
Через минуту Шепелев вышел на улицу, ворча себе под нос. А вслед за ним и Фленсбург выехал из дому верхом.
X
Принц Георг Людвиг Голштинский был родной дядя государя, известный более Петербургу под именем принца Жоржа. Так звали его все, даже солдаты и народ. Он приехал в Россию со своим семейством, приглашенный Петром Федоровичем тотчас по восшествии на престол.
Государь не настолько любил и уважал дядю в действительности, насколько старался это выказывать, и особенно заботился об оказании ему всевозможных внешних почестей и знаков отличия. Во всяком случае, принц был единственный близкий родственник государя.
Вскоре по приезде принца указано было его именовать «императорским высочеством». Послам иностранных дворов было предложено официально делать принцу первый визит, и вообще во всех церемониалах и торжествах он занял первое место. Кроме того, принц был тотчас назначен шефом голштинского войска и начальником всей гвардии.
В Петербурге без всякой причины и без всякого повода принца сразу невзлюбили как гвардия, так и общество, даже народ.
– К нам важничать и наживаться приехали, – говорилось всюду про принца и его семейство. – Небось у себя-то в таратайке на базар за огурцами ездили, а тут цугом в восемь коней поехали!
Принц был человек крайне старообразный на вид, но еще почти молодой летами: ему было сорок три года. Но он был так худ, малоросл и плюгав, что издали мог пройти легко за юношу. К нему можно было вполне применить пословицу: маленькая собачка до старости щенок!..
Он был и недальнего ума человек, добрый, довольно образованный, но очень вялый и ленивый по характеру и по привычкам, нажитым у себя на родной стороне; с приездом в Россию он, однако, стал вдруг деятелен.
Принц Жорж приобрел немедленно, к собственному удивлению, некоторое влияние над своим царственным племянником, что было и нетрудно. Прежде всего принц собирался избрать предметом своих забот и реформ исключительно петербургскую гвардию. Вместе с тем по приезде в Россию и честолюбивые замыслы стали обуревать принца Жоржа. Он уже назывался штатгальтером Голштинии, но стал мечтать и надеяться с помощью русских войск и с согласия своего покровителя короля Фридриха сделаться герцогом Курляндским.
Со времени падения и ссылки Бирона место это было долго вакантно, затем его занял польский королевич против воли России и, конечно, сидел не очень твердо. Поэтому не было ни единого князька немецкого, который бы не стремился и не хлопотал перед русским правительством о том, чтобы попасть в курляндские герцоги. Теперь государь Петр Федорович положительно обещал дяде Курляндию, хотя бы пришлось воевать с Польшей и с Саксонией, и возвращаемый из ссылки Бирон должен был отказаться формально от своих прав в пользу принца.
Принц Жорж и его семейство не говорили, конечно, по-русски ни слова… Но это было и не нужно… В эти дни, наоборот, русским, желавшим выйти в люди, приходилось садиться с указкой за немецкую грамоту и учиться мороковать на языке своих недавних врагов.
И действительно, многие из гвардии и из общества засели вдруг усердно за немецкий язык, бывший долго в большой моде в России и в общем употреблении, но за время Елизаветы попавший в опалу вместе с Биронами и Минихами. Теперь же, когда Миних, уже возвращенный из ссылки, был при дворе, а герцог Бирон ожидался также всякий день в столицу, немецкий язык снова, будто с ними вместе, ворочался как бы из нравственной ссылки. Старики повторяли зады и припоминали, что знавали за время царствования Анны Иоанновны, а молодежь вновь садилась за мудреную грамоту. Все вернувшиеся из русской армии, действовавшей против Пруссии и теперь отдыхавшей благодаря перемирию, имели огромное преимущество по службе в том, что понимали и могли говорить на языке принца Жоржа. Зато все отличившиеся в прошлой кампании и известные своею нелюбовью к Фридриху и пруссакам, – как бы ни говорили по-немецки, – были гонимы и притесняемы или прямо попадали в опалу.
Принц Жорж почти не знал своего племянника, русского государя, так как Петр Федорович был увезен в Россию еще ребенком. Петербург принц знал еще менее. Про Россию принц знал только, что она ужасно велика!.. Все русское принц понимал и судил со своей или, вернее сказать, с фридриховской точки зрения. За последнее время не только такие недалекие люди, как принц Жорж, но и более крепкие головы Германии жили в области политики умом короля прусского, будущего «Великого» в истории.
Между тем обстоятельства навязывали принцу, будучи при молодом государе-племяннике, отличавшемся непостоянством и неровностью характера, довольно видную роль и широкую деятельность.
Государь любил выслушивать мнение и советы дяди обо всем. И принцу волей-неволей приходилось во что бы то ни стало добывать себе свои мнения и советы и иметь их наготове.
Положение было мудреное. И вот тотчас по приезде судьба послала ему помощника и советника, уроженца Шлезвига, почти соотечественника, выехавшего еще юношей в эту неведомую варварскую Россию.
Государь назначил к нему офицера Фленсбурга как переводчика для сношений служебных и общественных. Принц вскоре сделал его своим адъютантом и незаметно, поневоле, попал вдруг в положение его ученика.
Умный, тонкий и образованный шлезвигский дворянин старинного, но обедневшего рода был прежде всего крайне честолюбив. Эта черта характера настолько преобладала в нем, что заставила его бросить когда-то отечество и ехать в неведомый далекий путь, ехать, чтобы попытать счастья в той дикой, но волшебной стране, где за последнее полустолетие люди, подобные ему и даже более низкого происхождения, меньшего ума и образования, попадали, будто чудом, быстро и легко в фельдмаршалы, князья, министры, даже регенты огромной империи.
Лефорты, Минихи, Лестоки, Бироны не давали покоя как восемнадцатилетнему красивому юноше, каким он был когда-то, так и теперешнему тридцатишестилетнему, все еще не обогатившемуся шлезвигскому дворянину.
Дальновидность и осторожность одни сдерживали его предприимчивый, горячий нрав и тем делали его еще сильнее и искуснее. Недаром в гербе его, увенчанном баронской короной, напоминавшей ему об утерянном титуле, был на подкове стоящий барс с молотом в одной лапе и с жезлом в другой, а внизу девиз гласил: «Festina lente»[6]. Подкова для суеверных людей – символ удачи, даже счастья в жизни. Фленсбург, при всем своем уме, при всей своей разумности в обыденной жизни, был суеверен. Этот герб прадедов красноречиво говорил его сердцу, предсказывал будто ему многое. Подкова, барс, молот, жезл, баронская корона и девиз вмещали в себе наглядно и цель жизни Фленсбурга, и средства достижения этой цели. Но как вооруженный барс стоял на подкове, так и жизненная карьера Фленсбурга началась случайностью. Он не бегал за фортуной, она постучалась к нему в двери, когда ему было еще только восемнадцать лет, и вдруг позвала его за собой. И он пошел за ней и только осмотрительно и заботливо не упускал из виду пользоваться случаем, даже целой цепью удивительно счастливых случайностей.
Восемнадцатилетний Фленсбург в исходе 1743 года приехал в Берлин, ища средств к существованию, и скоро уже собирался продать себя и надеть мундир солдата. Рекруты были нужны королю Фридриху.
В то же самое время в Берлин прибыла принцесса Иоанна Елизавета Ангальт-Цербстская с дочерью Софией Фредерикой. Прибытие их ко двору прусскому обусловливалось необходимостью испросить денег, а равно и советов короля перед роковым шагом – дальним путем в Россию, где красавица дочь должна была сделаться супругой наследника русского престола.
Великий монарх, проницательный и тонкий политик и мудрый правитель, сам почти придумал это сватовство. На свете издавна на всякого мудреца довольно простоты, и прусский король не мог предвидеть, чем станет со временем для него, для России, для Европы, для мира эта покровительствуемая им девушка, эта идеально красивая, умненькая, с быстрым и огненным взором, но еще с детским личиком шестнадцатилетняя принцесса София Августа Фредерика.
Принцесса-мать, женщина капризная и пустая, своенравная и упрямая в мелочах и бесхарактерная в важных случаях, давно уже сердила короля своими сборами в путь и отсрочками. И вот, наконец, король взялся за дело решительно, вызвал ее в Берлин, надавал много советов, кроме того, несмотря на свою невероятную скаредность, дал и денег. Наскоро собрав принцессе небольшую свиту, он подарил ей экипажи, конюхов, курьера и снарядил в дорогу под именем графини Рейнбек с приказом соблюдать строгое инкогнито до Риги, где встретит ее камергер Нарышкин.
В эту на скорую руку составленную маленькую свиту попал охотником юноша Фленсбург и выехал с принцессами в Россию в качестве чего-то вроде пажа.
Мог ли восемнадцатилетний юноша, красивый, умный и честолюбивый, в долгом пути по бесконечным снегам с частыми и долгими остановками и беседами на постоялых дворах остаться безнаказанно равнодушным спутником шестнадцатилетней красавицы принцессы? Недаром при всех маленьких дворах Германии того времени юные красавцы пажи были героями многих романов, иногда и трагедий. И Фленсбург знал это…
Как ни бессмысленно и глупо это, но бедный шлезвигский юноша во время пути безумно влюбился в юную принцессу – невесту царскую.
Ни обе принцессы, конечно, ни кто-либо из свиты не знали и не подозревали сердечной тайны юного пажа. Все равно полюбили юношу за его заботливую услужливость, тонкую любезность, в которой сквозила кровь прадедов-рыцарей.
В этот долгий и трудный путь, в часы однообразных зимних вечеров на привалах, где-нибудь в глуши, иногда в избе, под гул и завывание метели на дворе, среди чуждого народа и непонятного наречия, молодой Фленсбург был неоценим и незаменим. Он рассказывал, пел, смешил, показывал фокусы…
В Москве после крещения в православие принцессы Софии, затем после венчания великой княжны Екатерины Алексеевны с наследником престола неосторожная, беспокойная и бестактная принцесса Елизавета была вежливо выпровожена правительством из России. Надо было поневоле избавиться в лице ее от усердного агента Фридриха и от множества сплетен, интриг, которые она создавала между двумя дворами.
Поневоле, с досадой, с горечью выехала Елизавета Цербстская из Москвы, простясь с дочерью, чтобы никогда уже не свидеться.
Вся свита принцессы двинулась за ней, исключая юношу Фленсбурга. Он один был оставлен при дворе наследника, и оставлен по воле императрицы. Из всей свиты принцессы один Фленсбург обратил внимание на себя и заслужил благорасположение Елизаветы Петровны. Он один из всей «приезжей своры» не интригантствовал, не наушничал, держал себя с достоинством, полюбился наследнику и снискал даже приязнь и покровительство Шуваловых, Бестужева… Уверяли, что он будто тоже служил кому-то ловким соглядатаем, но ничто никогда не подтвердило этого…
Итак, Фленсбург остался в России, сделался равно любимцем и великого князя, и великой княгини и стал офицером гвардии.
Прошло из года в год десять лет. И однажды двадцативосьмилетний Фленсбург, уже капитан потешного голштинского войска, был вдруг арестован и выслан из столицы.
Оказалось, что полудетская любовь восемнадцатилетнего пажа не была бессмысленна и самонадеянна, не прошла с течением времени, при разнообразных переменах в его карьере и жизни. Это чувство в мужчине, в тонком придворном, в усердном офицере голштинского войска, только окрепло и как бы руководило всем его существованием.
Десять лет Фленсбург считался лишь преданным рабом великой княгини и великого князя и ни разу не изменил себе, ни разу не проговорился ей, что его сердце было порабощено еще принцессой Софией.
Но, наконец, однажды, в пору разных несогласий, ссор и семейных недоразумений при «малом дворе» в Ораниенбауме, голштинский капитан оказался вдруг одним из деятельных интриганов между мужем и женой… Екатерина Алексеевна открыла это случайно и пригрозилась довести до сведения самой государыни. Интриган тотчас сознался сам во всем, объяснил все безумным давнишним чувством и ревностью и, почти рыдая, упал к ногам великой княгини.
Но чувство бедного шлезвигского дворянина, прежнего пажа, понемногу вышедшего кое-как в люди, показалось великой княгине только крайне оскорбительным. Она захотела немедленно избавиться от присутствия при дворе этого безумца и доложила обо всем императрице, прося перевести Фленсбурга куда-либо, дав назначение по службе… Но императница приняла все горячо к сердцу, и Фленсбург был арестован, разжалован и сослан в Углич.
Великий князь назвал все клеветой и искренне пожалел забавного потешника своего голштинского войска.
Прошло еще много лет. Скончалась императрица, и через две недели по восшествии на престол Петр Федорович, хорошо помнивший всех своих, вернул Фленсбурга из ссылки, возвратил ему чины, подарил триста душ и назначил адъютантом-переводчиком к приехавшему дяде.
И вот при дворе нового императора снова появился капитан голштинского войска, правая рука и любимец дяди государя… и злейший, непримиримейший враг государыни. Долголетнюю страсть заменила в ссылке долголетняя ненависть.
XI
Когда Шепелев, уже часов в шесть утра, вернулся в дом принца с слесарем, вооруженным инструментами, то Державин был уже сменен и на часах стояли незнакомые ему рядовые Семеновского полка. Он велел первому попавшемуся человеку доложить о слесаре, а сам собрался домой.
Лакей вернулся и, пропустив мастерового, вскоре выскочил снова из дворца принца и догнал на площади вышедшего уже Шепелева.
– Эй, батюшка! Вас!!! Вас надо! – кричал он, догоняя. – Вы тут ночью караулили-то?
– Я. А что?..
– Пожалуйте. Вас спрашивают. Сам, значит, его высочество требует в покои.
Шепелев в изумлении глядел на лакея:
– Верно ли? Не путаешь ли ты?..
– Как можно! Сказано мне вас позвать. Да уж и по-ихнему я разуметь стал малость. Говорили по-своему про ночного часового, то есть про вас, и послали меня вас шикнуть.
Шепелев пошел за человеком. Сняв верхнее платье, он вошел в коридор, затем прошел большую залу, выходившую окнами на Неву, и, наконец, столовую, в противоположном конце которой виднелась дверь под тяжелыми драпри. Около нее стоял уже слесарь, приведенный им.
Дверь эта при звуке его шагов отворилась, и на пороге показалась та же фигура того же камердинера Михеля, виденного им в передней.
Едва Шепелев робко переступил порог и вошел в горницу, Михель указал ему почтительно по направлению к горевшему камину и выговорил по-русски, сильно присвистывая:
– Фот эфо высошество шелает с вас кофорить.
Шепелев, слегка смущаясь, быстро оглядел небольшой кабинет, заставленный всякой мебелью, столами и шкафами с книгами, с посудой и с оружием. У горевшего камина сидела в кресле и грела ноги в туфлях маленькая фигура в шелковом темном шлафроке и в черной бархатной ермолке; в углу, у окна, согнувшись и опершись локтями на колени и положив щеки на руки, сидел неподвижно несчастный ротмейстер, все в той же миске.
У дверей за спиной Шепелева, переминаясь с ноги на ногу, остановился впущенный слесарь.
Шепелев был сильно озадачен и смущен, не зная, что будет, и вытянулся, ожидая, что скажет принц.
Принц оглядел его и быстро вымолвил по-немецки:
– Вы из дворян, как сказал мне Фленсбург, и говорите хорошо по-немецки?
Шепелев смутился еще более и, заикаясь, вымолвил с отвратительным немецким выговором:
– Их? Зер вених, ире кайзерлихе…[7]
И молодой человек вдруг смолк, не зная, как по-немецки «высочество». «„Маэстет” нельзя сказать», – подумал он про себя.
– Вы, однако, разговаривали с моим адъютантом и с господином ротмейстером, когда он приехал, – заметил принц, опуская на решетку камина поднятую к огню правую ногу и приводя левую в то же положение, подошвой к теплу.
– Это не тот, – глухо отозвался ротмейстер, обращаясь к принцу.
Шепелев понял слова голштинца и хотел сказать тоже: «Это был не я», но пролепетал едва слышно:
– Дас вар нихт михт!
Последнее слово явилось уже от большого смущения.
– Iesus![8] – тихо выговорил себе под нос принц; и он повторил, глядя в огонь и будто соображая: – «Нихт михт!!»
Затем он повернул голову к ротмейстеру и сказал еще громче:
– Ну, mein lieber[9] Котцау, лучше подождать возвращения Фленсбурга; с переводчиком, говорящим «нихт михт», мы ничего не сделаем.
Ротмейстер промычал что-то в ответ не двигаясь и только вздохнул.
Шепелев между тем избавился от первого смущения и, услыхав слова принца, понял, что его позвали для какого-то поручения. Он заговорил смелее, но стараясь выговаривать как можно почтительнее:
– Вас вольт ире кайзерлихе… – И, пробурчав что-то, он снова запнулся на конце этой фразы и снова подумал: «Экая обида! И как это высочество-то по-ихнему?!»
– Hoheit! – сзади шепнул ему догадавшийся Михель.
– Что-с? – отозвался Шепелев.
– Hoheit… – повторил Михель вразумительно.
– Heute? – повторил молодой человек. – Да-с. Конечно. Я с удовольствием… Сегодня же… Только что сделать-то?
Немец скорчил жалкую гримасу, как если б ему на ногу наступили, и отошел от юноши со вздохом, а принц стал объяснять по-немецки медленно и мерно, что ему нужен переводчик при работе «вот этого болвана» – показал он на одутловатую и пучеглазую рожу слесаря, глядевшего на принца, на все и на всех как бы с перепугу. Он стоял у дверей как деревянный, и только глаза его двигались дико с губ одного говорившего на губы другого.
– Мошет ви все такое с немески на руски… – снова нетерпеливо вмешался Михель, обращаясь к Шепелеву, но тоже запнулся тотчас и прибавил как бы себе самому: – Ubersetzen[10].
– Их? Зер вених![11] – отвечал Шепелев, поймав, по счастию, знакомое немецкое слово. – Да что, собственно, желательно его высочеству? – прибавил он Михелю по-русски.
– Фот это… Так!.. – показал Михель на Котцау и затем стал двигать рукой по воздуху…
– Распилить кастрюлечку? – спросил Шепелев, стараясь выражаться как можно почтительнее.
– Was?![12] – отозвался Михель, не поняв.
– Распилить, говорю, надо. – И Шепелев тоже задвигал рукой по воздуху.
Принц согласился, сказал «ja, ja!»[13] и потом еще что-то вразумительно и медленно, но Шепелев разобрал только одно слово: etwas[14].
Наступило минутное молчание.
– Was etwas? – уже робея, прошептал Шепелев, чувствуя, что вопрос невежлив.
– О Herr Gott?[15] – воскликнул принц и обеими руками шлепнул себе по коленям.
– Ти… Мошно… это… так! – вступил уж Михель в непосредственные сношения с самим мастеровым, делая по воздуху тот же жест пиления.
– Распилить? – хрипло заговорил слесарь. – Отчего же-с. Позвольте… Это мы можем.
И слесарь двинулся смело к Котцау.
– Ты голову не повредишь им? – вступился Шепелев.
– Зачем голову повреждать! Помилуйте. Разве что подпилком как зацепит; а то зачем…
– То-то подпилком зацепит!
– Коли чугун плотно сидит, то, знамо дело, запилишь по голове… А то зачем…
Слесарь двинулся к ротмейстеру и прибавил:
– Позвольте-ко, ваше…
И слесарь заикнулся, не зная, как надо величать барина, что приходится пилить.
Котцау поднял голову и мрачно, но терпеливо глянул на всех.
Слесарь оглядел миску и голову со всех сторон и пробурчал:
– Ишь ведь как вздета. Диковина…
И он вдруг начал пробовать просто снять ее руками.
Котцау рассердился, отдернул голову и заговорил что-то по-своему.
– Так нельзя! Дурак! – шепнул Шепелев.
– Диковина!.. Вот что, ваше благородие!.. – воскликнул вдруг слесарь, как будто придумав что-то.
– Ну? Ну?.. Was? – раздались два голоса – Шепелева и Михеля.
– Надо пилить. Эдак руками не сымешь.
– Без тебя, болван, знают, что не сымешь! – шепотом, но злобно вымолвил Шепелев. – Так пили!
Слесарь взял с пола большой подпилок правой рукой, как-то откашлянул и повел плечами, но едва он ухватил миску за край левой рукой и наставил подпилок, как принц и Михель воспротивились. Им вдруг показалось, да и Шепелеву тоже показалось, что этот слесарь в два маха распилит пополам и миску, и самого ротмейстера.
– Ну… ну… – воскликнул принц по-русски и прибавил по-немецки: – Михель! Не надо. Подождем Фленбурга. Без него всегда все глупо выходит.
– Да-с, лучше подождать, – сказал Михель.
И принц уже недовольным голосом заговорил что-то, обращаясь к Котцау, затем прибавил Михелю, мотнул головой к дверям:
– К черту все это… zum Teufel! Уведи их… и подавай нам кофе.
И, повернув совсем голову к Шепелеву, принц сделал рукой и вымолвил добродушно, но насмешливо:
– Lebe wohl, Herr Nicht-micht[16]. Прозштайт. Шпазибо!..
Шепелев, выходя, снова бросил украдкой взгляд в угол, где светилась серебряная миска, и внутренне усмехнулся, но уже как-то иначе.
Случилось нечто труднообъяснимое.
Когда молодой человек входил к принцу, он был смущен, но вносил с собой хорошее чувство почтения и готовности услужить его высочеству. Теперь же – странное дело, идя за Михелем по коридору и сопровождаемый слесарем, он досадливо думал про себя: «Всех бы вас так нарядить!!»
– Ваше благородие, – послышался за его спиной веселый шепот. – Должно, это он не сам ее вздел? Ась? Кабы сам то ись, то бы и сымать тоже умел!
– А! Ну, тебя… – злобно отозвался молодой человек, срывая досаду на мастеровом.
Шепелев, выйдя от принца, зашагал через безлюдную Адмиралтейскую площадь, сумрачный и озлобленный, и направился домой к ротной казарме Преображенского полка, близ которой была квартира Квасова.
Чем именно оскорбили его у принца Жоржа, он объяснить себе не мог. Ни принц, ни Михель ничего обидного ему не сказали и не сделали. Его позвали быть переводчиком по ошибке, по тому, вероятно, соображению, что Державин хорошо говорил с Котцау по-немецки.
Он отвечал смущаясь и переврал несколько слов незнакомого ему почти языка, принц только усмехнулся, только с едва заметным оттенком пренебрежения тихо повторил несколько раз эти слова и потом добродушно назвал его, прощаясь, герром Нихт-михтом.
– Ну, что ж такое! – бурчал Шепелев. – Ну, так и сказал! А ты нешто не сказал: «Прозштайт»? Что?! Разве мне присяга велит знать все языки земные и твой – немецкий хриплюн!! Вот тебе бы, Жоржу, следовало за наш русский хлеб знать и нашу грамоту.
XII
Через часа два после ухода Шепелева к дворцу принца подъехал Фленсбург и, поспешно поднявшись по лестнице, быстро прошел в кабинет. Он нашел принца и ротмейстера за завтраком. Котцау немного повеселел, привык, должно быть, и, с увлечением что-то рассказывая, часто поминал кенига Фридриха, Пруссию и Берлин.
– А?.. – воскликнул принц при появлении адъютанта. – Was giebt es Neues, mein liebster?[17]
Разговор продолжался по-немецки.
– Я был прав, Hoheit[18], я навел справки, и оказывается, что это все тот же цалмейстер Орлов. Он с братом заехал с охоты и встретил господина Котцау в «Красном кабачке».
– Schцn! Wunderbar![19] Отлично. Очень рад. Очень рад. Вот и случай… – весело воскликнул принц, потирая руки; и, встав, он начал бодро ходить по горнице.
Котцау с удивлением взглянул на принца. Радость эта ему, очевидно, не нравилась. Ему было не легче от того обстоятельства, что Орлов, а не кто-либо другой нарядил его так.
– Что же изволите мне приказать, Hoheit?
– Ничего, мой любезный Фленсбург. Ничего. Я дождусь десяти часов. Теперь восьмой. И поеду к государю. А в полдень господин Котцау будет бригадиром, ради удовлетворения за обиду. А господа Орловы поедут далеко, очень далеко… За это я ручаюсь, потому что я еще недавно подробно докладывал об них государю. И не раз даже докладывал. Пора! Пора!
– Но теперь, Hoheit, разве вы не прикажете мне обоих сейчас арестовать? – спросил холодно Фленсбург.
Принц остановился, перестал улыбаться, как-то заботливо подобрал тонкие губы и, наконец, повел плечами.
– Я полагаю, что ваше высочество как прямой начальник всей гвардии можете сами, без доклада государю, распорядиться арестом двух простых офицеров, которые буянят всю зиму и безобразно оскорбили господина Котцау, иностранца, вновь прибывшего в Россию, фехтмейстера, который пользуется, наконец, личным расположением короля.
– Да, да… Конечно… – нерешительно заговорил принц. – Я доложу его величеству. Я все это доложу, Генрих. Именно как вы говорите.
Принц называл любимца его именем только в минуты ласки.
Фленсбург повернулся, отошел к окну и молча, но нетерпеливо стал барабанить по стеклу пальцами. Толстогубый Котцау вопросительно выглядывал из-под миски на обоих. Он раздумывал о том, что этот адъютант Фленсбург более нежели правая рука принца.
Наступило молчание.
Принц Жорж, пройдясь по комнате, заговорил первый:
– Как ваше мнение, Фленсбург? Скажите. Вы знаете, я очень, очень ценю ваше мнение. Вы лучше меня знаете здесь все. – Принц налег на последние слова.
– Ваше высочество хорошо сделаете, – холодно заговорил тот, обернувшись и подходя к принцу, – если прикажете мне вашей властию и вашим именем тотчас арестовать двух буянов. А затем, ваше высочество, хорошо сделаете, если свезете господина Котцау в этом виде к государю.
– Как? – воскликнул принц.
– О-о? – протянул и Котцау, которому показалось это предложение бог знает какой глупостью.
– Да, в этом виде. Тогда все обойдется отлично. А иначе ничего не будет. Ни-че-го!! – сказал Фленсбург.
– Почему же?
– Ах, ваше высочество, точно вы не знаете!!
Принц подумал, вздохнул и выговорил:
– А если они вам не будут повиноваться?
– Только этого бы и недоставало, – громко и желчно рассмеялся Фленсбург. – Да, скоро мы и этого дождемся. Нынче меня ослушаются, а завтра и вас самого, а послезавтра и…
– Ну, ступайте, – слегка вспыхнув, вымолвил принц. – Арестуйте и приезжайте… сказать… как все было.
Фленсбург быстро вышел, будто боясь, чтобы принц не переменил решения. Встретив в передней Михеля, он стал ему скоро, но подробно приказывать и объяснять все касающееся предполагаемой поездки принца во дворец вместе с Котцау. Затем он с сияющим лицом направился в свою комнату.
Во всем Петербурге не было для голштинца офицеров более ненавистных, чем братья Орловы, и в особенности старший. Была, конечно, тайная причина, которая заставляла Фленсбурга, сосланного когда-то по жалобе теперешней государыни, ненавидеть этого красавца и молодца, который кружил головы всем столичным красавицам и которому, наконец, стала покровительствовать и сама государыня.
Выслать из Петербурга безвозвратно и угнать куда-либо в глушь этого Орлова было мечтой Фленсбурга уже с месяц.
Сначала он выискивал другие средства, думал найти случай умышленно повздорить с Григорием Орловым и просить у принца заступничества, высылки врага. Но это оказалось опасным вследствие хорошо известной всему городу невероятной физической силы Орловых. Один из приятелей голштинцев предупредил его, что Орлов способен будет убить его просто кулаком, и все объяснится и оправдается несчастным случаем. А Фленсбург уже давно сжился с нравами страны, его приютившей, и знал сам, что на Руси всякий, убивший человека не орудием, а собственным кулаком, не считался убийцей.
«Так потрафилось! Воля Божья!» – объяснял дело обычай. И закон молчал.
Теперь Фленсбург был, конечно, в восторге от дерзкой шалости Орлова с вновь прибывшим фехтмейстером. Его мечта сбылась!.. Дело ладилось само собой.
Но не успел Фленсбург, придя к себе, одеться в полную форму, чтобы отправиться для ареста врага, как тот же Михель явился звать его к принцу.
– Раздумал! Побоялся. Не может быть! – воскликнул офицер.
Михель молча пожал плечами.
– Неужели раздумал?!
– Говорит – нужен указ государя… А впрочем, не знаю. Может быть, и за другим чем вас нужно.
Действительно, принц нетерпеливо ожидал адъютанта и любимца у себя в кабинете и виноватым, заискивающим голосом объяснил ему, что, по его мнению, надо подождать с арестом Орловых. Фленсбург весь вспыхнул от досады и тотчас же, не дожидаясь позволения, вышел быстро из кабинета. Гнев душил его.
В коридоре за офицером бросился кто-то, и чей-то голос тихо, робко повторил несколько раз вдогонку:
– Ваше благородие! А, ваше благородие!
Офицер не обращал внимания и шел к себе. Уже у самых дверей комнаты он, наконец, почувствовал, что кто-то схватил его тихонько за рукав кафтана.
– Ваше благородие! – раздался тот же жалостливый голос.
Фленсбург нетерпеливо обернулся.
– Чего там?
– Ваше благородие, окажите Божескую милость. Ослобоните…
– Чего?
– Ослобоните… Наше дело такое. За утро что делов упустишь. Работник у меня дома один. Одному не управиться. А здесь токмо сборы все одни.
– Да чего тебе надо? – вне себя крикнул Фленсбург.
– Будьте милостивы, ослобоните. А самая работа совсем нам не подходящая. И головку повредить тоже можно. А вы дозвольте, я вашему благородию вашеского укажу… Немца Мыльнера. Тут на Морской живет. Мыльнер этот единым то ись мигом распилит. Мастер на эвто! Ей-богу. А нам где же? И головку тоже – помилуй бог.
– Ты слесарь, что часовой привел ночью?
– Точно так-с.
– Так пошел к черту. Так бы и говорил. Не нужно тебя. Убирайся ко всем дьяволам!
И Фленсбург, пунцовый, злобный, вошел к себе и заперся со злости на ключ.
Слесарь же, собрав свой инструмент с ларя в полу тулупа, прытко шмыгнул из дворца и бегом пустился по улице.
Добежав до угла набережной Невы, он вдруг наткнулся на кума.
– Эвося, Вахромей. Откуда? – воскликнул слесарь и стал живо и весело рассказывать все виденное за утро. – А чуден народ. Ей-богу. Я вблизь-то к ним не лазал, – закончил он рассказ. – А как вздета, куманек! Ахтительно! Первый сорт вздета!
Кум Вахромей все слушал и молчал да все мотал головой.
– Да и не сам, значит… Кабы сам вздел, так за мной бы пилить не послали тады! – объяснил заключительно слесарь.
– Д-да! – заговорил наконец Вахромей. – А я так полагаю, что сам. Что мудреного? Ведь немцы. Надеть-то – надел, ради озорства, а снять-то и не может. Д-да! И опять тоже… На-а-ро-дец?! Нет, наш брат православный коли бы уж вздел, так и снял бы сам. Да! А этот, вишь, колено-то показывать взялся, да и недоделал.
– Сплоховал, значит… – рассмеялся слесарь.
– Сплоховал. Сплоховал! – жалостливым голосом шутил Вахромей.
– В другой раз уж показывать не станет.
– Ни-ни… Озолоти – не станет! Ученый теперь…
XIII
Бывший сдаточный солдат за «буянские» речи, а ныне капитан-поручик Аким Квасов стал за двадцать лет службы офицером в лейб-кампании поумнее и поважнее многих родовитых гвардейцев. Сверх того десять лет службы простым солдатом при Анне Иоанновне и Бироне тоже не пропали даром и научили многому от природы умного парня.
Около тридцати лет тому назад бойкий и речистый малый Акимка, или Акишка, позволил себе болтать на селе, что в господском состоянии и в крестьянском все те же люди рождаются на свет. Акишка ссылался на то, что, таская воду по наряду в барскую баню, видел ненароком в щелку и барина и барыню – как их мать родила. Все то же тело человечье! Только будто малость побелее да поглаже, особливо у барыньки.
А через месяца два парень Аким, собиравшийся было жениться, был за эти «буянские» речи уже рядовым в Пандурском полку. Артикулу он обучился быстро, но язык за зубами держать не выучился! Однако смелая речь, однажды его погубившая, во второй раз вывезла. Ответил он умно молодому царю Петру II и был переведен в преображенцы. При Анне Иоанновне попал он и в Питер… В конце царствования ее снова за «воровскую» речь попал, по доносу «языка», в допрос и в дыбки, однако был прощен и вернулся в полк – ученым! И стал уже держать свой ретивый язык за зубами.
Но этот случай сделал его заклятым врагом немцев и приготовил усердного слугу «дщери Петровой» в ночь переворота. А за долгое царствование ее офицер лейб-кампании Квасов поедом ел немцев. Тотчас по воцарении Петра Федоровича лейб-кампания была уничтожена, офицеры расписаны в другие полки, и при этом капитан-поручика Квасова, как одного из лучших служак, лично известного государю, когда еще он был великим князем, перевели тотчас в любимый государев полк – кирасирский.
Квасов поездил с неделю верхом и слег в постель… Затем подал просьбу, где изъяснялся так: «Каласером быть не могу, ибо всю кожу снутря себе ободрал на коне. Посему бью челом, кому след, или по новой вольности дворянской дайте абшид, или дозвольте служить на своих двух ногах, кои сызмальства мне очень хорошо известны и никогда меня обземь неприличным офицерскому званию образом не сшибали, и на оных двух ногах я вернее услужу государю и отечеству, чем на четырех, да чужих ногах, в кои я веры ни самомалейшей не имею. И как еду я на оных-то, непрестанно в чаянии того обретаюсь – быть мне вот на полу».
Вследствие этой просьбы, над которой государь немало потешался, Квасов был переведен в преображенцы. И каждый раз теперь, что государь видал его на смотрах и ученьях, то спрашивал шутя:
– Ну что, теперь не чаешь быть на полу?
– Зачем, ваше величество? Моя пара своих природных сивок пятьдесят лет служит, да еще не кормя! – отвечал однажды Квасов довольно развязно.
– Как не кормя? Сам же ты ешь? – рассмеялся Петр.
– Так я ем не для ног. А коли они чем и пользуются – так бог с ними! – шутил Квасов.
Теперь в пехотном строю Квасов избегал всячески попасть на лошадь. Зато был он и ходок первой руки, и ему случалось ходить в Тосну пешком, где жила одна его приятельница, простая баба.
Аким Акимыч Квасов был известен не одному государю, а чуть не всей столице отчасти своей грубоватой прямотой речи, переходившей иногда чрез границы приличий, а отчасти и своим диковинным нравом.
О себе Квасов с самых дней переворота был уже высокого мнения, но не потому, что попал из сдаточных в дворяне. Насчет дворянства у Акима Акимыча так и осталось убеждение, вынесенное из барской бани.
– Вот и я важная птица ныне, – говорил он. – А нешто я вылинял, перо-то все то же, что у Акишки на селе было, когда сдали! – И Аким Акимыч прибавлял шутя: – Мне сказывал один книжный человек, когда я был походом под Новгородом, что Адам с Евой не были столбовыми дворянами, а оное так же, как вот и мною, службой приобретено было уже Ноем. Сей Ной именовался патриархом, что значило в те поры не то, что в наши времена, а значило оно вельможа иль сановитый муж. Ну-с, а холопы иль хамы пошли, стало быть, от Ноева сына Хама. Так ли-с?
– Так. Истинно! – должен был отвечать собеседник.
– Ну-с, а позвольте же теперь вам напомнить, что так как сей вышереченный Хам был по отцу благородного происхождения, то почему детям его в сем благородстве отказано? Ведь Хамовы-то дети те же внуки и правнуки вельможи. Вот и развяжите это!
К этому Квасов в минуты откровенности прибавлял:
– Эка невидаль, что в баре я попал. Мне за оное гренадерское действо князем мало быть! Ведь я головой-то был, а мои товарищи хвостом были.
Действительно, когда царевна Елизавета Петровна приехала и вошла в казармы в сопровождении Лестока и сказала несколько известных в истории слов, то бывший за капрала Аким Квасов первый шагнул вперед и молвил:
– Куда изволишь, родная, туда за тебя и пойдем, чего тут калякать да время терять. Эй, ребята! Ну! Чего глаза выпучили? Разбирай ружья… Ну-тко куда, родимая, прикажешь идти?..
Выслушав объяснения и приказания Лестока, которого, конечно, не раз видал Квасов и прежде, дельный и удалый воин, неизвестно как, почти самовольно, принял начальство над полсотней товарищей и первый шагнул из казарм, весело приговаривая:
– А ну-кася, братцы. Посмотрим, немцу калачика загнуть – что будет?..
– Будет заутрова по ведру на брата! – бодро и весело воскликнул в ответ один гренадер.
Квасов был тоже один из первых, вошедших во дворец правительницы… вслед за Елизаветой. Действуя в эту незапамятную ночь, Квасов почти не помышлял о важности своей роли и своих действий. Только после, много времени спустя, когда он уже был дворянин и офицер лейб-кампании, он отчасти уразумел значение своего подвига двадцать пятого ноября. Выучившись самоучкой читать и писать, он постепенно заметно развился, бросил прежнюю страсть к вину и стал ничем не хуже старых столбовых дворян. В это время, то есть лет десять спустя после переворота 1741 года, кто-то, конечно недобрый человек, разъяснил ему, что его заслуги недостаточно вознаграждены государыней. Квасов поверил и стал немного сумрачен. В это же время, будто срывая досаду, приобрел он привычку выговаривать всем то, что думал, все, что было у него на уме насчет каждого. Скоро к этому привыкли и только избегали попасть к Квасову на отповедь. Скрытое и никому не ведомое чувство часто говорило в Квасове: «Ты правительницу-то, тетку Лепольдовну, из дворца тащил и царевне престол, выходит, доставил. Коли Квасов не граф Квасов – так потому, что не озорник, не лез в глаза, да и хохлы Разумовские затеснили».
Действительно, у честного и доброго Акима Акимыча был конек, или, как говорилось, захлестка в голове. Он был глубоко убежден, что государыня Елизавета Петровна его особенно заметила во время действа и своего восшествия на престол и хотела сделать его генералом и сенатором, приблизить к себе не хуже Алексея Разумовского, но враги всячески оболгали его и затерли, чтобы скрыть и оттеснить от государыни.
Теперь холостяку было за пятьдесят лет. Как человек, он был добр, мягок, сердечен, но все это пряталось за грубоватостью его. Будучи уже дворянином, Квасов выписал к себе с родины брата, определил в полк, вывел тоже в офицеры и женил. Но вскоре брат этот умер. Как офицер и начальник, Аким Акимыч был «наш леший». Так прозвали его солдаты гренадерской роты.
– Солдат – мужик, а мужик – свинья, стало быть, и солдат-свинья! – рассуждал Квасов, дойдя до этого собственным размышлением. – Из ихнего брата надо все страхом доставать или выколачивать. Молитву Господу Богу и ту из него дьяволов страх вытягивает. Кабы Сатаны на свете не было, народ бы Богу не молился. Да и на свете известно, все от битья начало свое имеет. И хлеб бьют! А привези его с поля да не бей! Голодом насидишься. И опять в истории доказано, что и первый человек Адам был бит. Когда он согрешил, то ангел Господень явился к нему, захватимши с собой меч огневидный, и погнал его с Евой вон. И надо полагать, что путем-дорогою он их важно пробрал. А то чего ж было и меч оный с собой брать.
А между тем у этого «нашего лешего» было золотое сердце, которое он сдерживал, как неприличный, по его мнению, атрибут солдата, и только изредка оно заявляло себя. Родственника своего единственного в мире, юношу Шепелева, Квасов полюбил сразу и начал уже обожать.
XIV
Когда Шепелев вошел в свою горницу, то услыхал рядом кашель проснувшегося и уже вставшего дяди. В щель его двери проникал свет.
Через минуту Аким Акимыч вышел из своей горницы в коротком нагольном полушубке и в высоких сапогах. Он всегда спал одетый, а белье менял только по субботам, после бани. Спал же всегда на деревянной лавке, подложив под голову что придется. Он объяснял это так:
– На перинах бока распаришь, а вечерними раздеваньями только тело зазнобишь и простудишься. После пуховой перины везде будет жестко, а после моей перины (то есть дубовой скамьи его), где не ляг, везде мягко. А на ночь раздеваться – это не по-русски. Это немцы выдумали. В старые годы никто этого баловства не производил, хоть бы и из дворянского происхождения.
Войдя со свечой к юноше, названому племяннику, которого он из любви считал долгом учить уму-разуму и остерегать от мирских искушений, Аким Акимыч поставил свечу на подоконник и стал в дверях, растопыря ноги и засунув руки в карманы тулупчика. Он пристально уперся своими маленькими, серыми, но ястребиными глазками в глаза молодого питомца. Шепелев, сидя на кровати, снимал холодные и мокрые сапоги. Сон одолевал его, и он не решался начать тотчас же рассказывать дяде все свое ночное приключение, а мысленно отложить до утра. Постояв с минуту, Квасов вынул из кармана тавлинку с табаком и высоко поднял ее в воздухе, осторожно придерживая между двумя пальцами.
– Сколько их? – мыкнул он важно, но шутя.
Шепелев, начавший раздеваться, чтоб лечь спать, остановился и рот разинул:
– Что вы, дядюшка?
– Сколько тавлинок в руке? Ась-ко!
– Одна. А что?..
– А ну прочти Отче наш с присчетом.
– Что вы, дядюшка!.. Помилуйте… – заговорил Шепелев, поняв уже, в чем дело…
– Ну, ну, читай. Я тебе дядя! Читай.
Шепелева одолевал сон, однако он начал:
– Отче наш – раз, иже еси – два, на небеси – три, да святится – четыре, имя Твое… Имя Твое… – Молодой малый невольно зевнул сладко и, спутавшись, прибавил не сразу: – Шесть…
– А-а, брат. Шесть?! А-а!!
– Пять, пять, дядюшка. Да ей-богу же, вы напрасно…
– Не ври! – вымолвил Аким Акимыч и, приблизясь, прибавил: – Дохни.
– Полноте, дядюшка. Да где же мне было и пить? Я на карауле был. Я вам завтра все поведаю.
– Дохни! Караул ты эдакий! Дохни. Я тебе дядя.
Шепелев дохнул.
– Нету!.. Где же ты пропадал до седьмого часу? Караул сменили небось в четыре. Неужто ж с чертовкой с какой запутался уж… Говорил я тебе, в Питере берегися…
– У принца Жоржа в кабинете был. Батюшки! Мороз! – отчаянно возопил Шепелев, ложась в холодную постель. – Да-с, в кабинете! И разговаривал с ним. Б-р-р-р… Да как свежо здесь. Что это вы, дядюшка, казенных-то дров жалеете? Б-р-р-ры.
– У принца Жоржа? Что ты, белены, что ли, выпил иль пивом немецким тебя опоили? У принца Жоржа!
– Да-с.
– Ты! – крикнул Аким Акимыч.
– Я-с! – крикнул шутя Шепелев из-под одеяла.
– Когда?
– А вот сейчас.
– Ночью?
– Ночью!
Наступило молчание. Квасов стоял выпуча глаза и, наконец, не моргнув даже, взял с окна стоявший рукомойник и поднес его к лицу укутавшегося молодого человека.
– Воды не боишься?
– Нет, не боюсь, – рассмеялся Шепелев.
– И не кусаешься?
– Нет.
– Почему? Как? Пожар, что ли, у него был?
– Нету.
– Ну, убили кого? Иль ты сам ему под карету попал? Он ведь полуночник. Гоняет, когда добрые люди спят.
– Нет, ничего такого не было.
– По-каковски же ты говорил с принцем? – уже с любопытством вымолвил Квасов, поставя на место рукомойник.
– По-каковски? Вестимо, по-немецки! – отчасти важно сказал молодой человек.
– По-немец… По-немецки!! Ты?
– Разумеется. Он же по-нашему ни аза в глаза не знает. Так как же…
Квасов вытянул указательный палец и, лизнув языком кончик его, молча поднес этот палец к самому носу племянника, торчавшему из подушки.
– Ну, ей-богу, дядюшка, по-немецки говорил. Немного, правда… но говорил… Ей-богу.
– Вишь, прыткий. Скажи на милость! – рассуждал Квасов сам с собой и вдруг прибавил: – Да Жорж-то понял ли тебя?
– Понял, конечно.
– А ну, коли ты врешь? – снова стал сомневаться Квасов.
– Ей-богу. Ну как мне вам еще божиться?
– Стало быть, складно говорил? Хорошо? Не то чтобы ахинею какую?..
– Еще бы! Известно, складно, коли понял! – воскликнул Шепелев.
«А нихт-михт?!» – будто шепнул кто-то малому на ухо.
– Только раз и соврал, – сейчас же признался он, – вместо мих сказал михт.
– Ну это пустое! – важно заметил Квасов и прибавил: – А по-ихнему что такое михт-то?
– Михт – ничего.
– Ан вот и врешь! – обрадовался Квасов и ударил в ладоши. – Ничего по-ихнему нихт! Вот я больше твоего, выходит, знаю.
– Да вы не поняли, дядюшка. Михт не значит ничего, а нихт значит ничего.
– Чего? Чего? Не разберу…
Шепелев повторил. Квасов снова понял по-своему.
– Так михт – совсем ничего, стало быть…
– Совсем ничего…
– Эка дурацкий-то язык! Господи! Стало быть, на приклад, если у немца ничего нет, он говорит: нихт. А если у него, у дурака, совсем ничего нет, так он говорит: михт. Тьфу, дурни!..
– Ах, дядюшка!.. Да вы опять не то! Михт – такого и слова нет по-немецки.
– Зачем же ты его говорил?..
– Да так…
– Как? Так! Соврал, стало быть?
– Соврал.
– Ну вот я и говорил, что ты путал…
– Надо было сказать: мих.
– Д-да. Вот что! Надо-то мих… Так, так… Ну это не важность. Мих, михт – это все одно. Об чем же вы говорили? Рассказывай.
И Аким Акимыч, со свистом понюхав табачку из березовой тавлинки, присел на кровать к племяннику.
Шепелев, зевая и ежась от холода, вкратце рассказал все виденное и слышанное по случаю приезда голштинского офицера в серебряной миске.
– Так! Так! – задумчиво заключил рассказ Квасов. – Которому-нибудь из двоих да плохо будет.
– Кому?
– Одному из двух озорников! – важно проговорил Квасов. – Либо Ваське Шванвичу, либо Гришке Орлову.
– Почему ж, дядюшка, вы на них думаете?
– Ты, Митрий, ничего не смыслишь! – сказал Аким Акимыч нежнее. – Миска-то Шванвича либо господ Орловых! Порося ты!.. – Слово «порося» было самое ласкательное на языке Квасова.
Так звал он покойницу жену брата, которую очень любил; так же звал одну крестницу, жившую теперь замужем в Чернигове; и так стал звать названого племянника, уже когда полюбил его.
– Ты, порося, смекай! Откуда приехал голштинец? С арамбовской дороги с рейтарами. А наш Алеха туда на охоту вчера поехал с братом.
– Да. Надо полагать, из Арамбова он прямо.
– Кастрюлечка или миска-то кухонная или какая?..
– Да. То ись я не знаю, она не простая! Она серебряная!
– Серебряная! – воскликнул Квасов. – Се-ре-бря-ная!! Не кухонная кастрюля?
– Нет, дорогая… французская, должно быть. Хорошая! Только уж погажена.
– Сдавлена на голове как следует, зер гут.
– Да, зер гут! – рассмеялся Шепелев. – Даже лапочки эдакие под скулами загнуты, будто подвязушки.
– Ну, господа Орловы! Более некому. Либо наш преображенец Алехан, либо тот цалмейстер Григорья. Верно! Оно точно, что Шванвич Васька тоже эдако колено отмочить может, даже, пожалуй, всю кастрюльку эту в трубку тебе совьет двумя ладошками; но у него, братец, из серебра… – Квасов присвистнул, – не токмо кастрюль, а и рублев давно в заводе нет. Да! А господа Орловы, особливо Григорья, любят эти разные безделухи заморские. Ну как бы из этого колена не вышло чего совсем слезного… Государь голштинца в обиду не даст. Шалишь!
– Неужто сошлют?
– Верно говорю тебе. Ну, спи скорее… Через два часа ротная экзерциция на дворе…
– Я не встану. Где же мне встать. Что вы?
– Врешь, встанешь…
– Я уморился, дядюшка.
– Ничего, встанешь. Я тебе дядя!
Аким Акимыч пошел к себе в горницу и бормотал:
– Ну, голштинец даром с рук не сойдет! За битого двух небитых дают, стало, за побитого немца двух Орловых и отдадут. Да и того мало еще… То не при Лизавет Петровне, – со святыми ее упокой, Господи! – перекрестился Квасов. – Немец ныне вздорожал паки и гораздо…
Квасов задумался среди своей горницы. Снова понюхав с богатырским шипеньем табаку из тавлинки, он поморгал глазами от наслаждения и взял было новую щепоть, но остановился и скосил пристальный взгляд куда-то под шкаф, будто вдруг нашел там что-то… Ему внезапно пришло нечаянное соображение и поразило его.
– И диковинное у нас дело – немец этот! – пробурчал завзятый и умный лейб-кампанец. – Совсем ина-ко, чем вот на ярмарке или базаре бывает. Подвоз велик, а в цене не падает! Д-да! Поди-ко вот развяжи это!..
XV
Часу в девятом Квасов все-таки разбудил своего названого племянника. Шепелев, зевая, мысленно ругаясь и посылая дядю к черту, натянул длинные форменные сапоги, напялил мундир свой из толстого синего сукна с красным подбоем на отвороченных фалдах и пошел на ротный двор, где собиралась его рота на ученье.
Вскоре прибыл их майор Воейков и вместе с Квасовым разделил рядовых на кучки, и каждая со своим флигельманом занялась воинской экзерцицией, маршировкой и новыми приемами с ружьем и со шпагой, которые введены были с месяц назад по примеру голштинского потешного войска.
Шепелев встретил в одной из шеренг уже знакомое ему теперь лицо одного рядового, который весело кивнул ему головой и усмехнулся дружелюбно. Это был вчерашний ночной приятель – Державин.
Ученье, благодаря сильному морозу и тому, что майор Воейков был чем-то озабочен и не в духе, продолжалось очень недолго.
Шепелев, как только мог, скорее отделался от экзерциции ружьем и своего флигельмана-учителя. Ему хотелось поскорее повидаться со своим ночным товарищем по караулу и передать ему все, что с ним у принца случилось после его ухода. Но молодого рядового уже не оказалось на плаце.
Разыскать Державина в лабиринте казармы, похожей на какой-то вертеп, переполненный людом, солдатами, бабами и ребятишками, было дело нелегкое. Молодой человек около получаса расспрашивал, где живет рядовой Державин. Вдобавок никто не знал фамилии вновь прибывшего в полк рядового. А имя и отчество дворянина-солдата Шепелев сам не знал. Пришлось давать приметы разыскиваемого товарища.
Наконец одна толстая женщина, мывшая в корыте тряпье, отозвалась сама, услыхав расспросы Шепелева.
– Это наш барчонок… Гаврила Романыч звать? – спросила она фальцетом. – Его, кажись, эдак, Державиным зовут.
– Да, Державин. Недавно приехал из Казани.
– Ну, вот! Я тебя провожу, родной мой.
И толстейшая баба с тонким детским голоском провела Шепелева через весь коридор и ввела по грязной и мокрой лестнице со скрипевшими и провалившимися ступеньками. В темных сенях она показала ему на большую круглую щель, из которой падал ясный, белый луч света и серебряным пятном упирался в пол.
– Вот, родненький мой, туточка и Гаврил твой Романыч. Тута первый семейник нашего унтера Волкова, где и твой Романыч кортомит…
И баба, пропустив Шепелева вперед, стала спускаться, спеша к своему делу.
Шепелев хотел отворить дверь, но не находил, шаря рукой в темноте, ни крючка, ни щеколды, ни чего-либо, за что мог бы ухватиться.
Он постучал и стал ждать. Никто не шел, он хотел опять стукнуть, но услыхал вдруг, хотя вдалеке от двери, голос Державина, который кричал нетерпеливо:
– Ну, потом, потом!!
Кто-то, очевидно женщина, отвечала что-то неслышное за запертой дверью.
Затем снова раздался громкий, убедительный голос Державина:
– Да я-то почему же знаю, голубушка! Ну, сама ты посуди. Я-то почему знать могу?.. Глупая же ты баба! Право.
Шепелев начал опять стучать в дверь, но, прислушавшись, не идет ли кто отворять, услыхал только снова голос Державина, кричавшего уже нетерпеливо и сердито:
– А и я! А и ты! А и мы! А и он!.. Нешто человек так говорит, это птица так кричит… Птица, птица, а не человек!..
Шепелев стал стучать кулаком.
– Тяни пальцем-то… За дыру-то потяни, – раздался чей-то басистый голос из-за двери.
Шепелев просунул палец в замасленные жирные края дыры и, потянув, легко отворил дверь.
Перед ним был снова небольшой коридор и перегородки. Здесь было, однако, немного чище.
– Где тут комната Гаврилы Романыча? – спросил Шепелев, увидя через первую же отворенную дверь лежащего на кровати унтера.
– Сюда, сюда… – раздался голос Державина из-за другой перегородки.
И молодой человек вышел к гостю в коротеньком нагольном тулупчике. За ухом его торчало большое гусиное перо.
– Здравствуйте. Спасибо вам, что пришли, пожалуйте! – И он ввел Шепелева к себе. – Как вы пролезли в мою щель, в мою камору, или, вернее выразиться, в эту Гоморру?
– Меня проводила баба. А то и вовек бы не добрался…
В маленькой горнице Державина, на малом саженном пространстве, между двух перегородок, стояла кровать, покрытая пестрым одеялом, сшитым заботливой и терпеливой рукой из сотни разноцветных клочков ситца; в углу помещался маленький стол с несколькими вещицами, с десятком книжек и тетрадок, а посреди них стеклянная баночка с чернилами и блюдце с песком… В другом углу, на полу, стоял красный сундук, обитый оловянными вырезками и бляхами и расписанный лиловыми цветочками. На нем лежали снятый мундир, камзол и шляпа рядового. У потолка над столом висела темная икона и торчала запыленная верба. Над кроватью, пришпиленная булавками к доскам перегородки, висела, загибаясь углами, серая большая картинка, изображавшая императрицу Елизавету Петровну в короне и порфире. Это была работа самого Державина, сделанная пером очень искусно.
– Вот-с, занимаюсь… Письмо пришла просить написать, – сказал Державин, указывая на женщину лет сорока, которая собиралась уходить при появлении Шепелева.
– Я из коридора слышал, как вы горячились…
– Я им часто так – к сродникам пишу… и всегда в горячке…
– Вы писанье-то оставьте у себя, Гаврила Романыч, – сказала женщина. – Я ввечеру зайду.
– Да, да, уж ступай, Авдотья Ефимовна! Успеется, не горит ведь! – отвечал Державин.
– А то вы и сами без меня отпишите. А то у нас стирка велика. Насилу к Благовещенью управимся. Вы сами-то лучше, родимый.
– Как можно, голубушка! Разве я могу знать, что тебе писать?
– И-и, батюшка, а мне-то и где же знать!.. Вы грамоте обучены, так вам-то лучше все известно. Дело дворянское, а я хоть и хвардейская – а все тоже баба, деревенщина.
Державин вдруг заволновался и обратился к Шепелеву, указывая на женщину:
– Вот, государь мой, верите ли? Завсегда так-то… Придет вот какая из них: напиши письмо, свекрови ли там, тетке ли, шурину какому… Сядешь это и скажешь: ну, говори, мол, что писать… А она в ответ: не знаю, родненький мой. Ты уж сам… И не втолкуешь ведь ни за что – хоть тресни.
Шепелев рассмеялся.
Женщина стояла в дверях и заговорила, слегка обижаясь:
– Что ж? Мы не навязываемся. Мой Савел Егорыч за вас на канаве вчера три часа отбыл. Да на прошлой неделе тож двор у прынца мел… за вас же. Сами знаете.
– Я, голубушка, это знаю. Я не корю, пойми ты, а, напротив того, спасибо говорю, потому мне легче писать, чем дворы мести да канавы рыть… А я говорю про то, что коли пришла ваша сестра письмо отписать, так сказывай: что?
– Мы люди неграмотные. Вы дворянского празгвожденья, так вам лучше.
– Да празгвожденья-то я будь хоть распрокняжеского, распроархисветлейшего, а все ж таки я, голубушка, не могу Святым Духом знать, что тебе нужно твоей свекрови отписать. Пойми ты это, Авдотья Ефимовна.
И Державин даже ударил себя в грудь в порыве одушевления.
– Что же! Мы не навязываемся, – совсем обиделась вдруг женщина. – Хозяин мой сказывает… На канаве-то как шибко ухаживают, народ-то… Вчера он в ваш, значит, черед это был, с морозу-то пришел, как из бани; рубаха мокрая на ём, да и спину-то не разогнет… Вот что, барин мой хороший!.. А писулю-то писать неграмотному – как ни взопрей, не напишешь. А вам оно что?.. Тьфу оно вам! Плевое дело. Сидите вот туточки да чирикаете по бумажке… А на канаве…
– Ну вот тут и рассуждай!.. – махнул Державин рукой.
– Как вам будет угодно! Хошь и не пишите… Мы не навязываемся.
– Ну ладно, ладно, Авдотья Ефимовна. Не гневайся. Приходи ввечеру-то все-таки.
– Придем уж, коли требуете… А уж если милость ваша будет – вы сами бы, говорю… Стирка нас съела… Ну, просим прощенья.
Женщина вышла. Державин снова махнул рукой ей вслед.
– Порешенный народ! – сказал он. – Колом не вдолбишь. Пиши я, изволите видеть, ее свекрови в Новгород, что сам знаю…
– Да бросьте! – сказал Шепелев. – Гоняйте их вон, коли скучно.
– Нельзя, сударь. Я вам уж сказывал про свое положенье… Видите, как живу. Вы жалуетесь вот на ротные ученья да на смотры. А мы ведь и там мерзнем, да потом еще нас по городу гоняют на работы. Слышали, вон говорила она про мужа-то, что пришел с морозу мокрый… Ну-с и я вот так-то с приезда горе мыкал. А теперь мое одно спасенье за себя кого из солдат выставлять. У меня с ними уговор: я буду женам писули да цидули их писать, а мужья за меня отбояривайся с лопатой или с метлой.
– Да, если эдак, то разумеется…
– А то, помилуйте, с чего бы я стал время терять на такое водотолченье. Я и то, когда почитать вздумается книжку какую, ночь сижу. Свечу всю сожгу; да что ж делать? Нешто, будучи состоятельнее, пошел бы я в бабьи письмоводители? Вы вот присядьте да послушайте, чем мы занимаемся. Сюда лучше, на сундук. А то стуло-то мое ненадежно.
Державин опростал сундук от платья и шляпы, Шепелев сел на него и, улыбаясь, приготовился слушать. Державин, стоя среди горницы, стал читать взятый со стола исписанный лист.
– Ну вот хоть тут. Об государыне покойной. Прислушайте: «Уведомились мы, что и вы, сестрица, от Прокофия Немого известны, что и мы на наш век несчастными в горе сиротами. А и скончавшая себя государыня к нам милостьми и щедротами была. А что будет впредь нам, того не ведаем. Коли в войну не пойдем. Благодетель наш государь Петр Федорыч гораздо шибко нас не жалует, а свои ренбовские полки. И на прошлой Масленой у нас был смотр, все в следомости нашел. А мой Савел Егорыч про то же сказывал и за оное отодран был. А про телка, что отписываете, и рады бы мы всей к вам душой, да пути и холода велики – подохнуть может. А и себя разорите, а и нам-то не в удовольствие. А на ротном затесненье велико от людства и скотинке боле местов нет. А у Прасковьюшки отелилась в Миколы, на двор унтер выгнал, сказывая, что грязнит очень. И все-то из злобства его выходит, потому нрав у него. По тому случаю подох, что морозом его хватило зря… И не съели!.. А и я вам тож на капустке благодарствую. А и вы, сестрица и братец, про свое житье-бытье отпишите».
И Державин прибавил, смеясь через лист желтой бумаги, который держал перед собой:
– Любопытно-с? Только и есть что: «А и я, а и он, а и вы…»
– Да вы бы, Гаврил Романыч, – заговорил Шепелев, – если уж необходимость с ними возиться, опросили бы ее и написали сразу. А эдак ведь, поди, дольше гораздо.
– Зачем же я, сударь мой, буду письмоводительствовать? Она говори, я напишу. А-эдак уж я, выходит, в переписке с бабьем всероссийским окажусь сам, коли стану сочинительствовать послания к ним.
Видя, что Державин как-то обидчиво горячится, Шепелев переменил разговор.
Он пробыл с час у своего нового приятеля. Державин передал ему, что в роте известно уже всем об ряженом голштинском офицере и что он, как очевидец, рассказал все капитану Пассеку, который очень интересовался сим случаем.
Шепелев в свою очередь передал все подробности своего визита к принцу, не скрыв от Державина и те слова немецкие, которые переврал.
Молодые люди весело хохотали. Державин предложил давать ему уроки немецкого языка всякий свободный вечер.
– Ныне это – первое дело! – сказал он. – Знай воинский артикул да морокуй по-ихнему! Приходите сегодня ввечеру, с нынешнего дня и начнем, и глядите – через месяц уж не скажете: нихт-михт. Приходите.
– Нет, сегодня не могу. Должен быть у Тюфякиных, – отозвался Шепелев.
– У невесты! Не терпится!.. – подмигнул Державин.
– Ей-богу, нет… Она мне не по сердцу. А надо быть…
И молодые люди простились, уговорясь снова свидеться на следующее утро.
XVI
Третьего июня 1743 года у бедного гарнизонного офицера Державина, в городе Казани, родился первый ребенок, сын, названный Гавриилом. Новорожденный был так слаб и хил, что его тотчас же пришлось, по обычаю, «запекать в хлебе», то есть класть в теплое тесто. Родители его очень сожалели о том, что средства их не позволяют прибегнуть к более верному способу сохранения жизни ребенка, а именно: класть его всякий день в теплую шкуру теленка, только что отделенную от мяса. Однако и тесто помогло, ребенок пережил первый месяц, самый опасный, и остался на белом свете, чтобы со временем стать великим поэтом.
После сына явилось на свет еще двое детей, но вскоре они умерли. Выбиваясь кое-как из стесненных обстоятельств, почти из бедности, отец Державина бросался на все, что обещало ему верный кусок хлеба. Разумеется, кроме офицерской службы, он не мог ничем добывать его. Таким образом, он менял места служения, и все детство маленького Гаврилы прошло в путешествиях и передвижениях. Сначала отец перешел на службу из Казани в Яранск, но и там не очень повезло ему, и он перешел в Ставрополь. Здесь прожил он еще довольно долго, но затем был зачислен в Пензенский пехотный полк и должен был снова перебираться на жительство в Оренбург.
Тут надо было уже подумать о том, чтобы учить грамоте, а затем и разным наукам девятилетнего мальчика. В Оренбурге только и был один человек, способный обучать наукам, немец, некто Иосиф Роза. Несмотря на такую нежную и поэтическую фамилию, немец этот был преступник, сосланный за убийство в каторгу и затем водворенный в Оренбурге. Каторжник, конечно, не из любви к науке и педагогии завел у себя в доме маленькую школу, и хотя говорилось, что он обучает разным наукам, но в сущности бывший каторжник знал только хорошо свой собственный язык. Мальчик Державин вместе с прочими товарищами поневоле отлично выучился этому языку, но возненавидел учителя, который варварски наказывал своих учеников; возненавидел он и язык немецкий, не предугадывая, что в будущем знание этого языка повлияет на все его существование и на всю его жизненную карьеру.
Вскоре, однако, одиннадцатилетний Державин не мог даже учиться и у Розы, по недостатку средств. Отец его, давно страдавший чахоткой, наконец, умер, и вдова с мальчиком остались чуть не на улице. Они были дворяне и могли доказать это дворянство документами, могли доказать, что предок их Роман, по прозвищу Держава, был когда-то мурзою в Золотой Орде и владел большим количеством земли и большими стадами баранов. Теперь же у вдовы Феклы Андреевны Державиной было всего шестьдесят душ крестьян, но не только в разных уездах, но даже в разных губерниях. Доход, который изредка получался с имения, был так мал, что на него нельзя было даже проехать в свои владения, чтобы лично собрать со своих подданных законную дань. После смерти отца оказался долг, который вдова никоим образом не могла уплатить: долг этот был пятнадцать рублей ассигнациями.
Кое-как устроивши свои маленькие дела, Державина переехала в свою родную Казань. Фекла Андреевна, полуграмотная женщина, высоко ценила образование, была сама любознательна и от природы умна. И все ее помыслы и мечтания о сыне сосредоточивались на том, чтобы сын обучился всему, чему только можно обучиться. Когда-то в Оренбурге она, почти против воли мужа, посылала любимца к Розе, и, когда мальчуган жаловался и плакал от побоев учителя, молодая женщина утешала его, что наука даром не дается.
– Всякого учили и били, – говорила она, – но битье до свадьбы заживет, а учение-то останется.
Вскоре после их переселения в Казань в родном городе, к великому восторгу очень немногих лиц, а в том числе и на счастье Державиной, вдруг открылась гимназия. Разумеется, пятнадцатилетний Гаврила поступил в нее тотчас, а вскоре был одним из первых учеников.
Здесь в первый раз принесло свои плоды ученье у каторжника Розы. Когда пришлось во вновь открытой гимназии пополнять комплект учителей, то преподавателем немецкого языка был взят сосланный в Казань немецкий пастор Гельтергоф.
Старик немец и пятнадцатилетний мальчик тотчас подружились. Пастор полюбил Державина за то, что мог с ним совершенно свободно болтать на своем родном языке, мальчик полюбил немца и привязался к нему отчасти из жалости. Сосланный в Казань пастор был преступник особого рода. Гельтергоф отправился в ссылку за то, что сказал начальству какое-то немецкое слово вместо русского. Слово это, на его беду, звучавшее отлично по-немецки, оказалось бранным словом по-русски. При гонении немцев в царствование императрицы Елизаветы этого было достаточно, чтобы улететь за тридевять земель, и бедный Гельтергоф с быстротой молнии из окрестностей Петербурга перелетел в Казань. Поэтому открытие гимназии и место учителя спасло его не только от нищеты, но даже от голодной смерти. Державин не только искренне привязался к ссыльному учителю, который был так мало похож на его прежнего, ссыльного же учителя, но, кроме того, мальчик, любимый товарищами, всячески защищал от них доброго немца-учителя. Вскоре он даже добился того, что все его товарищи, делавшие прежде всякие гадости немцу, теперь стали относиться к нему добродушнее. И, конечно, мальчик не думал, что когда-нибудь обстоятельства так переменятся, что этот несчастный сосланный преступник сделается вдруг, при другой обстановке, его покровителем.
Казанская гимназия, как и немногие другие, зависела от Московского университета, только что открытого. Директор гимназии, некто Веревкин, собрался через год по открытии заведения с отчетом к Шувалову и заказал разным ученикам разные работы, дабы похвастать перед начальством в столице. На долю Державина пришлось начертить карту Казанской губернии. В гимназии особенно обращалось внимание на танцы, музыку, фехтование, рисование. Музыки Державин не любил, а танцевать разные менуэты и фехтовать на эспантонах хотя имел большую охоту и сильное прилежание, но, однако, ни то ни другое ему не далось. Оставалось малевание и рисование. Малевать было дорого, потому что надо было на свой счет покупать краски, а средств на это у матери не было. Пришлось ограничиться в своей страсти карандашом и пером. И вот именно пером уже шестнадцатилетний мальчик владел с особенным искусством. Карта Казанской губернии, по общему отзыву, была отличная, да, кроме того, юный Гаврила скопировал пером масляный портрет императрицы так удачно, что Веревкин хотел даже и портрет этот захватить с собой. Отказался же от этой мысли новый директор новой гимназии только потому, что друзья не советовали ему везти портрет императрицы к Шувалову, сделанный простыми чернилами. Пожалуй, окажется вдруг дело неприличным и ему за это придется идти в ответ!!
С нетерпением ждали возвращения начальника из столицы все немногочисленные ученики. Веревкин вернулся сияющий, вознагражденный и привез награды всем. Все ученики были записаны рядовыми в разные гвардейские полки, а Державин, как искусник в черчении карт и планов, был записан в инженерный корпус с званием кондуктора. Все юноши надели соответствующие их званию мундиры, в том числе и кондуктор. Так как между картой Казанской губернии и инженерным искусством оказалось в глазах начальства много общего, то немудрено, что вскоре инженерному кондуктору поручили, как специалисту, заниматься исключительно фейерверками, которые устраивались в торжественные дни; да, кроме того, всеми маленькими пушками, из которых палили при торжествах, тоже ведал теперь кондуктор.
Однако инженер-артиллерист-фейерверкер Державин недолго состоял в этих званиях. Через год Веревкин получил приказание от Шувалова исследовать и подробно описать развалины старинного города Болгары, находящегося на берегу Волги. Когда дело пошло о картах и чертежах, то, разумеется, главным помощником Веревкина мог быть один Державин.
И вот на лето юноша очутился на приволье волжских берегов. Карандашей, бумаги и даже красок было теперь вволю на казенный счет – и юноша принялся за дело с такой страстью, так умно руководил своими товарищами, что Веревкин, преспокойно сдав ему свои обязанности, уехал в Казань. Молодежь осталась одна расправляться с Болгарами как ей вздумается. И здесь целое лето и осень усердно работал юноша, не подозревая, какое огромное значение для его развития может иметь эта, по-видимому, нелепая работа. Державин срисовывал все древние развалины, которые уцелели от прошлых веков, тщательно копировал удивительные рисунки и пестрые надписи на совершенно не известном никому языке и, наконец, копая разные курганы наемными крестьянами, собирал целые кучи разных старых монет, разную рухлядь, разные удивительные украшения и даже оружие.
Явившись осенью с отчетом в Казань, юноша привел в восторг Веревкина, и он обещал к праздникам, отправляясь снова к Шувалову, чтобы везти всю работу, захватить с собой и главного виновника успешно доведенного до конца дела. Оставалось только поскорее привести все в порядок, сделать каталог всему и затем сшить себе новое платье инженер-кондуктора, чтобы явиться на Рождество в Москву. Державин снова усердно принялся за скучную, но уже пустую работу, составил огромные каталоги с тщательными описаниями всего, и даже необыкновенно красивым почерком и с необыкновенно искусными и изящными рисунками. И только одно мешало работать ему – мысль очутиться в столице, стать лицом к лицу и беседовать с тем, кого даже и сам Веревкин побаивался и от кого прямо вполне зависел, то есть с Шуваловым.
В декабре 1761 года все уже было у Державина готово, даже мундир новый сшит, а Веревкин все откладывал поездку по разным своим семейным обстоятельствам. Наконец Державин узнал, что они выедут только после Крещения. Делать было нечего, надо было терпеливо ожидать путешествия. Но поездке этой не суждено было состояться!
За три дня до назначенного отъезда в Казань пришла весть, которая повергла всех в отчаяние, почти бурей пронеслась по всей России, громовым ударом отозвалась во всех самых отдаленных закоулках. Весть эта была – о кончине всеми обожаемой монархини, двадцать лет державшей в руках своих судьбы империи. И как в самом Петербурге все уныло и боязливо притихло, так и в разных углах России, равно и в Казани, все были перепуганы, опечалены, и никто не знал, чего ждать. Только один немец Гельтергоф возликовал, ожидая себе лучшей доли. Казалось, не было в России ни одного человека, которого бы судьба не выбросила в это время из прежней колеи и беспричинно вдруг не поставила бы на другую, новую, неизвестную и непривычную дорогу.
Кажется, семнадцатилетний юноша, ученик казанской гимназии, был малой спицей в громадной российской колеснице, но и на нем тотчас же сказались разные перемены, совершившиеся в пространном отечестве.
В конце января в Казань явилась бумага из канцелярии Преображенского полка. Это было не что иное, как отпуск, помеченный еще 1760 годом рядовому Преображенского полка Державину. Отпуск был якобы дан еще в те времена, когда Державин надел мундир инженера, и кончался первым января уже наступившего года. Оказалось, что Державин вовсе не инженер и не кондуктор, а преображенский рядовой в отпуску, да еще сверх того уже на целый месяц опоздал вернуться к месту служения. И не один Державин, а и начальник Веревкин, и мать его, и друзья – все были равно смущены. Веревкин клялся, что он после поездки к Шувалову не ошибся и не перепутал, что Державин не был тогда зачислен в гвардию. Фекла Андреевна была в отчаянии от необходимости, при скудных средствах, посылать сына в Петербург и, войдя в новые долги, расстаться с ним, быть может, навсегда. Но не повиноваться, в особенности при новом государе, было опасно, и юноша тотчас же собрался в дорогу, а через целый месяц трудного странствования из Казани в Петербург явился, наконец, на ротном дворе Преображенского полка. Тотчас же объявили ему, что он на целых два месяца опоздал из своего годового отпуска, а потому он был отправлен под арест.
Вряд ли кто-нибудь когда-либо так странно и весело приезжал в столицу поступать на службу.
Однако горячий нрав, ум и смелость сказались в юноше. Один-одинехонек среди большой столицы, без родных, без друзей, даже без знакомых, Державин не дал себя в обиду. Упрямо и горячо доказывал он, что уже давно считает себя инженер-кондуктором и не желает поступать в полк за неимением средств содержать себя в преображенцах. Но ничто не помогло. Отсидев день или два под арестом, юноша все-таки был зачислен фактически в лучший гвардейский полк и, будучи совершенно без денег, поселился в самой казарме, нахлебником у солдатской семьи.
В первые дни службы всякие поручения, разноска по городу повесток, работа то лопатой, то метлой едва не уходили не очень крепкого здоровьем юношу, но вскоре благодаря его изобретательности ему жилось уже несколько легче. Этими самыми нелепыми цидулями и грамотками солдатик избавился от тяжелой работы, а деньги, недавно присланные вновь матерью, хотя и небольшие, помогли ему расплатиться с его хозяином, капралом Волковым. Кроме того, за несколько дней перед тем Державин разыскал, наконец, в Петербурге старого друга и учителя, прощенного пастора Гельтергофа, который выехал еще прежде. Насколько было плохо ему когда-то в Казани в качестве ссыльного, настолько хорошо ему было теперь. Он был возвращен из ссылки тотчас же по воцарении Петра Федоровича, прямо в Петербург, будучи лично известен Фленсбургу. Теперь он мог рассчитывать на быструю и совершенную перемену своей судьбы к лучшему. Гельтергоф и в Казани искренне любил юношу за его прилежание, и, зная по себе, каково бедствовать в чужом городе, добрый пастор велел юноше заходить к себе, обещаясь подумать об его судьбе.
– Вы великолепно говорите по-немецки, – сказал он, – вы говорите, как настоящий немец, mein lieber[20], а это очень важно. Теперь не Елизавета царствует, – лукаво ухмыльнулся пастор. – Теперь Peter der Dritte[21] царствует!.. Теперь немецкий язык для всякого есть лучший диплом, самый важный диплом.
Рядовой преображенец сам чувствовал, что проклятый немецкий язык, который когда-то вколачивал в него каторжник Роза, теперь будет иметь огромное значение для его служебной карьеры. И теперь Державин, обождав неделю, дав время доброму Гельтергофу заняться его печальной судьбой, собирался снова наведаться к пастору. Но какое-то странное чувство, в котором юноша сам не мог отдать себе отчета и сам не понимал вполне, мешало ему поделиться своей тайной со своими ближайшими знакомыми и приятелями. Ему почему-то было совестно сознаться в своих мечтаниях, сказать о своей беседе с Гельтергофом, рассказать все кому-либо, капралу Волкову, Морозову, еще менее Квасову; и даже в дружеской беседе с товарищем Шепелевым он все-таки не решился заговорить о пасторе и своих надеждах на помощь его. Да и как было радоваться знанию этого немецкого языка, как было возлагать на него все надежды, носиться с ним, когда все кругом ненавидело и ругало этот язык? Тот же новый знакомый и товарищ едва приехал в Петербург – и уже успел отчасти пострадать или, по крайней мере, был возмущен и оскорблен теми, кто свысока требовал знания этого проклятого языка.
XVII
Семейство Тюфякиных состояло из старой девицы, опекунши лет пятидесяти, длинной, сухопарой, словоохотливой и на вид добродушной, но страшно упрямой, двух сирот княжон Василисы и Настасьи и сводного брата их, князя Глеба, который, однако, жил отдельно. Глеб был старше сестер лет на десять и был от первого брака покойного князя Андрея Тюфякина с простой женщиной татарского происхождения, которая погибла насильственной смертью, под ножом своей горничной.
Обе княжны были от второй жены князя, тоже скончавшейся и урожденной Гариной, принесшей мужу большое состояние в приданое. Таким образом, молодые девушки-сироты были богаты, но находились еще до полного совершеннолетия младшей княжны под опекой родной тетки, тогда как их сводный брат, офицер гвардии, был почти беден, то есть имел пятьдесят душ крестьян где-то в глуши, близ города Кадома, куда и ехать было опасно.
Эта разница состояний породила много семейных недоразумений, ссор и бед и повлияла даже на характер и поведение князя Глеба. Он завидовал сестрам и враждовал с их теткой-опекуншей, которая тоже не любила его, не считала даже настоящей родней и звала в насмешку: «Наш киргиз!»
Покойный князь Андрей беспорядочной жизнью сумел в семь лет сильно расстроить огромное состояние своей второй жены. Если б он не утонул вдруг в Неве двенадцать лет назад, купаясь под хмельком после пира, то, конечно, ничего не передал бы дочерям. Им осталось бы только состояние теперешней их опекунши-тетки, которая была сама по себе очень богата.
После несчастья с отцом девочки остались старшая по шестому году, а младшая – четырех лет и уехали тотчас с матерью в деревню. Пасынок, уже юноша, остался в Петербурге.
Вдруг овдовевшая княгиня Анна Михайловна хотя и была женщина слабохарактерная, с странностями и причудами, но сумела, однако, в пять лет деревенской жизни снова устроить свои дела и поправить состояние. Девочек своих она держала странно, почти взаперти и в гости никуда не пускала. Из соседей своих она тоже у себя не принимала никого. Скоро стало, однако, известно в околотке, что княгиня-вдова совершенно в руках своего наемного управителя из поляков, который распоряжался самовластно в ее имениях и в доме. Даже во многом, касавшемся до детей, вдова не обходилась без его советов. Если за это время княгиня не стала вдруг женой молодого и красивого поляка, то единственно из нежелания потерять свой титул, которым очень кичилась. Но однажды, пять лет тому назад, явился вдруг к ним в глушь в гости пасынок, князь Глеб. Веселый и умный молодец-гвардеец, простодушный на вид, внимательный и почтительный с княгиней-мачехой, ласковый с сестрами, остался на все лето и искусно, постепенно, незаметно завладел скоро всем и всеми. Осенью он уже прогнал поляка, взялся за дело по имениям и повернул все на иной лад…
Прежде всего девочки, уже взрослые, были выпущены на волю, ездили в гости, веселились всячески и, конечно, также стали обожать брата.
Вскоре же, то есть менее чем через год после приезда Глеба, княгиня весной по настоянию пасынка переехала снова на жительство в Петербург.
Здесь началась новая жизнь, показавшаяся дочерям еще более странною, потому что они не понимали, в чем дело. Однако невольно и бессознательно они тотчас невзлюбили этого брата Глеба. Вдобавок они заметили, что чем более мать их любила, ласкала и превозносила пасынка, тем более стала ненавидеть его их столичная тетка Пелагея Михайловна Гарина, с которой они теперь познакомились и подружились.
Беспорядочная и зазорная жизнь княгини Анны Михайловны в столице окончилась какой-то внезапной болезнью, которая быстро унесла ее в один месяц.
Сестра ее, Пелагея Михайловна, старая дева и одинокая, сделалась тотчас опекуншей и воспитательницей племянниц. Это, конечно, сделалось не по закону, а как-то само собой, вследствие железной воли ее и множества «ходов», то есть большого количества влиятельных знакомых в Петербурге.
Не видясь почти за последнее время с княгиней, ведшей неприличную жизнь, Пелагея Михайловна, узнав о смерти сестры и немедленно явясь в дом на панихиду, привезла из своего дома и пожитки, и людей своих. Прежде чем покойная была зарыта в землю, тетка уже поселилась в ее комнатах и управляла в доме. В то же время и как бы волшебством она осадила, или, по ее выражению, «поурезала Глебовы крылышки».
Князь Глеб хотя и остался было сначала жить в доме с сестрами, но Пелагея Михайловна взяла его как бы на хлеба, что и заявила, положив «киргизу» жалованье по двести червонцев в год, ради родства.
Князь, однако, и старую девицу, и сестер вскоре сумел немного снова расположить в свою пользу, хотя приобрести над теткой такое безграничное влияние, какое имел над их матерью, он и пробовать не стал. Не такова была Пелагея Михайловна.
– Кремень Михайлыч! – звал он ее за глаза. – Никакой калитки не найдешь, даже щели простой, чтобы к ней в душу влезть, – злобно говорил князь своим приятелям и прибавлял в минуту похмелья: – Я погляжу еще, да коли нельзя добром взять, так я ее поверну иным вертом.
Но время шло, и князь Глеб, живя то отдельно, то у сестер, получал свое жалованье от тетки, иногда и подачки деньгами не в счет положенного, и все еще надеялся как-нибудь со временем обойти старую деву.
Что касается до сводных сестер, то младшая относилась к нему дружелюбно, старшая же по-прежнему – недоверчиво, боязливо и сдержанно. Обе сестры были уже теперь девушки-невесты. Княжне Василисе, старшей, минуло восемнадцать лет, а младшей, Насте, – шестнадцать.
Настя была уже давно, чуть не с рожденья, предназначена заглазно быть женой дальнего родственника отца, юноши Шепелева, который теперь только познакомился с невестой, явившись на службу в гвардию. Василиса не была сговорена ни за кого. Но и теперь, несмотря на приданое, никто не присылал сватов, никому в Петербурге не приходило на ум просить ее за себя у тетки-опекунши. Сама тетка часто говаривала, что ее любимице не бывать замужем никогда!.. Причина этому была простая.
Княжна Василиса, или, как звали ее все с детства, Василек, еще будучи четырнадцати лет, опасно заболела оспой, самой сильной, и до того времени прелестная лицом, теперь была обезображена. У бедной девушки все лицо, лоб, даже нос и губы были испещрены ямками, бороздками и рубцами. Лицо это, обыкновенно бледное, багровело по временам и от сильного движения, и от тепла, и от малейшего душевного волнения. Несмотря на то что лица, изуродованные оспой, были довольно обыденным явлением, бедная княжна все-таки привлекала на себя любопытство даже прохожих. Это лицо тем более обращало на себя внимание, что в нем было еще до болезни нечто дарованное судьбой, чего болезнь не могла уничтожить и что теперь придавало лицу еще более странное выражение.
Среди этого испещренного бороздами человеческого облика светились, сияли чудным светом большие, великолепные синеватые глаза. Вся сокровенная внутренняя жизнь, вся душа, которая, обыкновенно, самовластно ложится в разнообразные, прихотливые черты человеческого образа, у княжны Василька не могли отразиться в изуродованном лице. И жизнь ушла из лица этого в одни ясные большие глаза. Вся эта жизнь, теперь печальная, обойденная судьбой, полная горечи и разбитых надежд, и вся теплота кроткой и любящей души, вся чистота и глубина ее – все сосредоточилось в этих всегда грустно-задумчивых глазах и сказывалось каким-то ласково-нежным, теплым, греющим светом. Никогда не вспыхивал и не горел этот синеватый взор, а вечно светился тихо и безмятежно среди безжизненного облика. Взор этот будто мерцал, но лучи его таинственным светом озаряли все и всех, как тихий, почти робкий луч лампады, которая теплится перед киотом среди тьмы и немоты ночи, озаряет золотые ризы образов, и ярко сияют они будто собственным светом. И свет этот, это ровно льющееся сияние всегда будто говорит душе покой, смирение, любовь…
Один пятилетний ребенок, увидевший княжну в гостях у матери, долго глядел ей в лицо и, наконец, спросил:
– Зачем она все глядит?.. Все глядит!!
Ребенок первый раз в жизни благодаря взгляду Василька заметил, что в глазах человеческих есть что-то… помимо двух круглых зрачков.
Действительно, глазами Василька говорила ее душа и сказывалась вся. И эти глаза понемногу проникали тоже в душу всякого. Даже тяжело бывало иным, как, например, князю Глебу и подобным ему, долго сдерживать на себе взгляд княжны. Иногда он досадливо отворачивался или говорил сестре:
– Полно упираться в меня. Чего не видала? Ну, гляди в тетушку, а то в стену. Совсем сдается, по карманам лазишь своими глазами. Тебе бы в сыщики…
И действительно, взгляд княжны упирался и тяготил князя, будто нестерпимым гнетом придавливал его. Когда же Василек опускала веки, когда на этом лице потухал свет чудного взора, то вечно бледноватый облик лица, без капли выражения в чертах, не только терял всякий смысл и свой чудный разум, но совсем мертвел.
У княжны Василька, кроткой, богомольной, добросердой к бедным, всегда сочувствующей всем несчастным, была теперь одна особо любимая молитва. От этой молитвы вскоре после ее выздоровления, на первой неделе Великого поста, в первый раз в жизни заискрились горькими, тяжелыми слезами ее красивые глаза… Теперь молитву эту Василек повторяла ежедневно и утром, и ложась спать… Молитва эта была: «Господи, Владыко живота моего». Самые любимые слова этой молитвы для Василька были: «Дух целомудрия, терпения и любви даруй мне!..»
И все это, просимое ею так часто и так горячо: и мир души, и защита от назойливых, но несбыточных для нее мирских надежд и мечтаний, и примирение с незавидной долей, – все было дано ей… И с лихвою! Это все и говорило теперь о себе, светясь лучисто во взоре ее, словно льясь из глаз и проникая глубоко в душу всякого человека.
Василек, любившая все и всех и находившая наслаждение в заботах о других, разумеется, любила тетку и обожала младшую сестру. Пережившая в уголке своей горницы и в церкви больше, нежели Настя в гостях, она скоро стала для младшей сестры не сестрою, а матерью, изредка журившей любимое дитя, но ничего не видевшей в нем, кроме достоинств.
Настю баловали все. Тетка видела в ней единственную надежду породниться с сановитым и важным человеком через ее замужество и, конечно, придумывала, как бы расстроить завещанный отцом брак ее с Шепелевым.
Брат если не любил ее по неимению сердца, то всячески ласкал и баловал сестру, исполняя ее малейшие прихоти, но зато брал у нее тайком и тратил все, что она получала от тетки. Кроме того, он сначала надеялся, при совершеннолетии Насти, еще более выиграть от дружбы с ней и при появлении в Петербурге жениха Шепелева был первое время сам не свой.
Насте, честолюбивой, надменной и тщеславной, тоже крайне не нравился суженый, приехавший из деревни и сидевший еще в звании рядового преображенца, когда за ней в церкви и на гулянье в Новом саду ухаживали один майор гвардии и даже один немец, адъютант самого принца голштинского, то есть Фленсбург.
Однако за последние дни князь Глеб вдруг, к великому удивлению Пелагеи Михайловны и Василька, начал стоять за Шепелева горой, он даже радовался такой свадьбе и находил, что лучшего жениха желать нечего, только бы чин ему поскорее дали.
Пелагея Михайловна, зная племянника, решила, что это «неспроста»; но объяснить себе или догадаться, в чем заключается тайна, она не могла. Оставалось держать только «ушки на макушке», что она давно относительно Глеба и делала.
Настя была смелого, почти дерзкого нрава, заносчивая, пылкая и в то же время была вполне под влиянием брата. Она все менее и менее слушалась тетки, а в особенности обожавшей ее сестры, которую в шутку звала «наша инокиня» или «мать Василиска» и полушутя-полусерьезно уговаривала сестру идти в монастырь. К жениху своему Настя, несмотря на согласие идти за него, несмотря на тайные советы и уговоры брата, относилась все-таки небрежно, иногда даже оскорбительно.
На первых же порах она объяснила Шепелеву, что ему следовало бы жениться на ее сестре, что это все равно, так как их части материнского наследства одинакие, а наследство от тетушки она готова даже уступить сестре, если он на ней женится.
Василек подозревала, что сердце и голова Насти уже заняты были «на стороне»; но кто был этот человек, ей в ум не приходило.
Несмотря на то что сам Шепелев невзлюбил свою нареченную, а Настя тоже всячески, сначала умышленно, а потом невольно, отталкивала его от себя; несмотря и на желание тетки – иметь более вельможного зятя, положение дела не изменялось. Шепелева и княжну называли и представляли знакомым как сговоренных еще в детстве покойным отцом. Свадьба же их должна была последовать по получении Шепелевым офицерского чина.
Перемена в мыслях князя насчет этой свадьбы была так неожиданна, так двусмысленна, что стала подозрительна даже и Шепелеву.
Почему не прочил князь любимой сестре кого-нибудь из своих блестящих товарищей, или из русских офицеров голштинского войска, или из придворных? Это было для всех вопросом. Одна Настя на все пожимала нетерпеливо плечами или усмехалась.
Князь объяснял это желанием видеть исполнение воли покойного отца и тем, что полюбил Шепелева. И тому и другому ни Шепелев, ни тетка, конечно, не верили.
Юноше, разумеется, не нравился князь, хотя будущий шурин был крайне ласков с ним, и Шепелев старался делать вид, что вполне рад с ним породниться.
Вновь прибывший на службу недоросль из дворян не мог, впрочем, без некоторого рода уважения смотреть на офицера в положении князя, не мог вполне отрешиться от обаяния того, что князь был приятель и участник всех затей Гудовича, генерал-адъютанта императора и любимца графини Елизаветы Романовны Воронцовой, приятельницы императора.
Всему Петербургу было известно, что князь Тюфякин был очень близок с Гудовичем, любимцем Воронцовой, который покровительствовал князю более, чем кому-либо, и звал своим другом, «князинькой» и «тюфячком». Князя Глеба поэтому звали в Петербурге со слов гетмана: «Фаворит фаворита фаворитки».
Князь был непременным членом всех пирушек и дорогих разорительных затей Гудовича. Не будь на свете старой девы тетки, то, конечно, он добился бы опекунства над состоянием княжон и все бы прошло сквозь его пальцы. И сироты-княжны остались бы скоро без гроша, разоренные благодаря всем этим затеям придворного кружка любимцев государя.
Но против старой девицы, имевшей много друзей в Петербурге, против Кремня Михайловича, как звал ее князь Глеб, трудно было бороться даже и Гудовичу, если бы он захотел услужить своему фавориту.
– Как бы нам ее похерить? – часто говорил Глеб Андреевич другу и покровителю.
– Дай срок. Теперь нельзя, – отзывался Гудович. – Вот станет Лизавета Романовна императрицей – тогда и кути душа. Будем творить все, что бог на душу положит!..
XVIII
Юношу Шепелева подмывало поскорее поведать в семье невесты приключение свое у принца, и в сумерки он отправился к Тюфякиным. Расчетливость Пелагеи Михайловны, доходившая до скупости, побудила княжон Тюфякиных переехать по смерти матери и жить в местечке Чухонский Ям, потому что тут у тетки-опекунши был свой дом, старинный, деревянный, построенный еще при юном государе Петре Алексеевиче II. Дом был окружен большим двором и садом. Овраг, довольно глубокий для того, чтобы там свободно могли скопляться сугробы зимой и бездонная грязь летом, отделял сад от остальных пустырей, разделенных на участки. Несколько лет позднее между Чухонским Ямом и Петербургом долженствовало воздвигнуться Таврическому дворцу. Место это было нехорошее. Тут всегда водились головорезы.
День был ясный, тихий и морозный, и хотя юноша шел быстрой походкой, однако сильно озяб и рад был, завидя дом.
Пройдя двор и поднимаясь уже на большое крыльцо дома, Шепелев увидал кучку людей направо у флигеля, где помещались погреба, молочные скопы, клети для птиц и вообще всякие принадлежности дома. Среди этой столпившейся кучки он узнал по стройному стану и по шубке старшую княжну. В ту же минуту кучка двинулась к нему. Княжна узнала его и издали кивнула ему головой. Он остановился и дождался.
Когда некрасивая княжна приблизилась со своей свитой, состоящей из бабы-птичницы, казачка Степки, лакея Трофима и еще двух женщин, то Шепелев увидел в руках птичницы белого петуха.
– Здравствуйте, – тихо сказала княжна, улыбаясь и как бы смущаясь.
– Что это вы, княжна, по такому морозу на дворе делаете? – сказал Шепелев. – Сидеть бы дома.
– Я и не собиралась было выходить, да несчастье случилось.
– Что такое?
– Да вот… бедный этот белячок ножку сломал, – показала она на петуха, который в руках бабы как-то глупо вытягивал шею и таращил желтые глаза.
Шепелев рассмеялся, глядя на княжну и петуха. Птичница и казачок тоже усмехались за спиной барышни.
– Чему ж вы это, Дмитрий Дмитрич? – укоризненно выговорила Василек.
– Вы сказываете, несчастье…
– Что ж, для него, разумеется, несчастье. Тоже созданье Божье и чувствует…
– Что он чувствует?.. Его и режут когда на жаркое, так он кричит не от боли, а по глупости. Посмотрите, нешто видно по его дурацким глазам, что у него нога сломана?
– Что не видать ничего по глазам, так, стало, и нет ничего внутри? – странно спросила княжна.
– Вестимо, нет, – смеялся Шепелев.
– Ну, уж вы… – махнула она рукой. – Входите-ко. Свежо. Наших дома нет. Со мной одной посидите; делать нечего.
– Очень рад. Я с вами беседовать люблю, – отозвался Шепелев.
Они вошли в дом.
– Это сказать так легко, – снова заговорила княжна, поднимаясь по лестнице. – В душе его, то есть в нем-то самом, внутри его, бог весть что. Хоть и птица он, малая и глупая, а, поди, страждет не хуже человека. Мало ль чего, Дмитрий Дмитрич, не видно по глазам, а внутри болит, да ноет, да щемит тяжко… – И княжна вдруг прибавила веселее: – Ну, да ведь вы с сестрой люди молодые, горя и болезней не видели, так как же вам и судить, коли не по наружности человеческой.
Княжна Василек причисляла себя к старым людям, испытавшим… И действительно, болезнь, ее изуродовавшая, и горе по безвозвратно утраченной красоте – это жгучее горе, в котором как в горниле перегорело все ее нравственное существо, сделали из нее уже через год после болезни далеко не ту девушку, прежнюю хохотунью и затейницу.
Они вошли в прихожую. Княжна попросила молодого человека пройти в гостиную, а сама хотела остаться на минуту в передней с людьми.
– Я сейчас приду…
– Да что ж вы хотите делать тут?
– Петуху ногу перевязать… Анисья не сумеет… Я сейчас.
Шепелев рассмеялся опять:
– Да вы лучше велели бы поскорее его зарезать, он еще годится.
– И вы тоже с тем же… Вот как и они все.
– Вот так-то и я сказываю боярышне, – вмешалась баба-птичница. – Вязаньем ничего тут не сделаешь. В один день так похудает, что кушать его господам нельзя будет. А коли сейчас его зарезать, то ничего.
– Ну, ну, вздор все… – закропоталась княжна. – Говорят тебе, не зарежу… поди принеси тряпочек, палочек и ниток…
– Так уж и я лучше вам помогу, – сказал, смеясь, Шепелев и остался в прихожей.
Через минуту принесли тряпок и ниток из девичьей. Трофим, насмешливо ухмыляясь и встряхивая головой, стал строгать ножом из дощечки два крошечных лубка.
– Да вы только, княжна, рассудите! – весело и убедительно приставал Шепелев, насмешливо взирая на стряпанье и хлопоты девушки и видя одобрение своих слов на всех лицах дворни. – Ведь вы не знаете, какую птицу всякий день режут вам к столу… Так ли?
– Так могли, стало быть, скажете, и этого нынче зарезать?..
– Ну да… Ведь его же, вылеченного, когда-нибудь вы скушаете.
– А как вы полагаете, – заговорила княжна, – старый, к примеру, человек, да еще иной раз злющий, да ехидный, захворает вдруг… Ему и без того житья, к примеру, немного месяцев осталось. А его же, злющего, знахари да лекари лечут… А он тоже все равно умереть должен скоро.
Шепелев не нашелся сразу, что отвечать, и дворня уж глядела иначе на барышню. Лица их говорили: «Молодец, барышня».
– Да ведь то человек! – вдруг горячо воскликнул юноша. – А то петух.
– Да мне нешто трудно ему ногу-то перевязать! Ну, полно вам насмешничать. Возьмите-ка лучше вот петушка-то да держите хорошенько, а мы с Анисьей завяжем ему ногу… А вы ступайте по своим делам! – приказала княжна людям. – Что прилезли, рады бездельничать?
Шепелев взял петуха в руки, повернул его и стал держать. Люди разошлись, усмехаясь.
Через десять минут петуха с обвязанной отлично ногой пустили на пол. Княжна нагнулась и глядела, как он пойдет. Петух ступал отлично на сломанную ногу, сдержанную обвязкой, и, немедленно захлопав крыльями, крикнул на весь дом…
– Вот как, даже запел, бедный! – воскликнула княжна; глаза ее, обращенные на Шепелева, чуть-чуть засияли тем светом, который бывал в них в минуты довольства.
– А через неделю или там через месяц его повар зарежет и отрежет ему обе ноги, и здоровую и больную.
– Ну нет, теперь не зарежут.
И Василек налегла на слово «теперь».
– Что ж, беречь будете? – сказал юноша.
– Да.
– Потому что он хуже других, здоровых?
– Я его лечила… – сказала она едва слышно. Голос ее спал и перешел в шепот, потому что она лгала.
«Ты его лечил со мной!» – говорило в ней ей самой не вполне понятное чувство.
Да, этот красивый юноша, бывавший у них часто как нареченный жених ее сестры, заставлял бессознательно биться подчас ее сердце. Когда, как, почему это случилось, княжна Василек не знала. Она вдруг недавно подметила в себе это, но не перепугалась, а только спрашивала себя:
«Что это такое? Я будто его больше всех стала любить. А нешто девице с мужчиной можно быть приятелями? Вот когда женится, будет родней мне, тогда можно будет нам сдружиться, как брату с сестрой. А теперь надо воздерживаться».
Княжна велела Трофиму приготовить чай и сама нехотя, по чувству долга, прошла на несколько времени в свою горницу. Остаться сидеть в гостиной с глазу на глаз с молодым человеком в отсутствие тетки было все-таки неловко и нехорошо. Люди могли осудить. Впрочем, не успела княжна поправить на себе косынку, пригладить волосы и переменить теплые башмаки на комнатные, как на двор въехали большие сани.
Затем раздался в передней голос вернувшейся Пелагеи Михайловны.
Прислушавшись и узнав голос тетки, которой она не ждала так рано, княжна Василек вдруг тихонько вздохнула, будто украдкой даже от себя самой. Она о чем-то будто пожалела. Неужели о том, что ей не удалось побеседовать с юношей наедине?!
XIX
Пелагея Михайловна, как всегда, ласково поздоровалась с молодым человеком и хотя видела его дня за три перед тем, но снова, как всегда, подробно расспросила: что нового, как его здоровье и как живется-можется? Впрочем, на этот раз ее расспросы оказались ненапрасными. Шепелев мог рассказать ей целую огромную любопытную историю об Орловых, Котцау и принце Георге. О буйстве, в котором подозревали все братьев Орловых, уже знал весь Петербург, а поэтому знала и Пелагея Михайловна. Впрочем, вся история уже обогатилась такими подробностями, что Шепелеву пришлось горячо спорить с Гариной. Так, например, старая девица слышала из вернейшего источника, что буяны обварили голову голштинца кипятком, что у него вылезли волосы и лопнули глаза. Хотя Шепелев был свидетелем, видел сам Котцау и божился Гариной, что все это вздор, Пелагея Михайловна поверила наполовину. Не менее истории с Котцау заинтересовала Пелагею Михайловну история с самим Шепелевым в кабинете принца.
А Василек, сидевшая за самоваром и наливавшая тетке и гостю чай, слушала повествование молодого человека, боясь проронить единое слово. Не спуская с него своих чудных глаз, княжна чувствовала, как замирало в ней сердце. Она знала, что молодой человек не способен не только солгать или выдумать, но слова лишнего неправды никогда не прибавит ни в чем. Выслушав весь рассказ, Пелагея Михайловна прибавила нравоучительно:
– Вот, голубчик ты мой, кабы знал ты по-немецки, так, поди, что бы из этого могло выйти. Протекцион бы принца получил; а то вышла нелепица одна.
– Ну нет, Пелагея Михайловна, – как-то даже обидчиво отозвался Шепелев, – не знаю я языка ихнего да и знать не хочу. И прежде я немцев не любил, а теперь они мне совсем поганы стали. Все они дармоеды и нахалы!
– Вот уж правда истинная, – шепнула тихонько из-за самовара Василек.
– Я и сама не больно их жалую, – задумчиво произнесла Гарина, глядя перед собой в полусумрак горницы. – Да что делать, коли без них нельзя…
И, допив свою чашку, она по привычке перевернула ее вверх донышком на блюдце, что значило «довольно». Затем она встала, уселась на свое обычное место, в большое кресло близ печки, и взяла в руки свою постоянную работу крючком.
Василек снова стала переспрашивать Шепелева о том же приключении с ним и с какой-то страстью входила она в малейшие подробности. И менее важное, касавшееся молодого человека, всегда особенно интересовало ее, тем более такой удивительный с ним случай должен был взволновать ее кроткую и отзывчивую душу. Чувство обиды и оскорбления сказалось вновь в словах Шепелева, когда он стал входить в подробности своего разговора с принцем, и это чувство мигом передалось Васильку. Она так же, как и молодой человек, не сразу могла найти или уловить, в чем заключалась обида. Однако ее женский рассудок скоро доискался смысла во всем.
– Вот это что, Дмитрий Дмитрич, – тихо, почти шепотом заговорила Василек, слегка нагибаясь к нему через стол и бессознательно разглаживая руками свернутое аккуратно чайное полотенце. – Они все говорят, что мы всё одно что татары какие или мордва. Они, видите ли, ученые люди; и англичане и французы тоже у них ученые и им – свой брат. А мы, русские, совсем не люди для них, а так, татарва какая-то. И не только смеются они над нашим русским языком, а и над верой нашей насмехаются, это я вам верно сказываю.
– Да, а небось лезут к нам, – чужую и ходячую фразу ответил Шепелев. – Кто их зовет, сами лезут. Дома-то у них земли мало, хлеба совсем нет; они из соломы да из отрубей хлеб пекут себе. Вот дядя Аким Акимыч сказывает, что процарствуй еще годков десять Лизавета Петровна, немцев совсем бы вывели и искоренили; а теперь пошло опять у нас на старый лад. Не ныне завтра закомандует опять и Бирон-кровопийца.
– Что вы, как можно! Государь никак не допустит его к управлению. Он его так только выписывает из ссылки, чтобы Курляндию ему опять предоставить. За него ваш же принц Жорж очень хлопочет. Мне братец говорил.
– Нет, княжна, посмотрите, опять Бирон властвовать будет. И экая обида, что не поколел он там в ссылке!
Василек сделала сильное движение рукой и осмотрелась в горнице.
– Что вы это, Дмитрий Дмитрич! Вы не очень так говорите, избави бог! Вы ведь вот недавно приехали из деревни, не знаете, что в Питере может случиться. Вы будьте осторожнее, а особенно на словах будьте осторожны – как раз попадетесь. Я вот знаю, что бывало в столице: за всякие пустые речи иным вырезывали язык, клеймили, в каторгу ссылали, в Сибирь… Помилуй бог! Подслушает кто и донесет!
И при этой мысли, что какое-нибудь подобное несчастье может случиться с молодым человеком, бледное лицо княжны побагровело. Шепелев, смотревший в эту минуту на нее, невольно подумал: «Ведь вот ты добрая, сердечная, а уж как ты дурна-то!»
И он стал отчасти бессознательно разглядывать лицо княжны и мысленно повторял: «Да! Уж как дурна-то».
Женщина тотчас сказалась в некокетливой девушке. Она сразу почувствовала и поняла и взгляд молодого человека, и мысль его. Василек опустила глаза на белую скатерть, подавила в себе глубокий вздох, и сердце ее, как всегда, тихонько, но больно сжалось. Она предпочитала, чтоб ей говорили об ее лице, ее прошлой болезни, тогда она могла похвастать – это единственно, чем она хвастала, – своей прежней красотой и могла отнестись к этому как Божьему наказанию, веленью судьбы. Но когда кто-нибудь молча засматривался на нее и ничего не говорил, не спрашивал, княжне становилось особенно тяжело. Что касается до этого молодого человека, с которым она так недавно познакомилась, которого считала полуродней и быстро полюбила, то его внимательный взгляд на лицо ее всегда поднимал у ней на сердце особенно тяжелое и горькое чувство.
Уже раза два или три случилось, что он всматривался в нее так пристально, и всегда после беседы вдвоем. Как будто ему пришлось увлечься в этой беседе и вдруг отрезвиться, вспомнить, что она так дурна, и пожалеть о нескольких минутах ласковости и внимания к ней. Шепелев вдобавок ни разу не спросил ни у нее, ни у тетки, ни у невесты, когда и как Василек подурнела так страшно. Лицо ее само за себя объясняло все, а когда могло случиться это несчастье с девушкой, было Шепелеву совершенно безразлично.
Василек поспешно встала, приказала убирать чай и вышла из комнаты, будто бы распорядиться по хозяйству.
Шепелев прошел к печке и прижался к ней спиной, несмотря на то что она была страшно раскалена.
– Что, зазяб, что ли? – выговорила Пелагея Михайловна.
– Нет, здесь тепло, а мне на дорогу надо разогреться, идти пора.
– Да, ступай, дело позднее, ночное. А Настеньки и не жди, бог весть когда приедет; с братцем в гости уехала. Ишь ныне времена какие пришли! Прежде Великим-то постом из церкви не выходили да постились-то душой и сердцем, а не животом. А у вас теперь какой пост? Едите только постное, а на уме-то Масленица. Я, голубчик, тоже не из каких богоугодниц, тоже грешная. Но ведь у вас-то подобия никакого не осталось – звери, а не человеки. Да, впрочем, что же я к тебе-то привязалась, ты ведь не питерский. Ты малый ничего, я тебя люблю, только молод ты очень, да и чина никакого нет. Когда еще ты в офицеры-то выйдешь? Поди, лет через восемь. Тогда Настенька совсем и старухой будет. Да! Уж об этом деле, скажу я тебе, – не знаю, как и ума приложить к нему.
Шепелев всегда, когда Пелагея Михайловна начинала разговаривать об его предполагаемой женитьбе, молчал как убитый, и это молчание красноречиво говорило опекунше, что и по его мнению свадьбе этой вряд ли состояться.
Пелагея Михайловна раз по десяти на день повторяла сама себе все то же рассуждение:
«Батька покойный под хмелем выдумал эту свадьбу; мать-покойница об этом и не помышляла, ей было, голубушке, не до дочерей; я бы этого не желала, хоть и добрый малый; сама Настя на него и не смотрит; он насчет женитьбы молчит всегда как удавленный, стало, тоже не хочет! А вот бы… Да! Дорого бы я дала за это!» – кончала свое рассуждение Пелагея Михайловна.
А то, что недоговаривала даже себе опекунша, – была ею недавно взлелеянная и все более укоренявшаяся в ее голове мечта выдать за сердечного и скромного молодого человека, вдобавок родовитого и родственника покойной Мавры Егоровны Шуваловой, которая для Гариной была истинная сановница, – выдать некрасивую, но добрую и хорошую девушку, ее любимицу Василька.
Пелагея Михайловна уже решила, что она бы в этом случае все свое большое состояние присоединила к ее приданому и этот ее милый Василечек стал бы страшнейший богач. Но она боялась, что ни Шепелев, ни другой кто – честный малый – на ней не женится; а кто женится, так из-за денег, а такого и даром не надо. Ветрогон и мот какой-нибудь будет, нечто вроде их родного «киргиза».
– А где они? – прервал Шепелев раздумывание Пелагеи Михайловны.
– Настенька с братцем?! У Гудовичевых. Там, вишь, Лизавета Романовна будет нынче. Так и любопытно Настеньке поглядеть ее. А чего и глядеть-то! Толстохарева, так что страсть. Во сто раз дурней моего Василька.
– А это кто такая? – выговорил Шепелев.
– Кто то ись?
– А эта… Лизавета, как вы сказываете? Даниловна.
– Лизавета-то Романовна?! – И Гарина рассмеялась. – Вишь, не знает! Ах ты, деревенщина! Неужто ты по сю пору о Лизавете Романовне ничего не слыхал? О Воронцовой?
– Ах, Воронцова! – воскликнул Шепелев. – Как же! Она ведь… – И молодой человек запнулся.
– Ну, то-то! Помалкивай! А то, не ровен час, брат, улетишь в Пелым. – И Пелагея Михайловна, помолчав, покачала головой и прибавила: – Да, мудреное дело. Как ни раскинь, все-таки удивительно выходит. Государыня этакая писаная красавица, про каких только в сказках описуется, а тут этакую себе выискать для любования. Хоть бы еще ту сестрицу, что за Дашкова сбыли недавно; тоже неказистая, нос-то, поди, что твой картофель, но все-таки лицом много благообразнее. А ведь у Лизаветы-то Романовны все лицо как с морозу опухше, да и сама-то вся расползлась. Вот вы, мужья, каковы! И много я в жизни видала: жена законная ангел и красота, а муженек-то прилипнет к бабе-яге какой или уроду. Вот я старая девица, мне за полста лет, а лицом я была не хуже сестрицы покойной княгини, и состояние мое было не меньше, когда нас батюшка разделил; а потом мое-то состояньице стало при порядливости и вдвое больше сестриного. А никогда я замуж не вышла. Ты как об этом, Дмитрий, посудишь? Почему я в девках сижу? Аль за мной ухаживателей не бывало?
Шепелев молчал, и Гарина прибавила:
– И знаю я, что ты мыслишь. И врешь, родимый, врешь. Были за мной ухаживатели. Да какие еще! И Куракин был, и Баскаков был, и немец, что при кесарском посланнике состоял, звали Христиан Морген… Моргенштрю, что ли! Или Моргенфрю! Тьфу, не то! Ну, не помню! А нынешний фельдмаршал Никита Юрьевич, Трубецкой князь, два года за мной ходил, да таково вздыхал, что пыль подымал по дороге. И ни за кого не пошла. С вами, ворами, нельзя водиться, с мужчинами. Прости, голубчик, это я не тебя обругала, а всю, значит, вашу мужскую линию – ветрогонную…
– Ведь не все же ветрогоны, – выговорил Шепелев рассеянно и будто думая о чем-то другом.
– Не знаю, может быть, и не все, да я-то таких не видала. Ваш брат до тридцати годов завсегда почти умница, а как ему четвертый десяток пойдет, так и начнет куролесить. Ну, вестимо, есть другие, что чуть не с пеленок буянствуют и дерутся и куражатся на все лады. Вот хоть бы буяны Орловы или вот наш «киргиз». Ну, нешто можно девушке из знатного семейства за него выйти?
– Да ведь Глеб Андреевич, так-то сказать, добрый человек, – выговорил Шепелев таким голосом, что Пелагея Михайловна почувствовала, что он лжет, и рассердилась:
– Уж ты передо мной-то хвостом не верти! Да и нашел, кого под защиту брать! Телушка за волка распинается: не волк-де съел, сама-де съелась у волка в утробе.
Наступило молчание. Шепелев воспользовался им, чтобы взяться за шляпу, и стал прощаться.
– Вишь, темнота. Обожди, может, небо прояснит, – советовала Гарина. – Напрасно ты, голубчик, пешком к нам ходишь да запаздываешь. Третьевось в овражке тут у приказчика моего ограбили оброк. Ночевать-то, обида, как жениха оставить тебя нельзя, пересуды будут. Уж ты бы верхом, что ли, ездил. Лошадь бы купил себе.
– Не на что, Пелагея Михайловна, – весело рассмеялся Шепелев. – А то бы давно купил.
– Ну вот, не на что! Отпиши матери, скажи – хуже, убьют грабители. Тут у нас нехорошие места по пути.
– Да, сказывают. Вот еще недавно рассказывали, что голштинские солдаты здесь грабят по ночам.
– Какие там голштинские! Голштинцы сидят в своем Рамбове. Все это враки. Свои, голубчик, занимаются – свои, православные. Ведь дубьем по маковкам щелкают. А нешто немцы с дубовиной обращаться умеют! Все враки.
Шепелев простился с Пелагеей Михайловной и вышел в прихожую. Пока он надевал теплый тулупчик, в прихожую вышла Василек:
– Как вы опять, Дмитрий Дмитрич, поздно засиделись. Каждый раз, что вы от нас уходите, я всю ночь… – Василек запнулась и прибавила: – Очень я боюсь, когда кто-нибудь ночью в город идет от нас.
И слово «кто-нибудь» как-то особенно оттенилось в речи ее, будто умышленно.
– Ничего, Бог милостив, – равнодушно отозвался юноша, спускаясь по лестнице. – Сколько раз благополучно домой добирался.
– Тьфу, тьфу, сухо дерево! Не сглазьте! – быстро оживясь, выговорила Василек ему вдогонку.
XX
Шепелев вышел на улицу, совершенно пустынную и глухую. Сначала ему показалось темно на дворе, но затем через минуту благодаря месяцу, выплывшему из-за тучи, на дворе стало светло, как днем.
Юноша быстрой походкой, скрипя сапогами по морозному снегу, притоптанному желтой лентой среди улицы, бодро зашагал вдоль сугробов, заборов и пустырей.
«Авось ничего, – думал он, – сколько раз тут хаживал. Да притом не немцы рамбовские, а свои, православные грабят, говорит Пелагея Михайловна, оно все-таки не так страшно. Со своим-то братом грабителем и поговорить можно; ну тулуп, что ли, отдам да и побегу домой. А вот если бы немец – беда. Тут со страху не токмо „нихт-михт” скажешь, а хуже того, растеряешься, по-петушиному заговоришь».
И молодой человек быстро шагал, раздумывая, как часто случалось ему, о том, трус он или нет? За последнее время, после его поступления в преображенцы, этот вопрос часто появлялся в его голове, и он никак не мог решить его. Иногда ему казалось, что он «ничего», как и всякий другой офицер или солдат, за себя постоит; иногда же случалось ему пугаться пустяков, чувствовать дрожь по спине, и язык прилипал к гортани. И затем малый долго укорял себя: «Трусишка, девка красная, щенок. Всякой вороны пугаешься!»
Уже около получаса, как шагал Шепелев по узкой протоптанной дороге, где, очевидно, ездили только в санях, да и то больше в крестьянских дровнях. Он изредка оглядывался и назад, на освещенную луной пустынную улицу, и с невольным чувством боязни вглядывался, нет ли кого позади него. Наконец при повороте за угол в другую улицу, где был овраг и мост, насчет которого предупреждал его рядовой Державин, и где ограбили приказчика Гариной, он снова огляделся. Поворачивая за угол, он увидел, что за ним вдали зачернелось что-то и быстро увеличивалось.
«Это не грабители, – подумал он. – Кто-то едет». Через несколько мгновений молодой человек уже приближался к мосту и невольно пристально оглядывал его со всех сторон. И вот вдруг сердце в нем екнуло.
– Показалось! Помилуй бог! – чуть не вскрикнул он, ободряя себя.
Но нет, не показалось. Из-под моста появились две фигуры, и бородатый мужик с дубиной, медленно обходя мост, чтобы преградить ему дорогу, крикнул весело, как показалось Шепелеву, несмотря на страх:
– Не спеши, барин! Аль не барин, солдат. Не спеши! Тутотка по ночам не указано ходить.
Шепелев хотел что-то произнести, но не мог. Мужик поднялся на мост, молодой человек хотел броситься бежать назад, но сзади поднимался на тот же мост другой товарищ. Невольно и почти бессознательно он взмахнул пустыми руками и крикнул, задыхаясь:
– Не подходи, убью!
Но оба мужика с обеих сторон какой-то спокойной походкой приближались к нему.
– Вишь, какой страшный! А ну, убей! Погляжу! – выговорил, подходя, молодой парень с дубиной. – Ну, не маши. А то вот я размахнусь, так взаправду ты у меня пополам перелетишь.
В ту же минуту бородатый мужик взял юношу за плечо и выговорил спокойно:
– Давай-кась тулуп и сапоги, а достальное – Господь с тобой. Нам не треба вашей амунички; и продать-то нельзя, не покупают. А вот тулупчишко и сапожки – это можно.
Оба мужика стали расстегивать с крючков тулупчик и едва успели снять его с оробевшего Шепелева, как один из них, бородатый, ахнул и бросился бежать опрометью с моста в сторону. Молодой парень пустился за ним. В ту же минуту из-за угла шибкой рысью появилась и приблизилась тройка лошадей и большие сани.
Шепелев невольно бросился навстречу саням, крича:
– Стой! Стой!
Тройка остановилась, но кучер крикнул ему:
– Пошел с дороги! Раздавлю! Меня не ограбишь, а то вот господа из ружьев убьют!
Но сидевшие в санях поднялись на своих местах и, приглядевшись, очевидно, поняли настоящее положение дела.
– Вот, Степан, те воры, а это преображенец. Они убежали с платьем его. Вон они…
Шепелев быстро приблизился к саням и увидел в них двух молодых офицеров в полузнакомых ему мундирах, так как он еще не привык распознавать гвардейские полки. Это были измайловцы или кирасиры.
– Сделайте милость, – заговорил молодой человек взволнованным голосом, – не оставляйте меня! Меня сейчас ограбили. Вы уедете, они опять меня догонят. Да и далеко идти, озябнешь в одном сюртуке.
Оба офицера, крайне моложавые на вид, казалось, чуть не по пятнадцати лет каждый, зашептались между собой и вдруг начали громко хохотать. Смех этот был настолько неожиданный, веселый и детски искренний, что Шепелев сам чуть не улыбнулся.
– Ну, садитесь, нечего делать. Довезем и будем вашими спасителями. Ведь вы, кажется, не простой солдат, вы рядовой из дворян?
– Да-с.
– Ну, вот я и права! – вымолвил офицер и вдруг будто смутился, но тотчас же засмеялся звучным, почти детским смехом.
Шепелев не заметил ничего, влез на облучок около кучера и себя не помнил от радости. Мысленно он клялся никогда более пешком не ходить к Тюфякиным. Тройка двигалась небольшой рысью, так как узкая дорога не позволяла ехать шибче, ибо пристяжные то и дело проваливались в мягком снегу.
– И как это тут одним ходить по ночам? – заговорил кучер. – Я вот сказывал, моя правда и вышла, – обернулся он в сани. – Вот видите, барыня… ох, тьфу!.. барин. Видите, барин, говорил я: скверное тут место, воровское… Первый раз поехали и вот одного уже упасли. А в другой раз, поди, и нас кто ограбит и коней отобьет. И прощай, лошадушки.
– Ну, перестань, не болтай! – выговорил другой офицер, молчавший до тех пор.
Голос его показался Шепелеву еще мягче, звучнее, еще более юношеский, нежели голос первого, и вдобавок со странным акцентом, выдававшим будто нерусское происхождение.
Шепелев, окончательно придя теперь в себя, обернулся к своим новым знакомым и стал всматриваться в них. Оба офицера были действительно крайне моложавы, а второй, сейчас заговоривший, был замечательно красив собой. Несмотря на то что месяц скрылся снова за тучи, Шепелев мог разглядеть обоих, и лицо второго офицера показалось ему необыкновенно оригинальным. В особенности большие глаза и тонкие, черные как смоль брови поразили его. Эти брови и глаза напомнили молодому человеку портрет приятельницы его матери, который всегда висел у нее в спальне. А приятельница эта была родом не русская, а грузинская княжна.
«Совсем та матушкина приятельница, – подумал Шепелев. – Красавец офицер! Вот кабы мне быть таким!»
Офицеры зашептались снова между собой и вдруг опять начали смеяться. В эту минуту месяц скользнул из-за облака, и на улице стало снова светло, как днем.
– Ну, однако, послушайте, сударь солдат, – выговорил первый офицер. – Садитесь как следует, лицом к коням. Нечего нас так разглядывать. Сглазите, пожалуй, вместо благодарности, что мы вас захватили.
Шепелев отвернулся, как ему приказывали, и вдруг странная мысль пришла ему в голову. Ему показались эти офицеры подозрительными.
Между тем начались улицы Петербурга, дорога сделалась сразу вдвое шире. Кучер припустил тройку во всю рысь и воскликнул:
– Эх! Не любо без бубенчиков. Точно вот воры едем, ворованное везем; либо конокрады, чужую тройку угнали.
– Я тебе уже сказала, не болтай, – раздался строгий голос второго офицера.
И затем тотчас же Шепелев услыхал за спиной своей новый звонкий залп хохота.
– Я тебе сказал, не болтай, – повторил тот же красавец офицер. – Если б я был гневный барин, я бы тебя за болтовню прогнал, – продолжал офицер, как бы умышленно громко и с расстановкой, будто желая обратить внимание на свои слова.
Шепелев, сидевший рядом с кучером, заметил, как тот ухмыльнулся и потряс головой, как бы говоря: «Ох уж вы, затейники!»
Они ехали шибко и вскоре были уже около Итальянского дворца. Затем повернули на Невский проспект и быстро доскакали до площади, где налево показалась небольшая церковь – Казанский собор. Здесь тот же красивый офицер, очевидно владелец саней, остановил кучера и обратился к Шепелеву:
– Ну, господин солдат, слезайте и бегите домой. Шибко бегите, вам надо согреться. А то застудитесь, и заболеете, и умрете! И тогда не стоило мне вас спасать.
– Слушаю-с.
– Вам непременно надо жить, я вам это приказываю! – полушутя вымолвил офицер, когда Шепелев слез с облучка и стал перед санями.
– Спасибо вам, господа; от всей души благодарю, – с чувством вымолвил Шепелев, кланяясь. – Если бы не вы, бог весть, что бы было. Убили бы, пожалуй, меня.
Красивый офицер наклонился из саней и протянул Шепелеву руку. Юноша, привыкший, по обычаю, целоваться, здороваясь и прощаясь, или просто кланяться, не знал, что значит эта протянутая рука.
– Дайте руку, – сказал офицер.
Шепелев, недоумевая, протянул руку, и маленькая ручка сжала ее. И, не выпуская ее, офицер проговорил с своим странным акцентом;
– Послушайте, если мы с вами где-нибудь встретимся, то вы не дивитесь и не ахайте! Потом об этом случае не только не говорите при мне, но даже не кланяйтесь мне и не узнавайте меня, будто я вам незнаком и будто никогда мы с вами не видались. Поняли вы меня?
– Понял, – недоумевая и нерешительно произнес Шепелев.
– И не кланяйтесь и ничего не говорите со мной.
– Слушаю-с.
Офицер принял руку и погрозился пальчиком со словами:
– Если вы не исполните этого, меня узнаете, разболтаете все, то вам будет очень дурно! Я известен лично государю, тотчас же ему пожалуюсь, и вас вышлют вон из столицы. Клянусь вам святой Марией, что я не шучу. Так верно, все исполните?
– Будьте покойны. Да мы нигде никогда и не встретимся, Я нигде не бываю и никого не знаю. Ни единой души не знаю во всем Петербурге.
– Вот как? Почему ж, господин нелюдим?
– Я только очень недавно приехал в столицу поступить на службу. А родни у меня здесь нет. Прежде у меня была родственница в Петербурге, Мавра Егоровна Шувалова, приятельница покойной государыни. Она была рожденная Шепелева, и мое имя тоже Шепелев. А теперь я ни души не знаю, и мы, верно вам сказываю, нигде повстречаться не можем.
Шепелев замолчал, а офицер пристально смотрел на него своими красивыми глазами и будто раздумывал о чем-то. Этот юноша рядовой, совершенная противоположность его самого, то есть белокурый и голубоглазый красавец, очевидно, теперь привлек внимание чернобрового офицера.
– Неужели вы во всей столице совершенно никого не знаете?
– Ни единого человека из чужих. Только дядя Квасов, у которого я живу, да один рядовой нашего полка, с которым познакомился на днях, а больше ни души не знаю.
– Вы и живете у этого дяди? Как вы сказали имя?
– Квасов. У него и живу.
– Где?
– На квартире около ротного двора… Ах, еще есть! – ахнул вдруг Шепелев. – Невеста моя… ее семейство.
– Вот как! – вымолвил, звонко рассмеявшись, офицер. – Про невесту и забыли. – И, не спуская глаз с лица Шепелева, он снова будто задумался вдруг об чем-то, внезапно пришедшем на ум. Но, тотчас придя в себя, он выговорил: – Ну, Степан, ступай домой! Прощайте, господин жених. Помните вашу спасительницу от грабителей.
Сани тронулись, Шепелев стоял и смотрел недоумевая.
Вдруг ряженая красавица обернулась из саней к нему и крикнула, когда уже лошади подхватили:
– А может быть, и до свиданья!
Затем Шепелев услыхал тот же смех, веселый и громкий. Сани скрылись, а молодой рядовой все стоял неподвижно на том же месте, несмотря на пробиравший его мороз, и, наконец, выговорил:
– Вот удивительное происшествие! Ведь это еще удивительнее, чем миска на голштинце! Еще занимательнее самого даже моего нихт-михта. Расскажу дяде. Ах нет, уж лучше не расскажу, обожду, а то ведь как грозился! Чудные офицеры, точно барыни ряженые… А что, если и впрямь барыни, а не офицеры? Ведь он и сам сказал: спасительницу помнить, стало быть, кого же… его самого. Стало быть, он выходит – она. Вот уж это подлинно настоящие чудеса!!
Однако, несмотря на мечтания молодого малого, мороз окончательно пробрал его, и он с места бросился бежать во весь дух к квартире дяди. И, только пробежав около версты, он почувствовал, как члены его полузамерзлые снова отошли и снова ему стало немного теплее.
Разумеется, когда Аким Акимыч встретил племянника на крыльце, полуодетого, красноносого, посинелого, то ахнул и вскрикнул:
– А тулуп?!
– Сграбили, дядюшка! – почти весело воскликнул Шепелев, врываясь мимо Квасова в теплый коридор.
– Как сграбили?
– Да так, дядюшка, сняли; спасибо, сам цел ушел да не замерз на дороге.
– В Чухонском Яму?
– Да, дядюшка.
– Ну и чудесно! Вот теперь без теплого платья и маршируй, – озлобился Аким Акимыч.
– Другое сошьем. Что ж делать…
– Другое! Нет, шалишь… не дам. В поставщики Чухонскому Яму идти хочешь! Ведь опять снимут, коли по ночам будешь болтаться к невесте. Скажи на милость, обида какая! – воскликнул снова Аким Акимыч.
Несмотря на расспросы дяди, Шепелев ни слова не проронил о своей удивительной встрече и спасении.
XXI
Шепелев даже во сне увидел ряженого офицера, даже как видел! Офицер этот поцеловал его… Шепелев ахнул и проснулся от волнения. С этого дня и часа юноша не переставая стал думать о незнакомке, поразившей его своей красотой. И разум и сердце были сразу порабощены ею…
Утром после ротного ученья и после первого урока немецкого языка у Державина Шепелев, проходя двор, был вдруг остановлен капитаном своего полка Пассеком. Этого офицера он только видал, но никогда не случалось ему с ним разговаривать.
Шепелев знал, что это один из лучших и уважаемых в полку офицеров. Пассек же знал, что новый рядовой тоже из дворян и живет у вновь переведенного к ним лейб-кампанца Квасова, которого он невзлюбил и с которым он был в холодных отношениях. Случилось это вследствие чрезмерной строгости Квасова к солдатам, которых вообще офицеры держали крайне свободно и даже чрез меру баловали всегда.
Первый офицер полка, недавно произведенный государем в подполковники, генерал-прокурор и фельдмаршал старый князь Никита Юрьевич Трубецкой и все старшие офицеры подавали пример легкого отношения к тому, что недавно, по примеру Фридриха, стали называть заморским словом и говорили: воинский «дисциплин». У русского человека в родном языке и слова такого не нашлось.
Пассек при виде Шепелева первый, против обыкновения, издали поклонился ему и, быстро подойдя, заговорил неспокойным голосом:
– Я очень рад, что повстречался с вами, государь мой. Я шел к вам с просьбой. Вы были в ту ночь на часах у принца Жоржа вместе с Державиным?
– Точно так-с.
– Правда ли, что я слышал от этого рядового насчет внезапно явившегося ночью к принцу офицера голштинского войска?
– Сущая правда.
– В кастрюле?
– Да-с, то есть в эдакой большой чашке – серебряной…
– Вы знаете его имя?.. Но наверное!.. Не по слухам!
– Его назвал при нас камердинер принца. Это капитан или ротмейстер Котцау.
– Так это точно! Так это истинно! – с волнением выговорил Пассек, пытливо глядя в лицо юноши. – Котцау, фехтмейстер прусский? Вы слышали сами это имя?!
– Да-с.
– Приезжий недавно из Германии?
– Ну, этого я доподлинно не могу вам…
– Но имя Котцау? – прервал Пассек, видимо смущенный. – Вы хорошо помните? Это главное, что я желал бы знать от вас.
– Насчет этого я наверно могу вам доложить, потому что, когда я был потом позван к принцу в кабинет, то он, говоря с ним…
– Как в кабинет?! Так вы были у принца? Державин этого не сказал. Ради Создателя, расскажите мне все…
Шепелев стал было рассказывать подробно, но Пассек в волнении перебил его и спросил:
– Пожелаете ли вы услужить мне и моим приятелям Орловым?.. Это дело, сударь, важнее, чем вы полагаете.
– Все, что будет вам угодно приказать мне, – отвечал Шепелев.
– Вы мне сделаете великую услугу, если согласитесь немедля ехать со мной к Орловым и передать им самолично все, что вы знаете, все, что было в ночь. Там мы вас расспросим подробно обо всем…
Шепелев, слыхавший уже про братьев Орловых и про то, что у них на квартире вечное сборище всех шалунов и озорников гвардии, колебался, боясь выговора от дяди Квасова за посещение такой отпетой компании. С другой стороны, его самолюбию льстила мысль побывать в обществе известных в столице щеголей-офицеров.
Бывать у Орловых – значило быть хватом, и, конечно, ни один рядовой из дворян не бывал у них.
– Орловы будут очень рады познакомиться с вами. Они славные ребята, – сказал Пассек, видя, что Шепелев колеблется. – Вы, наконец, можете и не ходить к ним после. Я вас прошу теперь поехать, чтобы лично передать им подробности дела, очень для них важного.
Шепелев мысленно махнул рукой на дядю Квасова. Он отчасти уже собирался доказать названому дяде на деле свою самостоятельность и желание начать жить своим разумом. Он согласился, и они поехали.
Через полчаса кучер Пассека остановился у большого дома банкира Кнутсена, помещавшегося на самом углу Невского проспекта и Большой Морской, рядом со старым Зимним дворцом, который выходил углом к Полицейскому мосту.
Когда оба они входили по лестнице, то издали уже слышен был веселый гул голосов.
– Агафон! Все господа дома? – спросил Пассек показавшегося старика лакея.
– Все-с. Пожалуйте! – сказал тот, снимая шубы с гостей. – И хорошее дело, что вы прибыли, Петр Богданович. Безобразничанью помешаете.
– А что? – усмехнулся Пассек.
– А вот войдите, увидите. Ноги ломать себе хочет Григорий Григорьевич. Да и махонького Владимира-то Григорьевича искалечит. Уж его-то бы не трогали. Сейчас вот через полдюжины стульев выдумали прыгать… мало, вишь, трех…
Пассек вместе с Шепелевым вошли в большую горницу. Когда дверь отворилась, гул голосов целого десятка офицеров, хохот и спор – все прекратилось сразу от нового незнакомого лица рядового преображенца.
– А? Богданыч! Здравствуй, Петра, иди! Богдыханыч! Здорово!.. И его тоже заставить надо!.. – раздались голоса отовсюду.
Шепелев, несколько смущаясь, озирался кругом, стараясь угадать хозяев, но Пассек тотчас познакомил его с тремя офицерами, головами выше всех остальных, и назвал ему Орловых: цалмейстера Григория, преображенца Алексея и семеновца Федора.
Затем Пассек прибавил громче, как-то налегая на слова:
– Господин Шепелев, племянник нашего капитан-поручика Квасова – и живет с ним вместе.
Шепелев заметил, что кой-кто из офицеров переглянулись, а некоторые из них, и в том числе Алексей Орлов, слегка нахмурились.
– Чем прикажете угощать, сударь? – спросил Шепелева Григорий Орлов, настоящий хозяин квартиры, так как братья его жили поблизости полков.
Пассек перебил его и, объяснив, что Шепелев явился по его личной просьбе, просил всех внимательно прослушать, в чем дело.
– Расскажите, пожалуйста, подробно все, что вы видели и знаете. Только зовите того голштинским офицером, а фамилии не называйте, – сказал он Шепелеву.
Молодой человек стал рассказывать, смущаясь немного, так как все офицеры окружили его, разглядывали и внимательно слушали.
Тут были измайловцы: два брата Рославлевы и Ласунский; семеновцы: Федор Орлов и Всеволожский; преображенцы: Барятинский, Баскаков и Чертков, и конногвардейцы: Хитров и Пушкин. Самые старшие из всех летами, майор Рославлев и капитан Ласунский, стали ближе всех к Шепелеву и прерывали его несвязный рассказ вопросами…
Наконец Шепелев, рассказывая, дошел до того пункта, когда его потребовали к принцу. Алексей Орлов нетерпеливо перебил его рассказ и воскликнул, обращаясь к Пассеку:
– Ну, что ж тут любопытного?.. Ну, мы!.. Гриша и я! Мы сами сегодня всем рассказали. Ласунский давно уж знает. Ну, жаловаться приехал. Ну и черт с ним!
– А кто он такой? – спросил Пассек.
– Ротмейстер какой-то голштинский! – сказал Григорий Орлов.
– Фехтмейстер Котцау! – крикнул Пассек, как бы вдруг рассердившись.
– Что?! Кто?! Как?! – загудело десять голосов.
Алексей Орлов, отошедший было к окну, молнией обернулся назад.
– Сла-а-вно!! – воскликнул он во все горло и треснул в ладоши. – Сла-а-вно!! Приезжий фейхтмейстер! Первый ему блин русский, да комом.
– Фридриховский Котцау? – выговорил Григорий Орлов тихо и видимо смущаясь.
– Да верно ли это, сударь мой? – допрашивали Шепелева Ласунский и Федор Орлов. – Верно ли вы помните фамилию?..
Шепелев поручился за достоверность…
Веселые лица постепенно нахмурились, и все, озабоченные, окружили двух братьев, виновников истории.
Григорий Орлов слегка изменился в лице.
– Это очень дурно! – выговорил Ласунский. – Я даже не понимаю, как принц до сих пор ничего с вами не сделал.
– Я и сообразить сразу не могу, что будет теперь! – воскликнул Пассек. – Он только что приехал, представился государю и уж получил от него чин русского майора.
– Он прямо приехал от Фридриха! – заметил кто-то.
– Государь за него не только тебя, Григорий Григорьевич, велит судить, а и всем вам, да и нам с вами, несдобровать… – сказал старший Рославлев.
– Скорее решайте! Что делать? Скорее! – заговорило несколько человек.
– Ты куда? – воскликнул Пассек, увидя Алексея Орлова в шляпе.
– Я? К Трубецкому и к Скабронскому.
– Зачем?
– Я беру на себя одного! Буду Никиту Юрьевича, а не захочет, то графа Скабронского просить тотчас ехать со мной замолвить словечко гетману, а тот пусть отправится к принцу и, пожалуй, к самому государю. Нечего мешкать. А вы свое делайте…
– Погоди!.. Надо…
– Нечего годить! – крикнул Алексей Орлов уже в дверях. – Держите совет и делайте свое. А покуда вы тут будете мыслями разводить, я побываю и у Трубецкого, и у гетмана, и прежде всего у Скабронского! А вы-то, чем болтать-то, ехали бы тоже сейчас к княгине Катерине Романовне, – прибавил он, обращаясь к Пассеку и Ласунскому.
– Обожди, Алеша, дай сговориться путем. Граф Скабронский труса отпразднует и только тебя по губам помажет, – сказал Федор Орлов.
– Помажет, так и я мазну тоже, знаю чем. Ну, будьте здоровы, гут морген! – махнул рукой Алексей Орлов и вышел.
Оставшиеся заспорили. Всякий предлагал свою немедленную меру. Явившийся в горницу Агафон предложил даже ехать мириться с Котцау, хоть деньгами его закупить, если можно.
Но Григорий Орлов только рукой отмахнулся от предложения старого дядьки.
Шепелев заметил, что он стесняет советующееся общество, что многие шепчутся, отходя в углы, к окнам. Наконец он увидел нечаянно, что сам Пассек сдвинул брови и мотнул на него головой Федору Орлову, когда тот громко посоветовал брату немедленно ехать просить заступничества у государыни.
Шепелев откланялся со всеми и вышел из квартиры.
XXII
Граф Скабронский был не древнего рода и птенец императора Петра Великого.
Он говорил всегда про себя, что он столбовой дворянин, не зная, однако, что это, собственно, значит. Имя его было Иван, отца его звали также Иваном, но никто из знакомых, а еще менее из холопей, издавна не смел называть его Иваном Иванычем. Холоп за такое преступление был бы наказан нещадно «езжалами», розгами, моченными в квасе, а то и «кошками». Знакомый или приятель за такую дерзость, неумышленную, получил бы строгую отповедь, а умышленную – был бы просто выгнан вон из дому.
Графу пожелалось еще в незапамятные времена, и он добился, чтобы все звали его не иначе как Иоанн Иоаннович. Под этим именем все и знали старика. И человеческий слух настолько раб привычки, что если б кому-нибудь из обширного круга знакомых Скабронского назвали графа Ивана Иваныча, то вряд ли кто-либо по этому имени догадался и понял, о ком идет речь. Да всякому было бы теперь даже и странно выговорить: граф Иван Иваныч Скабронский. Старик вельможа так объяснял свою прихоть:
– Святого, такого чтоб Иваном звали, и в святцах нет! Есть Иоанн! Холоп может быть Иваном, Ивашкой, Ванюшкой, а дворянину кличкой зваться не приличествует. Эдак, пожалуй, иного назовут и Ванюшкой Ванюшковичем! А коли есть дворяне, кои позволяют, как вот Неплюев, сенатор, звать себя Иваном Иванычем, так вольному воля, спасенному рай. Я им не указ, и они мне не пример.
Графу Иоанну Иоанновичу было, по собственному признанию, лет семьдесят, на вид же гораздо менее; а в действительности он родился в год смерти царя Федора Алексеевича, и, следовательно, ему было теперь около восьмидесяти лет. Года эти положительно невозможно было дать графу по бодрому и молодцеватому его виду.
Граф Скабронский был высокий и сухой старик, державшийся прямо и как-то надменно, с крепкими руками и ногами, с белым лицом, почти без морщин. Недаром, видно, с двадцатилетнего возраста обтирался он ежедневно льдом с головы до пят и ел поутру ячменную кашу, по прозвищу «долговечная», а вечером простоквашу, которую запивал большим ковшом браги, и, чуть-чуть во хмелю от нее, шел он опочивать веселый, бодрый и ласковый с холопями, а особенно ласковый с той, которую называл «лебедь белая».
У графа Иоанна Иоанновича не было родственников, за исключением одного внука, полуродственника. Отца и мать он потерял еще в юности и хорошенько не помнил, когда именно это случилось; но это и не могло быть интересно.
Когда государь Петр после неудачного приступа к Азову строил суда на реке Воронеж, то в числе пригнанных на работы мастеровых находились два брата Скабронских, оба подмастерья-столяры родом из города Романова. Старшему, Стеньке, было шестнадцать лет, второму, Ваньке, тринадцать лет. Оба парня оказались в строении искуснее многих взрослых и мастеров. Старший сделался близким лицом Петра Алексеевича и не отлучался от него до самой смерти своей. За год до кончины Петра Великого, благодаря брату Степану, любимцу государя, и Иван Скабронский стал дворянином и графом и долго пережил его. А благодаря тому, что держался всегда в стороне ото всех партий столицы и двора, прожил счастливо в Петербурге три четверти столетия. На его глазах сменялись государи и государыни, немцы и русские, фавориты и временщики – одни возвышались, другие падали и уезжали в ссылку, одни вымирали, другие нарождались… А он сидел и сидел в Петербурге на Васильевском острове, на набережной Невы, в своем доме, и спокойно взирал на круговорот, совершавшийся около него и на его глазах. Судьба других лиц его научала и воспитывала, и он пользовался теми уроками, какие судьба давала Меншиковым, Волынским, Минихам, Биронам, Бестужевым.
«Чем выше влезешь, тем больнее свалишься!» – думал и говорил Иоанн Иоаннович.
Не только люди, а даже дом, находившийся рядом с его домом, был игрушкой судьбы, а для него образчиком времени и назидательным примером.
Дом этот, великолепный и богатый, на его глазах переходил из рук в руки – дарился, конфисковался, передавался, опять отбирался. Иногда он долго стоял пустой и ничей, не принадлежа никому, так как хозяин был в свой черед в ссылке в Пелыме или в Березове, а новый фаворит или временщик еще хлопотал только о приобретении конфискованного. Дом этот, будучи, наконец, конфискован у сосланного Миниха, обратился в больницу.
– Слава тебе господи! – сказал граф, узнав об этом. – Авось нынешнего моего соседа никуда не сошлют. Хоть и невесел этот сосед, да все лучше, чем немец какой, с которым из-за одного соседства как раз тоже угодишь на Белое море.
Граф, бывший на службе всю жизнь «по долгу дворянскому», ничем не заявил себя ни при воинских, ни при статских делах, но был по очереди хорош со всеми временщиками и хорошо принят ко всем очередным дворам.
И так прожил он до седьмого царствования.
У графа не было ни одного врага во всю его жизнь, но зато в восемьдесят лет от роду он не имел, да и припомнить не мог в прошлом ни одного истинного друга.
Он был мастер водить хлеб-соль со всяким и быть вечно в доброй приязни со всеми, держась и не очень далеко, и не очень близко. Когда же обстоятельства побуждали высказаться, то он предпочитал засесть дома и слечь в постель, сказываясь хворым. Приказав запереть ворота, он болел, покуда событие совершалось… болел, как говорили, «лихорадкой в пятках».
Так проболел он при ссылке Меншикова, за время пыток и казни Волынского. Точно так же опасно хворал он первые дни после ссылки Бирона, а равно и во дни ареста правительницы Анны с младенцем императором.
Царствование «дщери Петровой» было самое приятное, спокойное и выгодное для графа Иоанна Иоанновича. Он был осыпан милостями императрицы и, как брат «птенца» Петра Великого, был сделан генералом, сенатором и подполковником Семеновского полка. И в первый свой приезд в сенат новый сенатор предложил воздвигнуть золотую статую государыне. Сенат единогласно присоединился к этому предложению, но царица отклонила от себя эту честь.
За это же время случилось три нравственных переворота в его жизни.
Во-первых, не знав дружбы, он вдруг действительно познал дружбу, привязавшись искренне и сердечно к гетману графу Кириллу Разумовскому. Затем, второй переворот был тот, что граф приучил себя через силу нюхать табак, потому что получил от императрицы великолепную табакерку, осыпанную бриллиантами и яхонтами с ее изображением в виде нимфы. Подобный же портрет имел от государыни только один граф Алексей Григорьевич Разумовский, на яблоке из агата, украшавшем трость.
Третье событие в жизни графа Скабронского, или переворот, случившийся с ним, произошел еще в последний год царствования Анны Иоанновны. Граф, будучи уже шестидесяти лет от роду, всеми силами и всеми слабостями себялюбивой души своей предался, как младенец безгласный, в руки очаровательницы. Все остальные, до этой, были рабынями графа. Но и это продолжалось недолго, так как «владычица» его умерла вскоре.
Под конец своего царствования императрица Елизавета, веря в честность графа, собиралась назначить его на одну из самых выгодных должностей в империи, при которой мудрено было не сделаться лихоимцем, а именно – на должность генерала кригскомиссара. Малоспособность, лень и года графа заставляли ближайших ей людей препятствовать этому назначению, но государыня была сердита на Глебова и упорно стояла на своем. Однако дело окончилось проще. Граф сам наотрез отказался от места «за преклонными годами». Дальновидный Иоанн Иоаннович расчел, что больная и все слабеющая государыня долго не проживет, стало быть, наступали минуты, в которые придется ему снова запирать ворота на запор и «хворать», так как все ожидали, что наследник престола начнет гнать все елизаветинское и гнуть на немцеву сторону. Пойдут опальные, ссылки, конфискации и херы, то есть уничтожение многого, появившегося на свет в предыдущее царствование. Граф к тому же боялся за себя более, чем когда-либо, потому что считался в числе любимцев государыни, был друг и приятель Разумовских и враг (насколько мог только быть им, на словах) всех своих и заграничных немцев.
В самое Рождество после обеда, при известии о кончине императрицы, Иоанн Иоаннович сразу тяжко захворал, запер ворота, приказал дворне «прикурнуть» и не дышать. И в темном, неосвещенном доме своем он уселся с одной свечой, и то в опочивальне, окнами выходившей не на Неву, а во внутренний двор.
Не велев никого пускать, он особенно наказал не пускать во двор ни своего друга гетмана, ни кого-либо из его людей с посылкой ли, цидулей или с чем бы то ни было.
На этот раз граф хворал и недужился еще усерднее и даже в постель ложился, чутко прислушиваясь ко всякому слуху в городе, к малейшему шуму на улице и у ворот. Он заперся так крепко и болел так долго и прилежно, что некоторые его знакомые, хорошо знавшие это его «колено» при всякой перемене правительства, все-таки подумали, наконец, что старик и воистину умирает. Однако перед Масленицей граф узнал о нежданных милостях и щедротах нового императора, и ему стало полегче. А узнав главное, то есть что братья графы Разумовские не поехали и не поедут «глядеть, где солнце встает», а спокойно проживают в своих дворцах, оставаясь в тех же званиях гетмана и фельдмаршала, граф Иоанн Иоаннович сразу выздоровел. Велев отворить ворота и запрягать свою громадную карету цугом самых великолепных в столице вороных коней, он в парадном кафтане, во всех орденах и даже с табакеркой в кармане выехал из дому… Но он уж поразнюхал во время своего хворания, к кому теперь поближе подвинуться и от кого подальше отодвинуться.
Граф Скабронский прежде всего отправился во дворец и был принят государем равнодушно.
– Ни шатко, ни валко, ни на сторону! – выразился о приеме этом сам граф. – Тужить не тужи, а ликование отложи.
От государя граф прямо поехал к прибывшему вновь принцу Жоржу, затем к графу Воронцову, отцу фаворитки, а оттуда уже к другу своему гетману.
Добрый граф Кирилл Григорьевич не был сердит на осторожного друга вельможу, а весело встретил и обнял приятеля. Облобызав его, малоросс выговорил, хитро ухмыляясь:
– Ну, поздравляю, батя, с новым монархом. Паки на Руси воцарился Петр. От Петра и до Петра прожил ты. Можешь помирать теперь.
– Родяся во дни великого Петра, друже мой, горько помирать будет во дни махонького! – шепнул граф, озираясь кругом себя.
Однако на другой же день граф прямо отправился в сенат и внес предложение: монарху, начинающему свое царствование столь великими щедротами, «как вольность дворянская» и уничтожение «слова и дела», подобает немедленно воздвигнуть в столице золотую статую!
Единогласно и громогласно присоединяясь к предложению товарища, господа сенаторы подумывали про себя:
«Заладила Маланья! Хоть бы новенькое что надумал!»
Глебов поверг к стопам монарха решение сенаторов.
Юный государь отказался тоже от предложенной статуи и отвечал:
– Лучше золоту дать более полезное назначение. Я сам моими деяниями воздвигну себе нетленный памятник в сердцах подданных!..
XXIII
Помимо внука после старшего брата графа Степана, у Иоанна Иоанновича теперь не было никакой родни, и когда напрашивался кой-кто к нему в родню, то он говорил прямо:
– Я твой финт смекаю, голубчик. У тебя с моими поместьями да угодьями родство оказалось…
Женат граф не был ни разу и детей боковых никогда тоже не имел. Схоронив многих «вольных женок» и будучи еще пятидесяти лет, стал он жаловаться, что «слабая баба родиться начала на Руси», и решил, наконец, сочетаться законным браком, но не на сдобной какой девке, а на такой, которая бы «крепка» была и духом и телом. Много стали сватать невест именитому и еще бодрому богачу вельможе, но он был разборчив и все искал и выбирал – выбирал и колебался.
«Все сдобны, а не крепки!»
Наконец однажды, будучи в Новгороде проездом в жалованное имение, увидел он в соборе одну девицу, усердно молившуюся за обедней, и подумал было, что вдруг негаданно нашел воплощение своей мечты. Молившаяся была так велика, и дородна, и румяна, и здоровенна, что, стоя пред царскими вратами, совершенно заслоняла собой дьякона на амвоне.
Граф после обедни подошел к старушке, стоявшей около девицы, и познакомился с ней. Обе оказались новгородские дворянки, небогатые, однако родовитые… Но, заговорив с «крепкой девицей», которая обещала по виду не умереть так же легко, как умирали его «вольные женки», граф Иоанн Иоаннович узнал, что мечты его разбились в прах… Девица оказалась страдающею «от глаза» с самого детства, почти с колыбели. Ее сглазили маленькою лихие люди.
На вопросы графа об девице старушка, оказавшаяся ее теткой, охотно отвечала подробно:
– Она у нас сглажена, ваше сиятельство. Не говорит ничего.
– Да хоть малость-то самую? – спросил граф, думая про себя: «И доброе дело. Болтушкой не будет».
– Ни-ни, государь мой, ниже есть и пить попросить не умеет. Мычит или пальцами кажет. Немая.
«Это бы еще не беда! – сообразил про себя граф, любуясь румяной великаншей. – Что нужно – поймет».
– И не слышит тоже ничего! – продолжала тетка, соболезнуя.
– И глухая! – воскликнул граф.
– Глухая, сударь мой.
– Да хоть малость-то самую слышит? – умолял уже почти граф Иоанн Иоаннович.
– Ни то ись, ни сориночки не слышит! Хоть в ухо ее тресни, не услышит…
Граф вздохнул и развел руками.
«Не судьба!» – подумал он досадливо. Немую да глухую сделать графиней Скабронской казалось ему срамным делом. Будь она богатейшая и сановитая девица, а он мелкота, однодворец какой – тогда бы можно еще. И людям было бы несмешно и не зазорно, а так, в его положении – дело выходило непокладное.
– А как звать?
– Агафья, по отечеству Семеновна.
«Агафья Семеновна. Да. Обида!» – повторял про себя граф, глядя в румяное и пухлое лицо девицы. И сдобна и крепка была девица, чего больше. Показалась она графу малость дурковата, но зато лицо все такое белое и алое, здоровое да веселое… Стоит она, глядит на него да смеется. Малость пучеглаза – да это не лих. Малость как будто ротозея – да это бы тоже не лих. Летом мухи в рот залезут – да это что ж!.. Развел Иоанн Иоаннович руками, поклонился обеим и вышел из собора с досадой на сердце. Не будь девица глухонемая, то через месяц была бы его законная жена.
С той поры, вернувшись в Петербург, Иоанн Иоаннович и смотрины невест бросил. После новгородской девицы все петербургские казались ему и тощи, и жидки, и худотельны, и поджары, и все, как сказывается, макарьевского пригона!
«Обойдусь и без супруги, коли Бог не велел найти подходящую. А жениться на хворобной какой, чтоб умерла, – не стоит того».
За это время в жизни графа был только один, как увидим далее, крупный любопытный случай: появление из Франции родного внука-парижанина. Разделавшись с этим внуком и единственным законным наследником и в то же время бросив совсем мысль о женитьбе, граф позвал своего первого дворецкого Масея и любимого человека Жука (как было его имя при святом крещении – никто не знал), велел им созвать всю дворню, начиная от повара и поварих и кончая последним «побегушкой» Афонькой, которому было четырнадцать лет.
Около сотни дворовых собрались в залу и стали рядами по стенам, пуча глаза на барина и не зная, драть ли их согнали или обдаривать.
– Должно быть, драть, по тому случаю, что ныне не Рождество и не Пасха.
Граф вышел из опочивальни в сопровождении заседателя и повытчиков из суда, сел в кресло на возвышении и сказал:
– Слушайте, мои верные рабы, и ты, Масей, ответствуй мне за них, потому что негодно зараз всем им горланить. Срамно будет слушать, да и оглушат, черти. Ну, Масей, говори, люблю ли я вас, моих верных холопей, царем и великим императором мне жалованных и Богом мне подвластных? Ну, люблю ль и милостью моей взыскиваю ли по мере служенья каждого?
– Любишь, родной и именитый граф, ваше сиятельство, кормилец и поилец наш, – бойко и громко отвечал Масей накануне выученное и вдолбленное ему в голову самим Иоанном Иоанновичем.
– Обидел ли я кого когда?
– Николи сего не видывано и не слыхивано было, именитый граф.
– Учил ли я вас, когда нужда была?
– Учил, батюшка, учил. На том тебе душевно благодарствуем.
– Отдам ли я ответ Богу, что забывал и пренебрегал учить вас уму-разуму?
– Нет, родимый. В сем ты не грешен, завсегда учил.
– Ну, любите ль и почитаете ль вы меня, вашего господина?
Гул глухой пошел по зале; холопы, не стерпя вопросов таких необычных, заговорили вдруг, несмотря на запрещенье, но граф не разгневался.
– Ну вижу, что любите… Слушайте же, что честь будут вам вот эти кровопийцы! – показал граф на заседателя и повытчиков. – Ну, крючок, прочисти глотку и чти.
Чиновник откашлялся и начал читать.
Чтение продолжалось долго.
Иных отдельных слов и целых страниц тетради из желтоватой бумаги верные слуги графские не поняли совсем, но все содержанье и смысл тетради поняли ясно, хотя сразу не поверили и думали, что барин глаза отводит и себе на уме – затеял что-то преехидное. Должно быть, сейчас после чтения всех передерут, а то и совсем что-нибудь необыкновенное выйдет.
Тетрадь оказалась завещанием графа, которое гласило, что после его смерти все вотчины и имения его отходят во владение различных монастырей. Дворовые же люди, начиная с дворецкого Масея и кончая побегушкой Афонькой, получат вольную и большое денежное награждение.
Масею приходились тысяча рублей, лисья шуба и все платье, а Афоньке – двадцать пять рублей и два холста.
– Слышали? – воскликнул граф в конце чтения. – Отвечай все…
– Слышали! – рявкнул стоустый пучеглазый зверь.
– Ну, кровопийца, читай загвоздку… – обернулся граф к заседателю суда.
Чиновник прочел еще страницу, в которой говорилось, что если граф умрет в покое и благоденствии и будет ему мирная кончина – то оное его завещание будет нерушимо исполнено. Если же кончина графа будет, чего боже избави, от руки злодея и татя, лихого человека или даже от покуса собаки, выпадения из рыдвана, сокрушения конями, отравления зельем, яствами, наварками или от какого иного несчастья, в котором будет повинен хоть один кто-либо из дворовых, то завещание сие силу свою получает таковую, каково есть писание вилами по воде.
Вначале никто, кроме Масея, ничего не понял из этой выдумки графа, но затем в течение нескольких дней холопы поняли, что надо беречь барина всячески, что слово его крепко. И если он скончается мирно, не от беды какой, а своею графскою, от Господа Бога уготованною смертью, то все они будут и вольные и награждены рублями на разживу.
С той поры дворня берегла своего барина как зеницу ока и с каждым годом все более и более ублажала, лелеяла и в глаза ему глядела.
XXIV
Через три дня после того как Шепелев побывал у братьев Орловых, в квартире цалмейстера Григория снова собрались в сумерки его приятели Ласунский, Пассек и братья Всеволожские.
На этот раз ни закуски, ни веселья, ни разных ребяческих затей не было, все сидели угрюмые, в особенности сам хозяин, который был даже сильно смущен и взволнован.
– Что мы? Наплевать на нас! – повторял он без конца. – И сошлют – не беда! Везде люди живут, и через стулья везде прыгать можно, и на медведей ездить можно, и красавицы водятся не в одном Петербурге. А дело наше? Все дело пропадет, а бог весть, может быть, оно бы и выгорело.
Орлов узнал накануне, что государь был будто бы сильно разгневан, узнав об истории с Котцау.
Любимец Фридриха, фехтмейстер, профессор всевозможных фехтований на разных оружиях, был прислан от прусского короля государю, так сказать, в подарок, для обучения русских войск, которые, по выражению нового государя, умели теперь ловко драться только на кулаках. И вдруг этот фехтмейстер, едва успевший представиться государю и вступить в должность, только что начавший давать уроки фехтования самому старому и слабосильному принцу Георгу, был оскорблен самым дерзким и смешным образом офицерами той самой гвардии, которую приехал преобразовывать.
Все коноводы немецкой партии в Петербурге, или, как называли их вообще, «голштинцы», были ли они офицерами потешного голштинского войска или были просто немцы, – все вознегодовали и заволновались. Эта партия, увеличивавшаяся не по дням, а по часам и приобретавшая все большее и большее значение при дворе, имела во главе своей принца Георга и ненавистно или презрительно относилась ко всем выдающимся личностям той партии, которую теперь уже начинали называть свысока «лизаветинцами». «Лизаветинцем» считался влиятельный сановник прошлого царствования, оставшийся теперь как бы за штатом, вроде двух братьев Разумовских; «лизаветинцем» был, конечно, и лейб-кампанец Квасов и тому подобные. Наконец, «лизаветинцем» обзывался всякий, кто не знал и не хотел учиться по-немецки, всякий, кто косо поглядывал на офицера или солдата голштинского войска, всякий, кто не скрывал тщательно своего сочувствия к молодой императрице.
Офицеры кружка Орловых, более чем кто-либо из гвардии, считались тоже «лизаветинцами». Григорий и Алексей Орловы были, кроме того, коротко известны многим немцам своею родовой непостижимой силой, и поэтому многие храбрецы голштинской партии постоянно праздновали труса перед ними и, разумеется, искренне ненавидели их за это.
Цалмейстер Григорий постоянно имел всякого рода приключения с разными красавицами Петербурга, и немало нашлось теперь в столице мужей, которые тоже присоединились к яростным врагам двух провинившихся богатырей.
Наконец, оба брата, широко мотая состояние, недавно полученное по наследству, пользовались известного рода популярностью. Во всяком случае, когда Орловы проезжали по улицам Петербурга, то им простолюдины чаще и охотнее ломали шапку направо и налево, чем при проезде самого принца Жоржа. К довершению всего Орловы были невоздержанны на язык, шутили и острили так метко и хлёстко, что и этим нажили себе немало тайных и явных врагов.
Теперь многие возликовали, когда стало известно, что оба брата будут арестованы и затем высланы, по крайней мере, в Вологду или Кострому на жительство.
В это утро в квартире Григория Орлова было совещание, как избегнуть ареста, ожидаемого ежеминутно. Уже час, как совещались они, но ничего придумать не могли. Все их поездки по городу, упрашивания разных сановников, братьев Разумовских, графа Скабронского, княгини Дашковой, воспитателя наследника престола Панина, ни к чему не привели. Никто не решался из «лизаветинцев», чувствовавших и под собой нетвердую почву при новом царствовании, ехать хлопотать за двоих добрых малых, но отъявленных и неисправимых озорников.
Пассек и Всеволожский испробовали накануне последнее средство, то есть решились просить – через старика канцлера Воронцова – заступиться перед государем саму графиню Воронцову, и тоже привезли известие, что дочь отказала отцу просить государя. Впрочем, одновременно они узнали, что фаворитка действительно просила государя, но он отказал и, не желая, чтобы в Петербурге было известно, что он способен когда-либо и в чем-либо отказать Воронцовой, посоветовал ей отвечать, что она и не просила его. Молодые люди сидели теперь угрюмые под поразившим их ударом.
– Да, кабы знать это, – говорил Алексей Орлов, – я бы теперь согласился на четвереньки стать и у этой бестии прощения просить. Хоть на себя сам надену такую же миску да целый месяц в ней буду по Петербургу разъезжать. Да что говорить! – махнул он рукой. – На все пойду, всякую подлость сделаю, и стыдно не будет, потому буду знать, что не из малодушества делаю, а ради дела, ради того, что нам важнее собственной шкуры и что от нашей ссылки прахом пойдет. Хоть вы и обещаетесь не дремать, – прибавил он, глядя на приятелей, – а все ж таки как ни говорите, а без братьев и без меня вам будет много мудренее. Мы боле вас в эту складчину-то даем… Вы положили любовь, усердие… вотчины, у кого они есть… А мы ведь и головы кладем, на тот случай, что нужда в них будет.
На это никто не отвечал; всякий понимал отлично, что это правда и если орловская квартира опустеет, если три богатыря, о двух головах каждый, имевшие много врагов в столице, но зато имевшие и много друзей, будут сосланы, то кружок расползется и великая затея, о которой они теперь так часто совещаются и мечтают, канет навсегда в воду. Григорий Орлов встал, походил по комнате и выговорил, наконец, раздражительно:
– И этого старого хрыча Агафошки нигде нет, точно на смех! С утра ничего не ел. Просто хоть думай, что его допрежде нас арестовали. Никогда с ним за десять лет службы такого не бывало.
– Да где он? – выговорил Алексей.
– Где? То-то и есть – где? С утра провалился как сквозь землю.
Федор Орлов отправился в соседние комнаты, затем и на двор, очевидно, с тем, чтобы поискать старика лакея, но вернулся, не найдя его нигде.
– Давай сами себе состряпаем что-нибудь поесть, – выговорил Григорий, – может быть, коли сошлют, куда Макар телят не гонял, да без гроша денег, так придется и без того в повара наниматься к какому-нибудь немецкому князю или барону.
– В ссылочных местах таковых теперь нету! – заметил Пассек.
Молодежь невольно рассмеялась и поднялась с мест.
И, несмотря на то что в это утро, конечно, им было не до веселья, Орловы со смехом, сопутствуемые приятелями, вышли в буфет и начали таскать из шкафов все, что попадалось, – бутылки и съестное.
Но в ту минуту, когда очищались шкафы и полки холодной кладовой, вдруг над молодыми людьми раздался громовой голос:
– Это что? Нешто это можно? Ах, головорезы, разбойники! – И Агафон в тулупе и шапке, багрово-синий от мороза, очутился среди молодежи.
– Куда ты провалился, старый хрыч? – сердито выговорил Григорий. – Ну, давай скорей закусить; чуть было голодом не уморил. Куда ты провалился? А?
– Стало быть, нужно было! – гневно воскликнул Агафон. – А вам все ж таки не рука лазать да шарить в моих шкафах. И посуду переколотите, да беспорядицу еще такую наделаете, что в месяц не разберешься! Это еще что? Пошел, пошел! Не тронь! Не дам! – крикнул он на Алексея Орлова, отнимая у него блюдо с остатками гуся и капусты.
– Ну, полно, Фофошка! – угрюмо вымолвил Алексей, уступая, однако, блюдо старому лакею. – Круто ведь приходится, не до смеху, брат; и прибираться тебе не придется тут. Сегодня же мы под арест махнем, а там и в ссылку.
– Должно быть! Так мы в ссылку и поехали! Шалишь, паренек! Густо хлебать хочешь. Пускай другие едут! Не на то я вас махонькими сморкаться учил в платочки да теплой водичкой раза по два в день подмывал… А теперь, вишь, вы в ссылку поедете!..
Молодежь примолкла и прислушалась к словам старика.
– Разденусь вот, отогреюсь, подам всем закусить да и поясню, как вам, озорникам, из беды вылезти… Вот серебряные миски на головы-то вздевать умеете, а чуровать себя не умеете. Мне же приходится вас выручать!
Так как старик дядька никогда зря не болтал и не шутил в серьезные минуты жизни своего Григория Григорьевича, то каждое слово Агафона имело теперь особенное значение. Никогда еще такие слова его не оказывались потом пустяками. Это знали даже все приятели Орловых, и теперь вдруг вся молодежь, побросав кто тарелку, кто ножик, кто соусник, окружила старого дядьку.
– Что ты, Фофошка? – выговорил Алексей Орлов первый, подходя и пытливо вглядываясь в замороженное лицо старика. – Ты смотри не балуй; верно сказываю, не до смеху нам.
– Ну, ладно, учи больше. Уходите наперво отсюда. Вишь, все переворошили как! Принесу закусить и расскажу кой-что новешенькое.
– Да ты где был-то? – подступил Григорий Орлов.
– А был там, где меня нету, Григорий Григорьич. И вы тоже чудны. Нешто со мной когда бывало, чтоб я спозаранку сбежал со двора, не дав вам покушать, так, ради безделья? Эх вы, то-то вот! Я за утро-то столько делов переделал, что у меня в голове теперь вьюн вьюном. Дайте передохнуть, говорю, и все выложу.
Офицеры вышли снова в гостиную, недоумевая переглядывались, но невольно приободрились и начали шутить. Братья Орловы более других начали надеяться, что лакей-дядька что-то выдумал или узнал новое. Но они все-таки чувствовали, что за соломинку хватаются.
– Да врет просто, – заметил Пассек.
– Нет, Петр Богданыч! – отозвался Алексей. – Не знаете вы нашего Фошку. Он зря никогда рта не разинет, когда нам не до смеху.
– Вот чудное-то дело будет, – заметил Федор Орлов, всегда молчаливый и самый хладнокровный из всей компании, – если пестун устроит дело, которое у нас не выгорело, даже Елизавета евта… Романовна ничего не смогла.
И вдруг, сообразив будто нелепость этого, Федор Орлов махнул рукой и прибавил:
– Эка пустяковина! И мы-то дураки тоже. Весь Петербург обшарили и ничего не сделали, а тут вдруг наш старый хрыч Агафошка что-нибудь надумал.
– Конечно, пустяки, – угрюмо отозвался Ласунский.
Но Алексей пристально взглянул в глаза брата Григория и выговорил:
– Ну а ты, Гриша, что думаешь?
Григорий развел руками и тихо вымолвил:
– Да я-то знаю, что Фофошке случалось мне такие дела обделывать, что сам Фридрих кабы узнал, так за своим немецким ухом почесался бы и позавидовал.
Через несколько минут Агафон, понукаемый Алексеем Орловым не столько ради закуски, сколько ради того, чтобы узнать поскорее принесенные им вести, накрыл стол и подал кушанье. Все уселись, исполняя упрямое требование дядьки прежде откушать, и стали есть весело и охотно. Агафон стал около стула своего любимца, Григория Григорьевича, и начал, как бывало всегда в серьезных случаях, делать ему допрос.
– Ну! Знаете ли вы, кого мы нарядили в «Красном кабачке»? – начал он медленно и с самодовольством.
– Ну, здравствуйте! – воскликнул Алексей. – Как всегда! Начал Фофошка с Адама. Иди прямо к делу, пытатель! Ведь эдак завсегда, только дыбков да плетей не хватает, а то бы чистый застенок вышел, как у Бирона бывало.
– А ты попридержи-ка язык, – огрызнулся Агафон. – Плети да застенок припутал…
– Да нельзя же, Фофошка, с Адама начинать.
– С какого тебе Адама? Что ты грешишь? Я об голштинце спрашиваю.
– Оставь его, Алехан, ты вечно мешаешь и дело оттягиваешь. Пускай хоть с Адама начинает, да только чтобы толк вышел. Он у нас умница!
– Вот то-то! Да! – отозвался Агафон. – И прималкивай, – обернулся он к Алексею. – Вы ему прикажите все прималкивать, а то и впрямь до вечера не кончу. Ну слушайте, Григорий Григорич. Кого вы в миску-то нарядили, знаете ли?
– Знаю давно, голштинец, то есть фридриховский посланец, фехтмейстер Котцау, – покорно приготовился отвечать на допрос Григорий Орлов, как будто все более чуя, что Агафон принес если не спасение, то отсрочку ожидаемого с часу на час ареста.
– Ну, ладно, вот он это и есть пущенный гонцом от Хредлиха. Ну вот, покуда вы бегали по Питеру да просили заступничества у разных вельмож, я сидел у себя в прихожей и свое дело надумал. Ваши-то все заступники при Лизавете Петровне зубасты были, а ноне все хвосты поджали. А ноне, доложу я вам, вся сила в немце. Вы не ухмыляйтесь, я хоть и крепостной ваш холоп, а это мне сдается верно. Вот я и надумался, дай, думаю я, через своих приятелей, тоже холопов, свою канитель заведу. Ну, вот я третий день и мыкаюсь, из дома пропадаю, а ныне с зари провалился. Вон Алексей-то Григорьич, по своему ребячеству и малым годам, небось подумал, что, мол, Агафон запоем запил. Не пивши никогда за всю жизнь, теперь из кабака не выходит. Хитер ведь!!
Алексей Орлов был немногим моложе брата, и ему шел уже двадцать седьмой год, но Агафон упрямо считал его парнишкой сравнительно со своим барином, героем многих битв. Алексей всегда огрызался полушутя на старика за это искреннее убеждение, что он еще молокосос. Теперь, едва только Алексей открыл рот, как старик поспешил прибавить:
– Не прикажите ему болтать, пусть помалкивает, покуда всего не выложу.
И Агафон в мельчайших подробностях рассказал, как он с одним из приятелей, лакеем графа Воронцова, отправился в гости к людям принца Жоржа и даже познакомился с господином Михелем.
– Только уж больно в себя ушел, – прибавил Агафон, – рукой не достанешь. Вельможа будто от того, что прынцу сапоги чистит.
Затем от Жоржа, направленный приятелями, Агафон нанял пару лошадок и отправился прямо в Ораниенбаум.
– Когда? – воскликнули все в один голос.
– Вестимо, ноне, прямо оттуда, и ямщика еще не рассчитал, ждет внизу.
Старик начал было рассказывать, как хромает правая лошадь, как ногу себе зашибла где-то, но молодежь прервала старика в нетерпении.
– Ну, ну, не томи, – воскликнул Григорий, – неужто же был у самого Котцау?
– У него у самого.
– Да зачем?
– За делом.
– Да за каким делом? К нему-то?..
– А вот слушайте. Приехал, разыскал его. Нанял это он в Рамбове фатеру самую то ись мещанскую, десять рублев в месяц платит. Ладно, думаю, хорошо – это нам на руку; стало быть, немецких-то деньжищ мало, с собой не привез, а русскими еще не разжился.
И Агафон в первый раз с начала своего повествования ухмыльнулся весело и в ладоши ударил.
– Ну вот, вошел я. Два у него солдата ихних, рейтера, такие, что в «Красном кабачке» были, токмо другие, – переменил. При тех-то, знать, ему стыдно, – видели его ряженым. Сначала они меня пущать не хотели, чуть было не стали в шею гнать. Я не иду, поясняю – барина надо, а они, подлецы, вестимо, по-русски хоть бы тебе вот одно слово: что ни разинут рот, все свой хриплюн. Зашумели мы! Вдруг отворяется дверь, и входит – кто же бы вы думали? Я так и присел от радости! Анчуткин!
Оба брата Орловы недоумевая взглянули на старого дядьку.
– Какой, черт, Анчуткин? Я не знаю, – отозвался Григорий Орлов, нетерпеливо следивший за рассказом дядьки и ожидавший конца повествования.
– Анчуткин, забыли? Вашего покойного родителя священника сынишко. Он у нас махоньким в доме бывал, собирали было его тоже в семинарию, обучали, в дьяконы полагать думали, а он тебе не тут-то было, вместо дьяконов, удрамши, в солдаты сдался. И махоньким-то сам себе амуничку все стряпал да ребятишками на селе командовал. Нешто не помните, как Анчуткин с компанией своей приступом дьячиху в бане взял? Еще ваш покойный родитель всех тогда их пересечь велел.
– Ну, ну, не помню. Говори, что же дальше?
– Да нешто вы не смекаете?
– Ничего не смекаю.
– Анчуткин, стало быть, при этом немце состоит, ну, в денщиках, что ли. Из наших-то христолюбивых воинов перешел, окаянный, в голштинцы.
– Ну, ну!
– Ну вот, как мы с ним увиделись, так оба и ахнули и давай целоваться. Потом, это, вышли из дому выбрать себе местечко, где побеседовать; ушли за дрова да там и присели… И в полчаса времени все ваше дело и обделали.
– Да как? Как? Говори! – закричали почти все.
– Как? А вот как. Есть у вас двести аль триста червонцев, вот сейчас на стол класть?
– Что ж, неужто ж откупиться можно? – воскликнул Григорий Орлов. – Неужто денег возьмет Котцау?
– А почему ж это ему и не взять? – вдруг как бы обиделся Агафон.
– Не может быть, Фоша, это все пустое. Тебя твой Анчуткин надует, деньги положит в карман, и не говоря даже с Котцау. И будем мы в дураках.
Агафон обозлился на мнение барина и всех остальных офицеров, утверждая и клянясь всеми святыми, что вся сила в том, чтобы заплатить Котцау за обиду двести или триста червонцев.
– Да не возьмет он их! – воскликнул Алексей Орлов. – Фофан ты, Фошка! Не ожидал я от тебя! Сел в лужу. А я было думал, ты и впрямь что-нибудь путное надумал, Фофан.
– Ведь вот спорщик! – воскликнул Агафон. – Да ты нешто с этим голштинцем говорил? А я говорил.
– С кем? С Котцау?! – воскликнул Григорий Орлов. – Котцау ты видел?
– Вестимо, видел, он же мне и сказал, сколько возьмет.
Офицеры повскакали с мест.
– Так эдак бы и говорил! – загудели голоса со всех сторон.
– Говорил?.. Вон этот вот озорник нешто даст что путем сказать? Знай перебивает, – показал он на Алексея Орлова. – Николи не даст ничего путем рассказать. Слушайте!
Объяснение свое Агафон закончил так, что снова веселый гул, смех и крики раздались в квартире Орловых. Он передал свой разговор с Котцау, которому он был представлен Анчуткиным. Ротмейстер, конечно тотчас же признавший старика, сначала, по выражению Агафона, остервенился.
– Думал уж я, опять меня бить начнет, однако нет, Анчуткин залопотал ему по-ихнему…
– По-немецки? – спросил кто-то.
– То-то, по-немецки. Оттого и в голштинцы попал, что обучился в войну по-ихнему. Прыткий малый.
– Ну, ну, рассказывай…
– Ну вот, Анчуткин, полопотамши с ним, мне и говорит: дело это сладиться может, барин согласен получить триста червонцев за обиду, только чтобы это никто не знал, а узнает кто про это, то он откажется. А деньги эти чтобы я ему самолично от вас передал. Ну и доложу я вам, Григорий Григорич, не люблю я немцев – смерть, но доложу я вам, что этот самый Котцау, как мне сдается, не надует.
– Черт его душу знает! Может, и надует! – заметил Ласунский.
– И эвто не все, – продолжал старик. – Слушайте. Окромя эфтова, еще он требует, чтобы вы, значит, обои, вы да вот и озорник этот, обои прощение у него просили перед разными самовидцами. Чтобы при сем и голштинские были мейнгеры, и наши всей гвардии офицеры.
– Ну и это он брешет!.. – воскликнул Григорий Орлов.
– Пустое, – в ту же минуту обернулся к брату Алексей. – Что ты болтаешь, господь с тобой! Да я на четвереньках к нему подойду и прощение просить буду. Не ради себя, а ради поважнее чего. А вот когда будет на нашей улице праздник, так мы его в холщовый мешок битьем обратим за это свое нынешнее посрамление.
– Не могу я, – замотал головой Григорий, – ей-богу, не могу! Попроси я сегодня у него прощение, так меня зло будет разбирать, что я на другой же день, чтобы душу отвести, нарочно в Рамбов поеду его колотить. Еще хуже будет.
Между друзьями начался спор, и офицеры стали доказывать Григорию Орлову, что он должен согласиться и на примирение посредством тайной уплаты денег, и на публичное покаяние.
– Ну, спасибо тебе, Фофошка! – воскликнул вдруг Алексей Орлов, и, обняв Агафона, который напрасно в него упирался руками, силач взял старика на руки, как берут ребенка, и начал его качать, приговаривая: – Душка Фофошка! Душка Фофошка!
– Брось, брось, убьешь! Пусти, не все сказал! – не сердясь, а, напротив, очень довольный, взмолился Агафон.
– Врешь! Все! – смеялся Алексей Орлов, продолжая раскачивать старика.
– Ей-богу, не все, вот тебе Христос Бог, не все! Главного не рассказал. Пусти!
– А ну, говори! – И Алексей поставил его на ноги.
– Фу, озорной! Закачал! Даже тошнит, как на корабле.
Агафон прищурил глаза, потер себе лоб рукой и выговорил:
– Григорий Григорич, ведь не все; главное не сказал.
– Что еще? Ну! Что? – раздались голоса.
– А вот что… Только это не я, значит, а сам он сказывает – Котцау, говорит, что, получимши деньги и ваше прощение, он все ж таки ничего поделать не может. Как он ни проси вас, значит, простить, вас ни Жорж, ни там не простят, а должны вы все-таки с своей стороны похлопотать.
– Вот тебе и здравствуйте! – выговорил Алексей.
– И приказал он вам, только тайком… опять чтобы никто не знал, что это он вас надоумил… приказал ехать просить обо всем этом деле графиню Скабронскую.
– Что? Что? – воскликнул Григорий Орлов. – Скабронскую? Это с какого черта? Она-то тут при чем же? Вот и вышел немец дубина. Мы уж и дедушку ее, и Разумовских, и саму Воронцову просили, а по его – ступай к Скабронской!
– Стало быть, так надо! – возразил старик досадливо. – Это он сам сказал да еще прибавил: и непременно пошли ты господ к графине; коли не поверят, так скажи, что я им так сказываю. Я дело, мол, свое портить сам не стану.
– Да ведь это тебе все Анчуткин расписывал?
– Вестимо, Анчуткин, да ведь я тут же был и видел, что он лицом делал и руками. И опять-таки, Григорий Григорич, сами знаете, что уж греха таить, при эдакой беде я на его немецком хриплюне много понял. Недаром столько времени выжил с вами на войне.
Григорий Орлов действительно вспомнил, что Агафон из ненависти к Германии больше притворялся, что не выучился немецкому языку, а в сущности понимал очень много.
Молодежь стояла вокруг старика и раздумывала. Все дело, которое сначала показалось очень просто и умно придумано дядькой, теперь оказалось будто испорченным.
– Что тут Скабронская, при чем она тут! Она знай по балам да по вечеринкам летает. Все вранье одно.
– Ну, как знаете, – почти обиделся Агафон. – Я для вас стараюсь, моя совесть, значит, пред Господом Богом и перед вашим покойным родителем видна вся на ладони, ни соринки в ней. А коли слушаться не хотите, ваше дело. Поедем вместе в Рогервик, а то и к самоедам, там нас и съедят. А не съедят, так самих заставят людей есть.
Агафон, рассердившись, повернулся и ушел к себе в прихожую.
Офицеры, оставшись одни, долго совещались обо всем, что слышали от дядьки. К вечеру было решено, однако, не поступать согласно с тем, чему научил Котцау. «Осрамит, подлец, оплюет только!» – говорил Григорий Орлов. Заподозрить что-либо во всем рассказе старика было немыслимо. Григорий хорошо знал правдивость своего дядьки, а подчас и удивительную находчивость и хитрость. Но вся история оказалась сомнительной.
Среди общего унылого молчания снова появился старик в горнице и выговорил упавшим от чувства голосом:
– Коли вы мне не верите, считаете меня за пустоплета, за предателя и не хотите делать то, что вам говорят, то увольте меня, отпустите в Москву к Ивану Григоричу, ему служить буду.
И Агафон, стоя в торжественной позе, с поднятой рукой на Григория Орлова, вдруг весь сморщился, и слезы в три ручья полились у него из глаз. Не прошло секунды, как старик уже рыдал, едва держась на ногах.
Разумеется, Орловы тотчас же бросились к дядьке и стали всячески утешать его.
Агафон долго не мог выговорить ни слова и наконец проговорил:
– Коли верите, сделайте все, как я сказываю. Смотрите, все устроится. Мне тоже и Анчуткин про эту графиню сказывал, что она в этом деле помочь может. А почему, собственно? Ни за что не хотел, подлец, сказать: говорит – нельзя, родимый, проболтаешься ты, в Сибирь я улечу.
Последние слова подействовали на всех. Времена были такие, что именно все странное, таинственное, непонятное, даже, по-видимому, бессмысленное имело значение, и всякий день случалось услыхать, узнать или увидеть в Петербурге диво дивное невероятности и неожиданности.
– А кто же его знает, – решил вдруг Григорий Орлов. – Немудреное ведь дело – к графине съездить. Она же приятельница с моей…
– Конечно, немудреное дело!
– Поеду, Фофошка! Завтра же поеду, сегодня поздно.
– Ну спасибо! Поцелуйте меня, – выговорил Агафон.
Григорий Орлов быстрым искренним движением обхватил старика, взял в свою богатырскую охапку и невольно поднял его с полу, расцеловал в обе морщинистые щеки. В этом движении сказалось что-нибудь особенное, незаурядное, потому что кружок товарищей, обступивший их двоих, смолк и все лица стали добродушно-серьезны, почти торжественны.
Когда Григорий выпустил старика из рук, черты лица его выдавали внутреннее волнение.
– Ну а меня-то?.. Ах ты, Кащей эдакий!.. Меня-то не надо? – воскликнул Алексей, протягивая руки к старику.
– Ни, ни, ни… Уморился, ездил. Как свят бог, не до баловства… – серьезно выговорил Агафон.
– Да не стану. Ей-ей! Только поцелуемся. Ей-ей!
Старик по голосу Алексея понял, что тот никакой шутки не сделает с ним, и позволил себя обнять и поцеловать.
Но не утерпел молодец и, целуя старика, все-таки слегка ущипнул его сзади.
– Эка ведь озорной! – проворчал старик, почесываясь.
XXV
Старик Скабронский был не один в своем роде, был на свете другой граф Скабронский, Кирилл Петрович, приходившийся ему внуком.
Единственный брат Иоанна Иоанновича, давно умерший, имел сына Петра, который за все царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны жил за границей, находясь при посольстве у кесаря, затем он женился, вскоре потерял жену и был переведен по службе ко двору короля Людовика XV, где и сам умер, более десяти лет не видав родины.
Себялюбивый Иоанн Иоаннович вообще мало интересовался судьбой племянника, его браком, жизнью за границей и его семейством.
Вдруг лет с восемь тому назад увидел он у себя в доме целую приезжую «араву». Во двор въехала великолепная громадная карета, за ней какой-то фургон, и затем совершенно незнакомые фигуры и физиономии, пестрые и голосистые, появились в доме брюзгливого старика. Оказалось, что по желанию давным-давно не виданного племянника, умершего на чужбине, выраженному им перед кончиной, в дом дяди был привезен его собственный внук, шестнадцатилетний красивый мальчик, не говоривший ни слова по-русски. С ним вместе появилась целая свита: дядька-француз, очень приличный, другой дядька неизвестной национальности с прескверной физиономией и затем камердинеры, гардеробмейстеры и с десяток каких-то иностранных гайдуков и казачков.
Старый холостяк мельком слышал о женитьбе племянника Петра на какой-то богатейшей княжне, дочери какого-то польского магната, о покупке имений и домов, но никогда своей племянницы не видал, о ее смерти не слыхал – а тут вдруг является внук-сирота.
– Вот так машкерад! – встретил дедушка внучка со свитой и рассмеялся досадливо и презрительно. – Бесово наваждение! По-каковскому же я буду теперь беседовать с внучеком? И почему, собственно, ко мне-то прямо вся арава пожаловала? Нешто с матерной стороны нет родни?
Тотчас же был найден переводчик, француз, и Иоанн Иоаннович вступил в переговоры с французским внучком и с его свитой.
Оказалось, что покойный племянник направил своего сына и завещанием перевел через банкира все состояние его к дяде с просьбой быть опекуном и покровителем, ибо богатый мальчик оставался круглым сиротой.
Делать было нечего, Иоанн Иоаннович прибрал большие деньги к рукам и оставил у себя в доме внука, но всю его свиту мгновенно приказал спровадить со двора. Как несчастные французы, дядьки и лакеи, вернулись в свое отечество, никому не было известно. Иоанн Иоаннович не дал им ни гроша на обратный путь, а одного из них, «мусью Шарла», который стал было прекословить, тотчас уняли на конюшне.
Разумеется, не успели дать мусье пять розог, как от его воплей все его товарищи добровольно рассыпались со двора графа Скабронского по незнакомой столице, кто куда попало. Один, говорят, со страху бросился прямо в Невку и ушел вплавь. Затем некоторые из них нашли себе отличные места в городе и остались в хлебосольной стране.
Найденный в Петербурге переводчик-женевец, подмастерье часовщика, был оставлен в доме, чтобы служить помощником в беседе деда со внучком и для того, чтобы развлекать юношу, которому он был ровесник. Большие капиталы, полученные понемногу с голландского банкира, граф не оставил дома, а тотчас же купил на имя внука, в качестве опекуна, несколько вотчин и отличный дом в Петербурге, полный как чаша.
– Живет-то пущай все-таки у меня, – решил Иоанн Иоаннович, – а то ведь мальчуган взбесится один, слова не с кем сказать. Да под моим взором дело вернее будет.
Положение юноши Кирилла стало незавидное. Он родился в Вене, затем воспитывался и учился в Париже и был образованнее своих ровесников, российских недорослей. Он был очень недурен собой, стройный, даже грациозный в походке и движениях. Отец обожал его, а потеряв жену, ужасно баловал, и он в Париже привык к такой обстановке, о которой и помину не было, конечно, в Петербурге. Дедушка вдобавок сразу нагнал на него такого страху, что он без дрожи в теле не мог видеть его.
Но, помимо этого, и все впечатления юноши в России были тяжелые. Все испугало его, и все привело в ужас: и снежные сугробы по равнинам, и грязные рваные тулупы простонародья, и грязь заезжих дворов по дороге, которые были все – tout pleins de bktes et d,animaux[22].
И в дороге всплакнул несколько раз юноша, да и теперь, сидя чуть не взаперти в доме деда, случалось ему плакать. К довершению всего юноша, не зная ни слова по-русски, не мог говорить ни с кем. Русская речь, звучавшая кругом над его ушами, казалась ему каким-то диким рыканьем и лаем.
– Mais ce n,est pas une langue! – восклицал он, жалуясь своему новому товарищу по имени Эмиль. – Ce n,est pas une langue, c,est un aboyement de chien![23]
Эмиль утешал юношу, говоря, что ему прежде русский язык тоже казался лаем собачьим, но что теперь, за два года жизни в Петербурге, он уже стал мороковать и понимал все.
– Язык варварский, конечно, – говорил Эмиль, – похож действительно на лай, но в нем есть отдельные слова для обозначения всякого предмета, так же как и по-французски. Что хотите можно сказать на их языке, – уверял он.
Но юноша почти не верил этому, даже требовал доказательств и, указывая на разные предметы, спрашивал у Эмиля, как назвать это по-русски. Эмиль иногда знал и, исковеркав русское слово, называл его, выговаривая на свой лад, отчего слово русское еще более удивляло Кирилла. Иногда же Эмиль не знал вовсе спрашиваемого и, чтобы не ударить лицом в грязь, сам сочинял или называл предмет на местном горном наречье окрестностей Женевы.
Таким образом, привезенный из своей второй родины Франции в свое настоящее отечество, которое он не знал, юноша Кирилл, избалованный отцом, вдруг сделался самым несчастным существом. Деда своего он видал только за завтраком, обедом и ужином, и то только вначале; вскоре же ему стали часто подавать пищу в комнату по приказанию деда, потому что брюзгливому графу Иоанну Иоанновичу, прожившему весь свой век одиноко, было непривычно и скоро надоело иметь вечно перед глазами молчаливого и печального юношу.
С первого же месяца жизни внука в доме он дал ему до сотни прозвищ. Никогда не называя его по имени, он обращался к нему с словами:
– Ну, ты! фертик! финтик! парижская мусья!!
Затем он долго звал его, неизвестно почему, «ладеколон», и это прозвище всякий раз заставляло его самого смеяться до слез. Юноша только робел, краснел от всех прозвищ и даже на последнее «ладеколон» отзывался как если бы оно было имя, данное ему при крещении.
Наконец однажды, спросив у Эмиля, допущенного стоять за столом у кресла внучка, граф узнал, как сказать «внук» по-французски, то есть «petit fils», и с этого дня у Кирилла было новое прозвище, которое, однако, менее обижало его.
– А! Так вот что! – воскликнул Иоанн Иоаннович. – Так ты, фертик, выходишь мне, по-вашему: путифиц! Ну, так тебя путифицем и звать будем.
Смешное и грустное положение Кирилла, или, как звали его в доме все люди, графчонка, увеличивалось, конечно, сначала его незнанием русского языка, а затем, после упорного прилежания с его стороны, его нелепым и диким русским языком, приобретенным благодаря урокам Эмиля. Брюзгливый дедушка не позаботился доставить внуку настоящего русского учителя. Эмиль скверно говорил по-русски, а уж ученик его иногда такие русские слова произносил, что граф Иоанн Иоаннович хохотал до слез и до колики.
Таким образом, в однообразной жизни старика внучек из Парижа, или путифиц, сделался незаметно домашним скоморохом, забавой и шуткой. За столом, вкруг которого стояло всегда десятка два крепостных официантов с тарелками, граф заговаривал нарочно и заставлял говорить путифица только на потеху. И сам каждый раз хохотал он без конца, иногда болезненно желчно и притворно, и своим крепостным официантам позволял фыркать в руку от русских слов графчонка.
Немудрено, что через полгода затворнической жизни, при отсутствии кого-либо, с кем душу отвести, помимо Эмиля, который стал вдруг зашибать, полюбив российскую водку, наконец, при постоянном неприязненном отношении к нему деда, оскорбляемый и скучающий, бедный путифиц стал чахнуть. Он, вероятно, и умер бы, если б случайно его судьбой не поинтересовалась старушка, дальняя родственница Скабронских, приехавшая из Курска в Петербург по делу тяжебному и навестившая своего важного родственника.
Старушка эта была полусвятая жизнью и, конечно, добрейшей души женщина, но хитрая на добро. Она говорила по-французски и, узнав юношу, полюбила его. Она в один месяц подделалась к старому графу, хотя это было трудно, и убедила его призвать докторов освидетельствовать внучка, и докторов не русских, а немецких, которых в Петербурге было немало. Старушка объяснила это тем, что так как ребенок родился за границей, то и тельце его наполовину нерусское, стало быть, и болезни у него должны быть иноземные, стало быть, и докторов надо чужестранных.
Разумеется, старик не послушался бы родственницы, но вследствие одного нового обстоятельства Иоанну Иоанновичу самому хотелось совсем отделаться от путифица. Он вдруг приревновал к нему, красивому юноше, свою вновь заведенную «вольную женку», жившую в доме. Докторов позвали, юношу осмотрели, нашли в нем признаки начинающейся чахотки и решили, что надо отправить жить в такую землю, где не бывает снегов и морозов.
– И прекрасное дело! – воскликнул Иоанн Иоаннович, узнав это. – Пущай где родился, туда и уезжает.
Тотчас же Иоанн Иоаннович снарядил своего внука, приставив к нему двух дядек, одного русского из своей дворни, другого француза, взятого из магазина с Большой Морской. Присоединить к ним глуповатого, но доброго Эмиля было нельзя, так как он окончательно спился с круга за последнее время.
Юноша собрался в дорогу. За два часа до его выезда со двора в дальний путь, во Францию, граф Иоанн Иоаннович позвал к себе семнадцатилетнего внука и сказал ему длинное нравоучение: как себя вести за границей, слушаться дядек во всем и отписывать ему аккуратно каждый месяц о своем житье-бытье. Нравоучение это сводилось к трем главным пунктам: молись чаще Богу, трать меньше денег и сторонись от женского пола.
Разумеется, Кирилл сам себя не помнил от радости, что ссылке его и затворничеству конец. Старушку, вступившуюся за него, он боготворил и даже звал с собой тайком за границу. Но она только руками замахала и объяснила, что коли он, паренек, чуть не помер в России, так она во Франции тотчас помрет.
– Всякий живи, где родился, – сказала она, – во всем Божьем миру так, соколик мой. На зверях и на деревцах то же видно. Был у меня подаренный мне графом Разумовским гишпанский кот – года не выжил в России. Посадила я у себя в вотчине перламатровую грушу римскую – за одну зиму все высадки пропали.
Упрашивая старуху ехать с собой, Кирилл немного хитрил, – он боялся деда, ненавидел его, как и всю Россию, но теперь он боялся тоже своих двух дядек, как русского, довольно глуповатого лакея Спиридона, так и вновь нанятого француза Жоли, фамилия которого не шла к его жирному красному лицу. Юноша понял, что эти два человека, ему совершенно незнакомые, по приказанию деда будут им распоряжаться как вздумается на далекой чужбине. Права и полномочия их над ним были даны дедом полные и строжайшие, особенно относительно трех пунктов.
А эти пункты было не равно легко исполнить.
Молиться Богу Кириллу было немудрено, он и сам привык это часто делать с горя и тоски в доме деда, хотя тайком от деда читал не «Отче наш» или «Верую», которые и мысленно произносил с трудом, а более близкие, даже отчасти родные «Pater Noster» и «Credo»[24]. Латинские слова этих молитв он понимал не более, чем русские, но привык к ним.
Затем – тратить много денег он не мог, так как деньги были поручены Спиридону. Что же касается до третьего пункта, то он был юноше совершенно неясен, потому что приказание деда сторониться от женского пола Эмиль, по глупости, перевел так, как сам понял, то есть совсем иначе. Эмиль сказал, переведя слова графа Иоанна Иоанновича с русского на французский:
– Ne touchez jamais le plancher[25].
Дед, не понимавший ни слова по-французски, не исправил перевода. Вновь же нанятый француз Жоли понял и перевел третью заповедь дедушки:
– Evitez la societe des grandes dames![26]
Оба варианта Эмиля и Жоли перепутались в голове Кирилла, и он сам не знал, как выпутаться из беды, чтобы исполнить третью мудреную заповедь.
XXVI
Переехав русскую границу и очутившись в Польском королевстве, а затем в веселой, пышной, красивой Варшаве, Кирилл как будто почуял вдруг всеми нервами своего существа иной дух, потянул в себя полною грудью иной, уже более теплый, почти весенний воздух и сразу ожил, сразу щеки его зарумянились, глаза заблестели.
– С,est un petit Paris![27] – воскликнул он, прогуливаясь по Краковскому предместью и по Саксонскому саду. Вдобавок теперь юноша был не «фертик» и не «путифиц», по дороге величали его титулом и называли внуком русского магната, родственником фаворита российской императрицы. Сам Кирилл не отказывался от этого.
Через полтора месяца пути, будучи в Париже, юноша не только окреп, поздоровел, развернулся, как бы нечаянно для самого себя, не только вышел из-под влияния и повиновения своих двух менторов, но даже приобрел вдруг некоторое влияние над ними. Случилось это очень просто.
Жоли был жирный и добрый француз, у которого была только одна страсть – спать. Всю дорогу, а затем и по приезде в Париж Жоли спал, и спал без просыпа. И, вероятно, от этого постоянного сна или от праздности и сытой пищи он окончательно отупел и соглашался на все, что делал и предлагал «Monsieur le vicomte»[28], как стал он звать питомца; соглашался он на все, вероятно, потому, чтобы не тревожить и не беспокоить своей лени отказом или спором.
Упрямый, глуповатый, но и грубоватый Спиридон, неограниченно и круто повелевавший и распоряжавшийся всем от графчика, ему вверенного, и до последнего винта в экипаже, притих вдруг, даже приуныл, даже как будто струсил. Тотчас по переезде границы российско-польской, во время двухдневного пребывания в Варшаве, холопская важность и хамово упрямство Спиридона много поубавились. Он все оглядывался, озирался кругом себя и дико прислушивался к полуродной польской речи. И как собака, хотя злая, но попавшая нечаянно в чужой дом, обнюхивается, поджимая хвост, и косит злыми, но боязливыми глазами, так и Спиридон ворчал, бранился, нападал на графчика, привязывался к Жоли, но, однако, тотчас же приходил к обоим с просьбой по поводу всякого пустяка.
– Не понимают, дьяволы! – говорил он. – Тридцать раз повторил, балуются, будто не смыслят. Подите скажите!
Но если в Польше Спиридон иногда вывертывался без помощи спутников, то, попав в Германию, а затем во Францию, он окончательно примолк и только неодобрительно покачивал головой, почесывал за ухом и думал про себя:
«Вот зажора-то! Покомандуй-ка поди! Заслал бы я тебя, – обращался он мысленно к барину, графу Иоанну Иоанновичу. – Заслал бы тебя сюда – и ты бы тут покаянного грешника изобразил!»
Таким образом, юноша, благодаря обстоятельствам и обстановке, благодаря беспробудному сну Жоли и беспомощному состоянию Спиридона на чужой стороне, среди чуждых ему людей, обычаев и языка, сразу стал независим. Кроме того, он нравственно встрепенулся, ожил, воскрес на тех местах, где родился, провел все детство, воспитывался и стал юношей и где, наконец, имел пропасть знакомых и друзей покойного отца.
Одно только ярмо и было теперь – зависимость денежных средств от деда, оставшегося там где-то, далеко, среди огромных сугробов и страшных морозов. Надо было кое-как прожить еще несколько лет под попечительством этого злого деда, и жить на гроши, которые он высылал.
– Когда буду совершеннолетним, – мечтал Кирилл, – выйду из опеки, продам заглазно все, что есть в России, и переведу все состояние во Францию.
То же самое, конечно, советовали ему здесь и друзья покойного отца. Некоторые полагали даже начать процесс, тотчас же освободить юношу из-под опеки старого тирана, изверга, «lours de la Neva»[29], как прозвали они теперь Иоанна Иоанновича. И как еще недавно Кирилл был щедро награждаем дедушкой всякими прозвищами, смешными и дурацкими, так теперь юноша и его парижские знакомые в свою очередь изощрялись в прозвищах и названиях петербургскому деду, который был теперь «lours blanc, le vampire, le cyclope, le grand ogre»…[30]
С самого приезда Кирилла на свою полуродину, то есть в Версаль, он поселился на том же бульваре, где был дом, в котором он долго жил, но которого теперь, конечно, не мог нанять, не имея средств своего отца. Обстоятельства особенно благоприятствовали, и петербургский узник, скоморох за столом деда, стал здесь сразу предметом всеобщего внимания и любезного обращения. Король знал его в лицо и при встрече милостиво кивал головой au jeune russe-versaillais[31]. Герцогини и маркизы тоже милостиво улыбались ему при встречах. Вскоре, наконец, одна из них, очень веселого поведения, приблизила к себе красивого юношу, как мимолетный каприз, и перезнакомила его с придворным кругом как сына всем знакомого, недавно еще умершего дипломата. Трудно было Спиридону перечить питомцу и обругать его здорово за то, что он, например, засиделся где-нибудь на вечеринке, когда он сам видел, что французский царь кланялся его графчику.
«Нагрубить ему, – рассуждал Спиридон, – нажалуется он на тебя здешним генералам, и что будет? Тебя ж и выпорют. Говорят, анафемы, что здесь, вишь, не порют! Враки! Верно знаю, что у них есть эдакое место за несколько верст от эвтой Версальи, куда никого не пущают и где всех генералов, и дворян, и нашего брата лакея не токмо страшнеюще порют розгами, а головы снимают и четвертуют на десять частей».
Но каково соображение было у Спиридона о четвертовании на десять частей, таково же было его составившееся понятие о Франции, Париже, Версале и королевском дворе. Он стал не на шутку бояться своего графчика и ожидать, что он как-нибудь нажалуется и его, не говоря худого слова, обезглавят или сошлют в какую-нибудь французскую Сибирь на вечные времена.
И Спиридон, чтобы ужиться и не пропасть, стал, насколько умел, ласков с графчиком. Но и это продолжалось недолго. Как Кирилл чах в Петербурге в доме деда, так и Спиридон, хотя здоровенный, стал чахнуть в Версале. Да и мудрено было, конечно, безвыходно и невозможно положение русского хама, костромича по происхождению, уроженца деревни Степкины Овражки, сотни раз битого и дранного на все лады, занесенного судьбой-мачехой… куда же? за несколько шагов от блестящего, пышного, сказочно великолепного двора короля, первого щеголя своего века, гуляющего среди стриженых аллей, бассейнов, фонтанов, среди целой толпы беломраморных статуй, целой сияющей толпы придворных. Положение Спиридона, разумеется, было такое же, каково положение таракана-пруссака, волею судеб очутившегося в изящной бонбоньерке, переполненной разными чудными и душистыми конфетами.
Так или иначе, но Спиридон начал чахнуть и слезно начал просить своего графчика проставить в цидулях, которые он отписывал аккуратно деду, чтобы его, раба, помиловали, простили и вернули на родимую сторону. Кирилл из жалости два раза написал деду, что Спиридон изнывает по отечеству и стал неузнаваем и жалок. Через шесть месяцев приехал в Версаль, довезенный каким-то русским, другой дядька, имя которого юноша Кирилл сразу и выговорить не мог. Новый дядька был молодой, умный и расторопный парень, показавшийся ему даже очень добрым малым; он был тоже с большущими, грубыми и красными руками, с особым запахом чего-то жирно-горького, как и Спиридон, а назывался по имени Агафаклей.
– Oh, mon Dieu![32] – воскликнул на это Кирилл. – A-ga-fa-cley!! Это ужасно! C,esi terrible. Надо будет переменить это имя, pour ne pas aboyer, когда придется называть. А то ведь все смеяться будут надо мной.
Агафаклей привез от Иоанна Иоанновича грозное послание насчет Спиридона, хотя и дозволявшее ему вернуться в Петербург, но обещавшее суд и расправу. Агафаклей на словах передал Спиридону Ефимычу, что ему «хоть и не езди в Расею! Сказывали во двору, что как он приедет, так его выпорют и в степную вотчину на скотный двор сошлют».
Но Спиридон, услыша это, возликовал:
– Пусть хоть в Сибирь сошлют! На скотный двор?! Да ты вот, Агафаклеюшка, поживешь тут малость, так увидишь. Это тебе так внове повадливо кажет. Тут жисть окаянная, паскудная, каторжная, пуще всякой Сибири. Слова сказать не с кем, лба перекрестить негде, ни одного храма. У них, подлецов, церквей и в заводе нет, а, вишь, леглизы свои. Захочешь коли молиться, так дома молись. Не идти ж в ихний леглиз. А то скотный двор! Да я хоть сотню коров на себя возьму, чем с здешним скотом расправляться.
При первой же случившейся оказии состоящий при польском посольстве в Версале магнат, уезжая на родину, по просьбе Кирилла захватил с собой Спиридона с обещанием из Кракова доставить его как-нибудь в Петербург. Кирилл послал со Спиридоном деду письмо, пространное и написанное в сообщничестве со своими друзьями в довольно решительном тоне. Он говорил, что при скудных посылках денег он при французском дворе срамит имя графов Скабронских и что сам король удивляется, как ему высылают на прожиток так мало средств. Кирилл в этом письме кончал угрозой деду, что если он не будет высылать ему по крайней мере пятьсот червонцев в год на жизнь, то он по совету здешних министров и по желанию даже самого короля перейдет во французское подданство и законным порядком вытребует все свое состояние.
Спиридон, три месяца пробыв в пути от Avenue du Roi[33] до Васильевского острова, сияющий, счастливый и поздоровевший по вступлении на русскую землю, явился перед ясные очи Иоанна Иоанновича. В тот же вечер граф, прочитав привезенное ему французское и дерзкое послание внучка, велел Спиридона заковать в кандалы. И плохо пришлось бы Спиридону, если бы не случилось казуса.
Иоанн Иоаннович справился через день:
– Что, Спирька присмирел в цепях-то?
Но графу доложили, что Спиридон ликует и, сидя в сарае скованный, радуется, все крестится, Господа Бога благодарит да сказывает: пущай его в кандалах в старый высохнувший колодец посадит граф – и то будет Бога благодарить.
Вследствие этого Иоанн Иоаннович призвал к себе Спиридона и, беседуя с ним, велел снять с него кандалы.
Спиридон объяснил, что предпочтет быть живым зарытому в землю, только в матушку русскую сыру землю. И затем в продолжение нескольких часов Иоанн Иоаннович расспрашивал Спиридона обо всем: о внуке, о Версале, о короле, о житье-бытье за границами государства. И наконец, Иоанн Иоаннович вдруг сам удивился тому, что оказалось само собой.
Оказалось, что Спиридон такой любопытный собеседник, так много видел и знает, так речисто все описует, так ненавидит и злобствует на все заморское и так рад вернуться к нему, старому барину, в услужение, что этакого человека не только грех, а глупость несообразная в степную деревню сослать или в Сибирь в кандалах угнать.
Через месяц Спиридон, вместо того чтобы быть острожником или ссыльным, сделался в палатах Иоанна Иоанновича не более не менее как главным заправилой и самым приближенным лицом к барину.
Что касается до письма, привезенного от внука, Иоанн Иоаннович изорвал его в клочки и только изредка, вспоминая окончание письма, угрозы молокососа и расхрабрившегося издали путифица, качал головой и бормотал:
– Подрастешь, вестимое дело, все твое имение и иждивение тебе в целости и сохранности передам. А покуда извини, путифицушка, посидишь у меня в энтой Версали и на сто червончиков в год.
Через шесть лет по возвращении Спиридона возвратился в Петербург и сам молодой граф Кирилл Петрович Скабронский и прямо остановился у деда.
Но с ним случилось такое удивительное превращение, что Иоанн Иоаннович диву дался. Черты лица были, конечно, те же, но двадцатитрехлетний молодой человек так себя вел и держал, так говорил, что уж его теперь мудрено было скоморохом поставить. Обзови его «путифицем» – он сам каким-нибудь дурацким прозвищем сдачи даст и, чего доброго, дедушку Кащеем Бессмертным назовет. Граф Кирилл стал совсем француз и даже парижанин, был друг и приятель придворного кружка в Версале и жил за последнее время при дворе очень широко, бросая золото чуть не за окошки своего великолепного отеля; но это делалось, конечно, в долг, за страшные проценты, в ожидании получения от деда своего состояния, за которым он и приехал теперь.
И дед Иоанн Иоаннович беспрекословно по толстым книгам, реестрам и записям передал внуку все, начиная с больших вотчин в разных губерниях и кончая камзолами, шубами, галунами и всякой рухлядью, которая нашлась в огромных кладовых того богатого дома, который он же, Иоанн Иоаннович, купил когда-то на имя внука.
– Захочу, ничего тебе не дам. Все мое. И ходов на меня к государыне не найдешь. Все мое! – грозился Иоанн Иоаннович, отдавая все до последней тряпки.
В два месяца времени, проведенного на берегах Невы, граф Кирилл Петрович обворожил всех придворных императрицы Елизаветы Петровны, и Шуваловых, и Разумовских; обворожил и «малый двор» великого князя Петра Федоровича. Но, несмотря ни на какие просьбы и убеждения, он все-таки тайком, через двух евреев банкиров, быстро распродал все свои вотчины, все до последней ложки и плошки и, простясь с негодующим дедом Иоанном Иоанновичем, уехал снова в свое истинное отечество.
XXVII
Граф Кирилл Петрович вернулся в Версаль и тотчас начал расплачиваться с долгами. Цифра вышла очень значительная, так как ему теперь пришлось заплатить втрое более того, что он когда-то брал, будучи под опекой деда. Треть суммы, вырученной через продажу русских имений, пошла на уплату.
На этот раз Кирилл Петрович недолго остался во Франции. В то же лето он отправился в Вену, о которой много слышал с детства как о самом веселом городе после Парижа. Однако кесарская столица ему не понравилась, тем более что он не знал ни слова по-немецки.
Между тем вся его недавняя жизнь в Версале, беспорядочная и распущенная, благодаря распущенности нравов двора короля донжуана, теперь начинала сказываться. Кирилл Петрович, будучи только двадцати четырех лет, стал сильно прихварывать, и на вид ему казалось уже за тридцать лет. Особенно дурно вдруг почувствовал он себя в Вене и, посоветовавшись с докторами, воспользовался летними месяцами, чтобы полечиться водами в красивом и уже знаменитом местечке – Карлсбаде.
Здесь-то неожиданно долженствовала решиться его участь, здесь простой случай должен был иметь влияние на всю его жизнь. В числе немногочисленных посетителей вод он встретил еще очень молоденькую женщину, которая даже его, избалованного красавицами Версаля, поразила своей замечательной красотой, благородством и грацией в малейшем движении. Ко всем прелестям незнакомки присоединялась еще одна, имевшая высокую цену в глазах графа Кирилла как всякого праздного волокиты. Красавица, которая не могла иметь более девятнадцати лет, была вдова.
Граф тотчас же познакомился с своей очаровательницей. Она оказалась немка, уроженка Баварии, по мужу баронесса Луиза фон Пфальц. Она, по словам ее, будучи круглой сиротой, выдана была насильно замуж за богатого старика барона и тотчас овдовела.
Кирилл Петрович, привыкший к легким победам при версальском дворе, тотчас же мысленно решил покорить себе сердце красавицы баронессы. Однако через месяц вдова-кокетка, очень умная и тонкая, но с замечательным характером, не только не была побеждена версальским ловеласом, но, напротив того, относилась к нему хотя мило, но холодно и сдержанно. Он же наоборот – без ума влюбился в нее. Первая в жизни неудача в ухаживании превратила простую влюбленность в серьезное чувство.
Видались они всякий день, вместе гуляли, вместе объездили все окрестности Карлсбада, и наконец однажды, после страстного искреннего объяснения в любви со стороны графа и его оскорбительного предложения сердца без руки, баронесса попросила его прекратить свои посещения.
На другое утро граф получил письмо на плохом французском языке. Это был единственный язык, на котором они могли объясняться. Баронесса говорила в письме, что она отлично понимает его положение, что он, знатный русский вельможа, не может жениться на бедной вдове, хотя и старинного рода. Но так как она сама глубоко привязалась к нему и теперь считает всю свою жизнь разбитой, то надо скорее положить всему конец и разъехаться, чтобы никогда не видаться. Она прибавляла, что, конечно, никогда теперь не выйдет снова замуж ни за кого, а, всего вернее, поступит в монастырь, где одна ее тетка по матери уже давно аббатисой.
Конечно, Кирилл Петрович все принял за чистую монету и, влюбленный до безумия, через несколько дней стал женихом баронессы Луизы. Граф хотел венчаться тотчас же, но красавица объявила, что это невозможно, что нужно будет послать поверенного в Баварию, дабы выправить разные необходимые документы. И действительно, она нашла ходатая по делам и, по совещании с ним, отправила его в Аугсбург.
В ожидании возвращения поверенного прошло два месяца, а жених и невеста продолжали, уже в ненастную осень, жить в том же опустевшем Карлсбаде. Баронесса ни за что не хотела ехать в Вену, где было у нее, как говорила она, много родственников покойного мужа, которым ее вторичный брак мог не понравиться.
За это время Кирилл Петрович окончательно сделался полным рабом своей невесты. Она была вдесятеро умнее его, кроме того, слишком хороша и кокетлива, чтобы не завладеть им совершенно. Вдобавок при скучной и однообразной обстановке маленького городка они видались всякий день и были наедине в полном смысле от зари до зари, а между тем баронесса вела себя со своим женихом как пуританка, и тем более разгоралась страсть Кирилла Петровича. За все это время она только утром и вечером, здороваясь с ним и прощаясь, снимала не покидаемые никогда душистые перчатки и затем позволяла будущему мужу поцеловать свои красивые ручки с тонкими пальцами, будто выточенными из слоновой кости.
Ходатай не писал и не ворочался. Однажды показалось графу, что он в сумерки встретил на противоположном конце Карлсбада фигуру, очень похожую на этого ходатая, который предполагался теперь в Аугсбурге. Но баронесса только рассмеялась над этим, называя его шутя иллюминатом и духовидцем.
Наконец однажды в один очень тихий, теплый осенний день, когда царствовали полный мир, тишь и гладь и в маленьком городишке, и в синих небесах, ясных и глубоких, а равно и в сердце влюбленного жениха, по соседству, на одном дворе с ними, разыгралась трагедия. Была зарезана неизвестными людьми старушка, хозяйка дома. Тотчас же явилась полиция. Убийцы не оказалось налицо, но зато громовой удар разразился над Кириллом Петровичем.
Полиция, производя следствие, опрашивала всех жильцов и, извиняясь перед именитыми аристократами, попросила и их к даче показаний, попросила и у них их паспорта. Кирилл Петрович тотчас же предложил все документы, какие только у него были, и их перевод на немецкий язык. Баронесса тоже передала свой паспорт, настоящий немецкий, хотя помеченный не мюнхенской королевской печатью, а выданный ей в Букареште.
В тот же самый вечер баронесса была видимо взволнованна, вероятно, потрясена убийством, которое совершилось рядом с их квартирой. Весь вечер и всю ночь до утра не отпускала она от себя ни на шаг своего жениха. И теперь, в эту страшную ночь, в первый раз она отдалась ему… И без конца уверяла она его в своей глубокой страсти, в вечном беззаветном чувстве к нему, с которым сойдет в могилу. Граф чуть не потерял рассудок в эту безумно чудную ночь под ее лаской, под ее жгучими поцелуями.
Наутро двое полицейских чинов появились в доме, в той половине, которую занимал граф, и стали снова допрашивать его. Но дело шло уже не об убийстве старушки хозяйки, а о том, что знает он о баронессе. Кирилл Петрович, изумляясь, отвечал все, что было ему известно, и прибавил, что она его невеста.
Один из полицейских счел, однако, своим долгом поставить его в известность, что паспорт, данный баронессою, фальшивый и что ввиду совершившегося на дворе события всякое сомнительное лицо делается еще более сомнительным. Одним словом, полицейский объявил, что если через час времени он не получит от дамы, именующей себя баронессой Луизой фон Пфальц, настоящего неподдельного паспорта, хотя бы и с другим именем, то она будет арестована и отвезена в тюрьму.
Кирилл Петрович, вполне убежденный в каком-то глупом недоразумении, попросил дождаться полицейских у себя, а сам направился в половину дома, где жила баронесса Луиза. Он ее нашел на том же месте, где оставил на заре, в пеньюаре, в кресле у открытого окна, с головой, опущенной на руки. Графу показалось, что она плачет. Он подошел к ней, назвал ее, наконец отнял руки от лица. Красавица вздрогнула, лицо ее было страшно бледно, глаза горели странным лихорадочным огнем, но были сухи. Даже какая-то злая усмешка пробежала по красивому лицу. Приходилось тотчас же сказать ей правду, хотя бы и оскорбить недоверием.
– Здесь у меня полиция опять, – начал Кирилл Петрович. – Они говорят… Право, не знаю, что такое… Говорят про ваш документ… – И граф запнулся, не зная, как выразиться.
– Что? – выговорила красавица резко, звонко и с презрительной усмешкой. – Что они говорят? Они говорят, что вид мой фальшивый? Не так ли?
– Да… – как-то даже оробел Кирилл Петрович.
– Ну, что ж? Мне это не новость. Я это давно знаю. Я сама помогала его подделывать!..
И тут произошла между женихом и невестой такая сцена, от которой Кирилл Петрович едва окончательно не потерял рассудок.
Красавица невеста, которую он теперь уже давно боготворил, созналась во всем, рассказала целую историю, где было, быть может, много и правды, горькой, ужасной, но было, быть может, и много новой лжи. Она объяснила, что видела его мельком еще в Вене, подкупила людей, чтобы знать, куда он поедет, и выехала за ним, чтобы иметь случай, при более скучной и скромной обстановке Карлсбада, ближе познакомиться с ним. Затем, чтобы заставить его сильнее и глубже привязаться к ней, она придумала оттянуть время и сочинила посылку ходатая в Аугсбург. Но вместе с этой исповедью красавица исповедалась в страстной любви к нему и просила лучше сейчас убить ее, чем бросать на произвол судьбы.
Эта неожиданная и бурная беседа, со слезами, обмороком, чуть не с конвульсиями, окончилась тем, что граф попросил у нее хотя какой-либо вид, настоящий, чтобы представить его немедленно полицейским.
Вид, по счастью, нашелся, и невеста Кирилла Петровича оказалась мещанкой местечка Течен, на границе Саксонии и Богемии, оказалась по происхождению даже не немка, а чешка, Маркета Гинек. Чешский язык, более немецкого близкий ей и родной, сразу объяснил графу, каким образом она так легко училась у него русским словам и быстро усваивала себе самые из них трудные по произношению. В действительности самозванка могла выговаривать русские слова, конечно, лучше самого Кирилла Петровича, прожившего всю жизнь во Франции.
Разумеется, когда разразился этот громовой удар, уже было слишком поздно вернуться назад. Три дня сряду Кирилл Петрович просидел безвыходно в своих горницах и, не видаясь с самозванкой, повторял в ужасе:
– Баронесса Луиза фон Пфальц – мещанка Маркета Гинек!!
И наконец, эта мещанка Течена осталась все-таки невестой его и через несколько времени в одной из церквей Праги сделалась графиней Скабронской. И только одно пожелал изменить граф: узнав, что Маркета по-чешски значит Маргарита, он попросил жену отныне называться немецким именем. Страсть Кирилла Петровича к авантюристке зашла так далеко, что этот брак состоялся сам собой. Окажись Маркета, или Маргарита, не только простой мещанкой-чешкой, но даже простой жидовкой или хоть настоящей, неподдельной ведьмой с Карпат, то и тогда бы капризный, праздный и легкомысленный боярин не поколебался бы ни минуты и назвал бы ее графиней Скабронской.
Тотчас после свадьбы молодая пожелала повеселиться и объехать разные европейские столицы. Зиму провели они в Париже и в Версале, где графиня Маргарита познакомилась с некоторыми из придворных и, благодаря своей замечательной красоте и уму, не ударила лицом в грязь. Она даже удостоилась быть замеченной первейшим, но уже и дряхлейшим волокитой всей Европы, самим Людовиком XV.
Между тем состояние графа Кирилла Петровича таяло не по дням, а по часам. Он начинал задумываться на этот счет, жена его тоже, и затем вдвоем они решились на предприятие многотрудное, почти безнадежное, но предприимчивая и ловкая красавица не отчаивалась в успехе. Было решено ехать в Петербург и поселиться там, чтобы сойтись и обворожить богатого и бездетного деда, который может, даже должен не нынче завтра умереть.
– Все его состояние будет наше! – говорила Маргарита. – Я за это берусь.
Кирилл Петрович меньше надеялся на успех и, кроме того, боялся теперь ехать в страну снегов и морозов, так как здоровье его окончательно пошатнулось и ему следовало бы теперь, более чем когда-нибудь, поселиться на юге. К тому же доктора, к которым граф обратился за советом, объявили, что он может убить себя, если при настоящем слабом здоровье поедет на дальний север; но Маргарита решила, что муж все-таки поедет с ней, познакомит ее с дедом, а затем оставит ее в Петербурге одну и вернется на юг.
– За одну зиму, – говорила она, – что ты проведешь хотя бы в Италии, а я на берегах Невы, старик очутится у меня в руках и состояние его – наше.
И в самое дурное и опасное время для слабогрудого графа, в самые крещенские морозы, приехали они с женой и поселились в Петербурге.
Старый холостяк-брюзга принял внука и красавицу внучку довольно равнодушно и поселиться у себя в громадных палатах не пригласил. Через несколько времени, по расспросам об их заграничном житье-бытье, по некоторым обмолвкам внука, по преувеличенной ласковости и вниманию к себе ловкой красавицы внучки, старый дед, сам хитрый и тонкий, тотчас пронюхал, в чем дело.
– Разэтранжирили все мой этранжиры, – догадался Иоанн Иоаннович, – вот и приехали мои карманы попробовать расправить да лапочки запустить. Да не первые вы и не последние российские бояре, что разэтранжириваетесь в заморских землях.
И Иоанн Иоаннович стал теперь, думая про внуков своих, повторять часто и ехидно это новое, недавно появившееся слово, которое означало истратиться и промотаться за границей.
И слово осталось в новейшее время в русском языке, хотя в несколько сокращенном виде, то есть «растранжирить».
Но как только Иоанн Иоаннович вполне смекнул, что внучек, после своих скитаний в «этранже», разорился и при помощи красивой жены закидывает удочку на его огромное состояние, старик сразу переменил свое обращение с молодыми супругами и сделался с ними особенно холоден.
Тонкая Маргарита, однако, разочла, что средств их еще хватит для жизни в Петербурге по крайней мере на год.
Вместе с тем она сообразила тотчас, что ради будущего успеха надо, со своей стороны, тоже резко и дерзко отнестись к дальновидному старику деду, чтобы этим сбить его с толку. Она заставила мужа обращаться с дедом самым высокомерным образом, а равно и обмануть его роскошью обстановки их дома.
– Я уверена, что все удастся, – говорила спокойно Маргарита, – я только одного боюсь, чтобы он за это время не умер.
Поселившись в столице, заведя великолепную обстановку на последние сотни червонцев, остававшихся в кошельке, Маргарита перезнакомилась со всем высшим обществом и тотчас стала положительно сводить всех с ума: и мужчин и женщин, и старых и молодежь.
Государыня за это время все хворала, поэтому балов и маскарадов и всякого рода увеселений было в Петербурге очень мало. Тем не менее Маргарита веселилась всячески, так как не останавливалась ни перед чем, чтобы провести день шумно и беззаботно.
Тотчас по приезде она начала усердно учиться по-русски, и, разумеется, язык этот, наполовину родной, дался ей очень быстро. Только ее русский язык, хотя правильный, имел какой-то особенный оттенок в выговоре, и именно это крайне нравилось всем.
Кирилл Петрович только первое время появлялся в обществе. Зимой он почувствовал себя плохо, летом немного было поправился, но затем осенью стал чувствовать себя особенно нехорошо, а когда настала вторая зима, он уже не выходил из дому. Когда же в декабре скончалась императрица, Кирилл Петрович не только не выходил, но уже лежал в постели, осужденный немцем-доктором на смерть. У него развилась злая чахотка, и надо было ожидать, что весенний невский лед унесет и его.
С нового, 1862 года, когда графиня Маргарита ждала смерти мужа ежедневно, денег в доме не было почти ни гроша. С дедом отношения немного снова завязались, но дело не ладилось, старик при встрече был довольно ласков с внучкой, но в дом к ним не ездил и денег не предлагал. И Маргарите приходилось доставать денег всячески, даже с ущербом дотоле честному имени Скабронских. Со времени их переезда в Петербург Маргарита стала самостоятельнее, резче с больным мужем и наконец совершенно, хотя исподволь, завоевала полную независимость.
XXVIII
Орловы, конечно, решились тотчас же действовать, не откладывая в дальний ящик. Младший отправился снова к старику Скабронскому, но просить на этот раз похлопотать уже не у графов Разумовских, а у своей собственной внучки-иноземки. Григорий, прежде чем ехать к молодой графине Скабронской, которую он лично не знал, отправился к известной в Петербурге княгине Апраксиной.
Это была женщина уже немолодая, но очень красивая, когда-то замечательная красавица. Она играла большую роль под конец царствования покойной императрицы, потому что сделалась предметом страсти старшего Шувалова. Орлов, будучи чем-то вроде адъютанта у него, победил его красавицу и уже два года был с ней в самых близких отношениях.
История его с ней наделала, конечно, очень много шума в столице и, быть может, отчасти ускорила даже и смерть Петра Иваныча Шувалова. Теперь, при новом царствовании, Апраксина не играла никакой роли, но у нее по-прежнему сохранилось много друзей в городе, и вообще у нее были большие связи.
Алексей Орлов был тотчас же принят Иоанном Иоанновичем, и старик был крайне удивлен открытием, что его просят ехать хлопотать к его собственной внучке, к которой он относился теперь несколько лучше, но все же высокомерно и подозрительно.
– Просить за вас у Маргаритки? Всё может? Сила?! Вон она какова, цыганка-то! – воскликнул Иоанн Иоаннович в изумлении.
Старик, разумеется, решил, что чешка и цыганка одно и то же.
– Сделайте милость, – говорил Алексей Орлов, – заступитесь: ваша внучка многое может сделать, а вам она, конечно, не откажет.
Иоанн Иоаннович объяснил, что он давно не был у внука, своей внучки недолюбливает, смазливой рожи ее видеть без досады не может, но что ради сыновей старого доброжелателя Григория Иваныча Орлова поедет к внучке и попросит.
– Токмо одно мне удивительно, – отозвался он. – Маргарита коим бесом в случае? Что она может? Неужто она такой вьюн, что успела при новом дворе ходы завести и теперь вдруг к ней надо за милостями забегать? Вот так финт! Удивительно!
Когда Орлов уехал, Иоанн Иоаннович долго сидел и соображал, долго обдумывал новое чрезвычайное открытие. Эта Кирилкина женка – удивительная красавица, но лиса, плут, заморская шельма, которая и нравилась ему, и отталкивала его своей темной душонкой, – вдруг оказывается, неизвестно с каких пор и неизвестно почему, сильною личностью при новом дворе! Офицер гвардии просит заступиться и ехать к ней. Иоанн Иоаннович решил ехать намедленно к внучке если не ради Орловых, то ради себя самого.
«Мало ли что может на башку свалиться? – думал он. – Не только мое положение при новом государе стало неизвестно и темно, но даже Разумовские нетвердо сидят в своих дворцах. А тут вдруг эта цыганка оказывается силой великой?!»
В это же время Григорий Орлов побывал у своей приятельницы Апраксиной и удивил и ее, как брат удивил старика Скабронского. Она убедила друга, что Маргариту очень любит, что они тайн не имеют друг от друга и что подобное значение иноземки есть досужий вздор и выдумка Котцау. Григорий унылый поехал к князю Тюфякину требовать уплаты давнишнего карточнаго долга, ради того чтобы иметь хоть деньги налицо в случае возможности примирения.
Князь Глеб Тюфякин жил в небольшой квартире на Морской, недалеко от Орловых. Он пользовался самой плохой репутацией. Все, что может сделать петербургский франт-офицер сомнительного, князь Тюфякин проделал все. Насколько Григорий Орлов был известен своими любовными похождениями, настолько был известен и князь Тюфякин, но с тою огромною разницею, что Орлов был героем в воображении многих столичных молодых красавиц, а князь Тюфякин был героем пожилых женщин, преимущественно богатых, и во всех своих похождениях являлся темною личностью. Во всякую историю, передаваемую о нем, примешивалась всегда какая-нибудь не вполне чистая выходка.
Хотя его и звали в столице «фаворит фаворита фаворитки», но порядочные офицеры гвардии сторонились князя Тюфякина как личности, с которой наживешь какое-нибудь срамное дело. Каким образом сумел князь Глеб пролезть в дружбу с любимцем государя и Воронцовой – Гудовичем, всем было почти непонятно. Пользовался он этой дружбой тоже для многих темных дел. Он близко знал в столице и был в постоянных сношениях тоже с разнообразными темными личностями. Между прочим, его главный помощник во многих делах был довольно известный в городе еврей Лейба.
Долгов было у Тюфякина без числа, а жил он широко. Он многих уверил, что получает через своих сестер-княжон от их тетки-опекунши до тысячи червонцев в год, но это была выдумка, и какие деньги тратил Тюфякин – было совершенно неизвестно.
За несколько времени перед тем он часто бывал у Орловых и постоянно вел крупную игру в карты. Князь не очень нравился кружку Орловых, и его собирались уже в начале зимы перестать пускать, но в то же самое время князь вдруг проиграл пятьсот червонцев Григорию Орлову и, не уплатив, перестал бывать сам. Прежде, выигрывая тоже крупные суммы, он всегда аккуратно получал их, и теперь всю компанию сердило то обстоятельство, что их же частию отыгранные деньги князь, по-видимому, не намеревался возвращать, ибо ноги не ставил. Орловы около Святок, и, стало быть, в начале нового царствования, собрались было потребовать деньги с князя, припугнуть его и заставить заплатить, но в то же время они узнали, что ловкий Тюфякин сумел вдруг из русского офицера сделаться голштинским офицером. Из своего полка, Преображенского, он вдруг перешел в любимый государев полк. Это был первый пример, которому затем последовали и другие русские офицеры, но все они были на подбор с дурными репутациями.
Тюфякин, как первый поступивший в голштинцы, был отличен государем, и трогать его становилось опасным, но Орлову были теперь позарез нужны деньги, и он решился. Явившись на квартиру Тюфякина, он нашел его дома, но произвел некоторого рода переполох.
Тюфякин, приняв его, скрыл в соседней комнате двоих лиц, бывших у него. Одна из этих личностей был еврей Лейба, присутствие которого в квартире офицера имело довольно дурное значение. Григорий Орлов не преминул бы сказать всем, что видел Лейбу, самого отчаянного мошенника и ростовщика, в квартире Тюфякина. Другая личность, которую князь Глеб поневоле должен был спрятать, была его сестра княжна Настасья, которая тайком от сестры и тетки иногда стала при поездках с ним в город заезжать к нему на квартиру. Под предлогом какого-нибудь званого вечера в городе Настя теперь оставалась у брата иногда до ночи, и он отвозил ее сам домой к тетке-опекунше.
Князь Глеб, тотчас догадавшись при появлении Орлова, в чем дело, принял его крайне любезно.
– Давно я у вас не был, Григорий Григорьич, времени не было. У нас в Рамбовском полку теперь все учения да экзерциции, не то что бывало в преображенцах.
– Коли тяжело там служить, не надо было переходить, – сурово выговорил Орлов. – Никто вас в голштинцы не гнал. А я к вам по делу, князь. Чаю, уж смекнули?
Князь сделал вид, что не понимает.
– На свои долги память коротка, – буркнул Орлов.
– Да, да, как же, помню, всякий день собираюсь, – заметил князь. – Экая досада, что вы вчера не приехали, вчера вот были деньги, и большие деньги, да все разошлось. Сегодня ни гроша нет, ей-богу.
При этом князь Глеб живо размахивал руками, а глаза его бегали по всей комнате и по Григорию Орлову, не останавливаясь ни на секунду ни на чем.
– Экая досада, что бы вам вчера-то! Ведь вот как на смех.
Орлов понял, конечно, что сказанное выдумка.
– Это как в Немеции, в одном городе был трактир с вывеской: «Сегодня здесь постой и стол за деньги, а завтра – даром!» Были молодцы, что наутро заходили прочесть вывеску и за ухом почесать… Ну, я бы не пошел, князь. Себя в дураки рядить не дам. Так вот что… Денежки пожалуй, нужда крайняя.
– Да, право ж, не могу. Вот на днях как-нибудь заеду и привезу. Беспременно! – жалобно выговорил князь.
Григорий Орлов посидел несколько минут молча, опустив глаза в землю, потом вдруг начал сильно и громко сопеть, как бы отдуваясь от усталости. В то же время его большая рука поднялась, и он начал медленно гладить себя по щеке и проводить ладонью по губам.
Князь Тюфякин смутился. Он знал давно и близко этого силача и знал, что это сопение и это поглаживание себя по щеке означало в Орлове гнев, который подступает к сердцу.
«Загребет вот сейчас и убьет сдуру», – невольно подумал Тюфякин, вспоминая, как раз подобное случилось у него на глазах в одном трактире. Рассерженный Орлов, посопевши немножко, взял одного офицерика за шиворот, протискал его, бог весть как, в печку, где еще дымилась головешка, и запер заслонку. После этого Орлов тотчас же уехал из трактира, а офицер из печки обратно, хотя уже и добровольно, вылезть все-таки не смог, и пришлось выламывать кирпичи, чтобы его освободить.
– Клянусь вам, Григорий Григорьич, – завопил Тюфякин, увидя знакомый жест, – завтра или послезавтра непременно постараюсь, хотя себя заложу, а достану. Пожалуйста, не пеняйте, всего денек-другой…
– Да вас, батенька, в заклад кто же возьмет? – пошутил Григорий.
– Так сказывается, – кисло ухмыльнулся Тюфякин.
– Хорошо, – проговорил Орлов серьезно. – Только помни, Глеб Андреевич, свое слово. Я ведь не затем приехал просить отдать мне деньги, что мне нужно в карты их спустить. У меня на шее дело пагубное. Если вы отдадите мне завтра деньги, они меня из беды выручат. Не отдадите, то не пеняйте, я вас только где повстречаю, то и поломаю малость, – и Шванвич вам не поможет. Вместе с братом Алеханом за вас примемся.
Последнее Орлов сказал умышленно: он узнал, что Тюфякин со времени проигрыша ему денег подружился с первым силачом, известным на весь Петербург и даже на всю Россию, как бы предвидя, к чему поведет неуплата денег.
– А дело мое, князь, погибельное, за всю жизнь такой беды не стряхивалось на голову.
– Да какое у вас дело? – заговорил Тюфякин. – Не могу ли я вам, кроме денег, помочь чем? Деньги сами собой, постараюсь непременно. Не могу ведь я тоже и в деле вашем вам пособить?
Орлов подумал и, сообразив, что Тюфякин и без того не может не знать его истории с Котцау, а только прикидывается, решил подробно все рассказать ему, за исключением, конечно, того, что Котцау просит денег за обиду.
– Деньги-то тут при чем же? – спросил Тюфякин.
– А ведь арестуют, потом сошлют, нужны деньги на дорогу. Шутите, что ли, к примеру, без гроша в Белозерск ехать…
Тюфякин подумал и обещал употребить все свое влияние на Гудовича и Воронцову, чтобы устроить дело и тем оттянуть уплату долга.
– Котцау я знаю, он ведь нас обучает экзерциции, – сказал князь. – Я к нему съезжу и, надеюсь, все устрою; не посмеет он артачиться. Я уж так подстрою, что он простит обиду… А вы, Григорий Григорич, сами тоже сделайте дельце, ступайте к одной красавице писаной, графине Скабронской. Знаете, что недавно в Петербурге, с год, что ли. Ее попросите вы за вас словечко замолвить.
Григорий Орлов во второй раз, от другого лица, услыхав то же самое, то есть о таинственном значении иностранки графини, невольно вытаращил глаза на Тюфякина. Котцау, Агафон и Тюфякин предлагают то же?..
– Чему удивились? Верно вам говорю. В чем тут сила, сказать вам не могу. А только говорю верно. Поезжайте к ней и попросите ее за вас похлопотать.
– Да нешто она… – заговорил Орлов и запнулся. – Нешто она пользуется благорасположением… Ну, государя, что ли?
Тюфякин стал хохотать:
– Что вы, помилуйте! Государь ее в глаза не видал никогда. Вы думаете, я вам сказать не хочу, боюсь, что ли? Вот побожусь на образ, совсем не то. Тут дело не в государе. Вы знаете, сказывают, что когда подрядчик какой из купцов хочет дело сделать, так не к барину идет, а к его управителю, вот так и тут. Графиня Скабронская государю совсем неизвестна. Ну а все-таки… как бы вам сказать… Вы все-таки поезжайте к ней. Многое она может. А как, собственно, и почему может… увольте – не скажу!
– Чудное дело, – пожал плечами Орлов. – Познакомлюсь, поеду, попрошу. Чудное дело! Ну а деньги, князь, как хотите, а получить позвольте. Вы сколько раз выигрывали у меня и в тот же вечер их в карман клали и увозили. Много червонцев перешло к вам орловских, позвольте разочек и нам ваших отведать, тюфякинских. А еще вернее молвить, позвольте мне, князь, свои обратно получить.
– Непременно, непременно, – зачастил Тюфякин. – Только если все-таки я усовещу бранденбургца и простит он вас, а графиня тоже поможет, то вы обещаетесь меня уже не прижимать. Обещаетесь?
Орлов подумал и вымолвил:
– Ладно! Даже вот что скажу: мне ведь все равно, что вам подарить, что на дорогу истратить. Если беда эта уляжется и мы с Алеханом останемся целы, то, пожалуй, вовсе я с вас взыскивать не стану, оставляйте их себе на разживу.
Тюфякин засиял лицом, даже голос его как-то изменился.
Когда Григорий Орлов вышел на улицу, появившиеся по очереди из засады гости все-таки нашли князя в некотором смущении, он думал: «Ну а если Котцау заупрямится? Придется платить?!»
Первый появился из соседней горницы, куда дверь была приотворена, еврей Лейба. Это был сухопарый, на кривых ногах, с резкими чертами лица сын Израиля; жид с головы до пят, но еще молодой и даже, пожалуй, красивый; он стал и впился в князя беспокойными глазами. Новый долг и новая уплата князя должны были более всего потревожить Лейбу. И так уж много денег пропадало за Тюфякиным, а теперь, очевидно, он будет просить опять нового займа.
– Ну что, Иуда, слышал? – выговорил грубо князь.
– Все слышал, – отозвался Лейба. – И как зе не слышать! Но… – и он растопырил руками в воздухе, как бы заранее заявляя, что в данном случае, что касается до него, он ничего сделать не может.
– Ну, ты казанскую сироту не изображай! Нужно будет – так тебя же за бока! – гневно выговорил Тюфякин. – Сам слышал. Что ж я – вру, что ли? Понял ты? Нужно коли платить, так кто же доставать будет, коли не ты!.. Нечего разводить руками.
Княжна Настя, услыхавшая из другой дальней комнаты голоса Лейбы и Глеба, догадалась, что офицер Орлов уехал, и вышла тоже.
– Что такое? Зачем он приезжал? – спросила она, выходя.
Тюфякин объяснился.
– Так поезжай к Котцау сейчас же, уговори его. Где ж такие деньги достать! И сколько их?
– И не помню! – злобно выговорил князь Тюфякин. – Черт их упомнит! Триста ли червонцев, пятьсот ли, я почем знаю! И проиграл-то в пьяном виде, сто лет тому назад.
– Так ступай скорее в Рамбов. А там и Елизавету Романовну попроси… Или пускай простят, или пускай прикажут скорее их засадить и выслать. Хоть бы ныне вечером. Приказать засадить недолго! – выговорила княжна быстро и горячо.
– Зачем же это я буду просить засадить? Мне какое дело? – угрюмо отозвался Тюфякин.
– Ах, господи! Да ведь из острога он тебя не достанет, будет через приятелей денег просить, а сам-то ведь на запоре будет. Драться-то ведь уж нельзя ему будет…
Князь поднял голову, посмотрел на сестру и вдруг вскочил со своего места.
– Ах, Настенька! Умница! Соломон, ей-богу! Слышь, ты, Иуда, ваш только царь Соломон эдак-то вот рассуждал.
Князь расцеловал сестру, повеселел и воскликнул:
– Так! Истинно! Верно! Ловко! Зер гут! Или прощенье полное, или чтобы тотчас на цепь и в Белозерск!! Еду к Котцау, а от него к Романовне нашей!
Но прежде чем отправляться по делам, князь должен был отвезти сестру домой.
Настя, вернувшись к себе, самоуверенно и спокойно рассказала тетке и сестре подробности своих визитов по городу, кого она видела и что говорила и что слышала. Все это было выдумкой, она все время своего отсутствия просидела у князя Глеба. Но лгать на этот лад Насте приходилось уже не в первый раз. И эта ложь не только не смущала ее, не только не была ей в тягость, но, видя, как доверчиво и опекунша и Василек выслушивают ее выдумки, Настя становилась с каждым днем смелее и с каждым днем относилась к обеим с большим пренебрежением. Она начинала считать себя неизмеримо выше их разумом и способностями.
«Они ведь дуры», – поневоле мысленно рассуждала она.
Между тем за последнее время беседы с братом наедине приносили свои плоды. Он поучал сестру и готовил ее на самую распущенную жизнь ввиду своей личной пользы.
XXIX
На Невской перспективе, за несколько домов от Полицейского моста, полускрываемый рядом больших лип и берез, стоял двухэтажный дом, простой, но красивый. Архитектура его была того стиля, который само собою незаметно проник в Россию, и главным образом в Петербург, начиная с Петра Великого. Стиль этот чисто старый голландский: простые угловатые формы всех очертаний, плоские, рельефные колонны, кое-где, как бы вставленные в рамках, скульптурные украшения, оттененные желтой краской от белого фона стены; при этом очень высокая, крутая крыша, на которой не может залежаться снежный сугроб.
Дом этот был выстроен одним родственником и любимцем кабинет-министра Волынского. После казни покровителя владелец дома тоже пострадал и отправился в ссылку. Теперь дом этот принадлежал голландцу, явившемуся в царствование Анны Иоанновны в качестве вольнонаемного матроса, а теперь ставшему не более и не менее как банкиром. Его фирма была известна всему Петербургу, и он сделался кредитором многих более или менее крупных личностей, чиновников и офицеров на разных ступенях иерархической лестницы. Когда-то он был Крукс, теперь же сделался дворянин Ван Крукс. Но сам хозяин, матрос, банкир, кораблестроитель, подрядчик и аферист на все руки, не жил в доме, который приобрел только ради того, что он напоминал ему немного его родину. Он жил на маленькой квартире недалеко по Мойке.
Дом за год назад был занят приехавшим в Петербург с молодой женой графом Кириллом Скабронским. Здесь роскошно устроился промотавшийся внук графа Иоанна Иоанновича, которого, наконец, привели в отчизну на жительство уже совершенно стесненные обстоятельства.
В нижнем этаже дома помещались только парадные комнаты, настолько великолепно отделанные, насколько было только возможно в то время в Петербурге. Жилые комнаты помещались во втором этаже. В доме этом, обстановка которого была такая же, как и во всех прочих богатых домах Петербурга, была только одна особенность: малое сравнительно количество служителей. Вдобавок прислуга эта была не из русской дворни, праздной, ленивой и неряшливой.
В этом доме было человек пять-шесть людей, но все они были опрятно одеты, смотрели весело, аккуратно и усердно делали свое дело, и некоторые из них даже не говорили по-русски. Один был чистый француз, привезенный графом с собой, другой был немец, третья, любимая горничная графини, была курляндка.
Было уже часов десять утра. На улицах было довольно много прохожих и проезжих; в соседних домах, в особенности поближе к Полицейскому мосту и ко дворцу государя, замечалась уже начавшаяся суета дня, а в доме этом все еще было тихо.
В нем еще только просыпалась прислуга, привыкшая жить на иностранный лад: ложиться, по милости господ, поздно и вставать перед полуднем.
В нижнем этаже угловая гостиная, с красивою пунцовою мебелью, с изящным убранством, переполненная картинами и бронзой, отличалась от обыкновенных гостиных высоким куполом вместо потолка. Это была фантазия того, кто когда-то строил дом и умер затем в Белозерске. В глубине этой небольшой, по-заморски убранной гостиной стояла большая, необыкновенно эффектная кровать, вся резная, из розового дерева и вся испещренная бронзовыми гирляндами и фарфоровыми медальонами; на четырех витых колонках высился легкий, красивый и эффектно драпированный балдахин с занавесями из голубого бархата, а на верхушке его два маленьких золотых льва держали щит с гербом графов Скабронских. По присутствию здесь этой красивой голубой кровати среди неправильно расстановленной и сбитой в кучу пунцовой мебели было видно, что в гостиной была только временно устроена спальня.
Действительно, здесь ночевала теперь и проводила часть дня хозяйка квартиры графиня Маргарита Скабронская, лишь за несколько месяцев перебравшаяся сюда сверху, подальше от больного мужа.
Часу в одиннадцатом люди поднялись на ноги и стали тихонько переходить из комнаты в комнату, убирая дом.
Скоро внизу появилась хорошенькая молоденькая немка, пестро и щегольски одетая, с коротенькой юбочкой на фижмах, в снежно-белых чулках, в башмаках с бантами; на груди ее была скрещена и завязана сзади узлом большая шелковистая косынка. Несколько раз подходила она к дверям пунцовой гостиной, очевидно прислушиваясь: не проснулась ли барыня. Но в это время в горнице с куполом все было тихо.
Через забытую вчера, не опущенную на окно тяжелую занавесь врывался в комнату яркий свет уже высоко поднявшегося солнца и играл сотнями переливов в позолоте львов на балдахине, в золотом карнизе купола и в бронзе всей мебели. Один яркий солнечный луч падал прямо на кровать и ослепительно горел на голубом бархате драпировки, в ее серебристой бахроме и кистях и на атласном нежно-желтом одеяле, обшитом кружевами.
На широкой двойной кровати крепко спала молодая и особенно красивая женщина. Это и была графиня Маргарита. Солнце светило прямо на нее и уж успело сильно пригреть и одеяло и подушку, к которой прильнула она щекой и которую обсыпала вьющимися прядями черных волос с примесью пудры. Ее обнаженные красивые плечи и изящные руки, недвижно протянутые сверх толстых складок наброшенного одеяла, тоже начинало довольно сильно согревать этим солнечным лучом. Но сон ее был слишком крепок, даже отчасти тяжел. Она тяжело дышала, припекаемая солнцем, грудь высоко вздымалась… но все-таки красавица не просыпалась. Она сильно устала накануне на веселом вечере и поздно вернулась домой.
Около нее на столике лежали часы и затем три предмета, которые она, конечно, спрятала бы тотчас, если бы сюда нескромно проник посторонний взор.
Во-первых, лежал лист бумаги, исчерченный карандашом, с бесконечными рядами цифр. Вчера, уже ночью, в постели сводила она бесконечные счеты, и, конечно, не счеты прихода, а непомерного, не по силам расхода. Рядом с этим листком стояла маленькая изящная саксонская чашечка с остатком питья. То, что ей наливалось вечером хорошенькой немкой-наперсницей в эту чашечку, было почти тайной между ними обеими. Это было любимое наркотическое питье, составленное из разных специй, сильно действующих на нервы. В состав его входила и частица турецкого гашиша.
Наконец, около чашечки лежала крошечная золотая табакерка, и в голубой эмали на крышке, среди маленьких бриллиантов и жемчужин, выглядывала прелестная головка амура на двух беленьких крылышках. Табакерка свидетельствовала о приобретенной дурной привычке, зачастую свойственной многим современным красавицам и львицам ее среды, но все-таки из приличия и скромности скрываемой в обществе.
Спящая красавица на этой изящно-щегольской кровати, как бы обрамленная яркими цветами шелка и бархата да еще ярко, будто любовно, озаренная полдневным солнцем, была действительно замечательно хороша собой; лицо ее, нежных очертаний, дышало молодостью, силой и страстью.
Невдалеке от постели на большом кресле было брошено снятое с вечера платье, но не женское. Это был полный мундир кирасирского полка. Далее, на столе, накрытом узорчатой скатертью, слегка съехавшей набок, лежали маленькие игральные карты, коробка с бирюльками и крошечная перламутровая дощечка с квадратиками, а вокруг нее были рассыпаны такие же крошечные шахматы. Ими, конечно, могли с удобством играть только те маленькие ручки, которые покоились теперь во сне на одеяле, любовно пригретые солнечными лучами.
Тут же среди шахмат лежал брошенный вчера флакон с пролитыми духами, и тонкий раздражающий запах все еще распространялся кругом стола.
Если б посторонний человек, хотя бы дряхлый старик, мог проникнуть теперь в эту импровизированную спальню, то наверное и невольно залюбовался бы на спящую красавицу. А если бы сюда мог заглянуть юноша Шепелев, то по красивому лицу спящей да и по брошенному рядом мундиру он узнал бы своего ночного спасителя, которого принял за офицера-измайловца.
Во втором этаже, в небольшой горнице, помещавшейся почти над гостиной, все занавеси были тщательно спущены, и луч дневного света только едва скользил между двух неплотно сдвинутых половинок. Обстановка этой горницы была иная, и все в ней было в прямом противоречии с изящной обстановкой нижней комнаты с куполом.
Здесь обыкновенный потолок был несколько ниже; у стены стояла небольшая простая кровать, и в ней на трех больших подушках виднелась как бы полусидячая фигура мужчины с худым, желтоватым и изможденным лицом, слегка обросшим усами и бородой. Большой круглый перед диваном стол был заставлен рюмками, стаканами, скляницами и пузырьками. Удушливый и кисловатый аптечный запах наполнял темную горницу.
В горнице этой был только небольшой диван и несколько кресел, обитых такой же голубой материей, какая сияла теперь внизу на балдахине большой двойной кровати, перенесенной отсюда. Остальная мебель была как бы набрана в доме по мере надобности в ней, и не ради щегольства, а ради действительной потребности. Около самой кровати стояло массивное кресло, обитое темной шерстяной материей. На маленьком столике близ постели, около кружки с каким-то едко пахнувшим питьем, лежала маленькая книжка с золотым обрезом, с золотистым крестом на пунцовом переплете. Это было Евангелие на французском языке.
Полусидячая фигура на кровати был человек, которому теперь нельзя было определить года. Болезнь трудная, злая и давнишняя жестоко исказила черты лица, когда-то, и еще даже недавно, красивого, молодого. Узнать в больном изящного графа Кирилла Петровича Скабронского было теперь мудрено. Он уже давно неподвижно опрокинулся на подушки, но не спал, а был в каком-то болезненном забытьи. Это был не сон, а полное расслабление, отсутствие жизненных сил, которые ежедневно все более и более покидали будто тающее тело. Изредка он глубоко вздыхал и тотчас начинал судорожно и сухо кашлять, но при этом не открывал глаз и как бы оставался все-таки в бессознательном состоянии.
Ни около постели, ни где-либо на мебели не видно было никакой снятой одежды, кроме мехового шлафрока на кресле. Больной уже несколько месяцев не выходил из этой горницы никуда и несколько недель лежал, не вставая с постели. Беспощадная, медленная болезнь постепенно уничтожала его, незаметно, как-то тихо и будто умышленно осторожно тешилась над жизнью, которую уносила частицами, всякий день, понемножку. Болезнь будто играла с этим человеком, как играет кошка с мышью, то отпустит, даст вздохнуть, даст ожить, позволит оглядеться, прийти в себя, начать надеяться – и опять круто захватит, опять гнетет, мучает, покуда будто нечаянно, в увлечении злобной игрой своей, не порвет вдруг окончательно жизненной нити. И теперь больной граф Скабронский часто уже вздыхал с мыслью тяжелой и душу леденящей, но искренней: скоро ли?!
Наконец, спустя час, усилившееся движение на улицах, легкий шорох в комнатах, где убирала прислуга, и отчасти позднее время разбудили спящую внизу красавицу.
Графиня Маргарита открыла свои красивые черные глаза, лениво обвела ими кругом себя по горнице, но не шевельнулась и тотчас же задумалась. С самой минуты пробуждения, всякий день, в ней являлась все та же неотвязная, постоянная дума, неотвязная забота о трудных обстоятельствах странно сложившейся ее жизни.
На это утро всякая другая женщина поспешила бы встать и опустить гардины или как-нибудь укрыться от горячих лучей солнца, чересчур сильно пригревших ее. Графиня, напротив, с наслаждением осталась на этом припеке. Она еще с детства любила греться на солнце и ощущать в себе огонь пронизывающих тело лучей. Она сама любила сравнивать эту свою страсть с отличительною чертою змеи, которая по целым часам лежит на самом палящем солнце и греется, свернувшись в кольцо, на раскаленном камне. И если эта страсть графини была общая со змеей, то и кроме нее было в характере молодой красавицы много змеиного.
Наконец Маргарита протянула руку, хотела взять колокольчик и позвать горничную, но глаза ее упали на табакерку, и она прежде всего по пробуждении не могла отказать себе в первом обычном удовольствии. Когда она взяла табакерку и, достав микроскопическую щепотку, понюхала, красивое личико ее тотчас же слегка оживилось и стало менее сонливое и вялое.
Затем она позвонила, в дверях тотчас же показалась хорошенькая ее горничная Шарлотта и, оглядевшись, ахнула и всплеснула руками. Обращаясь к своей госпоже фамильярно и бойко, она заговорила:
– Ах, liebe Grдfin[34], опять я забыла опустить занавеску. Уж как, верно, вы меня бранили.
Барыня и служанка всегда говорили между собой по-немецки.
– Ах нет, Лотхен, я очень рада была. Солнце меня пригрело, а я этим в России редко наслаждаюсь. Мы будем лучше всегда оставлять эту занавеску. Авось хоть раз в месяц в Петербурге подымется европейское солнце.
– Ну, здесь оно не любит часто бывать, – отозвалась Лотхен.
Горничная, живая и ловкая в движениях, в голосе и походке, вышла из спальни и скоро вернулась с фарфоровым подносом, на котором стоял маленький красивый сервиз. Она уставила поднос на другом столике и придвинула все к кровати.
– Сегодня кофе будет хуже, – заговорила она, оглядываясь, – вы уж очень долго спали. Что это?! Опять считали! Как не стыдно глаза напрасно портить.
Графиня, накладывая себе сахар в чашку, вдруг остановилась среди движения и, подняв чуть-чуть свои тонкие черные брови, вымолвила, как бы показывая ими в верхний этаж:
– Ну, что там?
– Ничего, все то же! Чему там быть?! – небрежно выговорила Лотхен, подбирая на большом столе рассыпанные карты, бирюльки и шахматы.
– Смотрите, Фленсбург их из Парижа выписал, а вы пролили, – прибавила она, показывая флакон от духов.
– Спит или проснулся? – спросила Маргарита, не обращая внимания на замечание любимицы.
– Право, не знаю; кажется, Эдуард еще внизу. А уж он будто чутьем слышит всегда, когда его барин должен проснуться.
Наступило минутное молчание, после которого Лотхен, подойдя к столику с кофеем, засунула руки в кармашки своего полотняного, пестрого, в цветочках, фартука, который заменяла в праздничные дни шелковым, и, глядя пристально в лицо графини, выговорила полушепотом:
– Когда ж это, liebe Grдfin, конец будет? Это ужасно! Что ж этот проклятый Вурм вам говорил вчера?
Графиня слегка пожала красивым полуобнаженным и снежно-белым плечом и вздохнула.
– Что ж он знает! – выговорила она через мгновение. – Говорит, скоро, на днях, а потом пройдет месяц, и он говорит – не знаю и утешает тем, что, во всяком случае, надо ждать, когда лед на Неве пройдет. А когда он двинется?! – вдруг как бы разгневалась молодая женщина. – Я спрашивала вчера Полину. Она говорит, что бывает иногда ледоход в мае месяце. А мы за эти два месяца сто раз успеем с ума сойти.
И Маргарита перестала пить свой кофе, задумалась глубоко и прошептала:
– Да, ужасно! Думала ли я, что буду когда-либо в таком положении?
– Старый граф?! – выговорила Лотхен шепотом и с особым ударением, как бы нечто повторяемое в сотый раз.
– Ну, дед!.. Ну, хорошо! Ну, что же?!
– Что? – повторила Лотхен и тоже фамильярно подернула плечами. – Зажмурьтесь да и решитесь… Говорят, надо глаза закрыть, когда что страшно или противно…
Графиня вдруг расхохоталась весело и прибавила, кончив свою чашку:
– Ты вот других посылаешь, а ты сама попробуй, как это весело.
Лотхен тоже рассмеялась.
– У меня такого деда нет! А если б был… О-о!.. Я бы показала силу характера.
– Должно быть! Хвастунья! Это легко на словах!..
– Я не говорю – легко. Но если уж необходимость… Да и что вам стоит, если только вы захотите? А ведь у него, все говорят, при его скупости, огромное состояние. Все наши долги он бы мог сразу уплатить одним годовым доходом с одного какого-нибудь имения. А вам что для этого надо? Немножко полюбезничать с ним, приласкаться к старому брюзге. А если б даже и влюбился в вас, в свою внучку, этот старый греховодник, то и пускай влюбится. Оно не опасно! Ведь опасности никакой не будет, несмотря на полное его желание быть опасным…
И обе женщины вдруг начали весело и громко смеяться тем же звенящим серебристым смехом, каким еще недавно смеялись в санях над спасенным в овраге преображенцем. Смех этот был настолько резок, что даже достиг подушек больного, который лежал наверху. Он от этого смеха как бы пришел в себя и открыл глаза.
В горнице его сидел уж давно на стуле близ дверей на цыпочках прокравшийся верный слуга его, француз из Нанси, Эдуард. Он действительно как бы чутьем всегда знал, когда больной граф проснется. При первом движении руки больного и с пробуждения начинающегося сухого кашля Эдуард приподнял занавеску на окне и приблизился к кровати.
– Как себя чувствует monsieur le comte?[35] – начал он с обыденной фразы, которую говорил, однако, всякое утро не ради только того, чтобы сказать что-нибудь, а действительно озабоченный положением больного, которого любил и которому считал себя во многом обязанным.
Молодой малый был взят графом во Франции из простой крестьянской семьи, и в два-три года он сделал из поселянина самого элегантного лакея, способного на все и получающего большое жалованье. Со смертью любимого барина Эдуард, конечно, терял немного, так как его во всяком богатом доме и в Петербурге и даже в Париже взяли бы с охотой. Но Эдуард искренне привязался к этому русскому барину, который обращался с ним по-братски.
– Как вы почивали? – заговорил Эдуард по-французски.
– Как всегда, – слабым голосом отозвался граф. – Вурм не приезжал?
– Нет еще. Не прикажете ли свежего питья?
Больной промолчал и только движением век и бровей отвечал слуге.
В эту минуту новый залп свежего хохоту внизу и веселые голоса долетели до слуха графа, и он тяжело вздохнул, как бы в ответ на это.
– Que diable! Avec Laube!..[36] – проговорил Эдуард сердито.
И граф понял, что верный слуга, говоря про этот хохот внизу, оскорблен им.
Между тем в нижней гостиной Лотхен рассказывала в подробностях барыне историю, случившуюся с пруссаком Котцау. Лотхен, близкая знакомая Михеля и вообще приятельница со всеми привезенными людьми принца Жоржа, с которыми часто видалась, могла знать до малейших подробностей все делающееся у него в доме.
Лотхен передавала графине, что принц и господин Фленсбург очень смеялись над одним молодым часовым, который так говорил с ними по-немецки, что его высочество до сих пор без смеха вспомнить не может.
Графиня, конечно, уже давно знала всю историю Котцау, но на это утро Лотхен прибавила еще несколько подробностей.
Юркая, кокетливая и веселая горничная тоже много бывала в гостях в своей среде, как и графиня, ее полуприятельница. И каждый день она старалась собрать в городе побольше вестей, побольше сомнительных происшествий, побольше всяких сплетен и забавных анекдотов, чтобы поутру развеселить свою «liebe Grдfin», которую она уже давно завоевала себе право так называть.
– Откуда ты знаешь, – выговорила Маргарита, – что эту суповую чашку целый день распиливали? Мне Фленсбург вчера об этом ни слова не говорил.
– Что мудреного? – вдруг лукаво улыбнулась Лотхен. – Он мог с вами целые сутки пробыть и об этом не сказать.
– Почему ж? – удивилась Маргарита.
– Потому что, когда он с вами, – продолжала лукаво усмехаться Лотхен, – вам не до того, чтобы рассказывать друг дружке разные истории, то есть лучше сказать: ему не до того. Он сидит, впивается в вас глазами, молится на вас! Одно только жаль, – прибавила Лотхен тонко, – он небогат. Это нам не на руку, нам надо спасаться из наших затруднений; хоть и красив он, и умен, и не русский медведь, а все-таки нам бы лучше предпочесть нашего столетнего дедушку. Фленсбург если влюбится до отчаяния, хоть бы даже до самоубийства, никакого толку не будет. Еще хуже мы запутаемся! А если дедушка влюбится, тогда мы с вами заживем, как герцоги германские. Наймем вот хоть дом меншиковский или воронцовский, отделаем так, как эти неучи-петербуржцы и не видали никогда. Я уж не буду простой горничной у вас, я буду вашей камер-фрейлиной или статс-дамой, у меня будут свои три горницы, гостиная и кабинет, где я буду принимать своих знакомых и друзей.
– И замуж выйдешь, – насмешливо отозвалась Маргарита.
– Да, конечно. Только не иначе как за глухонемого…
– Немой видит, лучше за слепого!
– Нет, слепой слишком мало видит. Это неудобно! – расхохоталась Лотхен. – Со слепым беда!.. Он чужую вместо жены поцелует.
– Ну, это все равно… Мы не ревнивы… Тут беда не в том… – отозвалась Маргарита.
И вдруг обе женщины без причины, а будто от одной потребности смеяться, снова весело расхохотались на весь дом.
Наконец Лотхен отодвинула от кровати столик с сервизом. Графиня села, спустила ноги в изящные туфли на высоких пунцовых каблуках с золотыми подковами и, поднявшись, подошла тотчас к большому зеркалу.
– Как вы, однако, хороши собой! – вымолвила Лотхен.
– Да, кажется… – отозвалась Маргарита, любуясь собой. – Это моя первая любовь! – указала она на себя в зеркало. – И, увы! кажется, и последняя.
– Ну, еще смотрите, кого и полюбите, встретите такое диво, что…
– Нет, Лотхен. Я серьезно боюсь, что никогда никого не полюблю!
В эту же минуту верный и терпеливый Эдуард помогал барину с трудом повернуться и подняться на кровати, чтобы выпить из кружки лекарство. С отвращением глотал больной противную микстуру, понимая и чувствуя, что это только ненужное, лишнее мучение… Новый взрыв хохота серебристых женских голосов, долетевший снизу, заставил его вздрогнуть и не допить лекарства.
– А я ей все дал… – внезапно и с горечью прошептал своему любимцу Кирилл Петрович. – Имя, положение… Любовь дал…
– Une aventuriere!![37] – злобно отозвался Эдуард, укладывая снова больного в подушки.
XXX
На другой же день, в сумерки теплого зимнего дня, братья Орловы были арестованы и препровождены под конвоем по месту служения младшего, то есть на ротный Преображенский двор. Известие это быстро распространилось по всему Петербургу и по всем гвардейским полкам благодаря множеству друзей и множеству врагов. Толки об этом долго не прекращались. Весь Петербург был убежден, что государь чрезвычайно разгневан поступком буянов с профессором фехтования, и все ожидали скоро услышать, что офицеры Орловы будут высланы из Петербурга куда-нибудь далеко.
В действительности было совершенно иначе. Хотя давно, с детства, знал Петербург прежнего великого князя, а теперешнего государя, однако постоянно ошибался на его счет. Общественное мнение никогда не могло предвидеть, как отзовется государь на какой-нибудь факт. Это был человек, который именно действовал постоянно на основании чуждого ему и чисто русского свойства: какой стих найдет!
Когда, понуждаемый Фленсбургом, принц Жорж доложил государю об истории с Котцау, Петр Федорович страшно разгневался и вспылил. Но когда затем принц начал рассказ и передал все в подробностях, то государь так долго и искренне хохотал до слез, что после такого смеха даже мудрено было перейти к суровому наказанию. Он заставил несколько раз принца Жоржа снова пересказать себе все до мелочей и досадовал, что некоторых подробностей принц Жорж сам не знал. Разумеется, что после того Петр Федорович согласился, пожимая плечами, что буянов следует арестовать. При этом государь прибавил, что дело исключительно касается самого принца как шефа всей гвардии. Таким образом, Орловы были арестованы по распоряжению самого принца голштинского.
Фленсбург сильно взбесился, узнав о результате свидания принца с государем.
– Стало быть, одним арестом все и кончится?! – воскликнул он. – Вот видите, ваше высочество, я был прав: если бы вы повезли Котцау с этой миской на голове в самый дворец, то было бы иначе.
– Ах, милый Генрих, – оправдывался принц, – напротив, если бы я свез Котцау в этом уборе, вышло бы еще хуже. Если один рассказ рассмешил государя, то понимаете, что бы было, если б он увидал самого ротмейстера. Котцау бы даже обиделся и уехал обратно.
И Фленсбург по личному распоряжению принца вместе с майором Воейковым арестовал Орловых и сам сдал на Преображенский двор.
После своего возвращения из ссылки Фленсбург ни разу еще не бывал на ротном дворе первого петербургского полка. Он был поражен тем, что нашел там. Когда он передал потом принцу, что такое виденные им казармы, принц широко раскрыл глаза и почти не верил. Было решено, что принцу надобно в числе других дел, касавшихся гвардии, прежде всего заняться преображенцами. Фленсбург посоветовал принцу, не откладывая в долгий ящик, произвести смотр этому «вертепу», как называл он двор.
Действительно, через два или три дня, не объявляя ни слова о своем намерении, принц в сопровождении Фленсбурга явился на ротном дворе.
Переполох, разумеется, сделался страшный. Орловы, сидевшие под арестом в одной из горниц, увидя подъехавшего в карете принца, конечно, приготовились к допросу и к немедленной высылке из города.
Шепелев, бывший у дяди, решил, что этот приезд касается до него, что его тоже немедленно арестуют за что-нибудь; и молодой человек стал припоминать, не сделал ли он действительно какой-нибудь ужасной дерзости, когда был у принца с слесарем.
Молодой Державин, узнав о появлении принца, тотчас же нацепил всю амуницию и быстро сбежал вниз. Судя по веселому лицу его, можно было подумать, что он от визита принца ничего, кроме хорошего, для себя не ожидает.
Квасов, отдыхавший после обеда и разбуженный племянником, даже не мог понять ничего. Так как Аким Акимыч спал всегда одетый, то ему осталось только захватить шпагу и шляпу, чтобы выйти к его высочеству.
– Ну, эта колбаса недаром пожаловала, – шепнул он племяннику. – Посмотри, что будет. Дым коромыслом!
– Может, дело какое важное?
– Какого ему черта делать у нас? – бормотал Квасов. – А просто ругаться приехал, угару напустить.
Принц молча, но сумрачный вступил на ротный двор, встречаемый всеми офицерами и сопровождаемый адъютантом, который насмешливо и презрительно оглядывал офицеров. Только два лица оказались Фленсбургу вполне знакомыми, но это были рядовые дворяне Шепелев и Державин, с которыми он не только не заговорил, но которым даже не счел возможным поклониться. Один лишь добродушный принц, входя на крыльцо и увидя в кучке рядовых знакомое юношеское лицо, невольно улыбнулся на секунду и, сделав в воздухе рукой, выговорил:
– А, штара жнакома! – И, обернувшись к Фленсбургу, он, прибавил: – Вон он наш, unser Herr Nichtmicht!
Шепелев вспыхнул и покраснел до ушей: ему показалось это обращение к нему крайне оскорбительным.
Принц уже вошел в коридор, когда несколько человек обернулись к Шепелеву за объяснением того, что сейчас случилось и что сказал принц.
– Это он мне прозвище такое дал, – еще более краснея, выговорил молодой малый.
Он объяснил свой случай у принца в коротких словах:
– Вот оно и выходит теперь, что он мне «штара жнакома».
И юноша так удачно передразнил фигуру и интонацию принца, что вдруг вокруг него раздался никем не ожиданный дружный залп смеха; даже Квасов фыркнул. И через секунду на крыльце снова появилась грозная фигура взбешенного Фленсбурга. Смех этот он понял по-своему, принял за умышленную дерзость, тем более что он раздался прямо за спиною его и принца, едва успевшего сделать несколько шагов по коридору казармы.
– Чего вы горланите! Неучи! – крикнул Фленсбург, и лицо его изменилось и побледнело. Он не сдержал своего гнева и чувствовал сам, что хватил через край. «Что будет!! Что скажут!!» – шевельнулась в нем боязнь за себя.
Но кучка офицеров смутилась. Молчание гробовое наступило тотчас. Только одно лицо из всех лиц, к нему обращенных, побагровело. Это был Аким Квасов. Бывший сдаточный мужик оказался чувствительнее столбовых дворян. Фленсбург заметил это вспыхнувшее огнем лицо и надолго запомнил его на всякий случай.
– Что вы – офицеры гвардии или разносчики, извозчики? – гневно и смелее вымолвил Фленсбург. – Расходитесь по местам, каждый к своей части. Вы, русские, заставили поневоле иностранца учить себя вежливости!..
Приказание было тотчас молча исполнено, и все офицеры разошлись по казармам.
Когда Фленсбург скрылся в коридоре, догоняя принца, то на дворе показался снова только Квасов и рысью выбежал за ворота на улицу. Тут он огляделся: кроме одной кривой солдатки, никого не было вблизи.
– Матвеевна! Матвеевна! – замахал ей Квасов.
Женщина подошла.
– Слушай в оба. Дело сибирное!..
И Квасов, озираясь, медленно и шепотом, но толково вдолбил что-то Матвеевне, разинувшей рот от излишнего внимания и усердия.
– Поняла?
– Вестимо, родимый. Куды же ее тащить?
– Мне в руки или в карман. Да со сноровкой. Чтобы никто не видал!.. А то оба в Сибирь улетим.
– О-ох!.. – вздохнула Матвеевна.
– Да. Верно… Ну, кати. Вот тебе три гривны. Живо. Единым духом… Погоди! Как меня найдешь, виду не подавай. Стой лучше столбом. Я к тебе подойду лучше сам. Ну, качай… Живо! Деньги не потеряй…
И Квасов также рысью, но видимо довольный вернулся в казарму. Баба пустилась опрометью по улице и тотчас скрылась за углом.
В то же самое время в коридоре, когда Фленсбург уже почти догнал принца, к нему приблизился почтительно молодой рядовой и выговорил на чистейшем немецком языке:
– Если будет нужда во мне его высочеству или вам для какого-либо объяснения, то я от всего сердца готов служить.
Фленсбург рассеянно отвечал gut, хотя он хорошо не понял сразу, чего, собственно, хочет этот рядовой, и двинулся далее.
– Как здоровье господина фехтмейстера после этой глупой неприятности? – снова вежливо спросил по-немецки рядовой, следуя за Фленсбургом.
– Ничего… Но за эту глупость будет еще достойная буянам расплата! – отвечал Фленсбург и прибавил, останавливаясь: – Каким образом вы преображенец?.. Вы из Курляндии или…
– Я из Казани, господин офицер.
– Вы русский?!
– Точно так-с…
– Каким же образом вы так говорите по-немецки… замечательно хорошо?
– Я люблю язык этот и знаю его с детства.
– Ваша фамилия?
– Державин.
– Державин? Не слыхал еще ни разу этого имени… Но разве в Казани мог быть кто-нибудь, способный учить по-немецки?
– Да-с… – И Державин стал бойко и быстро рассказывать, как он выучился языку.
Разговор затянулся. Фленсбургу понравились шутки юноши насчет его дикого учителя, каторжника Розы. Он начал смеяться и расспрашивать подробнее…
Вскоре Фленсбурга позвал кто-то из офицеров к принцу. Он двинулся и выговорил:
– До свидания. Заходите ко мне. Я во дворце принца. Нам нужны говорящие по-немецки. Дело найдется… Заходите…
Фленсбург нашел принца, гневно, но сдержанно объясняющего что-то такое кучке офицеров на самом невероятном русском языке. Было видно по лицам ближайших, что они при всем усердии не могут понять ни одного слова…
– Биль!.. Баба… Мой… Мног… Не карош! – расслушал Фленсбург и подумал про себя:
«Ох, молчал бы уж лучше. Потеха одна!»
И он приблизился.
– Что прикажете, ваше высочество?
– Милый Фленсбург, – заговорил принц на родном языке. – Это ужасно!.. Это невероятно!.. Поглядите: разве это ротный двор? Это базар, ярмарка, синагога, птичий двор. Эти бабы… Эта грязь… Эти клетки… Эта вонь!
– Потому я и хотел, чтобы ваше высочество сами видели Преображенский двор. Вы бы не поверили. Да и государь не поверит, пока не увидит.
– Нет, государя нельзя сюда вести. Неприлично, наконец. Я прежде приказываю все это очистить. У них плац большой обращен в огороды! Вы слышите? Из плаца огород сделали!
Принц поднял руки в ужасе и пошел обратно, не желая глядеть далее. Он бормотал что-то на ходу себе под нос. Фленсбург расслышал только два раза произнесенное слово:
– Янычары! Янычары!..
XXXI
Действительно, ротные дворы Преображенского и других полков имели странный вид, в особенности для приезжего из Германии офицера, а тем более для того, кто был знаком с полковыми дворами и казармами прусского короля-воина.
При входе с большого общего крыльца под своды ротной казармы принц еще в начале коридора, темного и грязного, был сразу поражен сплошным гулом голосов и спертым, кислым, удушливым воздухом. Причина этой обстановки была страшная теснота, ибо солдаты жили здесь со своими семьями, женами, детьми и даже родственниками. Иногда же, по дозволению потворствующего начальства, брали к себе, если находилось место, на хлеба, за выгодную плату, совершенно посторонних людей. Таким образом явились в казармах старики и старухи, подьячие и духовные, стрекулист, вдова-пономариха, разносчик и какой-нибудь хворый, увечный или просто побирушка-нищий, аккуратно платящий за свой угол из грошей собираемого днем подаяния… Попадался тут народ и беглый, почти без роду и племени: жид, цыган, калмычонок, удравший от побоев злющей барыни-прихотницы. Все они, конечно, приходились на словах тетками, дядями и родственниками своих хозяев-солдат.
Маленькие, загрязнелые донельзя горницы разделялись перегородками. Каждая семья стремилась иметь отдельное владение, хотя бы на трех-четырех аршинах пространства; и бесконечные жиденькие перегородки громоздили, делили горницы на отдельные «семейники». Поэтому вся казарма казалась неисходным пестро-грязным лабиринтом, где кишел, как муравейная куча, всякий люд от мала до велика и от зари до зари.
Тут шныряли взад и вперед вереницы баб-солдаток, кто с ведрами, кто с кулем, с кочергой, с метлой, кто с лотками белья. Бродили и квартиранты без роду и племени, поддельные дяди и тетки, и настолько сжились с полковой ротой, что считали уже себя столь же законными обитателями военной среды. Ходили из семейника в семейник и сами солдаты, тычась из угла в угол, без видимого дела, без цели и без толку, ругаясь и крича не столько от гнева, сколько от тоски и праздности. Они, как набольшие и хозяева, зря привязывались к шныряющим квартирантам или к работящим бабам, женам, соседкам, наконец друг к дружбе… И ежечасная перебранка ежедневно переходила в драку… Метла, лопата, кочерга, ведро, доска, утюг, ковшик и все, попавшееся под руку, шли в дело и начинали летать по воздуху и по головам.
Тут же повсюду бегали, егозили и скакали десятки ребятишек, визжали и завывали грудные младенцы на руках своих доморощенных, самодельных нянек, то есть таскаемые своими семи- и девятилетними сестренками, которые часто дрались между собой из-за них, часто дрались жестоко и с ними, наказывая и муштруя по прихоти…
Тут же и повсюду полноправно и невозбранно разгуливало бесчисленное количество собак и кошек, а главное, тыкалась, в особенности зимой, всякая домашняя птица: куры, петухи, индейки, голуби и даже один кривой, шершавый, давно бесхвостый павлин, раздразненный до бешенства, – потеха ребят-забияк и гроза ребят-трусишек.
С задворок и из полугнилых строений, сараев и закут на задах ротного двора приносилось ржание лошадей, мычание коров, блеяние кучи всякой скотины, баранов, телят, козлов, свиней… и всякого живого добра, заведенного более богатыми семьями. Часто, в особенности летом, мелкая скотина забиралась в казарму через вечно отворенные настежь двери и бродила по семейникам, подбирая и пожирая все съестное, плохо прибранное. Всякий гнал теленка, или свинью, или птицу только из своего семейника, предоставляя незваному гостю идти к соседу… Всякий заботился о себе, о своем угле за своей перегородкой. Обо всем же ротном дворе никто не заботился. Власти одной общей над всеми не было. Майор Текутьев или Квасов, Воейков, те же Пассек или Орлов считали себя начальниками в рядах, во фронте, при выходе и выступлении с двора, на улицах, на учении. В домашнюю жизнь солдат они не входили, ибо пришлось бы вместе с тем возиться и сцепляться с чужим людом, с каким-нибудь квартирантом-стрекулистом, пожалуй, с расстригой и во всяком случае и чаще всего с бабами-солдатками.
Флигельманы или унтер-офицеры были начальством над несколькими семейниками, но при отсутствии всякой строгости в офицерах сами смотрели на все сквозь пальцы и делали свое дело спустя рукава. Впрочем, иначе было поступать и опасно.
Одного очень строгого и отчасти злого флигельмана за год пред тем убили в самом ротном дворе. Кто были убийцы – было известно во дворе, но доказано не было, начальством не взыскано и оставлено без наказания; у другого унтера, служаки требовательного, придирчивого, опоила неведомая рука его корову, другая неведомая рука переломила ногу его любимой собаке, и третьи неведомые руки раскрали разную рухлядь… И унтер смирился, тотчас перестал жаловаться майору и придираться к своим солдатам.
Насколько офицеры были снисходительны и невзыскательны, даже чужды обстановке и внутренней жизни всякого ротного двора, настолько рядовые были грубы, дерзки и отвыкли даже от мысли безответного повиновения.
«Дисциплин» военный – было слово известное очень тесному кругу офицеров, которые были пообразованнее, или побывали за границей, или почитывали кое-какие книжки, или видались с учеными людьми.
Майор Текутьев, более других полновластная личность на том гренадерском ротном дворе, куда заглянул принц, никак не мог уразуметь слово «дисциплин», просил приятелей нарисовать его на бумажке… Узнав, что это невозможно, что это все равно что нарисовать добродетель, или злосчастие, или храбрость, майор махнул рукой и решил:
– Коли не ружье и не шпага, так военному сего и знать не требуется. Немецкие выдумки. Много их ныне. Всех не затвердишь.
Наконец, в ротном дворе, как последствие тесной и праздной жизни всякого люда, в том числе и сброда со стороны, издавна царила полная распущенность, пьянство и разврат. Все бабы давно махнули рукой на запой мужей, все мужья давно махнули рукой на зазорное поведение жен.
Поругаться и подраться из-за теленка и курицы, даже из-за веника было делом понятным, законным, разделявшим иногда весь ротный двор на две враждебные партии. И бывало раз в году, что открывались в самой казарме военные действия между двух неприятельских армий, доходивших и до употребления холодного оружия, то есть кочерги, ведра, утюга. Не только подраться, но даже легко повздорить из-за неверности жены было глупостью, «баловничеством».
– Эка дурень. Делать неча! Заботу выискал! Что ж твоей бабы-то убыло, что ли? Поди, еще прибыло. А поп все равно окрестит.
Таков был суд ротного общественного мнения.
Солдаты, по преданию, отчасти знали, как прежде жилось воину. Какова была солдатская жизнь при великом Петре Алексеевиче, еще мало кто знал и помнил.
– При нем, слышь, ребята, больше все ходили и шведов били. Непокладная жизнь была! При Анне Ивановне да при Бироне никак то ись, братцы, не жилось – ни хорошо, ни дурно. В забытьи хвардия-то была, содержима была в черном теле. «Слова и дела» побаивались они тоже, но меньше других, простого народа и бар-господ; зато и жалованье всякое было худое, жиру не нагуляешь. Со вступления на прародительский престол всероссийской матушки Лизаветы Петровны все пошло по маслу. И двадцать лет была воистину Масленица. И солдат-гвардейцев жизнь стала, как и ныне, что тебе у Христа за пазухой!!
Действительно, вступление на престол императрицы Елизаветы при помощи переворота, при содействии первого гвардейского полка переменило совершенно быт солдатский и офицерский.
Лейб-кампания, то есть несколько сотен гренадеров из сдаточных мужиков, сделались вдруг столбовыми потомственными дворянами и офицерами пред лицом всей столицы, всей империи, а главное, пред лицом своего же брата мужика, оставшегося там, в деревне, на пашне… пред лицом своего же брата солдата в другом полку, через улицу… Эта диковинная выдумка монархини принесла и свои плоды…
Капитан-поручик Квасов и ему подобные часто теперь поминались и ставились в пример, часто грезились во сне, часто подвигали на всякое незаконное деяние многих солдат многих полков. Часто христолюбивый воин, в особенности под хмельком, кричал на весь ротный двор:
– Он дворянин, вишь… Вон нашинский Аким Акимыч тоже дворянин из сдаточных!
– Я простой, вишь, солдат, мужик? Вестимо! Да вон и капитан Квасов тоже не из князьев…
И существование лейб-кампании как бы напустило особого рода непроницаемый туман во всех обыденных отношениях офицеров из мужиков с рядовыми из дворян с первых же дней царствования Елизаветы. И до сих пор, через двадцать лет с лишком, ни те ни другие не могли еще вполне распутаться, доискаться истины и уяснить себе взаимные права.
– Лейб-кампанцы – не пример!.. – говорили рассудительные.
За последнее же время на эти слова стал слышаться солдатский ответ, хотя еще и новый, робкий, но заставлявший некоторых призадумываться:
– Квасов – не пример, вишь. Ну, покудова и не примеривай, а обожди мало и гляди, паки примерим.
Вот именно подобную обстановку, дух и быт нашел в русской казарме генерал прусской армии принц Георг Голштинский.
Принц уже собирался уезжать, как ему предложил майор Текутьев видеть арестованных Орловых. Он только презрительно двинул плечом и даже не ответил. В душе же он побаивался войти к ним.
Сумрачный, бормоча себе что-то под нос, Жорж остановился снова на том же крыльце, окруженный всеми офицерами, и стал, расставя ноги, как бы в раздумье. Офицеры, по мере его прогулки по семейникам, снова понемногу пристали к нему и образовали теперь свиту любопытную, изумленную и видимо вполне недоумевающую.
«Зачем же ты приезжал?!» – говорили все эти лица, и старые и молодые.
Объяснение воспоследовало! И тотчас это объяснение пронеслось по казарме как громовой удар.
– Объясните им, Генрих, – заговорил принц по-немецки, – что эдак продолжаться не может. Бабы, жены, дети, скот, птица, рухлядь и все подобное… Все это не атрибут воина. Объясните толково!.. Все это будет выгнано вон, по соседству на квартиры или продано. Перегородки будут уничтожены, и солдаты будут спать в общих горницах… За порядок, чистоту и дисциплин будут отвечать передо мной не одни ротмейстеры, а все господа офицеры.
Фленсбург тотчас же громким и слегка самодовольным голосом передал по-русски смысл распоряжения принца, но в более резких выражениях, обидных и для офицеров, и для солдат, прислушивавшихся из темного коридора.
– Так не воины живут. Эдак и свиньи жить не захотят!.. – прибавил Фленсбург. – Все эти солдатки – причина разврата и распутства. Офицеры заняты только картами и бильярдами в трактирах и всяким скоморошеством, доводящим их до бесстыжих поступков, вроде последней мерзости арестованных господ Орловых, за которую они, впрочем, и ответ примерный на днях дадут… Всему этому его высочество желает положить предел. Гвардейцы – не стадо свиней! А если они им и уподобились, то его высочество поставит себе священным долгом… – Фленсбург запнулся и, глядя прямо на лица всех, прибавил: – Напомнить вам, что вы – люди, гвардейцы, а не скоты неразумные…
– А-ах!.. – раздалось в кучке офицеров с какой-то странной неуловимой интонацией.
Это опять был Квасов.
Это восклицание прервало тотчас поток красноречия наперсника принца.
Он смолк и обернулся к принцу, как бы говоря: «Я кончил!»
Покуда Фленсбург говорил, принц глядел себе на кончики сапог и только двигал бровями как бы в такт мерной и звонкой речи своего любимца.
Когда раздалось среди офицеров восклицание: «А-ах!» – Жорж заморгал, поднял глаза и благодушно подумал:
«Как говорит?! Поет! Даже в этих деревяшках, в диких людях чувство вызвал!»
И принц обратился к адъютанту:
– Сказали все, милый Генрих?
– Все-с. Надо бы еще определить им время, когда ротный двор должен принять законный вид. Иначе оно так протянется до лета. Дать им месячный срок? Довольно!..
– Wie sagt man: Monat?[38]
– Месяц… – невольно шепотом ответил Фленсбург из чувства приличия.
– Ну… Ну… – обратился Жорж ко всем офицерам. – Ну! Фот… Отин миэсяс! Отин миэсяс, и эти нато кониэс. Sagen Sie, biette… – как-то жалостливо прибавил он Фленсбургу. – Ich komme nicht dazu![39]
– Его высочество желает сказать, что через месяц всему этому вашему срамному житью должен быть конец. Через месяц чтобы все было по-новому!
Офицеры отвечали гробовым молчанием: ведь не они, а солдаты живут в казарме!
При последних словах адъютанта принц кивнул головой и прибавил:
– Фот! Фот! – Затем он сделал как-то ручкой, повернув ее ладонью вверх, и стал тихо и осторожно спускаться с крыльца.
Громадная колымага принца, выписанная из Вены, осталась и дожидалась его на улице, ибо проехать в ворота на внутренний двор не могла. Принц, а за ним и Фленсбург, сопровождаемые всеми офицерами, прошли двор при гробовом молчании.
Принц сел в карету один, а любимцу какой-то солдат, глуповатый на вид, подвел его коня. Это делалось ради служебного этикета, так как в гости принц и фаворит ездили вместе в карете. Уже за несколько сажен от Преображенского двора Фленсбург, галопируя около кареты принца, заметил что-то торчащее из расстегнутой кобуры. Пистолетов он туда, конечно, никогда не клал. Он открыл ее и увидел… огромную свежую колбасу! Он вышвырнул ее наземь и вспыхнул.
Он понял, что это был ответ офицеров на все ими от него слышанное.
Официально жаловаться было невозможно, не сделав себя в глазах всех посмешищем, подобно Котцау. Да и на кого жаловаться? На целый ротный двор?!
А матерый лейб-кампанец это все и сообразил!!
Посещение принца Жоржа потрясло, конечно, весь дом и двор гренадерских рот до основания.
– Да что он? Да как же? Да нешто… Ах, царь небесный! – воскликнули рядовые.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – говорили, смеясь злобно и ядовито, все офицеры. Им, в сущности, было все равно, как будут жить солдаты, но им этот приказ казался смешон и нелеп. Не все ли равно принцу – с женами и курами живут солдаты-преображенцы или без жен и без кур.
– Вот тебе, тетенька, и Жоржин день! – шутил Квасов, встречая перепуганных и вопрошающих солдаток. – Буде с мужьями-то, поживите и врозь.
– Да за что же, родимый, за что же? – вопили бабы.
– А, стало быть, принца зависть берет, – шутил Аким Акимыч. – У него жена-то старая, да еще по-русски ничего не умеет, колбасница. А вы, вишь, русские бабы, да и раскрасавицы, – что тебе ведьма! Из вас, поди, самая красивая и та, по мне, на черта смахивает. Ну а его завидки взяли! Вот немчура и подумал: дай, мол, разведу раскрасавиц с мужьями. И себе, и русскому дьяволу, и немецкому Богу – всем зараз услужу.
Между тем, покуда принц и Фленсбург гуляли по казарме, братья Орловы сидели в одной из более опрятных горниц старшего в роте флигельмана. Хотя они были под арестом, но их, конечно, не заперли, и все приятели попеременно сидели у них.
Орловы ожидали принца с адъютантом к себе в горницу, даже толковали о том, не попробовать ли просить прощения у Жоржа и обещать все… Хоть в голштинцы перейти к Котцау под команду.
– Даром осрамимся, – говорил Григорий. – Нет, ничего не будет. Промахнулся я, что был у мерзавца Тюфякина и не побывал у этой цыганки Скабронской. Она бы, может, и все сладила.
Алексей Орлов, а равно и друзья были того мнения, что надо просить прощения у принца не ради себя, а ради того дела, что грезится… Да и не им одним. А с каждым днем все более проступает нечто наружу…
– Такое, что дух захватывает! – говорил Пассек.
Григорий Орлов, а в особенности старик Агафон, поселившийся добровольно в соседнем семейнике, чтобы служить своим господам, – оба равно не думали и не тужили ни о чем, кроме неудачи относительно графини полурусской, но всесильной…
– Попади вы к ней – не то бы теперь было! – твердил упрямо Агафон. – Хоть бы вы, что ли, Петр Богданович, к ней съездили за моих, – говорил он Пассеку.
Когда принц не наведался к арестованным и надежда на личную просьбу их о помиловании рассеялась как дым, еще более затужил Агафон о своей графине.
– Фленсбург не допустил принца, – говорили друзья. – Он всему и заводчик.
В тот же вечер Пассек предложил наутро съездить к иноземке, с которой привязался к нему Агафон. После недолгого совещания об этом тому же Агафону вдруг пришла мысль, на которую все закричали:
– Да, конечно! Вот уж на всякого мудреца довольно простоты на свете! Молодец Фоша!
Агафон додумался и рассудил, отчего бы барину не «мигнуть» тайком из-под ареста и не съездить теперь к графине. Ведь дело самое простое, можно так поладить, что никто не узнает: часовым по косушке вина, а офицер по караулу не входит в горницу.
– И как это мы раньше не догадались, сидели, как бабы, да причитали, – воскликнул Алексей Орлов. – Если потом узнается, то, вестимо, еще хуже будет! Да что уж тут!
Сначала между братьями поднялся спор, кому съездить из-под караула ввиду могущего произойти усугубления вины и ответа. Агафон считал необходимым ехать Григорию Григорьевичу.
– Он и по-немецки ей болтнет, и насмешит, и умаслит. Он на бабу у меня ходок! – говорил Агафон. – А этот что!.. озорничать только может… Пути не будет, если Григорий Григорьич сам не поедет.
Пассек с вечера взялся за дело, и наутро, около полудня, он сам заместил по караулу другого заболевшего будто бы офицера. Рядовые на часах тоже оказались такие, что и вина не захотели.
– Как можно, что вы! Петру Богдановичу-то да и не услужить пустяками.
XXXII
Около полудня, собираясь завтракать, графиня Маргарита стояла у окна своей спальни-гостиной и с маленьким зеркальцем в руках не спеша аккуратно налепляла на свое хорошенькое личико две черные мушки. Вдруг дверь распахнулась, и Лотхен ворвалась как вихрь.
– Господин Орлов! Приехал и желает вас видеть! – воскликнула немочка, торжествуя от события.
– Что? Кто? Орлов?
– Да, и тот самый, что, знаете, сделал эту штуку. Буян, силач! Ну!.. Здешний сердцеед! – объяснила Лотхен.
– Зачем? Почему? Я его не знаю. Раз видела мельком, – вымолвила Маргарита, смутившись.
– Говорит, есть до вас важное дело, и просит принять непременно.
– Да я не хочу!.. Я, наконец, боюсь! Фленсбург говорил, что это злая собака. Он бьет женщин! Он меня прибьет. Ни за что!
– Полноте, милая графиня, – звонко рассмеялась Лотхен. – Все это выдумки господина Фленсбурга. Я вовсе не нахожу его прелестным, как невские красавицы, потому что он… Во-первых, уж очень страшно велик… Эдакий может так обнять и поцеловать, что раздавит! Но бояться, что вас он прибьет, потому что когда-нибудь прибил свою любовницу, бояться побеседовать с ним, извините, глупо.
– Хорошо тебе говорить… Это… это ужасно!
Лотхен опять рассмеялась. Маргарита бросила зеркало и, уже бессознательно ощупывая пальцем приклеившуюся мушку, стояла, очевидно не зная, что сказать и что сделать.
– Хотите, я останусь при вас и растворю дверь в прихожую…
– Разве что эдак… И, кроме того, лакеям вели стоять настороже за дверями приемной на всякий случай. И если что-нибудь, то… Да я, право, Лотхен, боюсь… Он ненавистник немцев и вообще иностранцев…
Немка громко расхохоталась и, не отвечая, выскочила из горницы. Через мгновение Маргарита, чутко и смущенно прислушивавшаяся, услыхала мерную, тяжелую поступь за дверями соседней небольшой горницы, ее второй гостиной, где принимала она малознакомых гостей с тех пор, как в угольную большую гостиную перенесли ее кровать. Она вышла и остановилась почти у дверей. Перед ней на другом конце горницы появилась высокая и красивая фигура Григория Орлова, за ним тотчас же проскользнула маленькая и юркая Лотхен, которая теперь казалась совсем ребенком за широкоплечей фигурой богатыря.
Орлов поклонился почти в дверях и сделал молча шага три к хозяйке дома. Графиня едва заметно невольно подалась назад, хотя была от него на огромном расстоянии. Ответив на поклон легким грациозным кивком своей красивой головки, она умышленно осталась на ногах и, не предлагая сесть, выговорила по-русски, немного гордо, но не совсем спокойным голосом:
– Что вам от меня угодно, государь мой?
– Три просьбы, графиня. Две простые, одна мудреная.
– Объяснитесь…
– Простить меня… это, прежде всего, первая просьба, – выговорил Орлов, почтительно наклоняясь и добродушно улыбаясь. От этой улыбки и у него, и у брата Алексея лица становились на мгновение и вдвое красивее, и ребячески добродушны.
Пристально глянув в это доброе лицо, заметив изысканную вежливость позы, голоса и взгляда, все, что считала она атрибутом светских людей не Петербурга, а Вены или Версаля, графиня Маргарита сразу посмелела и вполне овладела собой. Лотхен хитро ухмылялась из-за спины гостя, будто говоря: «Что? Собака?»
– Простить за что? – вымолвила, наконец, графиня.
– За мою смелость, за решимость явиться в ваш дом, не имея чести и счастья быть с вами знакомым… – снова тихо заговорил Орлов.
– Затем… вторая просьба?.. – любезнее и мягче произнесла Маргарита.
– Но вы, графиня, еще не исполнили первой…
Маргарите показалось, что тон голоса силача-буяна сразу изменился, стал менее почтителен и уже переходил на шутливый лад. Этого она допустить не хотела и даже боялась.
– Прощаю… – снова сухо отозвалась она, – и надеюсь, что остальные две просьбы будут более дельные… Вторая?
– Вторая просьба, графиня, – позволить поговорить с вами наедине о своем тайном деле, важном деле, от которого зависит моя жизнь, – заговорил Орлов серьезно и с чувством. – Посторонние слушатели и огласка усугубят мое положение. А оно, графиня, ей-богу, достаточно ужасно и безнадежно.
Маргарита молчала, смутилась и замялась, не зная, что отвечать.
– Лотхен мне… скорее моя подруга, чем горничная. У меня нет от нее тайн, а советами ее я постоянно люблю пользоваться. Судите сами…
Орлов быстро глянул на Лотхен, но не успел смерить ее с головы до пят и осудить. Было очевидно, что он не остался доволен иметь слушателем и свидетелем смазливую фигурку с таким хотя миленьким, но назойливо веселым лицом.
– Если вы не можете исполнить этой простой… совершенно ведь простой, незначащей просьбы, графиня… тогда я не могу произнести ни слова более и мне остается только откланяться, – решился сказать Орлов. – А дело, с которым я приехал… Моя жизнь и жизнь близких мне лиц, той же Апраксиной, с которой вы дружны… Пусть все это пропадает, идет прахом из-за женской прихоти… До свидания… И извините…
Выговорив все это с волнением, но все-таки негромко, Орлов наклонился, как бы собираясь выйти.
Маргарита уже давно взвесила все и не боялась более этого буяна. Вдобавок он ловко ей напомнил в нужную минуту, что он друг (она знала сама, что он даже более, чем друг) ее собственной приятельницы, такой же почти львицы и красавицы, как и она.
– Лотхен!.. Вели готовить завтрак! – вымолвила тихо графиня по-немецки, не желая своей любимице давать простое приказание выйти вон.
Лотхен, все усмехаясь, легко повернулась на носках своих башмаков и охотно выпорхнула вон, зная, что через полчаса ей все будет известно от самой барыни.
Едва только немка исчезла из гостиной, бойко, как-то франтовски махнув в дверях своей пестрой юбочкой, Орлов сделал три шага к графине, сократив огромное расстояние, разделявшее их до тех пор. Взглянув на хозяйку дома, он, однако, снова остановился и понял, что его не посадят. И он все-таки еще оставался в таком отдалении, при котором говорить было почти неудобно.
«Горда, как все выскочки!» – невольно подумалось ему, когда он взглянул теперь на красавицу хозяйку.
Дело в том, что Маргарита, оставшись наедине с офицером, почти незаметно, едва ощутимым движением бюста и головы, повернулась к окну и стала вполоборота к гостю. Теперь ни одна черта не двигалась, не жила на ее строго холодном лице с опущенными вдобавок глазами. Это светленькое лицо, оттененное теперь длинными прелестными ресницами, стало безжизненно гордо, почти высокомерно.
А между тем Орлов не догадался, что эта поза и это лицо были для светской женщины не высокомерием, а единственным ее оружием для самозащиты. Мог ли красавец и удалец, «бабий угодник», по прозвищу брата Алехана, – мог ли он думать, что эта красавица иностранка, полурусская графиня Скабронская, в эту минуту все-таки слегка боится его?.. Боится, что для него, трактирного буяна, равны и она и Котцау?! Равны двадцатилетняя красавица графиня и пузатый, от пива и картофеля разбухший ротмейстер.
– Я вас слушаю… – вымолвила тихо Маргарита, не поднимая глаз. Попробовав мушку на щеке, она приблизила к глазам правую руку и стала разглядывать свои тонкие пальцы, щелкая ноготком об ноготок.
Орлов тотчас вкратце рассказал всю свою историю, уже давно известную Маргарите, начав, конечно, не с драки в «Красном кабачке», а только с последствий дерзости немца и буйной шутки с ним. Он кончил просьбой спасти его и брата, избавив от ареста и ссылки, и обратить гнев государя на милость.
Маргарита в то же мгновение вдруг подняла на гостя-просителя такие искренне удивленные глаза, что Орлов невольно опешил и смутился. Явилась мысль:
«Неужели не может? Неужели все враки?»
Несколько мгновений глядела на него красавица, и понемногу румянец набегал на ее щеки. И скоро лицо уже горело огнем.
– Это дерзость! – воскликнула она тихо. – Вам кто-нибудь сказал… Это… право… На основании толков, слухов, пустых сплетен! И вы решились… Это… право!.. недостойно…
Маргарита смутилась и, вся уже пунцовая от смущения и гнева, как-то выпрямилась и показалась Орлову выросшей вдруг на полголовы.
Ни разу еще в жизни не случалось ему видеть такого мгновенного преображения в женщине, и вдобавок в такой красивой женщине. Он невольно любовался на нее и вместе с тем недоумевал и ждал…
– Кто вас послал? Кто сказал идти ко мне, а не… не к другому кому-нибудь?
– Этого я сказать не могу, графиня.
– Почему? – изумилась она.
– Не могу. Я обещал, дал слово…
– Но ведь мне… мне же самой вы скажете, даже должны сказать, от кого вы являетесь.
– Не могу. Именно вам-то я и обещал не называть имени того, кто мне вас указал как всевластную при дворе женщину.
– При дворе?! При дворе, говорите вы?
– Ну да. При Воронцовой или при Гудовиче. При этих фаворитах… Я говорю прямо, без всякой опаски, мне не до того!
– Вам сказали, что я могу просить их или даже государя… И все будет по моему желанию исполнено. Все!.. Когда никто ничего еще не мог сделать?!
– Да… то есть почти так… Если вы захотите, то мы будем прощены. Вот что я знаю. А как и через кого – я не знаю.
– Так вы не знаете! – странно вымолвила Маргарита. – Через кого я всевластна! – расхохоталась красавица несколько досадливо. – Говорите все… все! Иначе я для вас ничего не сделаю.
Орлов искренне и подробно передал все, что оставалось недосказанным, и, наконец, признался, что обращается к ней по совету самого наиболее пострадавшего лица.
– Самого глупого Котцау? – радостно воскликнула графиня, приближаясь к Орлову в этом порыве и как бы приглашая и его подвинуться.
– Я его не назову… Я обещал не произносить его имени, – сказал он, приблизясь немного. – Дайте мне с моей совестью хоть немного, графиня, немного… в ладу остаться. Я и без того, вы видите, с ней мошенничаю и плутую.
– Котцау? Если правда, то молчите.
– Молчу…
– Вы, напротив, говорите. Говорите: молчу… – невольно рассмеялась кокетка. – Если Котцау, то молчите как мертвый…
Орлов сжал губы и шутя закрыл их рукой, только красивые глаза его будто смеялись, глядя в лицо графини. Она тоже молча несколько мгновений и не шевелясь смотрела уже фамильярно в эти глаза, потом подвинулась к нему, и зараз оба, и молодой человек, и женщина, звонко рассмеялись.
– «La glace est rompue!»[40], говорят французы, – произнес Орлов слегка иронически, мстя за недавний холодный и гордый прием.
– О! Для вас, жителей севера, лед не диковинка, и вы должны уметь с ним обращаться! – сказала Маргарита и подала ему кокетливо свою руку.
Орлов наклонился очень низко, в пояс, и коснулся кончиками губ этой красивой и душистой ручки.
– Стало быть, я могу надеяться? – вымолвил он.
– Надеяться всегда надо, но это ни к чему не обязывает фортуну.
– Вы обещаете, однако…
– Сделать все, что я могу, не подвергая себя опасности стать притчей в городе. Поняли? – Маргарита произнесла эти слова медленно и вразумительно. Орлов смотрел недоумевая.
– Собой для вас я не пожертвую, то есть своим добрым именем… Но если можно без этой жертвы… Ну, да увидим. Я ничего не обещаю, но одно скажу… Хуже вам не будет… Если и поедете в ссылку, то я вас не забуду, и вы скорее вернетесь…
– Но высылка, хотя на время… для нас погибель! – горячо воскликнул Орлов.
Графиня развела немного руками и наклонилась. Жест говорил: «Что могу! Извините».
Через минуту Орлов выходил из дома Скабронских с несколько облегченной душой. Дорогой на ротный двор он размышлял отчасти весело:
«Авось сделает! Кажется, добросердая. А ведь красива, проклятая! И бой-баба! Нашим до нее далече! И подобраться к ней, поди, мудренее, чем к нашим. Своих-то молодух смешить только умей и всякую смешками этими скружишь и возьмешь. Нехитрое дело! А тут не то треба! А что? Да много кой-чего! Сразу и не соображу, только чую… Лед прошиб уж. Да ведь баба не лед, а так… полынья…»
Между тем Лотхен вернулась и тотчас с любопытством расспросила все и подробно все узнала от барыни.
– Ну, так когда же и как же вы все это сделаете?
– Да никогда и никак, милая Лотхен. Очень просто.
– Вы просить не хотите Фленсбурга?
– Не буду, Лотхен, просить.
– Отчего?
– Не хочу, чтобы из-за Фленсбурга, из-за пересудов другое что, более дорогое, погибло… Хотя бы дедушкино состояние!..
– Кто же ему все расскажет, что вы?!
– Молва, городские языки. Нет, Лотхен, это опасно. Да и что мне господин Орлов? Даже не любовник…
XXXIII
На другой же день после свидания с Орловым, когда Маргарита, сделавшая несколько визитов в городе, вернулась домой, Лотхен встретила свою барыню чуть не на подъезде. Лицо горничной было многозначительно, почти торжественно и красноречиво говорило о событии в доме. Графиня вошла в прихожую и невольно спросила на всегдашнем своем языке с горничной, то есть по-немецки:
– Что с тобою?
Лотхен отворила дверь в гостиную. Графиня прошла. Субретка стала перед ней и выговорила:
– Ну-с, отгадайте.
– Умер?! – воскликнула тихо Маргарита, ожидавшая этого события всякий день. И лицо ее немного зарумянилось от этой мысли.
– Живехонек. Даже несколько лучше себя чувствует. Совсем не то… Ну-с? Еще что? Что могло бы случиться у нас невероятного в ваше отсутствие?
– Не знаю. Говори скорее.
– Ни за что!! – вскрикнула Лотхен. – Отгадайте.
– Орлов был опять?
– Да, был… Был. Сейчас тут со мной сидел. Даже больше чем сидел… Но не Орлов, а другой! Поинтереснее Орлова. Ну-с? Кто?!
– Фленсбург? Но это не…
– Неинтересно! Надеюсь! Вот нашли? Да уж вижу, во сто лет не догадаетесь. Был здесь и ждал целый час, потом меня поцеловал, конечно насильно, – прибавила Лотхен, – и дал мне червонец, но маленький голландский. Ну-с?
– Ну, это скучно… Говори.
– Граф дедушка!
– Старый граф? Был здесь?..
Маргарита остолбенела и стояла как пораженная. Иоанн Иоаннович уже давным-давно не заглядывал, а только изредка присылал узнать о положении внука. Тем труднее было для Маргариты завязать снова отношения какие бы то ни было со старым брюзгой. И вдруг старик сам приехал и ласково обошелся с ее любимицей.
– Зачем? Что он говорил тебе?..
– Говорил, что ему хочется вас повидать. Говорил, что я красавица. Затем он мне пребольно ущипнул плечо, потом поцеловал, конечно насильно… Прижал вот в этот угол. Потом вот дал…
И Лотхен, вынув из кармана, показала на ладони маленький червонец.
– Что же ему надо? – выговорила Маргарита нетерпеливо.
– Ничего. Повидаться хочет!
– Вздор. Пустое… Не такой человек. Вздор! Что-нибудь особенное есть, – восклицала Маргарита, ходя в волнении по комнате.
– Может быть, есть что-нибудь. Собирается умирать и в вашу пользу завещание делать. Хотя по виду и ухваткам мало похож на умирающего. Так прижал к углу, что… что даже глупо! Впрочем, поезжайте, узнаете…
– Как же я поеду… вдруг…
– Он приказал именно вам это передать, – умышленно медленно произнесла Лотхен, играя нетерпением барыни.
– Он меня звал, велел сказать… зачем же ты молчишь, Лотхен? Я тебя побью!!
И Маргарита, весело смеясь, пунцовая от радости, бросилась к любимице. Ухватив малосильную немку за рукав и за кисейную косынку, она сильно потянула ее, стараясь повалить на диван.
– Изорвете – другую купите. Вам же хуже!
Маргарита бросила любимицу и воскликнула:
– Сейчас поеду… Начинается! Начинается! Понимаешь ты, неразумный ребенок, что это начинается для меня война, борьба на жизнь и на смерть. И кончится все победой! Состояние будет мое. Все будет мое. Давай мне лиловое платье! Оно мне счастье приносит…
Маргарита была вне себя от радости и довольства. План, полный, подробный, как покорить брюзгу деда, был уже давно обдуман и казался ей замечательно тонко и умно придуманным. Но ехать к деду первой, когда он, очевидно, не желает подозревать даже об ее существовании, было невозможно: никакой предлог не скрыл бы настоящей цели, то есть желания снова сойтись ближе.
Маргарита начала быстро одеваться, но, однако, несмотря на поспешность свою, все-таки зорко оглядывала себя в зеркало и старалась принарядиться так, чтобы быть красивее, чем когда-либо.
– Ну, уж редко я так в жизни старалась! – воскликнула она наконец, оглядывая себя с головы до ног. – Да и вряд ли когда-нибудь для такого старика, как он, такая женщина, как я, столько старалась. Подумаешь, на первое свидание еду к страстно любимому герою… Ну, говори, хороша ли я?! По совести, Лотхен. Дело важное…
Лотхен отошла, оглядела барыню тоже с головы до пят и молча усмехнулась…
– Ну, не прибавить ли чего?
– Нет, liebe Grдfin, убавить бы надо… Убавить то, что наиболее в глаза бросается и, пожалуй, дурно на поганого старика подействует.
– Что? – с искренним беспокойством спросила Маргарита, тоже снова себя оглядывая.
– Надо убавить в вас главное… выражение счастья на лице! У вас глаза прыгают от восторга, что он вас позвал. А это…
– Только-то, глупая! Ну, отвернись на минуту. Не гляди на меня.
Горничная, смеясь, повиновалась и ловко повернулась на каблучках спиной к барыне.
– Ну, теперь смотри! – через мгновение выговорила графиня и подступила ближе к обернувшейся горничной.
– Да! – воскликнула Лотхен. – Если вы так сумеете долго выдержать…
Молодая женщина стояла перед ней с строго печальным лицом, полуопущенными глазами и как-то скромно сложенными на груди руками.
– Государь мой, вам угодно было меня пригласить явиться по делу… – тихо и грустно выговорила Маргарита по-русски, наклоняясь перед Лотхен.
Немка захлопала в ладоши и запрыгала на месте:
– Диво! Диво! Божественно…
– Я не знаю, государь мой, – так же продолжала Маргарита, – смею ли я вас называть моим дедом… Вы до сих пор, как скверный и скупой старикашка, кроме злости, ничем себя…
– Ну, этого говорить не надо!.. – наивно воскликнула Лотхен.
– Я думаю! – воскликнула Маргарита уже своим голосом. – Это я ему после скажу, когда его состояние будет у меня в руках. Ну, благословите меня, ваше святейшество, папа Лотхен! Papa Lotchen Primus, Pontifex maximus![41] – продекламировала Маргарита и прибавила другим голосом, стараясь хрипеть: – Indulgentia plenaria![42]
– Ох, ох, грешите!.. Бог накажет! – испугалась ревностная католичка. – Подумаешь, вы шизматичка, в ихней, здешней ереси. А услышит вас вдруг враг человеческий… Что тогда!
– Ничего, трусиха… Есть две силы на свете, от которых все зависит… Господь Бог и господин дьявол!..
– Ох, Grдfin, Grдfin! – закричала Лотхен, затыкая и глаза и уши и даже нагибаясь перед графиней, как бы от удара по голове.
– Ну, вели подавать карету, глупая курляндка, – смеясь, вымолвила Маргарита.
XXXIV
Через полчаса езды полуиностранка графиня Скабронская была на набережной Васильевского острова и выходила из кареты при помощи двоих лакеев на большой подъезд дома российского вельможи графа Скабронского – вельможи, которого даже покойная царица называла Иоанном Иоанновичем, так как всякого, назвавшего графа Иваном Ивановичем, заставляли поневоле объяснять, о ком ведет он речь. Когда графиня Маргарита поднялась по большой парадной лестнице и графу побежали доложить, то брюзга переменился чуть-чуть в лице. Приезд внучки, им самим вызванной, было не заурядное дело, а первостепенной важности.
«Выгоню опять или ползать перед ней буду на животе? – вопросительно подумал старик. – Ну, родимая, поглядим – увидим». И граф, умышленно заставив внучку прождать полчаса в гостиной, вышел тихо и не спеша.
– Ну, здравствуй… уж, внучка, коли жена внука. Здравствуй, внучка! Садись, милости прошу!
И слова эти Иоанн Иоаннович выговорил как-то особенно и любезно и ехидно.
Маргарита, не поднимая глаз на старика, вымолвила тихо и смущенно:
– Государь мой, вы сделали мне честь, приказали явиться… Я не знаю, позволите ли вы мне называть вас дедом, а потому и говорю: государь мой. Что прикажете?
– Ну, ну, это все финты ваши. Коли внучка, так и дед. Не финти!
Маргарита села около старика, лицо ее было серьезно и отчасти как бы грустно. Старик зорко и пристально присмотрелся.
«Печальна, а не бледна! Румянец во всю щеку, что твоя зоренька ясная», – подумал он и выговорил:
– Ну, что муж? Все томит, не помирает… Ждешь, поди, не дождешься…
– Да. Все томит и себя и меня. Лучше бы уж помер, – умышленно резко выговорила Маргарита. – Меня бы развязал. Похороню и уеду…
– Куда? – воскликнул старик.
– К себе… Домой. Что ж мне? Не оставаться же на чужой стороне, между чужих людей?
– Чужих людей? Не все же чужие. У тебя и я тут.
– Вы? Да я от вас, кроме самых оскорбительных помыслов и речей, ничего за целый год не видала, – грустно старалась произнести Маргарита. – Да я вас и не виню. По-вашему, на свете только и есть, что деньги. Вот вы всех и подозреваете.
– Вестимо, все деньги!
– И все на них купишь?
– Все, цыганочка, все… – подсмеивался старик ядовито.
– Купите молодость…
– Мало что, нельзя… – вдруг рассмеялся он.
– Купите красоту!
– О-ох, тоже нельзя.
– Купите меня, мою любовь. Да не внучкину, а мою, женскую любовь.
– Можно!
– Что?
– Можно! Не финти… Говорю, можно.
– Стало быть, вы меня вызвали, чтобы заставить пустяки слушать. Не стоило того… – серьезно выговорила Маргарита.
– Ну, слушай дело. Я с тобой не знался, почитай, год, потому что ты ко мне была неласкова. Я все-таки тебе дед. Нужно коли было денег, сказала бы. Ну и дал бы.
– Первое же слово – и о деньгах. У вас, во всех ваших сундуках, нет столько денег, сколько я в месяц нашвыряю по городу в лавках.
– Откуда же это у тебя деньги? У мужа ничего нет… От полюбовников?
– Да, только не от сотни, а от одного! – вдруг вымолвила Маргарита.
– Славно. И сама признается еще. Ай да цыганка! Ну, от какого же молодца?
– Он, может, и не молодец! Ему семьдесят лет, да для меня кажет он краше двадцатилетнего.
Выдумка Маргариты был верный удар противнику. Наступило молчание. Граф вытаращил на красавицу глаза. Этого он не ожидал! И бог весть что шевельнулось у него на душе. Он сам еще сразу не мог себе отдать отчета… А она отлично знала вперед, что именно от этой выдумки шевельнется у старого холостяка на душе.
– Скажи на милость! – выговорил вслух, но сам себе озадаченный старик и снова смолк.
«Ничему не верит, а этому поверил!» – внутренне смеялась Маргарита.
– Как же это ты… – забормотал Иоанн Иоаннович и странным, будто завистливым оком окинул красивую молодую женщину. – Как же? Зачем же старого? Мало разве в Питере молодых?
– А разве на это закон у вас?.. – рассмеялась Маргарита.
– Вестимо, закон естества! Природный закон.
– Истинный природный закон тот, что у всякого свой вкус да своя воля.
– О господи! Вот удивила… Да зачем же ты… Почему? Из-за денег его…
– Опять… Только у вас и на уме что деньги… Но бросьте это. Какая вам до этого забота? А скажите лучше, по какому делу вы меня вызвали?
– Дело?.. Дело?.. Да… Какое, бишь, дело!.. Так озадачила меня, что память отшибла! Да. Вот дело какое. Ты слушай прилежнее.
– Слушаю.
– Ты, видишь, в силе ныне при новом дворе. Как уж ты умудрилась, когда сама императрица в опале… Доносить на меня не пойдешь?! А то я попридержу язык!.. Ну вот, стало быть… я к тебе с поклоном. Заступись и спаси двух молодцов.
– Орловых? И вы за них?..
– Вишь, уж знает. Просили?
– Да, просили… Просили многие, но я… не знаю, может быть… Надо подумать… Оно можно, но, однако…
Маргарита тянула слова, потому что сама в эту минуту раздумывала и соображала, как отнестись к словам деда.
Сознаться в своей силе и ее даже преувеличить? Или скрыть все?.. Покуда она думала, старик высказался весь, и она знала, что делать.
– Я, видишь, внучка-цыганочка, – искренне высказывался Скабронский, – был, слава богу, вельможа не последний в государстве со дней великого Петра Алексеевича и даже при Бироне не запропал… Ну а вот теперь, под конец дней своих, попал в зажору. Не знаю, как и примериться, как и прикинуть себя к новым-то порядкам и людям. Ничто не берет. Того и гляжу, что меня нищим сделают и в ссылку угонят, а дома и вотчины отпишут да какому-нибудь прощелыге подарят… Ну вот, узнав, что ты в силе ныне, я к тебе с поклоном… Наперво ты мне покажи свою востроту на ребятах Орловых. Их дело пропащее! Если ты их из беды выручишь, когда и Разумовские не могут, и Воронцов даже не может через дочку свою… то тогда я уверую вот как… Какую ни на есть, хоть бы и можайскую, вотчину мою тебе поднесу по дарственной записи.
«Самую маленькую!» – подумала и усмехнулась Маргарита.
– Почему смеешься? Ей-богу, поднесу…
– Все сказали, дедушка?
– Все. А что?
– Завтра узнаете ответ, коли заедете ввечеру.
– И дарственную, стало быть, захватить?
– Захватите! – вымолвила Маргарита, подумав.
– Стало быть, верно? Выручишь ребят?
– Не знаю. Постараюсь.
– Дело, внучка, не в ребятах. А важно мне тебя испытать. Не враки ли толки да слухи. Коли выручишь, то, ей-ей, бери палку да и бей меня или на цепи с музыкой води, как медведя, да заставляй и горох воровать, и солдата с ружьем показывать, и всякое колено проделывать. Поняла?
– Поняла, дедушка. Поняла! – усмехнулась красавица, дерзко и насмешливо заглядывая теперь в глаза старика.
– Стоит постараться? А?
– Вестимо, стоит…
– Озолочу, цыганочка… Мой расчет прост. Все одно, не ровен час, опишут да отымут все безнаказанно. Так пущай лучше тебе перепадет малая толика… Так ведь?.. Ты видишь, я начистоту сказываю, не хитрю… Ну и ты не финти… Уговор… Идет?.. А?
– Идет, дедушка! – решительно, как вызов, произнесла Маргарита и протянула руку старику.
– Ну, поцелуемся.
Маргарита, смеясь, встала, пододвинулась к старику и, наклонившись, подставила свою свеженькую щеку с черной мушкой…
Иоанн Иоаннович не спеша три раза поцеловал красавицу и выговорил:
– Варенье!.. И чего бы тебе раньше так-то. А то букой глядела. Год целый, почитай, не знались…
– Кто ж букой-то глядел? Вы же. Да и теперь вы стали ласковее из-за своих выгод: не ради меня, а ради моих приятелей придворных. Я ведь не дура, дедушка.
– Какая ты дура? Ты бес, внучка… но, вишь ты… Это само собой. Ну а речь ты со мною теперь тоже другую повела. Это тоже само собой. – И, помолчав мгновение, Скабронский подмигнул и ухмыльнулся со словами: – Я ведь не мог знать, что ты, вишь, старых любишь…
Маргарита рассмеялась звонко и, простившись с дедом, веселая и довольная поехала домой.
«Ну, надо Орловых спасать ради вотчин дедушкиных. Дорого, пожалуй, обойдутся они мне, страшно дорого».
И красавица вдруг глубоко и тяжело задумалась. Лицо ее стало не только серьезно, но уныло, и темная тень набежала на черные великолепные глаза, всегда полные веселого блеска.
«Нет, не сдаваться!.. – думала она. – Оттянуть… Наконец, обмануть! Не сошлет же он меня. Да и действовать! Ах, кабы состояние деда. Деньги! Средства! Сам не знает, старый волк, чем бы я теперь могла сделаться, имея деньги для начала. И только для начала. Даже на его службу повлиять бы могла тогда. И ему бы лучше было тогда. Лучше, чем при Елизавете».
И Маргарита так глубоко задумалась, что не заметила, как и где ехала по городу. Ее затаенная от всех, но взлелеянная мечта, почти нелепая и невоплотимая фантазия всегда овладевала ею настолько сильно, что она порою не сознавала окружающего и на некоторое время как бы теряла рассудок. Лотхен, которая воображала, что у барыни нет от нее ни одной тайны, не понимала этих минут и приписывала их болезни или же употреблению того пахучего питья, что готовила графине всякий вечер. Сама она только раз отведала его давно тому назад и, пролежав без чувств сряду несколько часов, простонала в самых ужасных сновидениях.
Что за мечта владела Маргаритой и в особенности подчинила себе ее разум за последнее время – никто, кроме ее собственной совести, не знал и не догадывался. Для этого ей нужна была смерть больного мужа и состояние деда. Впрочем, муж в кровати, без движения, без воли, ей не перечащий, почти не существующий по отношению к ней, был только небольшой помехой. В случае мира с дедом, в случае дружбы с ним смерть Кирилла Петровича нужна была, чтобы молодой вдове переехать ради приличия в дом старика на жительство. Будучи у него в доме, Маргарита надеялась, конечно, овладеть стариком быстрее и вполне… Но деньги старика, состояние его, были не целью, а средством для более дальней и высшей цели, явившейся недавно у честолюбивой, самонадеянно смелой и замечательно красивой иноземки.
Маргарита еще не совсем пришла в себя, когда у подъезда ее дома лакеи отворили дверцу кареты. Она рассеянно оглядела их и вдруг выговорила, как бы очнувшись:
– Во дворец его высочества!.. Ведь я приказывала! – И Маргарита была почти уверена, что, еще садясь у дома деда, она приказала ехать прямо к принцу Георгу Голштинскому.
XXXV
На другой день утром та же карета графини Скабронской остановилась перед воротами ротного двора, где были арестованные братья Орловы. Офицеры, собравшиеся с соседних квартир на учение, невольно с изумлением оглядывали щегольскую берлину и недоумевали насчет ее появления в такую пору у их ротной казармы!
Когда же, заглянув в окно кареты, они встречались лицом к лицу с замечательной красавицей, очевидно из высшего света, то невольно кланялись ей и, смущаясь, толпились, перешептывались между собой, потом отходили от кареты ради приличия, но ждали, не входя во двор, чем загадка разрешится.
Наконец вышел майор Воейков, за ним Текутьев и Квасов – все удивленные…
Красавица, ласково, но отчасти самодовольно улыбаясь, передала из окна кареты бумагу, прося тотчас же распорядиться:
– Я графиня Маргарита Скабронская. Вот приказ, не откажите учинить по сему немедленно.
Бумага была подписана принцем Георгом и была приказанием старшему на ротном дворе офицеру немедленно освободить из-под ареста обоих Орловых…
– Я имел уже честь вас встречать не раз, графиня. Тотчас же распоряжусь… Сейчас… Угодно будет дождаться? – засуетился Воейков. – Они сейчас выйдут…
– Нет. Мне их видеть незачем. Я только взялась передать приказ… я с ними незнакома. Надеюсь только, господин офицер, что все будет исполнено немедленно?..
– Помилуйте! Как же я смею ослушаться или не в точности исполнить приказ его высочества…
Маргарита поклонилась несколько гордо, но кокетливо и приказала ехать домой…
Но в эту минуту, когда ее два лакея лезли на запятки, а лошади не успели еще двинуться, в воротах тихо показалась грустная фигура юноши рядового. Глянув в окно кареты, он ахнул на всю улицу и даже чуть руками не всплеснул… Карета быстро отъехала, и все обернулись на этот отчаянный крик…
– Чего ты орешь, порося! – выговорил Квасов, подступая к племяннику, который стоял как пораженный громом. – Тут графиня Скабронская, а он орет, как баба на базаре!
– Ах, дядюшка!.. – задохнулся Шепелев в ответ на слышанное и, ухватившись за Квасова, переменился в лице.
– Ну так, так… Говорил я тебе, что ты застудился! Иди, иди! Ах ты, господи! Помертвел ведь! – воскликнул Квасов. – А еще спорил все – не хвор! Аль захватило под душкой?.. Иди водички испей. А то снегом потрись, – захлопотался струхнувший Квасов, поддерживая племянника.
Все офицеры давно вошли в казарму, толкуя об удивительном приказе принца, никем не ожиданном прощении, да еще вдобавок привезенном на ротный двор известной красавицей в столице.
Квасов тотчас повел племянника в квартиру и дорогой, ради рассеяния, толковал ему о графине Маргарите, известной красавице Питера, и о прощении буянов Орловых. Юноша немного оправился дома, сел на свою кровать, но забыл и думать об учении и экзерциции, а думал только о ней и повторял услышанное чужеземное имя.
– О-ох! – изредка вздыхал он, все еще бледный.
– То-то!.. Под душкой? А говорил – не хвор! – приставал Квасов. – Ведь под душкой хватило, а?
– Под душкой, дядюшка, под душкой. Вот уж в самое-то сердце хватило!.. – грустно шутил юноша со слезами на глазах. – Как ножом резнуло.
– А? Знаю, знаю, у меня это смолоду бывало!..
– У вас?! Ох нет. У вас эдакого не бывало, дядюшка… Это, это… хоть умирать.
И Шепелев вдруг лег на постель и умышленно отвернулся от дяди лицом к стене.
Квасов вышел с мыслью: «Соснет часок, отпустит его малость!»
А Шепелев долго лежал, не двигаясь и вспоминая…
Сколько дней и ночей на этой самой кровати продумал он о своем незнакомце офицере, встреченном в овраге, то есть о той красавице, которая спасла его от грабителей, довезла до города, пригрозилась ее не узнавать, даже забыть о ней… И с каждым днем Шепелев все больше и чаще думал о ней… И во сне неотступно преследовала она его в сновидениях… Бог весть почему! И только за одно рассуждение ухватился юноша: он убедил себя, что эта красавица, ездящая ночью за город в мужском платье, одна из кучки женщин-иностранок самого дурного поведения, которые недавно приехали в столицу из Швеции. Квасов однажды рассказал это ему и прибавил, что эти продажные красавицы – пьяницы, драчуньи, воровки и только разве немцу дороги да милы могут быть!
«Ну вот, она, наверно, одна из этих!» – утешал себя постоянно юноша, и от этого утешения ему почему-то становилось с каждым днем еще хуже и больнее на сердце. Между тем молодой малый наивно не догадывался и не понимал, думая о незнакомке и день и ночь, что он, несмотря ни на что, просто без памяти влюблен в нее. Вдобавок влюблен без надежды когда-либо увидеть ее, узнать наверное, что она, убедиться, наконец, стоит ли она его ежечасных помыслов… Может быть, она – низкая тварь?!
«Графиня Маргарита Скабронская!!» – глухо, с отчаянием шептал он теперь в стену, отвечая себе этим именем на все долгие сомнения.
И вдруг ему показалось, что он умирает…
«Вот, вот, сейчас! И дух вон!»
Но смерть, разумеется, и не помышляла идти к нему! Зато любовь, юношеская, первая, слепая, огневая, бурная, иногда убивающая… пришла и свалила молодца сразу!!
В то же время в ротной казарме был настоящий содом. Орловы, конечно, не ушли тотчас из места своего заключения, а послали за вином в трактир, и в большой горнице, где хранилась амуниция, началось угощение всех офицеров. Даже флигельманов и более любимых рядовых угощали по семейникам.
Через час офицерская компания была как в тумане…
Главный виновник торжества, старый дядька, хотел с самого начала скрыться, но его поймали, поили, качали и наконец додумались… Поставили кресло на большой стол и посадили в него старика, а кругом пошел хоровод. Кто на немецкий лад выступал, кто на русский, кто казачка, а кто менуэт… Агафон, опасаясь ежеминутно слететь со стола вниз головой, несколько раз порывался улизнуть, но Алексей Орлов караулил его зорко и при малейшем движении дядьки вскрикивал:
– Цыц! Не сметь, Фофошка! Сиди!..
Часть вторая
I
Зимний дворец, в котором за все свое царствование живала в Петербурге императрица Елизавета, был маленький, наполовину деревянный, старый и даже ветхий. Новый великолепный дворец, каменный и обширный, был уже давно готов, но государыня, постоянно хворавшая в последнее время, суеверно не решалась переходить в него. Последние месяцы жизни она не находила себе места в старом деревянном дворце, переходила спать почти каждую ночь из одной комнаты в другую, как будто ей было тесно в нем, но о переходе в новое здание не смел никто и заикнуться.
Одною из первых забот вновь вступившего на престол императора было, конечно, поскорее окончательно отделать новое жилище и как можно скорее перейти в него.
Наконец в половине Великого поста новый дворец был совершенно отделан и меблирован, а в старом деревянном начались сборы, переноска и перевозка вещей. Во многих комнатах мебель была уже не на местах, а собрана в кучи, картины сняты со стен.
В тот самый день, когда иноземка графиня Скабронская выручила из беды братьев Орловых, в большой тронной зале дворца сидела на кресле около отворенной форточки красивая женщина вся в черном и в странном уборе на голове. Этот убор, черный, суконный, с белыми нашивками под крепом, полушляпа, получепец, плотно облегал ее голову и низко проходил через лоб, наполовину закрывая его. Было что-то странное, строгое, даже мрачное в этом уборе и во всей ее одежде. Лицо ее было тоже сурово, печально.
Несмотря на зимний морозный день, на холодные струи ветра, врывавшиеся в открытую настежь форточку, она изредка поднимала голову и жадно вдыхала в себя холодный воздух, как будто ей было душно в этой зале.
Вокруг нее по всем стенам стояли уже снятые царские портреты. Ближе к ней на полу и на стульях стояло более десятка различных портретов покойной императрицы. Многие из них были неокончены, другие едва начаты, на некоторых было сделано одно лицо, а остальное оставалось начерченным карандашом и углем по белому нетронутому полотну.
Все эти портреты были сделаны за последние месяцы жизни императрицы. Она предвидела будто, что делается ее последний портрет, и ни одним не оставалась довольна. Два живописца напрасно старались удовлетворить ее прихотливым требованиям.
Женщина в черном уборе – новая императрица, Екатерина Алексеевна. Она пришла теперь в эту залу, где случалось ей часто, но уже давно проводить веселые вечера и беспечно танцевать до полуночи. Зала эта была полна для нее самых пестрых воспоминаний, преимущественно светлых, дорогих. Она пришла сюда выбрать для себя лучший портрет покойной, которую не очень любила, но при которой положение ее было далеко не так тягостно, как теперь. Она хотела было выбрать тайком один из портретов и скорее унести его к себе, но эта зала, пустая, угрюмая, полуосвещенная от спущенных штор, которые приготовились снимать, остановила ее. Эта зала вдруг будто глянула ей в душу, будто заговорила с ней, будто сказала ей то слово, от которого все ее прошлое восстало перед ней живое, милое, лучезарное…
Много светлых образов, много разных событий воскресло вдруг и быстро понеслось пестрой чередой над ее опущенной головой в странном траурном уборе. Поневоле и она унеслась мыслью еще далее, в свое прошлое. И вся жизнь ее с младенчества явилась перед ней.
Вспомнилась ее маленькая девичья комнатка с одним окном в наместническом дворце в Штетине. Внизу, среди небольшой площади неправильного очертания вроде треугольника, стоит и вечно брызжет древний фонтан. Несколько мифологических фигур переплелись с какими-то большими рыбами и хвостатыми уродами. К этому фонтану ежедневно в известные часы сходятся с кувшинами городские девушки и всегда, установив их кругом под серебристыми струями, забывают о них в беседах или шаловливых играх и шутках.
И эта площадь, где повсюду виднеются гранитные готические порталы, колонны, карнизы, где высится изящная колокольня, легкая и вся сквозная, будто из серого кружева, и этот фонтан, тоже серый, мокрый, вечно обрызганный водой, – все это для нее хотя дальнее, но ясное и родное сердцу воспоминание.
Сколько раз она, принцесса, запертая день и ночь в этом скучном доме, именуемом дворцом, завидовала этим городским девушкам! Как сильно ей самой подчас тоже хотелось взять кувшин, пойти к этому фонтану, тоже порезвиться, побегать с девушками, послушать всякие толки и пересуды! Часто эта молодежь окружала какого-нибудь знакомого, мимо идущего остряка, который, увидя кучку молодых красавиц, охотно завернет к этому фонтану и смешит девушек в продолжение целого часа разными шутками и прибаутками. Иной раз, наоборот, седая ворчливая старуха, злая будто ведьма с клюкой, проходя мимо, тоже приблизится к фонтану и не может упустить удобного случая разбранить столпившийся рой молодых девушек. Их веселый хохот, их речи, журчащие точно так же, как и эти серебристые струи фонтана, будто оскорбили старуху, и она с хрипливым воплем идет на них, замахиваясь клюкой, и кричит, и грозит, и проклинает! Но только звонкий, веселый, счастливый хохот звенит в ответ на все проклятия.
Тысячи раз принцесса видала эти сцены из своего окна. Все воспоминания детства сводятся к этому фонтану и к этой площади, и за это теперь она любит их…
Она знала уже тогда, что ей не суждено прожить вечно в этом доме, что в ранней юности она будет отдана замуж куда-нибудь далеко, за какого-нибудь германского принца. И невольно желала она этого, потому что жизнь здесь тянулась скучно, однообразно. Не было ни радостей, ни горя, ни забот, и будничное затишье заставляло подчас желать чего-либо, хотя бы и печального, хотя бы и грозного, лишь бы переменился этот унылый, душу мертвящий строй жизни. Пускай будет гроза! Лишь бы очистила воздух, позволила бы дышать свободно.
Из всей этой жизни в продолжение четырнадцати лет остались в памяти ее лишь два или три особенных случая, о которых стоило вспомнить. Один из них, близко, лично касавшийся до нее, особенно остался в памяти.
В доме отца появился однажды дряхлый старец, пользовавшийся известностью чуть не по всей Германии как святой муж и праведник, которому народная молва приписывала пророческий дар. Ее, девочку лет двенадцати, привели в гостиную, где сидел старец в священническом одеянии. Она со страхом и трепетом подошла к нему, подводимая матерью. Он глянул на нее своими большими строгими глазами, положил ей руку на голову и сказал несколько слов, которых она сразу не поняла, но которые тем не менее напугали ее. Потом, впоследствии, ее мать часто вспоминала сказанное стариком, и упорно веровала в пророчество праведника, и упорно ожидала, что оно сбудется. Старик в темных выражениях проговорил, что видит на детской головке три короны, и в том числе одну большую, цесарскую. Предсказание это, часто вспоминаемое в доме, разумеется, глубоко запало в душу умной девочки; скоро она сама стала верить в него и ожидать.
И наконец однажды, когда ей было уже около пятнадцати лет, мать, ничего не объясняя, стала собираться в далекий путь.
Скоро они очутились в Берлине при дворе сурового, некрасивого короля Фридриха, а затем двинулись дальше. И умная, смелая, уже честолюбивая девушка-ребенок знала, что ее везут в далекую, полудикую землю, вечно заваленную такими снегами, каких не бывает на родине. В этой далекой чужбине предстоит ей выйти замуж, и там будет она со временем императрицей громадной страны.
Дорога из Берлина на Кенигсберг, Митаву и Петербург продолжалась довольно долго, но после уединенной и однообразной жизни в Штетине она рада была новым местам, новым лицам. Вдобавок здесь в первый раз, на пути в эту неведомую землю, она как-то незаметно для самой себя вдруг увидела, почувствовала, что она сделалась главным действующим лицом. Во всех городах по дороге, которые казались ей все-таки менее чуждыми, чем она ожидала, слышалась та же родная речь; всюду делались пышные встречи, давались празднества, гремела музыка, и всюду нареченная невеста наследника престола была, конечно, главным лицом, относительно которого проявлялось внимание, радушие, заботливость и предупредительность всех.
В Митаве встретил поезд принцессы высланный вперед русской императрицей камергер Нарышкин, и его почтительное внимание и заботливость в пути до Петербурга особенно сосредоточивались на ней, а не на матери.
В этом пути прежде всего поразили юную принцессу странные экипажи, в которых весь поезд двигался по необозримым снежным равнинам. Это были длинные и узкие сани, обитые красным сукном, в которых днем помещалось с ними человек по восьми и десяти, а на ночь все уходили в другие сани, а им двум устраивали постели. Обеих принцесс закрывали целыми кучами мехов, и только одни лица их оставались незакрытыми. Шесть, а иногда восемь лошадей, впряженные в эти сани, мчали их почти постоянно вскачь.
В февральские туманные, но теплые сумерки въехали они наконец в Петербург. Пестрая толпа придворных встретила их в небольшом итальянском дворце, и, несмотря на усталость, тотчас был назначен прием, было представление гостей, был длинный, скучный и чопорный обед. Но так как императрица и наследник были в Москве, то на другой же день пришлось снова пускаться в путь, такой же далекий и трудный, и снова скакать в таких же санях.
И вот здесь в первый раз увидала она много нового, схожего с тем, что рассказывалось ей перед отъездом. Родная речь уже не слышалась кругом; по дороге изредка попадались убогие черненькие деревушки, и каждая из них казалась большим черным пятном среди необозримой сахарно-белой равнины. И тут на привалах услышала она близко мудреную речь, увидала людей в каких-то замазанных шкурах, и первые три слова русских, которые подхватила и заучила она, были «мужик», «сарафан», «дуга»… И этот серый люд, который попадался все больше на пути, не возбудил в ней того чувства отвращения, с которым относилась к ним ее мать, а напротив, чувство жалости к ним проникло сразу в ее душу и глубоко запало в ней. Эта неведомая, снежная, унылая, будто мертвая страна, по которой без конца двигались они в уродливых длинных санях, не пугала ее. Ко всему чутко прислушивалась она кругом, ко всему внимательно, сердцем приглядывалась. Этот серый, будто неумытый люд на всех привалах окружал со всех сторон сани, из которых она выходила или в которые садилась при отъезде, и всюду она видела на этих лицах, в их глазах одно добродушие и ласку. Однажды, уже под самой Москвой, на одной из станций в ту минуту, когда она усаживалась в неуклюжие сани, произошел простой, но памятный ей случай. Старая женщина, худая, вся обмотанная дырявою одеждою в грязных клочьях, вдруг выступила из окружавшей их толпы, приблизилась к ней и, бормоча нараспев, как-то странно замотала над ней рукою. Принцесса-мать перепугалась, боясь колдовства, но ей объяснили, что женщина, узнав, кто такая проезжая, и желая ей доброго пути, перекрестила ее три раза. Долго помнила девушка эту старуху, ее добрые глаза, ее добрую, певучую речь, и долго жалела, что не могла понять слов.
И наконец однажды, как в одной сказке, они вдруг остановились у красивого дворца среди густого леса. Здесь встретили ее русская императрица и жених. И ей, ожидавшей увидеть большой, веселый, красивый город, странною показалась эта встреча среди леса, покуда не узнала она, что это Петровский дворец, находящийся в окрестностях древней столицы.
В этот же день, после бесконечных бесед, среди шумной, пестрой, многочисленной толпы придворных, поздно вечером, засыпая и едва чувствуя себя от усталости, она невольно повторяла мысленно то, что вынесла из этой встречи:
– Какая она добрая! Как он дурен!
И ночью, проснувшись от какого-то шума в соседней комнате, придя в себя, она вдруг вспомнила, что очутилась далеко от своей родины, далеко от милой площади с брызжущим вечно фонтаном. Снова вспомнив о двух лицах, которые встретила она накануне и с которыми придется теперь век вековать, она снова шепнула то же самое:
– Да, она добрая… Но как он дурен!!
II
София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская с матерью своей, принцессой Иоанной Елизаветой, въехала в Россию в феврале 1774 года.
Первое время пребывания в чужой стране, среди чужой обстановки и речей на неизвестном языке, было трудное и грустное для пятнадцатилетней девочки. Тем более было мудрено ей, что мать родная была ей не в помощь; напротив, дочь должна была постоянно выпутывать ее из всякого рода затруднений и неосторожных поступков.
Елизавета Цербст всегда была упрямой, мелочной и совершенно бестактной женщиной. Вдобавок она была настолько же ограниченная женщина, насколько самоуверенная и упрямая. По приезде в Москву, благодаря ласковому обращению с ней императрицы и почтительному отношению к ней всего двора, у принцессы Елизаветы немного закружилась голова. Она вообразила себе, что, будучи матерью невесты наследника престола, она призвана теперь играть влиятельную роль в России. На весь двор и все общество Елизавета стала смотреть свысока, сочтя себя нравственно и умственно выше всех этих «варваров». Вместе с тем она стала обращаться особенно любезно со всеми представителями иностранных держав, завела с ними тесные сношения и начала заниматься высшими политическими вопросами, то есть интриговать, переписываться с Фридрихом и, конечно, сплетничать. С дочерью она всегда обращалась резко и деспотически, здесь же стала еще больше преследовать ее за всякую мелочь. Не прошло месяца, как все от всей души любили молоденькую принцессу и ненавидели тоже от всей души ее мать.
Вскоре после приезда их в Москву императрица отправилась говеть к Троице; близкие ей люди последовали за ней, и дворец почти совершенно опустел, потому что оставленные при двух принцессах сановники и служители тотчас самовольно отлучились по своим делам или вотчинам. Принцесса-мать разъезжала по городу на обеды и вечера, разыгрывая великую особу, и просиживала целые дни в гостях у людей, с которыми не могла сказать ни слова по незнанию ими ни французского, ни немецкого языка.
За это же время принцесса София, вставая со свечкой до зари, садилась тотчас же за тетрадки и за книжки своего нового учителя, Симона Тодорского, и учила уроки закона Божьего и русского языка. После недостаточно отопляемого зимою дома отца своего ей казалось особенно хорошо, тепло и даже жарко в ее натопленных комнатах. Поэтому она часто, с утра до обеда просиживая у себя одна-одинехонька, позволяла себе не одеваться и ходить босиком по полу.
Однажды утром она почувствовала себя дурно, а к вечеру была уже в постели, и страшное воспаление в боку продержало ее двадцать семь дней между жизнью и смертью. Собравшиеся русские доктора хотели было лечить принцессу, но мать ее объявила, что не позволит ничего ей дать, ничего сделать, так как она убеждена, что дочь ее непременно уморят русской медициной.
За несколько лет перед тем родной брат принцессы Цербстской, будучи женихом Елизаветы Петровны, тогда еще цесаревны, заболел точно так же вдруг и скончался через несколько дней. Принцесса была убеждена, что его тогда умышленно уморили русские доктора. Теперь она села у постели больной дочери на страже, ничего сама не предпринимала и другим не позволяла до нее дотрагиваться.
Императрице дали знать в Троицу, и она тотчас прискакала. Принцессу Елизавету силком отвели от постели, чуть не заперли в другой горнице, и принялись лечить кровопусканиями опасно простудившуюся девушку.
Быть может, судьба послала эту болезнь на ее счастье.
В первый же раз, как больная пришла в себя и сознательно оглянулась, у нее по просьбе матери спросили: не желает ли она повидаться с протестантским пастором и побеседовать. Молоденькая принцесса отвечала, что подобная беседа была бы ей очень приятна, но что она желает не пастора, а своего законоучителя, отца Тодорского.
Императрица за эти слова обняла больную, нежно расцеловала ее. И этот ответ молоденькой чужеземки облетел скоро всю Москву и чуть не всю Россию.
Главное лечение именно состояло, по обычаю, в кровопускании. Когда пришлось в четвертый или пятый раз, по мнению докторов, пускать кровь, то у больной спросили: не чувствует ли она себя слишком слабою и какое ее личное мнение о новом кровопускании.
– Побольше, побольше выпускайте, – улыбаясь, отвечала больная. – Выпустите ее всю! Ведь это немецкая кровь. Я зато, поправясь, наживу другую, та уж будет настоящая – русская.
И этот ответ снова привел в восторг императрицу, двор, и всю Москву, и все российское дворянство. Многие, жившие вдали, по вотчинам, узнали это из писем родственников и приятелей.
Наконец, главное, имевшее большое значение, было то, что когда она уже выздоравливала, около нее сажали разных придворных дам на дежурство, а неотлучно у постели сидела одна из главных болтушек и сплетниц, Румянцева.
Принцесса взяла привычку лежать в постели с закрытыми глазами, а быть может, и в самом деле хитрая девушка умышленно стала притворяться спящей. И в продолжение многих дней, прислушиваясь к шепоту и пересудам женщин, ее окружавших, она узнала все, что только можно было узнать про императрицу, двор, придворные партии, интриги и всевозможные семейные истории. Когда принцесса выздоровела, то всё и все были ей так же знакомы, как если бы она уже год или более жила в России. Она узнала, кто и что Разумовские, Шуваловы, Бестужев, Шетарди, Лесток и так далее. Между прочим, она узнала, что при дворе образовались две партии даже по поводу ее приезда. Одна партия желала ее брака с наследником престола, другая же из сил выбивалась, чтобы женить Петра Федоровича на саксонской принцессе Марианне. Во главе последней был Бестужев. Принцесса узнала, что во время болезни, когда она была наиболее в опасности, противная ей партия ликовала и, тайно от государыни, два курьера уже поскакали в Саксонию. Если бы она умерла, то не только при дворе русском многое пошло бы иначе, но даже в европейских делах первой важности совершился бы известный переворот, другие союзы и разные дипломатические осложнения.
Летом совершился в Москве с большой пышностью переход в православие нареченной невесты, и принцесса София Фредерика стала «благоверной великой княжной Екатериной Августовной». Спустя некоторое время было совершено и торжественное обручение в том же Московском Кремле, и она стала именоваться Екатериной Алексеевной.
Бракосочетание отлагалось до конца года, но в ноябре месяце великий князь заболел корью, затем немного поправился, но на пути из Москвы в Петербург, в Хотилове, заболел снова самой сильной оспой. Болезнь его продолжалась долго и была настолько серьезна, что могла лишить императрицу наследника престола.
Великую княжну, у которой не было оспы, не только не допустили к жениху, но увезли поскорее в Петербург. Когда спустя пять месяцев она снова увидела своего нареченного, то невольно смутилась и затем, убежав к себе в горницу, даже поплакала. Великий князь, который и прежде был некрасив, теперь, после оспы, подурнел еще более. Правда, он немножко вырос или вытянулся, но при этом еще более похудел; лицо его распухло, скулы выпятились, глаза казались еще меньше, и обе щеки были покрыты сине-багровыми пятнами и бороздками.
Однако двадцать первого августа совершилось бракосочетание, и десять дней праздновал Петербург это событие.
Первые дни после брака великий князь почти что не видал в глаза молодой жены, ибо иные два события в его жизни были для него гораздо важнее. От него, наконец, взяли ненавистного воспитателя, немца Брюммера, и, кроме того, позволили ему носить всякий мундир, какой бы он ни пожелал. Поэтому молодой человек на радостях по десяти раз на день переодевался в разные мундиры, а с другой стороны, свободный совершенно, в своих горницах, где властвовал до сих пор Брюммер, тотчас завел свору собак и проводил время с бичом в руке. Вместе с этим через неделю после брака молодая женщина, найдя мужа грустным, внезапно услыхала от него искреннюю исповедь, что он без памяти влюблен давно в фрейлину Кар. Затем еще через несколько времени великий князь снова опасно заболел и пролежал целую осень в постели.
Со дня своего брака до минуты смерти императрицы, приехавшая в Россию пятнадцатилетней девушкой и достигшая тридцати четырех лет, она за всю эту жизнь могла упомнить только три особенно крупных и выдающихся события. Отъезд или, лучше сказать, изгнание ее матери из России было первым событием для нее. Принцесса неосторожно завела при дворе русском целую интригу и даже дошла до того, что стала тайно сноситься с иностранными кабинетами, усердно озабочиваясь судьбою российского государства. Екатерина Алексеевна поплакала, конечно, при отъезде матери, но не особенно… Она не знала, что более никогда за всю свою жизнь не увидит ее, а что когда сделается императрицей, то сама не пожелает и не дозволит ей приехать в Россию. Второе событие было падение и ссылка знаменитого Бестужева, и если великая княгиня не пострадала тоже серьезным образом, то благодаря тому, что успела сжечь все, что было у нее бумаг и писем. Разумеется, все дело было крайне невинного свойства. Третье событие ее жизни было рождение ребенка, через девять лет после брака. Императрица стала гораздо ласковее с матерью и нянчилась с внучком, зато великий князь насмешливо и презрительно улыбался на эти семейные нежности и только изредка спрашивал:
– Что ваш сын?
Вся жизнь Екатерины Алексеевны в продолжение восемнадцати лет прошла в постоянных переездах и странствованиях из Петербурга в Москву, из Москвы в Киев и так далее. Но благодаря этим странствованиям и скитаниям, которые все более учащались к концу царствования Елизаветы Петровны, великая княгиня могла приглядеться, присмотреться, прислушаться, могла стать лицом к лицу с неведомой громадной страною и неведомым народом. Часто в беседах с ней английский посланник при русском дворе брал сюжетом своих шуток того, кого он называл «любопытный незнакомец». Под этим прозвищем остряк-англичанин разумел русский народ. И воистину это был «magnum ignotum»[43] для Петербурга и для всех правительств, сменявшихся после Петра Великого. На берегах Невы он тоже был «великое неизвестное» так же, как на берегах Сены, Темзы или Дуная.
Действительно, где-то на краю света, на каких-то болотах, там, где русскому миру конец, а начало чухне, целых полста лет и более разные драгуны, пандуры и гренадеры вершат диковинные дела, представляют чудеса в решете, но чудеса эти чужды, даже будто нисколько не любопытны никому за пределами рогаток и застав петербургских. Вельможи и сановники, и русские, и чужеземцы, полстолетия борются между собой, падают и подымаются, кладут головы на плахи, угоняются в Пелым, в Березов, в Якутск… Каждый раз изменяется декорация, но комедия повторяется все та же и та же… А этот «magnum ignotum» живет сам по себе, даже не прислушивается. Его хата с краю! Он живет голодно и холодно, но богобоязненно и долготерпеливо и возлагает все упование свое не на питерских немцев и полунемцев, а на Господа Бога да его святых угодников.
III
Государь Петр Федорович тотчас же по вступлении на престол объявил о своем желании непременно как можно скорее переходить в новый дворец.
Пышные похороны покойной государыни со всякого рода церемониями продолжались страшно долго.
Петербург, двор и общество разделились тотчас на два лагеря даже по поводу этих церемоний.
Одни, с новой императрицей Екатериной Алексеевной во главе, проводили время в хлопотах по поводу похорон, присутствовали на всех церемониях и всех панихидах. За эти дни ярко отметился лагерь «лизаветинцев». Другая партия, в которой было немного русских вельмож, в числе прочих новый фаворит Гудович, получила в устах народа и даже гвардии название «голштинцев». Все они почти никогда не бывали на панихидах, и большая часть из них занималась или разъездами верхом по столице в свите государя, или заказом новых бесчисленных и все менявшихся мундиров. Некоторые же исключительно хлопотали об отделке нового дворца.
Весь Великий пост работы в громадном здании шли быстро, более тысячи всяких подрядчиков и рабочих наполняли этот дворец в полном смысле слова от зари до зари. К концу Великого поста все было готово, и всем было известно, что прием в Светлый праздник будет непременно в новом дворце. Но о главной помехе для этого перехода в новый дворец никто не подумал.
Дворец строился несколько лет на громадном пустом пространстве, не застроенном ничем, которое простиралось от старого дворца у Полицейского моста до берега Невы, а в длину – от Миллионной до самой Галерной улицы. Когда-то при начале постройки это был обширный, великолепный зеленый луг, на котором постоянно паслись коровы и лошади дворцового ведомства. Покуда дворец строился, все это огромное пространство понемножку покрывалось бесчисленным количеством разного рода домиков, хижин, шалашей, избушек, балаганов и сараев для обделки всякого рода материалов и для житья рабочих. Постепенно этих построек набралось, конечно, более сотни. Кроме того, годами набирались громадные кучи всякого мусора, бревен, глины, щепы и щебня.
Вид этого пустого пространства между двумя дворцами, старым и новым, был хотя крайне непригляден, но крайне оригинален. Это было сплошное серо-грязное пространство, на котором кое-где высились самые нелепые постройки на скорую руку, а около них громадные кучи всякого сора. В некоторых местах кучи щепы или щебня были настолько велики, что превышали крыши сарайчиков и хижин.
Когда в новом дворце развешивались уже последние картины и занавеси и вносилась всякая мебель, один из немцев-придворных, Будберг, первый спросил у полицмейстера Корфа:
– А как же будет и как состоится прием во дворце, когда нельзя пройти, а тем менее проехать к этому дворцу ниоткуда?
Корф, отличавшийся некоторою тугостью разума, треснул себя по лбу и онемел от сюрприза.
Оставалась одна Страстная неделя, очистить же весь этот луг возможно было только в месяц времени, да и то при затрате больших сумм для найма лошадей и народа. И Корф, надумавшись, поскакал к Фленсбургу и объяснил ему ужасное обстоятельство.
Фленсбург, знавший хорошо, как и всякий в Петербурге, насколько упрямо желает государь быть в Светлый праздник в новом дворце, даже рот разинул и руками развел.
– Как же вы об этом не подумали? – воскликнул он.
Корф тоже развел руками, как бы говоря: что же прикажете делать! Но в то же время он злобно соображал:
«А отчего же вы-то все об этом не подумали? Отчего же мне надо было думать, когда вам никому и на ум не пришло?»
Но, однако, Корф понимал, что отвечать все-таки придется ему как полицмейстеру.
– Бога ради, доложите принцу, спросите, что тут делать.
– Да что же он может тут? – спросил Фленсбург.
– Доложите. Я уж и не знаю, а все же доложить надо.
– Государь вчера говорил, – заметил Фленсбург, – что он в среду или в четверг уже перейдет. А вы в одну неделю не успеете очистить все.
– Какое в неделю! В месяц, в полтора не успеешь! – воскликнул полицмейстер.
Фленсбург, глядя в смущенное, почти перепуганное лицо генерал-полицмейстера, думал по-немецки:
«Ну, казус. Что теперь будет вам всем от государя?»
Когда адъютант доложил принцу о новости, Жорж тоже ахнул и привскочил на своем кресле.
– Пускай едет сам и докладывает государю, – решил принц.
Фленсбург передал приказание принца, но генерал-полицмейстер был не промах. Он обещал адъютанту наутро доложить государю обо всем, но в тот же вечер вдруг опасно захворал, даже слег в постель. «Лежачего не бьют! – надеялся он. – Больного скорее помилуют».
Пришлось принцу Жоржу взять дело на себя. Все-таки он не захотел, чтобы на него прямо обрушился гнев государя в деле, в котором он был неповинен. Принц отправился к фавориту.
Гудович при известии вскрикнул еще громче других и, несмотря на свою тучность и лень, вскочил и начал ходить по горнице. Всякого рода ругательства посыпались на полицмейстера Корфа и на всех негодяев «лизаветинцев», хотя Гудович знал, что они тут ничем не виноваты.
Не ближе как вечером Гудович отправился к Воронцовой, прося ее доложить государю, что переезжать во дворец невозможно, ибо о площади забыли и ранее месяца она очищена быть не может.
И в тот же день, но далеко за полночь, когда государь после сытного ужина собирался спать, Воронцова, все отлагавшая минуту объявить ужасную новость, вдруг как-то бухнула ее. И все предугадывали верно. Государь пришел вдруг в такое состояние, что, несмотря на третий час ночи, поднял на ноги весь дворец. Казалось, буря с вихрем и градом прошла по всем горницам и коридорам.
Государь был человек добродушный, еще никого не обидевший за трехмесячное свое царствование, но тем не менее все боялись его и трепетали.
И среди ночи были вытребованы во дворец и Корф, и все петербургские власти, за исключением принца. Государь объявил, чтобы за ночь все градовластители сообща придумали что-нибудь и чтобы площадь была очищена в три дня.
Полунемцы, полурусские, генералы, полковники, тайные и статские советники хотя и усердно ломали свои давно на службе опорожненные головы, но ничего не придумали. И сам полицмейстер Корф и всякого рода власти, даже некоторые сенаторы ездили верхом и ходили пешком на громадное пространство, все сплошь покрытое мусором и застроенное всякими сараями и хибарками. И, разумеется, всякий из них, вспоминая, что государь приказал в три дня все это очистить, разводил руками, а иногда даже и приседал – движение, красноречиво говорящее. «Вот и поздравляю! Что ж тут делать?»
Действительно, снести все это возможно было при правильном и усердном труде только в три недели или месяц, но уж никак не менее.
Полицмейстер Корф быстро, по приказу государя выздоровевший в прошлую ночь, теперь от ужаса и боязни заболел уже действительно, не дипломатически.
IV
Но матушка святая Русь всегда нарождала избавителей, или Бог земли русской в злосчастные минуты всегда их посылал ей. Не один Минин в урочный час являлся на Руси и спасал ее единым могучим взмахом души и длани.
И в эти дни, тяжелые и грозные для Петербурга, когда все высшее сословие столицы, поджав хвост, сидело по домам, не смея высунуть носа и боясь навлечь на себя немилость разгневанного императора, явился новый «Минин». Хотя на маленькое дело народился он, но все-таки на такое, о котором напрасно и тщетно ломали себе головы все правители и властители.
Жил да был в оны дни в Петербурге, близ Охты, русский мужик, происхождением костромич, по ремеслу плотник, годами для российского и православного человека нестар и немолод, всего-то полстолетья с хвостиком.
Чуть не с семилетнего возраста у себя в деревне он орудовал топориком. Доброго и усердного парнишку взял с собой в Петербург на заработки его дядя и ласково называл Сеня. И все звали его Сеней, никогда никто ни разу не назвал его Сенькой; такое уж было у него лицо, что Сенька к этому лицу было именем неподходящим.
Из года в год с топором в руке много дел наделал Сеня. Был у него только один этот «штрумент», но он мог им все сделать. И балки им рубил он, и всякие хитрые, замысловатые штуки вырубал, для которых немцу нужны три дюжины всяких инструментов. Много украшений всякого рода было на домах петербургских, на которые Сеня, проходя, глядел с кроткою радостью. Остановясь каждый раз, он, спихнув шапку на лоб, почесывал за затылком и ухмылялся, глядя на свою работу.
«Моя!» – думал он, а иногда и говорил это первому прохожему.
Теперь, перевалив во вторую полсотню годов, Сеня был тот же искусный и усердный плотник, все так же орудовавший топориком; лицо его было тоже свежее, моложавое, ни единого седого волоса ни в голове, ни в окладистой бороде; сила все та же, так что молодых рабочих за пояс заткнет; искусство все то же. Бухает он сплеча по большой балке и ухает при этом, выпуская залпом такое количество воздуха из груди, что иному немцу, вроде принца Жоржа, этого одного залпа на всю бы жизнь хватило. Или тихонько, ласково, будто нежно чикает он большущим топором по маленькому куску липы или ясеня, и выходит у него мальчуган с крылышками, или лира, или рог изобилия, или какая иная фигура, не им, а немцем выдуманная и которую теперь господа стали наклеивать на фасады домов.
Сеня тоже в числе прочих работал во дворце в качестве простого поденщика. Иные в двадцать лет выходят в хозяева и подрядчики, а Сеня, хоть тысячу лет проживи на свете, все будет подначальным батраком.
Наступили великие дни Страстей Господних, когда весь православный люд на пространстве четверти всего земного шара, пав ниц, молился во храмах, каялся во грехах и причащался Святых Тайн Христовых. С тайною, непонятною сладостью на душе и с очищенной покаянием совестью ожидал всякий встретить великий праздник Христов. В эти самые дни в полурусской столице, на окраине громадной земли православной, все, что было властного, высокого и чиновного в Питере, вся эта взмытая пена великого русского моря житейского, то есть все придворное сословие, переживало тоже дни скорби и печали. Когда во храмах по всей Руси коленопреклоненные священники восклицали над коленопреклоненным же народом: «Господи, владыко живота моего!» – здесь, в пышных домах и полудворцах столицы, весь люд важный и сановный, прозванный народом голштинцами, восклицал тоже:
– Господи, площадь-то, площадь!
Им-то, конечно, черт с ней, да что из-за нее им же будет!!
Во вторник на Страстной неделе Корф, похудевший в болезни, с распухшим даже от горя носом, быть может, в сотый раз объезжал на худой, заморенной лошади громадную площадь, сплошь покрытую всякою всячиной. Он столько горевал и думал, что уже не знал, где теперь помещается его голова: на плечах или где в ином месте? И приятели, и знакомые, и многие вельможи все размышляли. И после своего размышления все только разводили руками и произносили те слова, которые теперь Корф без остервенения слышать не мог:
– Да как же вы прежде-то об этом не подумали?
Среди всего пространства была одна громадная куча щепы, по которой можно было почти пересчитать, сколько лет строился дворец, так как все пласты этой пирамиды, не египетской, а российской, были разного цвета, от самого черного, сгнившего давно, до самого свежего пласта, набросанного за последние дни. Объехав эту пирамиду, Корф встретил прусского посланника, барона Гольца, тоже приехавшего ради любопытства и пробиравшегося верхом по тропинкам, которые проложили рабочие.
После приветствий завязался разговор все о том же. Умен и ловок был пруссак Гольц, недаром любимец Фридриха, посланный в Петербург завладеть через императора всей империей русской. Но и он не утешил Корфа и не нашел спасения.
Во время их беседы присоединился к ним всадник, тоже голштинец, хотя это был престарелый князь Никита Юрьевич Трубецкой, генерал-прокурор и фельдмаршал. Так как он ни слова не говорил по-немецки, то беседа зашла с Корфом по-русски, и тотчас завязался спор, сколько понадобится времени для очистки площади, сколько денег, сколько рабочих и сколько труда. Трубецкой стал доказывать, что, если бы ему дали денег на это дело, он бы его в три недели покончил.
А народ кругом все прибавлялся, все налезал, и вдруг три всадника очутились среди густой толпы праздных рабочих и всяких прохожих зевак.
И Бог земли русской послал сюда в эту минуту… так, пошататься без дела, нового «Минина» – Сеню…
Сеня никогда выскочкой не был, вперед не лез и особливо ревностно соблюдал святое правило: от начальства держаться елико возможно подальше.
«Чем ты от него далей, – передано было Сене отцом из рода в род завещанное правило, – тем будет тебе спасительнее и здоровее».
Сеня, завидя вельмож, стал тоже поодаль, но прибывавшая толпа все пихала и пихала его сзади и понемножку надвинула под самый хвост лошади генерал-полицмейстера. И так близко, что, не ровен час, помилуй Бог, задом она его хлобыстнет. Но Сеня забыл про эту опасность, да и кляча немцева показалась ему тоща, где ей брыкаться: его уж очень беседа генеральская захватила.
Слушает он и ничего сообразить не может, а потому, собственно, что все понял. Кабы он не понял – другое дело, а то все, что Корф и Трубецкой говорят друг дружке, он до единого слова понял и рассудил. И поэтому сообразить ничего не может.
Такие важные генералы да про такое пустое дело толкуют! Как площадь очистить по приказу государеву в три дня!.. И сказывают они, что государь-батюшка от них требует дел совсем невозможных. И так захватила Сеню эта беседа генеральская, что он даже сопеть начал в хвост лошади. Хочется ему смерть свое слово молвить, да страшно, боязно: ну, как прикажут поучить малость!
И начал Сеня все тяжелее и тяжелее дышать. Слово, что хочется ему молвить, так ему грудь и распирает.
Вот полицмейстер уж двинул свою лошаденку и вскрикнул на толпу:
– Что налезли! Ироды!
Сеня не вытерпел, снял шапку и вымолвил с трепетом на сердце:
– Ваше превосходительство! И как бы эту самую площадь в один день обчистить, ей-богу. С утренничком взямшись, к вечеру то ись чисто бы было.
Корф, фельдмаршал Трубецкой и фридриховский посол Гольц – все трое обернулись на ласковое, добродушное лицо мужика.
– Чего? – выговорил Корф. – Что ты болтаешь? Как же ты это сделаешь? Что ты врешь, дурак! Ты болван! Болтаешь всякий вздор. Дубина! Пошел!
Все это выговорил Корф так сердито, что видно было, как он на всяком срывал свою печаль и гнев государя.
– А вот, ваше превосходительство, я, конечно, не во гнев вашей милости… А вот коли мне его царское величество приказ такой был дал, очистить самую эту площадь, чтобы вот к вечеру на ней не было ни одной щепочки или кирпичика, так я бы вот сделал…
– Что? – вымолвил Корф.
– Ну, ну? – вымолвил Трубецкой.
Только Гольц ни слова не вымолвил, потому что не понимал по-русски. Даже столпившиеся и налезавшие кругом зеваки, забыв присутствие важных сановников, тоже робко отозвались:
– Ну, ну, сказывай, леший.
– А вот, значит, что. Известно, приказ государя – это первое дело. Я скажи, ну ничего, стало быть, не будет, – еще выпорют. А царь-батюшка не есть какой, ваше превосходительство, вельможа, у которого деньгам все-таки счет есть, а как ни богат, а все ж деньгам конец может быть. А государь совсем ино дело. Ну, вот, стало быть, нехай все это пропадет: и балаганы, и сараи, и кирпичи, и все… Царь-государь от этого беднее не будет, а народ, стало быть, побогаче будет, а царю не в убыток. Вот что я, собственно, вам доложить хотел.
Корф слушал всем своим существом, ему будто чуялось, что Провидение посылает «Минина». Но вдруг, увидя, что мужик, ничего не сказав, кончил, Корф даже рассвирепел и начал ругаться.
– Истинно, – заговорил опять Сеня, – дал бы приказ государь по всей столице: иди, братцы-ребята, на площадь, тащи что кому вздумается, я, мол, позволил. И по совести доложу я вам, ваше превосходительство, что в три часа ничего то ись тут не останется. Ей-богу, верьте слову! И как это, к примеру сказать, питерцы-то, весь наш брат, мазурик ведь тоже, как прибежит сюда да начнет тащить кто что ухватить поспел, так ахнуть не успеешь, как будет все чисто. Ведомо вам: вор спор!
Предложение это показалось, разумеется, Корфу и Трубецкому, а затем переведенное Гольцу настолько нелепым и глупым, что генералы, пожав плечами, поехали по домам.
Но всякая действительно великая истина всегда кажется нелепостью при своем зарождении. И Козьму Минина в первую минуту, наверное, принял народ за суеслова и брехуна во хмелю, и Сеню приняли теперь за дурня, что любит зря языком чесать, да еще важным господам.
Но затем целый день работала голова Корфа и хотя была плохой почвой для всякого семени и для созревания всякого плода, однако и она к вечеру стала, хотя еще смутно, понимать, что мужик на площади в некотором роде Христофор Колумб или монах Шварц.
Подумав еще в бессонной ночи о мужике и его словах, Корф поутру все сообщил всем, кому только мог. По мере того что он рассказывал, во всех головах всех слушателей и в его собственной голове все более укреплялось убеждение, что выдумка мужика диво дивное. После полудня генерал-полицмейстер уже смело приписывал выдумку себе самому, а в сумерки, уверенный в силе своего открытия, скакал к государю доложить о деле смело и бойко. Корф предложил государю оповестить всех обывателей столицы указом его величества, что все находящееся на площади отдается в подарок всем и каждому, кто только пожелает прийти и взять. Государь ахнул, захлопал в ладоши, потом похлопал Корфа по плечу и чуть не поцеловал.
– Молодец! Замечательно придумано. Видно, что немец! Поезжай! Приказывай!
V
В Великий четверг чуть свет несколько кучек народа собрались на площади, появилось и несколько обывательских телег. Кое-кто и кое-где наваливал себе или просто набирал в охапку, что кому приглянулось. Но работа эта шла как-то вяло и нерешительно. Каждый думал:
«А ну как вдруг ахнет на тебя кто из начальства – да по морде или, хуже того, по чем попало!.. Да в ответ пойдешь за самоуправство! Сказывал будочник – указано… Да не ровен час!..»
Но около полудня сотни, а наконец и тысячи обывателей, видя и встречая невозбранно идущих и едущих с площади со всяким добром, наконец как будто уразумели вполне, в чем дело. И вдруг темная гудящая куча наплыла и покрыла все пространство площади. Кто зря забрел – тащить начал. И странный вид приняла эта площадь. Словно гигантская муравьиная куча, закопошилась она и гудела на всем пространстве. Крики, вопли, драка, сумятица и беспорядица огласили столицу.
Корф приехал было верхом поглядеть, как успешно идет очистка площади, но не мог сделать и сотни шагов среди плотной массы расходившейся черни. На этот раз с полицмейстером были его два адъютанта верхом. Они кричали на народ, старались очистить начальнику проезд в центр этого кишащего муравейника, но народ, будто опьяненный грабежом и дракой, уже не слушал никого и не обратил на них ни малейшего внимания.
Корф стал было кричать на одного мещанина, который увозил целый воз досок и лез прямо на него. Но мещанин, не знавший полицмейстера, с раскрасневшимся лицом, блестящими от работы, драки и устали глазами крикнул на всю площадь:
– Уходи с дороги! А то по цареву указу и тебя с лошадки сниму – да на воз.
И он прибавил, уже хохоча во все горло, несколько не идущих к делу, но любимых слов.
Наконец и многие пешие, тащившие все, что им попадало под руку, начали кричать на Корфа и его адъютантов:
– Уйди!.. Что стали на дороге?! Чего мешаетесь!.. Аль поживиться приехали? Стыдно-ста, господа офицеры.
Многие из них, конечно, не знали Корфа в лицо, но те, которые знали, не ломали шапки, потому что было не до того. И только один пожилой мастеровой крикнул полицмейстеру:
– Уезжай, родимый, отседова, – зашибут ненароком. Вишь, какой содом!
Почти на середине площади на крыше небольшого сарайчика, еще не сломанного, стоял руки в боки, с шапкой на затылке сам великий изобретатель, открывший великую истину, сам плотник Сеня!
Когда до него утром дошли слухи, что государь приказал подарить все находящееся на площади петербургским обывателям и позволил разграбление, то Сеня вымолвил:
– Во как, славно! Вестимо, так и надо. Инако ничего не поделаешь.
Но Сене и на ум не пришло, что он подал мысль, которая понравилась государю.
С каждым часом толпа все более и более прибывала на площадь, и она начинала уже несколько уравниваться. Бесчисленные возы тянулись вереницами во все концы города, и всякий вез к себе целые кучи добра: досок, кирпича, бревен и щепы на топливо.
В сумерки, в самый разгар грабежа, вопли на площади отдавались в городе, как отголосок страшной бури, и все прилегающие к площади улицы были запружены и сором, растерянным по дороге, и сломанными телегами, и павшими от страшной тяжести лошадьми. В эту минуту с Миллионной выехал красивый экипаж цугом и хотел было пробраться вдоль Мойки, чтобы объехать площадь. Но волны людские залили со всех сторон карету и лошадей, и, несмотря на крики кучера и форейтора, подвигаться было невозможно. В карете были двое военных. Один из них, в великолепном мундире со множеством орденов, был горбоносый, с маленькими проницательными глазами, с тонкими губами, слегка выдающимися вперед, человек, все испытавший в жизни, переживший все, что может дать жизнь. Он был почти конюх, он был и первый сановник-временщик в государстве; на плечах его перебывали по очереди и самые блестящие мундиры, и полуцарские мантии, подбитые горностаем, и кафтан ссыльнокаторжного. В этом самом Петербурге он был десять лет кровопийцей целой громадной страны, и несколько миллионов людей трепетали при одном его имени, считая его искренне исчадием ада. И теперь, после долгой двадцатилетней жизни в изгнании, он снова появился в этом городе.
Приехав накануне и отдохнув с дороги, он в сумерки с адъютантом своим выехал из дома и прямо налетел на гудящую площадь и весь этот дикий содом.
Увидя перед собой целое волнующееся пестрое море людское, он вздрогнул, и первое чувство, сказавшееся в нем, был не испуг, а скорее злорадство. Ему почудилось, что здесь, близ дворца, совершается нежданно нечто уже виденное им. Действо народное!.. Но зачем, почему, в чью пользу? Неужели новому правительству грозит опасность?
Но злорадство первого мгновения тотчас же прошло. Он подумал о себе. Всякая перемена могла вернуть его снова в ссылку, а теперь он только и мечтал об одном – скорее выбраться из России. Честолюбия в нем не было уже и помину; он мечтал теперь о тихой, спокойной жизни после длинного поприща насилий, преступлений, мести, жертв и крови…
Адъютант его, молодой человек, посланный к нему навстречу в Ярославль, немец родом, тоже перепугался в первое мгновение. Он высунулся в окно, глянул с трепетом на надвигавшиеся черные тучи народа, которые все более окружали экипаж, и произнес дрожащим голосом:
– Was ist das?[44]
Сановник все оглядел и понял. Он как-то подобрал тонкие губы, фыркнул и усмехнулся злобно.
– Was ist das? Russland! Россия! – вымолвил он язвительно. – В этой дикой земле всякое бывает. Злоба и глупость – вот два элемента, из которых родилась Россия, два элемента, которые лежат в основе всякого русского человека. Если умен он, то негодяй и преступник, если же безупречный гражданин, то низкая и до глупости безобидная тварь.
И, будто отвечая какой-то тайной мысли своей, он прибавил:
– Подальше, подальше из этой страны!.. Скорее проехать границу, поскорее быть в Европе!
Между тем карета стояла, цуг лошадей, заливаемый народом со всех сторон, нетерпеливо прыгал на месте. Их часто зацепляли досками и бревнами, и передняя пара начала уже бить.
И вдруг в этом человеке, который за мгновение назад смутился при виде волнующегося моря людского, сказался внезапно прежний пыл. Прежний огонь самовластья вспыхнул в душе.
Он высунулся в окно и крикнул кучеру стегать лошадей и ехать прямо на толпу, не разбирая ничего. Передний форейтор пустил поводья, хлестнул подседельную лошадь, кучер тоже ударил по своим, и кони, сильные и породистые, подхватили с места. Карета с лошадьми, как адская машина, вонзилась в густую толпу, и сразу несколько человек очутились под копытами и под колесами. А сановник, весь высунувшись в окно, задыхался и был пунцовый от дикого чувства, клокотавшего в нем. Казалось, он наслаждается… Но вдруг раздался страшный рев. Десятки голосов вскрикнули враз, десятки бревен, тучи каменьев градом посыпались со всех сторон на карету, на лошадей. Большое бревно взмахнуло в воздухе перед лошадью форейтора, и лошадь от сильного удара в лоб, отуманенная, повалилась наземь. Другая рванула вбок и запутала постромки. Еще мгновение – и эта толпа, разносившая площадь, разнесла бы в пух и прах и цуг коней, и карету, и сидящих в ней.
Но сановник быстро отворил дверку, выступил одной ногой на ступеньку и крикнул на толпу повелительным голосом:
– Смирно! Не узнали! Забыли! Я герцог Бирон!.. Поняли? Бирон, хамы!
В мгновение толпа стихла и отхлынула от кареты. Имя это, каждого еще в колыбели заставлявшее трепетать, и теперь заставило всю молодежь почти бессознательно бросить то, что было в руках, и спасаться… Старики и пожилые, признавшие в лицо страшное исчадие адово, отшатнулись, творя молитву. Через несколько секунд карета могла уже повернуться на освобожденном пространстве. И среди мертвого тупого молчания небольшой серой кучки обывателей направилась в Миллионную, чтобы объездом достигнуть дворца принца.
VI
Графиня Маргарита за последние дни расцвела, как пышная роза, и была еще красивее. За эти дни все ладилось у нее, все удавалось, все начинало сбываться.
Многие знакомые приезжали к ней, даже те, которые давно не бывали. Все являлись с расспросами: правда ли, что она спасла Орловых, когда никто не мог этого сделать? И если старый брюзга Иоанн Иоаннович захотел помириться с внучкой ради личной выгоды, то тем более посторонние считали нужным скорее подружиться с графиней-иноземкой, которая оказалась вдруг нечаянно и негаданно сильной при дворе личностью.
Никто не знал, каким образом удалось Маргарите освободить из-под ареста и выхлопотать прощение братьям-буянам. Помимо Маргариты только один человек в Петербурге знал, как это сделалось, но никому не говорил. Маргарита тем паче никому не объясняла ничего, отшучивалась, посмеивалась. Когда ей намекнули о городском слухе, что она просила лично государя, Маргарита изумилась, но хитро промолчала. А дело было очень просто.
Государь когда-то сказал дяде по поводу Орловых:
– Делай как знаешь.
Жорж делал все не так, как знал или хотел, а так, как знал или хотел его любимец Фленсбург.
А этот небогатый, честолюбивый шлезвигский уроженец, столь долго проживавший в ссылке после своей первой страсти, за которую и был сослан, не встретил за всю жизнь ни одной женщины, которую бы мог снова полюбить. Да и не до того было ссыльному! От зари до зари думал он только об одном: неужели судьба его не изменится, неужели, вместо того чтобы быть русским Остерманом или Минихом, он умрет ссыльным немцем в маленьком городке?
Вызванный недавно государем, прощенный и назначенный состоять при Жорже, Фленсбург ожил. Честолюбивые мечты вновь заговорили в нем, и он видел, что некоторые уже сбываются… Он очутился сразу на пути к блестящей карьере. Уже теперь, хотя и случайно, делается в Петербурге через глупого Жоржа, влияющего на государя, все то, что хочется ему, Фленсбургу. Прибывший вновь прусский посланник, любимец Фридриха, Гольц, как тонкий дипломат, заметил и понял сразу значение маленького адъютанта не только во дворце Жоржа, не только в Петербурге, но и для всей России. И он стал искать дружбы молодого шлезвигского дворянина ради личных целей. Для посланца Фридриха II всякий был нужен.
Гольц не высказывался, держал себя сдержанно, почти таинственно, но не дремал и работал. Он плел громадную паутину, в которую хотел захватить всю Русскую империю.
Внимание Гольца было и лестно Фленсбургу, и тоже имело огромное значение для него: оно удваивало силу и влияние адъютанта.
А между тем судьба, любящая шутить и играть людьми, заставила этого Остермана, а быть может, и Бирона в зародыше, быть в свою очередь под влиянием и почти совсем в руках у другого существа.
Фленсбург, вздохнувший свободно в Петербурге после изгнания, естественно, должен был тотчас же испытать то, что было немыслимо в ссылке. Вскоре же по приезде своем, встретив на одном вечере блестящую красавицу иноземку, графиню Скабронскую, заговорившую с ним вдобавок по-немецки, Фленсбург быстро, как юноша, почти так же, как и Шепелев, страстно влюбился в Маргариту.
К его чувству примешивался, однако, рассчет или соображение, что эта иноземка, равно говорящая хорошо по-немецки и по-русски, красавица, умная и тонкая кокетка, может быть великим подспорьем для всякого человека, мечтающего о блестящей карьере.
Фленсбург узнал, что муж красавицы должен умереть не ныне завтра; состояние графа Скабронского было никому не известно, и все считали умирающего Кирилла Петровича таким же богачом, как и его старик дед. Все это состояние должно было остаться вдове, да, кроме того, у старика Иоанна Иоанновича не было никого наследников, помимо той же красавицы внучки. И Фленсбург быстро и сердцем, и честолюбивым рассудком влюбился в иноземку.
Знакомство их началось еще недавно, но Фленсбург энергично, упорно, дерзко ухаживал за ней. Они быстро сблизились и объяснились, но далее пылких уверений в любви Маргарита не давала ему сделать ни шагу.
– Увидим! Посмотрим, что муж? Он еще жив! – говорила она.
Мечтам Фленсбурга о важной роли при дворе его будущей жены не было конца. Он знал, что государь неравнодушен к красоте, что красивая, умная и ловкая женщина может вполне овладеть им. И часто адъютант Жоржа мечтал о том, как Петр Федорович, без ума влюбленный в Маргариту Фленсбург, передаст мужу своей возлюбленной все, что было когда-то в руках Минихов, Биронов и Остерманов.
Действительно, все, о чем мечтал Фленсбург, было очень и очень возможно в будущем. Для этого нужна была смерть графа Кирилла, а он уже был при последнем издыхании. Для этого нужна была любовь Маргариты, а она, по убеждению Фленсбурга, любила его несколько холодно, рассудочно, но все-таки настолько, что согласилась бы, овдовев, выйти за него замуж.
Государь уже раз видел Маргариту, был поражен ее красотой, собирался приказать ее представить государыне и себе, но затем, вероятно, забыл. Маргарита, по мужу, не имела права появляться при дворе, и теперь ей негде было видеть государя.
Маргарита, с своей стороны, не сомневалась насчет Фленсбурга и его тайных помыслов. Она догадалась чутким разумом кокетки и чутким сердцем женщины. Фленсбург ей не очень нравился, но кокетничала она с ним потому, что поняла, так же как и Гольц, какое значение может иметь в скором времени этот адъютант принца Жоржа.
Но он был беден и рассчитывал на ее сотни тысяч рублей, а у нее были только тысячи рублей долгов. Маргарита знала, что в самую решительную минуту, когда она будет вдовой и свободна, Фленсбург, узнав о ее средствах, может отказаться, а между тем она будет уже скомпрометирована в глазах многих, и особенно в глазах деда. В своих мечтах и думах Маргарита приходила к заключению, что за Фленсбурга можно выйти замуж только в том случае, если иное, более великое не дастся ей, ускользнет из ее рук, как несбыточная мечта. Покуда кокетка не выпускала из своих рук и как кошка играла с Фленсбургом, не отпуская от себя, чтобы не потерять совершенно, и не позволяя ничего, кроме клятв и уверений в любви.
Когда старик дед примирился с ней и просил покровительства за Орловых, Маргарите стоило, конечно, сказать только одно слово Фленсбургу. Он в полчаса времени без труда убедил Жоржа выпустить Орловых и тотчас привез Маргарите его приказ об освобождении братьев из-под ареста.
Все это было делом одного вечера, но на этот раз Фленсбург принес самую большую жертву своей возлюбленной. Он помог ей сам спасти двух человек, которых он ненавидел. И за это он, передавая ей приказ принца, потребовал вознаграждения, жертву за жертву.
Маргарита, в восторге от удачи, кокетливо и плутовато обещала все. Но когда Орловы были на свободе, когда она снова вернулась домой и стала думать о новых отношениях, в которые ей приходилось стать с Фленсбургом, то ее красивое личико нахмурилось. Целый вечер неподвижно просидела она, облокотясь обоими локтями на маленький столик, где лежали карты, бирюльки и шахматы.
Она спрашивала себя, любит ли она хоть немного этого шлезвигского дворянина, и в глубине сердца сказался ответ положительный и ясный: «Нет».
И не в первый раз уже сердце отвечало ей «нет». До своего замужества она никого не любила, а мужа любила три месяца… и на особый лад. Душа ее была тут ни при чем… Когда-то, до встречи с Скабронским, она была продана теткой за деньги старому некрасивому магнату-венгерцу. Через год смерть его освободила ее, и она, получив по завещанию довольно большую сумму, быстро прожила ее, ведя в Вене жизнь самую беспечную, веселую, пустую, но не распущенную и не безнравственную. Она все любила: и карты, и верховую езду, и охоту, и балы, и всякие зрелища; но при этом она никого не любила, никого не встретила, кого бы могла полюбить.
Молодой полурусский вельможа понравился ей слегка. Он явился в ту минуту, когда Маргарите захотелось пристроиться, выйти замуж, иметь деньги и титул. И она разочла, что граф Скабронский наиболее подходящая для этого личность. И его, в сущности, она сначала старалась полюбить душою, но напрасно. Каков может быть или должен быть тот человек, которому она отдастся и телом и душою, Маргарита все еще не знала… «Может быть, такого и на свете нет», – думалось ей иногда и становилось даже грустно.
Теперь, когда она вспомнила о своей поездке на ротный двор, об эффектной передаче приказа принца, в ее воображении мелькнула фигура юноши, почти ребенка. Он вдруг явился в ее воображении как живой.
Когда она увидала в окно кареты это молодое, чрезвычайно красивое, синеокое лицо, изумленное, пораженное, она узнала сразу спасенного ею в овраге юношу. Но в лице, в глазах его на этот раз оказалось что-то, коснувшееся и ее самой. Страсть юноши, бурно бушевавшая, огонь, вспыхнувший в нем, видно, заронил искру чего-то нового, еще незнакомого дотоле, в сердце кокетки. Неужели же она способна полюбить этого ребенка? Конечно, нет! Но в нем есть что-то, чего она не встречала еще.
Так или иначе, но образ этого юноши застилает в ее помыслах фигуру самодовольного Фленсбурга. От этого юноши, от его страстного взора будто пахнуло на нее весной. Чистое, хорошее чувство шевельнулось теперь в глубине ее сердца. Смерть мужа, овладение дедом, игра с Фленсбургом, наконец осуществление одной тайной, но почти невероятной мечты – это все само по себе, это одна сторона жизни, житейская, мелкая, низкая… он, этот юноша, само собой… Другая сторона жизни!.. Это иная, полная, чудная чаша, до которой она еще не касалась губами, а между тем хотела бы выпить такую чашу до дна!
VII
Фленсбург после своей жертвы, принесенной для графини, был уже у нее два раза, но она не приняла его под предлогом болезни.
Маргарита хотела отсрочить объяснение. Она раскаивалась теперь, что, увлекаясь желанием похвастать перед дедом своим значением, спасла совершенно посторонних людей и теперь очутилась в трудном положении относительно Фленсбурга. Он, очевидно, являлся за наградой.
Фленсбург, конечно, понял, что Маргарита не хворает, и написал красавице, что из крайней необходимости видеться с нею по крайне важному делу он убедительно просит принять его.
Маргарита поневоле отвечала согласием, но в ожидании его посещения стала придумывать, как избавиться и отсрочить их объяснение. Она взяла стул и села у окна, чтобы видеть, когда Фленсбург подъедет. Еще ничего не успела она придумать, когда к ней вошел спустившийся сверху доктор, лечивший мужа.
«Задержу его подоле у себя. При постороннем объяснение невозможно», – догадалась Маргарита и любезно встретила доктора.
Доктор Вурм, уже пожилой, лет пятидесяти, холостой, был еще человек бодрый и свежий, хотя с седой головой, но без единой морщинки на лице, с румянцем во всю щеку, а по движениям казался еще совершенно молодым человеком. Правильная до педантизма жизнь при помощи медицины, которую он знал хорошо, позволила ему до пятидесяти лет сохранить свежесть сил и наслаждаться как бы второю юностью.
Вурм пользовался известностью и уважением в столице, несмотря на действительно незавидное положение всякого доктора в стране, где за несколько десятков лет перед тем скоморохи, знахари и колдуны были во мнении народа одного поля ягоды и довольствовались почти одинаковым общественным положением. Вурм был первый доктор, который в Петербурге поставил себя на равную ногу с высшим обществом и придворным кругом, и, конечно, он был вдесятеро образованнее и благовоспитаннее многих сановников. Он лечил всю знать в Петербурге, лечил и покойную императрицу. Нажитое состояние позволило ему теперь иметь такую обстановку, при которой он окончательно сравнялся со многими дворянами средней руки. Вурм, с самого приезда Скабронских в Петербург, начал лечить Кирилла Петровича, но в то же время и ухаживал за красавицей Маргаритой.
– Ну, что же, доктор? Как? – выговорила Маргарита по-немецки, предлагая, быть может уже в тысячный раз, этот вопрос, касавшийся больного мужа.
Вурм давно знал, что этот вопрос красавицы не значил: «Что ж, не лучше ли?» – а значил, напротив: «Что ж, хуже ли, наконец?» И, как всегда, он пожал плечами, лукаво улыбаясь, и стал смотреть прямо в глаза молодой женщине, очевидно любуясь ею.
– Что ж вы молчите?
– Все то же, графиня, еле дышит. Надо ждать… скоро.
– Надо ждать! Да ведь вы мне это уже целую зиму повторяете. Ей-богу, мне уже…
И Маргарита запнулась и сердито отвернулась к окну.
Вурм, все так же усмехаясь, спокойно полез в карман, достал табакерку и протянул ее Маргарите:
– Не угодно ли?
Маргарита обернулась, взяла маленькую щепотку из протянутой к ней табакерки, но снова отвернулась к окну. Она соображала о том, чем задержать доктора, чтобы он своим присутствием помешал объяснению с Фленсбургом.
Вурм между тем взял стул, пододвинулся ближе к Маргарите и взял ее бесцеремонно за руку, под предлогом попробовать ее пульс.
– Все глупости, – выговорила кокетка, но руки не приняла.
– Нет, не глупости, а лихорадка. Пульс все неровен. Да и как быть ему ровным у двадцатилетней красавицы, полувдовы, упрямой, не хотящей одним словом изменить свое положение, сделаться свободной птичкой. Если существование графа продлится еще год, то бедная пташка совсем захиреет и сделается больна опаснее, чем он.
Все это выговорил Вурм почти шепотом, с усмешкой на губах и не спуская глаз с красивого профиля пациентки.
– Если бы это одно слово было легкое, – отозвалась Маргарита, – то я бы давно его сказала. Но на такое слово не только у меня не хватит храбрости, но и у вас не хватит мужества для исполнения…
– Попробуйте, испытайте, – серьезно шепнул Вурм.
– Испытать? Спасибо… Я знаю отлично, что вы можете сделать то, что делается по всей Европе, делается сплошь и рядом. Всякий медик может дать такого зелья, от которого больной отправится на тот свет, и никто не удивится и знать не будет. Особенно когда больной год умирает и все ждут. Но к чему брать преступление на душу? Зачем? Чтобы сделать свое положение невыносимее? Давайте говорить откровенно, доктор… Общее обоим преступление сделает меня на веки вечные вашей рабой. Преступление?! Затем чтобы вы знали за мною тайну! Могли бы делать со мной что угодно! Хотя бы даже заставить за себя выйти замуж. Нет, доктор, я не настолько глупа. Да авось он и сам скоро умрет.
Доктор перестал ухмыляться, медленно поднялся с места и взял шляпу и палку.
– Куда же вы? Я вас прошу остаться, сейчас приедет один гость; вы его знаете – Фленсбург. И мне бы хотелось, чтобы вы остались.
– Зачем? Чтобы помешать ему говорить с вами тоже откровенно? О чем-нибудь ином, конечно! – догадался тонкий медик, изучивший давно характер графини.
– Положим, что и так…
– Нет, извините, вы мне не дали права играть около вас роль верного пса, охраняющего вас от разных назойливых обожателей. Дайте мне его, и тогда другое дело, – выговорил Вурм с заметным оттенком досады и раздражения.
– Дать право? Какое?! Повелевать мною? – усмехнулась красавица.
– Честь имею кланяться вашему сиятельству, оставляя поле для господина Фленсбурга. Вот и он, легок на помине, – сказал Вурм, глянув в окно.
В эту минуту Фленсбург действительно подъехал к дому. Офицер и доктор встретились в прихожей, холодно поздоровались. Они чуяли, что хотя положение их совершенно разное, но тем не менее они соперники, и каждый невольно считал своего противника более счастливым, чем он. Вурм завидовал Фленсбургу и был убежден, что Маргарита, овдовев, выйдет за него замуж, если он сам не сумеет поймать ее в свою западню. Фленсбург, напротив, ревновал и смущался мыслью, что Маргарита позволяет ухаживать за собой пятидесятилетнему человеку, да вдобавок еще знахарю.
Когда Фленсбург двинулся в гостиную, Маргарита уже сидела на другом месте. Два стула, близко поставленные один около другого, остались у окна. Но Маргарита сообразила это слишком поздно, он уже вошел.
Когда она увидела подъехавшего Фленсбурга, то смутилась предстоящим объяснением; с тех пор прошло едва ли две минуты, а Фленсбурга встретила уже не смущенная женщина, а гневная и отчасти рассеянная. Эти быстрые переходы были отличительной чертой характера молодой женщины. Она оробела, когда он подъехал, затем рассердилась на собственную свою робость и спросила себя:
«Да какое же право имеет он смущать меня, не боявшуюся и не боящуюся никого? Что за важное дело исполнить женский каприз и освободить из-под ареста двух шалунов-офицеров? Ведь не грабителей и не убийц просила я освободить».
И вдруг, при мысли о грабителях, ей вспомнился случай в овраге. И юноша, спасенный ею, снова предстал перед ней… В ту минуту, когда Фленсбург входил в гостиную, гордо и важно подходил к ней и протягивал руку, Маргарита смотрела на него как бы сквозь фантазму, то есть сквозь рисовавшийся в ее воображении образ юноши. Лицо ее, вероятно, было чересчур задумчиво и рассеянно, потому что Фленсбург, опускаясь около нее в кресло, вымолвил по-немецки:
– Что с вами? Вы действительно нездоровы; я думал, вы отговариваетесь болезнью, чтобы не видеть меня и отсрочить уплату долга.
И вдруг Маргарита, сама не зная почему, оскорбилась и этими словами, и тоном голоса.
– Какой долг? Что вы хотите сказать? – сухо вымолвила она.
Фленсбург догадался, что молодая женщина просто не в духе, раздражена чем-нибудь или, наконец, действительно немного хворает. И он сообразил, что в настоящую минуту не надо раздражать капризного ребенка.
– То, что я хочу сказать, вы отлично понимаете, но если вы сегодня не расположены беседовать об этом, то отложим. Скажите, что он?
И Фленсбург поднял брови, как бы показывая на верхний этаж.
– Ничего, слава богу! Gott sei dank!
Фленсбург рассмеялся:
– Это прелестно! Вы славословите Господа за то, что он еще жив.
– Ну, что ж! – вспыхнула Маргарита. – Да, конечно. Его смерть не будет для меня несчастьем, но, во всяком случае, поставит меня в самое затруднительное положение среди целой кучи дерзких и незваных волокит.
– Э-э, да вы сегодня совсем нездоровы, – сухо выговорил Фленсбург и поднялся. – Хотите, давайте лучше молчать и играть в шахматы или бирюльки, может быть, у вас пройдет все. Прикажете, я принесу из той комнаты?
– Та комната – моя спальня.
– Я это знаю, но, кажется, память вам изменяет. Мы еще недавно играли в карты в этой новой спальне.
– Да, помню, и это дало вам право на дерзкие выходки, позволило вам что-то такое вообразить, зазнаться, как шестнадцатилетнему юноше, которому женщина дала поцеловать свою руку.
– Ну, вы совсем больны, вам надо лечиться, – выговорил Фленсбург уже слегка вспыльчиво. – Прикажете, я сейчас заеду к Вурму и пошлю опять его к вам. Вы побеседуете с ним немного; вот так, на этих стульях, может быть, все и пройдет.
Фленсбург, язвительно усмехаясь, показал на два стула, оставшиеся у окна.
Маргарита слегка зарумянилась, подняла голову, и красивые глаза ее блеснули ярче.
– Вот что значит так долго жить в ссылке, в маленьком городишке этой варварской земли, – произнесла она тихо, но резко. – Можно потерять благовоспитанность. Вы говорили мне часто о том, как петербургская молодежь, вроде Орловых, дерзка, груба, даже нахальна с женщинами. Я принимала цалмейстера Орлова в этой самой комнате и дрожала от страха, что он меня прибьет. Но, кроме самой утонченной вежливости, я ничего от него не видела. А шлезвигский дворянин, хотя, конечно, не из высшей знати, – усмехнулась Маргарита, – стал способен оскорблять женщину.
Фленсбург как-то странно дернул головой, смерил сидящую молодую женщину с головы до пят и выговорил тоже тихо:
– Не спорю, может быть, высшее чешское дворянство, к которому вы по рождению имеете честь принадлежать, более благовоспитанно, чем шлезвигское мелкое дворянство.
Маргарита быстро встала и молча двинулась к дверям спальни, но вдруг она обернулась и, сделав медленный грациозный реверанс, со злобной усмешкой на лице вымолвила почти надменно:
– Я, господин офицер, все-таки по мужу графиня Скабронская… которая просит теперь выйти отсюда и более здесь не появляться… будущего кабинет-министра или регента Российской империи.
И графиня скрылась за дверью своей спальни.
VIII
Эти слова как бы ошеломили Фленсбурга. Свои честолюбивые мечты он не высказывал никогда никому и думал, что никто тайны его не только не знает, но и предполагать не может. Он встрепенулся весь от намека Маргариты. Первая забота его была о том, чтобы вспомнить, не сказал ли он когда-либо ей самой какое-нибудь неосторожное слово, которое могло дать ключ к разгадке его сокровенной тайны. Но память верно подсказывала, что нет. Фленсбург был слишком умен, дальновиден и осторожен на словах, как и на деле, чтобы сделать подобную мальчишескую ошибку.
В ту минуту, когда дверь захлопнулась за хозяйкой дома, ему пришлось, конечно, уехать. Но расстаться, поссориться окончательно и не видаться с Маргаритой ему было невозможно, а при таких обстоятельствах даже опасно.
На другой же день Фленсбург снова явился к графине и, без доклада войдя к ней, рассмеялся, сел в кресло и указал хозяйке на другое. Маргарита, одумавшаяся за сутки, тоже усмехнулась.
– Довольно шутить, – заговорил Фленсбург. – Простите меня, если вчера, найдя вас не в духе, я, вместо того чтобы успокоить, стал дразнить. Сядьте. У меня действительно есть до вас дело, если не важное, то очень любопытное. Сядьте же, ведь я уже попросил прощения.
Маргарита почти рада была такому обороту беседы и молча тотчас села.
– Один сановник, нерусский, – начал Фленсбург, улыбаясь, – но тем не менее очень важное лицо, конечно, более важное, чем теперь Разумовский или Воронцов, просит чести с вами познакомиться, просит позволения приехать к вам. Это – прусский посланник, барон Гольц.
Маргарита подняла на Фленсбурга изумленные глаза.
– Да, не удивляйтесь, Гольц хочет с вами познакомиться. Разумеется, он так же, как и мы все, грешные, тотчас же влюбится в вас, начнет ухаживать, и тогда, – улыбнулся Фленсбург, – мелким шлезвигским дворянам и подавно надо будет отступить и обратиться в постыдное бегство. Но он просит меня об этом знакомстве, и я не имею никакого права отказать ввести сюда нового соперника. Итак, позволите ли вы привезти его?
– Это не может быть вопросом… но я не понимаю, зачем я ему нужна.
Фленсбург пожал плечами:
– Он любимец короля, прислан сюда для крайне важного дела и поэтому не ограничивается тем, что желает понравиться государю и всем сановникам. Он желает понравиться всему обществу, желает в числе самых умных членов петербургского общества найти себе, так сказать, помощников в своем деле.
Маргарита снова удивленным взором посмотрела на Фленсбурга.
– Дело Гольца – заключение выгодного мира и крепкого союза. Это ни для кого не тайна.
– Что ж я при этом?
Фленсбург снова пожал плечами:
– Я не знаю, графиня. Но вы жили в Версале и знаете, какая роль выпадает иногда на долю молодой женщины-красавицы и что она может сделать, когда властвуют и могущественны разные глупые и влюбчивые люди.
– Но в Петербурге таких нет, – отозвалась Маргарита, – или мало… И я их не знаю!..
Фленсбург не отвечал. Наступило краткое красноречивое молчание, и затем офицер поднялся с места.
– Мое дело – выполнить поручение или просьбу… Ну-с, надеюсь, что наша вчерашняя маленькая ссора была шутка и не будет иметь никаких последствий. Не правда ли? – выговорил он неуверенно и протягивая руку.
– Это будет зависеть не от меня, а от вас, – произнесла кокетливо Маргарита. – Возьмите пример с господина Орлова, то есть обращайтесь так же с женщинами, как он, и тогда ничего подобного не повторится.
Фленсбург невольно рассмеялся.
– Wunderbar![45] Я буду учиться благовоспитанности у казарменного и трактирного буяна, который, быть может, никогда не умывается и ест руками. Это прелестно! Спасибо, что, по крайней мере, рассмешили на прощание. А все-таки, графиня, такой глупости, какую вы заставили меня сделать, я в другой раз для вас не сделаю. Принц всякий день повторяет, что он от меня не ожидал подобной выходки. Я два месяца следил за ними и советовал принцу их выслать из столицы, подозревая за ними нечто большее, чем трактирное буйство и шалости. А затем я же попросил принца их выпустить. Кроме того, я должен вам сказать, что государю известно, кто подъезжал к ротному двору и кто отдал приказание. И принцу и государю это показалось неуместным. Государь знает, что я просил принца, что вы просили меня, что вас просили Орловы, и если вы будете у него на дурном счету, то вина не моя. Когда позволите мне снова быть у вас? – кончил Фленсбург, наклоняясь.
Маргарита стояла, смущенная его словами.
– Ах, право, не знаю, – выговорила она вдруг и закрыла лицо руками. – Все это глупо, такое ребячество! Я чувствую, что делаюсь все глупее всякий день! До свидания, я вам дам знать. – И Маргарита быстрым движением открыла вспыхнувшее лицо и протянула ему обе руки.
Фленсбург выронил на пол свою шляпу, взял обе так мило и ребячески протянутые руки и стал целовать их.
– Да! Вы ребенок, капризный ребенок, – вымолвил он, и, снова выпрямившись, он тихо потянул ее за руки, потом взял их в одну руку, а свободная рука его скользнула вокруг бюста молодой женщины. Лицо его, слегка смущенное, близилось к ее лицу. – Маргарита! – шепотом произнес он с оттенком вопроса в голосе.
Но графиня вдруг отступила на шаг, слегка оттолкнула его и вымолвила:
– Нет. В этом доме есть умирающий. Пускай он умрет, тогда… увидим.
– Но это каприз, – тихо выговорил Фленсбург.
– Нет. Да, наконец, кроме того… – Маргарита запнулась, потом вдруг весело рассмеялась, отняла руки и вымолвила: – Прежде выучитесь безгласному повиновению. Я всегда ненавидела людей с характером, всегда любила овечек в мужском образе. Если любите, то переродитесь, а главное, – снова весело рассмеялась она, – главное, господин бывший ссыльный, вспомните уроки, полученные на родине, и снова станьте вежливы с дамами.
Фленсбург постоял несколько минут молча, потом, увидя свою шляпу на полу, поднял ее и наконец произнес:
– Все то же, всегда, везде. Кокетство и глупая игра. Насколько я отношусь искренне, настолько вы шутите. Скажите мне, наконец, серьезно, в последний раз: когда этот, там, умрет – выскажетесь вы? Или эта игра будет продолжаться и после его смерти?
– Да! Тогда я выскажусь! – таким странным голосом ответила Маргарита, что совершенно нельзя было понять, шутит она, или говорит серьезно, или, наконец, умышленно отвечает двусмысленностью.
Фленсбург нетерпеливо пожал плечами и, выговорив сухо: «До свидания», вышел из горницы.
– Какая чепуха! – произнесла тихо Маргарита ему вслед. – Dumm! Dumm! Dumm!..[46] И все вы таковы.
Она простояла несколько минут, не двигаясь с места и озабоченная новой мыслью. Она искала сравнения и, вдруг найдя его, громко рассмеялась.
– Да, похож! Удивительно похож!.. – воскликнула она.
В эту минуту в гостиную влетела Лотхен, как всегда улыбающаяся и веселая.
– Я думала, он никогда не уедет! – затараторила немка. – И посмотрите, что значит провести столько часов с возлюбленным! У вас сияющее лицо, счастливые глаза, райская улыбка!..
– Лотхен, – смеясь, выговорила графиня, – скажи мне, как по-твоему, на что похож лицом господин Фленсбург? Не правда ли… это датский бульдог?
Лотхен замерла на месте, как пораженная громом.
– Так он не был вашим… – заговорила Лотхен и запнулась.
– Любовником? – рассмеялась Маргарита. – Говори прямо.
– Ну да, он не был никогда?
– Никогда.
– И не будет?
– Не будет.
– Ах, Grдfin, liebe Grдfin! – запрыгала на месте Лотхен. – Ах, как я счастлива! Но кто ж тогда будет? – воскликнула она снова. – Дедушка?
– Да, Лотхен, но с условием: ты мне покажешь пример. Я после тебя…
И обе женщины начали так громко хохотать, что больной, дремавший наверху, проснулся, открыл глаза и тяжело вздохнул.
Этот постоянный хохот внизу, которым его будто провожали ежедневно на тот свет, действовал на него теперь невыносимо больно и уже раза два вызывал на глаза его слезы.
IX
Шепелев сам не знал, что с ним делается за последнее время. Он переменился, похудел и побледнел.
Болезнь его, однако, состояла только в том, что он и день и ночь напролет думал о графине Скабронской. Разумеется, он смутно понимал, что влюблен со всем пылом страсти своих двадцати лет, хотя и сознавал, как бессмысленно, глупо, даже дерзко влюбиться в такую блестящую красавицу из высшего столичного круга. Между ним, рядовым, и ею была целая пропасть.
Юноша, только что поступивший в ряды гвардии, был почти без всяких средств благодаря разорившемуся отцу и без всякой протекции благодаря неожиданной смерти Шувалова, на покровительство которого надеялась его мать, снаряжая сына на службу.
Шепелев был настолько образован и благовоспитан, насколько мог быть юноша из старой дворянской семьи, слегка захудалой, но еще недавно пользовавшейся большими средствами. До появления в Петербурге он жил с матерью в Калуге. Лето проходило в большой и красивой усадьбе с большим количеством дворни, исполнявшей все прихоти барича, так как он был единственное и возлюбленное чадо барыни-вдовы. Зимы проводились в городе Калуге, где все общество было или дальней родней, или друзьями из рода в род. У матери было много приятельниц, и благодаря ее вдовству общество, собиравшееся у нее зимой и гостившее у нее летом в вотчине, было исключительно женское. Все это были тетушки, двоюродные сестры, племянницы и, наконец, приятельницы. Совершенно случайно маленький Митя, с тех пор как помнил себя, был постоянно окружен женщинами всех лет и возрастов, и все они равно баловали его.
Вследствие этого в юношеские года оказалась одна странность в его характере. Женщина – старуха ли, молодая ли девушка – была для него свой брат, и он никогда не стеснялся, не смущался и не робел никакой барыни. Напротив того, не только сорокалетний сановник, но всякий даже молодой человек, появлявшийся в доме матери или встречаемый где-либо, ставил его в неловкое положение. Как юноша, выросший в обществе мужчин, конфузится обыкновенно перед какой-нибудь светской кокеткой, случайно оставшись с ней наедине, так Шепелев конфузился всякой мужской компании, в которую случайно попадал.
До прибытия в Петербург юноша не знал, что такое быть влюбленным, именно потому, что слишком много было вокруг него всякого рода молодых девушек и женщин и на всех них он глядел как на товарищей. И наоборот, один молодой офицер, заехавший на побывку в Калугу, блестящий петербургский гвардеец, обошедшийся с юношей очень ласково, победил его сердце. Шепелев плакал, когда офицер уехал, и в нем осталось к нему такое чувство, которое похоже было на первую любовь.
Поселившись теперь у незнакомого человека, считавшегося дядей, в сущности грубого, хотя доброго и сердечного человека, Шепелев чувствовал себя так же неловко в этой обстановке солдат и офицеров, как другой юноша, выпорхнувший из-под крылышка матери, чувствовал бы себя среди сотни блестящих светских красавиц. Мужская среда не была его средой, и он тяготился ею.
Каким образом и почему красивая незнакомка, спасшая его в овраге, могла так быстро завладеть его разумом и всем его существом, он сам не знал. Правда, она красавица. Но ведь он не сказал с ней и трех слов! Да и мало ли видал он красавиц!
Аким Акимыч беспокоился, руками разводил, видя перемену в племяннике, и, не понимая, что с ним делается, заставлял юношу несколько раз пить липовый цвет и обтираться французской водкой с уксусом и с хреном.
Шепелев, чтобы отвязаться от приставаний дяди, проделывал все это, печально усмехаясь и думая:
«Да, кабы через французскую водку, хрен да через липовый цвет можно было познакомиться с этой графиней Скабронской, так я бы, пожалуй, несколько бочек выпил».
И действительно, мысль о том, чтобы познакомиться с блестящей красавицей, не покидала его ни на минуту. Другой не решился бы никогда и подумать об этом; другому показалось бы оно нелепым и невозможным. Но юноша, выросший среди всяких женщин, не смущался. Он не боялся, что не будет знать, что сказать этой красавице и как вести себя.
Через несколько дней Шепелев надумался, что надо как можно более заводить знакомств в Петербурге, начав с офицеров полка и их семейств. Тогда где-нибудь да удастся повстречать графиню. И он начал знакомиться. Благодаря своей красивой внешности и, главное, какой-то женственной грации, утонченной вежливости и скромности, последствий женского воспитания и женской среды, он был принят повсюду ласково и охотно.
Но, как нарочно, все семейства, в которых появлялся он, не были знакомы с графиней Скабронской. У одной из петербургских львиц она бывала часто, но это была знаменитая Апраксина, приятельница того же Орлова, а познакомиться ближе с Орловым он не мог. Дядя Квасов и слышать об этом не хотел, за его короткий визит к ним он целую неделю бранил и попрекал племянника.
– Нешто это компания для тебя? – говорил Аким Акимыч. – Орловы картежники, буяны, головорезы. Не ныне завтра они в остроге будут.
Чувствуя, что он один не добьется ничего, Шепелев, видаясь часто с Державиным, единственным своим приятелем, решился искренне признаться ему во всем.
Такой же юноша, как и он, Державин давно заметил, что ученик стал плохо учиться по-немецки, рассеян и печален, задумчив и бледен. Но Шепелев в своем приятеле не нашел никакой поддержки. Державин отнесся к исповеди приятеля хладнокровно.
Жизнь Державина была совершенно иная. Он бился как рыба об лед. Солдатки перестали заказывать ему свои писули и грамотки, и ему снова пришлось, как простому рядовому, без протекции, исполнять разные тяжелые работы; снова пришлось браться за метлу и лопату, участвовать в тех партиях, которые назначались копать по городу и очищать дворы сановников.
Когда Шепелев явился однажды в каморку своего друга снова плакаться о своей судьбе, то нашел Державина сидящим на своем сундучке с головой, опущенной на руки.
– Что ты? Или голова болит? – спросил Шепелев.
– Да, есть малость, но это не лих. А лих вот что – сломает меня эта жизнь. Не знал я, что, надев эту амуницию, попаду в дворники. Сегодня опять восемь часов Фонтанку копали. Спину не разогнешь, руки и ноги – как деревянные, болит все везде.
Действительно, за это время Державин тоже слегка похудел, но по причинам, совершенно противоположным, нежели Шепелев.
– Надо это дело устроить, – выговорил Шепелев. – Позволь, я попрошу моего дядю. Мало ли тут солдат, можно тебя избавить от гоньбы и работы.
Державин почему-то очень не любил Квасова и, конечно, за глаза и не при Шепелеве, называл его «мужик-вахлак» и именем, данным ему ротою: «наш леший».
– Нет, Дмитрий Дмитриевич, не надо. Авось малое время протяну, а там еще что бог даст. Вот что. Коли ты мне доверился прошлый раз, то и я в долгу не останусь и скажу тебе о моем тайном и сокровенном намерении. Я в голштинцы перехожу.
Державин, знавший, в каком общем презрении у всех и какую ненависть возбуждает во всех потешное войско государя, ожидал, что приятель придет в ужас. Но Шепелев, недавно сам приехавший в столицу и занятый сначала воинскими артикулами, а теперь своей красавицей, отнесся к делу иначе.
– Ну что ж, – вымолвил он, – хорошее дело, ты по-немецки лучше немца знаешь. Только ведь голштинцы все пьяницы и буяны, да и, сказывают, они не любят русских, которые к ним поступают.
Державин передал Шепелеву, в каком положении находится его дело. Старый знакомый, пастор Гельтергоф, обещался каждый день приглашать его к себе, чтобы познакомить с кем-нибудь из ротмейстеров голштинского войска. Переход его после этого из преображенцев в голштинцы мог состояться очень легко.
Кроме того, у него был другой выход – знакомство с Фленсбургом, но, к несчастью, он уже два раза был у адъютанта принца, но не застал его.
– Ну что ж, все обстоит благополучно, – вымолвил Шепелев. – Это не то что мое дело! Мне хоть помирай!..
– Отчего? – воскликнул Державин.
– Да ведь знаешь отчего, – выговорил Шепелев, потупляясь.
– Ах, эта красотка-то, графиня-то? Эх, брат, вот то-то и есть! – вздохнул Державин и закачал укоризненно головой. – Вот оно что! Всегда так-то. И теперь, да и прежде, в Казани, замечал я завсегда, как ваш брат барчонок, сытый, обутый, одетый, блажит и уродничает. Не сердись на меня, голубчик. Я тебя люблю, а все ж скажу: с жиру ты бесишься. Просторная у тебя горница у дяди, стол готовый, на работу не ходишь, на часы тебя тоже ставят раз в неделю, да и то в особые места, к принцу или какому фельдмаршалу. Вот ты от нечего делать и выискал себе горе! А вот, к примеру, поломал бы ты спину да руки на Фонтанке, как я, так у тебя графиня-то эта выскочила бы живо из головы. Нет, брат, уж тут не до сновидений, как спину-то в постели разогнуть не можешь и спишь как мертвый благодаря этой дворницкой экзерциции. Что там твои прусские артикулы, вот наши дворницкие артикулы с метлой в руках… будут помудренее фридриховских.
Шепелев в душе искренне согласился с приятелем, чувствовал, что он прав. Ему стало стыдно, и он поспешил уйти.
Однако первой его заботой было переговорить с дядей, который легко мог облегчить судьбу рядового Державина.
Но едва только Шепелев заикнулся о своем приятеле, как Аким Акимыч начал браниться:
– И не говори ты мне про этого хвастунишку, дрянь, выскочку. Все у него дураки и невежи. Сам он, вишь, все рыло в пуху, а уже все науки превзошел! И пером, и карандашом, руками и ногами писать и рисовать умеет. Все у него неучи. Ну вот пускай мужицким делом и занимается.
Шепелев стал было просить дядю, но Квасов и слушать не хотел.
– Ни-ни. Ты, порося, ничего не смыслишь. Кого ж гонять, коли не эдаких? Чем же солдаты хуже его, а орудуют и лопаткой и метелкой. Нет, голубчик, это у тебя дворянская кровь говорит, а во мне мужицкая. Ты этого не забывай.
– Дело не в том, дядюшка… – заикнулся было Шепелев.
– Да, не в этом, – перебил его Красов резко и, понюхав табаку с присвистом, прибавил: – Главное дело в том, что подлец мальчишка. Ух какой подлец! И к тому еще выскочка! Видел ты, как он подъезжал в тот раз к колбасникам-то нашим? И откудова взялся, из земли вырос! Как бес перед заутреней, вокруг Фленсбурга увивался да рассыпался мелким бисером. Нет уж, брат, кто по-немецки так чесать языком умеет, из того пути не будет. Ни-ни-ни… Не будет!! А коли ему у нас тяжело, пускай в голштинское войско переходит. Там его за немецкий хриплюн сейчас в капралы произведут.
– Коли загоняете работой, так, пожалуй, и уйдет! – сердито вымолвил Шепелев.
– Ну, уж тогда он мне не попадайся в голштинском-то мундире, – закричал Квасов. – Убью его из собственных рук. Был у нас в полку этот срам, перешел уже в голштинцы твой нареченный зятек, Тюфякин, да то совсем другое дело. Тот приятель приятеля приятельницы. А если молодежь начнет бегать из российских полков да делаться голштинцами, так это и свету конец. – И, помолчав, Квасов прибавил ласковее: – А ты вот что, порося, брось-ка этого казанского немца, что казанскую сироту из себя корчит. Не ходи к нему. Этот тоже тебе не товарищ, почитай, даже хуже Орловых. Те головорезы, но народ крепкий, все-таки российские парни. Вон Державин-то перед немцем лебезит да ползает, а Орловы, какие ни на есть окаянные буяны, и все-таки, правду скажу, они немца бьют. Дай им волю, они его совсем искоренили бы. Ну и дай им Бог за одно это здоровья и талан.
Квасов помолчал и, нюхнув снова, выговорил:
– Ты, порося, из-под маменьки, из гнездышка выпорхнул… Ты не знаешь, что такое немец. А я знаю… Вот много ведь на российском языке бранных слов… А эдакого слова, чтобы немца достойно обозвать, – нету!.. Вот тебе Христос Бог – нету! Еще не выдумано!!
X
Иоанн Иоаннович был изумлен «финтом» своей внучки, то есть успешным заступничеством за Орловых. Вдобавок старик не знал, каким образом удалось Маргарите выхлопотать их прощение. Старик много размышлял, но не мог догадаться, где и в ком сила внучки. Во всяком случае, он счел нужным исполнить обещание и перевел на ее имя одну вотчину.
«Есть ходы при новом дворе! – думал он. – Стало быть, надо к этой цыганке в дружбу войти. Вот и не плюй в колодезь. А ведь я уж наплевал».
Кроме того, последняя беседа его с молодой женщиной не выходила у него из головы. Холостяк и брюзга поверил выдумке красавицы, что она в близких отношениях с каким-то стариком. Подобных примеров в столице за последнее время было без числа. Один из первых вельмож, покойный Петр Иванович Шувалов, подавал собой пример придворным Елизаветы, и его отношения к молодой красавице Апраксиной были известны всему городу. Старик Трубецкой, полицмейстер Корф, Теплов и много старых сановников, приятелей Иоанна Иоанновича, были и теперь зазорными примерами. Графиня Кейзерлинг у генерала Корфа и красивая хохлушка Олеся Квитко у Теплова – предметы их страсти, попечений и больших расходов – были известны всей столице. Хохлушка была даже принята в доме Разумовских, а «Козырьлиншу» знала в лицо и боялась вся полиция гораздо больше, чем самого полицмейстера.
Именно одного из богатых приятелей сенаторов Скабронский даже заподозрил теперь в сношениях с красивой внучкой, так как Маргарита была с ним знакома давно.
«Да. Вот лих… Внучка! – подумал, наконец, старик. – Хотя и не родная, не настоящая, не дочка сына родного, а так себе, сбоку припека, жаром вздуло. А все внучка…»
И старый холостяк задумывался довольно часто об этих двух внезапных открытиях: о значении внучки при дворе и старике, ее приятеле.
– Как же это я прозевал! – воскликнул он однажды, перестав уже доказывать себе, что Маргарита ему внучка. – С самого ее приезда дурачился, к себе не пускал, сам не ездил. Все, вишь, за свои карманы опасался… А черт ли в деньгах? Умрешь, все так останется! Монахам да холопам пойдет… Старый ты тетерев, – досадливо кончал Иоанн Иоаннович, злясь уже на себя. – Право, тетерев! Токуешь на суку и не видишь ничего кругом.
Маргарита после освобождения Орловых к деду не поехала, а послала только сказать человека, что просьба графа-деда исполнена.
«И знать не хочет! – подумал старик. – Востра цыганка! Нечего делать, поеду сам благодарить ее цыганское сиятельство».
Но на первый раз Иоанн Иоаннович не застал внучку дома и вернулся домой совсем не в духе. Вообще дворня графа заметила, что барин стал придирчивее, ворчливее и будто нравом неспокоен.
В тот день, когда Фленсбург насильно заставил графиню себя принять, старик тоже собрался к ней.
В ту минуту, когда Маргарита и Лотхен звонко хохотали, шутя насчет дедушки, он входил на крыльцо дома.
Люди графини, понимавшие отлично значение участившихся посещений графа-деда к молодой барыне, его единственной наследнице, стали с особенным усердием и предупредительностью кидаться навстречу к его карете и наперерыв спешили высаживать старика и вводить по ступеням…
– Легче! Легче! – ворчал граф по привычке всегда бранить прислугу. – Эдак крымцы только в полон запорожцев берут. Того гляди, ноги мне переломаете. Дома, что ль, барыня?
– Дома-с.
– А Кирилл Петрович дома аль уж выехал на тот свет? – угрюмо и серьезно вымолвил Скабронский, снимая шубу, и на утвердительный ответ лакея прибавил: – Дурни! Говорят: да-с. А что – да-с? Помер? Ну, пошли вы, докладай.
Но Маргарита стояла уже на пороге прихожей и, любезно улыбаясь, выговорила:
– Милости просим.
– А, хозяюшка. Ну что хозяин?
– Ничего, все то же.
– Надо будет потом проведать и его, полюбоваться, как себя отхватывают заграничным житьем.
– А я собиралась к вам сейчас.
– Не лги! Не собиралась! – усмехнулся Иоанн Иоаннович, входя. – Ну, здравствуй, внучка-лисонька. Дай себя облобызать за ребят Орловых. Спасибо тебе.
Маргарита, внутренне смеясь, подставила лицо под губы старика. Нагибаться ей не приходилось, так как головой своей она была ему по плечо.
– Я очень рада, дедушка, что могла вам в пустяках услужить.
– Какие это пустяки! Тебе разве?.. Ну, сядем. Вертушку эту прогони, – показал Иоанн Иоаннович, тыча пальцем на Лотхен. – Ишь ведь егоза! – воскликнул он, садясь на диван, и, подняв свою толстую трость, погрозился на субретку: – Ох, я бы тебя пробрал. Будь ты моя, бил бы трижды на день. Какая бы стала у меня шелковая.
– Я бы умерла с первого раза от такой палки! – выговорила Лотхен, дерзко заглядывая в глаза старика.
– Да, от такой палки можно… – рассмеялась Маргарита.
– Тот раз вы меня тут толкнули так, что у меня до сих пор грудь болит! – лукаво произнесла немка.
– Ах, мои матушки! Жалость какая! – пропищал Скабронский, будто бы передразнивая голос Лотхен. – Ну, убирайся в свой шесток, курляндская стрекоза!
Лотхен, смеясь и переглядываясь с барыней, выскочила вон.
– Ишь ведь хвостом машет. По себе выискала и горничную. Вся в тебя: верченая, – заговорил Иоанн Иоаннович. – Порох-девка. Поди, небось у нее обожателей стая целая, а?
Маргарита рассмеялась.
– Да ведь и у тебя стая… Кроме энтого, небось есть… Энтого старого, что денег дает на прожиток?
– Денег дает? Кто? – изумилась Маргарита.
Иоанн Иоаннович объяснился резче.
Маргарита, давно забывшая выдумку про старика, в которого будто влюблена, раскрыла широко глаза:
– Какой старик? Что вы, дедушка?
– Так ты это надысь наплела? – воскликнул Скабронский странным голосом. – Все выдумки? Ах ты, плут-баба!
Маргарита смутилась и не знала, что сказать, что выгоднее, что нужнее.
– Да, выдумка, но не совсем. Это все должно решиться на днях… но я… видите ли… Много нового с тех пор. И я не знаю еще… что будет.
Скабронский замолчал, не спуская глаз с внучки, и наконец, будто решаясь на что-то, выговорил резко:
– Денег тебе надо?
– Денег? Н-нет! Зачем…
– Дать тебе денег? – говорю я.
– Зачем? У меня есть.
– Ну, вотчину подарить доходную?
– Нет, зачем! Я не управлюсь.
– Ой, подарить! – подмигивал дед.
– Да нет, не надо.
– Нет. Ну ладно. А я вот привез. Гляди.
Старик вынул из кармана огромную сложенную бумагу и передал внучке:
– На. Вот мы как! Бери! Да покажи мне потом: вы как? – лукаво и загадочно выговорил Иоанн Иоаннович.
Маргарита взяла, развернула бумагу, но не поняла в ней ни слова.
– Что это такое?
– Это дарственная. По сей грамоте – ты владетельница вотчины в триста душ, кои я тебе обещал. Будешь с них теперь иметь оброку более тысячи рублей и до двух.
Заставив себе подробно все объяснить и рассказать, Маргарита поглядела старику в лицо добродушно, но печально и затем вздохнула, опустив глаза на бумагу.
Это было сыграно, и очень искусно.
«Начинается игра в кошку и мышку, – подумала она, внутренне смеясь. – Игра в умную и молодую кошку со старой и глупой крысой… Давно я ждала этого».
Маргарита взяла бумагу за два края и быстрым движением разорвала ее на четыре части.
– Что ты, что? – ахнул Скабронский.
– Уничтожаю то, что для меня обидно…
Изорвав бумагу на мелкие клочки, она бросила их на пол и быстрым движением пересела на диван, где сидел старик.
Взяв его за обе руки и наклонясь лицом к его лицу, она быстро заговорила, ласково глядя ему в глаза:
– Вы добрый, хороший… Но скажите… Вы думаете, деньги… Деньги! Деньги! Неужели все на свете от денег зависит? Вы вот богаты, мы разорены. Муж умрет – мне еще хуже будет, но я не горюю. Я сейчас найду мужа, какого пожелаю. И у меня будет опять большое состояние, если я захочу… Но я не того хочу, не того… Не того я хочу!.. – И голос Маргариты перешел в шепот и стал дрожать. – Знаете ли вы, чего я хочу?
– Ну, ну… – смущался Иоанн Иоаннович и от голоса красавицы внучки, и от близости странно воодушевленного красивого лица.
– Я хочу быть любимой. Любви я хочу. Я этого еще не знавала. Да! Ни разу, никогда. Муж меня не любил… Вы знаете, какую жизнь он вел всегда. Я была сотая женщина в его жизни. Он на меня смотрел так же, как и на всех своих прежних наложниц.
И Маргарита, все более воодушевляясь, заговорила, как будто не видя старика, как бы забывшись и рассуждая сама с собой… быстро, страстно, порывисто:
– Мне все равно, кто он будет. Нищий, незнатный, старый… уродливый даже, преступный, даже разбойник. Мне все равно… Но тот, который меня полюбит, как я этого хочу… за того я душу отдам, хоть на смерть пойду… И это будет так. Скоро будет. Как он умрет – я найду этого человека!
И красавица вдруг вскинула руки на плечи старика и прильнула лицом к нему на грудь. Скабронский ахнул, двинулся… Но в ту же секунду Маргарита быстро встала, отошла к окну и, повернувшись спиной к деду, прислонилась лбом к холодному стеклу. Это было ей необходимо, потому что она боялась за свое лицо, боялась, что рассмеется и выдаст себя и свою игру.
Старик сидел не шелохнувшись на диване как пришибленный. Ему все еще, как в тумане, чудилась она в его объятиях. Вместе с тем он глядел на клочья изорванной бумаги.
«Блажит? Комедиантка! Недаром цыганка, – говорила в нем его природная подозрительность и дальновидность. Но клочки казенной бумаги будто спорили с ним и сбивали его с толку. Изорвала ведь… Не взяла… Триста душ!»
И через минуту старик думал:
«Тебя никто не водил за нос за всю жизнь… Ну а много ты от этого выиграл? Сидишь вот один у себя в хоромах на сундуках с червонцами да бережешь, как пес, чужое добро. Да, чужое! Не себе собрал. Монахам да хамам своим собрал. Подохнешь, они за твой счет поликуют на свете. А бриллианты? На двадцать тысяч одних бриллиантов накопил, когда жену себе искал. И они лежат зря! И они на иконы пойдут!..»
Прошло еще несколько мгновений. Иоанн Иоаннович поглядел на внучку и подавил в себе глубокий вздох. Маргарита слышала его, однако все так же стояла у окна, не двигаясь, не оборачиваясь и припав лицом к стеклу.
«Если б ей-то… такой красивой, да все бы эти бриллианты нацепить на себя?! Диво! А что, если все… Ей все отдать, – вдруг сказал он себе мысленно то, что давно уже будто копошилось на сердце старика. – В последние свои годы дьявола кой-как потешить! Отдать! Хоть бы даже и за обман. Пусть водит меня за нос. Я ведь буду от того не в убытке».
И Скабронский вдруг воскликнул, как бы спеша выговорить:
– Маргаритка, иди сюда… Слушай меня, что я скажу. Да ведь ты умница! Нечего тебе сказывать! И так все поймешь. Поди же. Сядь сюда! Слушай! Когда я собирался жениться, то скупал четыре года… Да иди же… Сядь!
Маргарита обернулась и подошла с опущенной головой и со сложенными на груди руками. Лицо ее было чересчур сурово и мрачно.
– Я не сяду… Нет. Оставьте меня. Уезжайте! Уезжайте! – глухо выговорила она вдруг. – Лотхен! Лотхен! – вскрикнула она.
– Что ты? – изумился Скабронский.
– Безумная… Я не знаю, что я делаю… Но так жить нельзя. Ведь я вдова… Я даже не вдова, а хуже… Вдова свободная, а я нет… Я не ребенок и не старуха… Я жить хочу. Поймите! Поймите! А как выйти из этого положения! Как? – горячо говорила Маргарита, наступая на Иоанна Иоанновича. – Любовник! Взять его немудрено. А если он меня обесславит!.. А вся эта столичная молодежь – хвастуны… Я не хочу иметь прозвище женщины, которая дурно ведет себя… А как найти и где найти человека, который бы сохранил тайну… Ах, дедушка, зачем вы мне не чужой… Зачем вы… Что я?! Я с ума схожу… Я сама не знаю, что говорю!
Маргарита вдруг схватилась руками за голову и выбежала из горницы в ту горницу, где была ее временная спальня. И слова, и голос, и лицо, и движения – все дышало искренностью.
Старик поднялся задумчивый, смущенный… и стал искать по всей горнице шляпу свою, которая была уже на голове его. Через несколько минут Иоанн Иоаннович отъезжал от дому, конечно не повидавшись с больным внуком.
А горничная была уже у графини и, разинув рот от внимания, слушала рассказ ее.
– Ведь поверил… поверил?.. А ведь он хитрый, умный. Он, Лотхен, очень хитрый, а поверил! Что значит человеческое самолюбие! – закончила речь графиня.
И кокетка изумлялась и себе, и старому деду…
– Ну и я тоже искусная актриса. Я даже не ожидала от себя… Ну а все-таки я боюсь… – прибавила она, помолчав.
– Чего? – рассмеялась Лотхен.
– Не хватит умения довести до конца! Или боюсь… дорого обойдется! Я не шучу, Лотхен, – прибавила графиня задумчиво.
Лотхен перестала смеяться и развела руками.
– Что ж тут делать? – сказала она тихо. – Зато деньги. И какие деньги? Куча! Кучи червонцев!!
XI
В доме Тюфякиных, стоявшем вдали от городской суеты, среди пустырей и сугробов, было всегда мирно и тихо, но теперь стало точно мертво. В обыкновенное время у них бывали гости, но теперь, вследствие Великого поста и, наконец, приближавшихся дней Страстной недели, считалось совершенно неприличным и даже греховным ездить в гости. Но если было тихо и мирно в доме сирот княжон Тюфякиных, то не было мира и тишины на сердце как у старой опекунши, так и у двух княжон. За последнее время случилось что-то странное, и никто не знал даже, как назвать случившееся. Все три обитательницы были печальны, и каждая поглощена своей заботой и своим горем. При этом все три молчали, так как у всех трех было тайное горе, которым поделиться было нельзя.
Тетка-опекунша с неделю назад через приятельницу узнала нечто, поразившее ее и смутившее до глубины души. Она узнала, что Настя с самой Масленицы обманывала ее и, уезжая с «киргизом», не бывала вовсе в гостях, а с ним наедине сидела в его квартире.
Это было невероятно и необъяснимо! Какое удовольствие могла находить Настя просиживать дни или вечера у своего сводного брата, вместо того чтобы веселиться на вечеринках? Гарина невольно оробела и думать боялась о том, что назойливо лезло ей в голову.
«Сводить у себя в квартире! И с кем?!» – думала она поневоле.
В такие для нее великие дни поста и молитвы Гарина сидела по целым часам молча в своем кресле и думала, что делать, с чего начать. Она боялась даже приступить к допросу Насти.
Младшая княжна, со своей стороны, часто ловила теперь на себе косой и подозрительный взгляд тетки-опекунши и иногда отворачивалась, иногда же, будто вдруг вспыхивая, но не от стыда, а от гнева, упорным взглядом встречала взгляд тетки-опекунши. И Пелагея Михайловна по этому взгляду догадывалась, что на днях им предстоит помериться силами.
Наконец совесть начала мучить старую девицу. Она упрекала себя в том, что не выгнала совсем из дома «киргиза», позволила себя провести за нос и сама виной той беды, которая чудится ей.
Настя перед Страстной перестала выезжать, потому что князь Глеб не являлся, и стала сумрачна, иногда печальна, иногда раздражительна и привязывалась ко всякому пустяку, чтобы только повздорить с теткой, а в особенности с сестрой.
Княжна Василек была всех грустней, но грусть ее была кроткая, почти робкая. И без того несловоохотливая, не болтунья, теперь Василек почти рта не раскрывала. Так как все хозяйство в доме лежало на ней, то, встав до восхода солнца, Василек целый день хлопотала и в доме, и во дворе, и в службах. Раза два или три в день она надевала теплый капор, кацавейку и выбегала взглянуть в кухню, в погреб, коровник, даже конюшню. Часто вся пунцовая от долгого стояния перед печью в кухне, она выбегала прямо на мороз, потому что кто-нибудь из людей приходил и звал ее ради какого-нибудь пустяка.
К этому прибавились теперь службы церковные. По два раза в день Василек старалась избавиться от домашних хлопот и успокоиться на минуту в храме от дрязг домашних, а главное, забыться в молитве от того странного чувства, которое теперь завладело всем ее существом.
Из головы ее ни на минуту не выходила мысль – где и что сестрин жених, Дмитрий Дмитриевич? Что делает этот юноша и почему уже давно не был у них? Она узнала нечто, подослав тихонько лакея в квартиру Квасова, что немного утешило ее, она узнала, что Шепелев немножко хворает.
«Стало быть, через хворость свою не бывал у нас, – утешала она себя, – а не от какой другой причины».
Тем не менее она давным-давно не видела его, не беседовала с ним, и вдруг, к ее собственному ужасу, на душе ее ощутилась какая-то страшная пустота. Все, что хотя немного занимало ее прежде, теперь опостылело ей. Во всем их доме был только один предмет, или, скорее, одно существо, к которому с каким-то странным чувством, почти любви, относилась Василек. Предмет ее нежного внимания был тот петух, который когда-то сломал себе ногу и которого они перевязывали вместе с Шепелевым.
Василек думала иногда, что у нее ум за разум заходит, потому что ей казалось, что этот глупый петушок ей дороже сестры и тетки. Принуждена она была убедиться в этом довольно просто.
Однажды утром Гарина, не спавшая всю ночь от своей новой тревоги, в которой боялась признаться даже себе самой, почувствовала себя довольно плохо и осталась, против обыкновения, на два лишних часа в постели.
Василек тихо и молча принесла тетке к ее утреннему чаю меду и варенья, заменявших ради поста сливки. Она решила посидеть около хворающей Пелагеи Михайловны. Она уже поставила было стул около кровати тетки, но случайно выглянула в полузамерзшую раму окна и вдруг ахнула. Опрометью бросилась она бежать по коридору и по лестнице на крыльцо и, несмотря на мороз, выскочила в одном платье на двор.
Она увидела, что ее любимец, или, как звала она, «его петушок», бегал на своей хромой ноге по двору, преследуемый какою-то чужой забеглой собакой. Прогнать собаку и передать его на руки птичницы было нетрудно, но затем Василек, смущенная, вернулась в дом. Сердце ее билось отчасти оттого, что она пробежалась, но отчасти и от того чувства, которое она испытала. Идя по коридору к хворающей тетке, она вдруг остановилась и, круто завернув, вошла в свою горницу. Заперев за собой дверь, она села на маленький диванчик, прижала ладони рук к пылавшему лицу и вдруг заплакала, сама не зная отчего.
Она давно хотя смутно сознавала, что именно с ней делается, но постоянно повторяла себе:
– Нешто это можно?!
Слова эти относились к тому чувству, которое давно сказалось в ней к красивому юноше и которое удвоилось за его последнее отсутствие.
Когда это чувство чересчур ясно сказывалось на душе Василька, то она вскакивала в испуге, даже в ужасе и крестилась, говоря:
– Спаси, Господи! Спаси! Не допусти!
Василек открещивалась и молилась, как если бы ясное сознание этого чувства было сознанием приближающегося несчастья, смертельной болезни или потери любимого существа. Она будто чуяла, что когда это чувство совсем, вопреки ее воле, подползет к ней и захватит ее, то овладеет ею так, что спасения никакого уже не будет. Надо будет выбирать один из двух исходов: или смерть, или то, что невозможно, что от нее не зависит. Разве он может полюбить ее и жениться на ней вместо Насти?! Да и кто ж, не только он, женится на ней, изуродованной ужасной болезнью?!
И в доме Тюфякиных было томительно тихо и тяжело. Даже люди под влиянием настроения своих господ тоже глядели как-то сумрачно. Конца, однако, не виделось, потому что ни одна из трех обитательниц не решалась и не знала, как прервать это тяжелое положение и вызвать объяснение. Случалось, что тетка и обе княжны садились за стол, сидели около часа и вставали, не сказав друг другу ни слова, или же сдержанно и через силу беседовали о таких пустяках, которые никого из трех не интересовали.
Только однажды вечером Василек, увидя Настю в темном углу гостиной, давно сидевшую с головой, опущенной на руки, не совладала с сердечным порывом и, подойдя к сестре, опустилась перед ней на колени.
Настя вздрогнула, слегка вскрикнула и, оглядевшись, оттолкнула сестру.
– Ах какая ты… дура! – воскликнула Настя. – Перепугала меня насмерть.
– Что с тобой, Настенька? – кротко спросила Василек. – Не теперь, а вот уже давно… ты не по себе, ведь я вижу. Скажи мне, что с тобой?
Настя вдруг выпрямилась, поднялась с кресла и, презрительно глянув на старшую сестру, оставшуюся на коленях перед пустым креслом, вымолвила насмешливо:
– А с тобой что? Ты-то по себе?! Я хоть, по крайней мере, знаю, что со мной, а ты и не знаешь. У меня хоть забота настоящая, а у тебя что? Петушок ваш другую ногу, что ли, сломал, а энтот любезный знахарь не идет?
Василек ахнула, оперлась рукой на пол и осталась так, в полулежачем положении. Сердце ее замерло как от удара. Она никому ни разу не сказала, даже не намекнула о том, что сама себе боялась назвать, и эти последние слова, брошенные ей в лицо сестрой, заставили ее содрогнуться. Она поднялась с пола, тихо вышла из горницы и только к вечеру оправилась, утешив себя, что сестра, намекая на Шепелева, не хотела ничего сказать особенного.
Наступила Страстная. В понедельник утром к подъезду дома подали колымагу Тюфякиных с цугом сытых красивых лошадей, чтобы ехать в церковь, начинать говение.
В то же время княжна Настасья вошла в спальню к одевавшейся тетке и объявила ей, что она говеть не будет.
Пелагея Михайловна раскрыла рот от изумления и переменилась в лице. Немного постояв молча и не глядя на племянницу, она ступила два шага и опустилась в кресло.
– Ну, не говей, – глухо отозвалась она.
Насте только того и нужно было, она повернулась и вышла вон. В коридоре навстречу ей попалась сестра. Она была уже одета и, завидя Настю, как всегда тихо и кротко, обратилась к ней с вопросом:
– Что ж ты, Настенька? Пора.
– Я не поеду, – холодно отозвалась Настя.
– Как, отчего? Нездоровится?
– Нет, я говеть не буду.
Василек тихо ахнула, так же как и тетка. И под мгновенным наплывом какого-то странного чувства стыда и ужаса Василек взяла себя за щеки обеими руками, наклонилась к сестре и выговорила:
– Настенька!
В этом одном имени сестры, в этом одном слове сказалось так много, что сама Василек не разочла сразу все глубокое значение этого слова. Если б она узнала теперь, что сестра украла или убила кого-нибудь, то, вероятно, она произнесла бы это слово «Настенька» тем же голосом, с оттенком того же ужаса и стыда за сестру.
– Да что ж это! – с горечью воскликнула Василек через мгновение.
Но Настя движением руки отстранила сестру с дороги, прошла мимо и, войдя в свою дверь, щелкнула замком.
Василек, перепуганная, быстро вошла к тетке. Пелагея Михайловна сидела в том же кресле с той минуты, как вышла Настя. Она не двигалась и будто забыла даже о предполагавшемся выезде в церковь. Заслышав шаги и увидя вошедшую любимицу, невольно двинулась и выговорила:
– Что такое? Что еще?
Она думала, судя по тревожному и изменившемуся лицу любимицы, что новое что-нибудь случилось в доме.
– Настя не будет… не хочет… – начала Василек, но будто побоялась и вымолвить последнее слово.
– Говеть не будет, – выговорила Гарина и смолкла. И снова опустила она голову и стала глядеть на пол.
Василек неподвижно стояла на пороге у растворенной двери.
– Да, – пробурчала Пелагея Михайловна, – Господь Бог – не мы, грешные! Нас обманывать можно, а Господа убоялась. Спасибо, хоть страх Господень остался, коли совесть-то уж потеряла.
Василек бросилась к тетке, стала перед ней на колени, схватила ее за руки и воскликнула:
– Что вы, тетушка! Что вы говорите! Бог с вами, разве можно, что вы! Какой обман! Она ни в чем не повинна. Она только замышляет что-то. Пожалуй, даже и нехорошее, но надо ее усовестить.
– Замышляет! – выговорила Гарина. – А что? Ну, будь по-твоему, замышляет; но знаешь ли ты, что замышляет?
– Нет, тетушка, не знаю.
– Не лги, Василек.
Княжна улыбнулась, несмотря на тревогу сердца:
– Да разве я лгу, тетушка, я и не умею. Не знаю. Что-нибудь там у Гудовичевых или у Воронцовой. Может, замуж хочет за какого голштинца и опасается сказаться.
Пелагея Михайловна взяла Василька обеими руками за голову, поцеловала ее в лоб, потом приложилась щекой к гладко причесанной головке своей любимицы, и слезы показались на глазах крепкой сердцем опекунши.
– Ты моя голубица, чистая сердцем и помыслами. Блажени кротции, сказано нам. Да неужто же Господь не наградит тебя в этом мире? – И, помолчав, она прибавила: – Ну, ну, что ж мы, того и гляди, реветь учнем, как сущие бабы. Тут ревом не поможешь.
И вдруг она преобразилась, лицо ее стало мрачно и гневно. Она порывистым движением схватила свой капор, отороченный мехом, надела его на голову и так затянула ленты под подбородком, что ей стало даже душно.
– Ну, поедем, помолимся и о себе, и о других, – сердито произнесла она. – Может, Господь все уладит. А может быть, у меня ум за разум зашел. Может быть, я в сновидениях своих разума решилась.
Через несколько минут Гарина и Василек были уже в колымаге и легкой рысью съезжали со двора по направлению к церкви. Ни разу дорогой не перемолвились они, только подъезжая к паперти, Василек тихо произнесла не то тетке, не то себе самой:
– Ах, как же говеть-то при такой смуте!
Тетка, очевидно, не слыхала слов княжны. С тем же гневным лицом вышла она на паперть и пошла по церкви за лакеем, раздвигавшим толпу.
Княжна Василек отстала от тетки и, затертая толпой, медленно подвигалась, как-то робко озираясь кругом на иконы, лампады и свечи. В первый раз в жизни входила она в храм Божий с таким смятением в душе, с таким лицом, такой неуверенной и робкой поступью, будто великий грех совершила. Василек сомневалась: достойна ли она войти в храм, начать говеть, может ли она забыть, хотя бы на мгновение, свою смуту в горячей молитве.
«Забыть его?! Ведь хочется молиться именно о нем… Так как же забыть?»
И Василек, робея, боролась сама с собой…
А в то же время Настя сидела дома и писала брату:
«У меня нету даже одного червонца, не только сотни. Достань взаймы, а потом отдашь из моих денег. С тетушкой не говорила еще об этом нашем дураке-солдате. Лучше ты сам обо всем переговори с ней, ты лучше скажешь…»
Письмо было довольно длинное, и все дело шло о деньгах и о Шепелеве. Про деньги она писала, что не решается просить у тетки, но с Шепелевым соглашается венчаться хоть тотчас, если брат считает это необходимым.
XII
Во всем XVIII столетии нельзя найти принца королевской крови, который был бы такой игрушкой в руках судьбы, какою был герцог Петр Ульрих Голштейн-Готторпский, впоследствии Петр III на русском престоле. Немец по отцу, русский по матери, он был, в сущности, не немец и не русский.
Мать его, Анна Петровна, умерла тотчас после его рождения, и с первых же дней жизни положение ребенка стало исключительно и странно. Он явился на свет внуком двух великих исторических личностей, внуком двух заклятых и знаменитых врагов – Петра Великого и Карла XII, и в то же время считался наследником крошечного герцогства. При этом воспитание принца было плохое. Средства герцога-отца были скудные, он был столь беден, что маленький принц зачастую ходил в худом белье и поношенном платье. А между тем волею судьбы он вскоре оказался единственным законным наследником престолов – шведского и русского. Со смертью Ульрики в Швеции и Анны в России он мог быть призван на царство…
Но Ульрика еще при жизни отказалась от престола в пользу своего мужа, Фридриха I, принца из кассельского дома, ненавидевшего голштейнский дом.
Вследствие этого первые десять лет жизни принц Петр-Ульрих был православного вероисповедания, так как все надежды возлагались на Россию, грек-монах был его учителем, и наиболее внимания обращалось на русский язык. Вскоре отец его умер, и он остался под опекой регента и дяди епископа Любекского.
Но вдруг по смерти в России Анны Иоанновны и вступлении на престол шестимесячного императора Иоанна русский престол перешел окончательно в линию сына царя Алексея Михайловича, малоумного Иоанна V. Принц Петр Ульрих, внук другого сына Алексея Михайловича, многоумного Петра I, казалось, навсегда потерял права на русский престол… Но одновременно с Анной Иоанновной умирает и Ульрика, прося царствовавшего мужа Фридриха I, у которого не было наследника престола, вызвать и усыновить Петра Ульриха.
Когда снова явилось более надежды на получение шведского престола, одиннадцатилетнего мальчика окрестили снова, и он сделался протестантом евангелического толка. Русский язык был брошен, его усердно начали учить по-шведски. Но сам мальчик относился равно холодно к обеим верам, к обоим языкам и к обеим странам. Он обожал только все, касавшееся до военной выправки, оружия, фехтования, и все, что – солдатчина. Отец его был только истый солдат и по-своему вел сына. Теперь дядя-епископ ломал природу его на свой лад, замучивал латынью, астрономией и музыкой, но посеянное отцом запало глубоко, и принц не сделался ученым и сделался только хорошим скрипачом.
Самым счастливым днем в его памяти был тот, когда отец однажды в день его рождения поставил его на часах в столовой и затем во время обеда объявил ему, что он за выслугу лет производится в офицерский чин секунд-лейтенанта и более на часах становиться не будет. Эта домашняя комедия, игра в чины и в солдатики при крошечном дворе, существовавшем на медные гроши, навсегда пристрастила герцога к солдатчине во всех ее видах.
Но именно в ту минуту, когда российский престол считался утерянным, и навсегда, провозглашением младенца Иоанна Брауншвейгского, а принц перешел в лютеранство, пришло известие, что младенца свергла с престола родная тетка маленького герцога. И вот опять все надежды на Россию! И вскоре же явилось посольство, не только приглашавшее, но требовавшее мальчика от имени императрицы Елизаветы ради того, чтобы объявить его в России наследником.
Регент-дядя, епископ и опекун, с удовольствием тайно отпустил племянника в Россию, так как вместе с этим вступал в его права как герцога Голштинского и наследника шведского престола. Вдобавок Елизавета за уступку мальчика России обещала вооруженной рукой поддержать дядю в его правах на шведскую корону.
Пятого февраля 1742 года, за пять дней до дня своего рождения, в который ему должно было минуть четырнадцать лет, маленький герцог въехал в Москву и при коронации императрицы был объявлен наследником престола. Снова начались уроки уже не шведского, а опять русского языка, хотя с приобщением к православию почему-то медлили.
Но через восемь месяцев Фридрих I капризно и настойчиво пожелал иметь наследником не епископа Любекского, которому было тридцать лет, а четырнадцатилетнего племянника Петра Ульриха, увезенного обманом в Россию.
Другое посольство явилось уже не в Голштинию, а в Россию, чтобы требовать мальчика у его тетки. Императрица, извещенная о посольстве за несколько дней до приезда послов, поспешила окрестить мальчика снова и приобщить к православию, в котором он уже был прежде. Таким образом, в третий раз заставили мальчика переменить веру. Посольству было, конечно, отказано и указано на епископа Любекского, его дядю. Казалось, что судьба смеется над малородным, худым, бледным, совершенно болезненным ребенком, которому на вид казалось не четырнадцать лет, а скорее – десять, заставляя две сильные державы спорить из-за него, требуя на свой престол. Опоздай Елизавета выписать к себе племянника всего несколько месяцев, и голштинский принц был бы шведским королем. И судьба его была бы, конечно, совершенно иная.
Шведское посольство, не достигнувшее своей цели в Москве, уехало. Наследником поневоле был сделан епископ и герцог Голштинский и спустя восемь лет после этого занял шведский престол под именем Фридриха-Адольфа. А бедно одаренный природой и изуродованный воспитанием, больной и тщедушный мальчик остался наследником русского престола, чтобы со временем процарствовать только шесть месяцев.
При Петре Федоровиче состоял по-прежнему приехавший из Гоштинии его воспитатель Брюммер, который так странно понимал свою обязанность и так себя вел с питомцем, что явилось даже подозрение об умышленном, с его стороны, желании исковеркать природу наследника русского престола. Петр Федорович глубоко и сильно ненавидел Брюммера, и первыми друзьями его были двое слуг, тоже немцы. Но дружба эта повела к тому, что один из двоих, камер-лакей Румберг, был спустя два года без суда и огласки сослан в Сибирь. И только императрица, сам Петр, Брюммер да двое или трое лиц знали, за что ссылается этот Румберг. Великий князь много и долго сожалел о любимце. Спустя два года появилась в России и юная принцесса цербстская. Через год еще болезненный юноша, на вид ребенок, стал мужем. За это время, в продолжение только двух лет, он три раза был отчаянно болен и при смерти.
Когда наследник престола был обвенчан, то его воспитатель Брюммер был удален. Но оригинальная система воспитания, отчасти и природные свойства дали свои плоды. Наследник был самый странный молодой человек: не немец, но и не русский; не умен, но и не глуп и положительно остроумен, ядовит в насмешке и шутке, не добрый, часто жестокий, но, в сущности, не злой, чувствительный, с безумными вспышками гнева и в то же время с порывами искренней задушевности и сердечности. Императрица относилась к нему поневоле крайне строго и при всем желании любить его не могла. Часто проявлялись в племяннике такие черты, которые смущали ее, приводили в отчаяние, отталкивали и беспокоили за его будущность… и будущность России. Некоторые недостатки появлялись как-то временно, как болезнь, и проходили. Одно время он сделался хвастлив, лгал и выдумывал постоянно, и это доходило до таких размеров, что начинали опасаться, в своем ли он разуме. Одно время он клялся и уверял, что был произведен в полковники своим отцом за то, что, командуя голштинским войском, отличился в сражении против датчан, которых победил. Всем было известно, что даже ни этой войны, ни чего-либо подобного никогда в его жизни не было. Иногда также временно и болезненно нападала на него жестокость, он искал жертв, заводил своры собак и нещадно сек их или, наконец, выдумывал такие игры, в которых мог большим бичом бить свою прислугу. Однажды он до смерти засек свою любимую собаку и переранил всех остальных. Наконец, в другой раз наставил мышеловок у себя в горницах, и так как деревянный полугнилой дворец изобиловал мышами и крысами, то он быстро наловил их кучу. И явилась новая любимая забава: поймать большую крысу, устроить виселицу, потом прочитать приговор, замечательно остроумно написанный, где исчислялись все ее государственные преступления, а затем, повесив ее на шнурке, с барабанным боем маршировать кругом «преступника».
Ко всему этому одновременно с его женитьбой примешались две слабости. Он стал влюбляться и ухаживать поочередно за всеми обитательницами дворца, перейдя от самой красивой фрейлины Кар до самой некрасивой, и кончил тем, что влюбился серьезно в баронессу Черкасову, дочь сосланного Бирона, которая была не только крайне дурна собой, но и горбата. Вместе с этим он начал все более любить крепкие напитки, вредно действовавшие на его здоровье, и тайно от государыни завел в горницах своих целые шкафы, переполненные всякого рода иностранными винами.
Наконец, когда ему было уже за тридцать лет и когда он в течение двадцати лет жизни в России не завел себе ни единого друга, а нажил много врагов, – он стал императором.
В день Рождества Христова, в минуту захода солнца, закатилось и российское солнце, «дщерь Петрова», царствование которой считалось современниками исключительно славным и великим, и никто, конечно, не мог себе представить, что когда-либо на Руси появится другая женщина, способная затмить ее великие и славные деяния.
Генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой в четыре часа пополудни вышел из опочивальни императрицы и объявил придворным о ее кончине. Весь дворец и многие палаты сановников и вельмож огласились совершенно искренними рыданиями.
«Что будет?» – явился вопрос и угрозой отдавался на сердце у всякого.
Петр Федорович, стоявший у постели тетки вместе с супругой, как только увидел, что государыня испустила последнее дыхание, тотчас же отдал первый свой приказ:
– Выстроиться гвардии на Дворцовой площади!
Покуда женщины над теплым трупом совершали разные древние и языческие обряды, Петр Федорович уж в темноте объехал верхом ряды полков, принимая опрометчиво от них первых, прежде сената и синода, поздравление с вступлением на императорский прародительский престол.
Затем со следующего же дня явились государственные заботы. Главными, стоявшими первыми на очереди, были: замена однообразного мундира гвардии бесчисленными мундирами нового образца всевозможных колеров; затем окончательная и скорейшая отделка нового дворца и третья, самая серьезная забота – прекратить войну с другом, королем Фридрихом II.
В первые месяцы царствования нового императора многие его враги должны были поневоле примириться с ним. Несколько действительно умных людей, призванных им к кормилу правления, поняли, что прежде всего надо привлечь к себе любовь всех сословий. И нежданно явились две крупные государственные меры, от которых возликовали все, – «вольность дворянства», то есть позволение не служить тому, кто не хочет, и свободно проживать где вздумается, в своем ли имении или за границей; а затем уничтожение страшилища, от которого почти тридцать лет трепетал всякий православный, – уничтожение Тайной канцелярии «слова и дела», целого легиона тайной добровольной армии доносчиков. Но это были первые и последние меры, от которых возликовала Россия.
Когда Петр Федорович в первый раз по воцарении явился в синоде, то известный, всеми современниками уважаемый бывший профессор Киевской академии Сеченов, первоприсутствующий член синода, встретил государя речью горячей и медоточивой. Он сравнивал восшествие его на престол с рождеством Спасителя мира!.. А когда шесть месяцев спустя такою же речью встречал он Екатерину, то был тоже искренен, и был прав! Надежды были у всех, но были обмануты!..
С первых дней правления Петр Федорович начал новую деятельную жизнь. Все шутки и игры были брошены; ежедневно вставал он в шесть часов утра и требовал, чтобы в семь, еще до рассвета, все министры, флигель- и генерал-адъютанты и ближайшие царедворцы были уже у него для доклада и получения приказаний. Во все входил он сам, и доклад длился часто до одиннадцати часов. Но как бы в награду за этот утренний труд, с одиннадцати ежедневно, несмотря ни на какую погоду, начинались занятия с петербургским войском – учения, смотры и парады.
Прошло три месяца царствования, и Россия узнала, чего ей ожидать… Некоторые государственные меры были глубоко законны, правдивы и спасительны, но были приняты как кара Господня. Явилась отписка и отнятие вотчин и рабов у всех монастырей – и все духовенство, с тем же Сеченовым во главе, подняло отчаянный и громкий ропот. Явилось учреждение государственной конторы, которая должна была выпустить вместо серебра и золота бумажные билетики, с тем что эти клочки бумаги будут называть деньгами и всякий будет обязан их брать под страхом строжайшего наказания, – и уже все сословия роптали в ужасе и недоумении. Но затем узнали, что ввиду государственной пользы снова будет восстановлена смертная казнь – и это многих обрадовало.
«Покойная императрица дала обет, решаясь на переворот и арест Брауншвейгской фамилии, что она отменит смертную казнь, но ведь она уже отцарствовала, – рассуждали сановники, – стало быть, ее обету срок вышел. Надо взять примером Петра Великого и устроить суды и казнь по его образцу!»
Затем гвардия вознегодовала в свой черед, так как стали ходить слухи, что она будет уничтожена, а останется один лейб-кирасирский полк, все же остальные полки будут сравнены с полевыми командами, будут переводиться с места на место по всей России, и только некоторые из них по очереди будут стоять годичным постоем в столице.
Наконец, будет заключен дружеский, крепкий мир с немцами, вековыми врагами… и вечными!..
XIII
В субботу шестого апреля, уже вечером, когда в Петербурге, за исключением чужеземцев, все, от вельможи до простолюдина, от мала до велика, готовились к великой заутрени Светлого, светлейшего праздника, когда самые ленивые отдыхали перед долгим предстоящим стоянием, а богомольные не выходили даже с сумерек из церкви, – в старом дворце императрица, окруженная немногими близкими людьми, тоже собиралась в Казанскую церковь к первой заутрене нового царствования.
Она была печальна, бледна и задумчива. Мысль, что, быть может, следующую заутреню она встретит в платье инокини в каком-нибудь дальнем монастыре, не покидала ее ни на минуту.
В то же время в новый дворец, по расчищенной чернью площади, перевозились собственные вещи государя. Комнаты его в старом дворце уже наполовину опустели, а в новом он сам устраивался и раскладывался. Принц Жорж помогал ему, как мог и умел, то есть, по слабости, больше советами, а не действиями.
Прискакавший курьер доложил государю перед полуночью, что Казанский храм полон и все ожидают его.
– Пускай начинают. Видишь, тут что! – фамильярно показал государь на свои горницы, переполненные нерасставленным и неразложенным добром.
В ту минуту, когда государь заспорил с Жоржем, на какой стене развешать бесчисленное оружие, явился снова другой курьер.
– Чего там?
– Заутреня на половине.
– Ах, господи! Как надоели! Сейчас!
Не успел государь обернуться, устроить свой кабинет хоть немножко, как по городу начался шум, стук экипажей и гул народный…
– Что такое?
Православные из храмов Божьих по домам уж идут! И среди ночи, но уже с бледной зарей на востоке, все встречные прохожие обнимаются и целуются троекратно, – и на площади, и у подъезда дворца, и в самом дворце! Все, из-за дела и работы во дворце не попавшие в храм, жалеют, что не могли перекрестить лба в великий день, и вдруг, заслышав шум на улице, начинают тоже по всем коридорам и горницам целоваться. И всякий лезет, и друг к другу, и враг к врагу, и мальчуган к старику, и хворая бабушка к усатому солдату. Все равно сходятся, обнимаются, целуются… И слышится и старая, и новая, и вечная весть:
– Христос воскресе!
Стоит у окна кабинета государя принц Жорж и дивится! Смотрит он в лорнет на улицу и охает, даже головой качает. Слыхал он про это и ожидал, а все-таки ьberaus wunderlich и даже sehr dumm[47] выходит.
Вот идет какой-то сизый тулуп и тащит что-то тяжелое, повстречал бабу, кладет тяжелую ношу на землю… и целуются.
– О! – восклицает принц Жорж и улыбается.
Вот едет порожний извозчик, встретил солдата, слез с козел, будто за каким необходимым делом, и, бросив лошадь, идет к солдату… и целуются!
– О-о! – восклицает Жорж и смеется.
Едет большая колымага цугом, встретила маленькую берлинку раззолоченную. Двое вельмож в мундирах и орденах, в разных храмах встретив праздник, теперь повстречались среди площади!
– Стой!
И оба лезут вон, на улицу, и среди двух остановленных экипажей… целуются.
– О-о-о! – восклицает Жорж и уж даже не смеется, а стыдится за вельмож. Наводя лорнет на них, он восклицает уж так громко, что государь бросает любимую картину, которую собирался повесить, изображавшую голову борзой собаки, ставит ее на пол и с трубкой в зубах оборачивается к окну.
– Was?[48] – изумляется он и идет к дяде, обдавая его лиловым клубом кнастера.
– Merkwьrdig![49] – говорит принц и объясняет, в чем дело.
Государь рассмеялся:
– Да это всегда так! Это такой обычай древний. Еврейского происхождения!
– Еврейского! – изумляется принц. Но он верит на слово своему племяннику…
Однако пора было отдохнуть. Принц Жорж уехал к себе, государь лег спать.
Через несколько часов, в полдень, вся площадь была покрыта экипажами и верховыми лошадьми, и весь Петербург, знатный и богатый, толпился во дворце, поздравляя государя. Но на этот раз торжественный прием Светлого воскресенья вышел чем-то другим… вышел, по замечанию многих сановников, «машкерадом».
В Светлое воскресенье было приказано всем полкам и всем должностям в первый раз надеть новые мундиры. И всех цветов костюмы, от ясно-голубого и желтого до ярко-пунцового и лилового, с бесчисленным количеством галунов, шитья и аксельбантов заменил собой одноцветный, общий всей гвардии, темно-синий. Прежний покрой тоже исчез, длинных фалд не было, и все, от фельдмаршала до сержанта, явились куцыми, будто окургуженными.
И в горницах дворца то и дело раздавалось:
– О господи, вот чуден-то! Это кто ж будет?
– Кирасир.
– Гляди, гляди, а это кто?
– Да это Трубецкой, Никита Юрьич…
– Батюшки-светы, не признал. Да в чем же он?
– Преображенцем.
– Матерь Божья! Ну а белые-то, белые?
– Это по флоту!
– А энтот весь в золотых веревочках, в постромках, будто пристяжная! Голубчик, да ведь это полицмейстер Корф! Никого не признаешь. Ну, машкерад!
И вместо христианского приветствия, христосования, во всех покоях дворца ходило новое приветствие:
– Машкерад, родимый! Воистину машкерад!
И весь день во дворце толклись кучи народа до обеда, потом все пообедали за огромными столами и остались до ужина.
И за этот день были две интересные новости. Елизавета Романовна Воронцова явилась в Екатерининской ленте и звезде, а при выходе шла рядом, даже почти на четверть впереди, с государыней Екатериной Алексеевной. Воронцова, закинув голову, с бессмысленно важной усмешкой на красноватом опухшем лице, с заплывшими жиром глазками, молча и глупо оглядывала толпы теснящихся при ее проходе придворных. Государыня Екатерина Алексеевна прошла все горницы, понурившись и не поднимая глаз и от обиды, и от стыда…
Другая новость была смешнее и любопытнее. По приезде принца Жоржа в Россию государь приказал всем посланникам явиться к нему, не дожидаясь его визита. Никто из них не поехал, кроме прусского посланника. Теперь государь приказал, через канцлера Воронцова, всем иностранным резидентам из дворца ехать тотчас же с поздравлением к Жоржу, принимавшему у себя после большого приема. Поехал прусский посланник Гольц и хитрая, румяно-рыжая особа, посланник гордого Альбиона, Кейт. Остальные послы и иностранные министры опять не поехали.
Государю даже побоялись в первый день праздника и доложить об этом. На его вопрос уже вечером, за ужином, были ли у принца Жоржа послы, Жорж покраснел как рак и отвечал:
– Были.
Почти до рассвета шло во дворце ликование за ужином. Многие сановники, вернувшись по домам зело во хмелю, через силу кое-как расцепились с своими новыми мундирами и амуницией.
– И трезвому мудрено сразу привыкнуть ко всем веревочкам, бирюлькам, постромкам и цацам, – ворчал фельдмаршал Трубецкой у себя в опочивальне, – а уж во хмелю и совсем… аминь! Что тебе гишпанская запряжка!
– Ну что, родимый, каков тебе кажет твой новый мундир? – спросил граф Алексей Разумовский брата своего, гетмана.
– Да что, батя, – отвечал гетман старшему брату, – прелюбопытно! Перетянули всего, связали по рукам, по ногам, и по горлу, и по спине. Да гремит, стучит, хлобыщет все. И вот, ей-ей, сдается, будто тебя на цепь посадили! Хочешь двинуться – громыхает да звенит все! Хочешь слово молвить, а от громыхания этого голоса своего не узнаешь. И сдается тебе, будто и впрямь скачешь да лаешь, как пес на цепи.
– Знаешь что, голубчик, как горю пособить?
– Как?
– Помирать… Ей-ей, пора! А то еще козой оденут и плясать заставят с медведем…
– Ну что ж. И попляшем! Не важность… Ведь недолго…
– Что? Плясать-то недолго… Ну, Кириллушка, это бабьи сказки.
– Нету, батя, погляди… Будет перемена погоды и вёдро!
– Кто ее сделает?!
– Не мы!..
XIV
На другой день после торжественного приема во дворце государь поднялся довольно поздно, угрюмый и с сильной головной болью. Любимый его слуга негр, по имени Нарцисс, напомнил ему, что головная боль проходила у него несколько раз после двух или трех кружек английского портера.
Петр Федорович тотчас же приказал себе подать портеру, и через час времени головная боль прошла, и он повеселел.
Оглядевшись в своем кабинете, он с удовольствием заметил, что почти все было на местах. Некоторые вещи, которые он не успел сам пристроить, устроил умный Нарцисс, хорошо знавший его привычки. Покуда во дворце пировали, обедали и ужинали, Нарцисс все до мелочей привел в порядок и в спальне, и в кабинете; даже любимой собаке государевой Мопсе он придумал отличное место в углу за шкафом с книгами и нотами.
Обстановка кабинета государя была довольно простая, но можно было подумать, что это кабинет какого-нибудь прусского, довольно богатого генерала, так как все мелочи, даже некоторые гравюры и картинки на стенах, – все говорило о Германии. Несколько акварельных видов города Киль занимали одну стену; на другой были развешаны в два ряда портреты нескольких предков в иноземных мундирах. Целая стена была занята оружием холодным и огнестрельным, и коллекция эта была действительно замечательна. На самом видном месте висели рядом два портрета двух дедов государя. Эти два человека, два врага при жизни, нарисованные вполоборота, теперь совершенно случайно у внука на стене повернулись друг к другу спиной и смотрели в разные стороны. Эти два портрета, два деда государя, были – Петр Великий и Карл XII.
Под портретами стояла большая турецкая софа, обставленная столиками, сплошь покрытыми коробками с разным табаком и с кнастером, тут же лежало бесчисленное множество всякого рода глиняных трубочек и больших фарфоровых трубок с кривыми чубуками. Несмотря на недавний переезд во вновь отделанный дворец, кабинет государя уже сильно проникся крепким запахом кнастера, так как он целый день почти не выпускал изо рта свою любимую фарфоровую белую трубку, узенькую и высокую, на кривом чубуке и с видом Потсдама.
В спальне государя мебель была почти не видна, так как была сплошь завалена всякого рода мундирами. Государь любил иметь все эти мундиры на виду и под рукой, чтобы перед выездом выбрать и надеть тот, который вдруг вздумается. Не раз случалось ему надеть мундир, подойти к зеркалу и тотчас же сбросить и надеть другой. Теперь, благодаря новой обмундировке всей гвардии и замене прежнего темно-синего и темно-зеленого мундира различными новыми и ярких цветов, выбор был гораздо больше.
В спальне не было ничего особенного, и в глаза бросался только большой портрет Фридриха Прусского в великолепной раме, который висел над кроватью, в головах. Под ним висело нечто вроде картинки в черной бархатной раме под стеклом. Это был очень затейливо и хитро сделанный вид церкви и могилы герцога, отца государя, но вид этот был не нарисован, а сделан из волос покойного.
На столике у постели лежала довольно большая книга в красивом переплете из алого бархата. Это была любимая книга Петра Федоровича, но в ней было, в сущности, переплетено две разные книги: одна – псалмы, которые государь знал наизусть и даже умел петь, и затем другая – прусский новый военный артикул, который он тоже знал наизусть.
Был уже двенадцатый час, а между тем никто еще не приехал с докладом к государю, отчасти вследствие большого праздника, а вероятнее, оттого, что вчера все первые вельможи государства далеко за полночь пропировали во дворце и разъехались по домам сильно во хмелю.
От нечего делать государь еще в утреннем атласном шлафроке бродил с трубкой в зубах из комнаты в комнату, из кабинета в спальню и обратно. Прогуливаясь так, он тоненьким фальцетом напевал то псалом, то любимую песенку своих голштинских солдат, в которой рассказывалось, как два голштинца победили пятитысячную армию датчан.
Нарцис несколько раз появлялся, дополнял кружку портером, ухмыляясь глупо и раздвигая страшно толстые губы. При этом два ряда блестящих, белых как снег зубов сверкали так, что могли бы испугать любого ребенка.
Наконец государь бросил трубку, подошел к углу, где висело несколько скрипок, и взял одну из них. Выбрав смычок, он остановился среди комнаты, настроил инструмент и стал стараться поймать один мотив. Это была русская песенка, слышанная за несколько часов перед тем от Елизаветы Романовны. Но вдруг он остановился, топнул ногой и нетерпеливо махнул смычком по воздуху.
– Разумеется, нельзя! – воскликнул он, как всегда, по-немецки. – Я говорил, что эти дикие песни на музыку нельзя перекладывать. Ни одного русского мотива на скрипке сыграть нельзя!
Он бросил скрипку и, взяв бич, стоявший в углу, начал, стоя среди горницы, хлопать удивительно ловко и искусно. Длинный и тонкий бич невидимкой летал вокруг его головы и, извиваясь как змея, со свистом и шипением резал воздух и щелкал так громко, что издали каждый удар казался выстрелом из пистолета. Любимец Мопса, жирный и ленивый бульдог, знакомый отчасти с этим бичом, поднялся на своей подушке и смотрел на своего хозяина во все глаза, очевидно, не будучи вполне уверен, коснется ли сегодня его спины, и конечно без всякого повода, один из этих звонких ударов. Но Петр Федорович на этот раз был в добром настроении и только забавлялся.
Вскоре, однако, бич надоел, он бросил его на скрипку и, отцепив со стены большой палаш, начал экзерцицию. Он приблизился к большому зеркалу и, сбросив шлафрок, в одной рубашке начал принимать разные позы, то выступая или нападая, то будто отступая и парируя удар воображаемого противника. В то же время, при всякой новой позе, он взглядывал на себя в зеркало и, видимо, оставался доволен своими движениями, эволюциями и умением владеть оружием.
Наконец он опустил палаш и, стоя перед зеркалом, постепенно глубоко задумался. Воображению его предстала вдруг целая картина… Он видит себя на поле битвы командующим громадной армией, состоящей из своих полков и из прусских, которые поручил ему Фридрих. Он дал генеральное сражение датчанам… неприятель бежит повсюду, и во главе этой тысячной армии он преследует врага, скачет на коне среди дыма, огня, воплей, грохота оружия и победных кликов. И вот, наконец, все успокаивается, победитель ликует, и Фридрих II обнимает его при многочисленной свите генералов и послов всех европейских держав и говорит ему, что он своим мужеством и гениальными распоряжениями полководца спас Россию и Пруссию. Он уже собирается отвечать прусскому королю то же, что всякий генерал всегда отвечает, хотя неискренне: не он, а солдаты все сделали… Но в эту минуту за ним раздается громкий голос:
– Ваше величество!
Поле битвы исчезло, он у себя в кабинете перед зеркалом с бессознательно поднятым снова палашом в руке, а перед ним Нарцис, давно докладывающий о приезде барона Гольца.
Государь бросил палаш на тот же диван, где был бич и скрипка. Легонький инструмент подпрыгнул под тяжелым палашом и как-то жалобно отозвался на удар, будто взвизгнул. Государь быстро накинул свой шлафрок и принял прусского посла.
Красивый, умный и еще молодой человек – прусский барон Гольц был недаром любимец Фридриха и недаром был избран ехать в Россию и создать дружеские и крепкие отношения между берлинским кабинетом и новым императорским. Гольц со времени своего приезда не дремал ни минуты. Теперь он был другом всех влиятельных лиц в столице, а главное, любимцем государя и бывал у него ежедневно. Между тем главная задача в России и цель его не были достигнуты: подписание мирного договора с крайне важными, тайными пунктами, которые были известны только государю, тайному секретарю его Волкову и канцлеру Воронцову.
На этот раз Гольц явился мастерски заключить тонко придуманную им интригу. Усевшись на стуле против государя, получив тотчас же глиняную трубку с кнастером и кружку портеру, он с озабоченным видом спросил государя, что он думает о вчерашней выходке господ иностранных резидентов.
Государь вытаращил глаза: он ничего не знал.
– Вы изволили перед Светлым праздником приказать господам послам явиться после вас с поздравлением к принцу Георгу.
– Ну да, ну да! – воскликнул Петр Федорович.
Голос его, вообще тонкий, при усилении, при восклицаниях становился всегда резко визгливым.
– Но ведь они не поехали! Никто! Кроме английского министра, господина Кейта.
Петр Федорович вскочил с места, и мгновенно лицо его побагровело и пошло пятнами, как у человека, болевшего оспой.
– Успокойтесь, ваше величество, гневаться нечего, но надо тотчас же принять меры, решить что-нибудь. Не могут же резиденты европейские, при вашей особе состоящие, вас ослушаться.
– Я их всех тотчас же попрошу отозвать и прислать других, – гневно взвизгнул Петр Федорович.
– О нет, ваше величество. Разве это можно? Вы можете навлечь на себя, на империю… целый союз, и дело может дойти до войны. Позвольте мне посоветовать вам. Объявите господам резидентам, что вы не примете их до тех пор, покуда они не сделают официального визита с поздравлением к его высочеству. И не давайте ни одному из них ни единой, хоть бы и краткой, аудиенции, покуда они не исполнят вашего приказания.
– Отлично! – воскликнул государь. – Именно так. Вы говорите: один Кейт был. Ну и отлично! Мы с Англией можем всему миру перчатку бросить.
– Только Кейт и был, ваше величество. И то я его уговорил ехать со мной.
– Благодарю вас, – вдруг с чувством выговорил государь и, протянув обе руки Гольцу, крепко пожал его руку. – Вы не можете себе представить, барон, как я благодарен королю, что он прислал вас сюда, именно вас. Мы с вами вполне сошлись… В нас двоих ужасно как много общего. Ваш ум, ваши познания, ваши привычки, ваши склонности – все они совершенно те же, что во мне. Мне кажется иной раз, что мы с вами родные братья. Мне говорила сегодня, то есть вчера, Романовна, то есть Воронцова, что между нами есть даже маленькое сходство в лице и походке, хотя вы выше меня.
Дипломат любезно поклонился, как бы благодарил, а внутренне он не мог не смеяться: он был чуть не в полтора раза выше государя, плотно, но стройно сложен, и если не вполне красив лицом, то во всяком случае с правильными чертами лица и великолепными умными глазами. Между ним и государем во внешности не было и тени общего.
Через несколько минут апартаменты дворца, а затем и кабинет начали наполняться съезжавшимися сановниками. В кабинете появились генерал-адъютант государя Гудович, старик фельдмаршал Трубецкой, Миних, Корф, Волков; остальные ждали в других комнатах… В числе первых, конечно, явился и принц Жорж и тотчас узнал о решении государя. Когда государь заговорил с полицмейстером, принц отвел Гольца в сторону к окну и стал просить убедить государя не делать того, что он задумал относительно иностранных послов. Жорж и не подозревал тонкой игры Гольца.
– Не могут послы ко мне так ехать, – вразумительно и убедительно говорил Жорж. – Вы это лучше меня понимаете. Наконец, покуда они будут переписываться со своими кабинетами и просить о разрешении простого вопроса дипломатического этикета, пройдет много времени. Мало ли что может случиться!
Гольц стал успокаивать принца, уверяя его, что если кому из резидентов непременно понадобится аудиенция у государя, то он явится примирителем обеих сторон.
– Это все уладится, – сказал Гольц. – Ведь это все одно упрямство. Ведь я же поехал к вам, английский посол тоже поехал. Неужели же Пруссия и Англия державы третьего разряда, ниже стоящие, чем Дания или Франция?
В эту минуту веселый, раскатистый хохот государя заставил обоих собеседников обернуться к нему. Петр Федорович долго смеялся и, наконец, обратился ко всем объяснить, в чем дело.
Полицмейстер Корф сообщил ему о странном случае на площади перед дворцом. Поутру в полицию донесли, что около дворца, под окнами государя, нашли целую кучу каких-то книг, неизвестно кому принадлежащих и с неизвестными литерами. Потерять их при перевозке не могли, так как они были, очевидно, разбросаны умышленно и некоторые даже порваны. Теперь оказалось, что все эти книги принадлежат государю и что он сам с вечера пошвырял их в окошко, устраивая свою библиотеку.
– Это все латинские книги, – сказал государь, смеясь. – Я про них забыл, а то бы я давно порвал их и пошвырял. Мне этот проклятый язык слишком дорого дался. Вспомнить не могу, как меня еще в Голштинии мой учитель, господин Юль, мучил латынью, и я еще тогда клялся, что всю мою жизнь буду преследовать латинский язык и всех латинистов. Я как теперь помню, как этот проклятый Юль приходил ко мне. Только что проснусь, не успею позавтракать, лезет ко мне Юль; сложит вот так свои толстые ручищи, как бревна, на груди крестообразно, кланяется с порога и говорит нараспев гнусливым голосом: «Bonum diem, tibi, opto, serenissime princeps!»[50] Потом спросит всегда о здоровье и опять запоет: «Si vales, princeps, bene est!..»[51]
Так как Петр Федорович отличался замечательным искусством подражать голосам, передразнивать и представлять других, то все бывшие в кабинете невольно начали смеяться. Принц Жорж хохотал без конца и даже опустился на диван, чуть-чуть не раздавив скрипку и чуть не напоровшись на палаш.
Петр Федорович, видя эффект, произведенный изображением Юля, стал среди комнаты, поднял руку с двумя вместе сложенными пальцами и начал длинную речь по-латыни, стараясь как можно больше гнусить. Принц Жорж, видавший когда-то этого бывшего воспитателя Юля, хохотал до слез. Когда государь кончил, он встал и вымолвил:
– Замечательно, замечательно! Вы не можете себе представить, господа! Это живой Юль!
Петр Федорович вдруг переменил позу, как-то странно вывернул ноги и, выпятивши грудь, подошел к принцу и начал ему говорить по-французски быстро и грассируя:
– Choiseul et madame de Pompadour, а eux deux, vous savez, ont plus d’esprit que tous les souverains et tous les cabinets!.. Quant au resident Wan der Hoffen, il peut bien sentir la bassecour, puisqu’il est le representant des Pays-Bas!.. Saperlotte! Altesse! Vous avez l’air de ne pas le saisir…[52]
Все присутствующие тотчас узнали общего знакомого, французского посла Бретеля, который отличался тем, что обращался со всеми фамильярно, постоянно острил и всегда превозносил до небес свое отечество, и в особенности покровителя своего, министра Шуазеля.
Через минуту Корф, воспользовавшись паузой, решился напомнить государю, что уже второй час, а он еще в двенадцать обещался быть в манеже его, Корфова, кирасирского полка для испытания учеников Котцау в экзерциции на эспадронах.
Фехтмейстер прусский, несмотря на случившуюся с ним неприятность, начал давно прилежно и усердно давать уроки и теперь хотел похвастать и представить государю лучших своих учеников, из которых некоторым было уже по пятидесяти лет.
Кроме того, в этот второй день праздника государь обещал быть в церкви Святого Сампсония на Выборгской еще до полудня на богослужении, но послал сказать поутру, что будет в два часа. И там после обедни с утра ожидали его теперь первенствующий член синода Сеченов с другими высшими членами столичного и синодального духовенства.
Теперь государь не знал, что делать и куда ехать прежде. Хотелось скорее в манеж, а приличие и необходимость заставляли ехать в церковь.
Петр Федорович вышел в спальню одеваться, и когда вернулся в кабинет, то нашел в нем приехавшего старшего графа Разумовского.
– А? Вам что? С повинной?! А?.. То-то…
Разумовский молча поклонился.
– Вы, как хохол, упрямы! Упираетесь… не хотите учиться экзерциции, – резко, но несердито продолжал государь.
– Увольте, ваше величество… Мне уже не по летам…
– Тогда… тогда… Я дал дворянам вольность!.. Не служить, кто не хочет или не может. А на службе всякий военный, старый и молодой, должен знать дисциплин! – быстро визгливо выкрикивал государь, но вдруг, приглядевшись к лицу Разумовского, смолк и через мгновение прибавил: – Ну, вы не пример… Забыл! Тетушка, умирая, все только об вас меня просила. Забыл! Так и быть… Не надо. Лежите на печи!.. Но… но мне это не нравится: вы, фельдмаршал, должны быть примером для других. Ведь я, наконец, – государь, могу приказать… Ну, ну, не надо, не надо.
XV
Между тем у подъезда дворца стояли экипажи сановников, съехавшихся теперь к государю с обычным утренним докладом.
Впереди всех стояла великолепная венская колымага принца Жоржа с цугом кровных серых коней, подаренных ему государем. За ней стояла другая карета, голубая с серебром. Это была давнишняя и любимая карета графа Алексея Григорьевича Разумовского, которая в продолжение почти двадцати лет всегда и подолгу стояла у дворца впереди всех других. И народ хорошо знал этот экипаж первого в империи вельможи, которого стоустая молва давно назвала тайным супругом царствующей императрицы. И всякому прохожему и проезжему, и боярину, и простолюдину, странным и неприличным казалось теперь видеть эту знакомую голубую карету не на первом месте. Теперь она всегда стояла за другой, ярко-желтой каретой с иностранным гербом, принадлежащей всем известному и бог весть за что ненавистному Жоржу.
Ближе к подъезду несколько конюхов держали под уздцы более десятка оседланных коней. Впереди всех, отдельно от прочих, четыре голштинских рейтара стояли вкруг красивого вороного коня, на котором всегда выезжал государь.
Все, что было народу кругом подъезда: кучера на козлах экипажей, верховые форейторы, конюхи, зеваки из простонародья, столпившиеся близ карет, – все тихо перекидывались словами. Их говор был едва слышен. Только четыре рейтара около коня государя громко болтали на своем, чуждом окружающему наречии, и часто раздавался между ними дружный взрыв хохота. Один из них болтал не переставая, часто оборачиваясь на народ, то мотая на него головой, то подмигивая товарищам. Речь его была непонятна, но было ясно и понятно каждому, что рейтар острил насчет зевак и народа и подымал на смех все, что было или казалось ему достойным внимания. И все кругом, до последнего пятнадцатилетнего парня форейтора, исподлобья, досадливо и злобно поглядывали на четырех ражих и рыжих голштинцев.
В числе других прохожих появился в кучке народа, недалеко от подъезда, высокий и худощавый старик без шапки на голове, с образом и мошной в руках. Старик был сборщик на храм.
Едва выглянул он из толпы, его заметили. Отовсюду, даже с разных козел и коней, потянулись руки, передавая алтыны и гроши. Старик принимал и крестился за каждый полученный медяк.
Не прошло нескольких мгновений, как ражий шутник-голштинец, разумеется, обратил на него особенное внимание своих товарищей. Бесцеремонно указывая на него пальцем, он начал болтать что-то, вероятно, особенно смешное, потому что трое товарищей начали покатываться от смеха. Даже добрый конь и тот не мог устоять на месте спокойно, вздрагивал и прыгал, слегка робея этих дружных взрывов хохота.
Наконец ражий рейтар, повернувшись к народу, сделал и повторил какой-то быстрый жест… Окружающей толпе показалось, что он будто крестится, передразнивая старика.
– Эхма! – раздалось вдруг громогласно на всю улицу. – Колесо поганое!
Все обернулись на голос. Восклицание это вырвалось у старика кучера Разумовского. Не глядя ни на кого с высоких козел, старик начал вдруг хлестать по колесу кареты, приговаривая:
– Вот как бы расправить!
Хотя не было ничего особенно смешного в словах и движении старика, но все будто обрадовались поводу. Раскатистый, не столько веселый, сколько злобный и насмешливый хохот огласил всю улицу… И все глаза были обращены на голштинцев. Рейтары тотчас же обернулись на хохот, стали сумрачны, а остряк тотчас же вымолвил громко и правильно несколько сильных русских слов, посылая их всей толпе. В ответ на это из задних рядов послышались столь же сильные немецкие выражения, сорвавшиеся, очевидно, с языка какого-нибудь солдата или дворового, пожившего в Германии. Вслед за тем из другого угла громко раздались два слова, которые часто теперь слышались на петербургских улицах: «Фридрих швейн!»
Произносившие эти слова, конечно, нисколько при этом не думали о самом короле Фридрихе. Это было измышленное средство, бог весть как и когда появившееся, чтоб дразнить всякого немца, как дразнят татарина сложенною полой кафтана, будто изображающей свиное ухо.
Эти два слова произвели, как и всегда, свое обычное действие на голштинцев. Двое из них отошли от царской лошади и сделали несколько шагов к той кучке народу, откуда послышалось восклицание. Судя по их лицам, они готовы были разыскать дерзкого и тут же распорядиться с ним при помощи полицейских солдат.
– Что? Не по шерстке?
– Обиделись, псы!
– Иди, иди!
– А ну-ка, ребята. Ухнем-ка на них стенкой!
Голоса эти раздались со всех сторон, и неизвестно, что могло бы в мгновение произойти тут у самого подъезда дворца. Быть может, рейтары остались бы на месте. Быть может, даже и не остались бы, а их разнесла бы в клочья рассвирепевшая толпа. Но в ту же минуту на подъезд вышел адъютант государя Перфильев и крикнул подавать коня.
Через несколько минут государь в своем любимом мундире кирасирского полка вышел на подъезд, окруженный свитою генералов. Впереди других был принц Гольц и граф Разумовский. Государь сел на подведенного коня, весело поздоровавшись с четырьмя рейтарами. Велев поправить что-то в седле, потом в уздечке, государь вымолвил:
– Gut, gut! – И прибавил, умышленно коверкая русское слово: – Карашо…
Это «карашо», которое голштинцы часто слыхали от него, заставляло их всегда улыбаться самодовольно. Они чувствовали, что если тут насмешка, то, конечно, не над ними, а над тем глупым словом, которое им и произнести неудобно.
Между тем принц Жорж, Миних, Гольц, полицмейстер, старик Трубецкой, Фленсбург, адъютант Перфильев, Гудович и другие также садились на коней. На подъезде оставался теперь лишь один человек в блестящем мундире, покрытом орденами, – граф Разумовский.
– Ну что же, так и не поедете? – воскликнул государь, подбирая поводья и поворачивая голову к оставшемуся на крыльце.
– Увольте, ваше величество, – отвечал Разумовский, – да и коня нет.
– Ну, это пустое! Коня сейчас достанем. Перфильев, дай ему своего. Коли граф ноги ему поломает, я тебе другого подарю, – рассмеялся государь.
Перфильев, уже севший верхом, слез вновь, но Алексей Разумовский заволновался и громче, решительнее выговорил:
– Увольте, ваше величество, я уж сколько лет не ездил. Позвольте уж прежде примериться дома, тогда и поеду. Срамно будет, как из вашей свиты фельдмаршал на земле очутится.
– Ну, ладно, так примеривайтесь скорее, чтобы через неделю вы у меня скакать и через канавы прыгать умели. А то вы, фельдмаршалы российские, стали хуже всякой старой бабы – только бы на печи лежать. Кто у меня через месяц, – обернулся государь ко всей свите уже на конях, – не будет знать артикулов фехтования и не будет лихим всадником, того заставлю при народе вот… чулок вязать или того хуже… блох в сорочке ловить!..
И, дав шпоры лошади, но придерживая ее и заставляя немножко прыгать и играть, государь двинулся от подъезда, сопутствуемый всей верховой свитой.
XVI
Проехав площадь по направлению к церкви Сампсония, государь обернулся к Жоржу и Гольцу, которые галопировали около него, впереди остальных генералов.
– Нет, лучше поедем на кирасирский плац. Те подождут: им делать нечего. Все равно ведь дома так сидят да просвиры едят…
– Неловко, ваше величество, – заметил Гольц. – Они с утра дожидаются, с ними и главный член синода.
– Что за важность, подождут! Да и вам, барон, – прибавил государь, – интереснее посмотреть успехи офицеров, чем старую и развалившуюся церковь, построенную в память того, как один мой дед победил другого моего деда под Полтавой… Мне бы следовало теперь разрушить ее совсем, как внуку, примирить их обоих после смерти.
И через несколько минут государь со свитою был уже в кирасирской казарме. В манеже были собраны офицеры гвардии для присутствования на испытании тех офицеров разных полков, которым фехтмейстер Котцау начал уже давать уроки.
Государю принесли кресло, он сел, свита стоя поместилась кругом него, принцу Жоржу подали тоже стул; государь попросил его садиться, но Жорж упрямо отказывался и не захотел сесть перед такими стариками, как Трубецкой и Миних, остававшимися на ногах, так как государь не попросил их садиться.
Котцау и его два помощника по очереди вызывали из рядов разных офицеров, затем сами ученики между собой фехтовали. Некоторые оказались уже очень искусны, другие совершенно ступить не могли. Государь внимательно следил за зрелищем, то гневался, то, нетерпеливо вскакивая с места, выговаривал некоторым офицерам очень резко. Иногда же он весело хохотал. В особенности приходилось ему смеяться, когда в числе офицеров попадались люди уже пожилые, подполковники и бригадиры, которые, несмотря на все свое старание, все-таки не могли воспользоваться уроками прусского фехтмейстера.
Особенно много хохотал государь над двумя офицерами – Бибиковым и Талызиным. Одному же офицеру, Пушкину, досталось страшно.
При виде стройной фигуры Пушкина государь ожидал ловкости, но оказалось, что Пушкин не имеет никакого понятия о том, как владеть шпагой. Государь вдруг неожиданно вспыхнул, как бывало часто, и поднялся. Подойдя к офицеру, он выговорил гневно:
– Когда офицер владеет шпагой, как баба ухватом или кочергой, то он теряет право носить ее!
Он приказал отобрать шпагу у Пушкина и прибавил:
– И в пример прочим, покуда не выучишься фехтованию, ступай под арест. Или нет!.. Лучше оставайся на свободе и ходи по столице без шпаги; это будет очень красиво, будет напоминать собаку, которой отрубили хвост.
Офицер, бледный как полотно, отдал шпагу и дрожащими губами пробормотал что-то, обращаясь к государю.
– Простить! – взвизгнул Петр Федорович. – Пустяки!
– Я не прошу… ваше величество… Не простить, – яснее выговорил Пушкин. – Я прошу дать мне срок выучиться. Я был болен и взял только два урока… Господин Котцау знает сам…
– Ходи, ходи без хвоста! – смеясь, воскликнул государь и прибавил: – Ну далее, вызовите кого-нибудь из старых воинов, они лучше молодых умеют… Э-э!.. Да вон один молодец! – прибавил громче Петр Федорович. – Квасов, выходи!
Аким Акимыч, стоявший в числе прочих офицеров, явившихся лишь в качестве публики, не ожидал вызова для себя. Он слегка смутился, вышел и выговорил:
– Ваше величество, я еще и совсем мало обучился. Осрамлюся.
– Пустое, становись… Как умеешь, так и действуй.
Квасову тоже дали в руки большой и тяжелый эспадрон, нагрудник и перчатку. Котцау, которого ни один офицер не мог, конечно, тронуть, хотя бы вскользь, фехтовал только в одной перчатке.
Квасов, став на место, скрестив эспадрон с профессором, слегка изменился в лице и, косясь на свиту государя, закусил верхнюю губу; по всему видно было, что Аким Акимыч старается затушить ту бурю, которая поднялась у него в груди.
Разумеется, не прошло нескольких минут, как Котцау раз десять довольно сильно зацепил Акима Акимыча без всякого старания со своей стороны. Он заранее называл русским ломаным языком разные части тела, куда он сейчас попадет, и затем колол или довольно сильно бил плашмя по тому месту, которое называл. Котцау знал, что имеет теперь дело с первым и отчаянным немцеедом всей гвардии, и захотел потешиться.
– Плиешо, груть, нога, рука, – восклицал Котцау и бил.
Однажды, когда Аким Акимыч, выведенный из терпения, собрался было ударить Котцау против всяких правил плашмя по плечу, пруссак искусно отпарировал удар и, чтобы весело закончить поединок, надумал позабавить и себя, и государя, и публику.
Лейб-кампанец, налезая на Котцау, неосторожно становился часто к противнику более чем в профиль. Котцау сделал вольт и плашмя ударил Квасова по самым чувствительным местам. Разумеется, государь, вся свита и даже некоторые из офицеров, ненавидевших гордого выскочку из мужиков, расхохотались от неожиданной штуки фехтмейстера.
Гул от смеха сотни голосов огласил манеж.
Аким Акимыч побагровел от гнева и с лицом, которое стало так же пунцово, как обшлага мундира, яростно полез на Котцау. Фехтмейстер тотчас же заметил, что его неумелый противник рассвирепел. В сущности, пруссак вовсе не желал восстановлять против себя офицеров гвардии и приобретать все большее количество непримиримых врагов в русском лагере, поэтому он тотчас же сказал по-своему ближайшему помощнику, Шмиту, который служил ему переводчиком:
– Довольно. Пускай другой выйдет.
Помощник передал это по-русски Акиму Акимычу, но лейб-кампанец, расставив ноги на песке и подняв эспадрон, будто прирос к месту и, сверкая глазами на Котцау, озлобленно выговорил:
– Небось, небось! Я в долгу…
Оружие скрестили снова. Котцау показалось, что Квасов шепчет слово «швейн». Через мгновение тот же вольт и тот же удар по Квасову произвел уже взрыв хохота.
Квасов оглянулся на весь манеж почти дикими, кровью налившимися глазами, но не отступил, а лез еще яростнее, и Котцау уже, ради удобства фехтования, приходилось отступать. После нескольких вольтов и пас государь что-то такое крикнул по-немецки. Котцау, не принимая эспадрона, обернулся на голос государя, но в ту же секунду неискусный, но довольно сильный удар Акима Акимыча, хотя и плашмя, оглушил немца по голове. Лейб-кампанец нечестно воспользовался минутой рассеянности!!
Котцау не ахнул от боли, но, видимо, взбесился страшно и решился примерно поквитаться с матерым лейб-кампанцем, чтобы проучить его. Но, вероятно, пруссак или слишком рассвирепел, или слишком на себя понадеялся, и через минуту, желая непременно и поскорее снова хлопнуть лейб-кампанца в третий раз по тем же местам, но только гораздо сильнее… он вдруг совершенно раскрылся… Удар его действительно попал по месту назначения, но в то же мгновение Квасов, собрав все свои силы, со всего маху так треснул фехтмейстера по голове, что Котцау вскрикнул и, отступив, схватил себя за голову.
Государь быстро встал с места, вся свита последовала за ним, и все приблизились к поединщикам.
– Это не по правилам! – воскликнул государь, обращаясь к лейб-кампанцу. – Так не фехтуют, так мужики дубинами дерутся!
– Ваше величество! – воскликнул Квасов громко и со сверкающими по-прежнему глазами. – Виноват! Но, стало быть, на войне, если я немца убью этим способом, то меня не похвалят и не наградят мои командиры, а накажут за то, что я победил, а не поддался врагу?
– Во-первых, с немцами за все мое царствование русскому офицеру воевать не придется, – многозначительно произнес государь, – а второе, на войне совсем другое дело! А здесь это только наука, искусство, а у искусства есть правила.
– Зачем же правила сии нужны, ваше величество, если офицеру на войне они непригодны?
– Котцау сейчас мог тебя убить сто раз, однако только посек! – воскликнул государь и хотел еще что-то сказать, но запнулся.
Жорж что-то такое бормотал около него по-немецки, как будто успокаивая.
Гольц был уже около Котцау и спрашивал, как он себя чувствует. Фехтмейстер, улыбаясь, старался казаться спокойным и вымолвил по-немецки, презрительно мотнув головой на лейб-кампанца, происхождение которого давно знал он:
– Он, верно, смолоду привык дубиной драться, а не шпагой. Впрочем, я сам виноват.
Вероятно, под влиянием тех слов, которые прошептал принц Жорж, государь повернулся ко всем спиной, сделал несколько шагов, потом снова обернулся к офицерам и произнес:
– Ну, учитесь. Надеюсь, что через несколько времени все будут уметь.
Государь со свитой направился к дверям манежа. Вкруг Квасова и Котцау остались только одни офицеры. Квасов, все еще слегка взволнованный, но довольный, обратился к Пассеку, говорившему по-немецки, и вымолвил:
– Скажите ему, Петр Богданович, что я у него прощения прошу, что ударил его по больному месту. Виноват, совсем об этом забыл!
– Какое больное место? – отозвался Пассек.
Видя на лицах ближайших офицеров, что они тоже не понимают его слов, Квасов прибавил:
– А по тому месту, где голубушка орловская кастрюлька сидела.
Разумеется, смех пошел в толпе офицеров, и перевести слов, конечно, никто не взялся, тем более что Котцау уже двинулся одеваться и уезжать.
На этот раз с десяток гвардейцев разных чинов, от бригадира до сержанта, вернувшись домой или отправившись в гости, волновались до ночи.
На другой же день по странной случайности, если только это была случайность, братья Орловы побывали в гостях и у Бибикова, и у Талызина, и у Пушкина, и у всех тех, которым не повезло накануне! И через несколько дней эти офицеры уже особенно подружились с Орловыми, стали часто бывать у них, очевидно примкнув к их кружку.
Алексей Орлов явился ввечеру и у героя дня, матерого Акима Акимыча, у которого прежде никогда не бывал, хотя был в одном полку.
– Молодца, Аким Акимыч! – воскликнул он, входя в маленькую квартирку Квасова. – Нарочно пришел поздравить и поблагодарить, как ловко отпотчевали вы бранденбуржца. Сказывал государь: не по правилам. Может быть, не по-немецки, а по-российски. Может быть, неискусно, неумно, да здорово.
И Алексей Орлов хотя не любил Квасова, но ласково и любезно старался польстить лейб-кампанцу. Но Аким Акимыч мрачно бурчал на все его любезности, косо взглядывал на него и только объяснил:
– Как сумел. А там коли не по правилам, так ведь я в фехтмастеры и не лезу! Я просто офицер российский, да еще из мужиков. Чем богаты, тем и рады… по немцевым башкам щелкать.
– Воистину так! – весело и искренне расхохотался шутке Орлов. – Чем можем, тем и рады… только бы по ним!..
Несмотря на недовольный, почти невежливый и мрачный прием Квасова, Орлов решился закончить теми словами, ради которых пришел:
– А вы, любезнейший Аким Акимыч, загляните к нам когда-нибудь, к брату. Милости просим. Мы народ простой, веселый, вам у нас полюбится.
– Нету, Алексей Григорьич, – вдруг мотнул головой Квасов и с присвистом нюхнул из тавлинки. – Нету, не пойду, извини.
И Квасов, держа в руке тавлинку, прихлопнул крышку другой рукой.
– Я, государь мой, вам ведомо, что за человек. Мы, лейб-кампания, вам, господам Орловым, Всеволожским, Чертковым да Барятинским, не компания! Хоть многие из наших ныне помещики по милости Лизавет Петровны – упокой ее, Господи, в селениях праведных, – многие возмечтали о себе, что они и впрямь дворяне. Ежедневно, коли не еженочно, доказывают они теперь свое дворянское происхождение на разных местах своих вновь подаренных рабов. То и дело, как вам ведомо, в палатах производятся разбирательства о том, как лейб-кампанец задрал, да заколотил, да замучил то рабу, то раба крепостного. Что делать? Внови. Хочется мужику над своим братом мужиком потешиться; иной свои старые колотушки на другом отколачивает… Ну, вот вы, столбовые, от нашего брата и сторонитесь, и хорошо делаете. Я, как вам ведомо, получил тоже двести душ, но продал их и счел, что не к лицу. Так вот-с, очень вам благодарен за приглашение, но не пойду. Я вам не камрад и не компания. А вот детки наши да внучки, ну те будут не хуже вас, столбовых, коли не лучше. Так-то-с!
Алексей Орлов, выслушав длинную речь, или, как называли в гвардии, «отповедь» лейб-кампанца, поднялся и, внутренне посылая к черту Квасова, подумал: «И без тебя найдутся!»
Однако, в сущности, Орлов сожалел о неудаче.
За последнее время три брата старались побольше сходиться именно с лучшими и главными участниками переворота в пользу покойной государыни, которых в Петербурге налицо уже оставалось очень мало. Большая часть жила в своих новых пожалованных поместьях, другие умерли, третьи вели себя отчаянно и были под судом за всякого рода дикие проступки и преступления.
XVII
Государь между тем выехал из манежа несколько не в духе, но дорогой, вспоминая с Гольцем и Жоржем некоторые случаи фехтования, снова развеселился.
Когда все остановились перед маленькой церковью Сампсония, духовенство с первенствующим членом синода, Сеченовым, встретило государя на паперти. Уже часов шесть дожидалось оно его приезда.
Государь со свитой вошел в старинную церковь, довольно простенькую и очень бедную на вид. Сеченов с этой целью именно и просил государя приехать, чтобы убедиться, в чем нуждается знаменитая церковь, построенная великим Петром Алексеевичем в память боя под Полтавой.
Сеченов тотчас же спросил что-то тихо у Корфа, полицмейстер обернулся к государю с вопросом, не прикажет ли он молебен?
– Что? Нет. Когда же теперь! – И государь, обернувшись к Сеченову, прибавил: – Нет, спасибо. Не время. Да и потом, вы знаете, я ведь этого всего не люблю. Ведь это все притворство и комедиантство одно… Вот императрица – другое дело: если бы моя Алексеевна сюда приехала, то, чтобы вас всех размаслить, она бы вам три молебна заказала.
И Петр Федорович начал добродушно смеяться.
В церкви, где давно ожидали приезда государя, было несколько семейств из общества, был и простой народ, хотя очень мало.
В ту минуту, когда государь хотел пройти в алтарь, несколько десятков человек, стоявших вдоль стены, потеснились. Вдруг раздался легкий треск и что-то такое странно застучало по полу, трелью огласив церковь, точно будто градом или горохом посыпало по полу.
– Что такое? – воскликнул Петр Федорович, и в сопровождении всех он вернулся к месту происшествия.
Оказалось простое дело. Во всех петербургских церквах, как и по всей России, было всегда вдоль стен устроено нечто наподобие полочек. Эти длинные полки в несколько рядов явились вследствие необходимости: на них помещались рядами постоянно и щедро жертвуемые в церкви иконы всех сортов и величин, от самого плохого и маленького образа и до аршинного. И всегда церковь по стенам была переполнена подобного рода полочками с образами. Толпа, вдруг двинувшаяся, затеснила добролицего мужика Сеню, а он пришел именно затем, что хотел поближе да получше разглядеть батюшку государя Петра Федоровича. Сеня догадался, как горю пособить, ухватился за верхнюю полку и хотел подтянуться на руках, чтобы через толпу глянуть на царя. Но мужик был дородный, без малого пяти пудов весу. Полка не выдержала… Все грянулось об пол, и иконы угодников Божьих попадали, будто горохом посыпая по полу.
Государь приблизился и ласково спросил, в чем дело.
Сеня, на которого уже обернулась толпа, очутился чуть не впереди и, сам не зная как, среди всеобщего молчания подал голос и упал в ноги:
– Прости, ваше императорское величество! Я виноват. Хотел, батюшка, разглядеть тебя хорошенько, уцепился, влез, да и согрешил вот.
– Встань, ты не виноват ни в чем, встань. Коли хотел поглядеть, так гляди…
Сеня встал на ноги и, сладко ухмыляясь, даже облизываясь, стал во все глаза глядеть на подошедшего к нему на подачу руки царя-батюшку. Наконец, быть может от избытка чувства, он положил щеку на ладонь руки, склонил голову набок, и будто слезы показались у него на лице.
– Батюшка ты наш, – прошамкал Сеня. – Отец родной, кормилец! Теперь всю жизнь не забуду…
И Сеня снова повалился в ноги.
Государь отошел, улыбнулся, но, обернувшись к Сеченову, вымолвил:
– Я не знаю, право, зачем это? Что это такое, все эти полочки? Во всех церквах выставки разных икон, точно на ярмарке товар. И одна другой хуже; на иной так нарисовано, что даже человеческого подобия нет, а подписываются имена самых уважаемых и почтенных святых.
Сеченов поднял глаза на Петра Федоровича и молчал, но видимо было, что последние слова удивили его.
– Это надо прекратить, – вдруг быстрее заговорил Петр Федорович, как бы одушевляясь. – Да, да, я об этом давно думал. Да, многое надо переменить. Что это такое? Посмотрите!
И государь обернулся ко всей свите.
– Посмотрите. Сотни всяких досок, глупо размазанных и расписанных. Это идолопоклонство! Ну, пускай большой образ Иисуса, большой образ святой Марии, то есть Матери Бога, или, как вы говорите… Как вы говорите? – поднял голову Петр Федорович. – Да, Богородицы. Ну, пускай. А это все… Это идолопоклонство!..
Государь ждал ответа, но все молчали.
– Я вас прошу, – повернулся он снова лицом к Сеченову, – быть у меня завтра и переговорить о многих важных вопросах, которые синод должен разрешить. Надо многое переменить. А иконы я теперь прошу вас приказать вынести из всех церквей. По всем церквам собрать все и девать куда-нибудь. Ну, раздать жителям столицы. Вот как с площади все раздавали. В подарок от меня. В и церквах будет просторнее и приличнее… Слышите! А завтра будьте у меня…
Сеченов низко поклонился.
– Я давно собирался, – продолжал государь, наполовину обращаясь к свите, – предложить многое на обсуждение. Пускай синод решит… Мне кажется, что это платье, все эти длинные рясы и разное все это… в одежде ужасно некрасиво. Посмотрите на протестантских пасторов или на католических аббатов, вот их платье приличное и даже красивое. А это? Это ведь бабье платье, юбки какие-то. И рукава-то дамские. А уж шапки ваши, – обратился государь к некоторым духовным, – ваши зимние шапки! С каким-то куполом, да с мохнатым мехом кругом, да с этими длинными языками на ушах… Я их видеть без смеха не могу.
И государь рассмеялся.
– Когда я приехал в Россию и увидал в первый раз русского попа – я испугался! Положим, я был почти ребенок… Но, право, и теперь ведь иной иностранец, если бы нечаянно встретил нашего батюшку где-нибудь в лесу, так тоже убежал бы без оглядки, приняв за медведя или за лешего. Да это еще не все, – говорил государь при мертвом молчании всех окружающих. – Я удивляюсь, как дед мой, великий Петр, не тронул вас, когда приказал дворянам брить бороды. Он просто забыл! Я в этом уверен! Ну, да я теперь поставлю себе особой честью исправить ошибку моего великого деда.
И вдруг государь ласково пододвинулся к Сеченову и, глядя в его лицо с великолепной расчесанной бородой, вымолвил добродушно:
– Посмотрите. И вы, если вам вот это сбрить, – взял он двумя пальцами один волос седой бороды архипастыря, – вы вдвое красивее и моложавее будете, просто юноша, красавец… Борода ведь ужасно старит всякое лицо…
И государь двинулся вдруг к выходу, забыв проститься.
Проходя по тому же месту, где рассыпалось по полу до сотни разных икон, Петр Федорович слегка споткнулся на большую икону, которая лежала на полу. Он приостановился, поднял ее с пола и стал разглядывать. Это был образ равноапостольного князя Владимира, сделанный крайне плохо.
Государь стал показывать его всем, между прочим Гольцу.
– Посмотрите, на что это похоже! Видано ли подобное в церквах у нас, то есть в Германии?
Гольц, как хитрый дипломат, глядел на образ, безобразно и уродливо нарисованный, но не говорил ничего, не соглашался и не противоречил.
Государь поглядывал на всех самодовольно и вопросительно; глаза его нечаянно упали на фигуру Сени.
– Ты, поди сюда. Ну, иди, не бойся. Подойди.
Сеня охотно и довольно смело приблизился.
– Смотри! Как тебя зовут?
– Сеня, ваше величество.
– Сено?.. Что за вздор!..
– Сеня… Семен, что ль…
– Так Семен, а не сено… Ну, ты… Гляди вот. Что это такое?
Сеня не понял вопроса, хотя глядел на икону.
– Что я в руке держу? Вот это, как это зовется?
– Образ-то, что ль? – смущаясь, спросил Сеня.
– Хорошо… Что ж это, святая вещь?
– А то как же? – ухмыльнулся Сеня. – Это, стало быть, святой угодник Божий…
– Намалеван? Ну, хорошо. Это угодник. Святой и равноапостольный князь Владимир. Так у головы его написано. Хотя бы следовало надпись тоже внизу делать! – улыбался Петр Федорович. – Ну, хорошо. Ну а это что такое?
И государь повернул икону оборотной стороной вверх. Сеня глядел во все глаза и ничего не понимал.
– Ну, что это, железо, что ль?
– Как можно… – усмехнулся Сеня во весь рот.
– Что же это?
– Сосна аль липа… Липа, должно…
– Доска, стало быть? – допрашивал государь.
– Где же! – рассмеялся уж Сеня, предполагая шутку. – Как можно! Доски нешто таки бывают. В доске, стало быть, тапери мало-мало аршин, а то доска, хотя бы вершковка, в девять аршин бывает, – заговорил в Сене мастер-плотник. – Бывают, вестимо, доски трехвершковки или, к примеру, дерева, для строительства… что по три рубля берут, ей-богу… Вот тут же на Выборгской в лесном дворе есть…
Но государь прервал красноречие плотника:
– Если это дерево и доска, так нешто можно на коленки становиться перед ней и молиться как Богу? Понял?
Сеня смотрел во все глаза и не понимал. Его мысль шла правильно на лесной двор и на цены досок, а государева мысль вернула совсем куда-то не туда…
– Молиться надо Господу Богу и святой Марии и Христу Иисусу. А доскам нельзя молиться! Понял?
Сеня все смотрел во все глаза и все ничего не понимал.
– Если это дерево, то и доска. И какие краски ни намалюй на ней, чего ни напиши, все-таки будет доска. Понял?
Сеня смотрел не сморгнув, а не понимал ни слова.
Государь двинулся и хотел снова положить икону, которую держал, в кучу рассыпавшихся по полу, но принц, следивший за ним уже давно, взял, почти подхватил икону и передал ее ближайшему, адъютанту Перфильеву. Сеченов тотчас двинулся к адъютанту, принял икону в левую руку, потом, перекрестясь три раза, приложился к ней и поднял глаза на государя. Петр Федорович стоял не двигаясь и слегка раскрыв рот. Еще мгновение – и все ожидали взрыва гнева, при котором государь обыкновенно не стеснялся в выражениях.
– Буду отныне беречь лик первосвятителя земли российской как воспоминание об нынешнем посещении вашего величества, – проговорил Сеченов. – Передам ее сыну и внуку и заповедую им беречь как святое и чтимое наследие из рода в род.
Государь ничего не отвечал, только кивнул головой, повернулся, и все двинулись за ним на паперть.
Только один Фленсбург, все слышавший, видевший и все понимавший, взглянул прямо упорным взглядом в лицо первенствующего члена синода. Сеченов таким же упорным взглядом встретил глаза принцева любимца.
«Хитер ты, кутейник, да и дерзок», – думал Фленсбург, говорили глаза его и улыбка.
Глаза и улыбка Сеченова говорили тоже… о его полном равнодушии, если не презрении и к этому адъютантику из иноземцев, и ко всем остальным, ему подобным.
Через дня три во многих домах и ротных дворах толковалось о том, как государь оттаскал за бороду преосвященного в церкви Сампсония и велел все образа при себе на пол скинуть. Слух этот распространился по городу из квартиры братьев Орловых.
XVIII
В тот же вечер Сеченов, не боявшийся бывать у императрицы, как многие другие, и надеявшийся, что его духовный сан упасет его от всякой беды, приехал к ней с новостью и застал у нее цалмейстера Орлова.
Государыня сидела с ним у камина и была видимо взволнована. Заметя, что архипастырь хочет что-то рассказать ей и стесняется присутствием незнакомого офицера, государыня вымолвила, улыбаясь:
– Можете говорить все при господине Орлове.
Передав с волнением все случившееся в церкви и все слышанное от государя по поводу новых перемен, Сеченов спросил мнения государыни. Она почти не поверила новости и стала успокаивать архипастыря:
– Это невозможно, и он никогда не решится. Поговорит и бросит…
Сеченов, несколько успокоенный государыней, внимательно пригляделся и заметил, что он как будто прервал горячую беседу и отчасти стесняет своим присутствием. Он тотчас же поднялся и уехал.
Действительно, государыня была взволнована беседой с Орловым, которого видела теперь чаще. На этот раз он приехал прямо спросить, позволяет ли она его кружку положить за нее головы, сделать попытку.
– Итак, что же? – вымолвил Орлов, когда Сеченов уехал.
– Не хочу ничего! Не хочу, чтоб из-за меня даром люди гибли. Пусть будет со мной, что судьба велит. А что?! Одному Богу известно, – выговорила она. – Слава Богу, если келья в Девичьем монастыре. Но зато напрасных жертв не будет!
– Нет, государыня… Этому мы не дадим совершиться… Это и будет нам сигналом. Мы тотчас…
– Вы!.. Кто вы?! Дюжина молодцов, преданных мне, конечно, всем сердцем… Я знаю это! Но что ж вы можете?
– Целая половина первого полка гвардии, государыня, да почти целый другой полк… Это не дюжина офицеров. Брат Алексей отвечает за три роты преображенцев, а Федор – за всех измайловцев.
– Положим. Но что два полка перед целой гвардией, перед целой империей? Что вы можете сделать?
– Лейб-кампания, – горячо произнес Орлов, – была малочисленнее нас… Только одна рота гренадер!
– Ах, полно, Григорий Григорьевич! – грустно воскликнула Екатерина. – Малодушество это. Обманывать себя, утешая примерами, кои не к месту и не к делу… Там низвергалось чужеземное правительство младенца и ненавистных временщиков, которых за десять лет правления всякий научился ненавидеть или презирать. За них в защиту ни единая рука не поднялась. И за кого, для кого совершила действо лейб-кампания? Для дочери Петра Великого! А вы? С кем вам в борьбу вступать? С законным русским императором? С внуком того же великого, всеми обожаемого Петра? И для кого же? Для германской принцессы, иноземки, сироты, всеми отвергнутой, даже всеми оскорбляемой по примеру, даваемому теперь самим императором… Прямая ей дорога в монастырь!.. Или просто в изгнание…
– К вам любовь общая, народная, – заговорил Орлов, – но малодушие заставляет многих опасаться… А когда те же люди увидят, что другие идут за вас, они тоже пойдут. Всегда бывало так. Нужно одному только начать…
– Нет, нечего себя обманно утешать… Со смертью императрицы все кончилось для меня, – выговорила государыня после минуты молчания. – Каждое утро я встаю с мыслью: дай бог не кончить дня в кибитке, которая увезет меня на край света. Спасибо еще, если недалеко, не в Пелым.
Екатерина Алексеевна смолкла снова. Орлов глубоко задумался и глядел, как на красивой руке ее, которой она оперлась на щиток камина, мерцал браслет в лучах колеблющегося огонька. Она заметила его взгляд, перевела глаза на руку и выговорила тихо:
– Вот тот, кто подарил мне этот браслет, сказал: когда вы будете императрицей-самодержицей, сделайте меня королем польским! Долго придется бедному ждать…
– Да. Но он был все-таки… он был счастливее других… – тихо и грустно прошептал Орлов. Она не ответила.
Две прогоревшие головни провалились сквозь чугунную решетку камина и как-то странно хрустнули среди полной тишины во всех горницах государыни.
А она задумалась глубоко от его последних слов и смотрела на огонь. Светлые красивые глаза ее подернулись будто какой-то дымкой, грудь ровно, но высоко волновалась под складками черных лент и кружев.
– Зачем теперь гибнуть даром?.. – произнесла она наконец. – Лучше… когда я буду в Пелыме, в Рогервике или Шлиссельбурге на месте Ивана Антоновича… Тогда меня спасти и за море увезти… и взять за себя!.. – И государыня грустно рассмеялась.
– Нет, это уж никак не возможно. Когда вы будете в заключении – я уже с той минуты голову сложу.
– И! Полно, Григорий Григорьевич. Питерские красавицы вас утешат… Вот хоть бы спасительница ваша, графиня Скабронская.
Орлов быстро поднялся как от удара…
– Нет, прощайте. Я так беседовать не могу. Больно.
– Ну, виновата… – ласково произнесла государыня. – Но обещайте мне более не говорить об этом.
– Совсем не говорить? – странно спросил Орлов.
– Да… не говорить… до поры до времени…
– До какой же поры?
– Покуда я не заговорю сама. Обещаете?
Орлов, вздохнув, прошептал «да». Она протянула ему руку. Он нагнулся, поцеловал руку и вышел грустный и задумчивый. Тихо, пешком направился он домой через площадь, в конце которой был виден домик, занимаемый им.
История освобождения Орловых рассказывалась на разные лады. Многие из «елизаветинцев» утверждали даже, что освободительница Орловых, Скабронская, стала всесильна, потому что находится, прикрываясь Фленсбургом, в близких отношениях с самим принцем.
– Ай да Жорж! – шутили многие. – Какого ведь бобра убил. Красавица ведь писаная!
Впоследствии Алексей Орлов без труда добился истины и узнал, что их злейший враг, Фленсбург, имея большое влияние на принца, со своей стороны, страстно влюблен в графиню Скабронскую.
Кроме того, оказалось, что сам Котцау одновременно с упрашиванием Фленсбурга Маргаритою приезжал к принцу тоже просить его помиловать буянов, которым он, якобы ввиду разных политических соображений, считает нужным простить. Он убедил принца в своих опасениях, что из-за ссылки Орловых возненавидят его все гвардейские офицеры и будут всячески мстить. А это, конечно, привело бы к целому ряду оскорблений, после которых ему поневоле пришлось бы выехать из России. Во всем этом была доля правды, и принц согласился, но в душе решил придраться к другому случаю, чтобы все-таки выслать Орловых.
По освобождении своем Орловы занялись вопросом, как заставить князя Глеба заплатить свой долг и вообще как достать денег, чтобы прежде всего передать обещанную сумму фехтмейстеру. Не достать денег нельзя было, а достать было мудрено.
За последнее время Григорий очень много проиграл в карты и много истратил на новый цалмейстерский мундир. А главное, Алексей истратил большую сумму денег, угощая и щедро оделяя преображенских солдат, а Федор, со своей стороны, истратил еще более в своем измайловском полку, где угощение рядовых не прерывалось и где всякий последний рядовой шел к нему и брал, что хотел. Ближайшие друзья Орловых, конечно, знали, зачем это делается, но остальные офицеры качали головой и изумлялись:
– Охота тратиться на этих чертей!
Агафон не знал причины этой траты, и эти постоянные подачки солдатам полков, где служили господа, выводили его из себя. Иногда он по целым дням ругался со своими господами.
– На кой прах! – восклицал он. – Ну, тратились бы на себя по трактирам. А то дармоедов угощать! Они, дьяволы, готовы последнюю рубашку стащить.
Однажды Григорий Орлов, чтобы отвязаться от старика, объяснил ему причину, заставляющую их давать всякому солдату, измайловцу или преображенцу.
Агафон не согласился с любимым барином, продолжал качать головой, но молчал.
– Они вас и так любят, – решил он однажды, – и немцев тоже смерть не любят; стало быть, тут и без денег все как следовает быть.
Приятели Орловых были люди по большей части небогатые, некоторые же без всяких средств. Они было предложили сделать складчину, чтобы собрать сумму денег, необходимую для Котцау, но Орловы не могли согласиться на это. Подобного рода затрата со стороны приятелей могла стеснить их на целые полгода.
Наконец однажды, уже на Страстной, Григорий Орлов, написавший брату Ивану Григорьевичу в Москву, получил отказ, и таким образом последняя надежда на получение необходимой суммы рушилась.
– Как ни вертись, а остается один проклятый Тюфякин, – сказал он Алексею. – Надо его теперь ловить и, где ни попадется, – бить, покуда не выколотим из него либо деньги, либо его подлую душонку. Авось он не фехтмейстер и за него нас под арест не посадят.
Алексей Орлов согласился, что другого средства нет.
– Тем паче надо его пощипать, что он, бестия, балуется. Он захочет, так может и у Воронцовой достать денег. Недаром фаворит фаворита фаворитки. У них денег куры не клюют, а тратить им некуда: никому не платят. Ведь дома нет в Питере, где бы они должны не были хоть пять червонцев. В лавках и лабазах должны…
И братья решили стараться где-нибудь поймать князя Тюфякина, чтобы «выколотить» из него долг.
Но Глеб Тюфякин – себе на уме, отлично понимал теперь, что выпущенные Орловы его не оставят в покое. Между тем он, со своей стороны, тоже нигде не мог достать денег. Его попытка попросить, да вдобавок еще такую крупную сумму, у тетки-опекунши, не повела ни к чему. Опасаясь именно того, что собирались сделать Орловы, так как подобного рода выколачивание долга кредитором из должника было дело обыкновенное, Тюфякин дома не сказывался никому, проводил день у Гудовича или в своем голштинском войске, в Ораниенбауме. Когда он появлялся в публичных местах и, между прочим, в одном из лучших трактиров на Адмиралтейской площади, с ним бывали всегда товарищи, голштинские офицеры.
Наконец, Тюфякин подружился и закупил постоянными угощениями одного офицера, хорошо известного в Петербурге. Это был некто Василий Игнатьевич Шванвич, известный всей России и попавший в число бессмертных не чем иным, как своею истинно богатырской, невероятной силой. Это был петербургский Самсон XVIII века. Сильны были богатыри Орловы, но Шванвич и их за пояс заткнул. Орловы свивали пальцами червонцы в трубочки, а Шванвич без всякого инструмента и тоже пальцами из нескольких пятаков делал нечто вроде петушка на ножках и с хвостиком. Орловы кочергу связывали в узел и бант, а Василий Игнатьич брал зараз три штуки, свивал их вместе, как красная девка косу заплетает, а затем уже делал такой же бант. За год перед тем на Шванвича, возвращавшегося из гостей, напали грабители в деревне Метеловке, находившейся на дальнем конце Фонтанки и считавшейся разбойничьим гнездом, не хуже Чухонского Яма. Напавших было человек с десяток, и они, как мухи, облепили офицера.
Как совершил свой подвиг силач, он сам хорошенько не помнил, потому что, по его собственному сознанию, струхнул. Но дело в том, что наутро нашли на месте пять человек. Двое из них были уже мертвы, а трое настолько искалечены, что не могли сами убраться с места побоища. Помнил только Шванвич, что, не имея никакого оружия, он хватал по два человека за шиворот зараз, по одному в руку, и, треснув их лбами друг о дружку раза два, бросал. И эти уже лежали тихонько. А затем, ухватив одного из них, самого рослого, поперек туловища, начал его же ногами бить остальных. И неприятель обратился в бегство с крестом и молитвою, приняв прохожего за самого дьявола в образе офицера.
Василий Игнатьевич Шванвич был среднего роста, немножко сутуловат, но с уродливо широкими плечами и с толстыми, как бревна, ногами и руками. У Орловых мощь и сила сочетались с красотой и стройностью тела; Шванвич же был совершенный медведь. Так же, как медведь, ходил он маленькими шагами на коротких ногах, так же нелепо, как и Михайло Иваныч, размахивал руками и медленно поворачивал голову, как если б шея его была деревянная.
Этот богатырь, но не богатырь-витязь, а страшилище, не красавец Бова-королевич, а скорее какой-нибудь Черномор, жил в столице скромной и тихой жизнью. Средства его были крошечные, знакомства, в тесном смысле слова, очень мало, за исключением известности в городе. Всякий знал Василия Игнатьевича и показывал на него пальцем на улице, но сам Шванвич почти никогда не знал, кто на него тычет пальцем.
Силой своей хвастать он не любил, иногда даже обижался, когда его просили показать какую-нибудь штуку. Часто задумывался он и тайно, в глубине души, променялся бы сейчас с каким-нибудь красивым, хотя бы даже и совсем тщедушным, гвардейским офицером.
Раз только в жизни похвастал он своею силой при большом стечении народа, но и то было сделано по строжайшему приказу начальства. Зрелище это было дано в Гастилице, на дворе палат графа Разумовского и на потеху гостившей у него покойной императрицы.
У Шванвича были две отличительные черты в характере. Он не только был богомолен и ходил ко всем службам, но был знаком со всем петербургским духовенством и знал дела всех петербургских причтов и церквей как свои собственные, знал, в каком храме хорошо идут дела причта и в каком совсем бедность непокрытая. И он ходил преимущественно в эти храмы и здесь отдавал на тарелочку и в кружку свою последнюю копейку.
Он сам любил справлять должность церковного старосты и любил в особенности пройти по храму с тарелочкой за вечерней или всенощной, когда в церкви нет никого из военных или тем паче кого-либо из начальства. Впрочем, однажды он попался и за прогулку с тарелочкой в одном храме просидел под арестом, так как он, по мнению немца-генерала, его накрывшего за этим занятием, «недостойное званию офицера совершил».
Другое странное свойство характера силача была боязнь, непреодолимая, непостижимая и врожденная, отчасти все усиливавшаяся, – боязнь женского пола. На этот счет Шванвич лгал, когда уверял, что у него отвращение к «бабе». Он не прочь бы влюбиться до зарезу в иную, но боязнь все превозмогла. Даже с простой бабой на улице Шванвич разговаривал, скосив глаза в сторону, что же касается до светской женщины, хотя бы даже и очень пожилой, то он от всякой дамы бегал как от чумы.
Всем был известен случай, бывший с ним в доме братьев Шуваловых. Старший Шувалов зазвал к себе силача, чтобы тайком и ненароком показать его одной приезжей в столицу родственнице, уже пожилой женщине.
Шванвич сидел в кабинете Шувалова у открытого окна в сад. Хозяин вышел на минуту, затем через несколько времени Шванвич услыхал за дверями женские голоса, и один тоненький голосок благодарил хозяина за тот случай, который представляется поглядеть на богатыря. Дамское общество приближалось к дверям!! Но когда оно вошло в горницу, то никого уже не было в ней.
Василий Игнатьевич, увидя себя в западне, недолго думая, махнул в окошко с четырехаршинной вышины и при скачке свихнул себе ногу. Как ни толста была эта нога, но все-таки не выдержала такую тушу. С тех пор Шванвич стал злейшим врагом всей семьи Шуваловых, а когда кто-либо из вельмож зазывал его в гости, он отказывался наотрез и говорил:
– Нет, государь мой, я уж ученый! Вы меня под какую бабу подведете.
А все-таки не минул этот Черномор заплатить дань прекрасному полу.
Лет за восемь перед тем Василий Игнатьевич, живя в отдельном квартале близ церкви, часто видел восемнадцатилетнюю дочку дьякона. И победила она его сердце своим румяным личиком и добрыми глазками.
Разумеется, Шванвич боялся красавицы своей пуще чем кого-либо, но, однако, собирался ежедневно познакомиться с отцом дьяконом поближе и, несмотря на свое офицерское звание и дворянское происхождение, уже мысленно решился жениться на дьяконице. Но как это сделать, как подойти к ней, как заговорить? К дьякону в гости можно пойти хоть сейчас, ну а потом что? Как он скажет ей первое слово? Что он сделает, когда она заговорит? И силача дрожь пронимала от страха. Унылый, сумрачный, даже грустный ходил Василий Игнатьевич, изо дня в день собираясь завтра пойти в гости к отцу дьякону.
Так изо дня в день, из месяца в месяц прошел почти год, и однажды совершилось веление судьбы. Заметив в церкви какие-то приготовления, новый Черномор спросил о причине. Оказалось, что после обедни будет венчание одного соборного певчего. А с кем? С ней, с дьяконицей!
Шванвич выбежал из церкви на своих коротких ногах, прибежал на квартиру, но через час уже собрал свои небольшие пожитки и переехал на другой конец города. Но и здесь не усидел он, поехал к приятелю в Кронштадт, помыкался там с неделю, вернулся, взял отпуск и уехал к родственнику в Тульскую губернию. И там долго преследовал его образ дьяконицы.
Вот с этим-то человеком и подружился князь Тюфякин. Шванвич был слишком простодушный человек, чтобы знать дурную репутацию князя и чтобы догадаться, зачем его угощает князь, зачем зовет к себе и постоянно таскает с собой по всем публичным местам. Только впоследствии мимоходом Тюфякин передал другу, что боится Орловых.
– Эвося, князинька! – усмехнулся Шванвич. – Нашел кого бояться! Покуда ты при мне, дюжина Орловых тебя не тронет.
Но Шванвич хвастал. Всему городу было известно, что он мог справиться только с одним из братьев, а двое вместе всегда заставляли его обращаться в бегство.
XIX
С первого дня Святой недели все герберги, или трактиры петербургские, были особенно переполнены веселящимися офицерами.
В одном из них, по имени «Нишлот», на Адмиралтейской площади, русские офицеры бывать не любили и Орловы никогда не бывали. Это был трактир, преимущественно посещаемый голштинцами и вообще иностранцами. Русские звали его другим прозвищем. Известен он был на всю столицу страшным побоищем, происшедшим здесь в первый год царствования Елизаветы Петровны.
Дело было простое. Солдаты на гулянье около балаганов побили разносчика за гнилые яблоки. Разносчики вступились за товарища, и пошла рукопашная. Иностранцы офицеры на русской службе выбежали из трактира унимать солдат.
Но это время было время суда, казни и ссылок Остермана, Миниха, Левенвольда и других. Народ ждал, что новая государыня на днях даст указ – немцев повсюду искоренять, и слух этот упорно держался в народе. Появление иноземцев, хотя и в русских мундирах, на народном гулянье произвело особое действие. И солдаты, и те же разносчики мгновенно обернули свое оружие, кулаки, палки и что попало, на незваных примирителей.
Офицеры бросились в трактир, толпа ринулась за ними, и затем последовательно бралась приступом горница за горницей, дверь за дверью. Мебель и все находящееся летело в окна, вино распивалось на месте. Офицеры отступали со второго этажа на третий, с третьего на чердак, но наконец и здесь появились солдаты. Офицеры вылезли с чердака на крышу. Половину здесь переловили и изувечили, другая половина попрыгала с крыши на крышу соседнего сарая, и многие поломали себе ноги.
Наряженный суд послал всех бунтовщиков в рудники, но офицеры были также строго наказаны за то, что не сумели себя отстоять «по правилам военного искусства» и «дозволили» себя избить. Делу этому минуло чуть не двадцать лет, но трактир потерял свое старое имя, а получил прозвище. Иноземцы еще звали его герберг «Нишлот», но русские офицеры и солдаты и простой народ звали теперь трактир «Немцев карачун».
По этой именно причине в «Немцевом карачуне» русские офицеры не считали возможным бывать, и постепенно герберг сделался пребыванием и резиденцией голштинцев из Ораниенбаума и вообще всех иноземных жителей и гостей столицы. С тех пор как князь Тюфякин перешел в голштинское войско, он, разумеется, преимущественно бывал в этом трактире.
На первых днях праздника Орлов узнал, что Котцау грозится отомстить за то, что его надули и не присылают денег. Приятель Агафона, Анчуткин, явился однажды рано утром на квартиру Григория Орлова и передал Агафону, что господин фехтмейстер хочет будто ехать опять к принцу, хочет объяснить все дело, рассказать обман и просить снова арестовать его оскорбителей.
Агафон принял это известие совершенно особенно, недаром старик был холопом всю жизнь у именитых столбовых дворян.
– Что ж? И за дело, – сказал Агафон, – вестимо, надувка. Нешто это хорошо, российским дворянам обманывать? Но вот что, голубчик ты мой, – объяснил он, – господа Орловы никого еще никогда, слава те, Христос, не обмошенничали. А денег мы найти не можем. Вот обожди, тебе господа все объяснят.
И Орловы действительно объяснили все умному и ловкому парню Анчуткину, бывшему почти крепостным их отца и пролезшему теперь в голштинцы. Они велели передать Котцау, что деньги будут у него непременно при первой возможности и чтобы он обождал только хотя бы до Фоминой. Затем было решено тотчас же начать «выколачивать» долг.
В той части Адмиралтейской площади, где был «Нишлот», благодаря ее очистке от всякого мусора, снова, по примеру прежних лет, было на праздниках народное гулянье. Гостиница бывала целый день полна веселящимся офицерством из иноземцев всех стран, там же всякий день по вечерам появлялся князь Тюфякин в сопровождении дюжего Шванвича. Орловы с приятелями прежде всего озаботились тем, чтобы как-нибудь заманить силача врага куда-нибудь в гости, дабы князь Тюфякин остался один. В крайнем случае они решались, однако, на сражение, несмотря на присутствие такого союзника у Тюфякина.
В четверг на Святой братья Всеволожские позвали к себе вечером в гости Шванвича, и, дабы отвлечь всякое подозрение, Алексей Орлов явился тоже на вечеринку. Отношения Орловых и Шванвича были оригинальные, особенные, таковые же, однако, каковы отношения держав. После мира – ожесточенная война, затем снова заключается мир на вечные времена, затем этим вечным временам выходит, иногда вскоре же, срок, и снова война, и опять вечный мир. А в промежутках от войны до войны отношения всегда самые дружеские.
Орловы часто сражались со Шванвичем, уступая в одиночку и побеждая, когда бывали вместе, но затем встречались в гостях, беседовали, вспоминали последние драки, смеялись и шутили. Так было и теперь. На вечере Всеволожских Алексей Орлов особенно любезничал со Шванвичем, задерживая его умышленно в гостях, чтобы дать время Григорию отдуть князя. Простодушный Василий Игнатьевич, конечно, не мог знать, что в то же время князь Тюфякин сидел с несколькими иноземными офицерами в «Немцевом карачуне», а к подъезду подъезжал никогда не бывающий гость со своими приятелями.
Когда Григорий Орлов сам-шест, с братьями Рославлевыми, Барятинским и Чертковым, явился в большой горнице, где пировали разные немцы с какими-то итальянскими актрисами, то князь Тюфякин побледнел как полотно и догадался. Хозяин «Нишлота» тоже понял, что будет и зачем пожаловал господин цалмейстер Орлов.
– Ну, голубчик, ваше сиятельство, – выговорил Григорий, смеясь, – посылай домой за деньгами. Срок прошел. Отбояривайся либо червонцами, либо синяками.
Тюфякин, струсивший донельзя, пробормотал что-то бессвязное и вышел из-за стола. Но товарищи его, иноземцы, не подозревавшие, с кем имеют дело, как только узнали, в чем все заключается, стали шуметь и полезли на незваных гостей, чтобы выгнать их вон из «Нишлота».
Наивные люди через две минуты уже вопили на весь квартал, а актрисы-иностранки, чуть не обезумев от испуга, рассыпались и полезли кто на шкаф, кто под стол.
В самый разгар рукопашной Тюфякин увернулся и выскочил из горницы. Орлов бросился за ним. Тюфякин, несмотря на свой страх, сообразил, что делать. Пробежав целую вереницу комнат, коридор и лестницу, он бросился на двор. Орлов, хотя и не знал расположения комнат, но преследовал его долго. Однако на темной лестнице князь Тюфякин, свой человек, пролетел как стрела, а ловкий, хотя и могучий в плечах Орлов не мог быстро проскочить в темноте по незнакомой лестнице. Когда он выскочил на двор, то Тюфякин, зная, что Орлов и бегать мастер, решился броситься и запереться в одном из погребов. Орлов подбежал к железной двери, когда замок уже скрипел внутри.
– Хоть до утра просижу здесь! – крикнул Григорий в дверь.
– Шванвич и раньше будет! – отозвался Тюфякин. – Посиди, посиди! Дождись!.. За ним послали конного.
Между тем всех товарищей Орлова немцы осилили и выгнали на улицу. Григорий услыхал их голоса через двор и крикнул:
– Сюда! Здесь заяц… Залег!
И военный совет среди полумглы ясной ночи перед дверью погреба решил, в ожидании появления Шванвича, послать скорее извозчика к Всеволожским за Алексеем, а покуда караулить князя.
Немцы, осилившие офицеров, разумеется, не захотели идти на Орлова во двор, чтобы спасать Тюфякина. Хозяин «Нишлота» уже объяснил, что за человек господин Орлов, и советовал дожидаться прибытия Шванвича, за которым он же и послал.
– А тогда идите… Хоть бы ради любопытства. Землетрясение будет! Ей-богу! – объяснял немец-хозяин гостям и актрисам.
Между тем у Всеволожских все мирно беседовали. Алексей Орлов рассказывал Шванвичу об одном заморском силаче Юнгфере и об его подвигах, которые были почище того, что они могут делать. Шванвич слушал с удовольствием и вниманием, когда вошел вдруг человек и вызвал его словами:
– Спрашивает вас конный…
Шванвич, узнав от курьера хозяина «Нишлота», в чем дело, не вернулся снова в горницу. Не взяв шляпы и шпаги, он поспешно спустился за ним на улицу и, как был, сел на извозчика. Видя, что гость не ворочается из передней, Всеволожские вышли за ним в недоумении.
– Что за притча! – сказал один из братьев.
Но Алексей Орлов тотчас догадался, куда поехал Шванвич, простоволосый и без оружия. Через минуту и он был на улице. На его несчастье, Шванвич ускакал на единственном извозчике, и ему приходилось пуститься бегом!
Между тем в «Немцевом карачуне» чуть не произошел еще до прибытия Шванвича карачун русским. В герберг вдруг явилась из Ораниенбаума целая кучка голштинских офицеров кутнуть ради праздника. Тотчас же узнали они, что их русский товарищ, Тюфякин, сидит в погребе, а на страже находится цалмейстер Орлов, во всем полку ненавидимый за его фокус с Котцау.
И с веселыми кликами компания человек в двенадцать бросилась к Григорию и его пятерым товарищам. Григорий всегда «пуще разгорался», по выражению братьев, когда следовало, наоборот, хладнокровно уступить обстоятельствам. Умеряющего его пыл брата не было теперь. Голштинцы подступили, требуя выпустить из заточения их товарища. Орлов в ответ назвал их по-немецки очень крепко… Через мгновение товарищи Орлова были побиты и прогнаны со двора. Два голштинца уже с воплем покатились на землю от здоровых затрещин Григория, но зато тотчас же вслед за ними покатился и сам могучий богатырь, облепленный остервенившимися немцами, как мухами… Однако через мгновение страшным усилием удалось Орлову все-таки подняться и вырваться. И, разбросав кулаками и ногами всю свору, он бросился в сторону к рядам сложенных на дворе дров. В эту же минуту появился в полумгле Шванвич, бежавший рысью на своих коротких ногах.
– Что? Где князь?.. Где Гришутка? – вскрикнул он, подбегая, но, увидя себя окруженным немцами, он остановился…
Князь, заслыша голос нового приятеля, отпер дверь и явился на пороге погреба…
– Ну, голубчик Василий Игнатьевич, помоги… – выговорил он. – Надо и его поучить. Он меня чуть не искалечил на всю жизнь. Где он?
– Здесь! – крикнул Орлов.
– Вон… Вон он! На дровах!
Действительно, Григорий Орлов при появлении силача, с которым он один справиться никогда не мог, мигом влез на сложенные саженями дрова. Могучая фигура его высоко рисовалась на чистом и ясном ночном небе.
– Знает, плут, что я лазать не мастер! – вскрикнул Шванвич. – Ну, да попробую…
Но едва только он двинулся лезть тоже на дрова к Орлову, как тот нагнулся за оружием… Большущее бревно тотчас полетело и просвистело над головой Шванвича, потом другое… а третье шлепнулось ему прямо в грудь с такой силой, что всякого бы опрокинуло навзничь. По странной случайности или от пыльного полена, но Шванвич, получив удар, вдруг громко чихнул. Залп хохота голштинцев огласил двор.
– Будьте здоровы, Василий Игнатьевич, – крикнул Григорий весело. – Прикажете еще одно бревнышко? У меня их тут много!..
И несколько полен снова полетели и в Шванвича, и в подступавшую тоже кучку голштинцев с князем во главе. Шванвич, кой-как уберегая свою голову без шапки, наконец вскарабкался и уже шел по дровам на Григория. Он забавно распахнул при этом объятья как бы ради встречи дорогого гостя или приятеля.
– Ну, Гришуня, коли что накопил, завещай скорее в монастырь на помин души! – добродушно и звонко хохотал Шванвич, неуклюже шагая по бревнам.
Орлов смутился… Бежать было стыдно на глазах всей компании голштинцев, а совладать со Шванвичем одному было невозможно.
«Ну задаст он мне теперь!» – подумал Григорий.
Но «господам» Орловым всегда была удача во всем. Едва только Шванвич, сопя, обхватил Григория в охапку, как сзади его показалась третья могучая фигура. Алексей Орлов, тихонько пробравшийся по двору, незаметно пролез давно за дрова и ждал как бы в засаде приближения Шванвича к брату. И две могучие фигуры вдруг насели на третью, рисуясь на ясном небе.
– Ах, проклятый! – вскрикнул Шванвич. – Ты откуда взялся?!
Голштинцы стали. Любопытство пересилило в них вражду. Напрасно Тюфякин травил их: немцы предпочли поглазеть на зрелище…
Борьба двух богатырей с третьим состояла в едва заметных движениях, только громкое сопение говорило о могучих усилиях всех троих. Дело затягивалось. Силы на этот раз оказались равны. Григорий устал уже от прежней драки, а Алексей пробежал версту пешком… Бог весть, скоро ли кончился бы молчаливый поединок, но от топотни и возни трех грузных молодцов подломились колья, державшие ряд дров. И все посыпалось сразу! А вместе с бревнами и три борца покатились на землю каким-то большущим клубком, из которого мелькнули только их ноги.
Шванвич ловко вырвался при падении из лап братьев, но, отбежав, ухватил бревно и швырнул во врагов. Братья тотчас отвечали тем же. Голштинцы не замедлили присоединиться к этого рода пальбе, с одной стороны, а с другой – появились снова прокравшиеся товарищи Орловых… И пошла отчаянная перестрелка и пальба – полудрака, полушутка, но при которой, однако, через мгновение уже были расквашены в кровь головы и лица. Наконец, среди града поленьев и бревен, Шванвич, выбрав одно здоровенное, стал, примерился, спокойно прицелился в Алексея и пустил. Бревно засвистело и метко щелкнулось в голову. Алексей даже не вскрикнул и повалился, как сноп, на землю, усеянную дровами.
– Стой! Стой! Убили! – крикнул кто-то.
Григорий бросился к брату, нагнулся и воскликнул в испуге:
– Алехан!.. Что ты?!
Но брат лежал без движения и без чувств, а из щеки и виска сочилась кровь.
– Воды! Воды! Черти! Немцы! Воды! – крикнул Шванвич, нагибаясь тоже. – В горницы его, в горницы!
И все русские борцы, даже Тюфякин, подхватили раненого и понесли со двора в трактир. Только голштинцы глядели и улыбались, перебрасываясь замечаниями насчет опасности раны в висок.
XX
Талантливый дипломат барон Гольц был избран и послан в Россию самим Фридрихом.
Чтобы добиться того, чего хотел Фридрих II, надо было, так сказать, вывернуть наизнанку отношения двух кабинетов. При покойной императрице Россия была злейший враг Пруссии и вдобавок победоносный; большая часть королевства была завоевана и во власти русских войск.
Теснимый со всех сторон и Австрией и Россией, Фридрих уже предвидел свою конечную гибель и крушение своей династии. Он знал, что при вступлении на престол Петра III война прекратится. Мнение это было даже распространено и в Петербурге, и по всей России. Поэтому именно, когда императрица скончалась от странной болезни, которую не понимали доктора, ее лечившие, и которая внешними признаками крайне походила на отравление, то общий голос был, что это дело фридриховских рук. Самые образованные люди были в этом убеждены. От смерти Елизаветы мог выиграть только Фридрих. Когда король получил от нового русского императора доказательство глубочайшего к нему уважения и дружбы и приглашение быть не только союзником, но и учителем, Фридрих понял, что он от Петра получит даже больше, чем мог надеяться. Все дело зависело от искусства. Относительно чувств Петра к Германии и к нему лично Фридрих никогда не сомневался ни минуты и говорил про Петра Федоровича:
– Он больше немец, чем я. Я даже не немец, а европеец, а Петр Третий даже не немец, а голштинец.
И Фридрих послал в Петербург своего любимца с тайными полномочиями, самыми важными и щекотливыми.
Барон Гольц, хотя молодой человек, уже заявил себя на поприще дипломатии. Он был вдобавок очень образован, тонкий и хитрый и обладал искусством, или, скорее, даром, нравиться всем.
Но ума и искусства тут было мало; Фридрих придал ко всем качествам посла туго набитый кошелек.
– Деньги в России – все, – сказал он. – Кто поглупее, берите того даром; кто поумнее, покупайте.
Гольц приехал в Россию в феврале и теперь, через два месяца, лично знал весь чиновный Петербург, и все сановники любили его, даже те, которые считались немцеедами. Но Гольцу было этого мало, он проникал всюду, из всякого извлекал то, что мог извлечь. Думая о своей деятельности в Петербурге, он невольно мог самодовольно улыбнуться. Он мог сказать, что ткал большую фридриховскую паутину, в которой должна была поневоле запутаться Россия.
Вскоре после своего приезда Гольцу удалось среди всех иностранных резидентов занять не только первое место и сделаться другом государя, но ему удалась самая хитрая и в то же время самая простая интрига. Послы иностранные и резиденты всех великих держав перестали быть принимаемы государем. Только один английский посол Кейт бывал иногда, но не имел и тени того влияния, каким пользовался Гольц.
Австрийский и французский посланники, Брейтель и Мерсий, имевшие огромное значение при Елизавете как резиденты союзных держав, теперь как бы не существовали.
Гольц убедил государя, что все посланники должны относиться к Жоржу почти так же, как к нему, императору. Гольцем и был придуман первый визит послов к принцу. Так как это было против всяких правил и принятых обычаев в дипломатическом мире, то все послы отказались являться к принцу. Государь разгневался, принимал послов, но обходился с ними крайне резко. Подошла Святая. Гольц опять замолвил словечко о визите, и на этот раз, когда послы снова отказались отправиться с поздравлением к принцу, тот же Гольц тонко надоумил государя не принимать в аудиенции ни одного резидента, покуда они, списавшись со своими правительствами, не исполнят его приказания.
Последствием этого был мирный договор между Россией и Пруссией, который готовился к подписанию государя.
За это время Гольц закупил всех окружающих государя и придворных и вельмож высшего общества – одних своим умом и любезностью, других просто червонцами. Вскоре он пользовался уже таким влиянием на государя, что сам принц Жорж часто просил его замолвить словечко о чем-нибудь, касающемся внутренних дел.
Гольц был слишком умен, чтобы не заметить все увеличивавшегося ропота на действия нового императора. Он боялся за Петра Федоровича и его популярность, потому что с его личностью было связано спасение Фридриха и Пруссии. Он зорко следил за всеми, кто не был искренним, откровенным другом Пруссии, в особенности за теми, кого он не мог купить ни ласковостью, ни деньгами.
Но как иноземец, хотя и талантливый, Гольц ошибся, и те, кого он считал самыми влиятельными и в то же время врагами своими, в сущности, не имели никакого значения; тех, кто усиливался всякий день, был тайным заклятым врагом и правительства, и новых сношений с Фридрихом, Гольц не приметил. Да мог ли он думать, что в этой большой империи, в этой столице на самой окраине империи, все зависело от преторианцев? Мог ли Гольц думать, что маленький кружок офицеров на углу Невского и Большой Морской, в маленьком домике банкира Кнутсена, есть главный враг его?
Гольц продолжал ежедневно заводить новые знакомства и новых друзей. Однажды он встретил на одном вечере блестящую красавицу, иноземку, как и он, вдобавок говорящую не хуже его самого на его родном языке, и он решился познакомиться с ней.
Дело было нетрудное. Фленсбург, с которым он был в отличных отношениях, оказался хорошим знакомым красавицы. Хотя очень не хотелось адъютанту принца ввести опасного соперника в дом женщины, в которую он был влюблен сам, но делать было нечего.
Через два дня после разговора Маргариты с Фленсбургом барон явился к ней, просидел очень мало, но, конечно, успел понравиться Маргарите.
Посещение такого влиятельного лица, почти друга государя, не могло не быть лестным графине. На другой день Гольц, под предлогом спросить у светской львицы, кто лучший золотых дел мастер в Петербурге, явился опять, но просидел гораздо дольше. Маргарита для большого заказа, который Гольц хотел сделать, рекомендовала ему бриллиантщика женевца Позье.
Через два дня после этого Гольц опять приехал с рисунком большого букета, который предполагалось сделать из бриллиантов на сумму в пять тысяч червонцев. Он стал просить графиню сделать ему одолжение и заказать для него этот букет у Позье.
Маргарита поневоле изумилась, и ей захотелось знать, кому готовится такой щедрый подарок.
Гольц рассмеялся и вымолвил:
– Я не могу этого сказать. И вообще я многого не могу сказать вам, хотя бы и желал, до тех пор, графиня, покуда вы не согласитесь заключить со мной наступательный и оборонительный союз в том деле, которому я принадлежу и телом и душой. Согласны ли вы на честное слово вступить со мной в этот союз?
Маргарита, смущаясь, согласилась.
Дальновидный и тонкий человек протянул ей руку. Маргарита протянула свою. Гольц изысканно вежливо поцеловал хорошенькую ручку, пожал и прибавил, смеясь:
– Вместе на жизнь и на смерть?
– Святая Мария! Это даже страшно! – кокетливо отозвалась Маргарита.
– Слушайте меня теперь, – сказал Гольц. – Букет этот я поднесу графине Воронцовой! Зачем? Выслушайте.
Гольц начал говорить, и первой же половиной речи дипломата Маргарита была совершенно поражена.
Он начал не со своего дела, не с букета. Он стал говорить о ней самой, графине Скабронской, о ее положении, о том, как природа щедро одарила ее и как выгодно поставила среди грубого петербургского общества, и, наконец, о том, чем может быть при его содействии такая красивая и умная женщина. А чем? Ему прямо сейчас сказать неловко!
И Маргарите показалось, что в словах Гольца она увидала свой собственный изумительно схожий портрет со всеми своими тайными помыслами и желаниями, а то, что Гольц еще не решался досказать, именно и было той сокровенной тайной, которая преследовала Маргариту за последнее время.
Гольц, очевидно, и эту тайну проник или… додумался до нее на основании французской поговорки: les beaux esprits se rencontrent[53].
– Прав ли я или ошибаюсь, – закончил Гольц. – И хотите ли вы, при моем искреннем и усердном содействии, достигнуть того, чего вы можете, должны достигнуть? О некоторых подробностях я покуда умолчу из опасения. Извините.
И вдруг Гольц прибавил, упорно глядя в лицо молодой женщины:
– Скажите, в пребывание ваше в Версале познакомились ли вы с madame de Pompadour?[54] Вот женщина! Правит всей Европой.
Гольц так глядел в лицо красавицы, что Маргарита невольно вспыхнула. Тайна ее была раскрыта, и кем же? Чужим человеком, с которым она только что познакомилась. Маргарита была так поражена этой беседой с новым и странным другом, что почти рассеянно выслушала вторую часть речи Гольца.
Он советовал ей поболее выезжать, бывать на всех вечерах и балах, познакомиться со всеми посланниками и их семействами, но при этом делать, говорить и узнавать то, что он ей поручит.
– Вы будете моим тайным секретарем, и я уверен, что вы можете действовать успешнее многих наших посольских молодых людей, потому что вы женщина, а главное, красавица.
Уже собираясь уезжать, Гольц полушутя вымолвил:
– Итак, мы с вами друзья и союзники на жизнь и на смерть. Ах да, я забыл прибавить, что у друзей и союзников кошелек общий. Какие бы деньги вам ни понадобились на всякого рода траты, скажите только слово.
Видя, что графиня Скабронская вспыхнула, слегка выпрямилась и глянула на него гневно, Гольц протянул ей руку.
– Вашу ручку, графиня, и сядьте опять. Мы много беседовали, и вы меня все-таки не поняли.
И Гольц, убедительно, красноречиво, даже горячо развив всю ту же мысль, объяснил Маргарите еще подробнее, что именно он ей предлагает, чего будет требовать, и закончил словами:
– Прежде всего я буду просить вас заказать этот букет и уплатить деньги, соблюдая полную тайну. Деньги эти, как и те, что вы будете получать, – не мои. Поймите, графиня. Это деньги прусские, государственные, это то же жалованье. Подобные суммы тратит всякий двор в иностранных землях. Всякая европейская держава теперь тратит самые большие суммы при русском дворе и при турецком. Скольких денег стоила Людовику Пятнадцатому или Марии-Терезии Россия, мы с вами в год не сочтем. Вы ахнете, если узнаете, каких сумм стоило Франции и маркизу Шетарди вступление на престол покойной императрицы и сколько сотен тысяч за полстолетия было поглощено немецкими проходимцами, правившими Русской империей.
Гольц говорил так горячо и так искренне и, наконец, показал этой красавице в далеком будущем такую тень, которая воплощала в себе ее сокровенную мечту! Маргарита невольно опустила голову и глубоко задумалась.
Ей стало жутко, страшно. Ей показалось, что она вдруг взлетела на неизмеримую высоту, а что там, где-то внизу, шевелятся маленькие существа. И эти маленькие людишки – ее муж, Иоанн Иоаннович, даже Фленсбург, даже принц Жорж! Этот полузнакомый человек подал ей сейчас руку и будто сразу поставил ее на эту высоту. Красавица чувствовала, что у нее как бы кружится голова.
Гольц, смеясь и несколько раз поцеловав ее обе руки, говорил, прощаясь:
– Сегодня же вечером или завтра утром явится к вам банкир Ван Крукс. Кстати, он хозяин вашего дома. И он передает вам необходимую сумму на уплату бриллиантщику. А затем, когда вы пожелаете сказать одно слово, он же передаст вам ваше жалованье, госпожа-секретарь королевскопрусской легации.
Гольц вышел, а Маргарита стояла истуканом среди маленькой гостиной, и теперь уже не в воображении, а в действительности у нее кружилась голова.
– Святая Мария! Точно бред! – выговорила она шепотом.
Сноски
1
Дурак! Где эти люди? (нем.)
(обратно)2
Большое спасибо! (нем.)
(обратно)3
Спокойно! (нем.)
(обратно)4
Боже! Что за глупая история!! (нем.)
(обратно)5
Боже! Что это?..
(обратно)6
«Спеши медленно» (лат.).
(обратно)7
Я? Очень немного, ваше царское… (нем.)
(обратно)8
Иисус (нем.).
(обратно)9
Мой дорогой (нем.).
(обратно)10
Переводить (нем.).
(обратно)11
Я? Очень немного! (нем.)
(обратно)12
Что? (нем.)
(обратно)13
Да, да! (нем.)
(обратно)14
Кое-что (нем.).
(обратно)15
О Всевышний! (нем.)
(обратно)16
Желаю здравствовать, господин Нихт-михт (нем.).
(обратно)17
Что нового, мой дорогой? (нем.)
(обратно)18
Ваше высочество (нем.).
(обратно)19
Хорошо! Прекрасно! (нем.)
(обратно)20
Мой дорогой (нем.).
(обратно)21
Петр III (нем.).
(обратно)22
Полны дураков и животных (фр.).
(обратно)23
Разве это язык!.. Это не язык, а собачий лай! (фр.)
(обратно)24
«Отче наш» и «Верую» (лат.).
(обратно)25
Никогда не касайся пола (фр.).
(обратно)26
Уклоняйся общества старых дам! (фр.)
(обратно)27
Это маленький Париж! (фр.)
(обратно)28
«Господин граф» (фр.).
(обратно)29
«Невский медведь» (фр.).
(обратно)30
«Белый медведь, вампир, циклоп, старый осел» (фр.).
(обратно)31
Молодому русскому версальцу (фр.).
(обратно)32
О мой Бог! (фр.)
(обратно)33
Королевский проспект (фр.).
(обратно)34
Дорогая графиня (нем.).
(обратно)35
Господин граф (фр.).
(обратно)36
Как дьяволы! На рассвете!.. (фр.)
(обратно)37
Авантюристка!! (фр.)
(обратно)38
Как сказать: месяц? (нем.)
(обратно)39
Скажите, пожалуйста… Мне это не подходит! (нем.)
(обратно)40
«Лед тронулся!» (фр.)
(обратно)41
Папа Лотхен Первый, глава первосвященства! (лат.)
(обратно)42
Полное отпущение! (лат.)
(обратно)43
«Великий неизвестный» (лат.).
(обратно)44
Что это? (нем.)
(обратно)45
Прекрасно! (нем.)
(обратно)46
Дурак! Дурак! Дурак! (нем.)
(обратно)47
Прежде всего удивительно и… очень глупо (нем.).
(обратно)48
Что? (нем.)
(обратно)49
Странно! (нем.)
(обратно)50
«Благоденствия желаю тебе, ваша светлость!» (лат.)
(обратно)51
«Если ты здоров, ваша светлость, хорошо…» (лат.)
(обратно)52
Шуазель и мадам де Помпадур, они оба имеют здравого смысла больше, нежели все высочества и члены правительства. Что касается резиденции Ван дер Хоффена, то там хорошо разбираются в «птичьем дворе», так как представляют Нидерланды! Черт побери! У вас такой вид, как будто ничего не понимаете… (фр.) («Птичьим двором» называли компанию мадам Помпадур.)
(обратно)53
Встретился друг по духу (фр.).
(обратно)54
С госпожой Помпадур? (фр.)
(обратно)
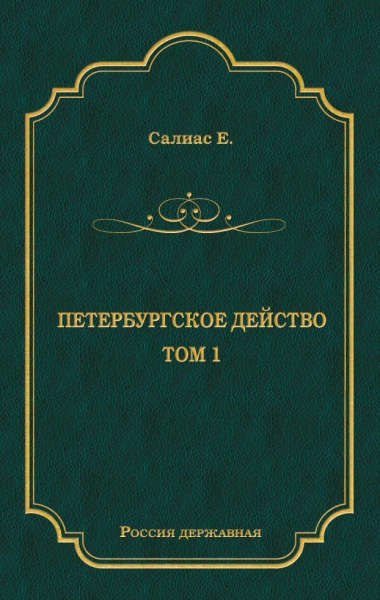

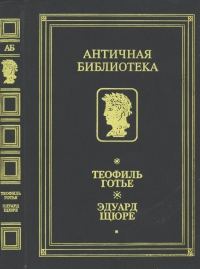


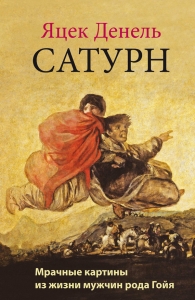
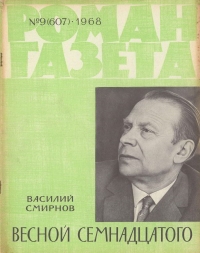
Комментарии к книге «Петербургское действо. Том 1», Евгений Андреевич Салиас
Всего 0 комментариев