Генри Хаггард Древний Аллан. Дитя из слоновой кости
Знак информационной продукции 12+
© Алчеев И.Н., перевод на русский язык, 2016
© Непомнящий Н.Н., перевод на русский язык, 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства
Хаггард Генри Райдер
Библиография Генри Райдера Хаггарда
Книжные публикации
[герои серий: *А – Аиша, *А.К. – Аллан Квотермейн]
«Рассвет» (Dawn, 1884)
«Голова ведьмы» (The Witch’s Head, 1884)
«Копи царя Соломона» (King Solomon,s Mines, 1885) *А.К.
«Она» (She. A History of Adventure, 1886) *А
«Джесс» (Jess. A Tale of the Boer War, 1887)
«Аллан Квотермейн» (Allan Quatermain, 1887) *А.К.
«Завещание мистера Мизона» (Mr. Meeson’s Will, 1888)
«Месть Майвы» (Maiwa’s Revenge, 1888) *А.К.
«Полковник Кварич» (Colonel Quaritch, V.C., 1888)
«Клеопатра» (Cleopatra, 1889)
«Жена Аллана» (Allan’s Wife, and Other Tales, 1889) *А.К.
«Беатрис» (Beatrice, 1890)
«Мечта Мира» (The World’s Desire, 1890) – соавтор Эндрю Лэнг
«Эрик Светлоокий» (Eric Brighteyes, 1891)
«Нада» (Nada the Lily, 1892)
«Дочь Монтесумы» (Montezuma’s Daughter, 1893)
«Люди тумана» (The People of the Mist, 1894)
«Сердце мира» (Heart of the World, 1895)
«Джоанна Хейст» (Joan Haste, 1895)
«Колдун» (The Wizard, 1896)
«Доктор Терн» (Doctor Therne, 1898)
«Ласточка» (Swallow: A Tale of the Great Trek, 1899)
«Черное Сердце и Белое Сердце, и др. истории» (Black Heart and White Heart, 1900)
«Лейденская красавица» (Lysbeth. A Tale of the Dutch, 1901)
«Жемчужина Востока» (Pearl-Maiden: A Tale of the Fall of Jerusalem, 1903)
«Стелла Фрегелиус. История трех судеб» (Stella Fregelius: A Tale of Three Destinies, 1903)
«Братья» (The Brethren, 1904)
«Аиша: Она возвращается» (Ayesha: The Return of She, 1905) *А.
«Путь духа» (The Way of the Spirit, 1906)
«Бенита» (Benita: An African Romance, 1906)
«Прекрасная Маргарет» (Fair Margaret, 1907)
«Короли-призраки» (The Ghost Kings, 1908)
«Желтый бог, африканский идол» (The Yellow God; an Idol of Africa, 1908)
«Хозяйка Блосхолма» (The Lady of Blossholme, 1909)
«Утренняя Звезда» (Morning Star, 1910)
«Перстень царицы Савской» (Queen Sheba’s Ring, 1910)
«Красная Ева» (Red Eve, 1911)
«Махатма и заяц» (The Mahatma and the Hare: A Dream Story, 1911)
«Мари» (Marie, 1912) *А.К.
«Дитя Бури» (Child of Storm, 1913) *А.К.
«Ожерелье Странника» (The Wanderer’s Necklace, 1914)
«Священный цветок» (The Holy Flower, 1915) *А.К.
«Дитя из слоновой кости» (The Ivory Child, 1916) *А.К.
«Кечвайо Непокорный, или Всё кончено» (Finished, 1917) *А.К.
«Вечная любовь» (Love Eternal, 1918)
«Луна Израиля» (Moon of Israel: A Tale of the Exodus, 1918)
«Когда мир содрогнулся» (When the World Shook, 1919)
«Древний Аллан» (The Ancient Allan, 1920) *А.К.
«Суд фараонов» (Smith and the Pharaohs, and Other Tales, 1920)
«Она и Аллан» (She and Allan, 1921) *А, *А.К.
«Дева Солнца» (The Virgin of the Sun, 1922)
«Дочь Мудрости» (Wisdom’s Daughter, 1923) *А
«Хоу-Хоу, или Чудовище» (Heu-Heu, or The Monster, 1924) *А.К.
«Владычица Зари» (Queen of the Dawn: A Love Tale of Old Egypt, 1925)
«Сокровище Озера» (The Treasure of the Lake, 1926) *А.К.
«Аллан и боги льда» (Allan and the Ice Gods: A Tale of Beginnings, 1927) *А.К.
«Мэри с острова Марион» (Mary of the Marion Isle, 1929)
«Валтасар» (Belshazzar, 1930)
Дитя из слоновой кости
Глава I Аллан дает урок стрельбы
Я хочу рассказать об одном из самых необыкновенных приключений в своей жизни, которую вряд ли можно назвать бесцветной.
Начало его относится к тому времени, когда я приехал в Англию с молодым джентльменом по имени Скруп отчасти для того, чтобы проводить его домой после одного случая на охоте, отчасти по другим делам.
Там я прожил некоторое время у Скрупа или, вернее, у родных его невесты в их красивом доме в Эссексе.
Во время своего пребывания в этих краях я имел случай видеть великолепный старинный замок с башенными воротами, искусно отреставрированный и превращенный в современный жилой дом. Будем называть этот замок «Регнолл-Кастлом», по имени его владельца.
Я многое слышал о лорде Регнолле. Говорили, что он удивительно красив, обладает большими научными познаниями, хороший спортсмен – был капитаном в оксфордских лодочных гонках, – блестящий оратор, уже отмеченный в палате лордов, смелый охотник, застреливший много тигров и других крупных зверей в Индии, поэт, издавший под псевдонимом том своих стихотворений, имевших значительный успех, хороший офицер в бытность на военной службе и, наконец, обладатель колоссального состояния: сверх огромных поместий он владел несколькими каменноугольными копями и целым городом на севере Англии.
– Господи! – воскликнул я, когда этот длинный перечень был наконец окончен. – Должно быть, этот человек родился в рубашке. Но, по всей вероятности, он несчастлив в любви?
– В этом-то именно он счастливее всего, – ответила мисс Маннерс, невеста Скрупа, с которой я разговаривал, – мне говорили, что он помолвлен с самой милой, красивой и умной девушкой во всей Англии и что они обожают друг друга.
– Господи! – повторил я. – Удивительно, почему судьба так щедра по отношению к лорду Регноллу и его возлюбленной?
Впоследствии мне суждено было узнать это…
Когда на следующее утро мне предложили отправиться посмотреть редкости Регнолл-Кастла, я охотно согласился.
Однако мне интереснее всего было взглянуть, если представится случай, на самого лорда Регнолла, так как все перечисленные достоинства его произвели на меня, бедного колониста, весьма сильное впечатление.
Часто сталкиваясь в жизни с демонами в человеческом образе, я никогда не встречал ангелов, по крайней мере мужского пола.
Кроме того, мог представиться случай увидеть невесту лорда, которую, как я узнал, звали мисс Холмс.
Итак, ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем посещение этого замка.
Был уже декабрь; стояла тихая морозная погода.
По приезде в Регнолл-Кастл Скрупу сообщили, что лорд Регнолл (с которым он был хорошо знаком) занимается стрельбой где-то в парке, но что мистер Скруп может показать своему другу замок.
Мы вошли втроем, так как с нами была мисс Маннерс, которая привезла нас в своей коляске, запряженной пони. Привратник передал нас у главного входа мужчине, которого он назвал мистером Сэвиджем, шепнув мне, что это личный слуга его светлости.
Это имя совершенно не соответствовало внешности его владельца[1]. Он показался мне переодетым герцогом, насколько я представлял себе герцогов, никогда не видев ни одного.
Его платье – на нем был черный утренний костюм – было безукоризненно; манеры изысканны, учтивость граничила с иронией с оттенком скрытой надменности. Он был красив со своим тонким носом и смелыми ястребиными глазами. Лет ему было, вероятно, тридцать пять-сорок, и манера, с которой он отобрал у меня палку и шляпу, обнаруживала решительный характер. По всей вероятности, он считал меня способным повредить палкой картины и другие произведения искусства, находившиеся в замке.
Впоследствии мистер Сэмюэль Сэвидж признался мне, что я не ошибся в своем предположении. Судя обо мне по наружности, он принял меня за анархиста, о которых он читал в газетах.
Этот человек, столь безукоризненный в других отношениях, удивительно коверкал некоторые слова.
Показывая нам картины, он говорил о них языком хорошего художественного критика, но вдруг так коверкал какое-нибудь слово, что получалось впечатление, как от ушата холодной воды, опрокинутого на голову.
Он водил нас по парадным комнатам замка, показывая нам множество редких дорогих вещей и по крайней мере сотни две картин лучших старых мастеров.
При этом ему представился случай обнаружить свое особенное, вернее, превратное понимание истории. Сказать правду, мне скоро надоело выслушивать бесконечные подробности, тем более что в парадных комнатах было очень холодно.
По пути из большой галереи в меньшую мы проходили через небольшую комнату, довольно уютную и хорошо натопленную.
То была студия лорда Регнолла.
Задержавшись на минуту у огня, я заметил на стене картину, покрытую полотном, и спросил Сэвиджа, что она изображает.
– Это, сэр, – ответил он с гордой скромностью, – портрет будущей супруги его светлости; портрет, так сказать, только для глаз его светлости.
Мисс Маннерс сдержала улыбку, а у меня мелькнула мысль, что скрывать портрет таким образом – совсем дурная примета.
Потом, увидев в открытую дверь переднюю, где остались моя шляпа и палка, я замедлил шаги и, когда мои спутники скрылись в галерее, забрал свои пожитки и вышел в парк, рассчитывая согреться ходьбой взад и вперед по террасе до возвращения Скрупа и его невесты.
Я слышал несколько выстрелов, доносившихся из небольшой дубовой рощи, ярдах в пятистах от меня. Стреляли, очевидно, из маленького недробового ружья.
Стрельба – моя профессия; я не мог сдержать своего любопытства и направился к роще окружным путем, через кустарник. Скоро я очутился у одного конца полянки и из-за прикрытия огромного старого вяза увидел недалеко от себя двух мужчин.
Одним из них был молодой егерь, державший и заряжавший запасное ружье, в другом я сразу признал лорда Регнолла. Это был действительно очень красивый широкоплечий мужчина высокого роста, с острой бородкой, приветливым лицом и большими темными глазами. На его плечи был накинут плащ, и во всем, за исключением ружья в руках, он походил на своих предков времен Карла I, портрет которого, писанный Ван Дейком, я видел в большой галерее замка.
Стоя за дубом, я видел, как он тщетно пытался подстрелить одного из лесных голубей, спускавшихся покормиться желудями.
Когда перед спуском на землю они как бы задерживались в воздухе, охотник стрелял, и они улетали.
Бах! Бах! Снова раздались два выстрела из двуствольного ружья. Голубь улетел цел и невредим.
– Черт возьми! – весело воскликнул охотник. – Ведь это двенадцатый промах, Чарльз!
– Ваша светлость попали в хвост. Я видел, как полетело перо. Но разве может кто-нибудь, да еще при ветре, попасть в голубя пулей, даже когда тот собирается сесть на землю?
– Я слышал об одном таком человеке, Чарльз. У мистера Скрупа гостит его друг из Африки, который из шести раз попадает четыре.
– В таком случае друг мистера Скрупа – лжец, – возразил Чарльз, подавая новое ружье.
Это было слишком. Я выступил вперед, вежливо пр иподнял шляпу и сказал:
– Извините, сэр, что я прерываю вас, но вы совершенно неправильно стреляете по голубям. То, что они как бы задерживаются в воздухе, только кажется нам. В действительности они очень быстро опускаются на землю. Ваш егерь ошибается, утверждая, что вы попали в хвост последней птице, в которую вы стреляли из обоих стволов. В том и другом случае ваша пуля пролетела по крайней мере на фут выше цели, и упал дубовый лист, а не перо голубя.
На минуту воцарилось молчание. Лорд Регнолл, вначале сердито посмотревший на меня, улыбнулся и сказал:
– Сэр, благодарю вас за совет, который мне весьма полезен, так как я все время делал промахи, стреляя по голубям из этих маленьких ружей. Но, быть может, вы сами на практике покажете, как это делается, что, без сомнения, еще более увеличит цену вашего совета.
Это было сказано не без легкой иронии.
– Дайте мне ружье, – сказал я, снимая пальто.
Лорд Регнолл с поклоном передал мне свою двустволку.
Чарльз презрительно фыркнул.
Я смерил его взглядом, но он продолжал дерзко смотреть на меня. Никогда в жизни меня так не раздражала лакейская наглость.
Вдруг сомнение охватило меня. А вдруг я промахнусь? Ведь это легко может случиться, так как я плохо знаю полет английских лесных голубей. Как тогда снести лакейское презрение Чарльза и учтивую насмешливость его знатного хозяина?
Я молил Бога, чтобы голуби больше не прилетали, но напрасно: вскоре они снова начали слетаться на поиски лакомых желудей.
Я слышал, как Чарльз пробормотал:
– Ну вот, теперь этому учителю представляется случай показать свое искусство. Его светлость – лучший стрелок в наших краях!
Пока он говорил, появились два голубя, летевшие один за другим. Первый из них начал снижаться ярдах в пятидесяти от меня, второй – приблизительно в семидесяти. Я выбрал первого, тщательно прицелился и выстрелил. Пуля попала ему в зоб, откуда дождем посыпались съеденные им желуди.
Птица камнем упала на землю. Второй голубь, почуяв опасность, начал быстро подниматься вверх почти по вертикальной линии. Я выстрелил: пуля отбила ему голову. Потом я взял из рук Чарльза заряженное им второе ружье и снова увидел двух приближающихся голубей. Я рискнул сделать трудный выстрел и на лету попал одному из них в хвост. Однако он быстро спустился и забился на земле. Прицелившись вторично, я нажал гашетку; курок щелкнул, но выстрела не последовало. Тут мне представился случай проучить Чарльза.
– Молодой человек, – сказал я, в то время как он, разинув рот, смотрел на меня, – вам следует научиться внимательнее обращаться с оружием. Если вы подали стрелку незаряженное ружье, вы способны сделать и более опасную оплошность.
Потом, повернувшись к лорду Регноллу, я прибавил:
– Я должен просить извинения за свой третий выстрел, который осрамил меня, так как, взявши слишком мало вперед, я сделал ошибку, от которой предостерегал вас. Однако этот выстрел может показать вашему слуге разницу между голубиным хвостом и листом дуба.
Перья бедной птицы все еще кружились в воздухе.
– Это сам черт! – пробормотал Чарльз.
Но его хозяин строго взглянул на него и, приподняв шляпу, обратился ко мне:
– Сэр! Ваша практика далеко превосходит теорию. Я поздравляю вас с таким удивительным искусством, почти граничащим с чудом, если только не случайность…
Тут он запнулся.
– Вполне естественно, что вы так думаете, – ответил я, – но, если мы подождем еще голубей и мистер Чарльз будет аккуратно заряжать ружья, я надеюсь переубедить вас.
Однако последовавший в этот момент громкий возглас Скрупа, искавшего меня, разогнал всех голубей по крайней мере на полмили. Впрочем, об этом я не очень сожалел.
– Я должен пожелать вам доброго утра, – сказал я, – меня зовут мои друзья.
– Одну минуту, – воскликнул охотник, – могу я просить вас назвать свое имя? Меня зовут Регнолл – лорд Регнолл.
– А меня Аллан Квотермейн, – сказал я.
– О! – воскликнул лорд Регнолл. – Это объясняет дело. Чарльз! Этот джентльмен – друг мистера Скрупа. Вы позволили себе сказать, что он… преувеличивает. Вам следует извиниться.
Но Чарльза уже и след простыл.
В это время показались Скруп и его невеста, слышавшие наши голоса.
Последовало объяснение.
– Мистер Квотермейн показывал мне, как надо стрелять по лесным голубям из малокалиберных ружей, – сказал лорд Регнолл.
– О, он весьма компетентен в этом, – заметил Скруп.
– Это единственное, что я умею делать, – скромно возразил я, – но, без сомнения, его светлость гораздо искуснее меня в стрельбе из дробовых ружей, в которой я имел очень мало практики.
– Да, – сказал Скруп, – я не советую вам состязаться с ним, так как лорд – один из лучших стрелков Англии.
– Вы преувеличиваете, – смеясь, заметил лорд Регнолл, – но, знаете, у меня появилась идея. Завтра мы собираемся устроить большую охоту в роще, где до сих пор никто не охотился. Быть может, мистер Квотермейн не откажется присоединиться к нам?
– К сожалению, это невозможно, – ответил я, – так как у меня нет с собой ружья.
– Это ничего не значит; у меня есть пара лишних централок, и прошу вас располагать ими.
Делать было нечего – оставалось принять приглашение.
– Очень жаль, мистер Скруп, – продолжал лорд Регнолл, – что я не могу пригласить вас, так как в охоте может участвовать только семь стрелков. Но, быть может, вы и мисс Маннерс не откажетесь завтра пообедать и провести день в Регнолле. Я познакомлю вас с моей будущей женой, – прибавил он, слегка краснея.
Мисс Маннерс, снедаемая любопытством, сразу приняла приглашение, прежде чем ее жених успел открыть рот.
Скруп предложил заряжать для меня во время охоты ружья, что весьма обрадовало меня, так как я боялся какого-нибудь подвоха со стороны Чарльза.
На обратном пути из замка мы заехали в оружейную лавку заказать патронов. Хозяин спросил, сколько мне их надо, и, получив ответ «сто», посмотрел на меня с удивлением.
– Насколько я мог заключить, сэр, – сказал он, – вы принимаете участие в завтрашней охоте в Регнолле. По-моему, вам надо по крайней мере триста пятьдесят патронов.
– Хорошо, – ответил я, опасаясь обнаружить свое незнание местных условий охоты, – приготовьте мне их пораньше и снарядите их тремя драхмами пороху.
– Да, сэр; и унций[2] восемь дроби номер пять?
– Нет, – возразил я, – возьмите номер третий. До свидания.
Оружейник снова с удивлением посмотрел на меня, и, уходя, я услышал, как он сказал своему помощнику:
– Этот африканец, вероятно, собирается стрелять страусов!
Глава II Аллан держит пари
На следующее утро мы со Скрупом в десятом часу прибыли в Регнолл, захватив по пути заказанные накануне патроны, за которые мне пришлось заплатить изрядную сумму. «Однако, – подумал я, – урок стрельбы фазанов обойдется мне не даром…»
Когда мы вышли из коляски, к нам подошла какая-то величественная особа в бархатной куртке и красном жилете в сопровождении Чарльза, несшего два ружья.
– Это главный егерь, – шепнул мне Скруп.
– Если не ошибаюсь, мистер Квотермейн? – спросил важный егерь, холодно и неодобрительно оглядывая меня.
– Да, это я.
– Его светлость поручил мне передать вам эти ружья. Чарльз будет сопутствовать вам во время охоты и носить за вами оружие и патроны.
Я взял одну из централок и осмотрел ее. Это было великолепное дорогое оружие.
В это время из-за угла здания показался сам лорд Регнолл. После взаимных приветствий он проводил нас в обширную залу, где собрались остальные участники охоты. То были известные стрелки, большинство из которых я знал по охотничьим журналам.
К моему изумлению, среди них оказался мой, можно сказать, старый знакомый.
Это низменное лицо, маленькие бегающие глаза и острый красноватый нос не могли принадлежать никому иному, кроме Ван-Капа, некогда прославившегося в Южной Африке крупными, неподвластными закону аферами, из-за которых и я стал жертвой на двести пятьдесят фунтов стерлингов – сумму, довольно значительную для меня.
Ван-Кап обернулся и, увидев меня, воскликнул:
– Кого я вижу! Аллан Квотермейн!
Тон его восклицания привлек внимание лорда Регнолла, стоявшего вблизи.
– Да, мистер Ван-Кап, – ответил я, – вы не ошиблись, это я. Столько же рад видеть вас, как и вы меня.
– Я думаю, здесь недоразумение, – сказал лорд Регнолл, удивленно глядя на нас. – Это сэр Юниус Фортескью.
– Я, право, не могу вспомнить, – возразил я, – чтобы он назывался этим именем. Но, во всяком случае, мы старые знакомые.
Лорд Регнолл отошел в сторону, как бы не желая продолжать этот разговор.
Ван-Кап вплотную подошел ко мне.
– Мистер Квотермейн, – тихо сказал он, – обстоятельства сильно изменились с тех пор, как мы встретились с вами в последний раз.
– Ваши, вероятно, да, – возразил я, – но у меня все осталось по-старому, и я буду вам очень обязан, если вы уплатите мне двести пятьдесят фунтов, которые вы мне должны.
На минуту он задумался.
– Вот что я вам предложу, – сказал он немного спустя, – вы всегда были спортсменом. Если я сегодня убью больше вас птицы, вы должны держать язык за зубами относительно моих африканских дел. Если же вы убьете больше меня, вы также должны будете молчать, но я уплачу вам ваши двести пятьдесят фунтов с процентами за двенадцать лет.
Конечно, я мог отказаться от этого предложения и вывести Ван-Капа на чистую воду. Но вышел бы скандал, а это не входило в мои расчеты и все равно не приблизило бы меня к получению двухсот пятидесяти фунтов.
– Я согласен, – сказал я.
– Что это за пари, сэр Юниус? – спросил лорд Регнолл, подходя к нам.
– Это длинная история, – поспешно ответил Ван-Кап. – Мистер Квотермейн полагает, что я остался ему должен пять фунтов, и мы согласились предоставить разрешение этого вопроса результату сегодняшней охоты.
– Хорошо, – сказал лорд Регнолл, очевидно, не совсем веря сказанному. – Раз дело касается денег, я поставлю кого-нибудь считать убитых птиц и сообщать мне об их числе.
– Согласен, – сказал Ван-Кап, или сэр Юниус.
Я молчал: признаться, я стыдился всей этой истории. На пути в рощу, отстоявшую всего на милю от замка, мы с лордом Регноллом случайно остались вдвоем.
– Вы раньше встречали сэра Юниуса? – пытливо спросил он меня.
– Да, – ответил я, – около двенадцати лет тому назад, перед тем как он исчез из Южной Африки, где был известен как удачливый… спекулянт.
– Десять лет тому назад он купил имение по соседству со мной, а через три года сделался баронетом.
– Как же человек, подобный Ван-Капу, мог получить такой титул? – изумился я.
– Покупкой.
– Покупкой? Разве в Англии титулы продаются?
– Вы удивительно наивный человек, мистер Квотермейн. Ваш друг…
– Извините меня, ваша светлость, – перебил я его, – я очень незначительный человек и потому не могу назвать сэра Юниуса, бывшего Ван-Капа, своим другом.
– Мне самому несимпатичен этот человек, – улыбаясь, сказал мой собеседник, – но он великолепный стрелок, хотя я уверен, что вы вернете свои пять фунтов.
– На это мало шансов, так как мне никогда не приходилось стрелять фазанов, – возразил я.
– Теперь, мистер Квотермейн, мой черед дать вам маленький совет. Заметьте, что фазаны летают гораздо медленнее, чем это нам кажется… Но мы уже пришли на место. Чарльз покажет вам, где надо встать. Желаю вам успеха.
Через десять минут охотники стояли по местам на виду друг у друга. Я был так поглощен новым для меня зрелищем предварительных приготовлений к охоте, что пропустил зайца и фазанью курочку, доставшихся Ван-Капу, стоявшему через два ружья справа от меня.
Тем временем раздался возглас егеря, предупреждающего о летящей птице.
– Стреляйте, – сказал Скруп, – это кулик.
В эту минуту я увидел очень близко от себя коричневую птицу. Я прицелился и выстрелил. От птицы осталось только облако перьев.
При громком хохоте окружающих Чарльз подобрал только голову и клюв моей добычи.
– Вам следует давать птице отлететь подальше от вас с вашей дробью номер три, – заметил Скруп.
Этот случай так повлиял на меня, что я сделал подряд три промаха, в то время как Ван-Капу удалось застрелить еще пару фазанов.
Скруп качал головой, а Чарльз даже тяжело вздохнул. Теперь, видя, что я не состязаюсь с его господином, он был всецело на моей стороне. История моего пари каким-то образом получила широкую огласку, а мой противник, очевидно, не пользовался симпатией среди егерей.
– Внимание, – сказал Скруп, указывая на приближающегося фазана.
Птица летела слишком высоко. Раздалось три выстрела, в том числе и Ван-Капа, но ни один не задел фазана. Я выстрелил, припомнив совет лорда Регнолла. Птица изменила свой полет и вдруг камнем упала на землю ярдах в пятидесяти от меня.
– Это будет получше! – воскликнул Скруп.
Удачный выстрел вернул мне уверенность, и я снова подстрелил пару фазанов.
Но Ван-Кап, который был великолепным стрелком, не отставал от меня.
Лорд Регнолл, стоявший по соседству со мной, предложил мне встать с ним несколько позади остальных охотников.
– Я вижу, что вы лучше стреляете по высоко летящим птицам, – сказал он.
Мы поместились между двумя рощицами ярдах в трехстах от прежнего места.
Здесь дело пошло значительно лучше.
Однако, когда мы спустя час с небольшим собрались завтракать в лесной сторожке, оказалось, что я убил тридцатью фазанами меньше своего противника.
Пока мы завтракали, погода резко изменилась. Небо заволокло тучами, подул сильный, резкий ветер.
Охота должна была продолжаться на новом месте, в рощице около озера. Лорд Регнолл решил отказаться от дальнейшего участия в ней и встал во время стрельбы за мной и Ван-Капом, считая, что и шести стрелков будет много при изменившихся благодаря погоде условиях
– Выпейте немного черри-бренди[3], – посоветовал он мне, – это укрепит ваши нервы.
Я последовал его совету, и мы вышли. Роща, где мы собирались стрелять и куда перелетели разогнанные нами утром фазаны, находилась приблизительно в миле от сторожки. Она имела вид подковы, окаймлявшей один конец небольшого озера ярдов в пятьдесят шириной. Четыре стрелка были расставлены вдоль ближайшей стороны озера, а нам с Ван-Капом были назначены места на противоположной возвышенной стороне, где мы были на виду у всех. К своему ужасу, неподалеку я увидел целую толпу зрителей, в числе которых я узнал оружейника, набивавшего мне патроны.
По пути к лодке, которая должна была перевезти нас через озеро, произошел случай, который привел меня в хорошее настроение и вызвал шумные аплодисменты остальных.
– Куропатки! – вдруг провозгласил «красный жилет», шедший на некотором расстоянии впереди нас.
Чарльз быстро подал мне заряженное ружье. Через мгновение над деревьями показались птицы, с трудом летевшие против сильного ветра. Я выстрелил в первую – она упала к моим ногам. Со вторым выстрелом вторая последовала за ней. Я схватил запасное ружье и убил третью, пролетевшую почти над самой моей головой. Четвертый выстрел догнал последнюю.
Четыре куропатки были подобраны среди всеобщих поздравлений.
Входя в лодку, я заметил у Чарльза под мышкой кроме сумки еще ящик с патронами. На мой вопрос, откуда это, Чарльз ответил, что мистер Пофем, оружейник, принес их про запас. Я ничего не возразил, так как из моих трехсот пятидесяти патронов за утро была уже расстреляна добрая половина.
Пока мы занимали свои места, ветер еще более усилился. Со стоном качались огромные дубы; недалеко от меня сломанная сосна с плеском упала в воду. Несмотря на это, охота началась. Сперва ветер дул нам в спину, массами гоня фазанов, диких уток и другую дичь над самыми нашими головами. Но вскоре он изменил направление и задул к северу с яростью, увеличивавшейся с каждым моментом.
Однако фазаны продолжали свой перелет. В продолжение последующего часа с небольшим происходила самая частая стрельба. Егеря едва успевали заряжать ружья. Потом птицы стали появляться вблизи все реже и реже. Приходилось по большей части стрелять по далеким. Но чем дальше, тем я стрелял все лучше и лучше. Один за другим падали фазаны то в озеро, то в отдаленные кусты. Стволы ружей так нагрелись, что к ним нельзя было притронуться.
Дела Ван-Капа также шли хорошо, но на долю остальных ружей приходилось очень мало, и бедные охотники вынуждены были довольствоваться ролью зрителей.
К концу охоты я так пристрелялся, что последними тридцатью пятью выстрелами убил тридцать фазанов.
Заключительный выстрел затмил все предыдущие.
Высоко и несколько в стороне пролетал фазан, казавшийся черной точкой на темном небе.
– Не стоит, слишком высоко, – сказал лорд Регнолл, видя, что я подымаю ружье. Но я все-таки выстрелил; фазан перекувырнулся, полетел вниз и упал в озеро далеко от нас.
Выстрел был так удачен, что все присутствующие издали одобрительный крик. Даже величественный «красный жилет» что-то одобрительно проворчал. Лорд Регнолл приказал тщательно собрать убитую дичь и положить добычу Ван-Капа отдельно от моей.
– За вторую стоянку вы убили сто сорок три штуки, – сказал он, – мое число совпадает с подсчетами Чарльза.
Когда я переехал на другую сторону озера, остальные охотники встретили меня самыми горячими поздравлениями. Из-за погоды было невозможно дальше охотиться, и мы отправились в замок пить чай.
Едва я опорожнил чашку, как лорд Регнолл пригласил меня посмотреть на убитую дичь. Мы вышли. На чуть покрытой снегом траве правильными рядами лежали убитые птицы.
– Дженкинс, – обратился лорд Регнолл к «красному жилету», – сколько дичи числится у сэра Юниуса Фортескью?
– Двести семьдесят семь фазанов, ваша светлость, двенадцать зайцев, две курочки и три голубя.
– А у мистера Квотермейна?
– Двести семьдесят семь фазанов, столько же, сколько и у сэра Юниуса, ваша светлость, пятнадцать зайцев, три голубя, четыре куропатки, одна утка и один клюв, должно быть кулика.
– Тогда вас можно поздравить с выигрышем, мистер Квотермейн, – сказал лорд Регнолл.
– Позвольте, – вмешался Ван-Кап, – пари заключалось только на фазанов. Другая дичь не в счет!
– Вы говорили «птиц», – заметил я, – впрочем, если…
В этот момент все обернулись. Во двор, запыхавшись, вбежал Чарльз в сопровождении другого мужчины с собакой. В руках Чарльза был мертвый фазан без хвоста.
– Мы еле нашли его, ваша светлость, – начал Чарльз, тяжело дыша, – он упал в тину… Это тот, которого мистер Квотермейн убил последним. Мы с Томом вытащили его палкой.
– Тогда вопрос ясно решается в пользу мистера Квотермейна, – сказал лорд Регнолл. – Сэр Юниус, вам следует уплатить свой долг.
– Я протестую, – злобно воскликнул Ван-Кап. – Дело идет о сумме, большей пяти фунтов. Откуда я знаю, что этот фазан убит мистером Квотермейном?
– Мои люди удостоверяют это, сэр Юниус. Впрочем, какой номер дроби употребляли вы сегодня?
– Четвертый.
– Мистер Квотермейн пользовался номером третьим. Кто еще, господа, употреблял сегодня номер третий? – Все отрицательно покачали головами.
– Дженкинс, вскройте голову птице, – приказал лорд Регнолл. Дженкинс ловко выковырнул перочинным ножиком из головы фазана дробинку.
– Номер третий, ваша светлость, – сказал он.
– Сэр Юниус, – твердо произнес лорд Регнолл, – вы должны уплатить свой долг.
– У меня нет с собой денег, – мрачно возразил Ван-Кап.
– У нас с вами один и тот же банкир, – сказал лорд Регнолл, – и вы можете подписать чек на требуемую сумму из моей книжки. Но здесь холодно. Пойдемте, господа, в дом.
Мы направились в курительную комнату, куда лорд Регнолл принес чистый бланк и подал его Ван-Капу.
– Сколько же я вам должен с процентами? – спросил тот меня.
– Прошло уже двенадцать лет, – сказал я, – но мне не надо процентов. Я удовлетворюсь первоначальной суммой долга.
Ван-Кап подписал чек на двести пятьдесят фунтов и бросил его на стол передо мной. Я взял чек в руки… Вдруг у меня явилась мысль, что я не должен воспользоваться этими деньгами.
– Лорд Регнолл, – сказал я, – этот долг я давно считал потерянным. Я не хочу оставлять у себя эти деньги. Позвольте передать вам этот чек на дела благотворительности.
– Что вы скажете, сэр Юниус, о такой щедрости мистера Квотермейна! – воскликнул Регнолл, увидев, что чек был не на пять, а на целых двести пятьдесят фунтов.
Ответа не последовало, так как Ван-Кап поспешил уйти. С тех пор мы никогда не встречались.
Приблизительно через год я получил извещение, что на мое пожертвование при одном из соответствующих учреждений устроена койка имени Аллана Квотермейна для больных детей.
Заметив исчезновение Ван-Капа, лорд Регнолл ничего не сказал, но подошел ко мне и крепко пожал мою руку. С этого момента началась наша долголетняя дружба.
Мне остается прибавить, что, хотя я и получил много удовольствия от стрельбы, однако рад был, что в последующие дни охота не возобновлялась, так как нашел, что это развлечение было мне не по карману. Вот выписка из моей записной книжки:
Патроны, включая
переданные Чарльзу 4 фун., – шилл.
Разрешение на охоту 3 фун. – шилл.
«Красному жилету» «на водку» 2 фун. – шилл.
Чарльзу «на водку» – фун. 10 шилл.
Человеку, который помог найти
Чарльзу последнего фазана, – фун. 5 шилл.
Егерю, собиравшему дичь, – фун. 10 шилл.
–
Итого: 10 фун. 5 шилл.
Да, охота на фазанов в Англии – развлечение, доступное только богатым!
Глава III Мисс Холмс
Последующие два с половиной часа я провел в отдыхе, лежа в отведенной мне комнате, так как частая пальба и беспрерывный шум ветра вызвали у меня небольшую головную боль. Потом явился Скруп и предложил мне присоединиться к остальному обществу. Мы спустились вниз и вошли в роскошно обставленную гостиную, где собралось около тридцати человек соседей лорда Регнолла, приглашенных к обеду. Мисс Маннерс таинственно сообщила Скрупу, что «она уже здесь».
В это время безукоризненный Сэвидж провозгласил, широко распахнув двери:
– Леди Лонгден! Мисс Холмс!
Все обернулись к дверям, в которых показалась пожилая леди в сопровождении молодой девушки лет двадцати двух. Последняя была не очень высока ростом, весьма изящна и грациозна как лань. Темно-каштановые волосы, тонкие черты лица, ярко-красные губы и большие темные глаза указывали скорее на испанское или итальянское, нежели англосаксонское происхождение. Одета она была в светлое открытое платье, и, кроме нитки жемчуга и красной камеи, на ней не было никаких украшений. Мне бросилось в глаза странное белое пятно на ее груди, имевшее вид полумесяца. Но самое большое впечатление произвело на меня ее лицо. Выражение его было мягко, приветливо, даже счастливо; но чем больше вглядывался я в него, тем таинственнее оно казалось. По временам по нему проскальзывала какая-то особенная тень. Что это было – я не знал…
Лорд Регнолл, казавшийся еще более красивым в своем вечернем костюме, поспешил навстречу своей невесте и ее матери. Мое внимание на некоторое время было отвлечено соседями, как вдруг я услышал вблизи себя голос, который говорил:
– Покажите мне его. Впрочем, я уже узнала его по вашему описанию.
– Да, вы правы, – ответил лорд Регнолл своей невесте (это была она), – я сейчас познакомлю вас. Однако скажите, кого вы хотите иметь своим кавалером за обедом? Я не могу, я должен быть около вашей матери. Возьмите доктора Джеффриса.
– Нет, – ответила мисс Холмс, – я предпочитаю сэра Квотермейна. Мне хочется услышать от него что-нибудь об Африке.
– Хорошо, – сказал лорд Регнолл, – он, пожалуй, интереснее всех остальных гостей, взятых вместе. Но почему, Луна, вы постоянно думаете и говорите об Африке? Можно подумать, что вы собираетесь там жить.
– Это может когда-нибудь случиться, – задумчиво сказала она, – кто знает, где он жил и где будет жить!
И снова что-то таинственное мелькнуло в ее лице.
Конца их разговора я не слышал. Сказать правду, я хотел избежать соседства с мисс Холмс за обедом, так как я не люблю быть на видном месте; поэтому я направился в противоположный конец гостиной. Но это было бесполезно: лорд Регнолл догнал меня и подвел ко мне свою невесту.
– Позвольте вас познакомить с мисс Холмс, – сказал он мне, – она желает быть вашей соседкой во время обеда. Она очень интересуется…
– Африкой, – подсказал я.
– Мистером Квотермейном, о котором мне говорили как о величайшем охотнике в Африке, – поправила меня мисс Холмс с очаровательной улыбкой.
Я поклонился, не зная, что сказать. Лорд Регнолл улыбнулся и удалился, оставив нас вдвоем. В это время лакей объявил, что обед подан. Мы направились в середине длинной процессии в роскошную столовую, еще сохранившую свой средневековый стиль.
Мистер Сэвидж проводил нас на наши места по левую руку от лорда Регнолла, сидевшего у главного конца длинного стола с леди Лонгден с правой стороны. Старый священник доктор Джеффрис прочел короткую молитву, и обед начался.
– Я слышала, – обратилась ко мне мисс Холмс, – что вы сегодня победили сэра Юниуса Фортескью в стрельбе и пожертвовали кучу денег на благотворительность. Я не люблю пари и тех, кто их держит. Странно, что вы держали пари: вы совсем не похожи на таких людей. Но я не выношу сэра Юниуса, и в этом мы сходимся с вами.
– Я ничего не говорил о своей антипатии к сэру Юниусу, – возразил я.
– Да, но ваше лицо изменилось, когда вы упомянули его имя.
– Тогда мне приходится сознаться, что вы правы. Но я должен прибавить, что я тоже не любитель пари.
Тут я рассказал всю историю с Ван-Капом и его долгом.
– Я всегда считала его ужасным человеком, – заметила мисс Холмс, когда я окончил свой рассказ.
Потом наш разговор перешел на предстоящую свадьбу, и я не преминул выразить мисс Холмс свои лучшие пожелания и уверенность, что ее счастье всегда будет так же безоблачно, как и теперь.
– Благодарю вас, – сказала она, – но не кажется ли вам, что эта безоблачность – дурное предзнаменование. Ведь будущее так же скрыто от нас, как и мой портрет в рабочей комнате лорда Регнолла, в чем вы тоже видите дурное предзнаменование.
– Откуда вы это знаете? – спросил я, пораженный этим замечанием.
– Не знаю, мистер Квотермейн, но мне это известно. Ведь вы так думали, не правда ли?
– Если даже так, – сказал я, уклоняясь от прямого ответа, – то, что из этого следует? Хотя портрет и скрыт от посторонних глаз, но всегда можно отдернуть занавеску…
– А вдруг однажды за этой занавеской окажется пустота?
– Я не похожа на других… – снова начала мисс Холмс. – Что-то побуждает меня говорить с вами. Я никогда ни с кем не говорила так. Меня бы все равно не поняли. Моя мать, вероятно, нашла бы нужным показать меня доктору. С самых ранних лет мне казалось, что я – какая-то тайна среди других тайн. С девяти лет эта мысль внезапно охватывала меня по ночам. У меня были какие-то видения, но они быстро изглаживались из моей памяти. Только две вещи я чувствую более или менее ясно. Одна – это какая-то странная, безотчетная тревога… Другая – то, что я, или часть меня, имеет какое-то отношение к Африке, о которой я знаю только по книгам. Вот откуда у меня интерес к вам и к Африке.
– Я думаю, что ваша матушка была бы права относительно доктора, – заметил я.
– Вы так говорите, но не верите в это, мистер Квотермейн.
Тогда я, чтобы придать другое направление этому по меньшей мере странному разговору, начал рассказывать об Африке и между прочим упомянул об одном легендарном племени арабов или полуарабов, якобы живущем в восточной части Центральной Африки и поклоняющемся вечно юному дитяти.
– Кстати, об арабах, – прервала меня мисс Холмс. – Я расскажу вам очень странную историю. Когда мне было восемь или девять лет, я как-то играла в Кенсингтонском саду (мы тогда жили в Лондоне) под присмотром бонны. Она беседовала с каким-то молодым человеком, которого называла кузеном, а я катала обруч по траве. И вдруг из-за дерева вышли двое одетых в белые одеяния мужчин с тюрбанами на голове. У старшего были блестящие черные глаза, крючковатый нос и длинная седая борода. Лицо младшего я помню плохо. Их кожа была коричневого цвета, но, во всяком случае, это были не негры. Вдруг мой обруч упал к ногам старшего мужчины; я остановилась, не зная, что делать. Старик наклонился, поднял обруч, но не вернул его мне. Он что-то сказал другому, указывая на родинку в виде полумесяца на моей шее (из-за этой родинки отец назвал меня Луной). «Как твое имя, маленькая девочка?» – спросил меня старик на ломаном английском языке.
– Луна Холмс, – ответила я.
Тогда он достал из кармана ящичек и дал мне из него нечто вроде конфеты. Я очень любила сладости и положила полученное в рот. Потом старик покатил обруч и сказал мне: «Лови его». Я побежала за обручем, но вдруг все исчезло из моих глаз, точно скрывшись в тумане. Я очнулась на руках бонны. Люди в белых одеяниях исчезли. Всю дорогу домой бонна бранила меня за то, что я взяла лакомство от незнакомых людей, и грозила пожаловаться на меня родителям. Я еле упросила ее молчать о случившемся. Вскоре она покинула нас и вышла замуж, по всей вероятности, за «кузена». Но со времени этого приключения я начала думать об Африке.
– Вы больше никогда не встречали этих людей?
– Никогда.
В это время я услышал сердитый голос леди Лонгден:
– Мне очень жаль, Луна, прерывать ваш интересный разговор, но мы все ожидаем тебя.
К своему великому ужасу, я увидел, что все кроме нас уже встали из-за стола.
Я был очень смущен. Вспомнив, что ничего не ел, я потихоньку сел поближе к портвейну и, подкрепившись финиками, прошел за другими в гостиную, где уселся как можно дальше от мисс Холмс и занялся рассматриванием альбома с видами Иерусалима.
Вскоре ко мне подсел лорд Регнолл, который завел разговор об охоте на крупного зверя и между прочим спросил мой постоянный африканский адрес. Я указал Дурбан и, в свою очередь, поинтересовался, зачем ему мой адрес.
– Потому что мисс Холмс постоянно бредит Африкой, и я жду, что мне в один прекрасный день придется попасть туда, – печально ответил лорд Регнолл.
Это были пророческие слова. Наш разговор был прерван леди Лонгден, подошедшей пожелать спокойной ночи своему будущему зятю, так как она чувствовала себя не совсем здоровой.
Большинство гостей, несмотря на то что было всего десять часов, собрались ехать домой.
Глава IV Харут и Марут
Проводив гостей, лорд Регнолл вернулся ко мне и спросил, что я предпочитаю: играть в карты или слушать музыку. Едва я ответил, что не выношу даже вида карт, как к нам подошел мистер Сэвидж и почтительно осведомился у его светлости, кто из гостей носит имя Хикомазани.
Лорд Регнолл удивленно посмотрел на него и выразил подозрение, не пьян ли он.
– Два каких-то иностранца в белых одеждах, – сказал обиженным тоном Сэвидж, – стоят у замка и желают говорить с мистером Хикомазани. Я им сказал, чтобы они уходили прочь, но они уселись на снег и объявили, что будут ждать Хикомазани.
– Позвольте, – вмешался я, – мое африканское туземное прозвище Макумазан. Быть может, мистер Сэвидж неправильно передает это имя. Могу я взглянуть на этих людей?
– На дворе очень холодно, мистер Квотермейн, – ответил лорд Регнолл, – но подождите. Не говорили ли вам, Сэвидж, эти люди, кто они такие?
– Должно быть, колдуны, ваша светлость. Когда я сказал, чтобы они уходили, я услышал в своем кармане шипение и, положив туда руку, нашел там большую змею, которая исчезла, когда я бросил ее на землю. Потом у кухарки из волос выскочила живая мышь. Девушка перед этим смеялась над их платьем, а теперь она в истерике.
В это время к нам подошла мисс Холмс и спросила, о чем мы так оживленно говорим. Узнав, в чем дело, она стала просить лорда Регнолла позвать этих людей в гостиную.
– Хорошо, – согласился лорд Регнолл, – позовите сюда ваших колдунов, Сэвидж. Скажите им, что Макумазан ждет их и что все общество желает посмотреть их фокусы.
Сэвидж вышел с видом осужденного на тяжкое наказание. По его бледности можно было заключить, что бедняга сильно перепуган.
Мы очистили место посреди комнаты и поставили кресла для зрителей.
– Без сомнения, это индийские фокусники, – заметил лорд Регнолл, – они вырастят манговое дерево на наших глазах. Я, помню, видел это в Кашмире.
В это время дверь широко распахнулась, и через нее с необыкновенной поспешностью прошел Сэвидж, боязливо держась за свои карманы.
– Мистер Хирут, мистер Мирут, – объявил он.
– Вероятно, Харут и Марут[4], – заметил я, – я где-то читал, что это были величайшие маги. Очевидно, эти фокусники присвоили себе их имена.
Вслед за Сэвиджем в гостиную вошли два человека. Первый был высокого роста, с важным лицом восточного характера, длинной белой бородой, крючковатым носом и блестящими ястребиными глазами. Второй был ростом пониже и значительно моложе первого. Он обладал веселым, живым лицом, маленькими черными глазами и был гладко выбрит. Кожа у обоих была не очень темна; мне приходилось встречать более смуглых итальянцев.
Во всем их облике чувствовалась какая-то особенная сила.
Я вспомнил историю, рассказанную мне мисс Холмс, и украдкой взглянул на нее. Она была необыкновенно бледна и немного дрожала. Но никто не заметил этого: внимание всех было поглощено пришельцами. Через некоторое время мисс Холмс овладела собой и, встретившись со мной взглядом, приложила палец к губам в знак молчания.
Незнакомцы сняли свои меховые плащи, положили их на пол и остались в ослепительно-белых одеяниях и с белыми тюрбанами на головах.
«Сомалийские арабы высшего класса», – подумал я.
Один из них запер двери. После этого, к величайшему моему изумлению, оба направились прямо ко мне, поставили свои корзины на пол и, подняв руки кверху, низко поклонились мне. Потом заговорили не по-арабски, как я ожидал, а на наречии банту, которым я владел в совершенстве.
– Я, Харут, первый жрец и учитель белых людей кенда, приветствую тебя, о Макумазан! – сказал старший.
– Я, Марут, жрец и учитель белых кенда, приветствую тебя, о Бодрствующий В Ночи! – сказал младший.
– Мы оба приветствуем тебя, который кажется малым, но велик, о господин с великим будущим! – вместе сказали они.
– О убивающий злых людей и зверей! – монотонно продолжали они. – Ты, кому назначено судьбой освободить нашу землю от страшного бича, мы клянемся тебе и обещаем тебе безопасность среди нас и в пустыне. Мы обещаем тебе великую награду.
Они снова трижды поклонились мне и встали, скрестив руки. Я спросил их на банту, чего им, собственно, нужно от меня.
– О Макумазан! – ответил старший. – Я пришел просить тебя оказать услугу нашему народу, – услугу, за которую ты получишь великую награду. Мы, белые кенда, народ Дитяти, воюем с черными кенда, нашими рабами, которые превосходят нас числом. Черные кенда чтут бога зла, дух которого живет в самом большом слоне в мире. Никто не может убить его, а он убивает многих и околдовывает еще больше. Пока жив этот слон – имя его Джана, – ужас царит среди нас, народа Дитяти, ибо день за днем Джана истребляет нас. Если ты убьешь его, мы покажем тебе место, куда слоны уходят умирать; ты возьмешь себе сколько хочешь слоновой кости и будешь богат. Когда у тебя будет нужда в золоте или в слоновой кости, – которая то же, что и золото, – иди на север от того озера, где живут понго, остановись на краю пустыни и назови имена Харута и Марута.
– И назови имена Харута и Марута, – эхом повторил младший.
Прежде чем я успел собраться с мыслями, чтобы ответить что-нибудь, загадочный Харут заговорил на ломаном английском языке, как заурядный фокусник.
– Богатые леди и джентльмены ждут представления от бедного фокусника из Центральной Африки. Хорошо, я покажу им, что умею. Вы хотите, чтобы выросло дерево? Можно. Только помните, что здесь нет никакой магии; это простые фокусы. Дайте мне блюдо.
Представление началось. На покрытом покрывалом блюде чудесным образом выросло дерево, палки плясали сами собой. Марут свистнул, и из кармана Сэвиджа, стоявшего на почтительном расстоянии от фокусников, снова выползла змея, которая потом обратилась в огонь. Зрелище было интересное, но, сказать правду, оно мало занимало меня: я раньше видел много подобных фокусов. Я думал о словах Харута…
Наконец фокусники окончили представление и среди аплодисментов присутствующих стали собирать свои пожитки.
– Наш господин Макумазан прав, считая все это пустяками, – заметил Харут, – простые фокусы и только. Но что с этим джентльменом? – прибавил он, указывая на корчившегося в стороне Сэвиджа. – Брат Марут, посмотри, в чем дело.
«Брат Марут» подошел к Сэвиджу и освободил его от двух змей. Затем среди всеобщего хохота вытащил из его напомаженных волос большую дохлую крысу.
– А! – воскликнул Харут. – Змеи любят этого джентльмена. Но все это пустяки. Быть может, Макумазан желает посмотреть что-нибудь интересное? Слона Джану, которого он убьет?
– Охотно, – ответил я, – но как ты мне покажешь его?
– Это очень легко, Макумазан. Надо вдохнуть немного курения кенда, и ты увидишь многое, если у тебя есть дар. Я уверен, что ты его имеешь, как и эта леди, – прибавил он, указывая на мисс Холмс.
– Дакка, – презрительно сказал я, вспомнив об одном сорте индийской конопли, которой одурманивают себя туземцы во многих частях Африки.
– О нет, это не дакка. Это табак, растущий только в земле кенда. Ты думаешь, это вздор. Погоди, ты увидишь, что это не так. Дайте мне спички.
Он взял щепотку табака, положил в небольшой деревянный кубок, который вместе с табаком достал из корзины, и сказал что-то своему товарищу Маруту. Тот вынул из своего платья тростниковую флейту и заиграл на ней какую-то заунывную мелодию. Харут, в свою очередь, запел тихим голосом песню, из которой я не понял ни слова, и зажег табак. Бледно-синеватый дымок поднялся из кубка, распространяя кругом довольно приятный запах.
– Вдохни и расскажи нам, что увидишь, – сказал Харут. – Не бойся, это неопасно. Смотри!
Он сильно вдохнул в себя дым, после чего его лицо приняло особенное выражение.
Я стоял в нерешительности. Наконец любопытство и страх быть осмеянным за свою трусость одержали верх. Я взял кубок и поднес его к своему носу, в то время как Харут накинул мне на голову покрывало, на котором он выращивал манговое дерево.
Я взял кубок и поднес его к своему носу…
Внезапно передо мной появилась пелена тумана. Потом туман рассеялся, и перед моими глазами открылся африканский пейзаж: озеро, окруженное густым лесом. По небу, еще красному от солнечного заката, плыла полная луна. На восточном берегу озера было открытое, лишенное всякой растительности пространство, сплошь покрытое скелетами многих сотен слонов. Кругом торчали желтые клыки, из которых многие покрылись уже мхом, пролежав здесь, вероятно, целые столетия.
Это было кладбище слонов, о существовании которого я слыхал в продолжение всей своей охотничьей жизни, – место, куда слоны приходят умирать, как это делала вымершая птица моа[5] в Новой Зеландии. Вот появляется умирающий слон. Он останавливается, размахивая хоботом во все стороны. Потом медленно опускается на колени и замирает без движения. Вдруг на отдаленной скале обрисовываются очертания огромного слона. Во всей своей жизни я не видел такого гиганта. Он держит хоботом безжизненное тело женщины, волосы которой развеваются по ветру. В ее руках зажат ребенок, кажущийся живым: чудовище бросает тело на землю, выхватывает хоботом ребенка и, раскачав его в воздухе, швыряет в высоту. Покончив с ребенком, оно направляется к умирающему слону и топчет его ногами. Затем поднимает свой хобот, как бы торжествующе трубя, и исчезает в лесу.
Снова пелена тумана скрыла все перед моими глазами, и я очнулся.
– Что вы видели? – спросил меня целый хор голосов.
Я рассказал обо всем, выпустив последнюю часть. Оказалось, что все видение длилось не более десяти секунд.
– Видел Джану? – спросил Харут. – Он убил женщину и ребенка, да? Это он делает каждую ночь. Вот почему белый народ кенда хочет убить его. Так Джана жив! Это нам надо было узнать. Благодарю тебя, Макумазан! Теперь, быть может, прекрасная леди тоже желает посмотреть… – обратился он к мисс Холмс.
– Да, – ответила она.
– Я предпочел бы, Луна, чтобы вы не делали этого, – с беспокойством сказал лорд Регнолл.
– Вот спички, – сказала мисс Холмс Харуту, который взял их с поклоном. Затем, подложив в кубок табаку, Харут зажег его, осторожно покрыл голову мисс Холмс покрывалом и вручил дымящийся кубок. Через несколько секунд кубок и покрывало упали на пол, и мисс Холмс, широко раскрыв глаза, начала говорить тихим голосом:
– Я прошла долгий путь и нахожусь в другом мире. Кругом камень. Темно. Мне светит огонь кубка. Здесь нет ничего, кроме статуи нагого ребенка, вырезанной из желтой слоновой кости, и кресла из черного дерева. Я стою перед дитятей из слоновой кости. Оно оживает и улыбается мне. На его шее ожерелье из красных камней. Дитя снимает ожерелье и надевает его мне на шею. Потом указывает на кресло. Я сажусь. Все исчезло.
Я слышал, как Харут, напряженно слушавший эти слова, тихо прошептал Маруту:
– Священное Дитя получает Хранителя. Дух белых кенда снова нашел голос.
Затем оба благоговейно склонились перед мисс Холмс.
– Что за странное видение, – сказал лорд Регнолл, – дитя из слоновой кости… ожерелье… Что за вздор! Но теперь, я полагаю, представление окончено. Сколько я вам должен за него?
– Ничего, о великий лорд, ничего. Это мы вам многим обязаны. Здесь мы узнали то, что хотели знать уже давно, ибо табак кенда говорит только новому духу. Прощай, великий лорд! Прощай, прекрасная леди! Прощай, о Макумазан, до новой встречи, когда ты придешь убить Джану. Благословение Небесного Дитяти, посылающего дождь, защищающего нас от опасности, дающего здоровье и пищу! Благословение его на вас всех!
С этими словами Харут и Марут надели свои плащи и направились к двери. Я пошел проводить их, так как Сэвидж был сильно напуган змеями.
– Скажите, о люди из Африки, что все это значит? – спросил я, когда мы очутились во дворе.
– Ты сам себе ответишь на этот вопрос, когда будешь стоять перед Джаной, – ответил Харут. – А теперь не пытайся узнать больше, ты, который в надлежащий час узнаешь все.
– Не пытайся узнать больше, чтобы не было несчастья, – эхом повторил Марут, – ты, о Макумазан, который знаешь уже слишком много.
– Теперь вернись в дом, – продолжал Харут, – здесь страшный холод. Передай прекрасной леди этот свадебный подарок Дитяти.
С этими словами он вручил мне сверток и исчез в темноте вместе со своим товарищем.
Я вернулся в гостиную.
– Они ушли, – сказал я лорду Регноллу, – и, уходя, передали свадебный подарок для мисс Холмс.
Кто-то подал ножницы, сверток был вскрыт, и в нем оказалось ожерелье из красных камней. Это было рубиновое ожерелье, и, судя по работе, весьма древнее. Быть может, оно украшало шею какой-нибудь знатной египтянки или статую Гора[6], сына Исиды[7].
– Это то самое ожерелье, которое дитя из слоновой кости дало мне в видении, – спокойно сказала мисс Холмс, надевая подарок на шею.
Глава V Неудавшееся похищение
В эту ночь я не мог сомкнуть глаз. Это могло происходить от возбуждения, вызванного стрельбой, в которой я состязался с неприятным мне человеком, либо от впечатления, оставшегося от странной пары, Харута и Марута, искавших меня за семь тысяч верст от своего дома, либо от образов, вызванных табаком кенда. Или, может быть, все это в совокупности повлияло на меня.
Во всяком случае, я никак не мог уснуть.
Время шло; я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к бою башенных часов Регнолл-Кастла (я ночевал в замке). Разные мысли приходили мне в голову.
То мне казалось, что Харут и Марут – просто пара заурядных плутов-арабов, каких я часто видел в африканских портах. То я думал о кладбище слонов и об огромной стоимости слоновой кости, находящейся на нем.
Потом мои мысли перешли на древних египтян (я всегда интересовался их историей), поклонявшихся Гору, мать которого, Исида, «владычица тайн», символизировалась луной на ущербе. И, по странному совпадению, у мисс Холмс на груди был знак, похожий на такую луну.
Вдруг меня охватил какой-то безотчетный страх. У меня явилось предчувствие, что с мисс Холмс непременно должно что-то случиться. Это чувство так овладело мной, что я встал, зажег свечу и поспешно оделся. У меня было обыкновение всегда иметь при себе заряженный двуствольный пистолет. Я осмотрел это оружие, вышел в коридор и встал за большими часами, глядя на освещенную луной дверь комнаты, где помещалась мисс Холмс. Прошло некоторое время. Я уже начал думать, в каком глупом положении рискую очутиться, если кто-нибудь случайно увидит меня. Вдруг дверь комнаты открылась и на пороге показалась мисс Холмс, закутанная в пеньюар. Свет луны упал на ее лицо, и я увидел, что она идет во сне.
На ее шее было рубиновое ожерелье – подарок таинственной пары. Мисс Холмс как тень пересекла коридор и скрылась из виду. Я последовал за ней, стараясь производить как можно меньше шума. Мы спустились по витой лестнице и вышли в сад, где мисс Холмс, как бы влекомая вперед какой-то таинственной силой, ускорила шаги и направилась к рощице, в которой я за день до этого стрелял голубей. Я следовал за ней, пользуясь прикрытием кустарников. На миг я потерял ее из виду. Потом я снова увидел ее стоящей под дубом, протянув руки по направлению к медленно приближавшимся к ней двум фигурам, закутанным в плащи. В этих фигурах легко можно было узнать Харута и Марута. В стороне обрисовывались очертания кареты; слышалось нетерпеливое топтание лошадиных копыт о мерзлую землю.
Я бросился вперед и встал между мисс Холмс и Харутом с Марутом.
Мы не обменялись ни словом, так как все трое боялись разбудить спящую девушку, зная, что ее пробуждение могло повлечь за собой опасные для нее последствия.
В руках моих противников блестели кривые ножи.
Я направил пистолет в сердце Харута. Перевес был на моей стороне: я мог застрелить обоих прежде, чем их ножи достанут до меня.
– Ты победил на этот раз, о Бодрствующий В Ночи! – тихо сказал Харут. – В другой раз ты проиграешь. Эта прекрасная леди принадлежит нам, белому народу кенда, ибо она отмечена знаком молодой луны. Ее сердце услышало призыв Небесного Дитяти. Она вернется к нему. Теперь, пока она спит, уведи ее отсюда, о храбрый и разумный, так хорошо прозванный Бодрствующим В Ночи!
Они ушли, и вскоре послышался стук колес удалявшейся кареты.
В первый момент у меня явилась мысль бежать за ними и подстрелить одну из лошадей. Но после этого у меня остался бы только один заряд против двух людей, и, убив одного из них, я был бы беззащитен от ножа другого. Кроме того, выстрелы могли разбудить мисс Холмс. Пришлось отказаться от преследования.
Я подошел к спящей, осторожно взял ее за руку и повел обратно в замок. Проводив ее до комнаты, я запер за ней дверь и, прислушавшись, убедился, что она улеглась в постель.
Теперь, уверенный, что мисс Холмс в безопасности, я сел на стул, стоявший в коридоре, и стал обдумывать, что делать дальше. Мой долг был немедленно уведомить о случившемся лорда Регнолла.
Но как это сделать, не всполошив весь дом и не вызвав излишних разговоров? Сперва надо разбудить мистера Сэвиджа. Я не знал, где его комната, но вспомнил, что, проводив меня спать и поговорив со мной о змеях, он на всякий случай указал мне звонок, проведенный к нему.
Двигаясь вдоль провода и пройдя целый ряд лестниц и различных переходов, я наконец добрался до двери его комнаты и слегка постучал в нее.
– Кто там? – спросил мистер Сэвидж с легкой дрожью в голосе.
– Я.
– Кто это «я»? «Я» может быть Харум и Скарум или того хуже!
– Я Аллан Квотермейн, идиот вы этакий, – прошептал я в замочную скважину.
– Анна? Что за Анна? Уходите. Поговорим завтра.
Я постучал в дверь поэнергичнее. Наконец Сэвидж осторожно приоткрыл ее.
– Господи! – воскликнул он. – Что вы делаете здесь, сэр, в такое время, с пистолетом в руках? Или, может быть, это голова змеи? – вскричал он, испуганно отпрыгивая назад.
– У меня важное неотложное дело к его светлости, – нетерпеливо сказал я, – поскорее проводите меня к нему.
Мы направились в спальню лорда Регнолла.
– В чем дело, мистер Квотермейн, – спросил тот, зевая и приподнимаясь в постели, – у вас был кошмар?
– Да, – ответил я и, когда Сэвидж вышел, рассказал лорду Регноллу обо всем.
– Господи! – воскликнул он, когда я окончил свой рассказ. – Если бы не ваше предчувствие и не ваша храбрость…
– Дело не в этом, – прервал я его, – вопрос в том, что нам делать теперь. Попытаться ли задержать этих людей или молчать обо всем и быть настороже?
– Не знаю, что решить, – ответил лорд Регнолл, – если мы их поймаем, вся эта история будет как-то странно звучать на суде.
– Конечно, – согласился я, – но, по-моему, следует сейчас же осмотреть место происшествия, пока дождь или снег не уничтожил следы.
– Хорошо, – сказал лорд Регнолл, – мы возьмем с собой Сэвиджа. Это верный человек; он сумеет молчать.
Пока лорд Регнолл поспешно одевался, я рассказал Сэвиджу о случившемся. Он слушал меня, затаив дыхание.
Убедившись, что мисс Холмс в своей комнате, мы спустились по витой лестнице и вышли в сад, тщательно запирая за собой все двери.
Уже рассветало. Мы без особого труда рассмотрели следы туфель мисс Холмс, моих ног, лошадиных копыт и колес кареты. Кроме того, мы нашли полотняный мешок, в котором оказался полный костюм арабской женщины, предназначавшийся, очевидно, для мисс Холмс.
Когда Сэвидж открывал мешок, к его великому ужасу, оттуда выползла змея, вероятно, участница вчерашнего представления.
Описание всего этого, занесенное со всеми подробностями в блокнот лорда Регнолла, было подписано всеми нами.
В дальнейшем дело было поручено опытным сыщикам, которым удалось только установить, что Харут и Марут с двумя соплеменными им женщинами (вероятно, предназначавшимися для надзора за мисс Холмс) отплыли на пароходе «Антилопа» в Египет, где их следы прерывались.
Но вернемся к мисс Холмс.
На следующее утро она вышла к завтраку как ни в чем не бывало, но была несколько бледнее обыкновенного.
За столом я сидел недалеко от нее и при удобном случае осведомился у нее, как она провела прошлую ночь. Она ответила, что спала как никогда крепко и что у нее были какие-то странные сновидения.
– Удивительно то, – прибавила она, – что утром мои туфли оказались в грязи, как будто я выходила из дому во сне, чего со мной никогда не бывало.
С помощью лорда Регнолла я поспешно переменил тему этого разговора.
Вскоре после завтрака мне передали, что коляска мисс Маннерс ждет меня, и я собрался уезжать.
При прощании лорд Регнолл записал мой английский и африканский адреса в свою записную книжку.
– Несмотря на всего три дня нашего знакомства, мистер Квотермейн, – сказал он, – мне кажется, что я вас знаю уже много-много лет. Когда вы в следующий раз приедете в Англию, я надеюсь, что вы остановитесь у меня.
– А если вам случится быть в Южной Африке, – сказал я, – прошу вас располагать моим скромным домом в Дурбане как своим.
– Мне было бы это очень приятно, – ответил он, – но, признаться, мне надоели путешествия. Кроме того, обстоятельства поставили меня в особое положение по отношению к Африке. Скажите, что вы думаете обо всем случившемся вчера?
– Право, не знаю, что вам ответить, – сказал я, – могу посоветовать одно: оберегайте вашу будущую жену. По всей вероятности, эти люди снова сделают попытку похитить ее. Это терпеливые, решительные люди.
– Вы меня немного пугаете, – сказал лорд Регнолл, – конечно, я приму к сведению ваш совет.
После этого мы расстались.
– Прощайте, мистер Квотермейн, – говорил Сэвидж, подавая мне пальто, – я никогда не забуду вас. Но не забуду и этих бездельников Харума и Скарума с их проклятыми змеями!
Глава VI «Золотопромышленная Компания Доброго Доверия»
Прошло целых два года с тех пор, как я расстался с лордом Регноллом и мисс Холмс. В этот промежуток времени я дважды имел о них известия. Один раз я получил от Скрупа письмо, в котором тот сообщал мне об их бракосочетании. Это была самая фешенебельная свадьба всего лондонского сезона. К письму была приложена вырезка из газеты с описанием всех подробностей до платья невесты включительно.
Все это было чуждо мне, однако одно замечание вызвало у меня сильный интерес. Привожу его целиком:
«…Большие толки вызвало то обстоятельство, что на невесте не было никаких драгоценностей, кроме рубинового ожерелья с маленьким, тоже рубиновым, изображением египетского бога, хотя фамильные бриллианты Регноллов, уже давно не видевшие света, известны как одни из самых изящных и ценных во всей стране. Следует заметить, что это украшение было удивительно к лицу невесте. На вопрос одного из друзей о причине такого выбора, леди Регнолл ответила, что это ожерелье должно принести ей счастье…»
Второе известие я получил год спустя при посредстве старого номера газеты «Таймс», где была заметка о рождении у лорда и леди Регнолл сына и наследника.
Что касается меня, я много испытал за эти два года. Участвуя в экспедиции в Страну Понго, я не раз испытывал искушение пройти на север от этой области в место, указанное Харутом и Марутом, обещавшими проводить меня туда, где живет гигантский слон, которого, по их словам, мне суждено убить.
Однако я удержался от этого и, вернувшись в Дурбан, пришел к решению больше никогда не участвовать в рискованных экспедициях. Благодаря удачно сложившимся обстоятельствам я сделался обладателем небольшого капитала, который дал мне возможность бросить охотничьи скитания в диких областях Африки. Вскоре мне представился случай поместить свой капитал в торговое предприятие.
Один еврей по имени Джейкоб предложил мне половину прав на владение золотой копью, открытой им на границе Земли Зулу, если я внесу капитал, необходимый для разработки предприятия. Вместе с Джейкобом и его приятелем я отправился осмотреть это место.
Взятый для испытания кварц обнаружил богатое содержание золота, и в конце концов образовалась акционерная компания для разработки золотого «Рудника Доброго Доверия» с Алланом Квотермейном, эсквайром, во главе.
Ох, эта компания!
До сих пор я помню о ней. Наш основной капитал был невелик – десять тысяч фунтов, из которых Джейкоб и его приятели взяли себе половину как покупную стоимость их прав. Впоследствии выяснилось, что эти права были приобретены всего за три дюжины джина, сломанную повозку, четыре старые коровы и пять фунтов деньгами.
Лично я, прежде чем принять председательство в правлении с жалованьем сто фунтов в год (которого я никогда не получал), купил на тысячу фунтов акций за наличные деньги.
Был установлен баланс в четыре тысячи фунтов, и работа началась. Мы принялись промывать один песчаный участок. Сразу после этого обнаружился такой блестящий результат, что наши акции поднялись сразу на целых десять шиллингов, причем Джейкоб и его приятели воспользовались случаем продать половину своих, уверив меня, что это необходимо для расширения дела. Через весьма короткое время песчаный участок оказался никуда не годным; было решено приобрести машину для дробления кварца, в котором предполагалось богатое содержание золота. Мы сговорились с одной машиностроительной фирмой.
Тем временем наши акции упали сперва до своей номинальной стоимости (до одного фунта), потом до пятнадцати шиллингов, потом до десяти.
Джейкоб, бывший одним из директоров правления, указал, что на мне как на председателе лежит обязанность поддерживать престиж нашей компании. Я снова накупил акций на свои последние пятьсот фунтов.
Но как была потрясена моя вера в людей, когда я узнал, что тысяча акций, купленных мною на последние пятьсот фунтов, была собственностью Джейкоба, продавшего их мне при посредстве подставных лиц. Наконец наступил кризис. Прежде чем дробильная машина была нам доставлена, все наши фонды были исчерпаны, и поднялся вопрос о ликвидации компании. Было созвано общее собрание акционеров, и после нескольких бессонных ночей я занял в нем свое председательское место.
Каково же было мое удивление, когда я увидел, что из пяти директоров кроме меня явился только один честный старик, отставной морской капитан, купивший триста акций.
Джейкоб и его два приятеля рано утром уплыли на пароходе в Кейптаун.
Собрание вначале было довольно бурным.
Я, как мог, обрисовал положение, и, когда кончил, со всех сторон посыпались вопросы, на которые ни я, ни кто-либо другой не мог дать удовлетворительного ответа.
Тогда один явно нетрезвый джентльмен, владелец десяти акций, напрямик объявил, что я обманул акционеров.
Я в ярости вскочил и, хотя он был вдвое больше меня, предложил ему поговорить со мной об этом вне стен этого дома.
Он поспешно удалился.
После этого инцидента, закончившегося общим смехом, вся правда всплыла наружу.
Один «цветной» человек рассказал, что Джейкоб нанял его «посолить» почву, подсыпав золота в песок, который мы промывали вначале.
Все стало ясно.
Я в бессилии опустился в свое кресло.
Тогда один добрый человек, сам потерявший деньги в этом деле, поднялся и произнес короткую речь, которой было достаточно, чтобы восстановить утерянную мной веру в людей. Он говорил, что Аллан Квотермейн, работавший, как лошадь, для пользы акционеров, сам наравне с другими разорен этим вором Джейкобом, и в заключение предложил прокричать троекратное «ура» «в честь нашего честного друга и товарища по несчастью Аллана Квотермейна». К моему удивлению, все собрание исполнило это весьма охотно.
Я поднялся и со слезами на глазах благодарил всех, говоря, что рад оставить эту комнату таким же бедным, каким был всегда, но с незапятнанной репутацией честного человека. Пожав рука джентльмену, выручившему меня из неприятного положения, я с легким сердцем отправился домой. Правда, я потерял все свои деньги, но честь моя была спасена, а что такое деньги в сравнении с честью! Я перебрался на другую сторону грязной улицы и шел, держась молодой заросли, идущей вдоль нее.
Улица была почти пуста.
Единственная кроме меня пара людей привлекла мое внимание. В одном из них я узнал полупьяного субъекта, обвинявшего меня в обмане; другим был морщинистый готтентот, напомнивший мне некоего Ханса.
Этот Ханс, я должен сказать, был сначала слугой моего отца, миссионера в Капской колонии, а потом моим компаньоном во многих приключениях. Это был храбрый, испытанный человек, единственной слабостью которого было пристрастие к алкоголю. Он питал ко мне самую горячую привязанность.
Сколотив немного денег, он приобрел небольшую ферму недалеко от Дурбана, где проживал, пользуясь большим уважением за свои былые подвиги.
Белый и готтентот переругивались между собой по-голландски.
– Грязный готтентот, – кричал белый, – что ты пристал ко мне, как шакал?
– Сын белой жирной свиньи, – отвечал Ханс (то был он), – ты осмелился назвать бааса вором? Ты, не стоящий ногтя бааса, чья честь светлее солнца, чье сердце чище белого песка в море!
– Он присвоил себе мои деньги.
– А зачем, свинья, ты убежал от него, когда он хотел говорить с тобой?
– Я тебе покажу «убежал», желтая собака! – закричал белый, замахиваясь палкой.
– Ты хочешь драться? – спросил Ханс, с необыкновенным проворством отпрыгивая назад. – Так получай.
Он низко нагнул голову и, как буйвол бросившись вперед, ударил белого головой в живот, так что тот опрокинулся назад и полетел в канаву, наполненную грязной водой. После этого Ханс спокойно повернулся и исчез за углом.
К моему облегчению, через минуту белый вылез из канавы, весь покрытый грязью, и, держась за место, называемое на медицинском языке диафрагмой, медленно пошел вдоль улицы.
«Какими преданными могут быть готтентоты, которых считают самыми низшими существами человеческого рода», – подумал я.
Придя домой, я уселся в расшатанное тростниковое кресло на веранде, закурил трубку и задумался, что мне предпринять, имея всего на триста фунтов имущества и хороший запас оружия.
Коммерцию во всех ее видах я навсегда отверг.
Оставалась только моя старая профессия охотника.
Слоны – вот единственно выгодная в смысле заработка дичь.
Но ближайшие места охоты уже давно опустошены. Кроме того, пришлось бы соперничать с молодыми профессионалами из буров.
Если уж решиться заняться охотой на слонов, придется идти в отдаленные места. Размышляя о преимуществах и недостатках различных мест для охоты, я услышал из-за большого куста гардении козлиное покашливание. Однако я знал, что эти звуки производит человеческое горло, так как не раз они служили мне сигналом в опасную минуту.
– Ханс, иди сюда, – позвал я, и вслед за этим из кустов алоэ показалась фигура старого готтентота. Я не понимал, почему он выбрал такой путь для своего визита, но это вполне согласовалось с его скрытностью, унаследованной от предков. Он уселся на корточки передо мной как коршун, поглядывая на спускавшееся к западу солнце.
– Ты так выглядишь, Ханс, – сказал я, – будто только что дрался. Шляпа у тебя измята, весь ты обрызган грязью.
– Да, баас. Баас прав, как всегда. Я поссорился с одним человеком из-за шести шиллингов, которые он мне должен, и ударил его головой, позабыв снять сперва шляпу. Мне жаль, это хорошая шляпа. Она почти новая. Два года назад баас подарил мне ее, когда мы вернулись из Страны Понго.
– Зачем ты лжешь? – спросил я. – Ты дрался с белым человеком вовсе не из-за шести шиллингов. Ты столкнул его в канаву и забрызгался грязью.
– Да, баас. Это так. Я дрался с белым не из-за шести шиллингов. Я дрался с ним за преданность, которая стоит меньше или ничего не стоит. Я пришел к баасу одолжить фунт. Белый человек пожалуется в суд. Меня заставят заплатить фунт или сидеть в сундуке[8] четырнадцать дней. Белый ударил меня первым, но судья не поверит бедному готтентоту, а у меня нет свидетелей. Скажут: Ханс был пьян, Ханс лжет. Плати, Ханс, плати фунт и десять шиллингов или иди в сундук на четырнадцать дней плести корзины для великой королевы. Баас! У меня есть деньги заплатить за правосудие, которое стоит десять шиллингов, а мне нужен еще фунт.
– Я думаю, Ханс, что скорее ты мне мог бы одолжить фунт, чем я тебе. Мой кошелек пуст.
– Это ничего, баас. Если необходимо, я могу четырнадцать дней делать корзины и циновки для великой белой королевы. Пусть она вытирает о мои циновки ноги. Сундук вовсе не плохое место, баас.
– Зачем же тебе идти в тюрьму, когда ты богат и можешь заплатить штраф хоть в сотню фунтов?
– Месяц или два назад я был богат, баас, а теперь я беден. У меня ничего нет, кроме десяти шиллингов.
– Ханс, – строго сказал я, – ты опять пьянствовал и играл на деньги. Ты продал ферму и скот, чтобы заплатить проигрыш и купить джину?
– Да, баас. Только я не пил и не играл. Я продал землю и скот за шестьсот пятьдесят фунтов и купил другое.
– Что же ты купил? – поинтересовался я.
Ханс полез сначала в один карман, потом в другой и наконец извлек оттуда грязный измятый листок бумаги, похожий на банковский билет.
Я взял его в руки, взглянул и едва не лишился чувств. Этот листок удостоверял, что Ханс являлся владельцем акций «Компании Доброго Доверия» на сумму в шестьсот пятьдесят фунтов, той самой компании, в которой я был злополучным председателем!
– Ханс, – слабым голосом сказал я, – у кого ты купил это?
– У бааса, у которого нос крючком, баас. Его зовут Джейкоб, так же как и того великого человека из Библии, который дал своему брату похлебку, когда тот вернулся с охоты, и получил за это ферму и скот, а потом пошел на небо по лестнице[9]. Так рассказывал нам ваш отец, баас.
– А кто тебе сказал купить их, Ханс?
– Самми, баас, тот Самми, который был вашим поваром, когда мы ходили в Землю Понго. Джейкоб жил в отеле Самми и сказал ему, что, если он не купит этих бумаг, бааса посадят в сундук. Самми купил их несколько, но у него было мало денег. Джейкоб платил Самми за все, что ел и пил, этими бумагами. Самми пришел ко мне и напомнил, что покойный отец бааса оставил его на наше попечение. Я продал ферму и скот другу Джейкоба, очень дешево продал. Вот и вся история, баас.
Я слушал это и, сказать правду, почти плакал, думая, какую жертву принес для меня этот старый готтентот по наущению мошенника.
– Ханс! – сказал я. – Когда ты поймал работорговцев в ими же расставленную ловушку, умирающий вождь зулусов назвал тебя «Светом Во Мраке». Он верно назвал тебя, ибо ты, как свет во мраке, засиял в темноте моего сердца. Я считал себя мудрым, но оказался глупцом и был, как и ты, и Самми, обманут обыкновенным мошенником. Но этот мошенник, показав, насколько низким может быть человек, заставил тебя показать, насколько может быть человек благородным. Свет Во Мраке! Ты дал мне больше, чем все золото в мире. Я постараюсь заплатить тебе за это своей вечной любовью!
Ханс взял мою протянутую руку и приложил ее к своему лбу.
– Не надо говорить так, баас. Это делает меня печальным, когда я так счастлив. Сколько раз баас не наказывал меня, когда я поступал нехорошо, когда я пил, и за другое? Баас не наказывал меня даже тогда, когда я украл порох, чтобы продать его и купить себе джину. Правда, порох никуда не годился.
– Но почему ты теперь счастлив? – спросил я.
– О, баас! – ответил Ханс, и глаза его заблестели. – Разве баас не догадывается почему? Теперь у бааса нет денег и у меня нет. Ясно, что мы пойдем искать заработка. Я так рад, баас. Мне надоело сидеть на ферме и доить коров. Великий Небесный Отец знал, что делал, послав Джейкоба на наш путь!
– Ты прав, Ханс, – сказал я, – но куда мы пойдем? Нам нужны слоны.
Ханс назвал целый ряд различных мест и, окончив их перечень, сел на корточки передо мной и, пожевывая табак, вопросительно поглядывал на меня, склонив голову набок, как старая пытливая птица.
– Ханс, – спросил я, – ты помнишь историю, которую я рассказывал тебе год или более тому назад, историю о народе кенда, в стране которых, говорят, находится кладбище слонов, которые из всех стран идут туда умирать? Эта страна лежит где-то на северо-востоке от того озера, у которого живут понго. Ты говорил, что ничего не слышал о народе кенда?
– Нет, баас, я много слышал о них.
– Почему же ты раньше ничего не говорил мне?
– Зачем было говорить? Баас тогда искал золото, а не слоновую кость. Когда мы были в городе Безу, я разговаривал со всеми, с кем стоило поговорить. Там жила одна старая женщина. Муж и дети у нее умерли, и она была всегда одна; все боялись ее, потому что она была мудрая, умела гадать и знала лечебные травы. Я рассказывал ей о понго и об их боге-горилле. Она говорила, что это ничто по сравнению с другим богом, которого она видела, когда была очень молодой. Она говорила так: далеко на северо-востоке живет народ кенда, которым правит султан. Это великий народ, населяющий плодородную землю. Вокруг их страны лежит пустыня, где никто не может жить. Никто ничего не знает о кенда. Кто перейдет через пустыню в их землю, тот никогда не возвратится, потому что его убьют. Она говорила мне, что происходит из этого народа, но убежала от них, когда султан хотел поместить ее в свой гарем. Она счастливо перешла через пустыню и попала к мазиту, искавшим страусовые перья. Она ничего не говорила им о своей стране, потому что боялась наказания своего бога.
– А что она тебе говорила о народе кенда и их боге?
– Она говорила, что у кенда не один бог, а два; не один правитель, а два. Они имеют доброго бога-дитя, которое говорит устами женщины-оракула. Если женщина умирает, бог не говорит до тех пор, пока не найдут другую женщину, отмеченную знаком бога. Перед смертью женщина-оракул говорит, в какой стране живет та, которая заменит ее. Священники отправляются в ту страну на поиски. Иногда они долго не могут найти новую женщину; тогда дитя теряет язык и народ становится добычей другого бога, который никогда не умирает. Тот бог – большой злой слон, которому приносят в жертву людей. Султан и большая часть народа, все черные кенда поклоняются тому слону. Имя его Джана. Много лет назад, когда мир был еще молодым, с севера туда пришел другой, светлый, народ, поклонявшийся дитяти, которого принес с собой. Этот народ поселился рядом с черным народом. Дитя – добрый бог, слон – злой. Дитя посылает дождь и хорошую погоду и исцеляет болезни. Джана посылает злые дары: войну и жестокость. Вот что рассказывала мне старуха, баас.
– Почему же ты тогда ничего не сказал мне об этом?
– Потому что я боялся, что баас пойдет искать этот народ, а мне тогда надоело путешествовать и хотелось вернуться в Наталь на отдых. Кроме того, все мазиту говорили, что эта женщина – большая лгунья.
– Она не лгала, – сказал я и поведал Хансу о Харуте и Маруте и об их просьбе, о виденном мною кладбище слонов и о Джане.
Ханс невозмутимо выслушал это: его трудно было чем-нибудь удивить.
– Да, баас, старуха не была лгуньей. Когда же мы отправимся забирать эту слоновую кость и каким путем пойдем? Через Килву или через Землю Зулу? Надо торопиться, пока не наступили дожди.
После этого мы долго беседовали. Карманы наши были пусты, и разрешить задачу, как пуститься в путешествие, было весьма трудно, если не вовсе не возможно.
Глава VII Рассказ лорда Регнолла
Эту ночь Ханс провел у меня, вернее, в моем саду, не решаясь идти в город. Он опасался ареста за драку с белым человеком. Однако тот не возбуждал дела, будучи, по всей вероятности, накануне слишком пьяным, чтобы вспомнить, кто его столкнул в канаву.
На следующее утро мы возобновили обсуждение всех возможных способов, как нам при помощи имевшихся в нашем распоряжении средств добраться до страны, где живет народ кенда. Такая долгая и полная непредвиденных случайностей экспедиция требовала больших затрат. Но где взять деньги?
Наконец я пришел к решению ехать вдвоем с Хансом в сопровождении только двух зулусских охотников, взяв с собой всего один запряженный быками фургон для необходимых вещей и припасов.
С таким легким снаряжением мы рассчитывали пробраться через Землю Зулу в город Безу, столицу мазиту, где мы были уверены в самом радушном приеме.
После этого, если мы даже не попадем в Страну Кенда, нам представится возможность убить некоторое количество слонов в диких местах, лежащих за Землей Зулу.
Во время нашего разговора я услышал пушечный выстрел, возвещавший о прибытии в гавань английского почтового парохода.
Я сел написать несколько деловых писем, касавшихся злосчастной «Компании Доброго Доверия». Через некоторое время в окне появилась физиономия Ханса, который объявил, что на дороге стоят два «очень красивых незнакомых бааса», которые ищут меня.
«Акционеры нашей компании», – подумал я, приготовившись уйти через заднюю дверь.
– Если они придут сюда, скажи им, Ханс, что меня нет дома. Скажи, что я уехал сегодня утром.
Я вышел из дому задним ходом. Мне было грустно, что я, Аллан Квотермейн, дошел до того, что принужден прятаться от людей.
Вдруг во мне заговорила гордость. Чего мне стыдиться? Я имею полное право смотреть всем прямо в глаза. Я решил вернуться и, обойдя кругом свой маленький домик, остановился у живой изгороди из гранатовых деревьев, отделявшей мои владения от дороги.
– Икона[10], – услышал я протяжный голос кафра.
– Нам нужно знать, где живет великий белый охотник, – говорил голос, показавшийся мне знакомым.
– Икона, – повторил кафр.
– Не вспомните ли вы, как его местное имя? – спросил другой, тоже знакомый мне голос.
– Великий охотник Хикомазани, – с трудом сказал первый голос, и мгновенно в моей памяти возникли великолепный Регнолл-Кастл и его обитатели.
– Мистер Сэвидж! – прошептал я. – Как он попал сюда?
– Ну вот, – сказал второй голос, – ваш черный приятель теперь окончательно сбит с толку. Я говорил вам нанять белого проводника. Это избавило бы нас от массы затруднений.
– Я считал это излишним, ваша светлость, раз мы путешествуем инкогнито.
– Нам недолго удастся сохранить инкогнито, если вы будете постоянно называть меня «вашей светлостью». Тут, за этими деревьями, есть дом; идите и спросите, где…
– Здравствуйте, лорд Регнолл! Как поживаете, мистер Сэвидж! Вы ищете меня? Я очень рад вас видеть, – сказал я, выходя из-за деревьев.
– Да, Квотермейн, – радостно ответил лорд Регнолл, – чтобы посетить вас, я проехал семь тысяч верст, и, благодарение Богу, мне посчастливилось найти вас. Я боялся, что вы где-нибудь в центре Африки, где нам трудно было бы отыскать вас.
Пока он говорил, я оглядел их обоих. Со времени нашей встречи Сэвидж почти совсем не изменился, но с лордом Регноллом произошла большая перемена. В его глазах появилась какая-то тень. У рта образовалась особенная складка. На всем его красивом лице лежал отпечаток страдания.
– Через неделю вы уже не застали бы меня, – заметил я, пожимая им руки.
Мы вошли в дом.
– Как раз время завтрака, – продолжал я, – и, к счастью, у меня есть хорошая треска и нога дикой козы. Еще два прибора, бой![11]
– Пожалуйста, один, сэр. Я позавтракаю потом, – смущенно сказал Сэвидж.
– Ну, эти церемонии в Африке придется оставить, – пробормотал я, однако дальше не настаивал. Для Ханса и нескольких других туземцев, глядевших на нас в открытое окно, вид важного мажордома, почтительно стоявшего за нашими креслами и разливавшего простой джин с таким видом, как будто это было тонкое, дорогое вино, было интересным зрелищем.
Покончив с завтраком, мы вышли на веранду курить, оставив Сэвиджа завтракать в одиночестве.
После завтрака Сэвидж был послан на таможню за вещами, и мы с лордом Регноллом остались вдвоем.
– Скажите, что привело вас в Африку? – спросил я.
– Несчастье, – ответил лорд Регнолл.
– Неужели ваша жена умерла?
– Не знаю. Во всяком случае, она потеряна для меня.
– Один раз она уже была близка к этому.
– Да, когда вы спасли ее. О, если бы вы были с нами, Квотермейн! Тогда, может быть, ничего не случилось бы. Восемнадцать месяцев мы были счастливы, как могут быть счастливы смертные. У нас был прелестный ребенок. Часто жена говорила, что наше большое счастье даже пугает ее. Однажды, когда я был на охоте, она собралась навестить недавно обвенчавшихся Скрупов. Отправилась она без кучера, в маленькой коляске, запряженной пони, взяв с собой кормилицу с ребенком. Лошадь была смирная, как овца. Проезжая местечко, лежащее вблизи Регнолл-Кастла, они встретили бродячий зверинец, переезжавший на новое место. Впереди зверинца шел огромный слон, который, как я узнал впоследствии, был дурного нрава и не терпел, когда ему ехали навстречу. Вид коляски или, может быть, красной мантильи, которая была на моей жене, привел животное в ярость; оно подняло хобот и громко затрубило. Испуганная лошадь шарахнулась в сторону, но коляску не опрокинула и не причинила никому вреда. Тогда, – тут лорд Регнолл сделал паузу, – дьявол в образе этого слона протянул свой хобот, выхватил ребенка из рук кормилицы и бросил его высоко в воздух. Потом торжествующе затрубил в хобот и продолжал свой путь, не причинив ни моей жене, ни кормилице никакого вреда. За городом он взбесился и был застрелен.
– Какой ужас, – прошептал я.
– Дальше – еще хуже. Утрата ребенка так потрясла мою жену, что она потеряла рассудок. Целыми часами она сидела, улыбаясь и перебирая красные камни, подаренные ей Харутом и Марутом. По временам она обращалась к ребенку, как будто он был около нее. Ах, Квотермейн! Как тяжело было на нее смотреть! Я делал все, что мог. Ее осматривали лучшие врачи Англии, но бесполезно. Осталась только надежда, что болезнь пройдет так же внезапно, как и появилась. Врачи говорили, что перемена места может оказать на нее хорошее влияние, и, в частности, указывали на Египет.
Однажды утром жена спросила меня, как совершенно здоровый человек:
– Джордж! Когда же мы поедем в Египет? Едем поскорей!
Эти слова пробудили надежду у врачей; они объявили, что это указывает на возвращение у моей жены интереса к жизни, и убеждали меня не перечить ее желанию. Мы отправились в Египет в сопровождении леди Лонгден. В Каире я нанял большой пароход с отборным экипажем, и под охраной четырех солдат мы отправились вверх по Нилу. Приблизительно через месяц, к своей великой радости, я заметил, что у жены постепенно стали появляться признаки возвращения рассудка. Она проявляла большой интерес к древней скульптуре и храмам, о которых много читала, когда была здорова. Однажды, за несколько дней до катастрофы, она указала мне на изображение Исиды и Гора и сказала:
– Посмотри, Джордж, вот святая мать и святое дитя, – и поклонилась им.
В день, предшествующий катастрофе, моя жена была необыкновенно спокойна. Она все время сидела на палубе, любуясь стоявшим на берегу храмом, высеченным в скале, со статуями, как бы охраняющими его. Потом она смотрела на расстилавшуюся перед ее глазами пустыню, по которой на своих верблюдах проезжали арабы.
Послушав пение суданских певцов, мы спустились спать раньше обыкновенного, так как в этот вечер не было луны. Жена помещалась со своей матерью в большой каюте, находившейся на корме. Моя каюта была рядом с ними по одну сторону, а по другую находилась каюта сиделки. Экипаж и стража помещались на носу. С парохода на берег была перекинута сходня, на которой стоял часовой. Ночью задул шамсин[12], но я не слышал его, заснув весьма крепко, как и все остальные, включая, вероятно, и часового. На рассвете меня разбудил испуганный голос леди Лонгден, стоявшей у двери моей каюты и спрашивавшей, не знаю ли я, где Луна. Оказалось, что моя жена уже давно ушла из каюты. Мы обыскали весь пароход, но она исчезла бесследно. Я передал дело в руки египетской полиции, начались энергичные розыски, но и они не дали никаких результатов. Тогда явилось предположение, что моя жена упала в воду и утонула, а тело ее унесло быстрым течением Нила. В этом была убеждена и египетская полиция, которая, несмотря на обещанную мною награду в тысячу фунтов за отыскание хотя бы тела моей жены, отказалась от дальнейших поисков.
– Вы говорите, что в эту ночь дул ветер? Я полагаю, что он легко мог уничтожить всякие следы на песчаном берегу, – заметил я.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил лорд Регнолл.
– Хотя я не имею оснований утверждать что-либо положительно, но мне кажется, что ваша жена не утонула и жива в настоящее время.
– Но где она?
– Об этом надо спросить наших старых знакомых Харута и Марута, – ответил я.
– Вы думаете, что она похищена этими негодяями?
– Мне кажется, что это так, хотя «негодяи» – слишком сильное для них выражение. По-своему они честные люди. Не забывайте, что они служат своему богу, да еще такому, которому угрожает другой бог.
Тут я рассказал лорду Регноллу обо всем, что слышал Ханс от старой женщины в Безу, столице мазиту. Он слушал меня с глубочайшим интересом.
– Это удивительная история, – заметил он, когда я окончил свой рассказ. – Но не обратили ли вы внимание на то, что наш ребенок погиб от слона?
– Да, это странное совпадение сильно поразило меня, – ответил я; но, не желая дольше говорить об этом ужасном случае, я попросил лорда Регнолла продолжать свой рассказ.
– Рассказ мой близится к концу, – сказал лорд Регнолл. Утрата сначала ребенка, потом жены, которая была для меня всем, сильно потрясла меня. Жизнь потеряла для меня смысл и интерес, и я вскоре по возвращении в Англию решил покончить с собой. Я уже написал необходимые письма и приготовил пистолет, как вдруг у меня явилась искра надежды… Я позвал Сэвиджа и приказал ему взять места на первом почтовом пароходе, отходящем в Африку, затем приобрел у оружейников большой запас разнообразного оружия – и вот мы здесь.
– Да, – задумчиво повторил я, – вы здесь. И с вами запас снаряжения, которого, пожалуй, хватит на целый полк, – прибавил я, указывая на огромную телегу, доверху наполненную багажом, и целую толпу носильщиков-кафров с отдельными тюками, которые под предводительством Сэвиджа остановились у ворот моего дома.
Глава VIII Отъезд
Вечером, когда багаж был разобран и заперт в небольшом сарае, мы с лордом Регноллом продолжали наш разговор. Перед этим мы распаковали часть оружия – превосходный набор дорогих охотничьих ружей всех сортов, до годных для охоты на слонов включительно. Вид их, расставленных вдоль стен моей гостиной, привел старого Ханса в большой восторг. Он долго рассматривал их, поглаживая их рукой и давая каждому из них особое название, как будто это были живые существа.
– С таким оружием, – говорил он, – баас может убить самого дьявола. Пусть баас поставит к ним Интомби, – прибавил он.
«Интомби» было мое любимое ружье, почти игрушечное по размерам, однако не раз в прошлом сослужившее мне хорошую службу. Я перевел эти слова лорду Регноллу. Он расхохотался, чему я был весьма рад, так как давно не видел его даже улыбающимся.
Я должен прибавить, что, в дополнение к охотничьему ружью, в багаже было не менее пятидесяти военных крупнокалиберных винтовок системы Снайдерса с большим запасом патронов.
Лорду Регноллу едва удалось добиться их пропуска через таможню.
В этот вечер я перед сном рассказал лорду Регноллу о своем злосчастном председательстве в «Золотопромышленной Компании Доброго Доверия» и об ее печальном конце.
– Вы величайший в мире стрелок, охотник и исследователь, – заметил лорд Регнолл, – но что касается таких дел, как коммерция… Однако я до известной степени благодарен этому мошеннику Джейкобу.
Затем он задал мне ряд вопросов, касавшихся этого дела, и сделал несколько пометок в своей записной книжке. Последнее мне показалось несколько странным, но я ничего не сказал.
Спустя несколько дней я понял причину этих вопросов и пометок.
Однажды утром я нашел на своем столе целый ворох писем, вид которых привел меня в ужас, напомнив мне о проклятой компании. Однако делать было нечего, я взял одно из них и распечатал его.
Оно было от того самого акционера, который на общем собрании предложил всем выразить мне доверие. Читая его, я чуть не упал в обморок. Вот его содержание:
Милостивый государь! Когда я помещал свои деньги в «Золотопромышленную Компанию Доброго Доверия», я знал, что кладу их в надежное место. Теперь, получив от Вашего поверенного чек, по которому мне до фартинга уплачивается все, что я вложил в дело, я могу сказать одно: да благословит Вас Бог, мистер Квотермейн!
Я вскрыл другое письмо, третье, четвертое. Везде было приблизительно одно и то же.
Ничего не понимая, я вышел на крыльцо, где навстречу мне попался Ханс, державший в руках письмо, которое он попросил меня прочесть ему.
Письмо было от известного местного нотариуса.
«Посылая Вам, – писал он, – от имени Аллана Квотермейна, эсквайра, чек на шестьсот пятьдесят фунтов, каковая сумма числится на Вашем счету в книгах «Золотопромышленной Компании Доброго Доверия», мы имеем честь просить Вас подписать и переслать нам обратно прилагаемую расписку».
И к письму был приложен чек на шестьсот пятьдесят фунтов!
Я объяснил Хансу, в чем дело, и прибавил:
– Ты получил свои деньги обратно, но я не посылал их и не знаю, откуда они.
– Это деньги, баас? – спросил Ханс, с подозрением разглядывая чек. – Это очень похоже на ту бумагу, за которую я заплатил деньги.
Я снова объяснил Хансу значение чека.
– Хорошо, – сказал он, – пусть баас спрячет эту бумагу у себя, иначе мне захочется купить джину.
– Нет, – возразил я, – ты должен выкупить свою ферму или купить себе новую. Теперь тебе незачем идти со мной в Страну Кенда.
Ханс на минуту задумался, потом решительно взял чек и хотел разорвать его. Я едва успел удержать его.
– Если баас хочет прогнать меня из-за этой бумаги, я сделаю ее мятой и проглочу ее.
– Ты старый глупец, – сказал я, отбирая у него чек.
Наш разговор был прерван появлением Самми, моего бывшего повара, торжественно начавшего благодарственную речь. Я обратился в поспешное бегство, но у ворот столкнулся с новым акционером, за которым шли еще двое. Я спасся от них в своей комнате, где среди кучи полученных писем увидел еще одно, невскрытое. Машинально я распечатал и пробежал его. Он слово в слово было тождественно с письмом, полученным Хансом, только вместо «Мистер Ханс готтентот» стояло мое имя, и приложенный к нему чек был на тысячу пятьсот фунтов – сумму, которую я вложил в дело.
Мне стало все ясно.
Очевидно, феей, обратившей наши ничего не стоящие акции в банковские билеты, был не кто иной, как лорд Регнолл.
Тогда я поспешно разыскал его и торжественно объявил, что мне очень нужно с ним поговорить.
– Мой друг, если вы позволите называть вас так, – весело ответил мне лорд Регнолл, – мне было нетрудно сделать это, так как вся затраченная на это сумма меньше моего ежемесячного дохода. Мне очень хотелось, чтобы вы, отправляясь в наше опасное путешествие, были свободны от всяких денежных забот. Я прошу вас больше не вспоминать о таких пустяках. Смотрите на это как на прихоть богатого человека.
– Мне трудно согласиться с вами, лорд Регнолл.
– А вспомните, Квотермейн, как вы поступили с выигранными на пари двумястами пятьюдесятью фунтами, которые имели для вас в сто раз большее значение. Но, чтобы не поднимать больше об этом вопроса, я прошу вас считать эти деньги жалованьем, уплаченным вам вперед за участие в рискованной экспедиции.
После этого мы приступили к обсуждению деталей нашего путешествия. Затраты теперь не имели значения, и нам можно было выбирать любой путь.
Не остановившись ни на одном, я открыл окно и свистнул. Через минуту в комнату вошел Ханс. Он уселся на корточках на полу в стороне от нас. Я предложил ему табаку, он набил им свою трубку и закурил ее. Затем я рассказал Хансу о нашем затруднении в выборе пути в Землю Кенда.
Он выслушал меня внимательно, потом попросил маленький стаканчик джину и, опорожнив его одним глотком, сказал:
– Я думаю, баас, что не стоит идти через Килву, где нам могут встретиться работорговцы, которые захотят отомстить нам за урок, полученный ими в последний раз. Путь через Землю Зулу долог, но свободнее, ибо имя Макумазан хорошо известно там. Не надо брать с собой много людей. Нужно взять только два фургона и нескольких погонщиков, которых можно всегда отправить назад, когда они станут не нужны. Из Земли Зулу можно послать послов к мазиту, которые любят бааса. Их король вышлет нам навстречу носильщиков. Со многими людьми путь будет труднее, чем с немногими. Кроме того, если с нами будет много вооруженных людей, народ кенда подумает, что мы хотим воевать с ним. Если нас будет мало, то они скорее позволят нам уйти с миром. Пусть баас и лорд Игеза простят мне, если мои слова глупы.
Тут я должен заметить, что туземцы дали лорду Регноллу прозвище Игеза, что по-зулусски означает красивый. Сэвиджа они почему-то окрестили Бена, что значит выпяченная губа. По всей вероятности, это прозвище было дано ему за горделивую осанку. Обсудив план, предложенный Хансом, мы нашли, что он наилучший, и приняли его.
Спустя около двух недель, закончив необходимые приготовления, мы покинули Дурбан и направились по песчаной дороге в Землю Зулу.
Наш багаж и припасы были уложены в двух прочных фургонах, которые по ночам служили нам великолепными спальнями. Ханс помещался на месте кучера одного из этих фургонов. Лорд Регнолл, Сэвидж и я ехали верхом на выносливых лошадках, хорошо приученных к стрельбе.
При отъезде произошло маленькое приключение.
Сэвидж, который не захотел сменить свой черный сюртук на более удобное платье, попытался сесть на лошадь не с той стороны, с какой следовало. Лошадь, удивленная таким обращением, шарахнулась в сторону, и бедный Сэвидж кувырком полетел на землю. Мы уже думали, что этим закончится его путешествие, как вдруг он вскочил на ноги с необыкновенным проворством и начал прыгать и кричать:
– Снимите ее! Убейте ее!
Скоро выяснилось, в чем дело.
Лошадь испугалась спящей ехидны[13], которая, свернувшись, лежала на песке.
Сэвидж упал на последнюю и раздавил ее тяжестью своего тела.
– Я ненавижу змей! – восклицал он, убедившись, что ехидна мертва и была единственной. – А они постоянно попадаются мне. Это дурная примета, – печально прибавил он.
– Напротив, хорошая, – возразил я, – так как вы раздавили змею, а не она ужалила вас.
После этого кафры дали Сэвиджу новое, очень длинное имя, которое означало: Тот-который-садится-на-змей-и-делает-их-плоскими.
Мы снова сели на лошадей.
Я обернулся и бросил последний взгляд на свой домик, где у ворот стоял мой старый садовник Джек, который хныча прощался со мной. Я помахал ему на прощание рукой и присоединился к лорду Регноллу, ожидавшему меня.
– Я боюсь, – сказал он, – что вам очень грустно покидать свой дом и идти навстречу неведомым опасностям.
– Не более грустно, чем бывало и прежде, – ответил я, – так как опасности – мой насущный хлеб. Но ведь и вас ожидают те же опасности.
– Для меня, Квотермейн, это часть надежды. Поэтому я теперь гораздо счастливее, чем был в последнее время. И все благодаря вам, – прибавил он, протягивая мне руку, которую я крепко пожал.
Глава IX Встреча в пустыне
Я не стану долго останавливаться на подробностях нашего путешествия в Землю Кенда, по крайней мере первой части его. Правда, на этом пути у нас было несколько охотничьих и других интересных приключений, но мне впереди предстоит рассказать много еще более интересного. Скажу только, что, несмотря на внутренние раздоры в Земле Зулу, мы пересекли ее без особенных затруднений. Здесь мое имя пользовалось большим уважением, и все племена объединились, чтобы помочь нам.
Отсюда я отправил посланцев к королю мазиту сообщить, что его собираются посетить старые друзья Макумазан и Свет Во Мраке.
Зная, что, дойдя до реки Лубы, мы будем не в состоянии переправить через нее наши фургоны, я просил короля мазиту выслать нам навстречу к условленному месту сотню носильщиков с соответствующей охраной.
Гонцы взялись исполнить это поручение за плату по пяти штук мелкого скота каждому. В случае, если они погибнут в пути, плата должна была быть передана их семьям.
Этот скот был куплен и оставлен на попечение у одного вождя, приходившегося им родственником.
Случилось, что двое из гонцов погибли в пути. Один из них – от болезни, полученной при переходе через болото, другой – от зубов голодного льва.
Однако третьему удалось преодолеть трудный путь и исполнить наше поручение.
Чтобы дать отдых измученным быкам, мы сделали остановку на две недели в северной части Земли Зулу. Потом снова двинулись вперед, идя путем, знакомым мне и Хансу.
С нами было небольшое число зулусов-носильщиков. Кормить их было довольно трудно, так как большая часть нашего скота пала жертвой мухи цеце, из-за чего нам пришлось бросить один из фургонов.
Наконец мы достигли берега реки Лубы и разбили лагерь у трех высоких скал, где нас должны были найти мазиту.
Из-за дождей река сильно разлилась, и переправа через нее была немыслима. Прошло четыре дня.
Каждое утро я влезал на самую высокую скалу и через реку осматривал в бинокль обширное пространство, поросшее кустарником, в надежде увидеть приближающихся к нам мазиту.
Но нигде не было видно ни души, и на четвертый вечер, заметив убыль воды в реке, мы пришли к решению переправиться на следующее утро на противоположный берег. Последний фургон, за невозможностью переправить его через реку, было решено отправить с носильщиками обратно в Наталь.
Но тут возникло новое затруднение. Никакие обещания награды не могли заставить зулусов омочить ноги в воде реки Лубы, которую они объявили «тагати» (околдованной) для народа их крови.
Я указал им, что трое посланных мазиту перешли уже через эту реку. Носильщики возразили мне, что то были полукровные зулусы и, кроме того, они наверняка погибли. Случилось, как я уже упоминал, что двое из троих гонцов погибли, конечно, случайно, а не из-за магических свойств реки Лубы. Однако их гибель, вероятно, сильно укрепила наших носильщиков в их убеждении. Так сохраняются суеверия в Африке. Сами мы были не в состоянии переправить наш багаж, и я очень обрадовался, когда на пятую ночь в фургон, где спали мы с лордом Регноллом, явился Ханс и сообщил, что он слышал голоса людей по ту сторону реки. Как он мог что-либо услышать сквозь рев бегущей воды – превосходило мое понимание. На рассвете мы взобрались на скалу, и, когда туман рассеялся, я увидел на другой стороне реки около сотни людей, в которых по одеянию и копьям узнал мазиту.
Увидев меня, они издали веселый крик и бросились в воду, держась друг за дружку, чтобы не дать быстрому течению унести себя. Глупые зулусы схватились за копья и выстроились на берегу. Мне едва удалось отогнать их на приличное расстояние.
– Жаль, – угрюмо сказал их предводитель, – пройти столько пути и не сразиться с этими собаками мазиту.
Когда мазиту подошли ближе, я, к своему удовольствию, увидел во главе их своего старого друга Бабембу, одноглазого вождя, с которым Ханс и я пережили в прошлом много разнообразных приключений. Выйдя на берег, Бабемба радостно приветствовал меня.
– О Макумазан, – говорил он, – мало у меня было надежды снова увидеть твое лицо. Тысяча приветов тебе и Свету Во Мраке.
Я представил Бабембе лорда Регнолла и Сэвиджа под их местными именами Игеза и Бена.
Он некоторое время внимательно рассматривал их.
– Это, – сказал он, указывая на лорда Регнолла, – великий господин… А этот, – прибавил он, указывая на Сэвиджа, который был одет лучше нас всех, – петух в перьях орла.
Ханс украдкой рассмеялся на последнее замечание, но я счел нужным не переводить его Сэвиджу.
За завтраком, приготовленным «Петухом в перьях орла», который был, между прочим, превосходным поваром, я услышал все новости. Бауси, король мазиту, умер, и ему наследовал один из его сыновей, которого я знал, тоже носивший имя Бауси. Город Безу был восстановлен после пожара и сильно укреплен. Работорговцы больше не появлялись. Между прочим, я узнал о гибели двоих наших гонцов.
Третий вернулся вместе с Бабембой.
После завтрака я отправил обратно зулусов, дав каждому по подарку и поручив им отвезти в Наталь наш фургон. Они пропели прощальную песню и удалились, бросая на мазиту свирепые взгляды. Я рад был, что их встреча обошлась без кровопролития.
Потом мы принялись за переправу. Дело было быстро налажено, так как мазиту работали как друзья, а не как наемники.
Переправившись через Лубу, мы двинулись в дальнейший путь и приблизительно через месяц достигли города Безу, где нас ждал торжественный прием.
Бауси II во главе большой процессии вышел нам навстречу к южным воротам города, памятным мне по одной битве.
Вечер мы провели в большом доме для гостей, где король, молодой человек с симпатичным лицом, и старый Бабемба устроили пиршество в нашу честь. Король осведомился, как долго мы намерены пробыть в Безу, и выразил надежду, что наше посещение продлится подольше. Я ответил, что мы скоро двинемся в дальнейший путь на север в Страну Кенда, и просил его дать нам носильщиков до крайних границ его владений.
При упоминании имени кенда он удивленно посмотрел на меня, а Бабемба воскликнул:
– О Макумазан! Разве безумие охватило тебя? Поистине ты стал безумным!
– Ты то же самое говорил, Бабемба, когда мы через озеро ездили в город Рику; однако мы счастливо вернулись оттуда.
– Верно, Макумазан, но разве можно сравнивать народ кенда с понго, которые перед ними – что маленькая звезда перед лицом солнца.
– Что ты знаешь о них? – спросил я, рассказав ему, что слышал от Харута с Марутом, выпустив, однако, все, касающееся леди Регнолл.
– Это все правда, – сказал Бабемба, когда я окончил свой рассказ, – кенда – сильный, многочисленный и жестокий народ. Их король носит имя Симба, что значит «лев». У них все короли носили это имя. Симба правит черными кенда, у которых бог Джана. Белыми кенда, которые похожи на арабов, правят жрецы. Всякого, кто попадет в их страну, они убивают с мучениями или, ослепив, пускают в пустыню, которая окружает их страну, где он и погибает. Я слышал, что белые кенда разводят животных, называемых верблюдами, и продают их арабам, живущим на севере от их страны. Не ходи к ним, Макумазан. Если тебе удастся пройти через пустыню, черные кенда убьют тебя. Если ты избегнешь их, тебя убьет Симба. Избегнешь Симбу, убьет Джана. Избегнешь Джану, тебя убьют жрецы белых кенда своим колдовством.
– А все-таки надо попытаться, – ответил я на это.
– Спросите у него, есть ли там змеи? – сказал Сэвидж.
– Да, Бена! Да, Петух В Перьях Орла! – ответил Бабемба. – Я слышал, что у белых кенда есть храм, который охраняет такая змея, какой нет нигде во всем мире.
– Тогда, – заметил Сэвидж, – этот храм не принадлежит к числу тех, где я буду молиться.
Увы! Он не подозревал, что его ожидало в будущем.
Потом поднялся вопрос о носильщиках. После некоторого колебания Бауси II, только из большого расположения к нам, согласился дать нам своих людей, взяв с нас торжественное обещание отпустить их, дойдя до пустыми, «чтобы они избегли нашей участи».
Через четыре дня мы тронулись в путь в сопровождении ста двадцати носильщиков под предводительством самого Бабембы, который заявил, что хочет «последним видеть нас живыми на этом свете».
Накануне выступления Ханс оставил на попечение Бабембы свое завещание, «как делают белые люди», касавшееся шестисот пятидесяти фунтов, оставленных на хранение в дурбанском банке.
За час до того, как мы оставили город Безу, я услышал плач и стенания, доносившиеся с городской площади. Выйдя узнать, в чем дело, я встретил около сотни женщин, осыпанных золой, которые приветствовали меня заунывным пением. За ними стояло почти все остальное население.
Ханс объяснил мне, что они поют песню смерти, чтобы предупредить небо о нашем скором прибытии туда.
Признаться, все это довольно скверно действовало мне на нервы.
Итак, мы снова двинулись в путь и месяц спустя проходили мимо большого озера, где находился остров (если то был остров), на котором жили понго.
Потом мы шли все на север путем, известным Бабембе, потом малонаселенной страной, обитатели которой не знали земледелия даже в самой первобытной его форме.
Пройдя еще миль сто, мы встречали только кочевников, низкорослых бушменов, живущих исключительно охотой с помощью отравленных стрел.
Один раз они напали на нас и убили двух мазиту своими стрелами, против яда которых нет никаких средств. При этом Сэвидж проявил удивительную храбрость. Он выскочил из-за прикрытия и, дав промах из обоих стволов на расстоянии пяти ярдов по бушмену, схватил его и притащил к нам. Пленник оказался чем-то вроде вождя.
Ханс, знавший немного по-бушменски, сказал ему, что, если нас не перестанут тревожить, мы повесим его. Бушмен что-то закричал своим товарищам, после чего нас оставили в покое.
Пройдя земли бушменов, мы дали свободу нашему пленнику.
Постепенно местность становилась все более и более бесплодной, лишенной всякого населения, и наконец мы дошли до настоящей пустыни.
Недалеко от края этой необъятной пустыни находился оазис с источником воды.
Дальше идти было невозможно, так как мазиту наотрез отказались сопровождать нас в пустыне. Не зная, что делать, мы расположились лагерем в оазисе и стали ждать.
Окрестные места оказались просто раем для охотников. Они изобиловали крупной и мелкой дичью, днем пасущейся у богатой сочной травой окраины пустыни, а по вечерам приходившей к источнику на водопой. В числе других животных попадались слоны в таком большом количестве, что я надеялся, в случае если невозможно будет продолжать наше путешествие, добыть в короткое время много слоновой кости.
Слоны совершенно не пугались людей и подпускали к себе на очень близкое расстояние. Я убил несколько штук с тем, чтобы отослать их клыки в подарок королю мазиту. Даже Сэвидж застрелил одного слона (прицелившись в другого) на расстоянии пяти шагов.
Так прошло четырнадцать дней. Нам надоело неопределенное положение, да и мазиту, питаясь исключительно мясом, соскучились по растительной пище.
Мы устроили совещание.
Старый Бабемба заявил, что не может дольше удерживать своих людей, настаивающих на возвращении домой, и спросил нас, зачем мы сидим здесь, «как камни».
Я ответил, что ожидаем проводников, обещанных нам знакомыми кенда.
На это Бабемба возразил, что кенда, насколько ему известно, живут за сотни миль отсюда и что они никак не могут знать о нашем пребывании здесь при отсутствии сообщения через пустыню. Я попросил лорда Регнолла высказать свое мнение, указав, что идти одним через пустыню – значит идти на верную смерть, а обратный путь немыслим без помощи мазиту.
Лорд Регнолл пришел в сильное волнение и, отозвав меня в сторону, заявил, что, желая по известным мне причинам попасть в Страну Кенда, он, несмотря ни на что, останется здесь.
– Это означает, что мы все останемся, – сказал я, – Сэвидж и я не покинем вас. Ханс не покинет меня, хотя и считает нас безумными.
– Я останусь один… – начал было лорд Регнолл, но я так посмотрел на него, что он не окончил своих слов. Наконец мы пришли к такому соглашению:
Бабемба, поговорив со своими людьми, согласился подождать еще три дня. Если за это время ничего не случится, мы уйдем назад миль на пятьдесят, остановимся в местах, изобилующих слонами, и, добыв сколько можем унести с собой слоновой кости, вернемся в Землю Мазиту.
Три дня прошли.
Я уже был уверен, что избегнул весьма нелепого и опасного приключения, между тем как лорд Регнолл с каждым часом становился все мрачнее и мрачнее.
Третий день был посвящен завязыванию тюков, так как на рассвете следующего дня мы, согласно условию, должны были двинуться в обратный путь.
Однако судьба рассудила иначе.
Часа в два ночи меня разбудил Ханс, спавший за моей хижиной.
– Пусть баас откроет глаза и поглядит, – говорил он испуганным голосом, – там снаружи два призрака ожидают бааса.
Я поднялся и осторожно выглянул из шалаша. В пяти шагах от него при свете луны я увидел две фигуры в белых одеяниях, неподвижно сидевшие на земле.
Страх охватил меня.
Я уже схватил пистолет, который лежал под ковром, служившим мне подушкой, как вдруг услышал знакомый спокойный голос:
– Разве такой обычай, Макумазан, о Бодрствующий В Ночи, встречать гостей пулями?
– Да, Харут, – ответил я, – если гости украдкой приходят среди ночи. Но вы наконец здесь. Скажи мне, почему вы так долго заставили нас ждать?
– О Макумазан, – смущенно ответил Харут, – прими наши смиренные оправдания. Когда мы узнали о твоем приходе в город Безу, мы сразу двинулись в путь. Но мы смертные, Макумазан, и разные препятствия мешали нам. Зная, что у вас много клади, мы должны были собрать много верблюдов. Потом нужно было послать вперед вырыть колодцы в пустыне по нашей дороге. Вот причина промедления. Но мы пришли как раз вовремя, ибо через несколько часов вы были бы уже на пути домой.
– Это верно, – сказал я, – но войдите в шалаш, здесь очень холодно в этой сырости.
Они вошли и, не будучи магометанами, не отказались от предложенного мною джина.
– За ваше здоровье, Харут и Марут, – сказал я, отпив немного из стакана и отдав остальное Хансу, который в один прием проглотил жгучую жидкость.
– За твое здоровье, Макумазан! – ответили гости и, опорожнив свои стаканы, поставили их перед собой с таким благоговением, как будто это были священные сосуды.
– Теперь, – сказал я, – будем говорить. Как вам удалось уехать из Англии после того, как вы пытались похитить леди, которой вы подарили ожерелье? Куда вы увезли ее после похищения на Ниле? Во имя вашего священного Дитяти, или Шайтана, или египетского Сета[14], отвечайте мне, иначе вам пришел конец, – добавил я, хватая пистолет.
– Извини нас, Макумазан, – с улыбкой сказал Харут, – но если ты так поступишь с нами, тебе самому придется ответить на много вопросов, на которые трудно найти ответ. Мы уехали из Англии на пароходе и после долгого путешествия вернулись в свою страну. Твой намек на похищение на Ниле непонятен нам. Мы никогда не собирались похищать ту леди, которой подарили ожерелье. Мы только хотели задать ей несколько вопросов, ибо она обладает даром ясновидения. Но появился ты и прервал нас. Зачем нужна нам белая леди?
– Не знаю зачем, – ответил я, – но знаю, что вы величайшие лжецы, каких я когда-либо встречал.
При этих словах, которые всякому могли показаться оскорбительными, Харут и Марут низко поклонились мне, как будто я им сказал большой комплимент.
– Оставим вопрос о леди, – сказал Харут, – поговорим о нашем деле. Ты здесь, Макумазан, и мы пришли встретить тебя. Готов ли ты отправиться с нами, чтобы принести смерть злому слону Джане, опустошающему нашу землю, и получить великую награду. Если готов, твой верблюд ждет тебя.
– Один верблюд не может нести на себе четверых, – уклончиво ответил я.
– Храбростью и ловкостью ты превосходишь многих людей, о Макумазан, но телом ты один.
– Вы ошибаетесь, Харут и Марут, если думаете, что я поеду с вами один, – воскликнул я, – вот мой слуга, – указал я на Ханса, – без которого я не двинусь ни на шаг. Кроме того, меня должны сопровождать лорд Регнолл, известный здесь под именем Игеза, и его слуга Бена, из которого вы в Англии извлекали змей.
При моих словах на бесстрастных лицах Харута и Марута появились признаки беспокойства, и они обменялись словами на непонятном мне языке.
– Наша страна, – сказал Харут, – открыта только для тебя, Макумазан, чтобы убить Джану, за что мы обещаем тебе великую награду. Других мы не хотим видеть там.
– Тогда сами убивайте своего Джану, а я шагу не ступлю с вами.
– А если мы насильно возьмем тебя с собой, Макумазан?
– А если я убью вас, Харут и Марут? Глупцы! Со мною много храбрых людей. Ханс! Прикажи мазиту взяться за оружие и позови сюда Игезу и Бену.
– Остановись, о господин, и положи оружие на свое место, – сказал Харут, увидя, что я снова схватил пистолет. – Незачем проливать кровь. Мы в большей безопасности от тебя, чем ты думаешь. Пусть твои товарищи сопутствуют тебе, но пусть они знают, что подвергаются большой опасности.
– Ты хочешь этим сказать, что вы их потом убьете?
– Нет. Но кроме нас там живут другие, более сильные люди, которые захотят принести их в жертву. Твоя жизнь в безопасности, Макумазан, но нам открыто, что двоих из остальных ждет гибель.
– Но как мы можем быть уверены, что вы, заманив нас в вашу страну, не убьете нас предательски, чтобы завладеть нашим имуществом?
– Мы клянемся тебе нерушимой клятвой. Мы клянемся тебе Небесным Дитятей, – в один голос воскликнули оба, поклонившись до земли.
Я пожал плечами.
– Ты не веришь нам, – продолжал Харут, – ибо не знаешь, что бывает с тем, кто нарушит эту клятву. Но слушай. В пяти шагах от твоей хижины есть высокий муравейник. Взберись на него и посмотри в пустыню.
Любопытство заставило меня принять это предложение. Я вышел в сопровождении Ханса с заряженным двуствольным ружьем и вскарабкался на муравейник футов в двадцать высотой, откуда открывался вид на пустыню.
– Смотри на север, – снизу сказал Харут.
Я посмотрел в указанном направлении и при ярком свете луны ярдах в пятистах или шестистах от себя увидел сотни две сидевших на земле верблюдов и около каждого из них – белую фигуру, державшую в руках длинное копье, к древку которого недалеко от острия был прикреплен маленький флажок. Я смотрел на них до тех пор, пока не убедился, что не являюсь жертвой иллюзии или миража, после чего спустился с муравейника.
– Ты видишь, Макумазан, – сказал Харут, – если бы мы захотели причинить тебе вред, мы легко могли бы напасть ночью на ваш спящий лагерь. Но эти люди пришли охранять, а не убивать тебя или твоих друзей. В этом мы поклялись тебе клятвой, которая не может быть нарушена. Теперь мы пойдем к своим, а завтра снова вернемся одни и без оружия.
С этими словами они исчезли, как тени.
Глава X Вперед!
Через десять минут весь наш лагерь был на ногах. Все схватились за оружие.
Сперва поднялось нечто вроде паники, но с помощью Бабембы порядок был скоро восстановлен, и все было готово к защите.
О бегстве нечего было и думать, так как верблюды быстро настигли бы нас.
Оставив Бабембу при воинах, мы, трое белых и Ханс, собрались на совет, на котором я рассказал обо всем происшедшем между мной и Харутом и Марутом.
– Что вы решите? – спросил я. – Эти люди хотят, чтобы я ехал в их страну. Но они против других. Ничто не мешает вам, Регнолл и Сэвидж, и тебе, Ханс, вернуться обратно с мазиту.
– Ох! – воскликнул Ханс. – Я не покину бааса. Если надо умереть, я умру. А теперь, баас, я очень хочу спать. Я не спал всю ночь и задолго до прихода этих призраков слышал верблюдов, но не знал, что это такое, потому что я их никогда раньше не видел. Когда все будет решено, пусть баас разбудит меня.
С этими словами он улегся и тотчас же заснул, как верная собака у ног своего хозяина.
Я вопросительно посмотрел на лорда Регнолла.
– Я последую за вами, – коротко ответил он.
– Несмотря на то что эти люди отрицают свое участие в похищении вашей жены?
– Подобно Хансу, мне безразлично, что меня ждет в будущем. Кроме того, я не верю этим людям. Что-то подсказывает мне, что они знают правду о моей жене. Они слишком озабочены, чтобы я не сопровождал вас.
– Ну а вы, Сэвидж, к какому пришли решению? Помните, эти люди говорят, что двое из нас никогда не вернутся. Но кто – неизвестно. Конечно, нельзя видеть будущее, но они слишком необыкновенные люди.
– Сэр, – сказал Сэвидж, – перед оставлением Англии его светлость обеспечил мою старую мать и вдовую сестру с детьми. Теперь от меня никто не зависит. Поэтому я пойду с вами и в остальном полагаюсь на Бога.
– Итак, все решено, – сказал я, – теперь надо позвать Бабембу.
Старик принял известие о нашем решении более спокойно, чем я предполагал.
– Макумазан, – сказал он, – я ждал от тебя таких слов. Если бы это сказал другой, я счел бы его безумным. Но я считал тебя таким, когда ты отправлялся в Землю Понго, а ты вернулся невредимым. Я надеюсь, что так будет и на этот раз. А теперь прощай. Я должен увести своих людей, прежде чем придут сюда эти арабы. Может произойти битва, нас мало, и нам придется умереть. Если они скажут, что твои лошади не могут пересечь пустыню, отпусти их. Мы поймаем и сохраним их до тех пор, пока ты не пришлешь за ними. Не надо больше подарков. Ты уже оставил мне ружье, пороху, пуль и – что дороже того – память о тебе и твоей мудрости и храбрости. С того дальнего холма я буду смотреть, пока ты не скроешься из виду. Прощай.
И, не став ждать моего ответа, Бабемба ушел, проливая слезы из своего единственного глаза.
Через десять минут остальные мазиту простились с нами и ушли, оставив нас одинокими в опустевшем лагере среди нашего уложенного багажа.
Вскоре Ханс, полоскавший недалеко от нас котелок, поднял голову и сказал:
– Идут, баас. Целый полк идет.
Мы оглянулись. По направлению к нам ровными рядами медленно двигались всадники на покачивающихся верблюдах. Не доезжая ярдов пятидесяти до нас, они остановились и начали поить в ручье своих верблюдов, по двадцать за раз.
От них отделились двое людей, в которых я узнал Харута и Марута, с поклоном остановившихся перед нами.
– Доброе утро, господин, – сказал Харут лорду Регноллу на ломаном английском языке. – Итак, ты решил посетить с Макумазаном наш бедный дом, как посетили мы твой богатый замок в Англии. Ты думаешь, что мы похитили твою леди. Это не так. В Стране Кенда нет белой леди. Она наверняка утонула в Ниле, потому что ходила во сне. Мы очень жалеем тебя, но боги знают, что делают. Они дают и берут, когда хотят. Но к тебе снова вернется твоя жена еще более прекрасной, и к ней вернется ее душа.
Я удивленно смотрел на Харута. Я ничего не говорил ему о потере леди Регнолл рассудка. Откуда он мог узнать об этом?
– Мы рады, господин, – продолжал Харут, – принять тебя, но, правду сказать, это очень опасное путешествие, ибо Джана не любит чужестранцев. Смотри, на твоем лице уже лежит печать страдания, причиненного слоном.
Потом Харут обратил свое благосклонное внимание на Сэвиджа.
– И ты идешь, Бена? Что же, в Земле Кенда ты узнаешь многое о змеях и о другом.
Тут Марут, улыбаясь во все лицо и обнаруживая ряд ослепительно-белых зубов, что-то шепнул на ухо своему товарищу.
– Ох, – продолжал Харут, – мой брат говорит, что ты встретился с одной змеей в Натале и сел на нее так тяжело, что сделал ее плоской. В Земле Кенда мы покажем тебе лучшую змею, но ты не будешь сидеть на ней, Бена!
Мне, не знаю почему, все эти шутки казались страшными – чем-то вроде игры в кошки с мышью. Откуда могли эти люди знать подробности разных случаев, свидетелями которых они не были и о которых им никто ничего не говорил? Я посмотрел на Сэвиджа. Он был весьма бледен и, очевидно, чувствовал то же, что и я.
Даже Ханс шепнул мне по-голландски:
– Это не люди, это дьяволы, баас! Мы едем прямо в ад!
Только лорд Регнолл сидел молча и совершенно бесстрастно. Его красивое лицо приняло выражение сфинкса. Я видел, что Харут и Марут чувствовали силу этого человека и это вызывало в них некоторое беспокойство.
Часа три спустя мы ехали по пустыне на превосходных верховых верблюдах, оглядываясь на брошенный нами лагерь в оазисе, видневшемся на горизонте.
На милю впереди нас ехал пикет из восьми-десяти всадников на самых быстрых животных, чтобы предупредить караван в случае какой-либо опасности.
Ярдах в трехстах за нами следовал отряд из пятидесяти кенда, выстроенных в два ряда.
За отрядом следовали погонщики, ведя за собой вереницы верблюдов, нагруженных провизией, водой, палатками и нашим багажом, включая пятьдесят винтовок лорда Регнолла.
Потом ехали мы вчетвером на самых лучших верблюдах. По правую и левую сторону и позади нас на расстоянии полумили ехали такие же, как и впереди, отряды. Таким образом, мы находились в центре, окруженные со всех сторон охраной. Харут и Марут следовали за нами на небольшом расстоянии, и при надобности их легко можно было позвать.
Сперва путешествие на верблюде с непривычки сильно утомляло меня. Постоянная качка так действовала на меня, что к остановке на ночь я чувствовал себя совсем разбитым.
Бедный Сэвидж страдал еще больше моего.
Только лорд Регнолл, вероятно, раньше ездивший на верблюдах, не испытывал большого неудобства.
Что касается Ханса – тот чувствовал себя превосходно. Он все время менял свое положение и ехал то по-дамски, то сидя в седле на коленях, как обезьяна на шарманке.
Постепенно я привык к такой езде, и вскоре наши пятьдесят миль в день не особенно утомляли меня.
Мне начинала нравиться жизнь в этой спокойной пустыне.
Днем мы ехали по бесконечной песчаной равнине, по вечерам ели с аппетитом простую пищу и спали под мерцающими звездами до новой зари.
Говорили мы мало.
Вероятно, тишина пустыни накладывала печать на наши уста. Каждый был погружен в свои мысли.
Лично мне казалось, что я живу в каком-то сне. С нашей охраной мы не имели никакого общения. Я думаю, что им было запрещено разговаривать с нами.
Это были стройные молчаливые люди арабского типа, которые общались между собой знаками или отрывистыми словами. К Харуту и Маруту они относились с огромным уважением и повиновались им беспрекословно. Случилось, что я потерял свой карманный нож. Тогда троим из них было приказано вернуться назад и отыскать его. Только на восьмой день они догнали нас, почти выбившись из сил и потеряв одного верблюда, но с моим ножом, который был передан мне с поклоном.
Сознаюсь, мне было очень стыдно этой истории.
С Харутом и Марутом вплоть до самых границ Земли Кенда мы почти не разговаривали.
Так мы прошли около пятисот миль, останавливаясь в маленьких оазисах напоить верблюдов и отдохнуть.
Наконец характер местности начал изменяться.
Стала попадаться трава, потом кусты и отдельные деревья и среди них даже дикие козы.
Отъехав в сторону, я убил двух коз, чем вызвал большое удивление у нашей стражи, очевидно, никогда не видавшей стрельбы из ружья.
В этот вечер мы с удовольствием поели дичи, так как давно уже не ели свежего мяса.
В последние дни мы заметили, что устройство наших стоянок начало изменять свой прежний характер. Верблюдов уже не отпускали пастись далеко от лагеря, наш багаж складывали около самых палаток, и к нему приставлялась стража.
Я спросил у Харута о причине этих предосторожностей.
– Потому что мы на границе Земли Кенда, – ответил он, – через четыре дня мы будем на месте.
– Зачем же предосторожности против своего народа? Они встретят вас…
– Копьями, Макумазан… Заметь, что кенда составляют два народа. Мы, белые кенда, имеем свою отдельную территорию. Но путь к нам лежит через землю черных кенда, которые всегда могут напасть на нас, особенно если увидят, что с нами чужестранцы. Черные кенда значительно превосходят нас числом, но они не нападают на нашу землю, ибо боятся проклятия Небесного Дитяти. Однако, если они встречают нас на своей земле, они убивают нас; точно так же мы поступаем с ними, когда они приходят на нашу землю.
– Так что, между вами постоянная вражда?
– Вражда, которая окончится большой войной, где должны погибнуть черные или белые кенда. Или, быть может, оба народа погибнут вместе. Вот почему мы просили тебя, Макумазан, быть нашим гостем, – с поклоном закончил Харут и удалился, прежде чем я успел что-нибудь ответить.
– Похоже на то, – заметил я Регноллу, – что нас везут сражаться за Харута, Марута и Кº.
Ночь прошла спокойно.
На заре следующего дня мы двинулись в дальнейший путь местностью, становившейся все более и более плодородной. Уже стали попадаться целые стада антилоп, но людей не было видно.
Во время остановки на отдых Харут провел нас на возвышенное место, откуда открывался вид миль на пятьдесят вперед.
Перед нами лежала обширная равнина, бывшая, вероятно, некогда озером. По ней было рассыпано множество деревушек и отдельных домиков. С востока на запад равнину пересекала река, разветвлявшаяся на несколько протоков. Далеко на горизонте обрисовывался высокий холм, покрытый густой растительностью.
– Вот Земля Кенда, – сказал Харут, – по эту сторону реки Тавы живут черные кенда, а по ту – белые.
– А что это за холм? – спросил я.
– Это Священная Гора, Дом Небесного Дитяти, куда не может ступить ничья нога, кроме жрецов Дитяти.
– А если кто ступит? – спросил я.
– Он умрет, Макумазан.
– Значит, ее охраняют?
– Она охраняется, но не оружием смертных, Макумазан.
Видя, что Харут неохотно говорит об этом, я спросил его о численности народа кенда.
Он ответил, что черные кенда имеют около двадцати тысяч воинов, между тем как белые – не более двух тысяч.
В это время наш разговор был прерван появлением человека из передового пикета, который сообщил Харуту что-то, весьма встревожившее его.
Я осведомился, в чем дело.
– Один из разведчиков Симбы, царя черных кенда, – ответил Харут, указывая на скачущего вдали по равнине всадника. – Он едет в город Симбы сообщить о нашем появлении на их земле. Вернемся в лагерь, Макумазан, и поедем дальше, когда взойдет луна.
Как только взошла луна, мы снова двинулись вперед, несмотря на то что верблюды были крайне утомлены.
Мы ехали всю ночь, остановившись лишь перед рассветом на полчаса, чтобы подкрепиться пищей и подтянуть веревки нашего багажа, который оберегался теперь с особенной тщательностью.
Когда мы снова тронулись в путь, к нам подъехал Марут и со своей обычной улыбкой сказал, что хорошо было бы, если бы мы держали наши ружья наготове.
Мы вооружились магазинными винтовками, заряжающимися сразу пятью патронами. Только Ханс с моего позволения взял себе мое старое одноствольное шомпольное ружье «Интомби», не раз сослужившее мне хорошую службу во время путешествия в Землю Понго. Ханс почему-то считал его счастливым.
Спустя четверть часа, когда уже совсем рассвело, мы въехали в скалистую местность, окаймлявшую равнину.
Вдруг наш караван остановился… Вскоре нам стало ясно, в чем дело.
На расстоянии не более полумили впереди нас показалось около пятисот людей в белых одеяниях, частью пеших, частью ехавших верхом. Они быстро двигались нам навстречу с явной целью преградить нам путь. Эти люди имели черные лица и не носили никаких головных уборов.
От них отделились два парламентера с белыми флагами в руках.
Они галопом подъехали к нашему каравану, остановились у того места, где стояли мы с Харутом и Марутом, и отсалютовали нам копьями. Это были стройные мужчины негритянской расы с длинными волосами, доходившими до самых плеч. На них было легкое одеяние: кожаные панталоны, сандалии и нечто вроде кольчуги из тройной цепи, сделанной из металла, похожего на серебро, которая свешивалась с шеи на спину и на грудь. Вооружены они были длинными копьями, похожими на копья белых кенда, и прямыми мечами с крестообразной рукояткой, висевшими у пояса.
Как я узнал впоследствии, таково было снаряжение кавалерии.
Пехотинцы были вооружены более коротким копьем, двумя дротиками и кривым ножом с роговой рукояткой.
– Здравствуй, пророк Дитяти! – закричал один из них. – Мы вестники бога Джаны, говорящего устами царя Симбы.
– Говори, почитатель демона Джаны! Чего хочет от нас Симба? – сказал Харут.
– Войны. Зачем вы перешли реку Таву, границу земли черных кенда, установленную договором сто лет назад? Разве вам мало своей земли? Царь Симба позволил вам пройти в пустыню, надеясь, что вы погибнете там. Но вы не вернетесь назад!
– Посмотрим, – ответил Харут, – это зависит от того, кто сильнее, Небесное Дитя или Джана. Мы хотим избегнуть кровопролития. Наше путешествие мирное. Эти белые люди хотят принести жертву Дитяти, а путь к Священной Горе лежит только через вашу землю.
– О, мы знаем, какая это жертва! – воскликнул парламентер. – Они хотят крови нашего бога Джаны! Они думают убить его своим необыкновенным оружием, хотя против бога Джаны бессильно всякое оружие. Дай нам принести в жертву Джане белых людей. Тогда, быть может, царь Симба позволит вам пройти через свою землю.
– Как? – воскликнул Харут. – Нарушить законы гостеприимства? Вернись к Симбе и скажи ему, что, если он поднимет против нас копье, тройное проклятие Дитяти падет на его голову! Проклятие бури, проклятие голода и проклятие войны! Я, пророк, сказал это. Ступай!
Эти слова, произнесенные Харутом выразительным голосом, произвели необычайное впечатление на парламентеров. Страх появился на их лицах. Не ответив ни слова, они повернули лошадей и так же быстро, как и приехали, вернулись к своим.
Харут отдал приказание, после которого караван перестроился в виде клина. Я, Ханс и Марут поместились посредине левой стороны этого треугольника, лорд Регнолл и Сэвидж – на правой. Харут стал в вершине его.
Вьючные верблюды занимали центральное место.
Прежде чем занять свои места, мы крепко пожали друг другу руки.
Бедняга Сэвидж выглядел очень плохо: это должно было быть его первым боевым крещением.
Лорд Регнолл казался счастливым, как король.
Я, уже видавший немало битв, вспомнил предсказание одного зулусского вождя, который говорил, что я умру не на этом поле сражения. Тем не менее мое настроение было скорее обратным настроению лорда Регнолла.
Только Ханс казался совершенно равнодушным. Он даже успел набить табаком и закурить свою трубку. Если бы он не сидел в своей обезьяньей позе на верху высокого верблюда, он получил бы от меня здоровый пинок за эту браваду перед лицом Провидения.
Однако своим поведением он вызвал восторг наших кенда.
Я слышал, как один из них сказал другому:
– Посмотри! Это вовсе не обезьяна, а настоящий мужчина, даже более мужчина, чем его господин!
Теперь все было готово.
Харут, трижды поклонившись по направлению к Священной Горе, приподнялся в стременах и, подняв копье над головой, коротко скомандовал:
– Вперед!
Глава XI Аллан в плену
Наш отряд бодро бросился вперед. Даже верблюдам, несмотря на их крайнее утомление, казалось, передалось воодушевление всадников. Не нарушая порядка построения, мы быстро катились вниз по склону холма.
Целый лес копий блестел на солнце; флажки весело развевались по ветру.
Никто не проронил ни слова; слышался только топот мчавшихся верблюдов.
Только когда началась битва, белые кенда издали мощный крик:
– Дитя! Смерть Джане! Дитя! Дитя!
Человек четыреста вражеской пехоты сомкнулись семью-восемью рядами, как бы слившись в одно плотное тело. Первые два ряда стояли на коленях, держа наперевес длинные копья. Этот строй напоминал древнегреческую фалангу. По обе стороны пехоты, на расстоянии около полумили от нее, помещалось по отряду всадников, человек по сто в каждом.
Когда мы приблизились к врагу, наш треугольник, следуя за Харутом, немного изогнулся. Минуту спустя я понял, что это был искусный маневр. Мы прорезали строй врага, как нож масло, ударив в него не прямо, а под некоторым углом. Промчавшись по опрокинутой пехоте, белые кенда поражали вражеских воинов копьями и топтали их верблюдами.
Я уже думал, что дело решилось в нашу пользу, однако это было преждевременно. Скоро между нами оказалось много пеших врагов, которых я считал мертвыми, старавшихся, за невозможностью достать всадников, поразить их верблюдов в живот. Кроме того, я забыл о вражеской кавалерии, которая громом обрушилась на наши фланги.
Мы сделали все, что могли, чтобы отразить этот удар. В результате наша правая и левая линии были прорваны ярдах в пятидесяти позади вьючных верблюдов. К счастью для нас, быстрота натиска помешала черным кенда воспользоваться плодами своего удара. Оба неприятельских отряда, не успев сдержать лошадей, столкнулись и пришли в расстройство. Тогда мы направили на них своих верблюдов, и в результате многие враги были переколоты копьями и потоптаны копытами. Я не могу сказать, как случилось, что я, Ханс, Марут и около пятнадцати белых кенда оказались отрезанными от своих и окруженными массой яростной нападавших на нас врагов.
Мы сопротивлялись как могли.
Постепенно пали все наши верблюды, за исключением того, на котором сидел Ханс. Этот верблюд по странной случайности не был даже ранен.
Мы продолжали сражаться пешими.
До этого времени я не сделал ни одного выстрела, отчасти из-за трудности целиться с качающегося верблюда, отчасти из нежелания убивать этих диких людей до того, пока не появится надобность в самозащите.
Однако теперь нам грозила серьезная опасность.
Наклонившись над бьющимся головой о землю умирающим верблюдом, я разрядил все пять патронов своего магазинного ружья. В результате пять лошадей без всадников помчались по равнине.
Это произвело на атакующих сильное впечатление, так как они никогда не видели ничего подобного. На некоторое время они отхлынули назад, дав мне возможность снова зарядить ружье.
Вторично они бросились на нас – и снова тот же результат.
Посоветовавшись некоторое время между собой, они произвели третью атаку.
Я встретил их по-прежнему, хотя на этот раз упали всего три всадника и одна лошадь.
Теперь наше дело было проиграно, так как у меня больше не было патронов и остался только заряженный двуствольный пистолет. И все из-за моей непредусмотрительности!
Мои патроны находились в сумке, которую Сэвидж из учтивости вешал на свое седло. Я спохватился, когда уже началась битва, но ничего не мог сделать, так как мы с Сэвиджем находились на разных концах строя. После долгого совещания наши враги снова направились к нам, но на этот раз очень медленно.
Тем временем я огляделся и увидел, что наши главные силы уходят на север, счастливо прорвавшись и избегнув погони.
Мы были покинуты, так как, по всей вероятности, нас считали убитыми.
– Мой господин Макумазан, – сказал все еще улыбавшийся Марут, подходя ко мне, – Дитя спасло большинство наших, но мы покинуты. Что ты будешь делать? Стрелять до тех пор, пока нас не схватят?
– Мне нечем стрелять, – ответил я. – А если мы сдадимся, что будет с нами?
– Нас отвезут в город Симбы и принесут в жертву Джане. У меня мало времени, чтобы рассказать тебе, как это делается. Поэтому я предлагаю тебе: убьем себя.
– Это, пожалуй, будет глупо, Марут. Пока мы живы, нам может представиться случай избегнуть Джаны. Если нам придется плохо, у меня остается пистолет с двумя пулями для тебя и для меня.
– Мудрость Дитяти говорит твоими устами, Макумазан, – сказал Марут. – Я поступлю так, как поступишь ты.
Затем он обернулся к своим людям. Они некоторое время поговорили между собой, после чего трое из них приняли героическое решение.
Подпустив черных кенда на близкое расстояние, они вышли вперед, будто желая сдаться, и вдруг с криком: «Дитя!» бросились на них и, сражаясь как демоны, поразили множество врагов, пока сами не пали, покрытые ранами. Эта хитрая и отчаянная выходка, так дорого стоившая врагам, сильно разъярила их.
С криком: «Джана!» они устремились на нас (нас теперь было всего шестеро), предводительствуемые седобородым мужчиной, который, судя по числу цепочек на груди и другим украшениям, был важной особой.
Когда они приблизились ярдов на пятьдесят к нам и мы уже готовились к самому худшему, вдруг надо мной прогремел выстрел. В то же мгновение седобородый мужчина широко взмахнул руками, выронил копье и, бездыханный, пал на землю. Я оглянулся и увидел Ханса с трубкой в зубах и дымящимся «Интомби» в руках.
Он выстрелил, кажется, первый раз за весь день и убил этого мужчину, смерть которого повергла черных кенда в горе и отчаяние. Они спешились и столпились вокруг убитого.
К ним подъехал свирепого вида мужчина средних лет, у которого было еще больше разных украшений.
– Это царь Симба, – сказал Марут, – убитый – его дядя Гору, великий вождь, воспитывавший Симбу с малых лет.
– Жаль, что у меня нет патрона для племянника, – заявил я.
– До свидания, баас! – сказал Ханс. – Мне надо уходить, потому что я не могу снова зарядить «Интомби» на спине этого животного. Если баас раньше меня встретит своего отца, пусть баас попросит его приготовить для меня хорошее место у огня.
Прежде чем я успел что-либо ответить, Ханс повернул своего верблюда (который, как я уже упоминал, был цел и невредим) и, подгоняя его ударами ружья, умчался галопом, но не по направлению к Дому Дитяти, а вверх по холму, в чащу гигантской травы, смешанной с терновником, которая росла недалеко от нас.
Там он вскоре скрылся вместе со своим верблюдом.
Если бы черные кенда и видели уход Ханса – в чем я сильно сомневаюсь, так как их внимание всецело было поглощено мертвым Гору, – они, вероятно, не стали бы преследовать его.
Они подумали бы, что Ханс хочет заманить их в какую-нибудь ловушку или засаду.
Тем временем враги наши совещались с явным замешательством. Они, вероятно, пришли к заключению, что мы с нашими ружьями – нечто большее, чем простые смертные.
Наконец от них отделился один человек, в котором я узнал утреннего парламентера.
Тогда я отложил в сторону свое ружье в знак того, что не собираюсь стрелять, хотя, если бы я и хотел, то не мог бы сделать этого.
Парламентер подошел к нам и, остановившись в нескольких ярдах от нас, обратился к Маруту:
– Слушай, второй жрец Дитяти, – сказал он, – что говорит царь Симба. Он говорит, что ваш бог слишком силен сегодня, хотя в другой раз это может быть иначе. Поэтому Симба предлагает вам сдаться и клянется, что ни одно копье не пронзит ваше сердце и ни один нож не тронет вашего горла. Вас отведут в город и будут держать как пленников до тех пор, пока не наступит мир между черными и белыми кенда. Если же вы откажетесь, мы окружим вас со всех сторон и будем ждать, пока вы не умрете от жажды и зноя. Это слова Симбы, к которым ничего не будет прибавлено и от которых ничего не будет убавлено.
Сказав это, парламентер отошел от нас на некоторое расстояние, чтобы не слышать нашего совещания, и стал ждать.
– Что ответить ему, Макумазан? – спросил Марут.
Я ответил ему вопросом:
– Есть ли надежда, что нас освободит твой народ?
Марут отрицательно покачал головой:
– Никакой. То, что мы видели сегодня, лишь малая часть войска черных кенда. Завтра они могут собрать тысячи. Кроме того, Харут думает, что мы погибли. Если Дитя не спасет нас, нам придется покориться своей судьбе.
– Тогда дело наше проиграно. Я уже чувствую жажду, а у нас нет ни капли воды. Но сдержит ли Симба свое слово?
– Я думаю, что сдержит, – ответил Марут. – Но надо выбирать. Смотри, они уже начинают окружать нас.
– А вы что скажете? – обратился я к остальным белым кенда.
– Мы в руках Дитяти, – ответили они, – хотя лучше было бы нам пасть вместе с нашими братьями.
Посоветовавшись еще немного со мной, Марут позвал парламентера.
– Мы принимаем предложение Симбы, – сказал он, – и сдаемся вам в плен при условии, что нам не будет причинено никакого вреда. Если Симба нарушит условие, месть будет ужасна. Теперь в доказательство своей верности пусть Симба подойдет к нам и выпьет с нами кубок мира, ибо мы чувствуем жажду.
– Нет, – ответил парламентер, – если Симба подойдет к вам, белый господин убьет его. Пусть он отдаст сначала свою трубу.
– Возьми, – великодушно сказал я, передавая ему ружье, причем подумал, что нет ничего бесполезнее ружья без патронов.
Парламентер удалился, держа далеко перед собой мое оружие. После этого к нам подъехал сам Симба в сопровождении нескольких людей, из которых один нес мех с водой, а другой – огромный кубок, сделанный из клыка слона.
Симба оказался красивым мужчиной с огромными усами. Он обладал большими черными глазами, которые по временам принимали зловещее выражение, и был значительно светлее своих спутников. На голове у него, как и у других, не было никакого убора, за исключением золотой ленты, представлявшей, по-видимому, корону. На лбу у него был широкий шрам от раны, полученной, вероятно, в каком-нибудь сражении.
Он оглядел меня с большим любопытством, и я думаю, что мой внешний вид произвел на него невыгодное впечатление.
В пылу сражения я потерял свою шляпу, волосы мои были растрепаны, куртка испачкана пылью и кровью. В общем, я представлял собой весьма непрезентабельную фигуру.
Я слышал, как Симба, рассчитывая, что я не понимаю языка кенда (за месяц с небольшим пути я научился этому языку, весьма близкому к знакомому мне банту), сказал одному из своих спутников:
– Истинно о силе нельзя судить по виду. Этот маленький белый дикобраз причинил нам очень много вреда. Однако время, дробящее даже скалы, скажет нам все.
Затем он подъехал к нам и сказал:
– Ты слышал, враг мой, пророк Марут, предложенные мною условия и принял их. Не будем больше говорить об этом. Я исполню то, что обещал, но ни на волос больше.
– Пусть будет так, – ответил Марут со своей обыкновенной улыбкой, – но помни, что, если ты изменнически убьешь нас, тройное проклятие Дитяти падет на тебя и на твой народ.
– Джана победит Дитя и всех, кто чтит его! – раздраженно воскликнул Симба.
– Кто в конце концов победит – Джана или Дитя – известно одному Дитяти и, может быть, его пророкам. Но смотри! За каждого поклонника Дитяти пало больше трех поклонников Джаны. Наш караван ушел, увозя белых людей, у которых много труб, наносящих смерть. Джана, должно быть, заснул, допустив это!
Я ожидал, что эти слова вызовут взрыв негодования, однако они произвели противоположное действие.
– Я пришел выпить чашу мира с тобой, пророк, и с белым господином. Поговорим потом. Дай воды, раб.
Один из свиты Симбы наполнил кубок водой. Симба взял кубок, брызнул водой на землю и, отпив из него немного, передал его с поклоном Маруту, который с еще более низким поклоном передал его мне.
Почти умирая от жажды, я выпил добрую пинту воды и после этого почувствовал себя другим человеком.
Марут выпил остальное.
Потом кубок снова был наполнен для троих белых кенда, и Симба снова попробовал воду.
Когда наша жажда была утолена, нам привели лошадей, маленьких послушных животных с овечьими шкурами вместо седел и ременными петлями вместо стремян.
На них мы в продолжение трех часов ехали по равнине, окруженные сильным эскортом. По обе стороны каждой нашей лошади шло по вооруженному черному кенда, державшему ее на поводу. Это была предосторожность на случай попытки к бегству с нашей стороны.
Мы проехали несколько деревень, где женщины и дети сбегались смотреть на нас.
По сторонам дороги тянулись тучные нивы с почти созревшими злаками разных сортов.
Жатва обещала быть обильной. Из некоторых домов слышался плач. Очевидно, оплакивали павших в утреннем сражении.
Потом мы ехали большим лесом, состоявшим из роскошных деревьев, из которых многие были неизвестной мне породы. Выйдя из леса и проехав еще некоторое время хлебными полями, мы наконец въехали в столицу черных кенда, называемую городом Симбы. Это было большое поселение, несколько отличавшееся от других африканских городов, окруженное глубоким рвом, наполненным водой.
Через ров было перекинуто несколько мостов, которые легко разбирались в случае опасности.
Проехав через восточные ворота, мы очутились на широкой улице, где собралась толпа жителей, уже знавших об утреннем сражении.
Они сжимали кулаки и шептали проклятия, относящиеся к Маруту и его товарищам.
На меня черные кенда смотрели скорее с удивлением, не без примеси некоторой доли страха. Проехав еще с четверть мили, мы через ворота попали в нечто, похожее на южноафриканские краали для скота, окруженное сухим рвом и деревянным палисадом, наружная часть которого была обсажена зеленью. Пройдя еще одни ворота, мы очутились у большой хижины или дома, построенного по образцу других домов города.
Это был дворец короля Симбы.
За дворцом находилось еще несколько домов, где жили королева и другие женщины.
Справа и слева от дворца стояли два дома. Один служил помещением для стражи, в другой были проведены мы. Это было довольно удобное жилище площадью около тридцати квадратных футов, но состоящее всего из одной комнаты. Позади него находилось несколько хижин, служивших для кухни и для других целей. В одну из них были помещены трое белых кенда.
Немедленно после нашего прибытия нам была принесена пища: жареный ягненок и кушанье из вареных колосьев, кроме того, вода для питья и умывания в кувшинах, сделанных из высушенной на солнце глины.
Я ел с большим аппетитом, так как почти умирал от голода.
Потом, видя бесполезность всяких предосторожностей в случае нападения на нас, я растянулся на матраце, лежавшем в углу комнаты, натянул на себя кожаный ковер и крепко уснул, передав свою защиту в руки Провидения.
Глава XII Первое проклятие
На следующее утро меня разбудил солнечный луч, упавший на мое лицо через оконное отверстие, загороженное деревянной решеткой. Я лежал еще некоторое время, припоминая события предыдущего дня.
Итак, я был пленником дикого народа, имевшего достаточно оснований ненавидеть меня: я убил многих из их числа, хотя и делал это исключительно с целью самозащиты.
Правда, их король обещал нам неприкосновенность, но разве можно было положиться на слово такого человека?
Если случай не спасет нас, без сомнения, дни наши сочтены. Рано или поздно мы будем убиты тем или иным способом.
Единственным удовлетворительным обстоятельством было то, что лорду Регноллу и Сэвиджу удалось спастись.
Я был уверен, что они спаслись, потому что двое людей, сидевших на верблюдах и взятых с нами в плен, говорили Маруту, что они видели их скачущими в толпе всадников целыми и невредимыми.
По всей вероятности, они теперь оплакивают мою смерть, так как откуда им знать о нашем плене, столь несовместимом с обыкновением черных кенда?
Я не знал, на что они решатся, когда Регнолл увидит, что его смелая попытка оказалась напрасной, как, впрочем, я и думал. Единственное, что им оставалось, – это попытаться бежать назад; но это было очень трудно.
Оставался еще Ханс. Тот, конечно, попытается вернуться нашим прежним путем, так как он никогда не забывал дороги, по которой однажды ездил. Через несколько недель от него в пустыне останется лишь кучка костей. Может быть, как он и полагал, он ушел уже к моему отцу и рассказывал ему теперь об этих событиях у веселого огня где-то в далеком неведомом краю. Бедный Ханс!
Я открыл глаза и огляделся вокруг себя.
Первое, что я заметил, было исчезновение моего двуствольного пистолета и большого складного ножа. Я был теперь окончательно обезоружен. Потом я увидел Марута, сидевшего на полу и погруженного в молитву или глубокое раздумье.
– Марут, – сказал я, – кто-то был здесь ночью и похитил мой пистолет и нож.
– Да, господин, – ответил он, – и мой нож тоже исчез. Я видел, как в полночь двое людей, крадучись как кошки, вошли сюда и обыскали все углы.
– Почему же ты не разбудил меня?
– Что было пользы, господин? Если бы мы оказали сопротивление, нас убили бы сразу. Лучше было не препятствовать им взять эти вещи, которые все равно бесполезны для нас.
– Пистолет бы мог оказать нам хорошую услугу, – многозначительно сказал я.
– Да, но и без него мы, когда понадобится, можем найти способ умереть.
– Ты думаешь, что Харут не знает о том, что мы в плену? Ведь курение, которое вы мне давали в Англии, могло бы указать ему…
– Это курение – пустая вещь, мой господин; оно на мгновение затемнило твой рассудок и помогло тебе видеть то, что было в нашем уме. Мы нарисовали картины, которые ты видел.
– А! – воскликнул я. – Значит, здесь было простое внушение. Тогда, безусловно, нас считают мертвыми, и нам остается надеяться только на самих себя.
– И на Дитя, – мягко вставил Марут.
– Ну вот! – раздраженно воскликнул я. – После сказанного о вашем курении ты ожидаешь от меня веры в ваше Дитя? Кто или что это Дитя, и что оно может сделать? Ты можешь сказать мне чистую правду, потому что все равно нам скоро перережут глотки.
– Кто и что Дитя, я не могу сказать, ибо я сам не знаю этого. Но уже целые тысячелетия наш народ поклоняется ему, и мы верим, что наши отдаленные предки, изгнанные из Египта, принесли его в нашу страну. У нас есть свитки, на которых все записано, но мы не умеем их читать. Оно имеет своих наследственных жрецов, глава которых – мой дядя, Харут. Я вам еще не говорил, что он мой дядя. Мы верим, что Дитя – бог, или, вернее, символ, в котором живет бог, и что он может спасти нас в этом и в будущем мирах. Мы верим, что через оракула – женщину, которая называется Стражем Дитяти, – оно может предсказывать будущее и посылать благословения и проклятия на нас и наших врагов. Когда оракул умирает, мы становимся беспомощными, так как Дитя теряет язык, и наши враги начинают одолевать нас. Так было недавно, пока мы не нашли нового оракула.
– Последний оракул перед смертью объявил, что его преемник живет в Англии. Тогда мы с дядей отправились туда, переодевшись фокусниками, и искали того, кого нам нужно было, в течение многих лет. Мы думали, что нашли нового оракула в лице прекрасной леди, которая вышла замуж за господина Игезу, потому что у нее на шее был знак молодого месяца. После нашего возвращения в Африку, я могу рассказать вам все, как я уже говорил…
Здесь Марут остановился и посмотрел мне прямо в глаза, потом продолжал чистым звонким голосом, который тем не менее не убедил меня.
– Мы поняли, – говорил он, – что мы ошиблись, потому что настоящий оракул был обнаружен среди нашего собственного племени и теперь уже два года занимает свое высокое положение. Вне сомнения, последний оракул ошибался, рассказывая нам, что преемник находится в Англии. Эта женщина могла слышать об Англии от арабов. Вот и все.
– Хорошо, – сказал я, стараясь скрыть свое подозрение относительно личности этого нового оракула, – а теперь скажи мне, что это за бог Джана, убить которого вы привезли меня сюда? Слон ли есть бог – или бог есть слон, – какое ему дело до дитяти?
– Джана среди нас, кенда, является олицетворением мирового зла, в то время как Дитя олицетворяет добро. Джана – то же, что Шайтан у магометан, Сатана у христиан и Сет у наших праотцов египтян.
«Ага, понимаю, – подумал я, – Дитя – это Гор, а Сет – злое чудовище, с которым оно вечно борется».
– Между Джаной и Дитятею вечная война, – продолжал Марут, – и мы знаем, что в конце концов один из них победит другого.
– Весь мир знал это с самого начала, – прервал я его. – Но кто же или что этот Джана?
– У черных кенда Джана, или его символ, есть слон, огромное злое животное, которое при встрече убивает всех не поклоняющихся ему. Ему приносят жертвы. Живет он в лесу, но во время войны черные кенда пользуются им, так как этот демон повинуется своим жрецам.
– Но ведь этот слон, вероятно, меняется?
– Не знаю. Он один и тот же в продолжение нескольких последних поколений, так как известен своей величиной и один из клыков его повернут книзу.
– Это ничего не доказывает, – заметил я, – слоны живут до двухсот лет и больше. Ты когда-нибудь видел его?
– Нет, Макумазан, – с содроганием ответил Марут. – Если бы я встретил его, разве был бы я теперь жив? Но я боюсь, что мне суждено увидеть его, и не мне одному, – прибавил он, снова содрогаясь.
В этот момент наш разговор был прерван появлением двух черных кенда, принесших нам еду – похлебку из вареной курицы.
Они стояли возле нас, пока мы ели. Что касается меня, я не жаловался, потому что я узнал все, что я хотел знать о богословских воззрениях и обычаях страны, и пришел к заключению, что ужасный бог-дьявол черных кенда был просто слоном необыкновенной величины и необыкновенной свирепости, за которым при других обстоятельствах я с удовольствием поохотился бы.
Аппетит был у нас плохой, и мы, наскоро позавтракав, вышли из дома и посетили стоявшую за ним хижину, где помещались наши белые кенда. Они сидели на корточках на земле и имели очень подавленный вид.
Когда я спросил их, в чем дело, они ответили:
– Ничего, только нам придется умереть, а жизнь так хороша.
У них были жены и дети, которых ни один из них не надеялся снова увидеть. Я попробовал, как мог, ободрить их, но, боюсь, сделал это без воодушевления, так как в глубине своего сердца чувствовал то же, что и они.
Мы вернулись в свой дом и поднялись по лестнице на его плоскую крышу.
Отсюда мы увидели странную церемонию, происходящую в центре рыночной площади.
На большом расстоянии, отделявшем нас от нее, подробности были плохо видны, а мой бинокль был похищен вместе с пистолетом и ножом, будучи, вероятно, также причислен к разряду смертоносных орудий.
Посреди площади был воздвигнут жертвенник, на котором горел огонь. Позади него сидел Симба, окруженный различными советниками. Перед жертвенником стоял деревянный стол, на котором лежало нечто похожее на тело козла или овцы. Фантастически одетый мужчина с несколькими другими был занят рассматриванием лежащего на столе. Результат рассматривания получился, очевидно, неудовлетворительным, потому что мужчина поднял руки и издал унылый вопль. Потом внутренности животного были брошены в огонь, а труп куда-то унесен.
Я спросил Марута, что, по его мнению, они делали.
– Советовались с оракулом, – печально ответил он, – быть может, о том, жить ли нам или умереть, Макумазан.
В это время жрец в странном уборе из перьев приблизился к Симбе, держа в руке какой-то небольшой предмет.
Я раздумывал, что бы это могло быть, как вдруг звук выстрела долетел до моих ушей, и я увидел, что жрец начал скакать на одной ноге, держась за колено другой и громко завывая.
– Ага, – сказал я, поняв, в чем дело, – он задел курок моего пистолета, и пуля попала ему в ногу.
Симба что-то крикнул, после чего пистолет был брошен в огонь, вокруг которого собралась целая толпа посмотреть, как он будет гореть.
– Погоди, – сказал я Маруту и, пока говорил, произошло неизбежное.
От действия жара выстрелил другой ствол, и одновременно с выстрелом один из жрецов, окружавших жертвенник, повалился на землю, пораженный насмерть тяжелой пулей.
Ужас охватил черных кенда. Все бросились бежать, впереди всех Симба, а позади главный жрец, прыгавший на одной ноге.
Это происшествие весьма обрадовало нас. Мы поспешно спустились вниз, опасаясь, что наше присутствие на крыше может раздражать этих дикарей. Минут через десять ворота ограды распахнулись, и в них прошли четверо людей, несших труп убитого жреца, который был положен у наших дверей.
Потом появился Симба, окруженный сильной стражей, а за ним главный жрец с перевязанной ногой, поддерживаемый двумя своими коллегами.
На нем (только теперь я рассмотрел) была отвратительная маска с двумя клыками, похожими на клыки слона.
Симба вызвал нас из дому. Делать было нечего, мы вышли.
Видно было, что он обезумел от страха или ярости, или от того и другого вместе.
– Посмотрите на вашу работу, маги! – сказал он ужасным голосом, указывая на мертвого жреца и на раненного в ногу.
– Это не наша, а твоя работа, Симба, – ответил Марут, – ты украл магическое оружие белого господина, и оно отомстило за себя.
– Верно, – сказал Симба, – труба убила этого жреца и ранила другого. Но это вы, маги, приказали ей поступить так. Теперь слушайте! Вчера я обещал вам, что ни одно копье не пронзит вашего сердца и ни один нож не коснется вашего горла, и выпил с вами чашу мира. Но вы нарушили договор, и его больше нет! Слушайте мое решение! Своим колдовством вы отняли жизнь у одного из моих слуг и ранили другого. Если в три дня вы не вернете жизнь убитому и не исцелите раненого (что вы можете сделать), вы последуете за убитым, но каким путем – я не скажу вам!
Когда я услышал это удивительное заявление, я содрогнулся в глубине души, но, находя по-прежнему, что лучше было притворяться непонимающим, я сдержался и предоставил отвечать Маруту.
– О царь! – с обычной улыбкой сказал Марут. – Кто может вернуть жизнь мертвому? Даже у самого Дитяти нет средств для этого.
– Тогда, пророк Дитяти, постарайся найти это средство, иначе последуешь за убитым! – закричал Симба, дико вращая глазами.
– А что мой брат, великий пророк, обещал тебе вчера, Симба, если ты причинишь нам вред? – спросил Марут. – Не три ли великих проклятия, которые падут на голову твоего народа? Помни, если хоть один из нас будет убит, проклятие скоро осуществится. Я, Марут, пророк Дитяти, повторяю это!
Теперь Симба, казалось, окончательно обезумел. Он бешено прыгал перед нами, размахивая своим копьем. Серебряные цепи звенели на его груди. Он изрыгал проклятия на Дитя и его последователей, причинивших столько зла черным кенда. Он взывал о мести к богу Джане и молил его «пронзить Дитя своими клыками, разорвать хоботом, истоптать ногами».
Во всем этом через свою ужасную маску вторил ему раненый жрец.
Мы стояли перед ними, я – прислонившись к стене дома и стараясь казаться как можно беспечнее, Марут – по обыкновению, улыбаясь и внимательно поглядывая на небо.
Мы слишком озябли, слишком ослабли и слишком были полны тяжелых подозрений и опасений для того, чтобы действовать более энергично.
Вдруг Симба обернулся к своей свите и приказал вырыть яму в углу нашего двора и зарыть в нее мертвого, оставив его голову наверху, «чтобы он мог дышать».
Приказание было немедленно исполнено. Потом, отдав распоряжение кормить нас по-прежнему и прибавив, что через три дня мы снова услышим о нем, он удалился со всей своей свитой.
Убитый был зарыт по шею в землю в сидячем положении. Около него были поставлены сосуды с пищей и водой, и над ним было устроено перекрытие, «чтобы защитить нашего брата от солнца», как сказал один из устраивавших могилу другому.
Вид мертвого, а также голов павших в бою белых кенда (я забыл упомянуть о них), выставленных на шестах у дворца Симбы, производил тяжелое впечатление.
Но прикрытие, сделанное над мертвым, было излишним, так как солнце вдруг перестало сиять; тяжелые тучи покрыли небо, и наступил сильный холод, необыкновенный, по словам Марута, для этого времени года.
С крыши дома, куда мы ушли, чтобы быть подальше от мертвеца, мы видели на площади города толпы черных кенда, смотревших с беспокойством на небо и обсуждавших между собой это необыкновенное изменение погоды.
День прошел; нам принесли еду, но у нас не было аппетита.
Благодаря низко нависшим тучам ночь наступила ранее обыкновенного. Мы улеглись спать.
С наступлением рассвета я увидел, что тучи стали еще темнее и плотнее, а холод – еще больше, чем накануне. Дрожа от холода, мы отправились посетить наших белых кенда, которым стража не позволяла заходить в наш дом.
Войдя в их хижину, мы, к своему ужасу, увидели, что вместо трех их было теперь всего двое.
Я спросил, где третий. Они ответили, что ничего не знают о его судьбе. В полночь, рассказывали они, в их хижину явились люди, которые связали и куда-то утащили их товарища.
Мы вернулись в свой дом.
День прошел без особенных событий. В наш дворик приходили жрецы, осмотрели мертвеца, переменили сосуды с пищей и удалились.
Тучи становились все темнее, и воздух – все холоднее и холоднее.
Можно было ждать снега.
С крыши нашего дома мы видели население города Симбы, с увеличивающимся беспокойством обсуждавшее на улицах перемену погоды.
У шедших на полевые работы на плечи были накинуты циновки.
Эту ночь, несмотря на царивший холод, мы, закутавшись в ковры, проводили на крыше дома. Если бы нас решили схватить, здесь все-таки мы могли бы оказать некоторое сопротивление или в крайнем случае броситься вниз и разбиться насмерть.
Мы бодрствовали по очереди.
Около полуночи я услышал шум, доносившийся из хижины, стоявшей позади нашего дома, потом заглушенный крик, от которого у меня застыла кровь.
Через час на рыночной площади был зажжен огонь и вокруг него видны были двигающиеся фигуры. Больше ничего нельзя было рассмотреть.
На следующее утро в хижине остался всего один белый кенда, который почти обезумел от страха. Бедняга умолял нас взять его в наш дом, так как он боялся остаться один с «черными демонами».
Мы попробовали было исполнить его просьбу, но появившаяся откуда-то вооруженная стража воспрепятствовала нам сделать это.
Этот день был точной копией предыдущего.
Тот же осмотр жрецами мертвого и перемена у него запаса пищи, тот же холод и покрытое тучами небо, те же толки о перемене погоды на рыночной площади.
Ночь мы снова провели на крыше, но на этот раз не смыкали глаз.
Над городом как будто нависло грядущее несчастье.
Казалось, что небо опускается на землю. Луна была скрыта тучами. На горизонте то с одной, то с другой стороны вспыхивали яркие зарницы. Не было ни малейшего ветра.
Казалось, что приближался конец мира, по крайней мере что касалось нашей области. Никогда в жизни я не переживал таких ужасов, как в эту достопамятную ночь. Если бы мне сказали, что с наступлением утра я буду казнен, думаю, я перенес бы это с более легким сердцем. Но хуже всего было то, что я ничего не знал. Я был похож на человека, которому приказывали идти с завязанными глазами в пропасть; он не мог знать, где кончается это путешествие, где та пропасть, которая поглотит его, но он на каждом шагу переживал муки смерти, готовой поглотить его.
Около полуночи мы услышали шум борьбы и заглушенный крик в хижине позади нашего дома.
– Его увели, – прошептал я Маруту, вытирая холодный пот, выступивший на моем лбу.
– Да, – ответил Марут, – скоро настанет и наш черед.
Мне очень хотелось видеть его лицо, чтобы знать, улыбается ли он при этих словах.
Через час на рыночной площади, как и накануне, появился огонь, вокруг которого двигались смутные фигуры.
К счастью, мы находились слишком далеко от площади, чтобы сквозь ночной мрак рассмотреть, что происходит там.
Вдруг поднялся сильный ветер, какой обыкновенно предшествует в южных частях Африки буре с грозой. Он дул около получаса, потом затих. Молнии со всех сторон прорезывали небо, и при свете их мы видели почти все население города Симбы, толпившееся на площади и указывавшее на небо.
Через несколько минут загремел сильный гром, что-то тяжелое ударилось о крышу около меня. Потом я почувствовал сильный удар в плечо, едва не сваливший меня с ног.
– Скорее вниз! – воскликнул я. – Они бросают в нас камнями.
Через десять секунд мы были в своей комнате. Я зажег спичку, коробка которых была оставлена у меня вместе с табаком и трубкой, и увидел кровь, струившуюся по лицу Марута.
Но то, что было принято нами за камни, оказалось кусками льда в несколько унций весом.
– Град! – сказал Марут со своей обычной улыбкой.
– Это какая-то адская буря, – сказал я, – ибо кто когда видел подобный град?
Спичка потухла. Дальше разговаривать было невозможно, так как из-за рева внезапно разразившейся бури с необыкновенным градом ничего не было слышно.
К шуму бури и ударам града примешивались вопли и стоны людей.
Я начал опасаться разрушения нашего дома, но он был прочно выстроен и стойко выдерживал бешеные натиски бури.
Я уверен, что, будь он крыт черепицей или железом, он ни за что бы не выдержал ее. Громадные градины разбили бы вдребезги черепицу и пробили бы железо, как бумагу. Со мной был подобный случай в Натале, когда убило градом мою лучшую лошадь. Но все-таки тот град был похож на снежинки по сравнению с этим.
Град продолжался не более двадцати минут, из которых десять были наиболее яростными.
Потом все утихло, небо совершенно прояснилось, и взошла полная луна. Мы снова вышли на крышу.
Она на несколько дюймов была покрыта осколками льда, все кругом, насколько мог охватить глаз, было скрыто под пеленой глубокого снега.
Вскоре наступила нормальная температура, и снег с градом начал быстро таять, образуя потоки бегущей воды.
Мы видели мечущихся лошадей, вырвавшихся из своих разрушенных бурей конюшен, находившихся в конце рыночной площади. Повсюду валялись тела убитых и раненных необыкновенным градом и сорванными бурей крышами домов.
В момент начала бури на площади было около двух тысяч человек, собравшихся смотреть на жертвоприношение.
– Дитя мало, но сила его велика! – торжественно сказал Марут. – Взгляни, вот его первое проклятие!
Я посмотрел на него, но не стал спорить, так как он был глубоко убежден, что этот необыкновенный град и буря были посланы его Дитятей.
Я не понимал только, как он мог верить во все это. Потом я припомнил, что подобное наказание постигло древних египтян в период их расцвета за то, что они не дали «народу уйти»[15]. Конечно, эти черные кенда были хуже, чем египтяне; и конечно, они нас не отпустят. Поэтому я перестал удивляться фантазиям Марута.
Только на следующее утро мы смогли судить о размерах несчастья, выпавшего на долю черных кенда.
От их жатвы, обещавшей быть богатой, не осталось и следа.
Леса приняли настоящий зимний вид. На деревьях, протягивавших к небу свои оголенные ветки, не осталось ни одного листка. Огромное бедствие обрушилось на страну черных кенда.
Глава XIII Джана
В это утро нам не принесли завтрак, вероятно, потому, что некому было его принести. Но у нас от предыдущего дня осталось много разной пищи. Мы поели сколько могли и отправились посмотреть хижину, где помещались наши белые кенда. Она была совершенно пуста: последний ее обитатель исчез, подобно своим товарищам.
– Они убили их! – сказал я Маруту.
– Нет, – ответил он, – их принесли в жертву Джане. То, что мы видели вчера на рыночной площади, было обрядом жертвоприношения. Теперь настал наш черед, Макумазан!
В бессильной ярости вернулся я с Марутом в дом.
В это время остатки тростниковых ворот распахнулись, и в них показался король Симба в сопровождении жреца с простреленной ногой, на костылях, и остальной свитой, большинство которой было ранено вчерашним ураганом.
В порыве охватившего меня гнева я забыл, что скрывал от черных кенда знание их языка.
– Где наши слуги, убийцы? – закричал я, потрясая кулаками, прежде чем посетители собрались что-нибудь сказать. – Вы принесли их в жертву вашему дьявольскому богу? Если так, смотрите на плоды вашей жертвы! Куда делась ваша жатва? Чем вы будете жить в эту зиму?
При этих словах уныние охватило их; перед их глазами уже стоял признак наступающего голода.
– Зачем вы держите нас здесь? – продолжал я. – Или вы хотите еще худшего? Зачем вы теперь пришли сюда?
– Мы пришли посмотреть, вернул ли ты, белый человек, жизнь нашему жрецу, которого убил своим колдовством, – мрачно ответил Симба.
– Смотри, – сказал я, сбрасывая с мертвеца наброшенную мною накануне циновку, – смотри и будь уверен, что если ты не выпустишь нас, то, прежде чем родится новая луна, все вы будете такими. Вот какую жизнь мы возвращаем злым людям, подобным тебе!
Ужас охватил наших посетителей.
– Господин, – сказал Симба, обращаясь ко мне с необыкновенным уважением, – твои чары слишком сильны для нас. Великое несчастье обрушилось на нашу землю. Сотни людей убиты ледяными камнями, вызванными тобой. Наша жатва истреблена. Со всех концов нашей земли приходят вести, что почти все овцы и козы погибли. Скоро мы должны будем умереть от голода.
– Вы заслужили голодной смерти, – ответил я, – теперь дадите вы нам уйти?
Симба нерешительно посмотрел на меня и начал шептаться с хромоногим жрецом. Из их совещания я не уловил ни слова.
Хромоногий жрец был теперь без своей уродливой маски, но его типичное негритянское лицо стало еще отвратительнее. Видно было, что это хитрый, жестокий, способный на все человек.
Я чувствовал, что по отношению к нам он внушает зло своему повелителю.
Наконец Симба снова обратился ко мне:
– Мы хотели, господин, удержать тебя и жреца Дитяти заложниками белых кенда, которые всегда были нашими злыми врагами и причинили нам много незаслуженного зла, хотя мы свято хранили договоры, заключенные нашими дедами. Однако твои чары слишком сильны для нас. Поэтому я решил отпустить вас. Сегодня на закате солнца мы отведем вас на дорогу, ведущую к броду реки Тавы, которая отделяет нашу землю от земли белых кенда. Вы можете идти куда хотите. Мы не желаем больше видеть ваши зловещие лица.
При этих словах мое сердце чуть не выпрыгнуло от радости, которая, однако, была преждевременной.
– Вечером! Почему не сейчас? – воскликнул я. – В темноте будет трудно переходить через незнакомую реку.
– Она неглубокая, господин, и брод найти нетрудно. Кроме того, отправившись сейчас, вы придете к реке, когда будет уже темно, а выйдя на закате солнца, вы к утру достигнете брода. Наконец, мы не можем проводить вас туда, пока не похороним мертвых.
После этого Симба повернулся и, прежде чем я успел что-либо возразить, ушел в сопровождении остальных. В воротах хромоногий жрец обернулся на костылях и что-то прошептал своими толстыми, отвислыми губами; по всей вероятности, это было проклятие.
– Теперь мы будем свободны! – весело сказал я Маруту, когда все черные кенда ушли.
– Да, господин, – ответил он, – но где они намереваются дать нам свободу! Демон Джана живет в лесу на болотистых берегах реки Тавы и, говорят, неистовствует как раз по ночам.
Я ничего не возразил, но подумал, что таинственный слон может оказаться далеко, а алтарь для жертвоприношений находится слишком близко.
Час за часом я следил за солнцем, пока оно не начало скрываться за западным лесом. Как раз в это время у ворот показался Симба в сопровождении двадцати вооруженных всадников, один из которых вел двух лошадей для нас.
Закончив сборы, заключавшиеся в припрятывании Марутом пищи в складки своего платья, мы вышли из проклятого дома, сели на лошадей и, окруженные конвоем, выехали на рыночную площадь, где стоял каменный жертвенник с торчащими из пепла обуглившимися костями.
Потом мы ехали северной улицей города.
У дверей домов стояли их обитатели, вышедшие посмотреть на наш отъезд.
Ненависть была написана на их лицах; они сжимали кулаки и тихо шептали нам вслед проклятия.
И неудивительно! Все они были вконец разорены; впереди их ждал голод. Они были убеждены, что мы – белый маг и пророк враждебного им Дитяти – навлекли на них все эти бедствия.
Я думаю, если бы не стража, они разорвали бы нас на куски.
При виде побитых градом полей и садов у меня сердце сжалось от жалости к их владельцам.
Проехав несколько миль через опустошенные поля, мы въехали в лес. Здесь было так темно, что удивительно, как наши проводники находили друг друга.
В этой темноте ужас охватил меня. У меня явилась мысль, что нас привели сюда для того, чтобы предательски убить. Каждую минуту я ожидал удара ножом в спину. Я уже собрался было дать шпоры лошади и попробовать бежать, но оставил эту идею, так как меня со всех сторон окружал конвой, и, кроме того, нехорошо было покидать Марута. Делать было нечего; оставалось ждать, чем все это кончится.
Наконец мы выехали из леса. Уже взошла луна, и при свете ее мы увидели, что находимся в болотистой местности с растущими кое-где отдельными деревьями. Здесь наш конвой остановился.
– Слезайте с лошадей и идите своим путем, злые люди, – угрюмо сказал Симба, – дальше мы не пойдем с вами. Идите по тропинке, она приведет вас к озеру. Перейдя через озеро, вы к утру достигнете реки, за которой живут ваши друзья. Но помните, эту дорогу охраняет некто, с кем опасно встречаться.
Едва он кончил, его люди стащили нас с лошадей, и через минуту все они исчезли во мраке, оставив нас одних.
– Теперь, господин, мы должны идти дальше, – сказал Марут, – ибо если мы останемся здесь, то днем Симба и его люди вернутся сюда и убьют нас.
– Тогда вперед! – сказал я. – Но на что намекал Симба, говоря, что «некто охраняет этот путь».
– Я думаю, что он подразумевал Джану, – со стоном ответил Марут.
– Будем надеяться, что Джана далеко. Будь бодрее, Марут! Мы, наверно, не встретим ни одного слона в этих местах.
– Нет, господин, здесь бывает много слонов, – ответил Марут, указывая на следы на земле, – говорят, что они ходят умирать к озеру и это – один из путей, по которому они идут на смерть. Это место, по которому не смеет ходить ни одно живое существо.
– Ох, – воскликнул я, – значит, то, что я видел в видении в Англии, было правдой?
– Да, господин. Мой дядя Харут однажды, когда был молодым, заблудился на охоте и видел то, что его ум показывал тебе в видении и что мы увидим теперь, если доживем до того.
Марут был прав: много слонов проходило этой тропой, а один из них совсем недавно. Я, опытный охотник на этих животных, не мог ошибиться в этом.
Мы шли часа два, в продолжение которых встретили всего одно живое существо, – большую сову, пролетевшую над самыми нашими головами. Эта сова, по словам Марута, была «шпионом Джаны». Мы достигли вершины подъема, откуда нашим глазам открылся печальный пейзаж, уже знакомый мне по видению в Регнолл-Кастле.
Он был еще пустыннее, чем представлялся мне тогда. Впереди лежало темное, спокойное озеро, поросшее по краям тростником. Вокруг него на значительном протяжении тянулся тропический лес. На востоке от озера лежала каменистая равнина.
Вид этой местности наполнил мою душу необъяснимым страхом.
Вспоминая подробности своего видения, я содрогался от одной мысли о необходимости пройти по берегу этого озера.
Я осмотрелся кругом.
Если идти налево, мы либо упремся в озеро, либо должны будем идти вдоль него, пока не достигнем леса, где наверняка заблудимся.
Направо вся земля была покрыта терновником и густой травой, непроходимой для пешеходов, особенно в ночное время.
Я оглянулся назад. Там, в нескольких сотнях ярдов от нас, за низкими мимозами, смешанными с растениями, похожими на алоэ, появилось и исчезло что-то, похожее на хобот слона.
Тогда, отчаявшись сделать наилучший выбор и желая поскорее прийти к определенному решению, мы начали спускаться к озеру слоновой тропой. Минут через десять мы пришли к его восточному концу, где шепот тростника, колеблемого ночным ветром, придавал некоторую жизнь этому месту.
Кругом была бесплодная земля, на которой, казалось, ничто не могло произрастать. Повсюду лежали останки многих сотен слонов, из которых некоторые пали уже много лет назад, некоторые совсем недавно. Судя по клыкам, это были все старые животные. Их кости покрывали около четверти акра, и если бы удалось унести отсюда только хорошо сохранившиеся клыки, то можно было бы сделаться очень богатым человеком. Не будь я старый охотник, Аллан Квотермейн, если, избегнув теперь опасности, я не попытаюсь сделать это!
Потом мое внимание было привлечено тем, что я видел в видении – умирающим недалеко от нас от старости слоном.
Это престарелое, исхудавшее животное оглядывалось кругом, ища удобного места, и, найдя его, остановилось на минуту.
Потом умирающий слон поднял свой хобот, трижды протрубил и, опустившись на колени, затих. По-видимому, он был мертв. Я отвел от него глаза и вдруг ярдах в пятидесяти за ним увидел на скале очертания того самого дьявольского слона, которого видел в видении!
Ох, что это было за животное! Объемом и высотой оно вдвое превосходило самых больших слонов, виденных мною доселе.
Это был огромный до сверхъестественного представитель особенной породы, переживший, вероятно, Всемирный потоп. Его черно-серые бока были испещрены шрамами. Один из его чудовищных клыков ярко блестел при свете луны; другой, сломанный наполовину, был неправильной формы, будучи отогнут не вверх, а книзу и немного вправо.
Это был огромный до сверхъестественного представитель особенной породы, переживший, вероятно, Всемирный потоп
Перед нами стоял настоящий библейский Левиафан![16]
Я присел на корточки за покрытым мхом скелетом слона и, глядя на это необыкновенное животное, мечтал о крупнокалиберном ружье.
Что сделалось с Марутом, я не видел; кажется, он лежал, простершись на земле.
В продолжение минуты, или более того, разные мысли приходили мне в голову.
Я думал, что трубный звук, произведенный умирающим, привлек сюда этого гиганта, который, вероятно, был царем среди слонов, призывавших его в час своей кончины.
Постояв с минуту и потягивая воздух, Джана (я буду так называть его) направился к тому месту, где лежал слон, которого я считал уже мертвым. На самом деле он был еще жив и при приближении Джаны поднял хобот, как бы приветствуя его.
Но Джана, так же как было в моем видении, бросился на умирающего и ударом в бок прикончил его.
Сделав это, не знаю, от злобы ли, или из желания прекратить страдания умирающего, он остановился и как будто задумался.
В это время я, к своему удовольствию, заметил, что ветер, тихо колебавший тростник у озера, дул по направлению от Джаны к нам.
Но точно по злобе судьбы ярдах в ста справа от нас среди камней промелькнула какая-то тень, похожая на слона.
Джана насторожил свои широкие уши, задрожал всем своим огромным телом и начал тщательно обнюхивать воздух.
«Господи! – подумал я. – Он почуял нас…»
Чтобы утешить себя, я надеялся, что наше присутствие еще не открыто.
Но напрасно!
Джана был стреляный воробей.
Он захрюкал и двинулся, как товарный поезд, по направлению к нам, тщательно обнюхивая со всех сторон землю и воздух.
Десять раз я прицеливался в него из воображаемого ружья, делая это совершенно автоматически.
«Что будет со мною? – думал я в это время. – Пронзит ли он меня своими клыками, подбросит ли высоко в воздух или раздавит тяжелыми ногами?»
– Жрецы Джаны велели ему убить нас, – дрожащим шепотом сказал Марут, – но, прежде чем умереть, я хочу сказать, что леди, жена лорда…
– Тише, – прервал я его, – Джана услышит нас.
Я посмотрел на Марута и только теперь заметил, какая перемена произошла в его лице. На нем уже не было обычной улыбки. Оно побледнело и осунулось, как у покойника, умершего по крайней мере три дня тому назад.
Я был прав. Джана почуял нас. Он шел прямо к нам, вытянув вперед свой чудовищный хобот.
Марут не мог вынести этого зрелища. Он вскочил и бросился бежать к озеру, надеясь найти спасение в воде.
Ох, как он бежал!
За ним со скоростью паровоза помчался Джана, трубя в свой хобот.
Достигнув озера, Марут бросился в воду и поплыл от берега.
«Теперь, – думал я, – ему удалось спастись, если он не попадется крокодилам».
Но Джана был тоже хорошим пловцом.
С сильным всплеском он бросился в воду и поплыл за Марутом.
Увидев это, Марут быстро повернул к берегу, выиграв немного времени этим маневром.
Выбравшись на берег и лавируя между скалами, Марут, к великому моему ужасу, побежал прямо ко мне. Не знаю, сделал ли он это случайно или в безумной надежде найти около меня защиту…
Вдруг он остановился и, повернувшись лицом к настигающему его Джане, крикнул ему что-то вроде проклятия, в котором я разобрал лишь одно слово: Дитя!
Странно, но это произвело известный эффект.
Джана остановился в нескольких шагах от Марута и, казалось, понял эти слова, которые привели его в необыкновенную ярость.
Издавая ужасные крики, он бешено хлестал себя хоботом по бокам, злобно вращая своими красными глазами. Пена била из его открытого рта.
Потом он бросился вперед…
На мгновение я закрыл глаза, и, когда я их снова открыл, Марут был уже высоко в воздухе; в следующий момент он упал вниз, с ужасным звуком ударившись о землю.
Джана подошел к нему и, убедившись, что он мертв, осторожно поднял его своим хоботом.
Я молил Бога, чтобы он поскорее удалился со своей жертвой.
Но тщетно!
Медленно шагая и покачивая тело бедного Марута, как нежная кормилица ребенка, чудовище направилось прямо ко мне, вероятно, все время чуя мое присутствие.
В продолжение некоторого времени, показавшегося мне целым столетием, слон стоял надо мной, как бы изучая меня.
Озерная вода освежающей струей лилась из его хобота прямо мне на спину.
Если бы не она, я наверняка лишился бы чувств.
Я счел наилучшим притвориться мертвым, надеясь, что, может быть, тогда Джана не тронет меня.
Чуть-чуть приоткрыв один глаз, я видел, как он поднял надо мной свою огромную лапу, и мысленно простился с жизнью.
Однако, слегка коснувшись моей спины, он поставил свою ногу обратно на землю. Потом, бережно положив рядом со мной останки Марута, Джана начал ощупывать меня с головы до ног концом своего хобота.
Дойдя до ног, он, точно железными щипцами, ущипнул меня, вероятно, чтобы убедиться, не притворяюсь ли я.
Я не пошевелился, хотя вместе с куском материи он оторвал изрядную порцию моей собственной кожи.
Это, казалось, озадачило Джану; он поднял конец своего хобота, как бы желая рассмотреть оторванный лоскуток при свете луны.
Результат осмотра получился неудовлетворительный (на материи, вероятно, была кровь); Джана поднял уши и уже приготовился покончить со мной…
Вдруг в нескольких ярдах от меня прогремел выстрел. Я посмотрел вверх и увидел кровь, струившуюся из левого глаза чудовища, куда, очевидно, попала пуля.
Страшно завыв от боли, Джана повернулся и бросился бежать…
Глава XIV Погоня
Кажется, на минуту или две я потерял сознание. По крайней мере я припоминаю странный, длительный сон. Мне грезилось, что все лежавшие вокруг меня бесчисленные скелеты слонов поднялись, выстроились в ряд и преклонили передо мной колена, так как я был единственным человеком, избегнувшим смерти от Джаны.
Потом сквозь обрывки этого сновидения я услышал голос Ханса, которого напрасно считал погибшим.
– Если баас жив, – говорил он, – пусть он проснется, прежде чем я окончу заряжать «Интомби», так как надо торопиться уходить отсюда. Кажется, я попал Джане в глаз; но это очень большое животное, а пуля из «Интомби» слишком мала, чтобы убить его. Кроме того, трудно ждать, что кто-либо из нас снова попадет ему в другой глаз.
Я поднялся и увидел перед собой Ханса, выглядевшего по-старому, только немного грязнее обыкновенного. Он только что окончил заряжать «Интомби».
– Зачем ты здесь, Ханс? – спросил я его глухим голосом.
– Конечно, затем, чтобы спасти бааса от дьявола Джаны, – ответил старый готтентот и, прислонив ружье к скале, опустился рядом со мной на колени, обхватил меня руками и начал плакать, приговаривая: – Как раз вовремя, баас! Слава богу, я подоспел как раз вовремя. Теперь надо поскорее уходить отсюда. У меня вон там, за большим камнем, стоит привязанный верблюд. Он может нести на себе двоих, потому что отдохнул за четыре дня и вдоволь поел травы. Этот демон Джана наверняка скоро вернется сюда.
Я ничего не возразил, но только посмотрел на бедного Марута, лежавшего как будто во сне.
– Ох, баас, – сказал Ханс, – о нем нечего беспокоиться: у него сломана шея, и он совершенно мертв. Но это хорошо, – весело прибавил он, – потому что верблюд не смог бы нести троих. Кроме того, если Марут останется здесь, быть может, Джана, вернувшись сюда, начнет играть им вместо того, чтобы преследовать нас.
Бедный Марут! Какой реквием пел над ним Ханс!
Бросив последний взгляд на останки этого несчастного человека, к которому я успел привязаться за время нашего плена, я оперся на плечо старого Ханса, так как чувствовал себя слишком слабым, чтобы идти самостоятельно, и пошел с ним через плато по направлению к востоку от озера, лавируя между камнями и бесчисленными скелетами слонов.
В двухстах ярдах от места трагедии находилась группа скал, похожая на ту, откуда появился Джана, только немного поменьше ее. За ней мы нашли стоящего на коленях верблюда, привязанного к скале.
По дороге Ханс вкратце рассказал мне свою историю. Застрелив одного из вождей черных кенда, он счел за лучшее остаться на свободе, нежели разделять с нами плен, и решил, что в случае, если я буду убит, он отомстит моим убийцам. Таким образом, он, как было уже описано, бежал незамеченным и до наступления ночи укрывался на склоне холма. Потом, при свете луны, он следовал за нами, обходя деревни, и наконец нашел убежище в пещере недалеко от города Симбы, в лесу, где никто не жил. Здесь по ночам он пас своего верблюда, пряча его в пещере при наступлении зари. Дни он проводил, сидя на высоком дереве, откуда мог наблюдать за всем происходившим в городе. Питался он хлебными зернами, которые собирал на соседнем поле. Кроме того, у седла его верблюда оказался мешок с некоторым количеством провизии. Ханс видел все, что происходило в городе, включая опустошения, произведенные бурей с градом, от которой он со своим верблюдом укрылся в пещере.
Видя, что нас с Марутом увозят из города, он оседлал верблюда и отправился следом за нами, скрываясь в лесу.
Оставивший нас конвой на обратном пути проехал вблизи него. Ханс подслушал, что мы с Марутом обречены погибнуть от Джаны, которому уже принесены в жертву пленные белые кенда. Потом он последовал за нами. По всей вероятности, оглядываясь назад, я ошибочно принимал мелькавшую за деревьями голову верблюда за хобот слона. Ханс видел, как мы спустились к берегу озера и все последовавшее за этим. Когда Джана направился к нам, он незаметно пробрался вперед в безумной надежде тяжело ранить чудовище пулей из своего маленького ружья. Он уже собрался выстрелить в тот момент, когда Марут бросился в воду, но тогда было трудно прицелиться в наиболее уязвимое место. Такой случай представился лишь тогда, когда Джана уже занес надо мной свою ногу и подставил под выстрел левый глаз. Только пуля, вопреки надежде Ханса, не достала до мозга. Но все-таки, выбив Джане левый глаз, она причинила ему такую сильную боль, что он забыл обо мне и поспешил поскорее убраться.
Таков был рассказ старого готтентота, который он передал мне на своем лаконичном голландском наречии. Я не знаю, что было бы со мною, если бы Ханс не подоспел вовремя.
Подойдя к верблюду, мы на минуту замешкались около него. Я выпил для подкрепления глоток спирта из фляги, которая нашлась в мешке, привязанном к седлу верблюда.
Несмотря на свое сильное пристрастие к крепким напиткам, Ханс сохранил ее, рассчитывая, что со временем она может пригодиться мне, его господину.
Мы сели на верблюда: Ханс – впереди, чтобы править им, я – позади на овечьих шкурах, оказавшихся, к счастью, довольно мягкими, так как щипок Джаны причинял мне сильную боль.
Мы поехали слоновой тропой, надеясь, что она приведет нас к реке Таве. Скоро кладбище слонов осталось далеко позади нас; за ним и озеро скрылось из виду.
Тропинка шла вверх к подобию хребта, лежавшего в двух или трех милях впереди нас.
Мы достигли хребта без особенных приключений.
По пути нам встретилась престарелая слониха, направлявшаяся, вероятно, к месту своего последнего успокоения. Не знаю, кто больше испугался: старая слониха или наш верблюд. Оба бросились друг от друга в разные стороны, и мы едва не очутились на земле. Но вскоре наш верблюд оправился от своего испуга. С вершины подъема перед нами открылась песчаная равнина, кое-где поросшая травой. Милях в десяти впереди при свете луны блестели воды широкой реки.
Мы снова двинулись вперед. Проехав около четверти мили, я случайно оглянулся назад. Господи, что я увидел!
На самой вершине подъема, отчетливо обрисовываясь на небе, стоял Джана с поднятым кверху хоботом. В следующий момент он яростно затрубил.
– Allemagte![17] – воскликнул Ханс. – Старый дьявол заметил нас своим последним глазом. Он следовал за нами по пятам.
– Вперед! – ответил я, пришпоривая верблюда.
Скачка началась.
У нас был хороший беговой верблюд. Он действительно был, как говорил Ханс, сравнительно свежим и, кроме того, чувствовал близость родных равнин. Он мчался как ветер, неся на себе ношу, фунтов на двести превосходящую привычную для него. Вероятно, кроме упомянутых причин его подгоняла близость преследовавшего нас слона. Милю за милей неслись мы по равнине. Джана следовал за нами, как крейсер за маленькой канонеркой.
С каждой новой сотней ярдов он на несколько ярдов приближался к нам.
Через полчаса, показавшихся нам целой неделей, когда до реки уже оставалось не более мили, он бежал ярдах в пятидесяти за нами. Я оглянулся назад; при свете луны Джана представился мне величиной с целый дом.
– Мы должны уйти от него, – сказал я, глядя на широкую реку, которая была уже совсем близко.
– Да, баас, – неуверенно ответил Ханс, – верблюд у нас хороший; бежит он очень быстро, потому что слышит запах своих за рекой, не говоря уже об опасности за собой. Но этот дьявол Джана бежит еще быстрее его. Я вижу на пути камни; это плохо для верблюда. Не знаю, умеет ли он плавать, но мы видели, что Джана хорошо умеет делать это. Не попробовать ли, баас, ранить его в хобот или в колено?
– Замолчи, глупец, – раздраженно сказал я, – какой толк стрелять через плечо в огромного слона из ружья, годного только на козла. Лучше погоняй верблюда.
Увы! Ханс был прав.
Берег и дно реки были усеяны камнями, и верблюд, столь быстрый в беге по песку, оказался беспомощным среди камней.
Но для Джаны они не были большим препятствием. Когда мы достигли берега, он был не более чем в десяти ярдах от нас. Я ясно видел кровь, струившуюся из того места, где у него прежде находился левый глаз.
При виде пенящегося, хотя и неглубокого, потока наш верблюд, не привыкший к воде, остановился в нерешительности.
К счастью, в этот момент Джана снова затрубил в свой хобот. Это побудило нашего верблюда двинуться вперед: слон для него был страшнее воды.
Он медленно шел, спотыкаясь о камни, устилавшие дно реки, которая в этом месте была не более четырех футов глубиной. Джана был уже в пяти ярдах от нас.
Я обернулся назад и выстрелил в него из нашего маленького ружья. Попал я или нет – не могу сказать, но слон остановился на некоторое время, вероятно, вспомнив действие подобного звука на свой глаз.
Потом он снова, как паровоз, двинулся за нами.
Когда мы были уже на середине реки, случилось неизбежное. Верблюд споткнулся и упал, и мы оба через его голову полетели в бегущий поток. Все еще сжимая ружье в руке, я бросился вброд к противоположному берегу, держась за Ханса свободной рукой.
Почти в тот же момент Джана настиг верблюда. Он пронзил его своими клыками, топтал ногами и, обхватив хоботом его шею, почти вытащил его из воды.
Тем временем мы выбрались из воды на противоположный берег и взобрались на высокое дерево. Там, футах в тридцати от земли, мы сидели, затаив дыхание, и ждали, что будет дальше.
Покончив с верблюдом, Джана последовал за нами и без труда отыскал нас.
Некоторое время он ходил вокруг дерева, как бы обдумывая, что предпринять. Потом, обхватив хоботом ствол дерева, он попытался вырвать его из земли. Но это дитя леса, уже сотни лет оказывавшее сопротивление бурям и воде, только сотрясалось. Признав эту попытку бесполезной, Джана попробовал подрыть клыками корни дерева. Но и здесь он потерпел неудачу, так как они росли среди камней. С глухим яростным ворчанием Джана сделал третью попытку. Став на задние ноги, он всею тяжестью своего огромного тела обрушился на ствол дерева передними ногами футах в двенадцати-тринадцати над землей. Удар был очень силен. В первый момент я думал, что дерево будет вырвано с корнем или разломится пополам.
Но, слава богу, оно устояло, хотя сотряслось так сильно, что мы с Хансом едва не полетели на землю, как яблоки осенью. Я думаю, что свалился бы, если бы меня не удержал ловкий, как обезьяна, Ханс, умевший держаться ногами так же хорошо, как и руками. Трижды Джана повторял этот маневр. На третий раз я, к своему ужасу, увидел, что корни дерева начали ослабевать.
Уже слышался зловещий треск.
К счастью, Джана не заметил этих симптомов. Он оставил свой план и задумчиво стоял, помахивая хоботом.
– Ханс, – прошептал я, – заряди поскорее ружье. Я выбью ему другой глаз.
– Порох подмочен, баас, – простонал Ханс, – вода попала в него, когда мы упали в реку.
Через несколько минут Джана решил сделать последнюю попытку. Подойдя вплотную к дереву, он стал на задние ноги, передними уперся в ствол и, вытянув вверх свой хобот, начал обламывать ветви и сучья, которые росли между ним и нами.
– Я думаю, что он не достанет до нас, если не принесет камень и не встанет на него, – заметил я.
– Ох, баас, не надо говорить этого громко, – ответил Ханс, – иначе Джана подслушает нас и действительно принесет камень.
Хотя это казалось вздором, но кто знает, быть может, это чудовище понимало человеческую речь.
Мы взобрались как можно выше и ждали, что будет дальше.
Покончив с ветками, Джана начал вытягивать по направлению к нам свой длинный хобот.
Фут за футом он приближался к нам и скоро был всего в нескольких дюймах от моих ног и войлочной шляпы Ханса.
Мгновение – и шляпа исчезла в красном отверстии рта Джаны. Я полагаю, что он проглотил ее, так как она не возвратилась обратно.
Потеря шляпы привела Ханса в ярость.
Осыпая Джану проклятиями, он вытащил свой нож и приготовился.
Снова длинный коричневый хобот потянулся к нам. Очевидно, Джана теперь приспособился лучше, так как хобот приблизился к нам на несколько дюймов ближе прежнего. Конец его, как змея, обхватил сук, на котором сидел я.
Ханс быстро наклонился, нож блеснул на восходящем солнце, и в одно мгновение конец хобота, как бабочка булавкой, был пригвожден к дереву.
Джана, издавая жалобные крики, пробовал осторожно освободить свой хобот.
Но тщетно! Ханс крепко держал рукоятку ножа. Наконец Джана энергично рванулся назад и вырвал свой хобот, разрезав его конец пополам и оставив нож в дереве. Потом он взял конец хобота в рот, начал сосать его, как сосут обрезанный палец, и, рыча в бессильной ярости, бросился в реку, перешел ее вброд и скоро исчез из вида. Посылая вслед Джане проклятия, Ханс требовал у него возвращения своей шляпы.
Вероятно, во всю свою жизнь я не видел зрелища более приятного, чем мелькание хвоста удалявшегося чудовища.
– Теперь, баас, – смеясь, говорил Ханс, – старый дьявол получил достаточно, чтобы не забыть нас. Я думаю, нам следует поскорее уйти отсюда, прежде чем он одумается и вернется назад с длинной палкой, чтобы сбить нас с дерева.
Мы двинулись в путь с поспешностью, какую только допускали мои застывшие члены и общее состояние. К счастью, у нас не было сомнения относительно выбора пути, так как сквозь утренний туман на горизонте ясно обрисовывались очертания холма, который белые кенда называли «Священной Горой», или «Домом Дитяти». Казалось, что до него не более двадцати миль, но в действительности оказалось значительно больше, так как часа через два пути мы мало приблизились к нему. Это был ужасный путь. Силы мои были окончательно исчерпаны всеми пережитыми ужасами. К тому же рана от щипка Джаны, воспалившаяся от верховой езды на верблюде, причиняла мне нестерпимую боль.
Первый десяток миль мы шли необитаемыми местами. Потом нам стали попадаться стада мелкого скота и верблюдов; их пастухи, по всей вероятности, скрывались в высокой траве. После этого мы шли полями, засеянными злаками, которые, как я заметил, совершенно не пострадали от града, ограничившегося, очевидно, только землей черных кенда. Дальше мы увидели отдельные хижины. Их обитатели вскоре заметили нас и бежали, как бы охваченные испугом.
Наконец мы подошли (я медленно плелся, опираясь на плечо Ханса) на расстояние ружейного выстрела к огороженной деревне.
Я полагаю, что жители ее были предупреждены беглецами из хижин о нашем приближении, потому что человек тридцать мужчин, вооруженных копьями и другим оружием, кольцом окружили нас с явно враждебными намерениями.
Я закричал им, что мы друзья Харута и всех почитателей Дитяти. Нам ответили, что мы лжецы, ибо из страны черных кенда, поклонников демона Джаны, не могут прийти друзья.
Я попробовал убедить их, что мы менее всех в мире являемся почитателями Джаны, который преследовал нас в продолжение нескольких часов, но они слушать нас не хотели.
– Вы шпионы Симбы, – кричали они, – запах Джаны на вас (это была, пожалуй, правда). Мы убьем тебя, белый козел, и тебя, маленькая желтая обезьяна! Из земли черных кенда к нам могут прийти только враги!
– Если убьете нас, – ответил я, – вы навлечете на себя проклятие Дитяти. Голод, град и войну!
Эти слова произвели на нападавших некоторое впечатление. По крайней мере они на время оставили свое намерение убить нас.
Наконец, после некоторого колебания, сторонники убийства одержали верх, и все окружавшие нас воины начали плясать, потрясая копьями и крича, что мы должны умереть как пришельцы от черных кенда.
Я сел на землю, так как совсем выбился из сил. В это время мне было совершенно безразлично, жить или умереть.
Ханс с ножом в руках стоял около меня, осыпая белых кенда теми же проклятиями, какими осыпал Джану. Постепенно они все ближе и ближе подходили к нам. Я уже закрыл глаза, чтобы не видеть блеска оружия, которое должно было поразить нас; вдруг восклицание Ханса заставило меня снова открыть их.
Бросив взгляд в том направлении, куда он указывал мне протянутым ножом, я увидел отряд всадников на верблюдах, поспешно мчавшихся к нам.
Впереди их в белой одежде, развевавшейся по ветру, ехал бородатый предводитель, в котором я узнал Харута, кричавшего и размахивавшего копьем. Нападавшие на нас тоже увидели всадников и опустили оружие, повинуясь восклицанию Харута, которого я не разобрал. Последний направил своего верблюда прямо на одного из нападавших, бывшего, по-видимому, предводителем остальных, и в гневе ударом копья нанес ему рану в плечо, заставив свалиться на землю.
– Собака! – закричал при этом Харут. – Ты хотел причинить зло гостям Дитяти!
Дальше я ничего не слышал, потому что лишился чувств.
Глава XV Обитатель пещеры
После этого мне казалось, что я спал долгим, беспокойным сном. Я не могу припомнить тех странных вещей, которые пригрезились мне. Наконец я открыл глаза и увидел, что лежу в большой прохладной комнате восточного характера на низкой кровати, возвышавшейся дюйма на три над полом.
В комнате не было окон, заменявшие их отверстия в стенах прикрывались висячими циновками, которые легко можно было открыть. В такое оконное отверстие я увидел покрытый лесом склон лежавшего недалеко холма. Он напомнил мне нечто, связанное с Дитятей. Что именно – я не мог вспомнить. Размышляя об этом, я услышал осторожные шаги и, обернувшись, увидел Ханса, вертевшего в руках новую соломенную шляпу.
– Ханс, – сказал я, – где ты взял эту новую шляпу?
– Мне дали ее здесь, – ответил он. – Баас помнит, что дьявол Джана съел мою старую?
Тут память постепенно начала возвращаться ко мне. Ханс продолжал вертеть свою шляпу в руках, что немного раздражало меня. Я велел ему надеть ее на голову и спросил, где мы находимся.
– В городе Дитяти, куда бааса перенесли после того, как он едва не умер. Это очень хороший город. Здесь много пищи, хотя баас уже три дня спал и не ел ничего, кроме нескольких ложек молока и супа, которые баасу влили в горло, когда он на минуту очнулся.
– Я был сильно утомлен и нуждался в продолжительном покое, Ханс. А теперь я чувствую голод. Скажи мне, здесь ли лорд Регнолл и Бена или они погибли?
– Они живы и здоровы, баас, и все наше имущество цело. Они были с Харутом, когда он выручил нас, но баас потерял сознание и потому не видел их. С тех пор они ухаживали за баасом.
В это время в комнату вошел Сэвидж, принесший мне на деревянном подносе суп.
– Добрый день, сэр! – приветствовал он меня. – Я очень рад снова видеть вас с нами, особенно после того, как мы считали вас и Ханса мертвыми.
Я поблагодарил Сэвиджа и, съев суп, попросил его приготовить мне что-нибудь посущественнее, так как почти умирал от голода. Он ушел исполнять мою просьбу. Ханса я услал за лордом Регноллом.
После их ухода пришел Харут. Он важно поклонился мне и уселся по-восточному на циновку.
– Должно быть, сильный дух живет в тебе, мой господин Макумазан, – сказал он, – ибо ты жив, хотя мы были уверены в твоей смерти.
– Да, ты ошибся, мой друг Харут. Твоя магия мало помогла тебе.
– Однако магия, как ты это называешь, сделала свое дело, Макумазан. Я был ранен в колено и так утомлен, что в первые два дня после прибытия сюда не мог взойти на гору и обрести свет от глаз Дитяти. Но на третий день я сделал это, и оракул рассказал мне все. Я поспешно сошел с горы, собрал людей и как раз вовремя выехал навстречу тебе. Те глупцы уже поплатились за намерение причинить тебе зло, господин. Да, Джана оказался сильнее моего брата и остальных. Только ты и твой слуга смогли одолеть его.
– Это не так, Харут. Скорее он одолел нас. Нам удалось только бежать от него, выбив ему глаз и поранив конец хобота.
– И это много по сравнению с тем, что удалось сделать другим в продолжение многих поколений. Но это только начало. Конец Джаны близок, и падет он от твоей руки.
– Значит, он появляется на земле белых кенда?
– Да, Макумазан. Он или его дух – не знаю кто. Дважды в своей жизни я видел его на Священной Горе, но как он приходит и уходит – никто этого не знает. Но я скажу: пусть причинивший Джане зло остерегается его!
– Пусть Джана тоже остерегается меня, если я встречу его с хорошим ружьем в руках. Но вот что, Харут. Перед гибелью твой брат Марут начал говорить мне что-то о жене лорда Регнолла. Тогда мне было не до этого, но из его слов я заключил, что леди Регнолл находится на Священной Горе.
– Либо ты не понял Марута, мой господин, либо мой брат бредил от страха, – отвечал Харут, лицо которого при этом приняло каменное, бесстрастное выражение. – Прекрасной леди нет на Священной Горе. Но позволь мне сказать, что никто, кроме жрецов Дитяти, не может ступить на эту гору. Кто попробует сделать это, тот умрет, ибо гору охраняет страж, который страшнее Джаны. Не спрашивай меня о нем: больше я ничего не скажу. Но если ты и твои друзья дорожите жизнью, не пытайтесь даже взглянуть на этого стража!
Видя, что продолжать разговор об этом бесполезно, я перевел его на град, побивший поля черных кенда.
– Я знаю об этом, – сказал Харут, – это первое проклятие Дитяти, моими устами обещанное Симбе и его народу. Вторым будет голод, а он уже близок, ибо запасы хлеба у черных кенда приходят к концу и большая часть их скота побита градом.
– Не имея запаса, они попытаются напасть на вашу страну, Харут, и отобрать у вас хлеб.
– Да, господин, они, конечно, попытаются сделать это, и тогда исполнится третье проклятие, проклятие войны. Все это предусмотрено, Макумазан, и ты здесь для того, чтобы помочь нам в этой войне. В вашем багаже есть много ружей, пороху и свинца. Вы должны научить наш народ стрелять из ружей, чтобы мы могли уничтожить черных кенда.
– Ну нет, – спокойно ответил я, – я пришел к вам, чтобы убить большого слона и получить за это слоновую кость, а не для того, чтобы сражаться с черными кенда. Этого уж довольно с меня. Кроме того, ружья принадлежат не мне, а лорду Регноллу, который, быть может, назначит за них свою цену.
– С лорда Регнолла, пришедшего сюда против нашей воли, мы сами можем спросить плату за сохранение его жизни. Пока прощай, мы поговорим потом, так как ты еще болен и слаб. Но, прежде чем уйти, я еще раз повторяю: если вы хотите по-прежнему глядеть на солнце, не пытайтесь ступить ногой в лес, растущий на Священной Горе!
С этими словами он поднялся, важно поклонился мне и ушел, оставив меня наедине со своими мыслями.
Вскоре после этого вернулись Сэвидж и Ханс и принесли мне превосходно приготовленный обед.
Я ел с большим аппетитом. Едва остатки еды были унесены, как пришел лорд Регнолл.
Мы горячо поздоровались, как люди, уже потерявшие надежду встретиться на этом свете. Я спросил, что они делали все это время. Лорд Регнолл ответил, что ничего достойного упоминания.
Город мал, жителей в нем не более двух тысяч. Занимаются они земледелием и разведением верблюдов. Единственным человеком, с которым они могли объясниться, был Харут, говоривший на ломаном английском языке. Он говорил, что гора – священное место, посещаемое только жрецами. В городе не видно этих жрецов. Но на склоне горы бывают видны люди, которые пасут в небольшом количестве овец и коз в лесу, растущем на этом склоне. Кто живет на горе – неизвестно. Лорд Регнолл печально прибавил, что он уже потерял надежду найти здесь какой-либо след своей утраченной жены. Я повторил ему слова Марута, конца которых я, к сожалению, не слышал. Это, казалось, влило в него новую жизнь. Но что предпринять в дальнейшем?
Прошла целая неделя.
За это время я почти совсем оправился. Только одно обстоятельство оставляло меня по-прежнему беспомощным. Рана, причиненная щипком Джаны, зажила, но воспаление ее задело нерв левой ноги, некогда поврежденной львом. Это вызывало такую боль, что я принужден был оставаться в постели и довольствоваться тем, что мою кровать выносили в небольшой сад, окружавший построенный из глины выбеленный дом, в котором мы жили. Там я лежал целыми часами, глядя на Священную Гору, возвышавшуюся ярдах в пятистах от нас.
Начиная с подошвы, на протяжении мили ее склон был покрыт травой с разбросанными кое-где отдельными деревьями. В бинокль было видно, что в одном месте он образует отвесную стену, идущую футов на сто в высоту вокруг всей горы. За стеной начинался густой лес, покрывавший гору до самой вершины.
Однажды, когда я был поглощен рассматриванием горы, в сад внезапно вошел Харут.
– Не правда ли, дом бога красив? – сказал он.
– Очень, – ответил я, – но как взбираются на гору по этой отвесной стене?
– По ней невозможно взобраться, но есть дорога, по которой ходят на гору поклонники Дитяти. Но я уже говорил тебе, Макумазан, что все чужестранцы, пытающиеся идти этой дорогой, находят смерть. Пусть попробуют те, кто не верит мне, – многозначительно прибавил он. Потом, осведомившись о моем здоровье, он сообщил, что до него дошли слухи о приближающемся голоде в земле черных кенда.
– Скоро они захотят собрать вашу жатву своими копьями, – заметил я.
– Да, Макумазан. Поэтому поправляйся скорее, чтобы быть в состоянии прогнать этих воронов ружьями. Через четырнадцать дней в нашей земле должна начаться жатва. Я должен уйти на гору дня на два. Прощай и не бойся. Во время моего отсутствия мой народ будет доставлять вам пищу и оберегать вас. Я вернусь на третий день.
После отъезда Харута глубокое уныние охватило нас. Приуныл даже Ханс. Что касается Сэвиджа, он выглядел, точно осужденный на смертную казнь. Я попробовал ободрить его и спросил, что с ним.
– Не знаю, мистер Квотермейн, – ответил он, – мне кажется, что я навсегда останусь в этой проклятой дыре.
– Но, по крайней мере, здесь нет змей, – пошутил я.
– Нет, мистер Квотермейн. Я их еще не встречал, но они постоянно по ночам ползают около меня. Всякий раз, когда я встречаюсь с этим пророком, он говорит мне о них.
С этими словами Сэвидж ушел, чтобы скрыть свое сильное волнение.
В этот вечер вернулся Ханс, которого я послал обойти гору вокруг и узнать, что она представляет с другой стороны. В этом предприятии он потерпел полную неудачу. Пройдя несколько миль, он встретил людей, приказавших ему вернуться обратно. Они так угрожающе вели себя, что если бы не ружье «Интомби», которое Ханс взял с собой под предлогом охоты на козлов и к которому белые кенда питали большое уважение, они убили бы его. Вскоре после этой неудачной попытки мы, серьезно обсудив положение дел, пришли к определенному решению, о котором я скажу дальше.
Если память не изменяет мне, как раз по возвращении Харута со Священной Горы произошел весьма интересный случай.
Наш дом был разделен на две комнаты перегородкой, идущей почти до самой крыши. В левой комнате спали Регнолл с Сэвиджем, в правой Ханс и я.
На рассвете меня разбудил возбужденный разговор Сэвиджа и его господина. Через минуту они вошли в мою комнату.
При слабом освещении я увидел, что лорд Регнолл был сильно взволнован, а Сэвидж крайне перепуган.
– В чем дело? – спросил я.
– Мы видели мою жену, – отвечал лорд Регнолл.
Я удивленно посмотрел на него.
– Сэвидж разбудил меня и сказал, что в нашей комнате есть еще кто-то, – продолжал он, – я приподнялся и увидел (это верно, Квотермейн, как то, что я живу) мою жену, освещенную светом, падающим из окна. Она была в белом одеянии, волосы ее были распущены. На ее груди висело ожерелье из красных камней, подарок этих негодяев, который она постоянно носила на себе. В ее руках было что-то похожее на закрытое покрывалом дитя; я думаю, что оно было неживое. Я был так потрясен, что не мог говорить. Она стояла, глядя на меня широко открытыми глазами, и не двигалась. Но я могу поклясться, что губы ее шевелились. Мы оба слышали, как она говорила: «Не покидай меня, Джордж! Ищи меня на горе». Я вскочил, и она исчезла.
– А что видел и слышал Сэвидж? – спросил я.
– То же самое, что и его светлость, мистер Квотермейн. Не больше и не меньше. Я видел, как она прошла через дверь.
– Через дверь? Разве она была открыта?
– Нет, сэр! Но она прошла, как будто двери вовсе не было.
– Это, верно, была не женщина, а привидение, баас. Я проснулся за полчаса до рассвета и лежал, глядя на эту дверь, которую сам запер вчера вечером. Ее никто не открывал. За ночь паук сплел на ней паутину, и она до сих пор цела. Пусть баас сам посмотрит, если не верит мне.
Я поднялся и осмотрел дверь (боль в ноге начала утихать, и я уже мог немного ходить). Ханс говорил правду. Дверь была затянута паутиной, посреди которой сидел большой паук.
Только два объяснения можно было дать этому странному случаю: либо все было простой галлюцинацией, либо лорд Регнолл и Сэвидж на самом деле видели нечто сверхъестественное. В последнем случае мне хотелось бы пережить то же, что пережили они, так как увидеть настоящий призрак было моим всегдашним желанием.
Я еще не говорил, что мы пришли к заключению о бесполезности наших поисков и вообще пребывания в этих местах. Мы решили попытаться уйти отсюда, прежде чем будем вовлечены в губительную войну между двумя ветвями загадочного племени, из которых одна была совершенно дикой, а другая – наполовину.
Лорд Регнолл предложил такой план: я должен был попробовать в обмен на ружья приобрести верблюдов. Потом, под предлогом охотничьей экспедиции на Джану, мы думали попытаться уехать из этой страны. Но, быть может, видение было послано нам с целью разрушить наш план.
Размышляя об этом, я улегся спать и проспал до самого завтрака.
– Я долго думал о случившемся вчера ночью, – сказал лорд Регнолл, оставшись в это утро наедине со мной, – я человек несуеверный, но убежден, что мы с Сэвиджем видели и слышали душу или тень моей жены. У меня появилась вера, что она в плену на этой горе и приходила звать меня освободить ее. Поэтому я считаю своим долгом не покидать этой страны и попытаться добиться истины.
– А как это сделать? – спросил я.
– Я сам пойду на гору.
– Это невозможно, Регнолл. Я сильно хромаю и не смогу пройти и полумили.
– Я знаю, и это одна из причин, по которой я не хочу, чтобы вы сопровождали меня. Кроме того, я хочу сделать это, будучи один и не подвергая риску других. Но Сэвидж говорит, что пойдет туда, куда пойду я, оставив вас с Хансом здесь продолжать дальнейшие попытки в случае, если мы не вернемся. Мы хотим выйти из города в белых плащах, какие носят кенда. Мне удалось выменять их на табак. Когда наступит заря, мы попытаемся найти дорогу через пропасть, а остальное предоставим Провидению.
Я сделал все зависящее от меня, чтобы отговорить лорда Регнолла от этого безумного намерения, но безуспешно. Я никогда не знал человека бесстрашнее и решительнее его.
Потом я говорил с Сэвиджем и указывал ему на все опасности, сопряженные с этой попыткой, но и здесь потерпел неудачу.
Сэвидж объявил, что куда пойдет его господин, туда пойдет и он и что он предпочитает умереть вместе с ним, нежели один.
Итак, со стесненным сердцем я помогал им делать необходимые приготовления к этому безумному предприятию.
Они открыто ушли днем под предлогом охоты на куропаток и коз в нижней части горы, где нам была предоставлена в этом полная свобода. Наше прощание вышло очень печальным.
Сэвидж передал мне письмо к своей старой матери в Англии и просил меня отправить его, если я когда-либо попаду в цивилизованную страну.
Я приложил все старания, чтобы ободрить его, но безуспешно.
Он горячо пожал мою руку, говоря, что для него было большим удовольствием знать такого «настоящего джентльмена», как я, и выражая надежду, что я вернусь из этого ада и проведу остаток своей жизни среди христиан. Потом, утерев рукавом слезу, он притронулся к своей шляпе и удалился.
Их снаряжение было весьма простым: немного пищи, фляга со спиртом, два двуствольных ружья, из которых можно было стрелять дробью и пулями, потайной фонарь, спички и пистолеты. Ханс проводил их до конца города.
– Отчего ты так печален, Ханс? – спросил я, когда он вернулся.
– Потому что я очень полюбил Бену, – ответил он, вертя свою шляпу в руках, – он всегда был добр ко мне и так хорошо умел стряпать. Теперь эту работу придется делать мне, а я не люблю этого.
– Но ведь он еще жив, Ханс!
– Это верно, баас, но он скоро умрет, потому что тень смерти была видна в его глазах.
– А лорд Регнолл?
– Я думаю, что он останется жив, баас, у него не было этой тени.
Всю следующую ночь я не смыкал глаз и лежал полный тягостных опасений.
На рассвете я услышал стук в нашу дверь и шепот лорда Регнолла, просившего открыть ее. Я зажег свечу, которых у нас был большой запас.
Ханс открыл дверь.
В комнату вошел лорд Регнолл. По его лицу я сразу увидел, что произошло что-то ужасное. Он подошел к кувшину с водой и выпил три чашки одну за другой.
– Сэвидж погиб, – сказал он и остановился, как бы припоминая что-то страшное.
– Слушайте, – продолжал он, – мы поднимались по склону горы и не стреляли, хотя видели много куропаток и козу. К наступлению сумерек мы подошли к отвесной каменной стене, на которую не было никакой возможности взобраться.
Здесь мы увидели тропинку, ведущую к отверстию пещеры или туннеля. Пока мы раздумывали, что предпринять, появилось восемь или десять одетых в белое людей, которые схватили нас прежде, чем мы успели оказать какое-либо сопротивление. Потом, после некоторого совещания, их предводитель знаками объяснил нам, что мы свободны. Они ушли, унося с собой наши ружья и пистолеты, и, уходя, смеялись так странно, что их смех встревожил меня. Мы стояли в нерешительности. Уже становилось темно. Я спросил Сэвиджа, что теперь делать, ожидая, что он предложит вернуться в город. К моему удивлению, он ответил: «Конечно, идти дальше, ваша светлость. Не надо позволять думать этим скотам, что мы, белые люди, ни шага не смеем ступить без наших ружей».
С этими словами он зажег потайной фонарь.
Я смотрел на него с изумлением.
– Меня что-то тянет в эту пещеру, – продолжал он, – вероятно, это смерть. Но что бы там ни было, я должен идти.
Я думал, что он потерял рассудок, и хотел удержать его. Но он быстро побежал к пещере. Я последовал за ним и, когда достиг ее, Сэвидж уже пробежал ярдов восемь по туннелю. В это время я услышал ужасный шипящий звук и восклицание Сэвиджа: «О Боже!» Фонарь выпал из его рук, но не потух. Я бросился вперед и поднял его; между тем Сэвидж побежал дальше в глубь пещеры. Я поднял фонарь над головой и вот что я увидел.
Шагах в десяти от меня, протянув руки, плясал – да, именно плясал – Сэвидж под звуки ужасной, шипящей музыки. Я поднял фонарь выше и увидел футах в девяти за Сэвиджем, почти у самого потолка туннеля, голову неслыханно огромной змеи. Эта голова, которая едва уместилась бы в тачку, помещалась на шее, имевшей толщину моей талии. В темноте обрисовывалось огромное покачивающееся тело серо-зеленого цвета, отливавшее золотом и серебром. Змея шипела, раскачивая своей огромной головой, и вдруг откинула ее назад и застыла на несколько секунд. Сэвидж остановился, наклонившись немного вперед, как бы кланяясь гадине. В следующее мгновение она бросилась на Сэвиджа… Послышался ужасный треск костей… Я отшатнулся к стене пещеры и на минуту закрыл глаза, так как почувствовал слабость. Открыв их снова, я увидел на полу нечто бесформенное (то были останки Сэвиджа), а над ним огромную змею, смотревшую на меня своими стальными глазами. Я бежал из этой ужасной пещеры. Заблудившись на склоне горы, я бродил в продолжение нескольких часов, пока не вышел к окраине города.
После этого мы долгое время сидели молча. Наконец Ханс сказал невозмутимым тоном:
– Уже рассвело, баас. Я потушу свечу, зачем ей даром гореть. Теперь мне надо готовить завтрак. Эта дьявольская змея позавтракала Беной, но я надеюсь позавтракать ею. Змеи бывают вкусны, баас, если их умело приготовить по готтентотскому способу.
Глава XVI Ханс ворует ключи
Немного спустя в наш дом пришло несколько белых кенда, вежливо передавших нам ружья и пистолеты Регнолла и бедного Сэвиджа. Они говорили, что нашли эти предметы на склоне горы. Я взял их, не сказав ни слова.
В этот вечер нас посетил Харут. Поздоровавшись с нами, он осведомился, где Бена.
– Ах ты, седобородый отец лжецов, – с негодованием сказал я, – ты великолепно знаешь, что Бена уже в желудке змеи, живущей в пещере на горе.
– Как, господин! – воскликнул Харут. – Разве вы пытались подняться на гору? Впрочем, Бена всегда любил змей, и они любили его.
– Это ты, негодяй, его убийца! – закричал лорд Регнолл. – Я сейчас же убью тебя за это.
– Ты хочешь убить меня за то, что змея задушила вашего человека? Если пойдешь туда, где живет лев, лев умертвит тебя; если пойдешь туда, где живет змея, змея умертвит тебя. Я вас предупреждал, но вы не послушались меня. Теперь я вам скажу: можете идти туда, если хотите; никто не остановит вас. Но помните: в Дом Дитяти ведет совсем другая дорога, которой вы никогда не найдете.
– Слушай, – сказал лорд Регнолл, – что толку во всей этой болтовне? Ты хорошо знаешь, зачем мы в вашей дьявольской стране. Я убежден, что вы похитили мою жену, чтобы сделать ее своей жрицей. Я хочу получить ее обратно.
– Это большое заблуждение, – кротко ответил Харут, – мы не похищали прекрасной леди. И Макумазан здесь не для того, чтобы искать ее, а для того, чтобы убить слона Джану и получить за это слоновую кость. Ты, господин, пришел с ним как друг, хотя мы и не звали тебя. Ты пытался найти храм нашего бога, и змея, охраняющая двери его, умертвила твоего слугу. Но почему мы не убили тебя?
– Потому что вы боитесь сделать это, – смело ответил Регнолл, – убейте меня, я готов, но вы увидите последствия этого.
– Ты очень храбрый человек, – сказал Харут, не без восхищения глядя на лорда Регнолла, – мы не хотим убивать тебя; может быть, все окончится хорошо. Одно Дитя знает об этом. Ты поможешь нам победить черных кенда. Только не ходи к змее, потому что она скоро снова будет голодной. Слушай и ты, Свет Во Мраке, – прибавил он, обращаясь к сидящему на корточках Хансу, – это очень голодная змея, а ты – лакомое для нее блюдо!
Ханс, не поворачивая головы, скосил свои глаза на Харута и ответил на наречии банту:
– Я слышу, белобородый лжец, но что мне до этого? Мой враг Джана, хотевший убить моего господина Макумазана, не то, что твоя грязная змея. Если она такая страшная, почему она не убьет Джану, которого вы ненавидите? Вот что для меня ваша змея, – прибавил он, энергично плюнув на землю, – если хочешь, я убью ее, только заплати мне за это.
– Ты хочешь убить змею, – сказал Харут, – что же, убей, если тебе это нравится. Тогда мы дадим тебе новое имя. Мы назовем тебя «Господином змей». Как твоя нога, Макумазан? – продолжал он, обращаясь ко мне. – Я принес тебе мазь, которая излечит ее. Это священная мазь от Дитяти. Мой господин, – переменил он вдруг свой ломаный английский язык на банту, – война близка. Черные кенда собирают силы, чтобы напасть на нас. Нам нужна твоя помощь. Мне надо сейчас ехать к реке Таве. Через неделю я вернусь; тогда снова поговорим об этом. За это время мазь излечит тебя. Натри ею больную ногу и, смешав кусочек ее, величиной с хлебное зерно, с водой, прими это на ночь. Это не яд, – прибавил он, положив немного мази на язык и проглотив ее.
Потом он поднялся и удалился с обычными поклонами.
Надо сказать, что лекарство Харута произвело на меня превосходное действие. На следующее утро боль исчезла и, за исключением небольшой слабости, я чувствовал себя вполне хорошо.
Остаток мази сохранялся у меня в продолжение многих лет и хорошо помогал при ломоте в бедрах и при ревматизме.
Последующие дни прошли без приключений.
Оправившись после болезни, я начал посещать город, походивший на разбросанные деревни, какие можно видеть на восточном берегу Африки. Почти все мужчины отсутствовали, будучи, вероятно, заняты приготовлениями к жатве. Женщины запирались в домах по восточному обычаю.
Сказать правду, это был крайне неинтересный небольшой городок, населенный необщительными людьми, живущими, как мне казалось, под сенью страха, препятствовавшего всякому веселью.
Даже дети ходили как-то уныло и разговаривали пониженным голосом. Я никогда не видел их играющими или смеющимися, подобно детям почти всего света.
Жили мы довольно комфортабельно. Пища доставлялась нам в изобилии. Для меня (я все еще хромал) был предоставлен выносливый, спокойный пони.
На этом пони я раза два ездил по южному склону горы под старым предлогом охоты.
В таких случаях меня сопровождал Ханс. Я заметил, что он был теперь молчалив и задумчив.
Однажды мы совсем близко подъехали к входу в пещеру или туннель, где бедный Сэвидж нашел такой ужасный конец.
В то время как мы рассматривали это место, появился одетый в белое человек с бритой головой (должно быть, жрец) и насмешливо спросил, почему мы не войдем в туннель и не посмотрим, что находится по ту сторону его.
Я только улыбнулся в ответ и спросил его о назначении прекрасных коз с длинной шелковистой шерстью, которых он, по-видимому, пас.
Жрец ответил мне, что эти козы предназначены в пищу «тому, кто живет на горе и ест только тогда, когда меняется луна». На мой вопрос, кто эта особа, он с неприятной улыбкой предложил мне пройти через туннель и самому взглянуть на нее. Я, конечно, не принял этого приглашения.
В этот вечер неожиданно появился Харут, имевший весьма встревоженный вид.
– Господин, – сказал он, – я иду на Гору, чтобы присутствовать на празднестве Первых Плодов, которое будет на восходе солнца в день новой луны. После жертвоприношения будет говорить оракул, и мы узнаем, когда будет война с Джаной и, быть может, другие вещи.
– Можем ли мы присутствовать на этом празднестве, Харут? Мы уже соскучились здесь.
– Конечно, – с поклоном ответил он, – вы можете прийти, но только без оружия. Ибо тот умрет, кто появится перед Дитятей вооруженным. Вы знаете дорогу, идущую через пещеру и лес, лежащий за ней.
– А если мы пройдем через пещеру, нас хорошо примут на празднестве?
– Да, вы встретите самый радушный прием. Клянусь вам в этом Дитятей. О Макумазан, – прибавил он, улыбаясь, – почему ты говоришь так безрассудно, зная, кто живет в той пещере? Или вы думаете пройти, убив ее обитателя своим оружием? Бросьте эту мечту. Те, кто охраняет вас, получили приказание следить, чтобы никто из вас не выходил из дому, имея при себе какое бы то ни было оружие. Если вы не дадите мне обещания поступать согласно этому, никто из вас не будет выпущен даже в сад до тех пор, пока я не вернусь.
Регнолл вначале хотел отказаться дать такое обещание, но Ханс сказал:
– Лучше, баас, остаться на свободе без ружей и ножей, чем сделаться настоящими пленниками. Часто от тюрьмы бывает недалеко до могилы.
Мы признали силу этого аргумента и в конце концов дали требуемое обещание.
– Хорошо, – сказал Харут, – но знайте, что у нас, белых кенда, тот, кто нарушит клятву, без оружия остается по ту сторону реки Тавы, чтобы дать отчет о своем поступке Джане – отцу всех лжецов. Теперь прощайте. Если мы не встретимся на празднестве Первых Плодов, куда я вас еще раз приглашаю, мы поговорим здесь, после того как я выслушаю голос оракула.
Потом он сел на верблюда, ожидавшего его снаружи, и уехал в сопровождении эскорта из двадцати человек, тоже сидевших верхом на верблюдах.
– Существует другая дорога, ведущая на гору, Квотермейн, – сказал Регнолл, – верблюд скорее пройдет через ушко иголки, нежели через ту пещеру, даже если бы она была пуста.
– Это верно, – согласился я, – но мы не знаем, где она, и я думаю, что она проходит за много миль отсюда. Для нас существует только один путь – через пещеру, что равносильно отсутствию всякого пути.
В этот вечер за ужином мы заметили исчезновение Ханса. Он похитил мои ключи и забрался в ящик, где хранились спиртные напитки.
– Он ушел, чтобы напиться, – сказал я Регноллу, – и неудивительно, потому что и я способен последовать его примеру.
Мы улеглись спать. На следующее утро, когда я уже собрался идти в хижину, где помещалась кухня, варить к завтраку яйца, к нашему удивлению, появился Ханс с котелком кофе.
– Ты вор, Ханс, – сказал я.
– Да, баас, – ответил Ханс.
– Ты забрался в ящик с джином и взял яд?
– Да, баас, я взял яд. Но теперь все обстоит хорошо. Баас не должен сердиться на меня за это, здесь так скучно без дела. Баасы будут есть похлебку?
Бранить Ханса было бесполезно. Кроме того, у меня явилось некоторое сомнение, так как он не был похож на пьяного человека.
Когда мы покончили с завтраком, Ханс уселся передо мной на корточки и, закурив свою трубку, вдруг спросил:
– Не хотят ли баасы сегодня вечером пройти через ту пещеру? Теперь это очень легко сделать.
– Что ты этим хочешь сказать? – спросил я, думая, что Ханс пьян.
– Я хочу сказать, баас, что житель пещеры спит очень крепким сном и никогда уже не проснется. Не угодно ли баасам пройти через пещеру?
– Прежде всего я должен убедиться, трезв ли ты, – ответил я. – Если ты сейчас же не расскажешь нам всего, я поколочу тебя, Ханс!
– Тут не много рассказывать, баас, – ответил Ханс, посасывая трубку, – дело вышло очень легкое. Баас помнит, что говорил человек в ночной рубахе с бритой головой? Он говорил, что козы предназначены в пищу для кого-то, живущего на горе. Но кто другой живет на горе кроме Отца Змей в пещере? Тот человек, если баас помнит, прибавил, что на горе едят только при новой луне, а сегодня как раз день новой луны. Следовательно, за день до новой луны, т. е. вчера, змея была голодна.
– Все это так, Ханс, но как ты мог убить змею, накормив ее?
– Ох, баас, люди иногда едят вещи, от которых им бывает худо; точно так же и змеи. В одном из ящиков бааса есть несколько фунтов чего-то, похожего на сахар, которое, смешав с водой, употребляют для сохранения кож и черепов.
– Ты говоришь о кристаллах мышьяка?
– Я не знаю, как это называется, баас. Я раньше думал, что это сахар и хотел положить его в кофе…
– Господи! – воскликнул я. – Почему же мы живы до сих пор?
– Потому что в последний момент, баас, у меня появилось сомнение. Я положил немного этого сахара в молоко и дал его собаке, укусившей меня за ногу. Это была очень жадная собака. Она сразу выпила молоко. Потом она завыла, повертелась с пеной у рта и издохла. После этого я решил лучше не класть в кофе этого сахара. Потом Бена сказал мне, что это смертельный яд. Тогда мне пришло в голову, что, если заставить змею проглотить этого яда, она, наверное, издохнет. Я украл ключи, как делал это часто, потому что баас бросает их где попало, и нарочно оставил открытым ящик с виски, чтобы баас подумал, что я напился пьяным. Я взял полфунта ядовитого сахара, убившего собаку, распустил его в воде вместе с настоящим сахаром и вылил смесь в бутылку. Остальные полтора фунта я разложил в двенадцать маленьких бумажных мешочков и спрятал все это в карман. Потом я пошел на гору в то место, где паслись козы. Их никто не стерег. Я вошел в крааль, выбрал молодого козленка, связал ему ноги и облил его смесью из бутылки. Потом привязал в разных местах его тела все двенадцать мешочков с ядовитым сахаром. После этого я развязал козленка и подвел его ко входу в пещеру. Я не знал, как заставить его войти в нее, а идти вместе с ним мне не хотелось. Но он сам побежал в пещеру, как будто его влекла туда какая-то сила. Перед тем как войти в нее, он обернулся и посмотрел на меня. При свете звезд я видел, что его глаза полны ужаса.
Скоро я услышал шипение, как будто кипели четыре больших котла за раз; козленок заблеял. Потом послышался шум возни с треском костей и сосущий звук, как от насоса, который не может поднять воду. После этого все затихло. Я отошел от входа в пещеру, сел в стороне и стал ждать, что будет дальше. Приблизительно через час из пещеры послышался шум, как будто по ее стенам били мешком, наполненным мякиной.
«Ага, – подумал я, – у пожравшего Бену заболел живот». Ядовитый сахар начал таять в желудке змеи, и она так шумела, как будто в пещере под звуки шипящей музыки целая компания девушек танцевала танец войны. Вдруг Отец Змей начал выползать из пещеры.
Когда я увидел его при свете звезд, у меня волосы дыбом поднялись на голове. Вероятно, во всем свете нет такой другой змеи! Змеи, которые живут в Земле Зулу и едят коз, – маленькие дети по сравнению с этой змеей. Ярд за ярдом она выползала из пещеры, потом стала на хвост, подняла голову на высоту целого дерева и наконец быстрее лошади бросилась вниз с горы. Я молил Бога, чтобы она не заметила меня…
Через полчаса она вернулась обратно. Теперь она уже не могла прыгать, а ползла. Никогда в жизни я не видел такой большой змеи. Она вползла в пещеру и, шипя, улеглась в ней. Потом шипение становилось все слабее и слабее и наконец совсем затихло. Я подождал еще полчаса и после этого решился войти в пещеру с палкой в одной руке и с зажженным фонарем в другой. Не успел я пройти десяти шагов, как увидел змею, неподвижно лежавшую на спине. Она была совершенно мертва: я прикладывал горящие восковые спички к ее хвосту, но она не шевелилась.
Тогда я вернулся домой, чувствуя себя гордым, что перехитрил Прадеда Всех Змей, убившего моего друга Бену, и что очистил путь через пещеру. Вот и вся история, баас. Теперь я пойду мыть посуду, – закончил Ханс и, не дожидаясь, что скажем мы, удалился, оставив нас пораженными его находчивостью и смелостью.
– Что делать дальше? – спросил я.
– Подождем наступления ночи, – ответил Регнолл, – тогда я пойду осмотреть змею, убитую благородным Хансом, и узнать, что находится за пещерой. Вы помните приглашение Харута?
– Вы думаете, что Харут сдержит свое слово?
– Пожалуй, да. А если не сдержит, мне все равно. Всякий исход лучше, чем сидение здесь в нерешительности.
– Я согласен с этим. По-моему, Харуту теперь невыгодно убивать нас. Поэтому мы с Хансом, конечно, пойдем с вами. Нам не следует разделяться. Быть может, вместе мы будем счастливее.
Глава XVII Святилище и клятва
Вечером, вскоре после заката солнца, мы все трое смело вышли из дому, надев поверх своего платья одежды кенда, купленные Регноллом. При нас не было ничего, кроме палок, небольшого количества пищи и фонаря.
На окраине города мы встретили нескольких кенда, одного из которых я знал, так как мне часто случалось ехать рядом с ним во время нашего перехода через пустыню.
– Есть ли при вас оружие, Макумазан, – спросил он, с любопытством глядя на нас и на наши белые платья.
– Нет, – ответил я, – обыщи нас, если хочешь.
– Достаточно твоего слова, – сказал он, – если при вас нет оружия, нам приказано не препятствовать вам идти куда угодно. Но, господин, – прошептал он, – прошу тебя, не ходи в пещеру, где живет некто, чей поцелуй приносит смерть.
– Мы не разбудим того, кто спит в пещере, – загадочно ответил я, и мы пошли дальше, радуясь, что кенда еще ничего не знают о смерти змеи.
Через час Ханс привел нас ко входу в пещеру.
Сказать правду, когда мы подходили к ней, разные сомнения овладели мной. Что, если Ханс был в самом деле пьян и придумал всю эту историю, чтобы оправдать свое отсутствие? Что, если змея теперь оправилась от своего временного недомогания? Что, если в этой пещере живет целая семья их?
Мы подошли к самому входу в пещеру и прислушались. Там было тихо как в могиле.
Ханс зажег фонарь и сказал:
– Подождите здесь, баасы. Я пойду вперед. Если вы услышите, что со мной что-либо приключилось, у вас будет время уйти.
Эти слова пристыдили меня. Через минуты две Ханс вернулся обратно.
– Все в порядке, баасы, – сказал он. – Отец Змей сам отправился в ту страну, куда послал Бену. Без сомнения, его теперь поджаривают на адском огне. В пещеру можно войти, там нет других змей.
Мы вошли в пещеру. На земле лежало огромное мертвое пресмыкающееся, уже сильно раздувшееся. Я не знаю, какова была его длина, так как его тело было свернуто кольцами. Но одно могу сказать: это была самая огромная змея, какую я когда-либо видел. Я слышал о таких пресмыкающихся в различных частях Африки, но до сих пор считал эти рассказы чистым вымыслом. Никогда не забуду ужасного зловония, стоявшего в пещере. По всей вероятности, эта тварь жила здесь целые столетия. Говорят, что большие змеи живут столько же, сколько черепахи, и, считаясь священными, никогда не имеют недостатка в пище. Повсюду лежали кучи костей, среди которых я заметил обломки человеческого черепа, быть может, принадлежащего бедному Сэвиджу. Выступы скал были покрыты большими кусками кожи, которую змеи меняют каждый год.
Некоторое время мы рассматривали труп этого отвратительного создания. Потом пошли дальше.
Пещера оказалась не более ста пятидесяти ярдов в длину. Она была естественного происхождения и, вероятно, образовалась от прорыва через лаву дыма и испарений. К дальнему концу она значительно сужалась, и я начал сомневаться в существовании второго выхода. Однако я ошибся: в самом конце ее мы нашли отверстие, достаточно большое для одного человека. Но пробираться через него было довольно трудно; нам стало ясно, что белые кенда ходили к своему святилищу совершенно другой дорогой.
Через это отверстие мы выбрались на склон огромного, образовавшегося из лавы рва, который вел сперва вниз, потом вверх, к основанию конусообразной вершины горы, покрытой густым лесом. Я полагаю, что образование этой горы было результатом вулканического действия в ранние периоды существования земли.
Лес состоял из огромных кедров, растущих не очень тесно. Нижняя часть деревьев была обнажена, вероятно, потому, что густые вершины не пропускали вниз света. Стволы и сучья деревьев были покрыты серым мхом, придававшим этому месту еще более жуткий характер.
Под деревьями царил такой мрак, что мы могли различать предметы на расстоянии не более дюйма перед собой.
Однако мы двигались дальше. Ханс, умевший при помощи инстинкта ориентироваться лучше нас, шел впереди.
По временам я при свете спички поглядывал на карманный компас, зная по предыдущим наблюдениям, что вершина Священной Горы лежит в северном направлении.
Так час за часом мы поднимались вверх, случайно наталкиваясь на стволы деревьев или спотыкаясь о сухие ветки, попадавшиеся под ногами.
Этот лес имел характер дома, посещаемого привидениями. Я никогда в жизни не испытывал такого особенного страха, как в эту ночь. Впоследствии Регнолл признался мне, что переживал приблизительно то же самое.
– Пусть баас посмотрит, – шепотом сказал Ханс, так как никто из нас не решался говорить громко, – не глаза ли Джаны горят вон там, как раскаленное железо?
– Не будь глупцом, – ответил я, – как Джана может попасть сюда?
Но, сказав это, я вспомнил слова Харута о том, что он дважды видел Джану на Священной Горе.
Так проходила долгая ночь.
Поднимались мы очень медленно, но останавливались всего два раза: один раз – когда нам показалось, что мы со всех сторон окружены деревьями, другой раз – когда попали в топкое место. Тогда мы рискнули зажечь фонарь и при помощи его выбрались оттуда.
Постепенно лес становился все реже и реже; мы уже видели звезды, мерцавшие сквозь вершины деревьев.
Не более чем за полчаса до зари Ханс, шедший впереди (мы пробирались через густой кустарник), вдруг резко остановился.
– Стоп, баас, мы на краю скалы, – сказал он, – когда я хотел поставить палку впереди себя, она ни во что не уперлась.
Регнолл захотел осмотреть почву при свете фонаря. Вдруг мы услышали тихие голоса и увидели футов на сорок ниже себя движущиеся огоньки.
Мы, как мыши, притаились в кустах в ожидании рассвета.
Наконец он наступил. На востоке появился алый свет, постепенно распространявшийся по небу. Из глубины обрызганного росой леса его приветствовали пение птиц и лай обезьян.
Вдруг небо прорезал луч восходящего солнца, и из мрака, все еще царившего внизу, послышалось тихое, нежное пение. Постепенно оно замерло, и в продолжение некоторого времени тишина нарушалась только шумом, похожим на шум, производимый публикой, усаживающейся в темном театре. Потом послышалось пение женского голоса, красивого контральто. Я не мог разобрать слов, если только это были слова, а не просто музыкальные ноты.
Я почувствовал, как рядом со мной задрожал Регнолл, и спросил, что с ним.
– Мне кажется, что я слышу голос моей жены, – шепотом ответил он.
– Возьмите себя в руки, – прошептал я.
Теперь небо начало пламенеть, и потоки света, как многоцветные драгоценные камни, разлились в тумане и разогнали его. Тени исчезли. Постепенно внизу открылся амфитеатр, на южной стороне которого сидели мы. Собственно, это была не стена, а застывшая глыба лавы футов в сорок-пятьдесят высотой. Амфитеатр походил на те древние сооружения, какие я видел на картинках, а Регнолл посещал в Италии, Греции и Южной Франции. Он был не очень велик и имел овальную форму. Без сомнения, это был кратер потухшего вулкана.
На арене стоял храм, в главных чертах походивший на храмы, сохранившиеся в Египте, но размером меньше их. Вокруг наружного двора храма шла колоннада, поддерживавшая крышу строения, служившего, вероятно, помещением для жрецов. Короткий проход вел в другой, меньший двор, где находилось святилище, построенное, как и весь храм, из лавы. Храм, как я уже сказал, был невелик, но весьма красив. На нем не было скульптурных и живописных украшений, но каждая его деталь была сделана с большим вкусом. Перед входом в святилище стояли большая глыба лавы, служившая, вероятно, алтарем, и каменная чаша на треножнике.
За святилищем находился прямоугольный дом. В первое время оба двора были пусты, но на скамьях амфитеатра сидело около трехсот человек. Мужчины – на севере, женщины – на юге. Все они были одеты в ярко-белые одежды. У мужчин головы были выбриты, у женщин закрыты покрывалами; но их лица оставались открытыми.
В амфитеатр вели две дороги: одна – на восток, другая – на запад. Они шли через туннели, выдолбленные в скалах, окружавших кратер. Обе они запирались двойными массивными деревянными дверями футов в семнадцать-восемнадцать высотой.
Очевидно, на этом тайном собрании могли присутствовать только лица, принадлежащие к жреческому классу этого странного племени.
Когда совсем рассвело, из келий, окружавших наружный двор храма, вышли двенадцать жрецов с Харутом во главе. Каждый из них нес на деревянном блюде хлебные колосья разных сортов.
Потом из келий, находившихся в южной части двора, вышли двенадцать молодых девушек, тоже несших деревянные блюда с цветами. По данному знаку они запели священную песнь и направились из первого двора во второй. Дойдя до алтаря, они остановились (сначала жрецы, потом жрицы) и поочередно ставили на него блюда с жертвой. Потом они выстроились по обе стороны алтаря, и Харут, взяв в руки по блюду с хлебом и цветами, протянул их сначала по направлению к тому месту, где находилась невидимая новая луна, потом по направлению к восходящему солнцу и наконец по направлению к дверям святилища, каждый раз преклоняя при этом колени и произнося нараспев молитву, слов которой мы не могли разобрать. Потом последовала пауза, а за ней внезапно раздалось пение, в котором приняли участие все присутствовавшие. Это была красивая, звучная песня или гимн на непонятном мне языке, разделенный на четыре стиха. Конец каждого из них отмечался поклоном певцов по направлению к востоку, к западу и к алтарю. Новая пауза, и вдруг двери святилища широко распахнулись, и в них показалась Исида, богиня Египта, какой я видел ее на картинках! Она была облачена в легкое одеяние, сделанное из очень тонкой материи. Ее волосы были распущены; на ней был головной убор из блестящих перьев с небольшой змейкой спереди. В ее руках было что-то, издали похожее на обнаженное дитя. По обеим сторонам ее шли две женщины, поддерживавшие ее под руки. На них тоже были прозрачные одеяния и головные уборы из перьев, но без змеек.
Двери святилища широко распахнулись, и в них показалась Исида, богиня Египта, какой я видел ее на картинках!
– Боже! – прошептал Регнолл. – Это моя жена.
– Молчите и благодарите Бога, что она жива, – шепотом ответил я.
Богиня Исида (или английская леди) спокойно стояла, в то время как жрецы, жрицы и все собравшиеся на скамьях амфитеатра поднялись и приветствовали ее троекратным криком.
Харут и первая жрица благоговейно поднесли хлебный колос и цветок сперва к губам Дитяти, лежавшего на руках Исиды, потом к ее губам.
После этой церемонии женщины, сопровождавшие богиню, обвели ее вокруг алтаря и усадили в стоявшее перед ним каменное кресло. В чаше, стоявшей на треножнике, был зажжен огонь, куда Харут и главная жрица что-то бросили, отчего поднялся дым. Исида наклонила голову вперед и вдохнула дым курения точно так же, как мы с ней вдыхали его в гостиной Регнолл-Кастла несколько лет тому назад.
Дым перестал струиться; богиня при помощи сопровождавших ее женщин снова выпрямилась в кресле, все еще прижимая к своей груди Дитя и как бы убаюкивая его. Но голова ее была опущена, будто она находилась в обмороке. Харут подошел к ней и что-то сказал; потом снова отступил назад и ждал. Тогда среди всеобщего молчания она поднялась со своего места и заговорила, устремив свои большие глаза в небо. Что она говорила – нам не было слышно.
Через некоторое время она смолкла, снова села в кресло и сидела, не шевелясь и по-прежнему глядя вперед.
Харут подошел к алтарю, стал на его каменных ступеньках и обратился к жрецам, жрицам и остальному собранию. Он говорил так громко и отчетливо, что мы слышали и понимали каждое сказанное им слово.
– Слушайте голос оракула, Хранительницы Небесного Дитяти, тени, рожденной им, отмеченной знаком молодой луны. Слушайте ответы на вопросы, предложенные мною, Харутом, пожизненным жрецом Вечного Дитяти. Вот что говорит оракул: о белые люди кенда, почитающие Дитя, потомки тех, кто в продолжение тысячи лет чтил его в древней земле, пока варвары не прогнали их оттуда. Приближается война, о белые люди кенда! Злой Джана, чье другое имя Сет, Джана, живущий в образе слона, почитаемый тысячами, некогда покоренными нами, поднялся против нас. Мрак поднялся против света. Зло идет войной на Добро. Ночь хочет пожрать день. Это будет последняя схватка. Как победить вам, о народ Дитяти? Не своей собственной силой, ибо вы малочисленны, а Джана очень силен. Не силой Дитяти, ибо Дитя становится слабым и дряхлым и дни его господства проходят. Только с помощью издалека призванных можете вы победить – так говорит голосом Дитяти Хранительница его. Их было четверо, но один из них погиб в пасти стража пещеры. Это было злое деяние, о сыновья и дочери Дитяти, ибо страж теперь мертв, и многие из вас, задумавших это злое дело, должны умереть за кровь того человека. Зачем вы сделали это? Чтобы удержать втайне похищение женщины, чтобы продолжать дело лжи? Так говорит Дитя. Не подымайте руки против трех остальных, дайте им, что они потребуют, ибо они одни могут спасти вас от Джаны и тех, кто служит ему. Вот что сказал оракул на празднестве Первых Плодов.
Харут окончил свою речь. Некоторое время царило молчание, потом поднялся всеобщий стон.
Когда он затих, спутницы Исиды помогли ей подняться со своего места.
Все собрание, жрецы и жрицы поклонились ей.
Она подняла изображение Исиды высоко над головой, и все с глубоким благоговением преклонились пред ним.
Потом, продолжая держать изображение над головой, она повернулась и ушла с сопровождавшими ее женщинами в святилище, а оттуда, вероятно, крытым ходом в дом, стоявший позади него.
После ее ухода все собравшиеся покинули свои места и столпились в наружном дворе храма. Жрецы раздавали им жертву, взятую с алтаря. Каждый мужчина получал хлебное зерно, которое съедал, каждая женщина – цветок, который прятала на груди.
Регнолл немного приподнялся, и я увидел, что его глаза блестели и лицо было чрезвычайно бледно.
– Что вы хотите сделать? – спросил я.
– Потребовать у этих людей возвращения моей похищенной жены, – ответил он, – не останавливайте меня, Квотермейн. Я знаю, что делаю.
– Но они не отдадут ее, а нас всего трое невооруженных людей. Прошу вас, не будьте опрометчивы. Это может все испортить. Предоставьте мне попробовать уладить дело.
– Хорошо, – согласился Регнолл после некоторого колебания.
– Теперь, – сказал я, – мы пойдем вниз посетить Харута и его друзей.
Под прикрытием кустарника мы отползли на некоторое расстояние назад и, пройдя с четверть мили в восточном направлении, повернули на север и (как я и ожидал) вышли на дорогу, которая вела к восточным воротам амфитеатра.
Мы прошли через них и не привлекли ничьего внимания, быть может, потому, что все были заняты разговором или молитвой.
Пройдя немного, мы остановились, и я сказал громким голосом:
– Белые люди и их слуга пришли по приглашению Харута. Проводите нас к нему.
Все обернулись и удивленно смотрели на нас, стоявших в тени, так как солнце поднялось еще не особенно высоко.
– Смерть им! – вдруг закричал один голос. – Смерть чужестранцам, осквернившим наш храм!
– Как! – ответил я. – Вы хотите убить тех, кому ваш главный жрец обещал безопасность, тех, с чьей помощью, как говорил оракул, вы надеетесь убить Джану и отразить врагов?
– Как они узнали это? – закричал другой голос. – Это маги!
– Да, – сказал я, – если сомневаетесь, пойдите и взгляните на стража пещеры, о смерти которого говорил ваш оракул. Вы увидите, что он не солгал.
В то время, когда я говорил это, в ворота вбежал человек в белой одежде, развевавшейся по ветру.
– О жрецы и жрицы Дитяти! – кричал он. – Старая змея умерла. На мне лежала обязанность кормить ее в день новой луны, и я нашел ее мертвой!
– Вы слышали, – спокойно сказал я, – Отец Змей мертв. Мы взглянули на него, и он умер.
Все тихо стояли и смотрели на нас, как стадо испуганных овец. Потом толпа расступилась, и появился похожий на библейского патриарха Харут. Он поклонился нам со своей обычной восточной вежливостью. Мы тоже ответили ему поклоном.
– Итак, вы здесь? – обратился к нам Харут на своем особенном английском языке, принятом, вероятно, белыми кенда за язык, известный только магам.
– Ты приглашал нас, и мы пришли, так как считаем невежливым не принять твоего приглашения. Мы прошли через пещеру, где живет отвратительное пресмыкающееся, безвредное для тех, кто не боится его. Вы не заметили нас, но мы присутствовали при вашем богослужении и все видели и слышали. Например, мы видели жену лорда, похищенную вами в Египте, хотя ты, Харут, будучи лжецом, клялся, что не похищал ее. Мы слышали, что она говорила после того, как вдохнула дыма вашего курения.
Харут побледнел, поднял глаза к небу и зашатался, словно готовый упасть.
– Как вам удалось это? – спросил он слабым голосом.
– Это безразлично, мой друг, – надменно ответил я, – нам только надо знать, когда вы вернете эту леди ее мужу.
– Никогда, – сказал он, овладевая собой, – сперва мы убьем вас, потом ее. Она должна остаться здесь до самой смерти.
– Слушай, – вмешался Регнолл, – я сильнее тебя. Если ты сейчас же не дашь обещания вернуть мне мою жену, я убью тебя этой палкой.
– Господин, – с достоинством сказал старик, – я знаю, что ты можешь сделать это, и, если ты убьешь меня, я поблагодарю тебя, так как мне очень тяжело жить. Но что хорошего выйдет из этого? Все вы умрете через минуту после меня, а леди останется здесь до тех пор, пока не умрет или пока царь черных кенда не сделает ее своей женой.
– Дайте мне говорить, – сказал я, наступая Регноллу на ногу, – мы слышали, что говорил ваш оракул, и знаем, что вы верите в его слова. Он говорит, что только с нашей помощью вы можете победить черных кенда. Если вы не обещаете исполнить то, что мы потребуем, мы не станем помогать вам. Мы сожжем наш порох и расплавим свинец; тогда наши ружья не будут в состоянии говорить с Джаной и Симбой. Но, если вы обещаете нам исполнить наши требования, мы научим ваших людей стрелять из тех пятидесяти ружей, которые имеются у нас, и с нашей помощью вы победите врагов. Ты понял меня?
Харут утвердительно кивнул головой и спросил, поглаживая свою длинную бороду:
– Что же мы должны обещать?
– Мы хотим, чтобы после того, как Джана будет убит и черные кенда побеждены, вы вернули нам похищенную леди и дали нам всем возможность уйти из вашей страны.
– Вы требуете невозможного, – сказал Харут, – это погубит нас. Но присядьте и поешьте. Тем временем я поговорю с другими жрецами. Не бойтесь, вы в безопасности.
– Нам нечего бояться. Это ты, похитивший леди и причинивший смерть Бене, должен бояться. Вспомни слова оракула, Харут.
– Я знаю их. Но мне непонятно, откуда они вам известны, – ответил он, после чего отдал несколько приказаний.
Мы были окружены стражей и проведены сквозь толпу через второй двор храма, который был теперь пуст.
Женщины принесли нам питье и пищу, за которую мы с Хансом принялись с усердием, между тем как Регнолл ел очень мало. Радуясь, что после долгих поисков он наконец нашел свою жену, он в то же время боялся снова потерять ее, и это лишало его аппетита.
Пока мы ели, жрецы, числом около двенадцати, собрались между алтарем и святилищем и вступили в горячий спор с Харутом. По их лицам было видно, что мнения сильно разделились.
Наконец Харут сделал какое-то предложение, на которое все согласились. Он и двое других жрецов вошли в святилище.
Минут через пять они вернулись, и один из них сделал сообщение, которое было выслушано весьма внимательно.
Потом один из жрецов подошел к нам и с поклоном пригласил нас приблизиться к алтарю.
Харут снова открыл двери святилища, стал направо от них и обратился к нам, на этот раз на своем языке.
– Господин Макумазан, Игеза и желтый человек, именуемый Светом Во Мраке! – сказал он. – Мы, главные жрецы Дитяти, посоветовавшись между собой и с мудростью Дитяти, от имени белых кенда соглашаемся на ваши требования.
Во-первых, после того как вы убьете Джану и прогоните черных кенда, мы отдадим вам белую леди, жену лорда Игеза. Во-вторых, мы проводим вас и ее из нашей земли до места, откуда вы можете вернуться в свою страну. Мы исполним все это, ибо, если Джана будет мертв, у нас не будет больше причин бояться черных кенда и не будет надобности в оракуле. Когда у нас явится нужда в оракуле, мы, без сомнения, сумеем найти новый. Но, если мы поклянемся в этом, вы, в свою очередь, должны дать клятву, что до конца войны останетесь с нами. Вы должны поклясться, что до тех пор, пока мы сами не вернем вам леди, вы не будете пытаться увидеть ее. Если вы откажетесь, мы окружим вас кольцом и будем сторожить до тех пор, пока вы не умрете от голода и жажды, ибо мы не можем проливать кровь в этом месте.
– Мы исполним свое обещание, но кто нам поручится, что вы исполните ваше?
– Мы поклянемся Дитятей, и эта клятва не может быть нарушена.
– Тогда клянитесь, – сказал я.
Жрецы положили свои правые руки на алтарь и «во имя Дитяти и всего народа белых кенда» дали торжественную клятву, после чего потребовали того же и от нас.
Сперва вышло некоторое затруднение с Регноллом, отказавшимся связывать себя какими бы то ни было обещаниями. В конце концов, к великому облегчению, мне удалось уговорить его.
Ханс объявил мне, что готов поклясться чем угодно, прибавив, что слова ничего не значат, так как всегда можно будет поступить так, как будет выгодно.
Я прочел ему короткое внушение относительно гнусности вероломства, которое, кажется, не произвело на него большого впечатления.
Первым давал клятву я, закончив ее словами «да поможет мне Бог», как несколько раз делал это, когда мне приходилось выступать свидетелем на суде.
Потом Регнолл повторил мою клятву по-английски.
Харут внимательно выслушал каждое слово и раза два попросил меня точно объяснить значение некоторых выражений. Наконец Ханс, которому, очевидно, все это весьма наскучило, повторил за мной слова клятвы, прибавив от себя: «Да поможет мне покойный отец бааса». Это выражение вызвало длинные объяснения. Ханс указывал жрецам, что мой покойный отец находился в таком же отношении к Высшей Силе, как их оракул к Дитяти. Кроме того, он щедро предложил в виде прибавки поклясться душами своего деда и бабки и некоторыми божествами, почитавшимися им, в числе которых, кажется, был заяц. Это предложение было принято жрецами.
– Эти глупцы не понимают, – на ухо прошептал мне по-голландски Ханс, – что покойному отцу бааса будет приятно, если я сыграю с ними такую же штуку, как они сыграли с белой леди и лордом Игезой.
В глубине своей темной и таинственной души Ханс чтил только одного бога, именно любовь, но не к женщине и не к дитяти, а к моей скромной особе.
Глава XVIII Посольство
После этой церемонии все жрецы, за исключением Харута и двух других, удалились, вероятно, затем, чтобы сообщить о своем решении остальному собранию, а через него – всему народу белых кенда.
– Что вы хотите теперь делать? – по-английски спросил Харут, всегда говоривший на этом языке в присутствии Регнолла, – быть может, вы полетите обратно в город Дитяти? В таком случае, пожалуйста, возьмите и меня с собой, так как это избавит меня от долгой езды.
– О нет! – ответил я. – Мы прошли сюда через пещеру, где живет Отец Змей, который при виде нас умер от страха.
– Хорошая ложь, – восхищенно сказал Харут, – первоклассная ложь! Но удивительно, как вам удалось убить змею, которую мы считали бессмертной, так как она прожила несколько сот лет. Наш народ нашел ее, когда впервые пришел в эту страну. Это было мерзкое животное. Быть может, вы хотите посмотреть Дитя? Это можно, так как вы теперь наши братья. Только снимите шляпы и не разговаривайте.
Мы, конечно, выразили желание посмотреть Дитя. Харут ввел нас в небольшое святилище, достаточно просторное, чтобы вместить всех нас. В нише, устроенной в стене в дальнем конце его, стояло священное изображение, которое мы с Регноллом рассматривали с глубоким, благоговейным интересом. Это была статуя ребенка около двух футов высотой, вырезанная из цельного клыка слона. Она была настолько ветхой, что желтая слоновая кость покрылась множеством мелких трещинок. По ее виду можно было заключить, что она была сделана несколько тысяч лет тому назад и всегда сохранялась под покрывалом. Египетское происхождение статуи не вызывало сомнения. Возможно, что моделью для нее послужило дитя какого-нибудь фараона. Тонкая работа обнаруживала превосходного художника.
В святилище не было ничего другого, кроме кресла черного дерева с инкрустацией из слоновой кости, изображения змеи и двух свитков папируса, лежавших в нише вместе со статуей.
К моему великому разочарованию, Харут не разрешил даже прикоснуться к ним.
– Теперь вы и народ белых кенда – одно, – сказал он, когда мы вышли из святилища, – ваш конец – его конец; ваша судьба – его судьба; его тайна – ваша тайна. Ты, лорд Игеза, в награду за помощь нам получишь леди, которую мы похитили у тебя на Ниле.
– Как вам удалось сделать это? – прервал Харута Регнолл.
– Мы следили за тобой, господин. Мы следовали за тобой по Египту, пока не представился удобный случай. Когда наступила ночь, мы позвали леди, и она пришла на наш зов. Ты помнишь арабов, разъезжавших по берегу большой реки за день до похищения? Мы были в числе их, и нам удалось на верблюдах увезти леди через пустыню в нашу страну, точно так же, как, я убежден, мы перевезем тебя и ее обратно.
– Я тоже верю в это, – ответил Регнолл, – вы причинили мне много зла. Но как могло случиться, что мой мальчик был убит слоном?
– Спроси об этом Джану, а не меня, – сумрачно ответил Харут. – Ты, Макумазан, получишь в награду много слоновой кости, которую ты видел на кладбище слонов по ту сторону реки Тавы. Когда ты убьешь Джану, стерегущего это место, и нанесешь поражение служащим ему черным кенда, мы дадим тебе верблюдов, чтобы довезти слоновую кость до кораблей. Что касается тебя, желтый человек, я думаю, что ты, который скоро унаследуешь все вещи, не ищешь награды.
– Старый маг хочет сказать, что я скоро умру, – задумчиво сплевывая, заметил Ханс, – что же, баас, я готов, если сперва умрет Джана и некоторые другие. Право, я становлюсь слишком старым для путешествий и сражений и потому буду рад перейти в другую страну, где снова сделаюсь молодым.
– Вздор! – воскликнул я.
– Западная и восточная дороги, – продолжал Харут, – единственные пути, ведущие к храму на вершине горы. Западный путь, который идет через пустыню, легко защитить. Относительно него нам нечего беспокоиться, так как оттуда трудно ждать нападения. Другое дело – восточный. Я вам покажу его, если вы поедете со мной.
Он отдал несколько приказаний жрецам; те ушли почти бегом и через некоторое время вернулись, ведя нескольких верблюдов.
Мы сели на них и, проехав полмили, достигли ряда отвесных скал, образовавших наружный кратер.
В этих скалах был проход шириной в две-три сотни ярдов, в середине которого проходила дорога с окопами по сторонам, устроенными, очевидно, с целью обороны.
Видя, что эти укрепления представляют надежную защиту, я спросил, когда они выстроены.
Харут ответил, что во время последней войны, около ста лет тому назад, когда черные кенда были изгнаны из этого места, так как белые кенда в то время были многочисленнее, чем черные.
– Значит, Симба знает эту дорогу? – спросил я.
– Да, господин. И Джана знает ее, ибо по временам он посещает эти места и убивает всех, кого встретит. Только к храму он никогда не осмеливается приблизиться.
Я сказал Харуту, что нужно без промедления укрепить это место.
– Да, господин, – согласился он, – мы недостаточно сильны, чтобы напасть на черных кенда в их стране или встретить их в открытом поле. Только здесь может произойти решительное сражение между Джаной и Дитятей. Вы должны руководить нами в постройке на этом месте различных искусных укреплений, которые помогут нам победить Джану и черных кенда.
– Ты думаешь, Харут, что этот слон будет сопровождать Симбу и его воинов?
– Без сомнения, господин. Так бывало всегда. Джана повинуется Симбе и некоторым жрецам черных кенда, предки которых вскормили его. Кроме того, он сам умеет думать за себя. Это неуязвимый злой дух.
– Его левый глаз и конец хобота оказались уязвимыми, – заметил я, – хотя я не сомневаюсь в его способности соображать.
Мы произвели несколько измерений. Регнолл, хорошо знакомый с подобными вещами, вчерне сделал в своей записной книжке набросок местности для составления плана новых укреплений.
Мы возвратились в город, где нам теперь предстояло много дел. Утомленные долгой ездой, без сна проведенной ночью и всеми предыдущими треволнениями, мы, немного поев, улеглись спать.
Около пяти часов нас разбудил гонец Харута, просившего нас прийти по важному делу в Дом Собраний, который находился недалеко от нашего дома, на площади, где производилась меновая торговля.
Там мы нашли Харута и около двадцати других предводителей, за которыми на почтительном расстоянии стояло человек сто белых кенда, преимущественно женщин и детей, так как мужское население было занято уже начавшейся жатвой.
Нас проводили на почетные места.
Когда мы уселись (Ханс стал за нами), поднялся Харут и сообщил, что от черных кенда прибыло посольство, которое сейчас предстанет перед собранием.
Вошли пятеро довольно свирепых на вид черных кенда, без оружия, но со своими обычными серебряными цепочками на груди, обозначавшими их звание.
В их предводителе я узнал одного из парламентеров, говоривших с нами перед битвой, в которой я попал в плен.
Он выступил вперед и сказал, обращаясь к Харуту:
– Не особенно давно, о пророк Дитяти, я, вестник бога Джаны, говорившего устами царя Симбы, предостерегал тебя и твоего брата Марута, но вы не послушались меня. Теперь Джана взял Марута, и я снова пришел предостеречь тебя.
– Я помню, – кратко прервал посла Харут, – что вас, передававших мне слова Симбы, было двое. Но Дитя наложило свою печать на лоб одного из вас. Если Джана взял моего брата, то где же твой?
– Мы предостерегали вас, – продолжал посол, – но вы прокляли нас именем Дитяти.
– Да, – снова прервал его Харут, – мы прокляли вас тремя проклятиями. Проклятиями бури, голода и войны. Два первых уже сбылись, остается третье, которое скоро падет на вас.
– Я пришел говорить с тобой о войне, – сказал посол, дипломатически избегая говорить на другие темы.
– Это неразумно, – возразил Харут, – вы уже пробовали сразиться с нами, но добились немногого. С вашей стороны убито много, с нашей мало. Белый господин избегнул ваших рук и клыков Джаны, у которого теперь не хватает глаза. Если он бог, почему он не мог убить лишенного оружия белого человека?
– Джана ответит сам за себя, Харут. Вот слова, которые он говорит устами царя Симбы: «Дитя уничтожило мою жатву, поэтому я требую, чтобы его народ отдал три четверти своей. Пусть он соберет ее и сам сложит на южном берегу реки Тавы. Пусть народ Дитяти выдаст белых людей, чтобы они были принесены мне в жертву. Пусть белая госпожа, Хранительница Дитяти, станет женою Симбы, и с нею сто девушек вашего народа. Пусть изображение Дитяти будет принесено к реке Таве и явит покорность богу Джане в присутствии его жрецов и царя Симбы». Вот чего требует Джана устами царя Симбы!
Я видел, как содрогнулся Харут и с ним все собравшиеся, когда услышали эти нечестивые требования.
– А если мы откажемся исполнить это? – все еще спокойно спросил Харут.
– Тогда Джана объявляет вам последнюю войну, – дерзко закричал посол, – войну до тех пор, пока не будет убит последний ваш мужчина, пока Дитя, которое вы чтите, не будет обращено в пепел, пока ваши женщины не сделаются нашими рабынями, пока ваша земля не будет опустошена и имя ваше забыто! Уже рать Джаны собралась, и он трубным звуком зовет ее в бой. Завтра или в ближайшие дни мы обрушимся на вас, и все вы будете истреблены прежде, чем взойдет полная луна!
Харут поднялся и, выйдя из-под навеса, стал спиной к послам и пристально посмотрел на отдаленные высокие горы.
Я из любопытства последовал за ним и увидел, что эти горы теперь были окутаны темными, тяжелыми тучами.
– Последуйте моему совету, друзья, и поскорее поезжайте к реке Таве, – сказал послам Харут, возвращаясь под навес, – в горах сейчас идет такой дождь, какого я никогда не видал. Ваше счастье, если вы успеете перейти через реку, прежде чем она разольется.
Это известие, казалось, встревожило послов. Они вышли из-под навеса и смотрели на горы, перешептываясь друг с другом. Потом вернулись и с безразличным видом потребовали ответа на свои требования.
– Разве вы не догадались о нем? – спросил Харут.
Потом, выпрямившись во весь рост, он загремел на них:
– Вернитесь к своему злому богу, скрытому в образе лесного зверя, и его рабу, именующему себя царем, и скажите им: «Так говорит Дитя своим возмутившимся рабам, собакам черным кенда: перейдите, если можете, мою реку. Ты уже мертв, Джана! Ты уже мертв, раб Симба! Вы уже рассеяны, собаки черные кенда! Вы будете жить на бесплодной земле, где вам придется рыть глубокие колодцы, чтобы добыть воды, и питаться дичью, так как у вас будет мало хлеба». Теперь ступайте, да поскорее, чтобы не остаться здесь навсегда!
Послы повернулись и удалились.
Я был в восхищении от артистических способностей Харута.
Надо прибавить, что, будучи весьма наблюдательным человеком, он был совершенно прав относительно дождя в горах. Как мы узнали впоследствии, как раз когда послы достигли реки, она сильно разлилась. Один из них утонул при переправе, и в продолжение четырнадцати дней река оставалась непроходимой для войска.
В тот же вечер мы начали приготовления к встрече неизбежного нападения. Положение белых кенда было весьма серьезным.
У них было всего около двух тысяч семисот мужчин (включая мальчиков и стариков), годных для военных действий всякого рода. К ним можно было прибавить до двух тысяч женщин. Странно, что у этого народа мужчины превосходили числом женщин. Против столь незначительных сил черные кенда могли выставить двадцать тысяч мужчин, оставив мальчиков и стариков с женщинами для защиты своей земли.
Таким образом, на одного белого кенда приходилось почти десять врагов.
Кроме того, надо было ожидать, что все черные кенда будут сражаться с большой храбростью и отчаянием, так как три четверти их жатвы и множество скота было уничтожено ужасным градом, о котором я уже упоминал. Им оставалось или отнять хлеб у народа Дитяти, или переносить голод в продолжение года, до новой жатвы.
Только одно обстоятельство, я видел, было в пользу белых кенда. Они могли сражаться под защитой укреплений, построенных с помощью искусства и знаний Регнолла и моих. Наконец, враги должны были встретиться с нашими ружьями, которых до сих пор не знали ни черные, ни белые кенда. Не знаю причины этого, тем более что по временам белые кенда торговали верблюдами с арабами и другими кочующими племенами, которым было известно огнестрельное оружие. Быть может, какой-нибудь старый закон или предрассудок запрещал ввозить оружие в их страну.
Как я уже говорил, Регнолл в придачу к своим охотничьим ружьям привез с собой в Африку пятьдесят винтовок системы Снайдерса с большим запасом патронов. С этими винтовками вышло некоторое затруднение на дурбанской таможне. Прежде всего нужно было позаботиться о наилучшем применении этого ценного запаса.
Харут отобрал семьдесят пять самых смелых и понятливых молодых людей, которые были переданы мне с Хансом для обучения стрельбе.
У нас было всего пятьдесят ружей, но мы обучили семьдесят пять человек, то есть на пятьдесят процентов больше, чтобы иметь запас для замены павших в бою.
От зари до поздней ночи мы с Хансом старались сделать из них метких стрелков. Это была нелегкая задача, тем более что при практической стрельбе нужно было экономить патроны.
Мы учили их по команде открывать и прекращать огонь и не тратить даром ни одного выстрела.
За исключением этих семидесяти пяти человек все мужское население день и ночь было занято сбором жатвы. Все зерно свозилось во второй двор храма на горе – единственное место, где оно было в безопасности.
Стада скота и верблюдов были уведены в безопасные места, в лес на склоне горы, где для них были заготовлены большие запасы корма.
Разведчики зорко следили за берегами реки Тавы. Укрепление горного прохода тоже потребовало немалого труда. Это взял на себя Регнолл, к счастью, в юности служивший в продолжение нескольких лет в Королевских саперах и потому хорошо знакомый с этим делом.
С помощью жрецов и всех женщин и детей, не занятых перевозкой на гору хлеба, было построено множество разнородных укреплений. Повсюду, где только было возможно, были вырыты глубокие ямы с острыми кольями на дне.
Я был буквально поражен, когда спустя десять дней увидел эту работу в почти законченном виде.
В это время возникли споры, следует ли сделать попытку воспрепятствовать черным кенда переправиться через реку. Этот план находил сторонников среди некоторых стариков.
Наконец решение его было предоставлено мне как главному начальнику, и я отклонил этот план, так как считал наши силы слишком слабыми для его выполнения.
На четырнадцатый день наши верховые разведчики донесли, что черные кенда накапливаются в большом числе на противоположном берегу реки Тавы.
На пятнадцатую ночь мы получили известие, что они перешли реку в количестве пяти тысяч всадников и пятнадцати тысяч пехотинцев и что во главе их идет огромный слон Джана, на котором едет царь Симба и хромой жрец (вероятно, мой приятель, раненный в ногу пистолетной пулей) в качестве магута[18].
Последнее мне казалось невероятным, так как я не мог себе представить, чтобы можно было ездить на таком бешеном слоне, как Джана.
Однако это оказалось правдой.
Я полагал, что либо в руках известных лиц это животное становилось ручным, либо ему давали какое-нибудь снадобье.
В продолжение двух дней (черные кенда продвигались вперед довольно медленно) мы видели пламя и дым, поднимавшиеся из города Дитяти.
Теперь мы знали, что час испытания близок, и все мужчины, женщины и дети с лихорадочной поспешностью заканчивали постройку укреплений и делали все посильные приготовления к их защите.
Мы занимали довольно сильную позицию.
Все подходы к храму были заграждены. Произвести нападение можно было только с восточной стороны.
В проходе были три линии укреплений, построенные одна за другой с промежутками в несколько сот ярдов.
Нашим последним убежищем являлись стены самого храма, в задней части которого собрались почти все белые кенда, за исключением охранявших скот в неприступных местах северного склона горы.
Тут собралось около пяти тысяч человек обоего пола и всех возрастов, настолько хорошо снабженных пищей, что осаду можно было выдержать в продолжение нескольких месяцев.
Всякое отступление было отрезано, так как от лазутчиков мы узнали, что черные кенда, хорошо знакомые с местностью, поставили несколько тысяч человек охранять западную дорогу и склоны горы.
Единственный оставшийся путь через пещеру был нами самими загражден большими камнями.
В общем, мы находились в положении крыс, попавших в западню, и нам только оставалось либо победить, либо умереть, так как сдача в плен принесла бы нам участь горше смерти.
Глава XIX Аллан Квотермейн делает промахи
Я сделал последний обход небольшого отряда, который в шутку прозвал «Отрядом метких стрелков», хотя, сказать правду, их стрельбу можно было назвать какой угодно, только не меткой. Стрелки стояли по своим местам, укрываясь за стеной, причем позади каждой пары сидел на корточках запасной, готовый сменить павшего.
Я убедился, что в кожаной сумке каждого из них было по двадцать патронов.
Опасаясь беспорядочной стрельбы, как это бывает даже в хорошо дисциплинированных войсках белых, я не снабдил их большим количеством.
Остальной запас (приблизительно по шестьдесят патронов на каждое ружье) находился у нескольких стариков, помещавшихся в сравнительно безопасном месте за линией. Им было отдано приказание передавать патроны в боевую линию в небольших количествах, но не раньше, чем в этом представится действительная надобность. Это было необходимо для того, чтобы ни один выстрел не пропал даром.
Сделав несколько указаний и предостережений исполнявшим обязанности сержантов отряда, я вернулся в беседку, устроенную для нас за скалой, и решил, если удастся, вздремнуть до начала сражения несколько часов.
Здесь я нашел Регнолла, только что вернувшегося с обхода укреплений, устроенных им с большой тщательностью, и осмотревшего, все ли отряды белых кенда готовы к выполнению своего назначения в обороне.
Он был утомлен и слишком возбужден, чтобы сразу уснуть.
Мы поговорили немного о предстоящем сражении. Потом я спросил его, не слышал ли он что-нибудь о своей жене.
– Ничего, – ответил он, – эти жрецы не говорят о ней. Да если бы и говорили, я бы все равно ничего не понял, так как Харут – единственный из них человек, с которым я могу объясняться. Кроме того, я строго держал свое слово и даже, когда мне представился случай увидеть ее при укреплении западной дороги, сделал крюк, чтобы не проходить мимо дома, где она живет. Ах, Квотермейн, мой друг! Хуже всего то, что к ней, как я узнал от Харута, до сих пор не вернулся рассудок.
– Напротив, это хорошо, – возразил я, – так как она по крайней мере не страдает. Но каким образом вы и бедняга Сэвидж могли видеть ее в городе Дитяти? Ведь это не фантазия, так как, по вашему описанию, на ней был такой же наряд, какой мы видели на празднестве Первых Плодов.
– Я тоже не понимаю этого, Квотермейн. На свете бывает много странных вещей, над которыми мы иногда смеемся, потому что они непонятны нашему ограниченному разумению. Но слушайте, Квотермейн. Если я погибну, что легко может случиться, а вы переживете меня, вы должны сделать все зависящее от вас, чтобы доставить ее в Англию. Вот приписка к моему духовному завещанию, надлежащим образом засвидетельствованная Сэвиджем и Хансом. По ней вам предоставляется необходимая сумма для покрытия всех расходов и кое-что для вас самих. Возьмите ее.
– Я сделаю все, что будет в моих силах, – ответил я, пряча документ в карман, – а теперь не будем больше думать о смерти. Это может помешать нашему сну, в котором мы весьма нуждаемся. Я надеюсь остаться в живых, дав хороший урок этим негодным кенда, и проводить вас и леди Регнолл до берега моря. Спокойной ночи!
После этого мы крепко уснули и проспали несколько часов.
Проснувшись, я увидел Ханса, сидевшего у входа в беседку, покуривая свою роговую трубку, и державшего на коленях «Интомби».
Я спросил его, который час, и получил ответ, что до зари остается два часа. На вопрос, почему он не спит, он ответил, что уже спал и во сне видел моего покойного отца. Немного спустя, когда я допивал свой кофе, ко мне пришли по делу от Регнолла, вставшего раньше меня.
Я обернулся, чтобы передать чашку Хансу, но он уже исчез. Поставив ее на землю, я погрузился в рассмотрение дела, по которому пришли посланные.
Тем временем вошли наши лазутчики, всю ночь следившие за лагерем черных кенда.
Враги расположились не более чем в полумиле от нас на открытом склоне холма, со всех сторон окружив себя пикетами.
По словам двух захваченных нашими пленных, принужденных под угрозой смерти говорить правду, они собирались напасть на нас при восходе солнца, так как ночью боялись засады.
У нас поднялся вопрос, не атаковать ли нам самим их лагерь ночью, но по обсуждению этот план был оставлен, так как враги значительно превосходили нас числом и благодаря хорошо выбранной ими позиции к ним невозможно было подойти, не будучи сперва замеченными их аванпостами. В глубине души я надеялся, что, вопреки словам пленных, они попытаются напасть на нас до зари и в темноте попадут в наши ямы и рвы, которые могут истребить большое число их.
Накануне сметливый Ханс указывал мне, какие выгоды мог представить для нас такой случай.
Я был вполне согласен с ним. За час до наступления зари ко мне зашел старый Харут и уведомил меня, что все наши люди поднялись и стоят по местам, делая последние приготовления к защите укреплений и стен первого двора храма, если нам придется отступить.
Лишь только он это сказал, как внезапно сквозь тишину, обыкновенно предшествующую рассвету, до наших ушей долетел звук, несомненно, ружейного выстрела.
Выстрел раздался приблизительно в полумиле от нас, и за ним послышался шум большого лагеря, неожиданно всполошившегося ночью.
– Кто мог сделать это, – спросил я, – ведь у черных кенда нет ружей?
Харут высказал предположение, что, быть может, кто-нибудь из наших стрелков покинул свой пост.
Пока мы строили различные догадки, прибежали наши лазутчики с известием, что черные кенда, очевидно, решившие, что на них нападают, вышли из лагеря и приближаются к нам.
Мы обошли наши передовые линии и взялись за оружие. Минут через пять, стоя на своем месте за стеной и прислушиваясь к приближающемуся шуму, я увидел сквозь густой мрак (луна уже зашла) что-то бегущее по направлению ко мне, похожее на пригнувшегося к земле человека. Я поднял было ружье, но, подумав, что это может быть просто гиена, не стал стрелять, так как опасался вызвать этим напрасную пальбу своего отряда.
В следующий момент из-за стены, за которой я стоял, послышался хорошо знакомый мне голос:
– Не надо стрелять, баас, это я.
– Что ты делал, Ханс? – спросил я, когда он перелез через стену.
– Я нанес визит черным кенда, баас, – запыхавшись, отвечал Ханс, – пробравшись через их дурацкие аванпосты, которые также слепы ночью, как летучие мыши днем. Я надеялся отыскать Джану и всадить ему пулю в ногу или хобот. Но я не нашел его. Один из их начальников стоял у сторожевого костра, представляя хорошую мишень для выстрела. Моя пуля достала его, баас, потому что он свалился в огонь, разбрасывая во все стороны искры. Потом я пустился наутек и, как видит баас, счастливо добежал сюда.
– Зачем ты делаешь глупости? – сказал я. – Ведь это могло тебе стоить жизни!
– Я умру не раньше, чем мне это назначено, баас, – отвечал он, заряжая свое маленькое ружье, – и это не глупость, а умный поступок, баас. Потому что черные кенда, думая, что мы на них напали, сами поспешили атаковать нас в темноте. Вот они уже идут.
Это действительно подтверждалось приближавшимся шумом.
Трубили рога, слышались окрики вождей, и вся гора сотрясалась от топота тысяч человеческих и лошадиных ног.
Вой и крики: «Джана! Джана!» эхом отдавались в скалах и лесах. С нашей стороны царило молчание.
– Теперь они подходят к ямам, – захихикал Ханс, нервно переминаясь с ноги на ногу. – Вот! Они уже полетели в них.
Это была правда.
Крики ужаса и боли говорили, что первые ряды конных и пеших врагов попадали в искусно вырытые в большом количестве ямы, замаскированные сверху ветками. Падая в ямы, враги пронзались острыми кольями, вколоченными в их дно. Тщетно передние ряды пытались криками предупредить задние о грозящей им опасности.
Людской поток катился вперед, доверху наполняя ямы смертельно раненными и задушенными.
Не знаю, сколько их погибло, но после битвы почти не было ни одной ямы, не наполненной до краев мертвыми.
Изобретение Регнолла, до сих пор неизвестное людям кенда, сослужило нам хорошую службу.
Однако враги, наполнив трупами ямы, прошли по ним и, уже различаемые мною во мраке, подходили к нам.
Теперь настал мой черед. Когда они были не более чем в пятидесяти ярдах от первой стены, я скомандовал своим стрелкам открыть огонь и для примера разрядил оба ствола одного из слоновых ружей в самую гущу толпы.
На таком расстоянии не могли промахнуться даже самые неопытные стрелки. Ни один выстрел не пропал даром. Часто одна пуля убивала или ранила несколько человек.
Результат последовал мгновенно.
Черные кенда, совершенно непривычные к ружейной стрельбе и воображавшие, что у нас всего два-три ружья, остановились, как парализованные.
На несколько мгновений воцарилась тишина, вскоре нарушенная новым залпом из снова заряженных нами ружей.
За ним последовали крики и стоны падавших повсюду врагов и паническое их бегство.
– Они бегут! Это для них слишком горячо, баас! – ликующе воскликнул Ханс.
– Да, – ответил я, когда мне наконец удалось остановить стрельбу, – но я думаю, что с наступлением рассвета они снова вернутся. Однако твоя вылазка дорого обошлась им, Ханс.
Постепенно рассветало.
Тишина не нарушалась ни малейшим дуновением ветерка.
Но что за сцена открылась перед нами с первыми лучами солнца!
Все ямы и рвы были до краев наполнены еще шевелившимися людьми и лошадьми. Недалеко от нас лежали кучи убитых и раненых – кровавая жатва нашего ружейного огня.
Эта ужасная картина была сильным контрастом по сравнению с мирным покоем, царившим наверху.
Мы не потеряли ни одного человека, если не считать одного легко раненного брошенным копьем.
Этот факт вызвал необыкновенное ликование у полудиких кенда. Полагая, что каково начало, таков должен быть и конец, они издавали веселые крики, пожимая друг другу руки. Потом они с аппетитом принялись за еду, принесенную женщинами, причем не переставали болтать, несмотря на то что вообще были весьма молчаливым народом.
Даже степенный Харут, подошедший ко мне с поздравлениями, казался возбужденным, как мальчик, пока я не напомнил ему, что настоящее сражение еще впереди.
Черные кенда попали в ловушку и понесли большие потери, но это не могло иметь особенного влияния на исход борьбы, так как число врагов было слишком велико. Регнолл, пришедший со своей оборонительной линии, согласился со мной.
Черные кенда, сражавшиеся за жизнь, равно как и за честь, будут наступать до тех пор, пока не победят или не будут истреблены.
Но как мы могли надеяться с небольшими силами истребить такое воинство?
Четверть часа спустя двое наших часовых, помещавшихся на вершинах высоких скал, донесли, что черные кенда выстраивают свои полчища и что их кавалерия спешилась и лошади уведены в тыл, будучи, очевидно, признаны бесполезными в этом месте.
Немного спустя из-за поворота показалось несколько человек, державших в руках по связке длинных палок с кусками белой материи, прикрепленными к концу каждой.
Меня чрезвычайно заинтересовало назначение этих палок.
Скоро все стало ясно.
Эти люди (их было тридцать-сорок) быстро бегали в разных направлениях, пробуя почву копьями в поисках новых ям. Нетронутых они нашли очень мало, и перед каждой из них, равно как и перед уже наполненными, они в виде предостережения втыкали палку с флажком.
Ими же было унесено много раненых.
Мы с большим трудом сдерживали белых кенда, желавших напасть на них, что, несомненно, могло завлечь наших в засаду.
Я также не позволил своим людям стрелять по ним, так как в результате было бы много промахов и, следовательно, напрасной траты патронов.
Сам я, однако, сделал два-три выстрела.
Исследовав основательно почву, разведчики удалились, и немного спустя начали показываться шедшие в полном порядке войска черных кенда. Их было около десяти тысяч человек. Ярдах в четырехстах они остановились. Последовала пауза, вскоре нарушенная звуками рогов и ликующими криками.
Тут моим глазам представилось необыкновенное зрелище.
Из-за поворота показался шедший медленным, тяжелым шагом огромный слон Джана. На его спине и голове сидели двое людей, в которых я с помощью бинокля узнал уже знакомого мне хромого жреца и Симбу, царя черных кенда, пышно разряженного. Он сидел на деревянном стуле, размахивая длинным копьем.
Вокруг шеи животного было обвязано двенадцать цепей, концы которых держали воины, бежавшие по шести с каждой стороны.
К концу хобота Джаны были прикреплены три другие цепи, заканчивавшиеся железными шарами.
К концу хобота Джаны были прикреплены три другие цепи, заканчивавшиеся железными шарами
Он шел, как послушный индийский слон, на котором возят бревна, проходя широким коридором, оставленным среди войска, и осторожно обходя ямы, наполненные мертвыми. Я думал, что он остановится, дойдя до первых рядов. Но я ошибся.
Джана продолжал идти прямо на наши укрепления.
Для меня представлялся исключительный случай. Я приготовил тяжелое двуствольное слоновое ружье.
Второе точно такое же ружье со взведенными курками держал Ханс, готовый в нужный момент подать его мне.
– Я убью этого слона, – сказал я, – пусть никто не стреляет. Вы сейчас увидите, как умрет бог Джана.
Огромное животное продолжало идти вперед. Теперь оно представлялось мне еще большим, чем при свете луны, когда оно стояло надо мною, готовясь раздавить меня ногой. Я уверен, что во всей Африке не было равного Джане слона.
– Пора стрелять, баас, – прошептал Ханс, – он уже близко.
Но я решил подождать, пока он не остановится, намереваясь для поддержания своего престижа покончить с ним одной пулей.
Наконец он остановился и, открыв свою красную пасть, поднял хобот вверх и затрубил.
Симба, поднявшись со своего кресла, начал кричать, чтобы мы сдались «непобедимому» и «неуязвимому» богу Джане.
«Я покажу тебе, какой он неуязвимый», – подумал я.
Оглянувшись назад, я увидел Регнолла, Харута и всех белых кенда, ожидавших, затаив дыхание, развязки.
Трудно было представить себе более удобный и верный случай для выстрела.
Голова животного была поднята, рот открыт.
Мне только оставалось послать ему пулю через небо в мозг.
Это было очень легко. Я готов был держать пари, что могу покончить с ним, имея одну руку привязанной к спине.
Я поднял свое тяжелое ружье и, прицелившись в определенное место в задней части его красного рта, спустил курок.
Раздался выстрел, но ничего не произошло.
Джана даже не потрудился закрыть свой рот.
– Ого! – послышались восклицания зрителей.
Прежде чем они стихли, последовал второй выстрел, но с тем же результатом, вернее, без всякого результата.
Тогда Джана закрыл свой рот, перестал трубить и, как будто желая сделать из себя еще лучшую мишень, повернулся боком и встал совершенно спокойно.
Я схватил второе ружье и, прицелившись за ухо – место, за которым (я знал по долгому опыту) находится сердце, – выстрелил сначала из одного ствола, потом из другого.
Джана не пошевелился.
На его шкуре не появилось ни одного кровавого пятна. Меня охватило ужасное сознание, что я, Аллан Квотермейн, знаменитый стрелок, знаменитый охотник на слонов, четыре раза подряд промахнулся, стреляя в огромное животное на расстоянии сорока ярдов.
Мой стыд был так велик, что я едва не упал в обморок.
Точно сквозь туман я слышал различные восклицания.
– Господи! – воскликнул Регнолл.
– Allemagte! – вторил ему Ханс.
– Дитя, помоги нам, – бормотал Харут.
Все смотрели на меня, как будто я был сумасшедшим.
Кто-то нервно засмеялся, и тотчас же все начали смеяться.
Даже стоявшие вдалеке черные кенда корчились от смеха, и я, Аллан Квотермейн, был центром их насмешек!
Мне казалось, что я схожу с ума.
Внезапно смех прекратился.
Снова царь Симба начал что-то кричать о Джане, «неуязвимом» и «непобедимом», на что белые кенда кричали: «Колдовство! Околдованный!»
– Да! – вопил Симба. – Никто не может ранить бога Джану. Даже белый господин, которого вы привезли издалека, чтобы убить его.
Ханс вскочил на стену и, прыгая, как ужаленная обезьяна, закричал:
– А где левый глаз Джаны? Не моя ли пуля вышибла его? Если Джана бог, почему он допустил это?
Потом он перестал прыгать и, подняв «Интомби», крикнул:
– Посмотрим, бог ли это или простой слон.
Грянул выстрел, и одновременно с ним я увидел кровь, показавшуюся на шкуре Джаны в том самом месте, куда я безрезультатно целился.
Конечно, пуля из небольшого, малокалиберного ружья была не в состоянии достать до сердца.
Вероятно, она, пробив шкуру, застряла на глубине не более двух дюймов.
Однако она оказала надлежащее действие на «неуязвимого» бога.
Он поднял хобот и закричал от боли и ярости, потом повернул к своему народу и побежал таким шагом, что люди, державшие цепи, выпустили их и отлетели в сторону, а Симба и жрец едва удержались на его спине. Результат выстрела Ханса был настолько удовлетворителен, что общее убеждение в заколдованности Джаны исчезло, но это оставило меня в еще худшем положении, чем прежде, так как, очевидно, Джана был защищен от моих пуль исключительно недостатком у меня ловкости. Ох, никогда в жизни я не испытывал такого унижения, как в этот несчастный час. Однако как могло случиться, что я, при всем моем искусстве, мог дать четыре промаха подряд по такой горе? На этот вопрос я никогда не мог найти ответа.
К счастью, скоро общее внимание было отвлечено от меня, так как масса черных кенда с громкими криками пришла в движение.
Приступ начался.
Глава XX Аллан плачет
Медленно продвигавшимся вперед главным силам черных кенда предшествовало около тысячи застрельщиков, из которых каждый был снабжен пучком метательных копий. Когда они были ярдах в пятидесяти от нас, мы открыли огонь и уложили многих из них и из шедших за ними главных сил.
Но это не остановило их, да и что могли поделать пятьдесят ружей против целой орды храбрых дикарей, у которых, казалось, не было страха смерти.
Вскоре их метательные копья начали падать среди нас, ранив нескольких.
Большого ущерба они не могли нам нанести, так как мы стояли под прикрытием стен.
Мы стреляли, заряжали и снова стреляли, сметая первые ряды, но на их месте появлялись все новые и новые.
Наконец по данной команде застрельщики, исключая убитых и раненых, укрылись за подходившими все ближе и ближе главными силами, которые теперь находились ярдах в пятидесяти от нас.
После минутной паузы снова раздалась команда, и три первых плотных ряда бросились на нас.
Мы дали залп и, как было раньше условлено, отошли назад, за следующую линию укрытий, откуда продолжали поддерживать огонь.
Теперь вступил в дело главный отряд белых кенда под командой Регнолла и Харута.
Враги, перебравшиеся через первую стену, только что оставленную нами, встретились с нашими копейщиками в тесном месте между двумя стенами, где численное превосходство не давало большого преимущества. Здесь произошел ужасный бой.
Потери нападающих были чрезвычайно велики, так как, завладев одним рядом укреплений, они через несколько ярдов наталкивались на новый отряд защитников, которых можно было принудить к отступлению только весьма дорогой ценой.
Так продолжался бой часа два или более.
Чтобы сломить оказываемое нами отчаянное сопротивление, черные кенда (я должен сказать, что сражались они превосходно) масса за массой обрушивались на нас, устилая свой путь сотнями убитых и раненых.
Между тем я со своими стрелками осыпал их градом пуль до тех пор, пока запас патронов не начал истощаться.
В половине восьмого утра нам пришлось отступить за последнее наружное укрепление, находившееся как раз у восточных ворот храма, в туннеле, проходившем через скалу из застывшей лавы.
Трижды бросались на нас черные кенда, и трижды мы отбивали их, пока ров перед стеной почти доверху не наполнился павшими.
Едва врагам удавалось взобраться на стену, как наши копейщики пронзали их своими длинными копьями или стрелки поражали их пулями.
Характер местности допускал только прямую фронтальную атаку.
Наконец враги были вынуждены прекратить на некоторое время нападение и отступить.
Но вскоре, отдохнув и получив подкрепление, они с криками и пением военных песен снова бросились на нас.
Две тысячи врагов как поток устремились на нас. Но мы отбили их атаку. Они бросились во второй раз, но мы снова отбили их.
Тогда они изменили свой план нападения.
Остановившись среди мертвых и умирающих у основания стены, построенной из камней и земли, они начали подкапывать ее.
Нам трудно было помешать им в этом, так как всех, кто показывался из-за стены, они осыпали тучами метательных копий.
Через пять минут они устремились в пробитую брешь. Тщетно было пытаться задержать этот натиск, так велико было число врагов.
Несмотря на отчаянное сопротивление, мы были отброшены к воротам храма и укрылись в его первом дворе.
Нам едва удалось запереть ворота, которые тотчас же были забаррикадированы камнями и землей.
Но это помогло нам ненадолго.
Враги натаскали хвороста и сухой травы к сделанным из кедрового дерева воротам и подожгли их.
Пока они горели, мы совещались.
Дальше отступать было некуда, так как во втором дворе, где находились женщины и дети и лежали запасы хлеба, было очень мало места для боя.
Только здесь, на первом дворе, мы должны были удержаться и либо победить, либо умереть.
До этого времени наши потери по сравнению с черными кенда, потерявшими свыше двух тысяч человек, были незначительны.
У нас было около двухсот человек убито и приблизительно столько же ранено. Следовательно, в нашем распоряжении оставалось около тысячи шестисот бойцов, что было значительно больше, чем могло сражаться в этом тесном месте.
Поэтому мы пришли к такому решению: триста пятьдесят лучших воинов должны были защищать храм, пока не падут.
Остальные (больше тысячи) были уведены во второй двор, где находились женщины и дети.
Они должны были проводить последних тропинками к месту, где были спрятаны верблюды, и бежать с ними куда могут.
Мы надеялись, что, победив, черные кенда будут слишком утомлены, чтобы преследовать их по равнине до отдаленных гор.
Это было отчаянное решение, но у нас не было другого выбора.
– А моя жена? – хрипло спросил Регнолл.
– Пока храм стоит, она должна оставаться в нем, – отвечал Харут, – но, когда все будет потеряно и я паду, ты, белый господин, войди в святилище, возьми ее и Дитя и беги за другими. Только я возлагаю на тебя обязанность: под страхом проклятия неба не допусти, чтобы Дитя попало в руки черных кенда. Сперва сожги его огнем или преврати в прах камнями. Кроме того, я отдал приказание в последнюю минуту поджечь навесы, устроенные над запасами хлеба, чтобы враги, избегнувшие наших копий, умерли от голода.
Тотчас же все приказания Харута, который был не только главным жрецом, но и чем-то вроде президента этой республики, были беспрекословно исполнены.
Я никогда не видел более совершенной дисциплины, чем у этого бедного народа.
Отряд за отрядом воинов, назначенных сопровождать женщин и детей, исчезал за воротами второго двора. Каждый уходивший оборачивался и салютовал оставшимся копьями.
Оставшиеся триста пятьдесят человек встали по местам, как греки, защищавшие Фермопилы.
Впереди поместился я со своими стрелками, которым были розданы все остальные патроны (по восемь на человека). За нами встали в четыре ряда воины, вооруженные саблями и копьями, под начальством Харута.
Позади них, вблизи ворот, ведущих во второй двор храма, находились пятьдесят отборных людей под командованием Регнолла, которые должны были в критический момент сделать попытку спасти Хранительницу Дитяти. Я забыл упомянуть, что Регнолл был дважды ранен при отчаянной защите укреплений: в плечо и бедро.
Когда все было готово и все утолили жажду из больших кувшинов, стоявших вдоль стен двора, пламя начало пробиваться сквозь массивные деревянные ворота.
Это случилось не ранее, чем через добрых полчаса после того, как они были подожжены.
Наконец они рухнули под ударами извне. Но проход оставался загроможденным грудой камней, набросанных нами после закрытия ворот.
Черные кенда разгребали их руками, палками и копьями.
Это было нелегко, так как наши поражали их копьями и избивали камнями. Но мертвые и раненые оттаскивались в сторону, а на их место становились другие.
В конце концов проход был очищен.
Тогда я отослал копейщиков назад на свои места и приготовился выполнить свою роль.
Ждать пришлось недолго. С громкими криками толпа черных кенда бросилась в проход.
Едва они появились во дворе, я скомандовал стрелять, и пятьдесят пуль полетело им навстречу с расстояния всего в несколько ярдов.
Они повалились кучами, как скошенный хлеб. Мы быстро зарядили ружья и ждали новой атаки.
Снова появились враги и снова повторилась ужасная сцена.
Ворота и туннель были загромождены павшими. Чтобы возобновить атаку, врагам пришлось убирать их под нашим огнем (стреляли я, Ханс и несколько лучших стрелков).
Так продолжалось до тех пор, пока мы не истратили последние патроны. Тогда мои люди отошли назад, предоставив Харуту и его отряду занять наши места, и сменили бесполезные ныне ружья на сабли.
В продолжение получаса и более продолжалась ужасная борьба.
Бой происходил в весьма узком месте, и черные кенда были не в состоянии пробиться сквозь копья наших бойцов, защищавших свою жизнь и святилище своего бога. Наконец враги отступили, дав нашим возможность убрать в сторону убитых и раненых и утолить жажду водой, так как стояла невыносимая жара.
Вдруг в воротах показался огромный слон Джана, подгоняемый сзади уколами копий. Он быстро шел вперед, сметая на своем пути защитников храма, как будто это была сухая трава, и сокрушая все хоботом, на котором висели железные шары. Удары копий действовали на него не более, чем укусы комаров.
Он, трубя, шел вперед, а за ним потоком катились черные кенда, на которых наши копейщики обрушились с двух сторон.
В это время я в сопровождении Ханса возвращался со второго двора, куда ходил посетить раненного в третий раз Регнолла. Найдя, к своей великой радости, его рану неопасной, я спешил вернуться к сражающимся и вдруг увидел дьявола Джану, несущегося прямо на меня, разрезая на две части толпу вооруженных людей, как нос гонимого бурей корабля разрезает воду.
Сказать правду, я, несмотря на нелюбовь к излишнему риску, обрадовался при виде его.
Даже возбуждение от продолжительного сражения не могло уничтожить во мне чувства стыда, который я испытал, промахнувшись по этому животному четыре раза подряд на расстоянии сорока ярдов.
«Теперь, Джана, – думал я, испытывая нечто вроде радостной дрожи, – теперь я смою свой позор. На этот раз я не промахнусь, иначе это будет моим последним промахом».
Джана несся вперед, вертя железными шарами, среди воинов, которые бежали направо и налево, очищая между ним и мною пространство.
Для большей верности (я немного дрожал от усталости) я встал на правое колено, опершись на левое локтем, и прицелился в шею животного.
Когда оно было шагах в двадцати от меня, я выстрелил, но попал не в Джану, а в хромого жреца, исполнявшего обязанности магута, сидя на его шее несколькими футами выше места, куда я метил.
Да! Я попал ему в голову, которую разбил, как яичную скорлупку, и он бездыханным свалился на землю.
В отчаянии я снова прицелился и выстрелил.
На этот раз пуля попала в конец левого клыка Джаны, от которого отлетел осколок.
Последняя надежда погибла.
У меня даже не оставалось времени подняться и бежать.
Я так и остался на коленях, ожидая конца.
В одно мгновение огромное животное очутилось почти надо мною и, открыв рот, подняло хобот.
Вдруг я услышал голландское проклятие и увидел Ханса, почти всунувшего в рот Джаны конец моего второго слонового ружья.
Грянул выстрел, за ним другой. Через миг огромный хобот обвился вокруг Ханса и, завертев его в воздухе, бросил футов на тридцать-сорок в сторону.
Джана зашатался, как бы готовый упасть, но удержался, покачнулся вправо, прошел, спотыкаясь, несколько шагов, минуя меня, и остановился.
Я повернулся, сел на землю и смотрел, что будет дальше.
Сперва я увидел Регнолла, бежавшего с ружьем. Он дважды выстрелил в голову животного, но оно не обратило на это никакого внимания.
Потом я увидел его жену, Хранительницу Дитяти, вышедшую из портала второго двора в сопровождении двух жриц, со статуей Дитяти из слоновой кости в руках. Все они были одеты так же, как и в утро жертвоприношения.
Она совершенно спокойно шла вперед, устремив свои большие глаза на Джану.
По мере ее приближения животное начало проявлять беспокойство. Повернув голову, оно подняло хобот и, вытянув его вдоль спины, схватило за лодыжку царя Симбу, неподвижно сидевшего на своем кресле. Медленно оно стащило Симбу с кресла. Он упал около левой передней ноги животного. Потом оно обвило хобот вокруг тела беспомощного человека (я до сих пор не могу забыть выражения его полных ужаса глаз) и завертело его в воздухе, сперва медленно, потом все скорее и скорее, пока блестящие цепи на груди жертвы не превратились под лучами солнца в одно сплошное серебряное колесо. Потом оно швырнуло его на землю, где бедный царь лежал безжизненной массой, потерявшей человеческий вид.
Хранительница Дитяти бесстрашно остановилась перед животным-богом. Ее спутницы остались позади.
Регнолл прыгнул вперед, желая увлечь ее в сторону, но целая дюжина людей удержала его – не знаю, с целью ли спасти его жизнь или по какой-нибудь другой причине.
Джана смотрел на Хранительницу Дитяти, она смотрела на Джану. Потом он яростно закричал и, выхватив Дитя из слоновой кости из ее рук, завертел его в воздухе и разбил о камни, как Симбу. Древняя статуя, пережившая много веков, разлетелась на тысячу мелких кусочков.
При виде этого белые кенда издали великий стон, женщины, сопровождавшие Хранительницу, разорвали на себе одежды, стоявший вблизи Харут в беспамятстве упал на землю.
Еще раз закричал Джана, потом медленно опустился на колени и, трижды ударив о землю хоботом, как бы являя этим покорность прекрасной Хранительнице, стоявшей перед ним, задрожал всем своим могучим телом и пал мертвым!
Битва прекратилась. Черные кенда стояли в оцепенении.
– Бог умер! – крикнул голос. – Царь умер! Джана убил Симбу и сам убит! Дитя разбито! Бегите, черные кенда! Бегите, ибо боги умерли и земля ваша стала землей призраков.
Со всех сторон эхом раздавался стон: «Бегите черные кенда, ибо боги умерли!»
Они повернулись и бежали как тени, унося с собой раненых. Никто не пытался остановить их.
Через полчаса ни одного из них, за исключением тяжело раненных и умирающих, не оказалось во дворе храма. Все они бежали.
Сражение окончилось.
Сражение, которое казалось потерянным, было выиграно!
Я поднялся и, стоя на нетвердых ногах, увидел Регнолла, только что отпущенного державшими его людьми.
Он прыгнул по направлению к своей жене и встал перед ней.
– Луна! – воскликнул он.
Облокотившись на плечо одного из белых кенда, я подошел к ним ближе, так как любопытство превозмогло мою слабость.
Некоторое время она пристально смотрела на него, потом ее глаза начали изменяться, как будто к ней возвращалась душа, сообщая им свет и жизнь.
Наконец она заговорила медленным, нерешительным голосом.
– Ох, Джордж, это ужасное животное убило нашего ребенка! – говорила она, указывая на мертвого слона. – Посмотри на него! Теперь мы будем друг для друга всем, как и прежде, пока Бог не пошлет нам другого ребенка.
С этими словами она разразилась потоком слез и упала в объятия мужа.
Я отошел в сторону (к своей чести, то же сделали кенда), оставив их вдвоем около мертвого Джаны.
Тут я должен сказать, что с этого момента к леди Регнолл совершенно вернулся рассудок, как будто гибель Дитяти из слоновой кости сняла с нее чары. В чем заключались эти чары – я не могу сказать, но думаю, что каким-то необъяснимым путем она связывала это изображение со своим потерянным ребенком. Первая смерть отняла у нее рассудок, вторая, кажущаяся смерть, вернула его.
С момента гибели своего ребенка на улице английского местечка до гибели Дитяти из слоновой кости в Центральной Африке она ничего не помнила, за исключением сна, о котором спустя несколько дней рассказала Регноллу в моем присутствии. Она говорила, что однажды ночью видела Регнолла и Сэвиджа, спавших в туземном доме в городе Дитяти.
Я предоставляю читателю самому сделать вывод об этом сне в связи с видением Регнолла и Сэвиджа, о котором рассказано выше. Сам я не могу предложить ни одного объяснения.
Оставив Регнолла и его жену, я, пошатываясь, отправился искать Ханса и нашел его лежавшим без чувств вблизи северной стены храма.
Очевидно, всякая человеческая помощь уже была для него бесполезна – так сильно он был искалечен Джаной. Мы отнесли его в комнату одного из жрецов, где я сидел над ним до конца, наступившего при закате солнца.
Перед смертью он пришел в полное сознание.
– Не надо горевать о промахе по Джане, баас, – говорил он, – это какой-то демон отвращал от него пули бааса. Джана был заколдован от белых людей. Лорд Игеза тоже промахнулся по нему. Но колдуны черных кенда забыли заколдовать Джану от маленького желтого человека. Потому я всякий раз, когда стрелял, попадал в него. Он знал, кто пустил в него последние пули. Вот почему он оставил бааса и схватил меня. Ох, баас! Я умираю счастливым, что убил Джану и что он схватил меня, а не бааса. Я все равно умер бы через день или два, так как был ранен брошенным копьем в пах. Я ничего не говорил об этом. Рана была не очень большая, и крови из нее вытекло мало, но, пока продолжалась битва, мне становилось худо. – (Осмотр этой раны показал, что Ханс был прав. Долго он все равно не прожил бы.) – Если баас хочет передать через меня что-нибудь своему покойному отцу, пусть баас говорит скорее, пока моя голова может удержать слова.
Потом он попросил перенести его к порогу, чтобы в последний раз взглянуть на солнце: «Потому что, баас, – прибавил он, – я уйду далеко за солнце».
Некоторое время он смотрел на заходящее светило, говоря, что, судя по небу, будет хорошая погода «для путешествия к Черной Воде, чтобы увезти всю ту слоновую кость».
Я ответил, что мне, быть может, никогда не удастся забрать с кладбища слоновую кость, так как черные кенда могут помешать мне в этом.
– Нет, баас, – ответил он, – теперь, когда Джана убит, черные кенда оттуда уйдут. Я знаю это, я знаю это.
Потом он начал бредить о наших прежних приключениях до тех пор, пока перед самым концом рассудок снова не вернулся к нему.
– Баас, – сказал он, – вождь Мавово назвал меня Светом Во Мраке. Когда баас тоже вступит во Мрак, пусть он поищет этот свет. Он будет сиять около бааса. Теперь я понял, что хотел сказать покойный отец бааса, когда говорил о любви. Это то, что я чувствую к баасу.
После этого Ханс умер с улыбкой на своем морщинистом лице.
Я плакал.
Глава XXI Домой
Мне не много остается рассказать об этой экспедиции, хотя я не сомневаюсь, что Регнолл при желании мог бы написать целый интересный том относительно многого, чего я едва коснулся, так как ограничивался только историей наших приключений. Например, о сходстве центральноафриканского культа Дитяти и Хранительницы с египетским культом Гора и Исиды, от которого, несомненно, произошел первый. Дальнейшее наше путешествие через пустыню до Красного моря было весьма интересным. Но мне надоело описывать путешествия, так же как и совершать их.
После смерти Ханса бодрость покинула меня.
Мы похоронили его в почетном месте, перед воротами второго двора храма, где он убил Джану.
Когда земля начала засыпать его маленькое желтое лицо, я почувствовал, будто половина моего прошлого осталась с ним в этой могиле.
Бедный старый Ханс! Где я найду другого такого человека, как ты? Где я найду столько любви, которой было переполнено твое странное сердце?
Ханс был совершенно прав относительно черных кенда. Они покинули свою землю, вероятно, в поисках пищи, но куда ушли – не знаю, да и не интересовался.
Они были порядочными головорезами, но в то же время превосходными бойцами.
Что с ними сталось – для меня было безразлично.
Одно могу сказать: огромная их доля никуда не переселилась, так как свыше трех тысяч их было предано земле белыми кенда, для чего весьма пригодились вырытые нами для обороны ямы и рвы.
Наши потери составляли пятьсот три человека, включая умерших от ран.
Джана был зарыт в том месте, где пал, в нескольких футах от убившего его Ханса.
Мы были не в силах перенести его труп в другое место.
Я всегда сожалел, что не произвел точного измерения этого животного, бывшего, я полагаю, самым большим слоном в мире.
Я видел его мельком на следующее утро, когда он был столкнут в огромную яму вместе с останками царя Симбы.
Я обнаружил, что все раны, за исключением уколов копьями, были причинены ему пулями Ханса.
Я просил белых кенда подарить мне оба огромных клыка, которым, я думаю, по объему и весу не было равных во всей Африке, хотя один из них был надломлен. Но в этом мне было отказано.
Белые кенда хотели сохранить их вместе с цепями и хоботом как память о победе над богом своих врагов.
Прежде чем зарыть Джану в землю, они топорами отрубили ему хобот и клыки.
По сильной истертости его зубов я сделал вывод, что это животное было очень старым, но насколько – трудно сказать.
Это все, что я могу сказать о Джане.
Белые кенда во всех отношениях строго сдержали свои обещания.
В странной, полурелигиозной церемонии, при которой я не присутствовал, леди Регнолл была освобождена от высокой должности Хранительницы, хотя я думаю, что жрецы, насколько могли, собрали все обломки слоновой кости и сохранили в кувшине в святилище.
После этого прислужницы сняли с нее одеяние, о весьма древнем происхождении которого, кроме Харута, я думаю, никто из белых кенда не имел представления. Потом, одетая в туземное платье, она была передана Регноллу.
С этого времени с нею, как и с нами, обращались как с чужестранной гостьей.
Однако ей было позволено поселиться со своим мужем в том же самом доме, который она занимала в продолжение своего необыкновенного плена.
После битвы в течение нескольких дней я был совершенно без сил.
Остальные три недели я был занят различными делами и, между прочим, поездкой с Харутом в город Симбы.
Мы отправились туда лишь после того, как удостоверились через наших лазутчиков, что черные кенда действительно ушли куда-то на юго-запад, где, приблизительно в трехстах милях от их прежнего города, по слухам, находились плодородные незанятые земли.
С особенным чувством я снова проезжал по знакомой местности и еще раз увидел согнувшееся от ветра дерево со следами клыков Джаны, на ветвях которого мы с Хансом нашли себе убежище от ярости этого чудовища.
Перейдя реку, теперь совсем обмелевшую, я ехал по наклонной равнине, через которую мы мчались, спасая свою жизнь, и достиг печального озера и кладбища слонов.
Здесь ничто не изменилось.
Та же горка, истоптанная ногами Джаны, на которой он имел обыкновение стоять. Те же скалы, за которыми я пытался укрыться, и недалеко от них куча человеческих костей, принадлежавших несчастному Маруту. Мы похоронили их на том же месте, где они лежали. Со всех лежавших кругом скелетов слонов мы забрали сколько могли слоновой кости, нагрузив ею около пятидесяти верблюдов.
Конечно, здесь ее было значительно больше, но много клыков, пролежав на этом месте долгое время, было попорчено солнцем и непогодой и потому не имело почти никакой ценности.
Отправив слоновую кость в город Дитяти, который был снова восстановлен, мы лесом поехали в город Симбы, для безопасности выслав вперед разведчиков.
Он действительно был полностью оставлен.
Никогда я не видел места, имевшего более пустынный вид.
Черные кенда оставили его таким же, как он был. Только на алтаре, находившемся на рыночной площади, где были принесены в жертву трое несчастных белых кенда, лежала куча трупов тех воинов, которые умерли от ран во время отступления.
Двери домов были открыты. В них было оставлено большое количество домашней утвари, которую черные кенда не могли забрать с собой.
Мы нашли много копий и другого оружия, владельцы которого были убиты и теперь не нуждались в нем.
За исключением нескольких умиравших от голода собак и шакалов в городе не осталось ни одного живого существа.
Пустота города производила впечатление даже большее, чем кладбище слонов у уединенного озера.
– Проклятие Дитяти сделало свое дело, – мрачно сказал Харут. – Сперва буря и голод, потом война, бегство и разорение.
– Это так, – ответил я, – однако, если Джана мертв и его народ бежал, где Дитя и многие из его народа? Что вы будете делать без бога, Харут?
– Каяться в своих грехах и ждать, пока небо в свое время не пошлет другого, – печально отвечал Харут.
Эту ночь я проводил в том самом доме, где был заключен с Марутом во время нашего плена.
Я не мог уснуть, так как в моей памяти воскресло все происходившее в те ужасные дни.
Я видел огонь для жертвоприношения, горевший на алтаре, слышал рев бури, предвещавший разорение черным кенда, и был очень рад, когда наконец наступило утро.
Бросив последний взгляд на город Симбы, я поехал домой через лес, в котором обнаженные ветви также говорили о смерти.
Через десять дней мы покинули Священную Гору с караваном в сотню верблюдов.
Из них пятьдесят были навьючены слоновой костью, а на остальных ехали мы и эскорт под командой Харута.
С этой слоновой костью, как и со всем связанным с Джаной, меня постигла неудача.
В пустыне нас настигла буря, от которой мы едва спаслись.
Из пятидесяти верблюдов, навьюченных слоновой костью, уцелело всего десять.
Остальные погибли и были занесены песком.
Регнолл хотел возместить мне стоимость потери, но я отказался от этого, говоря, что это не входило в наши условия.
Белые кенда – вообще бесстрастный народ, а в особенности теперь, когда они оплакивали своего бога, не проявили никаких чувств при нашем отъезде и даже не простились с нами.
Только жрицы, прислуживавшие леди Регнолл, когда она играла среди них роль богини, плакали, прощаясь с нею, и молились, чтобы снова встретить ее «в присутствии Дитяти».
Переход через горы был очень труден для верблюдов. Но наконец мы перебрались через них, сделав большую часть дороги пешком.
Мы задержались на вершине хребта, чтобы бросить последний взгляд на землю, которую покидали, где в тумане все еще виднелась Гора Дитяти.
Потом мы спустились вниз по противоположному склону и вступили в северную пустыню.
День за днем, неделю за неделей мы ехали по бесконечной пустыне путем, известным Харуту, который знал, где находить воду.
Мы ехали без особенных приключений (за исключением бури, во время которой была потеряна слоновая кость), не встретив ни одного живого существа.
В течение этого времени я был постоянно один, так как Харут разговаривал мало, а Регнолл и его жена предпочитали быть вдвоем.
Наконец, спустя несколько месяцев, мы достигли маленького порта на Красном море, арабское название которого я забыл и в котором было жарко, как в аду.
Вскоре туда зашло два торговых судна. На одном из них, шедшем в Аден, уехал я, направившись в Наталь.
Другое шло в Суэц, откуда Регнолл и его жена могли проехать в Александрию.
Наше прощание вышло столь поспешным, что кроме обоюдных благодарностей и добрых пожеланий мы мало успели сказать друг другу.
Пожимая мне при прощании руку, старый Харут сообщил, что едет в Египет.
Я спросил его, зачем он едет туда.
– Чтобы поискать другого бога, Макумазан, – ответил он, – которого теперь, за смертью Джаны, некому уничтожать. Мы поговорим с тобой об этом, когда снова встретимся.
Таковы мои воспоминания об этом путешествии.
Но, сказать правду, я тогда мало на что обращал внимание.
Потому что мое сердце скорбело о Хансе.
Древний Аллан
Глава I давний знакомый
А теперь я, Аллан Квотермейн, перехожу к своему самому таинственному (за исключением, может, еще одного или двух) приключению, рассказ о котором скрасит мою праздную жизнь в чужом краю – поскольку Англия, по сути, мне чужда. Я старею. И мне кажется, что я уже пережил время бурных свершений и открытий и должен быть доволен теми многочисленными подарками судьбы, которых я вообще-то недостоин.
Для начала скажу, что я жив и здоров, хотя по всем правилам мог бы умереть уже по крайней мере несколько раз. Думаю, что должен быть благодарен за это, но, перед тем как излагать точку зрения на сей счет, хотел я прийти к твердому убеждению, что же лучше – быть живым или мертвым? Верующие голосуют за последнее, хотя я никогда не замечал, чтобы они жаждали умереть сильнее, чем остальные простые смертные.
Например, если им скажут, что их святые сердца работают с перебоями, они начинают тратить огромное количество времени и денег, поспешая в какое-нибудь местечко вроде Наугейма, что в Германии, дабы испить там целебной водицы, тем самым сокращая часы свои небесной благодати и лишая своих наследников определенных денежных средств. Или же устремляются в Бакстон[19], что неподалеку от меня, особенно если есть проблемы с желудком или там горлом. Даже архиепископы так поступают, не говоря уже о таких мелких сошках, как деканы или более крупные иерархи, занимающие ключевые посты на клерикальной лестнице.
Такое поведение можно было бы ожидать от обычных грешников вроде меня, но в случае с теми, кто занимает верхушку этой уходящей в небо пирамиды, я имею в виду небесную лестницу, хотелось бы понять, почему они так сопротивляются всем творящимся с ними изменениям. На самом деле единственные люди, которых я видел лично и которые были готовы умереть (за исключением тех, кто иногда рисковал своей жизнью, чтобы спасти кого-то другого, кого они, чудаки, ставили превыше себя), были не те, «на кого снизошел свет» – я цитирую один серьезный документ, который мне довелось прочесть сегодня утром, – а как раз (снова цитата) те самые «грешные язычники, блуждающие в своей природной темноте». Здесь, как я понимаю, автор имеет ввиду их моральное состояние, а не их темную кожу, которую бедняги вынуждены носить, если им случилось родиться на далеком юге.
Справедливости ради надо сказать, что вера, которую каждый сам формирует для себя, частенько вырублена из неподходящего куска дерева, даже для лучших из нас. Например, иву очень удобно и легко рубить, но попробуйте поддержать себя с ее помощью на краю пропасти – и вы увидите, что случится. Вам лучше выбрать эвкалипт или скромный дуб. Я могу продолжать и дальше, гадая, из чего может быть сделан мой собственный шлем для спасения моей бренной головушки, но вовремя остановлюсь.
Правда состоит в том, что мы боимся смерти, потому что все религии полны неудобных намеков о том, что может приключиться с нами после смерти в качестве награды за наши уклонения от их законов, и мы верим вполсилы, тогда как дикарь, не испытывая трудностей с религией, боится меньше, потому что он почти ни во что не верит. Лишь ничтожное число жителей Земли может добиться полной веры или полного неверия. Они редко в состоянии приложить руки к сердцу и сказать, что живут ради вечности или умирают для нее же, а их честные останки являются объектом поклонения или сомнения для грядущих поколений.
Вот что делает мою историю столь интересной, во всяком случае, для меня, поскольку, рассуждая о том, есть или нет у меня будущее, я могу надеяться в любом случае, что у меня есть прошлое, хотя, насколько я понимаю, лишь на словах. Это факт, исходя из которого, каждый может сделать для себя выводы сообразно собственным вкусам.
И в таком случае мое приключение, о котором я честно поведаю здесь, может оказаться лишь продолжительным сном. Как я мог мечтать о землях или событиях, о которых имею весьма смутное представление, или не имею вовсе, если они не являются частью этого мира? Мы прячем глубоко внутри себя встречу с тем, что когда-либо случалось в этом мире. Однако это не значит, что не существует того, что мы не можем доказать.
Во всяком случае, вот моя история.
В книге воспоминаний, которые я опубликовал вместе с другими рассказами под названием «Дитя из слоновой кости», я поведал историю одной экспедиции, которую я совершил с лордом Регноллом. Целью этой экспедиции было найти его похищенную жену. Она была украдена во время путешествия по Египту, будучи в помраченном сознании. Причиной такого состояния была потеря ребенка при весьма ужасных и трагических обстоятельствах. Похитителями были представители необычного арабского племени, которые из-за родимого пятна у нее на груди решили, что эта женщина является жрицей, или проповедницей их священного культа. Этот культ происходил из самых глубин Древнего Египта, хотя, кажется, никто этого не знал. Жрица его была не кем иным, как воплощением богини Исиды, а дитя из слоновой кости было их идолом. Это была статуя младенца Гора, знаменитого сына богини Исиды и бога Осириса. Египтяне считали его победителем Сета, или дьявола, убившего Осириса, после чего тот воскрес и стал богом смерти.
Мне не нужно ворошить в памяти то, что случилось во время этого удивительного путешествия. Главным было то, что в конце концов мы нашли эту женщину в полном здравии. Перед тем как она покинула страну кенда, жрица подарила ей два древних папируса и какую-то траву, отдаленно похожую на табак, которую племя кенда называло «тадуки». Однажды, перед тем как мы пустились в наше великое странствие домой по пустыне, у меня состоялся любопытный разговор с леди Регнолл об этой траве и о том, что она делает человека, ее воскурившего, ясновидящим, давая возможность видеть вещи, независимо от того, правдивы они или нет.
Трава использовалась в мистических церемониях племени кенда, когда под ее влиянием жрица или оракул – дитя из слоновой кости – объявляли свои божественные откровения. Во время ее пребывания среди туземцев леди Регнолл часто вдыхала аромат этой тадуки и говорила странные вещи, которые я слышал собственными ушами. Однажды и я испытал на себе эффект этой травы и наблюдал странные видения, многие из которых впоследствии стали былью.
Но разговор, о котором я упомянул, был коротким. Суть его состояла в том, что леди Регнолл верила в то, что когда-нибудь она или я, или мы оба вдохнем аромат этой травы и увидим прекрасные картины некоего прошлого или будущего, с которым мы будем связаны. Она объявила, что это знание пришло к ней, пока она находилась в беспамятстве в качестве жрицы бога племени кенда, которого звали «дитя из слоновой кости».
Вообще-то я никогда не считал уместным обсуждать свои взаимоотношения с женщинами, да еще с такими, чей рассудок недавно был помрачен. Да и потом, пережив новые приключения, позабыл об этом деле или по крайней мере думал о нем очень редко.
Однако однажды я был вынужден вспомнить об этой истории. Вскоре после того, как я вернулся в Англию с твердым намерением провести остатки своих дней подальше от новых искушений и уж тем более дальних путешествий, я был вынужден присутствовать на благотворительном вечере и, что гораздо хуже, участвовать в обеде. И хотя сам обед был богато обставлен, мне пришлось принять на себя самые незавидные функции, которые только можно представить. Там было огромное количество народу, частью – высокопоставленные особы, которые пришли, чтобы поддержать благотворительное общество своими взносами или продемонстрировать свои награды, правда, я не знаю за что. Другие, не столь замечательные личности вроде вашего покорного слуги, в большинстве лишь скромные граждане, у которых не было наград, теснились вокруг этой толпы, словно официанты на побегушках, ожидающие указаний метрдотеля.
За обедом, который, кстати, сам по себе был невкусным, я сидел за столом так далеко, что едва мог слышать речи, что было, возможно, и моей удачей. В этих обстоятельствах я погрузился в разговор с соседом – странноватым чернобородым типом, восседавшим с умным видом, и который каким-то образом выяснил, что я знаком с отдаленной частью Африки. Он оказался богатым ученым, чьей страстью было изучение трав, произраставших в дебрях Южной Африки, где он в течение ряда лет имел удовольствие странствовать.
Некоторое время спустя он упомянул некий корень яге, известный индейцам, которые толкли его и делали из порошка таблетки. Эти таблетки производили своеобразный эффект – они позволяли видеть события, которые происходили на расстоянии. В самом деле, он утверждал, что видения, которые возникали у него, вынудили его вернуться домой, потому как увидел, что некая его родственница, кажется сестра-близнец, оказалась серьезно больна. Однако он мог никуда и не ездить, так как прибыл в Лондон на следующий день после ее похорон…
Поскольку я видел, что он действительно интересуется этим вопросом, и заметил, что он чрезвычайно темпераментный человек, не похожий на романтика, я рассказал ему кое-что о моих экспериментах с тадуки. Он слушал меня, затаив дыхание. Когда я сказал, что не очень-то доверяю своим ощущениям, он грубо прервал меня и спросил, почему я отрицаю этот феномен. Может, я просто недостаточно умен, чтобы понять его? Я ответил, что это происходит лишь потому, что подобный феномен не вписывается в существующие в науке теории. На это ученый возразил мне, что прогресс сам по себе состоит из ниспровержения существующих теорий. Кроме того, он умолял меня, если вдруг представится случай, продолжить эксперименты с дымом тадуки и рассказать ему о результатах.
Тут наш разговор внезапно подошел к концу, поскольку оркестр, располагавшийся неподалеку, заиграл «Боже, храни королеву» и мы спешно обменялись визитками и расстались. Я упомянул об этом случае лишь потому, что, если бы не он, то никогда не смог бы взяться за эту историю.
Воспоминания об этом знакомстве запечатлелись в моей беспокойной головушке так глубоко, что, когда представился случай, я тут же вспомнил о нем, хотя я все же уверен, что никогда не сделал бы этого по другой причине, а лишь потому, что хотел до конца во всем разобраться. И такой случай вскоре представился.
Здесь я хотел бы пояснить, что присутствовал на этом самом обеде вскоре после моего возвращения в Англию, куда я переехал после того, как копи царя Соломона сделали меня богатым человеком. Так случилось, что между моим путешествием в страну племени кенда за несколько лет до этого и моим возвращением в Англию я никогда не видел и мало слышал о лорде и леди Регнолл. Однако до меня дошли слухи от сэра Генри Куртиса или от капитана Гуда о том, что лорд умер в результате несчастного случая. Что это было, мой информатор не знал, а я начинал тогда приготовления к долгому путешествию, поэтому времени на расследование у меня не было. Мой разговор с ученым-ботаником заставил меня вспомнить обо всем. В самом деле, через несколько дней я обнаружил в справочнике, что лорд Регнолл умер, не оставив наследника. Его жена была жива.
Я собирался написать ей, когда однажды утром почтальон принес мне сюда, в Грандж, письмо. На конверте, в месте отправителя, было написано: «замок Регнолл». Почерк был мне не знаком, он казался ясным и отчетливым, что, насколько я помню, не было свойственно леди Регнолл. Вот что говорилось в том письме:
«Мой дорогой Квотермейн, это очень странно, но на собрании общества садоводов я видела некоего джентльмена, который рассказал мне, что несколько лет назад он сидел рядом с Вами на обеде. И, видимо, чтобы я поверила ему, он показал мне Вашу визитку с йоркширским адресом.
У нас возник спор о том, где была впервые найдена лилия из рода Crinum – в Африке или Южной Америке? Этот джентльмен, большой специалист по южноамериканской флоре, произнес целую речь о том, что никогда не встречал этот цветок в Южной Америке, но его знакомый, мистер Квотермейн, с которым он разговаривал по этому поводу, заявил, что видел нечто подобное в дебрях Африки (это действительно так, я вспомнил об этом случае. – А.К.). За чаем, который был накрыт после собрания, я разговорилась с этим джентльменом, чье имя я не запомнила, и, к моему удивлению, узнала, что говорит он о Вас, в то время как я считала Вас погибшим, как нам сообщили несколько лет назад. Вдобавок к Вашему имени он описал Вашу внешность и рассказал, что Вы вернулись в Англию.
Мой дорогой друг, могу заверить Вас, что уже давно не слышала такой радостной вести. Прошлое вернулось ко мне, нахлынув как наводнение, но я думаю, что скоро смогу поговорить с Вами, так что оставим воспоминания на потом.
Увы, с тех пор как мы расстались на берегах Красного моря, несчастья следуют за мной по пятам. Насколько Вы знаете, поскольку мой муж и я писали Вам, хотя Вы никогда не отвечали (я никогда не получал этих писем. – А.К.), мы благополучно добрались до Англии и вернулись к нашей прежней жизни. Хотя, по правде говоря, после моих африканских приключений жизнь никогда уже не была для меня прежней, как, впрочем, и для Джорджа. Он полностью сменил род своих занятий, и политические амбиции, которые он так лелеял, практически потеряли для него смысл. Напротив, он погрузился в изучение прошлого, в особенности увлекся египтологией. Возможно, это покажется Вам странным, особенно принимая во внимание некоторые обстоятельства. Однако это меня очень устроило, а потом я и сама присоединилась к нему. Мы стали работать вместе, и теперь я могу читать иероглифы, как настоящий специалист. Однажды муж сказал, что хочет вернуться в Египет, если я, конечно, не боюсь. Я ответила, что это не самое счастливое место для нас, но лично я не возражаю и вернулась бы туда. Вы же знаете про узы, которые связывают меня (или я наивно полагаю, что связывают) с Египтом и Африкой.
Мы отправились туда и хорошо провели время, хотя я всегда ожидала, что из-за угла неожиданно выскочит старый Харут.
С тех пор у нас вошло в привычку проводить зиму в Египте, поскольку с тех пор, как Джордж перестал охотиться и посещать палату лордов, нас ничего не связывало с Англией. Мы ездили туда подряд целых пять лет, жили в бунгало, которое построили в пустыне недалеко от берегов Нила, на полпути между Луксором (в районе Фив) и Асуаном. Джордж полюбил это место с тех пор, как впервые увидел его, да и я привязалась к нему, потому что, подобно Мемфису, оно заставило меня наконец снова начать улыбаться и поверить, что все изменится к лучшему.
Около нашей виллы, которую мы назвали «Регнолл», как и наш дом, находились развалины башни, которая была практически погребена в песке. Джордж получил разрешение на раскопки. Все думали, что формальности будут тянуться долго и нудно, но муж не жалел денег, поэтому никаких препятствий не возникло. Мы работали четыре зимы, наняв несколько сотен людей. Когда работа была закончена, мы обнаружили, что башня, хотя и не самая большая, как можно было судить по тому, что погребено под слоем песка, возведена в эпоху правления римлян или сразу после нее. Останки сохранились даже лучше, чем мы ожидали, потому что ранние христиане никогда не пользовались молотками и стамесками. Так как я надеюсь показать Вам рисунки и фотографии с различных ракурсов, то не буду даже пытаться описать ее.
Эта башня посвящена Исиде. Возможно, она была построена на руинах старой башни на месте, которое называется Амада. Назвали ее в честь города в Нубии, думаю, по имени одного из фараонов династии, к которой принадлежал Аменхотеп, завоевавший ее. Стиль постройки восхитителен, это лучший период египетского ренессанса, во времена правления последней династии.
В начале пятого зимнего сезона мы достигли святилища. Это была сложная задача, потому что требовалось соорудить стены для защиты от песка, который наползал так же быстро, как его удаляли. Кроме того, требовалось множество людей, которых доставляли по узкоколейке.
Проделав всю эту работу, мы добрались до неглубокой могилы, которая была поспешно заполнена в свое время и грубо накрыта булыжниками, как и остальная часть двора, как будто для того, чтобы побыстрее скрыть ее существование. В могиле лежали скелет огромного мужчины, ржавый клинок железного меча и фрагменты доспехов. Очевидно, он не был мумифицирован, поскольку рядом не было бинтов, в которые обычно заворачивали мумию, фигурок ушебти[20] и погребальных предметов.
Состояние костей показало нам, почему такое произошло: правое предплечье было отрублено, череп разбит, а железный наконечник стрелы воткнут в ребра. Этого мужчину хоронили спешно, после битвы, в которой он встретил свою смерть. Копаясь в пыли, мы нашли на одном пальце золотое кольцо. На его гнезде было выгравировано «Пероа, возлюбленный Ра». Пероа, возможно, означало «фараон». Может быть, это был Хабаш, который восстал против персов, правил год или два, после чего был схвачен и убит, хотя записей о его смерти и погребении не сохранилось. Были ли это останки самого Хабаша или одного из его министров или военачальников, которые носили картуш фараона, я, конечно, сказать не могу.
Когда Джордж прочитал картуш, он отдал мне кольцо, которое я надела на указательный палец левой руки и ношу до сих пор. Мы оставили могилу открытой и позже вернулись к раскопкам, будучи в полном восторге от проделанной работы.
Наступал вечер, мы расчистили большую часть святилища, которое было не очень большим, и обнаружили, что гробница сделана не из монолитного камня, а сложена из четырех кусков гранита. Они были так грамотно подогнаны друг к другу, что никто не мог обнаружить стыков. На выгравированном архитраве (по-моему, это так называется) был вырезан символ крылатого диска, а ниже иероглифы, такие свежие, как будто их начертали только вчера. Надпись гласила, что это «Пероа, царский сын Солнца, дающего свет», а рядом статуя священной матери и священного ребенка, «великой богини Исиды» и «великого бога Гора», Амады, которая была верховной жрицей фараонов.
Мы только бегло прочитали иероглифы, потому что очень хотели узнать, что находится внутри засыпанной песком гробницы, кедровая дверь которой насквозь прогнила. Корзину за корзиной, мы оттаскивали его, пока наконец перед нашими глазами не возникла самая прекрасная статуя Исиды, которую я когда-либо видела, в натуральную величину. Она была вырезана из алебастра. Богиня сидела на троне, похожем на стул, и была одета в царский плащ, на котором еще сохранились остатки краски. Ее руки были вытянуты вперед, как будто держали ребенка, возможно, она кормила грудью, потому что одна грудь была обнажена. Но если и так, то ребенка не было. Статуя была выполнена прекрасно, нежное лицо женщины поражало необычайной красотой и было таким естественным, как будто позировала и в самом деле живая женщина. Мой друг, когда я взглянула на нее при свете свечей, поскольку солнце уже село и в выкопанной яме собирались тени, я не могу объяснить, что я почувствовала, – Вы, знающий мою историю, поймете меня.
Перед нашими глазами возникла самая прекрасная статуя Исиды, которую я когда-либо видела…
Мы долго смотрели на нее, и вдруг я почувствовала, что медленно опускаюсь на колени. Неожиданно, не знаю почему, я почувствовала, что все вокруг начало трястись. В этот момент главный надсмотрщик по имени Ахмет подскочил к нам с криком: «Скорее наверх! Песок! Башня рушится!»
Он схватил меня за руку и потащил из гробницы. Джордж обернулся, чтобы последовать за нами. Внезапно я увидела волну песка, на вершине которой плыли камни из стены, они кружились и падали, разрушая гробницу, которая перевернулась и раскололась на четыре части, разбив вдребезги алебастровую статую. Ее голова ударила Джорджа по спине и отбросила его вперед. Он откатился и упал в открытую могилу, которая в тот же миг наполнилась осколками, вынесшими меня на середину этого потока. Я не помню ничего из того, что случилось потом. Лишь несколько часов спустя я очнулась в нашем доме.
Ахмет и другие египтяне не пытались ничего сделать. Никто не соглашался вернуться туда, пока не взойдет солнце, поскольку старые боги этой земли, которых местные называли дьяволами, разозлились из-за того, что их потревожили, и могут убить их, как убили Бея, так они называли Джорджа. Я просто не знала, что мне делать, поскольку обнаружила, что вокруг нет ни одного европейца. Место, где была гробница, было полностью погребено под тоннами песка, который, казалось, сыпался отовсюду и заполнял все вокруг. Могли потребоваться недели, чтобы откопать все это, прорыть новую шахту было невозможно и настолько опасно, что местные власти отказались дать разрешение. В конце концов из Каира прибыл английский епископ и освятил землю после специального соглашения с правительством. Было сделано все возможное, чтобы работы были прекращены. После этого он провел погребальную службу над моим дорогим мужем.
Таков конец этой ужасной истории, которую я описала здесь, потому что не хочу больше, чем надо, говорить об этом, когда мы с Вами встретимся. А мы обязательно встретимся, мистер Квотермейн, мы встретимся, потому что я всегда знала, что это случится, – даже когда услышала, что Вы умерли. Вы помните, что я говорила Вам об этом на земле племени кенда много лет назад? Это случится после великих изменений, которые произойдут в моей жизни, хотя я не могу сказать, что это будет».
Так оканчивается это письмо. Далее следуют несколько предполагаемых дат, когда я по ее просьбе должен был приехать в Регнолл.
Глава II Замок Регнолл
Закончив читать этот удивительный документ, я закурил трубку и поудобнее расположился в кресле, чтобы все обдумать. Любой исследователь вправе задаться вопросом: почему я назвал этот документ удивительным? Нет ничего странного в том, что англичанин-дилетант, обладающий живым умом и будучи по стечению обстоятельств одним из богатейших людей в королевстве, тратит часть своего богатства на раскопки. Также не было странным и то, что он погиб в результате несчастного случая, занимаясь именно раскопками. И я могу спокойно себе представить, что раскопки – это вполне подходящее занятие для мягкого зимнего египетского климата. Он отнюдь не был первым несчастным, погребенным под тоннами песка. Недавно такая же судьба постигла некую няню-гувернантку и ее подопечного ребенка, которые пытались раскопать гнездо городской ласточки в яме в моем районе. Это занятие привело к обрушению огромной массы песка выступающего берега, где была прорыта траншея. Рабочие оставили яму, когда поняли, что там небезопасно. На следующий день мой садовник и я помогали выкапывать тела погибших, причем их местонахождение не было обнаружено до утра. Невеселая это была работа, скажу я вам.
Принимая во внимание загадочные совпадения в истории этой семьи, дело Регнолла выглядело очень странно. Сначала ребенок леди Регнолл, потом мисс Холмс, которую священники далекого африканского племени приняли за жрицу своего анимистического культа. Потом мы поняли, что эта вера происходит из Древнего Египта, то был культ Исиды и Гора. Потом эти люди попытались похитить женщину, и лишь благодаря моему случайному вмешательству этого не произошло. Позднее, после замужества, когда рассудок покинул ее, священники возобновили свои попытки, на этот раз в Египте. Это им удалось. В конце концов мы нашли ее в Центральной Африке, где женщина исполняла роль матери-богини Исиды и даже была одета в ее древнюю одежду. Затем пара вернулась домой, однако пожелала изучить нечто, что привело их обратно в Египет. Здесь они посвятили себя раскапыванию храма и обнаружили, что этот храм был построен в честь Исиды и Гора. А ведь именно с ними они так недавно были связаны…
Более того, это был еще не конец. Они добрались до святилища и обнаружили статую женщины и ребенка, который исчез, так же как и их ребенок. Произошла катастрофа, которая разрушила все и погребла лорда Регнолла так основательно, что никто больше его так и не увидел. Просто один мужчина исчез в могиле другого и остался там навеки.
Это была обычная катастрофа, хотя люди с предрассудками могут подумать, что богиня или какое-то ее воплощение совершила месть по отношению к человеку, который потревожил ее покой. И хотя я не помню, упоминал ли я об этом в книге «Дитя из слоновой кости», я все же вспомнил, что старый жрец племени кенда, Харут, однажды сказал, что уверен в том, что лорда Регнолла ждет страшная смерть. При наших обстоятельствах это было вполне возможно, но я спросил его почему. Он ответил: «Потому что он дотрагивался своими руками до того, что свято и не предназначено для мужчины», – и посмотрел при этом на леди Регнолл.
Я ответил, что все женщины священны, а он возразил, что вовсе так не думает, и сменил тему разговора.
Итак, Регнолл, женившийся на женщине, которая когда-то была последней жрицей Исиды на земле, был убит, в то время как сама жрица чудесным образом избежала смерти. Вся эта история была действительно странной. Бедный Регнолл! Он был настоящим английским джентльменом и одним из тех, кого при первой встрече я считал самым удачливым человеком, которого когда-либо встречал. Он был одаренной личностью и при всяком удобном случае использовал любое преимущество своего тела, разума и социального статуса. Однако и это не причина его смерти. При жизни он был хорошим другом и товарищем, и никто не мог бы пожелать лучшей эпитафии в мире, где все очень быстро покрывается тленом забытья.
Итак, что я должен был делать? По правде говоря, мне не хотелось бы вновь открывать эту страницу прошлого или выслушивать болезненные воспоминания из уст несчастной женщины, лишившейся мужа и ребенка. Кроме того, она была очаровательной женщиной, без сомнения, такой же и осталась – я никогда не встречал другого столь же милейшего создания, – так вот, что-то было в леди Регнолл, что тревожило меня. Она не была похожа на других женщин. Конечно, вы скажете, что похожих женщин не существует, но в ее случае ее непохожесть, если можно так сказать, была как-то уж очень заметна. Как будто она пришла из другого века или даже из другого мира и искусственно была облачена в наши одежды. Я почувствовал это с первого взгляда на нее; с момента прочтения ее письма эти ощущения вернулись ко мне с удвоенной силой.
Для меня она имела определенную привлекательность, причем не ту, что обычно имеется в виду. Любопытно бывает подчас обнаружить, что ничего не знаешь о человеке, к которому сильно привязан, так же как если действительно знаешь о чем-то, сокрытом за тонкой, но непроницаемой дверью. Если так, я не хотел бы открывать эту дверь, потому что, кто знает, что ждет меня за ней? Интимный разговор с женщиной, с которой было пережито немало странных событий, не способствовал открыванию той двери…
Кроме того, некоторое время назад я решил не водить дружбу с женщинами, полными загадок, а прожить остаток своих дней среди мужчин, у которых мало тайн, и чьи мысли почти всегда ясны, а поступки часто предсказуемы.
Еще была проблема с тадуки. Ну, здесь я был уверен и решителен. Никакая земная сила не заставит меня снова иметь дело с этой травой. Конечно, я помнил слова леди Регнолл, что мне придется это сделать, если она пожелает. Но именно здесь леди ошибалась. Впрочем, было бы невежливо отклонять ее приглашение, особенно теперь, когда ее преследуют несчастья.
К тому же я когда-то пообещал, что в случае беды всегда приду ей на помощь, ей стоит только позвать меня. Нет, я должен ехать. Но если слово «тадуки» будет произнесено хотя бы один раз, я снова немедленно покину ее. Без сомнения, этого не должно случиться, думаю, она все забыла.
В конце концов я решил не писать ей длинных писем и послал телеграмму о том, что если ей будет удобно, я приеду в следующую субботу вечером. И добавил, что должен вернуться домой во вторник после полудня, потому что ждал в тот день гостей. Это было чистой правдой, поскольку была середина ноября и я планировал поохотиться в своих лесах в среду утром. Однажды заведенный порядок не хотелось менять.
Я получил ответ: «Жду с удовольствием и надеюсь, что вы погостите подольше».
Около шести вечера в назначенный день я в экипаже, запряженном парой прекрасных лошадей, въехал в ворота замка Регнолл и остановился возле парадного подъезда. Открылись двери, явив взору зал в отблесках каминного огня и света ламп. Кучер спрыгнул с козел, двое лакеев подошли ко мне, чтобы помочь выйти из экипажа и вынести мой багаж. Он состоял, насколько я помню, из сумки с моей одеждой и книги в желтой обложке[21].
Один из них взял сумку, другому пришлось довольствоваться книгой, что заставило меня пожалеть, что я не взял еще и чемодан, хотя бы для вида. И вот с таким грузом парочка сопроводила меня по ступеням наверх и сдала дворецкому, который окинул меня критическим взглядом. Я тоже посмотрел на него и отметил, что это был отличный представитель своей профессии. Его гордое присутствие несколько смутило меня, отчего я нервно заметил, когда он стал помогать мне снимать пальто, что в мой последний приезд здесь проживал другой дворецкий.
– Неужели, сэр, – сказал он, – и как же его звали?
– Сэвидж, – ответил я.
– И где же он проживает теперь, сэр?
– Внутри змеи, – ответил я. – Во всяком случае, был там, хотя, надеюсь, что сейчас он служит своему хозяину на Небесах.
Мужчина отшатнулся, отчего более резко потянул с меня пальто. Потом кашлянул, почесал свою лысую голову, огляделся и попытался взять себя в руки.
– В самом деле, сэр! Я пришел сюда после смерти последнего хозяина, когда хозяйка сменила всю прислугу. Альфред, покажи джентльмену дорогу в покои хозяйки, а ты, Уильям, отнеси его вещи в голубую комнату. Ее милость желает видеть вас прямо сейчас, до приезда остальных.
По большой лестнице я поднялся в ту часть замка, которой не знал, гадая при этом, кто же эти «остальные». Я почти могу поклясться, что тень Сэвиджа сопровождала меня, я мог чувствовать его присутствие.
Вскоре дверь отворилась, и я вошел в полутемную комнату, наполненную ароматом цветов. Около камина, рядом с чайным столиком, стояла женщина в темном платье с блестящими светлыми волосами. Она обернулась, и я увидел ожерелье из красных камней на ее шее, а на груди красный цветок. Не было сомнений, это была леди Регнолл, впрочем, я был немного изумлен. Я ожидал увидеть строгую постаревшую леди, которую мог бы узнать лишь по цвету глаз и голосу, возможно, и по ее манерам. Но вот беда – я не заметил никаких изменений в свете ламп. Может быть, некоторая полнота фигуры, но это было даже на пользу. Может быть, немного больше важности в облике, может быть, она стала выше и величественней – вот и все.
Эти мысли мелькнули в моей голове, как краткая вспышка молнии. Затем, прошептав: «Мистер Квотермейн, ваша милость», лакей закрыл дверь, и она увидела меня.
Она быстро подошла ко мне, протягивая руки, и воскликнула своим прежним медоточивым голосом:
– Мой дорогой друг! – остановилась и добавила: – Вы ничуть не изменились.
– Ископаемые хорошо сохраняются, – улыбнулся я. – Думаю, наши мысли друг о друге схожи.
– Жестоко называть меня ископаемым, я лишь приближаюсь к этой стадии. Как я рада видеть вас, как я рада! – и она подала мне обе руки.
По правде говоря, я почувствовал желание поцеловать ее и очень удивился бы, если бы она рассердилась. Я не уверен, что она не почувствовала то же самое. В любом случае после небольшой паузы она отпустила мои руки и рассмеялась. Затем произнесла:
– Я должна сразу же сказать вам. Случилось нечто ужасное…
Внезапно мне показалось, что она забыла, что уже написала мне в письме подробности смерти своего мужа. Такое происходит с людьми, которые однажды теряли память. Я постарался выглядеть естественно, насколько это возможно, вздохнул и стал ждать.
– Не все так плохо, – внезапно сказала она, слегка качнув головой, словно прочитала мои мысли. Она умела это делать с нашей первой встречи. – Мы можем поговорить об этом позднее. Я надеюсь, что у нас будет пара дней, а сейчас должны появиться Эттерби-Смиты, да, через полчаса. Их пятеро!
– Эттерби-Смиты! – воскликнул я почему-то упавшим голосом. – Кто это такие?
– Двоюродные братья и сестры Джорджа, его ближайшие родственники. Они думают, что Джордж должен был оставить все им. Но он не сделал этого, потому что на дух не выносил их. Вы знаете, его состояние неделимо, и он все оставил мне. Теперь вся семья вообразила, что я должна все оставить им, как, возможно, я и поступила бы, не реши они приехать сейчас.
– Почему вы не отказали им сразу? – спросил я.
– Потому что не смогла, – ответила она, слегка топнув ногой. – А иначе, неужели вы думаете, они приехали бы сюда? Они достаточно умны. Телеграфировали после ланча, что сели на поезд, на котором должны приехать, но никакого адреса, кроме Чаринг-Кросс. Я подумывала уехать в дом на Беркли-сквер, но сейчас это невозможно. Вдобавок я не знаю, как удержать вас. Какая досада!
– Может быть, они очень милы, – высказал я робкое предположение.
– Милы! Подождите, пока вы не увидите их. Даже если бы они были ангелами, я не хотела бы видеть их здесь. Однако какая я, наверное, эгоистка! Проходите и давайте выпьем чаю. Вы могли бы оставаться здесь подольше, если бы не Эттерби-Смиты, которые хуже, чем все племена кенда, вместе взятые. Как бы я хотела, чтобы вернулся старый Харут! Я согласилась бы увидеть его еще раз, а вы? – Внезапно на ее лице промелькнуло хорошо мне знакомое таинственное выражение.
– Возможно, да, – ответил я в сомнении, – но я должен уехать обратно первым поездом во вторник, в восемь утра. Я уже договорился.
– В таком случае Эттерби-Смиты уедут в понедельник, даже если мне придется выставить их отсюда. В любом случае у нас будет целый вечер. Одну минуту, – она позвонила в колокольчик.
Появился лакей, так внезапно, как будто подслушивал за дверью.
– Альфред, – обратилась она к нему, – скажи Моксли (я полагаю, так звали дворецкого), что, когда прибудут мистер и миссис Эттерби-Смит, обе мисс Смит и молодой Эттерби-Смит, им надо показать их комнаты. Скажи повару, что обед должен быть готов к половине восьмого. Если мистер и миссис Скруп прибудут раньше, попроси Моксли передать им мои извинения и скажи, что я опоздаю, поскольку занята церковными делами. Ты все понял?
– Да, моя госпожа, – ответил Альфред и исчез.
– Он наверняка ничего не понял, – заметила леди Регнолл, – но он никогда не приведет Эттерби-Смитов сюда, иначе ему придется покинуть этот дом вслед за ними в понедельник утром, поэтому мне все равно. Как-то это сработает. А теперь садитесь у огня, и давайте поговорим. У нас есть час и двадцать минут. Вы можете курить, если хотите. Я научилась этому в Египте, – она взяла сигарету с камина и зажгла ее.
Час и двадцать минут пролетели как одно мгновение. Нам столько надо было поведать друг другу, что мы так и не дошли до сути. Например, я начал рассказывать ей про копи царя Соломона, а это была длинная история. А она, в свою очередь, стала рассказывать, что случилось после того, как мы расстались на берегах Красного моря. Прошел час и пятнадцать минут, когда внезапно отворилась дверь, и Альфред испуганно произнес:
– Мистер и миссис Эттерби-Смит, их дочери, мисс Смит и мистер Эттерби-Смит-младший.
Он поймал на себе взгляд хозяйки и поспешно ретировался.
Я оглянулся и почувствовал – как было бы хорошо, если бы существовала другая дверь. Однако дверной проем был единственный, и он был занят. Впереди стоял мистер Эттерби-Смит-старший, подобно быку, возглавляющему стадо. В самом деле, он был похож на быка-производителя. У него было красное массивное лицо, обрамленное, словно двумя рожками, пучками рыжих волос. Этот человек бросил на меня тяжелый взгляд.
Следом шла миссис Эттерби-Смит – воплощенная мать семейства. Казалось, она измерялась акрами; черный шелк внизу, белая кожа вверху, по ней, словно острова в океане, плыли большие зеленые камни. Ее лицо, хотя и глупое, было очень строгим и напугало меня.
Затем двигалось потомство этой дружелюбной парочки. Все отпрыски семейства были высокие, худые и такие же рыжеволосые. Девушки, чей возраст я не смог определить, были похожи друг на друга, что неудивительно, так как они были двойняшками. Их бледно-голубые глаза напомнили мне рыб. Обе они были одеты в зеленые платья и носили на шеях топазовые ожерелья. У молодого человека, которому на вид было около двадцати двух лет, тоже были бледно-голубые глаза, в одном из которых торчал монокль. Однако его волосы были слегка рыжеватые, как будто их обесцветили, расчесали на пробор и распрямили с помощью масла.
Некоторое время стояла тишина, которая произвела на меня гнетущее впечатление. Затем громким и напыщенным голосом мистер Эттерби-Смит произнес:
– Добрый день, дорогая Луна! Поскольку лакей сказал мне, что ты еще не ушла переодеваться, я настоял на том, чтобы он проводил нас сюда для небольшой приватной беседы, поскольку мы не виделись много лет. Мы хотели бы лично выразить свои соболезнования и скорбь по поводу большой потери.
– Спасибо вам, – ответила леди Регнолл, – но, по-моему, в нашей переписке мы уже обсудили, что это болезненная для меня тема.
– Я боюсь, что мы прервали приятный вечер с сигаретами, Томас, – холодно сказала миссис Эттерби-Смит, вдохнув воздух, как испуганное животное, в то время как все пятеро уставились на сигарету, которую леди Регнолл держала между пальцев.
– Да, – ответила леди Регнолл. – Не хотите ли присоединиться? Мистер Квотермейн, пожалуйста, передайте коробку миссис Смит.
Я автоматически подчинился, предложив коробку леди, которая испепелила меня взглядом, а затем каждому, кто стоял сзади. К моему облегчению, молодой человек взял одну.
– Арчибальд, – обратилась к нему мать, – ты же не хочешь, чтобы платья твоих сестер пропахли табаком еще до обеда?
Арчибальд хихикнул и ответил:
– Мам, еще немного дыма не особо повлияет на воздух в этой комнате.
– Ты прав, мой дорогой, – сказала мать и немедленно изобразила приступ астмы.
Не уверен, что могу вспомнить все, что случилось после этого. Я пробормотал что-то про то, что мне надо идти переодеваться к обеду, и поспешил удалиться из комнаты. Я бродил в поисках того, кто проводил бы меня в мою комнату, где я переждал бы время до звонка к обеду. Но даже и этот побег не прошел без неприятностей, поскольку в спешке я наступил на платье одной из сестер, уж не помню, Долли или Полли (их звали Долли и Полли). Раздался ужасный треск, как будто платье порвалось напополам. Арчибальд снова хихикнул, а Долли и Полли закричали в один голос, потому что они все делали одновременно:
– Какой неуклюжий!
В довершение моих несчастий я забыл дорогу наверх и блуждал туда-сюда, как потерянный ягненок, пока не остановился перед дверью из зеленого сукна, которая мне кое-что смутно напомнила. Я стоял и глазел на нее, пока четко не представил себе картину, в которой я следую вдоль шнурка колокольчика через эту дверь, когда ищу ныне покойного мистера Сэвиджа по какому-то срочному делу. Да, не было никаких сомнений, это тот самый шнурок, и странно, что мне пришлось снова обратиться к нему. Любопытство заставило меня открыть дверь, чтобы убедиться, что память меня не подводит и та ли это дверь. В следующий момент я пожалел об этом, потому что оказался в объятиях не то Долли, не то Полли.
– О! – вскрикнула она. – Я тут как раз привожу в порядок платье.
«А я – мысли», – усмехнулся я про себя и робко спросил, не знает ли она дорогу вниз.
Она не знала, и никто из нас не знал, пока наконец мы не встретили миссис Эттерби-Смит, которая искала дочь.
Если бы я оказался вором, она не отнеслась бы ко мне с большим подозрением. Но, как бы то ни было, она знала дорогу вниз. К моей радости, я нашел там моего старого друга, Скрупа и его супругу, оба они стали крепче и старше, но остались такими же веселыми, как и раньше. После этого семья Смитов была уже мне не страшна.
Кроме того, здесь был пастор местного прихода доктор Джеффрис и его невероятно молодая жена, на которой он женился совсем недавно. Это было маленькое создание с пышными волосами, круглыми глазками и веселыми дерзкими манерами. Вместе они выглядели как индюк и цыпленок. Я помнил доктора очень хорошо, и, к моему удивлению, он тоже помнил меня, возможно, потому, что леди Регнолл, в спешке пригласив его встретить семью Смит, упомянула, что я тоже буду. Наконец, тут был помощник приходского священника, темноволосый молодой человек, который, судя по его виду, находился в размышлениях над секретами времени и вечности, хотя, возможно, просто думал о предстоящем обеде или завтрашней службе.
Итак, мы стояли в хорошо знакомой нам гостиной, где я впервые познакомился с Харутом и Марутом, там же впервые появилась очаровательная мисс Холмс, которая впоследствии стала леди Регнолл. Скрупы, Джеффрис и я оказались в одной группе, Эттерби-Смиты – в другой, словно армии, готовые атаковать друг друга. Между нами, рефлексирующий и нерешительный, стоял помощник приходского священника, который соблюдал нейтралитет.
Вскоре, извинившись за опоздание, появилась леди Регнолл. По какой-то причине, известной только ей самой, она сменила платье, как будто это был важный званый вечер. Я не берусь утверждать, что это было – просто ли озорство и желание показать бриллианты, которые миссис Эттерби-Смит никогда не получит, или что-то большее? Во всяком случае, она стояла, яркая и красивая, и улыбалась, глядя на нас.
Подошло время обеда, и я во второй раз прошел в большой зал в компании леди Регнолл. Доктор Джеффрис шел вместе с миссис Смит, папа Смит сопровождал миссис Джеффрис, которая была похожа на греческую девушку, шествующую на обед в сопровождении Минотавра. Скруп шел с одной из мисс Смит, одетой в розовое боа, а Арчибальд вел миссис Скруп, которая строила рожицы через его плечо.
– Вы выглядите такой красивой и величественной, – прошептал я леди Регнолл, пока мы следовали за остальными на безопасном расстоянии.
– Я рада, – ответила она, – я имею в виду красоту. А насчет величественности, эта ужасная женщина все время пишет мне про бриллианты Регнолла, поэтому я подумала, что надо бы их надеть, чтобы она увидела их в первый и последний раз в жизни. Знаете, я не надевала их с тех пор, как Джордж и я появлялись при дворе. И должна сказать, что никогда не надену их снова.
Я пристально взглянул на нее и, засмеявшись, заметил, что она ужасно вредная.
– Думаю, вы правы, – ответила она, – но я ненавижу этих людей, которые столь напыщенны и грубы, и к тому же они испортили мне вечер. Я хотела выйти в платье, которое надевала, будучи Исидой на земле кенда. Я отнесла его наверх, и вы увидите меня в нем до вашего отъезда. Однако я подумала, что они сочтут меня сумасшедшей, поэтому не надела. Доктор Джеффрис, вы не прочитаете молитву?
Это был один из самых приятных обедов, на которых я когда-либо присутствовал. Я сидел между хозяйкой и миссис Скруп, остальные были далеки от нашего разговора. Арчибальд неожиданно оказался неразговорчивым, Скруп на другой стороне стола развлекал невинную мисс Смит в розовом боа выдуманными историями об Африке. Нас с леди Регнолл никто не тревожил. Однажды так уже случилось за этим столом.
– Разве не странно, что мы снова сидим за этим столом спустя столько лет? За одним лишь исключением – вы сидите на месте моей бедной матери. Когда тот ученый джентльмен убедил меня, что вы не просто живы, но находитесь в Англии, в то время как я считала вас погибшим, я была готова обнять его.
Я раздумывал над ответом, но ничего не сказал, хотя она, как обычно, прочитала мои мысли, потому что я увидел ее улыбку.
– Правда в том, – продолжала она, – что я единственный ребенок в семье, у меня нет настоящих друзей, хотя, конечно, вы знаете, – и посмотрела на украшения на груди, – у меня много знакомых.
– И поклонников, – закончил я за нее.
– Да, – ответила она, вспыхнув, – как у Пенелопы. Однако ни один из них не даст двух пенсов за меня, равно как и я за них. Правда в том, мистер Квотермейн, что никто и ничто не интересует меня, кроме места на кладбище вон там и египетских древностей.
– Да, вы понесли тяжелую утрату, – пробормотал я, глядя в другую сторону.
– Очень тяжелую, она опустошила мою жизнь. Хотя я не жалуюсь, потому что видела много добра в этой жизни. И не совсем правда, что ничего не интересует меня. Мне интересен Египет, хотя после того, что там случилось, я не думаю, что могу вернуться туда. Меня интересует вся Африка, – и, понизив голос, она добавила: – Я говорю так потому, что знаю, что вы правильно меня поймете, вы интересны мне, так было всегда с нашей первой встречи.
– Я? – воскликнул я, рассматривая свое собственное отражение в серебряном блюде, где выглядел более непривлекательно, чем обычно. – Вы очень добры, говоря это, но я не понимаю, почему именно я удостоился вашего внимания. Вы видели меня очень мало, леди Регнолл, кроме того долгого путешествия через пустыню, когда мы мало говорили. Вы тогда были помолвлены.
– Я знаю. И это самое странное, потому что я чувствую, что знаю вас долгие годы и знаю абсолютно все, что только может один человек знать о другом. Конечно, я знаю многое о вашей жизни от Харута и Джорджа.
– Харут был великим лгуном! – воскликнул я взволнованно.
– В самом деле? Мне казалось, что он всегда был болезненно правдив, хотя я понятия не имею, как он узнавал правду. В любом случае, – продолжала она, чуть подумав, – не думайте, что я знаю худшее о вас, потому что остальные так думали. Женщины, которые кажутся разными, имеют нечто общее. Если одной или двум из них нравится мужчина, остальным он тоже нравится, потому что нечто в нем самом обращено к универсальному женскому инстинкту. Я думаю, что мужчины другие в этом отношении.
– Может быть, потому что они более снисходительны и милосердны, – предположил я, – или просто они любят тех, кто любит их.
Она снова мило засмеялась и сказала:
– Однако все эти реплики не относятся к нам с вами. Мне кажется, что говорила вам об этом, когда под сенью кедра в стране кенда вы боялись, как бы я не схватила простуду, и это очень странно, но вы – другой, рядом с вами что-то во мне меняется.
– Вам повезло, – пробормотал я, все еще глядя в серебряное блюдо.
Она снова засмеялась.
– Вы помните траву тадуки? – спросила она. – У меня достаточно много ее наверху, и не так давно я немного вдохнула, совсем немного, ведь вы знаете, как это опасно.
– И что вы видели?
– Ничего существенного. Вопрос в том, что мы оба увидим?
– Ничего, – ответил я твердо. – Никакая сила не заставит меня попробовать это дьявольское зелье снова.
– Кроме меня, – проговорила она еле слышно. – Нет, не думайте, что вы покинете этот дом так скоро. Вы попросту не сможете уехать, в воскресенье нет поездов. Кроме того, вы не сделаете этого, если я вас не попрошу.
– В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть[22], – процитировал я, непоколебимый, как скала.
– Неужели? Тогда почему я стольких уже поймала?
В этот момент бык Башана[23], я имею в виду Смита, начал что-то мычать хозяйке дома с другого конца стола, и наш разговор прекратился.
– Мой друг, – зашептал мне в ухо Скруп, пока мы ждали, чтобы женщины вышли, – мне кажется, что вы снова думаете о женитьбе. Что ж, выбор не такой плохой, – и он уставился на прекрасный силуэт леди Регнолл, которая исчезла за дверями вслед за остальными.
– Заткнитесь, идиот! – ответил я возмущенно.
– Почему? – невинно спросил он. – Женитьба достойна уважения, особенно если она последняя в жизни. Я помню, как говорил вам нечто много лет назад за этим же столом, когда вы только познакомились с ее светлостью. Но тогда рядом был Джордж, а теперь его нет.
Я не удостоил его ответом, схватил свой стакан и уселся между каноником и быком Башана.
Глава III Аллан дает слово
Мистер Эттерби-Смит при знакомстве оказался даже хуже, чем могла бы нарисовать самая недружелюбная фантазия. Это был джентльмен, в известной степени происходивший из хорошей семьи. Его настоящее имя было Эттерби, а добавка «Смит» сделана для того, чтобы защитить скромное состояние, доставшееся ему именно на этом условии. Его родство с лордом Регноллом было не такое близкое по линии матери. Что же касается прочего, то он жил на каком-то морском курорте на южном побережье и мнил себя спортсменом, потому что как-то воспользовался случаем и взял в аренду участок для охоты в шотландских лесах, где водились олени.
Очевидно, всю свою жизнь он ничего не делал и не заработал ни одного шиллинга, и детей своих воспитывал в том же духе. Главной чертой его характера было невыносимое тщеславие, которое часто характеризует мужчин, которые ничего из себя не представляют. Кроме того, он носился с идеей о своих правах, которые включают в себя, как я наконец-то понял, возвращение собственности Регноллов и богатства. Не думаю, что стоит говорить о нем что-то еще, кроме того, что он наскучил мне невероятно, в особенности после того, как он пропустил за накрахмаленный воротник сюртука четвертый стакан портвейна.
Однако его сын был еще хуже, потому что задавал бесконечные вопросы, и, когда я наконец был вынужден умолкнуть, прочел мне лекцию об охоте. Да, этот юнец, который жил в Сандхерсте, учил меня, Аллана Квотермейна, как убивать слонов. Он, который никогда не видел слонов, за исключением тех, которых он кормил сдобными булочками с изюмом в зоопарке! Наконец, мистер Смит, который, к великому изумлению Скрупа, оккупировал дальний конец стола и возомнил себя хозяином, подал сигнал, и мы отправились в гостиную.
Я не знаю, что случилось, но атмосфера начала сгущаться. Массивная миссис Смит села в кресло, обмахиваясь веером, и тогда варварские украшения, которые она надела, звенели на ее толстой руке. По обеим сторонам своей матери, бледные и нерешительные, стояли Полли и Долли, каждая из которых изображала, что читает книгу. Эта троица напомнила мне герб, который я как-то видел в ночном кошмаре, – этакая британская матрона с сопровождающими ее Честностью и Добродетелью. Напротив них, с другой стороны от камина, стояла, очевидно, очень сердитая леди Регнолл.
– Правильно ли я понимаю, Луна, – услышал я звучный голос миссис Эттерби-Смит, едва вошел в комнату, – что ты действительно исполняла роль небесной богини среди этих дикарей и была одета в прозрачный халат?
– Да, миссис Эттерби-Смит, – ответила леди Регнолл, – и еще в ночной колпак из перьев. Я надену его для вас, если это вас не смутит. Или, возможно, одна из ваших дочерей…
– О! – воскликнули обе молодые леди. – Пожалуйста, тише. Сюда идут джентльмены.
После этого установилась тяжелая тишина, нарушаемая только сдержанным хихиканьем миссис Скруп, стоявшей позади всех, и пышноволосой женой каноника, которая находила это смешным. Слава богу, сие продолжалось недолго – до того момента, когда миссис Эттерби-Смит, изучая меня некоторое время своим холодным взглядом, величественно поднялась и поспешно отправилась в свои апартаменты готовиться ко сну, сопровождаемая своими отпрысками.
Некоторое время спустя я узнал от миссис Скруп, что леди Регнолл развлекалась, при любой возможности упоминая обо мне, ради ее родственников, которые в результате покинули комнату с убеждением, что я был вождем местного племени где-то в Центральной Африке, где обитал в пышных облачениях и драгоценностях, приличествующих моему статусу. Нет ничего удивительного, что миссис Эттерби-Смит сочла за лучшее увести своих «милых девочек», как она называла их, чтобы избавить от моего дурного влияния.
Затем ушли Скрупы, пригласив меня на ланч с ними на следующий день. Я второпях принял это приглашение, хотя слышал, как леди Регнолл прошептала: «Эх вы!» Следом за ними ушли священник и его жена, затем помощник приходского священника, которые были, как сами сказали, «ранними птичками со множеством забот». После этого леди Регнолл отплатила мне тем, что отправилась спать, проинструктировав Моксли проводить нас в курительную комнату, «где, – прошептала она, пожелав доброй ночи, – я надеюсь, вы получите удовольствие».
Я скрою, как прошел остаток ночи. Я просидел час и сорок пять минут в компании этой ужасной парочки, меня то поучали, то расспрашивали. В конце концов я не смог больше выдержать и, делая вид, что ищу себе новые запасы виски и содовой, выскользнул за дверь и поднялся наверх.
Я намеренно прибыл на завтрак поздно и оценил свою мудрость, потому что леди Регнолл была уже наверху, страдая от «головной боли». Мистер Эттерби-Смит страдал от того же, но внизу, и это был результат смешивания портвейна, шампанского и виски, а его семья, казалось, страдала от своего характера. Выяснив, что они собираются пойти в парковую часовню, я удалился на одну-две мили и пришел прямиком к Скрупам, где приятно провел время, оставаясь там до пяти часов вечера.
Я вернулся в замок к чаю, где нашел леди Регнолл настолько раздраженной, что снова вернулся в церковь, к шестичасовой службе, и времени хватило только для того, чтобы переодеться к обеду. Мне жестоко отплатили тем, что пришлось провести время с миссис Эттерби-Смит. Что это был за обед! Большую часть времени мы просидели в торжественной тишине, прерываемой лишь просьбой передать соль. Но вот я заметил с удовлетворением, что ситуация немного разрядилась на другом конце стола, где Эттерби-Смит выпил слишком много вина. Я услышал, как он говорит:
– Мы надеялись провести несколько дней с тобой, моя дорогая Луна. Но ты говоришь, что твои обязательства делают это невозможным, – он замолчал, чтобы отпить немного портвейна, а леди Регнолл ответила невпопад:
– Я убеждена, что нет лучше десятичасового поезда, и я заказала экипаж к половине девятого, ведь это не очень рано.
– Если твои обязательства делают это невозможным, – повторил мистер Эттерби-Смит, – мы хотели бы попросить тебя о небольшом семейном совещании сегодня вечером.
И все обернулись и уставились на меня.
– Конечно, – ответила леди Регнолл, – чем раньше, тем быстрее мы уйдем спать. Мистер Квотермейн, я думаю, извинит нас, не так ли? В музее включен свет для вас, мистер Квотермейн. Вы можете найти там разные египетские штучки, которые несомненно, вас заинтересуют.
– О, с удовольствием! – пробормотал я и удалился.
Я провел два очень поучительных часа в музее, изучая различные египетские достопримечательности, в том числе пару мумий, которые несколько испугали меня. Они так были похожи на трупы в своих одеяниях! Одна из них была женская, ее звали «Певица Амона», насколько я помню. Я подумал о том, где и какие песни она пела. Затем я подошел к стеклянному ящику, который привлек мое внимание, потому что на нем была наклейка с надписью «Два папируса, подаренные леди Регнолл жрецами племени кенда в Африке». Внутри лежали развернутые папирусы, а под каждым – его перевод. Номер один, который был датирован «первым годом Пероа», оказался официальным представлением царской жрицы Амады в качестве предсказательницы в храме Исиды и Гора, который тоже назывался Амада и находился на восточном берегу Нила выше Фив. Очевидно, это был тот самый храм, о котором мне писала леди Регнолл, где ее муж погиб в результате несчастного случая. Это совпадение заставило меня задуматься, насколько я помню, каким образом сей документ попал в ее руки и какую миссию он сейчас исполняет.
Другой документ, или скорее его перевод, содержал наиболее полный курс сведений для человека, который собирался ознакомиться с личной неприкосновенностью той же самой царской дамы Амады, которая, очевидно, благодаря своей службе была обречена на вечный целибат как дева-весталка. Я не помню точно все пункты этого перечня наставлений, но знаю, что он призывал к мести матери Исиды, Матери Луны, и младенца Гора всем, кто надругается над святыней. Там было столько слов о жестокой смерти «далеко от его собственной страны, где впервые он увидел Ра» (то есть солнце) и о дальнейших духовных страданиях.
У меня появилась идея, что этот документ был создан в тяжелые времена, чтобы защитить сию чрезвычайно священную особу, предсказательницу Исиды, чей культ, как я узнал впоследствии, начал свою жизнь в Египте, от ужасной опасности, которая, возможно, грозила от рук чужестранца. Мне даже пришло на ум, что эта принцесса, которая, несомненно, была наследницей царей, оказалась помещенной в самое священное место именно по этой причине. Люди, которые страшатся собственных желаний, часто боятся навлечь на себя проклятия наиболее чтимых богов, чтобы достичь своих целей, даже если это не их боги.
Такие выводы я сделал, прочитав этот любопытный древний документ. Я очень сожалею, что не могу привести его полностью, поскольку не позаботился о том, чтобы сделать копию.
Могу добавить, и это мне показалось очень странным, что тот и другой документы, имеющие отношение к определенному храму в Египте, попали в руки леди Регнолл две тысячи лет спустя на огромном расстоянии от Африки и что впоследствии ее муж был убит в ее присутствии, раскапывая именно тот храм, к которому относились документы. Каким образом они были оттуда взяты? Кроме того, представляется достаточно странным, что леди Регнолл в свое время сама исполняла роль Исиды в усыпальнице, откуда были родом эти два папируса, а один из ее официальных титулов был «Предсказательница и Мать Луны», чей символ она носила на груди.
Хотя я давно уже знал о том, что в мире существует много всего, неподвластного нашему пониманию, могу сказать честно и уверенно, что я человек без предрассудков. Но могу признаться, что эти бумаги и обстоятельства, с ними связанные, заставили меня насторожиться и даже пожалеть, что я приехал в замок Регнолл.
Итак, Эттерби-Смиты очень эффектно положили конец всяческим разговорам на эту тему, и даже если леди Регнолл удалось выпроводить их на утренний поезд, в чем я сильно сомневался, у нас оставался единственный день, когда было бы нетрудно предотвратить беседы на подобные темы.
Я размышлял об этом, стоя лицом к лицу с этими мумиями, пока наконец не увидел, что Певица Амона, на которой была надета яркая золотая маска в форме звезды, смотрит на меня своими продолговатыми нарисованными глазами. К моему удивлению, в них сияла сардоническая улыбка, которая растянулась во весь рот.
«Вот о чем ты думаешь, – казалось, говорила эта улыбка, – наверное, о том, что можно избежать судьбы. Подожди и увидишь, мой друг. Подожди и увидишь!»
– Во всяком случае, не в этой комнате! – громко ответил я и в спешке выбежал к переходу, который вел к главной лестнице.
Не достигнув его конца, я увидел замечательное зрелище, которое заставило меня спрятаться за угол. Семья Эттерби-Смитов отправлялась спать. Они шли вверх друг за другом по главной лестнице, и каждый из них нес свечу. Папа шел впереди, а полный надежд молодой человек замыкал шествие. Их лица источали угрозу, даже близнецы выглядели как сердитые ягнята, но что-то на их лицах сказало мне, что недавно они испытали проигрыш и понесли невосполнимую утрату. Вскоре они исчезли на лестнице и из моей жизни навсегда.
Когда они ушли, я возобновил свой путь и пошел прямиком к леди Регнолл. Если ее гостей можно было назвать сердитыми, то о ней следовало сказать: она была в ярости, почти кипела от негодования. Она повернулась ко мне и почти закричала:
– Вы негодяй! Вы убежали и оставили меня на весь день с этими ужасными людьми. Да, они никогда сюда не вернутся, потому что я сказала, что прикажу слугам захлопнуть перед ними двери, если они появятся вновь.
Не зная, что сказать, я пробормотал, что провел весьма поучительный вечер в музее, и это, казалось, разозлило ее еще больше. Она быстро исчезла, даже не сказав «спокойной ночи», и оставила меня одного. Через некоторое время я узнал, что Эттерби-Смиты невозмутимо информировали леди Регнолл, что она украла их собственность, и потребовали, чтобы она «по справедливости» вернула все, чем владеет, им, а кроме того, предоставила им денежное обеспечение в размере 4000 фунтов в год. Вот чего я не знал, так это того, что она им ответила.
На следующий день Альфред пришел ко мне и принес записку от своей госпожи. Я ожидал, что она содержит приказ для меня покинуть ее дом вместе с другими гостями. Однако содержание записки было совершенно иным.
«Мой дорогой друг, – было написано в ней, – мне ужасно стыдно за свое поведение, и я прошу у Вас прощения за мою грубость прошлым вечером. Если бы Вы знали, что всему виной эти попрошайки, Вы бы извинили меня… Л.Р.
P.S. Я приказала подать завтрак к 10 утра. Не приходите раньше, ради Вас самого».
Я почувствовал явное облегчение, потому что думал, что она разозлилась на меня безо всякой причины, поэтому поднялся, оделся и сел, чтобы написать несколько писем. Занимаясь делами, я услышал шум подъехавшего экипажа под окном и увидел семью Эттерби-Смитов, покидающую замок. Сам Смит, казалось, до сих пор пребывал в ярости, остальные, кажется, были расстроены. Я услышал, как жена сказала мужу:
– Успокойся, мой дорогой. Помни, что Провидение знает, что лучше для нас и что выскочки всегда несправедливы и неблагодарны.
Ее супруг ответил на это:
– Придержи свой проклятый язык! – и начал браниться на слуг из-за багажа.
Итак, они наконец-то уехали. Глядя через дверь экипажа, мистер Смит увидел меня, выглядывающего из окна. Я махнул ему рукой на прощание. В ответ на мой вежливый жест он потряс кулаком. Я так и не понял, относилось ли это лично ко мне или ко всем обитателям замка.
Убедившись в том, что они уехали окончательно и уже не вернутся, чтобы забрать что-то забытое, я спустился и с удивлением застал бурное совещание между дворецким, Моксли и его подчиненными, усиленное горничной леди Регнолл и двумя девушками-служанками.
– Чаевые! – воскликнул Моксли, и это было самое прекрасное слово в потоке его брани. – Ими и не пахло! Вот его чаевые: «Протри глаза, ты, жирная посудомойка» – вот как он назвал дворецкого! Мне протереть глаза, вы представляете, Анна?! Не Альфреду или Уильяму, а мне! И это потому, что он упал, запутавшись в своем пледе. Джентльмен! Где уж!.. Я бы сказал – боров с потомством.
– У кабанов не бывает потомства, мистер Моксли, – заметила Анна.
– Милая девушка, много вы знаете! Чтобы у боровов не было бы потомства! Однако он не пустит свои грязные корни в этом замке, мне удалось услышать пару слов, которыми обмолвились они с миледи прошлой ночью. Он прямо сказал, что она занимается любовью с этим коротышкой Квотермейном, который хочет только ее денег, делают они это не в первый раз, началось все еще в Африке. Этот джентльмен, запомни это, Анна, хотя и достаточно своеобразный, он мне нравится, кроме того, как говорит сторож Чарльз, он лучший стрелок во всем мире.
– И что она ответила на это? – спросила Анна.
– Что она ответила? Что она не ответила, вот в чем вопрос. Все выглядело так, словно вся мебель в комнате вылетела вслед за Смитами! Итак, услышав более, чем мне хотелось бы, я вышел с подносом, в следующую минуту они удалились, захватив ночники. Вот и все, вон звенит колокольчик миледи. Альфред не стой, открыв рот, иди и зажги плиту.
Итак, они исчезли, и я спустился. Я был возмущен, но рассмеялся. Без сомнения, леди Регнолл сошла с ума!
Десять минут спустя она прибыла в гостиную, размахивая яркой лентой, которая распространяла благоухание.
– Ради всего святого, что вы делаете?
– Очищаю дом, – ответила она, – в этом, конечно, нет необходимости, я думаю, что они незаразные, но эта церемония имеет скорее моральное значение – как ладан.
Она засмеялась и бросила смятую ленту в огонь, добавив:
– Если вы скажете еще хоть слово об этой семейке, я уйду из комнаты.
Думаю, что то был один из самых приятных завтраков, которые я только помню. Начнем с того, что мы были ужасно голодны, ведь события предыдущей ночи не позволили нам как следует поесть. Леди Регнолл вообще поклялась, что не ела ничего с субботы. Кроме того, нам было о чем поговорить. Мы беседовали весь день, в доме и на прогулке, когда гуляли в садах и парке вокруг дома, делая лишь короткие перерывы на отдых. Зайдя на задний двор, я оказался в том самом месте, где однажды спас леди Регнолл от Харута и Марута, мне кажется, что я даже не удержался и вскрикнул. Она спросила, что со мной. И мне пришлось рассказать эту историю, о которой к тому моменту она не ведала, поскольку Регнолл сохранил все в тайне.
Она внимательно выслушала меня, а потом сказала:
– Значит, я обязана вам еще больше. Хотя я не уверена, что меня хотели похитить. Если бы это случилось, Джордж, возможно, никогда не женился бы на мне и не встретился со мной вновь, и это было бы для него лучше всего.
– Почему? – спросил я. – Ведь вы были для него целым миром.
– Разве может какая-нибудь женщина быть всем для мужчины, мистер Квотермейн?
Я замешкался, ожидая дальнейшей атаки.
– Не отвечайте, – продолжала она, – это может занять много времени, и вы не сможете убедить меня, потому что я была на Востоке. Однако Джордж был всем для меня. Все, чего я желала, – это его благополучие, и я думаю, что он получил бы больше, если бы не женился на мне.
– Почему? – снова спросил я.
– Потому что я не принесла ему удачу, понимаете? Я не хочу снова вспоминать эту историю. Вы знаете ее. В конце концов, именно из-за меня он был убит в Египте.
– Или из-за богини Исиды, – бросил я нервно.
– Да, богиня Исида, роль, которую я играла в свое время, или что-то вроде этого. И он был убит в храме богини Исиды. И тот папирус, чей перевод вы прочитали в музее, был подарен мне на земле кенда, кажется, он пришел из того же храма. И как насчет Дитя из слоновой кости? Исида в храме, очевидно, держала его на руках, но мы нашли ее уже без ребенка. Предположим, что этот ребенок был тем самым, которому я приходилась стражем! Это могло бы быть, потому что папирус появился именно из того храма. Что вы думаете по этому поводу?
– Я ничего не думаю, – ответил я, – кроме того, что все это очень странно. Я даже не понимаю, что изображают Исида и дитя Гора. Это не просто образы, даже в Египте или на земле кенда. Должно быть что-то еще.
– О да, Исида же была общей матерью вселенной, самой природой с ее властью, с видимым и невидимым, что скрыто в природе; она также выражала любовь, хотя вряд ли была королевой любви, как Хатор, ее сестра-богиня. Ребенок Гор, которого древние египтяне называли Херу-Хенну, олицетворял собой вечное возрождение, вечную молодость, вечные силу и красоту. Кроме того, он был мстителем, который победил Сета, князя тьмы, и, таким образом, открыл дверь жизни людям.
– Мне кажется, что все религии имеют нечто общее, – заметил я.
– Да, очень многое. Для древних египтян было просто стать христианами, потому что для многих из них это лишь означало поклонение Исиде и Гору под новыми, более святыми именами. Однако пойдемте в дом, становится холодно.
Мы пили чай в будуаре леди Регнолл, после этого наш разговор как-то сам собой иссяк. Она сидела напротив камина с сигаретой в губах, смотрела на меня и вдыхала ароматный дым. Мне стало не по себе, я чувствовал, что назревает катастрофа. Я не ошибся. Некоторое время спустя она произнесла:
– Однажды мы предприняли долгое путешествие с вами, не так ли, мистер Квотермейн?
– Было дело, – ответил я и завел было разговор об этом, пока она не прервала меня взмахом руки, и продолжала:
– Мы можем отправиться в еще более дальнее сегодня вечером после ужина.
– Какое? Куда? Каким образом? – воскликнул я встревоженно.
– Я не знаю куда, но сейчас посмотрите вон ту коробочку, – и она указала на маленькую табакерку с восточным орнаментом, вырезанную из розового или сандалового дерева, которая стояла на столе между нами.
Я поднялся со стоном и открыл ее. Внутри была другая коробочка из серебра. Я открыл ее и увидел, что внутри лежит связка из сухих листов, похожих на табачные. Они испускали слабый, но хорошо знакомый аромат, который на мгновение затуманил мой мозг. Затем я закрыл обе крышки и вернулся на свое место.
– Тадуки, – пробормотал я.
– Да, тадуки, и я верю, что ее сила сохранена полностью.
– Сила! – воскликнул я. – Я не верю, что может быть какая-то сила в этой ненавистной магической траве, которая, мне кажется, произрастает в саду самого дьявола. Кроме того, леди Регнолл, в этом мире есть несколько вещей, в которых я вам откажу, и я должен сказать, что ничто не заставит меня вновь иметь дело с этой травой!
Она тихонько засмеялась и спросила, почему я столь категоричен.
– Да потому, что моя жизнь и без того настолько полна проблем и грустных воспоминаний, что у меня нет никакого желания возвращаться к ним лишний раз, и к тому же я уверен, что в этих коробочках спрятано много лжи.
– Если и так, не думаете ли вы, что они могут объяснить нам кое-что из того, что происходит вокруг нас сегодня?
– Нет, этим дело не кончится, и увиденное тоже потребует объяснений
– Давайте не будем спорить, – ответила она, – я устала, полагаю, что нам еще понадобятся силы сегодня вечером.
Я смотрел на нее и не мог произнести ни слова. Почему она не принимает отказов? Как обычно, она прочитала мои мысли и ответила на них.
– Почему Адам не отказался от яблока, которое Ева предложила ему? – спросила она, словно мурлыкая. – Или почему он вкусил плод после стольких отказов и узнал секрет добра и зла, великую игру мира, которая потом стала известна всем, равно как и родовые муки?
– Потому что женщина соблазнила его, – огрызнулся я.
– Именно так. Это всегда было делом ее жизни, и всегда будет. Итак, я соблазняю вас, и не напрасно.
– Вы помните, кто соблазнил женщину?
– Конечно. Как и то, что он оказался хорошим учителем, потому что пробудил жажду знаний о том, как преодолеть страх, и, таким образом, заложил краеугольный камень человеческого прогресса. Эта аллегория читается двояко – избавление от невежества вместо потери невинности.
– Вы слишком умны для меня вместе с вашими извращенными понятиями. К тому же вы сказали, что мы не будем спорить. Могу повторить только, что я не буду есть ваше яблоко или же не буду вдыхать тадуки.
– Снова тот же самый Адам, – повторила она, качая головой. – Начало старо как мир и будет тот же самый конец, потому что в итоге вы сделаете то, что сделал Адам.
Она поднялась и встала надо мной, глядя мне прямо в глаза. Любопытно, но при этом моя сила начала куда-то испаряться. Затем она снова села, тихо засмеявшись, и сказала как будто сама себе:
– Кто бы мог подумать, что Аллан Квотермейн окажется порядочным трусом!
– Трусом! – эхом проговорил я. – Трусом!
– Да, это именно то слово. По крайней мере таким вы были минуту назад. Теперь ваше мужество снова вернулось к вам. Что ж, сейчас самое время переодеться к обеду, но перед этим выслушайте меня. Мой друг, я имею некую власть над вами, так же как и вы обладаете некоей властью надо мной. Скажу вам откровенно: если бы вы захотели, чтобы я что-то сделала, я бы это сделала, то же самое относится и к вам. Сегодня ночью мы с вами откроем великие ворота и увидим замечательные вещи, восхитительные вещи, которые будут бередить нашу память всю оставшуюся жизнь. Возможно, мы увидим то, что случится после смерти. Вы же не подведете меня? – молвила она умоляющим голосом. – Если так, я сделаю все сама, без сопровождающих, но тогда, я знаю – не могу сказать откуда, но я знаю, – что мне будет грозить великая опасность. Я думаю, что могу сойти с ума и никогда не стану прежней до самой своей смерти. Вы же не допустите этого, не так ли, хотя бы потому, что хотите избежать воспоминаний о прошлом?
– К-конечно, нет, – заикаясь, проговорил я. – Я никогда не прощу себе этого!
– Конечно, нет. Тогда нет нужды просить вас. Вы обещаете, что сделаете все, что я скажу? – и она снова посмотрела на меня, добавив: – Не стыдитесь этого, вы же помните, что я имела связь с тайными силами, совсем не так, как другие женщины. Вспомните, я говорила вам, что я никогда не чувствовала того же ни с одной живой душой, кроме вас, с тех пор, как мы впервые встретились.
– Я обещаю, – ответил я и хотел было что-то добавить, но забыл что, потому что она прервала меня:
– Этого достаточно, я знаю, что ваше слово превыше всего. А теперь идите и переодевайтесь как можно быстрей или обед будет испорчен.
Глава IV Сквозь врата
У меня было немного времени перед тем, как позвонил колокольчик к обеду, чтобы все обдумать. С каждым новым предметом моей одежды, который я снимал, аромат будуара уходил, пока наконец его последние следы не исчезли вместе с моей обувью. Я в самом деле был растерян. Я, который пришел в этот дом полный целомудренной решительности и мыслей о независимости, теперь был лишь жертвой и пленником обстоятельств и жизненных коллизий и еще мог только молиться, чтобы хоть как-то удержать себя от искушения. В самом деле, что же соблазнило меня? Клянусь своей жизнью, я не мог этого сказать. Желание доставить удовольствие самой прекрасной женщине и удержать ее от сомнительных и опасных экспериментов? Может быть, хотя неизвестно, будут ли они менее опасными, если мы станем проводить их вместе. Конечно, это было не только желание вкусить вожделенное яблоко знаний, ведь я уже и так много знал об этих вещах. Правда была в том, что эта женщина – самая могущественная сила в мире, где большинство составляем мы, бедные и слабые мужчины. Она командовала, и я был вынужден подчиниться.
Во мне росли отчаяние и желание скрыться. Может быть, я мог бы выскользнуть через заднюю дверь и сбежать без пальто или шляпы, хотя ночь была достаточно холодной и меня просто могли бы принять за лунатика. Но это оказалось невозможно, ведь я был прикован цепью, сломать которую нельзя. Я дал слово чести. Я был связан по рукам и ногам, и в этом было что-то, что заставляло меня бояться, от чего я дрожал и чего избегал даже представить себе – будто готовился сбежать с чужой женой или скрыться от чего-то, чуждого мне.
Возможно, трава уже потеряла свою силу, если только ее воздействие не усилилось с годами, как это бывает с некоторыми видами взрывчатых веществ. Если это было не так, худшее, что ждало меня, был глупый сон, сопровождаемый, возможно, головной болью. Самый неприятный вариант – я мог не проснуться. Или я проснулся бы, а она нет! Что я мог тогда сказать? Я оказался в тупике.
Были и другие ужасные мысли, настолько реальные, что я покрывался холодным потом и чувствовал такую слабость, что временами садился в изнеможении.
Потом я услышал гонг, он звучал для меня как колокол для преступника, приговоренного к смерти. Я медленно спустился и нашел леди Регнолл, ожидающую меня в гостиной. Она была нарядно одета. Я помню, что недавно негодовал по поводу того, что она еще радовалась в таких обстоятельствах. Однако я ничего не сказал. Она оглядела меня сверху донизу и заметила:
– Судя по вашему внешнему виду, вы видели привидение замка Регнолл или собрались жениться против своей воли или я не знаю что. И вы забыли завязать галстук.
Я посмотрелся в зеркало. Это была правда, концы галстука свисали с моей рубашки. Потом я словно боролся с дьявольской силой, пытаясь справиться с этой штуковиной на шее, пока наконец она не помогла мне, тихо смеясь. Ее прикосновение каким-то образом вернуло мне уверенность и позволило смело сказать, что я лишь хотел пообедать.
– Да, – ответила она, – но вам не нужно много есть, вы должны лишь пить воду. Жрицы племени кенда говорили мне, что это обязательно нужно делать перед принятием тадуки в ее сильнейшем виде, что мы и собираемся сделать сегодня ночью. Вы знаете, что жрец Харут лишь дал нам вдохнуть самую малость в этой комнате много лет назад.
Я только застонал, и она снова засмеялась.
Мы ничего не выпили за обедом на этот раз, хотя, чтобы избежать подозрений, я позволил Моксли наполнить мой стакан один или два раза. Я мало ел, потому что не было аппетита, что было вызвано плохим сном.
Я не могу больше ничего вспомнить до того времени, пока леди Регнолл не указала Моксли посмотреть, насколько хорош огонь в камине в музее, куда мы собирались пойти ночью и где нас не должны были беспокоить.
Прошла еще минута, и я уже чисто механически открывал для нее дверь. Когда она проходила мимо, то задержалась, чтобы что-то поправить на своем платье, и прошептала:
– Приходите через четверть часа. Имейте в виду – никакого портвейна, который может затуманить ваш ум.
– Мне нечего затуманивать, – ответил я ей.
Затем я вернулся и сел у огня, глядя на графин и чувствуя себя совершенно несчастным, потому что, насколько я помню, мне никогда так не хотелось выпить бутылку вина. Большие часы тикали и тикали и наконец пробили четверть часа, ударяя по моим нервам в этом огромном пустом банкетном зале. Я встал и отправился наверх, как преступник, и мне казалось, что слуги в зале смотрели на меня с подозрением, а может быть, так оно и было.
Я добрел до музея и увидел, что он ярко освещен, но совершенно пуст, за исключением веселой компании из двух мумий, которые, кажется, подмигнули мне своими сверкающими, но безжизненными глазами. Я уселся перед огнем, не осмеливаясь даже закурить, чтобы табак не усугубил действие тадуки.
Вдруг я услышал глухой смех, посмотрел наверх и едва не упал назад, потому что мое кресло чуть не совершило этакое сальто с обратным поворотом.
В этом не было ничего странного, потому что надо мной, как античная невеста, обожаемая своим мужем, появилась богиня Исида – белые одежды, на голове украшение с перьями, античные браслеты, сандалии на босу ногу с золотыми гвоздиками, надушенные волосы, рубиновое ожерелье и все остальное в том же духе. Я смотрел во все глаза, затем из меня вырвались слова, которые я меньше всего хотел сказать:
– О, небеса! Как же вы прекрасны!
– В самом деле? – спросила она. – Я рада, – и она плавно прошла через всю комнату и закрыла дверь.
– Теперь, – сказала она, обернувшись, – нам лучше заняться делами. Надеюсь, тогда вы станете обожать богиню Исиду немного меньше и приведете свой ум в порядок.
– Нет, – ответил я, почувствовав, что моя благовоспитанность вернулась ко мне, – я не желаю обожать какую-либо богиню, особенно, если она не богиня. Это не входило в нашу сделку.
– Это так, – кивнула она, – но кто знает, что вы будете обожать через час? О, простите меня, я смеюсь над вами, но я не могу иначе. Вы действительно выглядите напуганным.
– Кто не был бы напуган на моем месте? – спросил я, уставившись с мрачным предчувствием на коробочку из сандалового дерева, которая появилась из шкафа, полного скарабеев. – Посмотрите сюда, леди Регнолл, – добавил я, – почему вы не оставите это дьявольское занятие и не позволите нам провести приятный вечер за разговорами, тем более когда уехали эти ужасные Смиты? У меня есть множество историй о моих африканских приключениях, они должны заинтересовать вас.
– Потому что я хочу увидеть свои собственные африканские приключения и, возможно, ваши тоже. Я уверена, что они заинтересуют меня гораздо больше, – воскликнула она с серьезным видом. – Вы думаете, что все это глупость, но это не так. Эти жрицы племени кенда рассказали мне больше, чем смогло вылететь у меня из головы. Долгое время я не вспоминала то, что они поведали мне, но в последнее время, особенно с тех пор, как мы с Джорджем начали раскапывать тот храм, много всего мало-помалу вернулось ко мне, фрагментами, знаете ли. Я пожелала знать остальное, как не хотела ничего в жизни. И худшее в том, что я знала и знаю, что это может случиться, только если мы будем вдвоем, и я не могу сказать почему, или забыла об этом. Именно поэтому я с такой радостью восприняла весть о том, что вы не только живы, но и находитесь в этой стране. Вы ведь не разочаруете меня, не так ли? Я ничего не могу предложить вам из того, что имеет для вас хоть какую-то ценность, поэтому я всего лишь прошу вас не разочаровывать меня – ведь я ваш друг.
Я отвернулся, замешкавшись, а когда снова поднял голову, то увидел, что ее прекрасные глаза полны слез. Естественно, это решило дело, и я лишь произнес:
– Давайте займемся нашими делами. Что я должен делать? Погодите. Я хочу предотвратить все случайности – и, подойдя к столу, взял лист бумаги и написал:
«Леди Регнолл и я, Аллан Квотермейн, собираемся поставить эксперимент с травой, которую мы нашли в Африке несколько лет назад. Если случайно это приведет к несчастному случаю с кем-то одним из нас или обоими, коронер должен знать, что это не убийство или самоубийство, а всего лишь неудачный научный опыт».
Я поставил дату и время, 21.47, затем подписал, попросив ее сделать то же самое.
Она подчинилась, заметив, что достаточно странно, что такой человек, как я, проживший жизнь в постоянной опасности, боится умереть.
– Послушайте, юная леди, – ответил я раздраженно, – не кажется ли вам, что я могу бояться, что если с вами что-то случится… я буду повешен за это? – добавил я, чуть запнувшись.
– О, я понимаю, – ответила она, – это действительно очень мило с вашей стороны. Но, конечно, вы должны подумать об этом, такова ваша природа.
– Да, – ответил я, – природа, но не добродетель.
Она подошла к буфету, который являлся нижней частью музейных ящиков, и извлекла из одного античную чашу, сделанную из черного камня с отверстиями для ручек, на которых были вырезаны головы женщин в церемониальных париках. И кроме того, я увидел низкую треногу из эбенового или какого-то другого черного дерева. Я посмотрел на эти предметы и узнал их. Они стояли перед святилищем в храме в землях племени кенда, именно над ними я однажды видел эту самую женщину, одетую так, как леди Регнолл сегодня вечером, со склоненной головой и в магическом дыму. Именно сквозь него она произносила свои предсказания, данные ей богом кенда.
– И это вы привезли тоже, – сказал я.
– Да, – ответила она торжественно, – они будут готовы в назначенный час, когда понадобятся нам.
Она больше ничего не говорила, а занялась какими-то странными приготовлениями. Сначала поставила треногу и чашу на открытое пространство, и я с радостью заметил, что они находятся на некотором расстоянии от огня, ведь если кто-то из нас упадет туда, то должен быть кто-то, кто не допустит этой кремации. Затем она подняла изогнутое сиденье со спинкой и ручками, достаточно удобно выглядевшее приспособление, которое стояло сзади, в точности как те, которые стоят в клубах. Она указала мне сесть на него. Я подчинился, но у меня было такое чувство, которое испытывает человек, который ложится на операционный стол.
Далее она взяла ту треклятую коробочку с тадуки, я имею в виду ту, вторую, внутреннюю серебряную, содержимое которой я страстно хотел бы выбросить в огонь. Она поставила ее, открытую, около треноги. Затем она вытащила щипцами несколько поленьев из камина и положила их в каменную чашу.
– Я думаю, это все. Настало время для новых приключений, – сказала она голосом, внезапно ставшим звонким и мечтательным.
– Что я должен делать? – спросил я еле слышно.
– Все очень просто, – ответила она, присев рядом со мной, как раз рядом с коробочкой, где была тадуки. Жаровня стояла между нами, а тренога, как раз ее выгнутая часть, располагалась напротив края дивана, так что мы как раз оказывались по разные стороны от нее. – Когда дым станет слишком густым, вам нужно будет лишь опустить голову немного вперед, а ваши плечи должны находиться напротив кресла до тех пор, пока вы не почувствуете, что сознание покидает вас, хотя я не думаю, что это понадобится, ведь вещество едва уловимо. Затем откиньте голову назад, чтобы заснуть и видеть сны.
– Что я увижу во сне? – спросил я просто так, чтобы хоть что-то сказать, потому что рассудок уже покидал меня.
– Я думаю, вы увидите прошлое, в котором вы и я играли определенную роль, по крайней мере я на это надеюсь. Я видела такие сны на земле племени кенда, но тогда это была не я и большинство снов забыла. Кроме того, я знала, что мы можем увидеть их только вместе. Но хватит слов.
Однако эта команда пробудила во мне жгучее желание продолжить разговор. Моему желанию не суждено было сбыться, потому как в тот момент она снова встала, глядя на треногу и меня, и начала петь звучным и одновременно каким-то жутким голосом. Не ведаю, что то была за песня, языка я не знал, но думаю, что это была какая-то древняя песня, которую она услышала на земле кенда. Она стояла, красивая и вдохновленная жрица, облаченная в свои древние одежды, и пела, покачивая руками и глядя на меня в упор. Внезапно она нагнулась, взяла немного травы и со словами заклинания бросила ее на угольки под чашей. Она сделала это дважды, затем села на диван и стала ждать.
Яркое пламя вырвалось примерно через тридцать секунд, я думаю, что оно поглотило летучие масла дерева. Затем пламя как бы умерло, и снова появился дым – белый, густой и клубящийся. Он источал очень приятный аромат, напоминающий запах оранжереи. Он поднимался над нами, как веер, сквозь его завесу я слышал ее голос:
– Врата открыты. Входите!
Я очень хорошо понимал, что она имеет в виду, и, хотя на мгновение я подумал о надувательстве (другого слова подобрать было нельзя), я также знал, что она читает мысли и будет презирать меня в душе. В любом случае я чувствовал, что должен подчиниться, и погрузил голову в дым, как свежий окорок погружают в коптильню. Теплый пар ударил мне в голову, как туман или, скорее, течение, но я не задыхался и опасался только за свои глаза. Я всасывал аромат глубоко в горло, вдохнул раз, другой, третий, мой мозг плавно скользил, отбрасывая меня назад, что я и должен был делать. Глубокая и счастливая сонливость овладела мной, и последнее, что я помню – это звук часов, которые пробили два удара от десяти часов. Третий удар я тоже слышал, но он уже звучал где-то во мне, как самый прекрасный звон колоколов в мире. Я помню, что был уверен, будто это сигнал для развертывания какой-то огромной авансцены, которая выплывала позади. То был целый мир – не больше и не меньше.
Что же я видел? Что видел? Позвольте мне вспомнить и рассказать.
Сначала был какой-то хаос. Огромные клубы дыма, раздуваемые мощными ветрами, великие моря, но по большей части спокойные. Затем сотрясения и вулканы, извергавшие огонь. Затем бесконечная роскошь пышных тропических лесов. Огромные рептилии, пасущиеся и поедающие что-то на болотистых берегах. Крупные слоноподобные животные, передвигающиеся между пальмами. Затем на полянах – крытые тростником хижины, а вокруг них бормочущая что-то толпа созданий, которые людьми-то являлись лишь наполовину. Временами они поднимались на ноги, иногда опускались на четвереньки. Они были практически целиком покрыты волосами, которые стали для них своего рода одеждой.
В тот момент, когда я встретил их, они были напуганы появлением огромного мамонта, если это, конечно, верное название для него, он вошел на поляну и смотрел на нас. Без сомнения, это было чудовище из слоновьего племени, я примерно оценил его рост – около двадцати футов – и с невероятным образом изогнутыми бивнями.
В результате получилось так, что я обнаружил себя среди этих волосатых, бормочущих что-то созданий, но я был не снаружи – видимым, а как бы внутри, и это был не я, а дух. Кроме того, меня подгоняла женская особь племени (я едва ли могу назвать ее женщиной), чтобы я подтвердил свою мужскую сущность, добыв мамонта лично для нее или найдя кого-то, кто может это сделать. В конце концов я ранил мамонта, применив орудие охоты, думаю, это был острый камень, хотя то, как я мог ранить чудовище ростом в двадцать футов подобным орудием, выше моего понимания. Но, возможно, камень был отравлен.
Как ни странно, конец был неожиданным. Я бросил камень, и в этот момент огромный хобот взметнулся между таких же гигантских бивней и поймал меня. Я болтался в воздухе туда-сюда, пытаясь сообразить, что случилось, поскольку к тому времени мое нормальное мироощущение еще не окончательно покинуло меня. Это была моя первая встреча со слоном Джаной, к тому же было глупо пытаться угодить женщине, не подумав о личной безопасности…
Внезапно свет померк, все было кончено, но вдруг, спустя многие тысячи лет, или мне так показалось, он снова появился. В этот момент я был черным человеком, который жил в чем-то, похожем на крааль туземцев на вершине холма.
Внизу шла стрельба, нас атаковали враги, из хижины выбежала женщина и дала мне копье и щит, последний был сделан из дерева с белыми пятнами на нем. Она указала мне на тропинку, которая вела к подножию холма. Я последовал за группой остальных воинов, хотя и без энтузиазма, и внезапно встретился внизу с огромным ревущим человеком. Я метнул в него копье, он бросил свое в меня, ужасная боль в животе пронзила меня. После этого я поднялся на вершину холма, где женщины вытащили из меня копье и отдали его другому человеку. Больше я ничего не помню.
Затем было много других видений, но я не могу, по правде говоря, их вспомнить. Не то чтобы они ничего собой не представляли, просто после всего этого то были лишь робкие попытки, беспорядочные происшествия прошлых жизней, реальные или воображаемые, или, как я предполагаю, все это были обычные, элементарные вещи, такие, как голод и раны, женщины и смерть.
В конце концов промелькнули фрагменты прошлого, и я не сознавал, что это, затем я обнаружил себя лицом к лицу с чем-то конкретным и реальным, не таким отдаленным или незнакомым для понимания. Это было началом реальной истории.
Пожалуйста, не забывайте, что я помнил себя, Аллана Квотермейна, и никого другого, и в то же время что-то или кто-то еще видел меня в колеснице, запряженной двумя лошадьми с изогнутыми шеями, которая управлялась возницей, сидевшем впереди на маленьком сиденье. Это была богато украшенная позолоченная повозка без рессор, сделанная из дерева, нечто похожее на фургон с шестом, или, как мы называли их в Южной Африке, диссельбум, в который были запряжены лошади. Я стоял в этой повозке в развевающихся одеждах, которые были стянуты на поясе ремнем. Мои ноги были обмотаны цветными лентами, на ногах надеты сандалии. Мне так кажется, что своей внешностью я был похож на женщину, и это мне не очень нравилось.
Однако все-таки я был рад видеть, что в те дни я являлся кем угодно, только не женщиной. В самом деле, я не мог поверить, что когда-то я выглядел таким красивым, даже две тысячи лет назад. Я был не очень высоким, но невероятно крепким, даже можно сказать, плотным. Мои руки, насколько это можно было разглядеть под рукавами женского наряда, были руками борца, а грудь была, как у быка.
Лицо мое мне тоже очень понравилось. Широченный лоб, черные глаза, глубокие и горделивые, черты лица массивные, но точеные и какие-то очень разумные. Рот прямой, хорошей формы, губы, возможно, слишком полные. Волосы – я не помню точно какие, но, согласно современной этому времени моде, завивались так красиво, что можно было предположить, что один из моих предков влюбился в женщину негроидной расы. Однако волос было много, они свисали практически до плеч и завязывались на лбу очень тонкой ленточкой голубого цвета с блестками. Я был рад отметить, что моя кожа хоть и была темной, но оказалась светлее, коричневой, что могло произойти в результате загара. Возраст – между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами, возможно, ближе к последнему, то есть самый расцвет жизненных сил.
В заключение могу сказать, что я держал в левой руке крепкий лук из черного дерева, который, как мне показалось, уже достаточно поработал. Его тетива была из чего-то похожего на кетгут[24], в нем была размещена широкая стрела. Я держал стрелу пальцами правой руки, на одном пальце я заметил красивое золотое кольцо со странными рисунками, вырезанными в его гнезде.
Теперь поговорим о колесничем.
Он был сама чернота, черный, как шляпа для воскресных походов в церковь, круглые желтые глаза его вращались на невероятно уродливом лице. Его большой широкий рот с толстыми губами сполз на левую сторону его лица, прямо к уху, которое было тоже очень большое и выступало вперед. Волосы, в которых торчало перо, были действительно негритянские, они покрывали череп, круглый, как пушечное ядро, и, я думаю, были такие же жесткие. Голова сидела на плечах, как будто была вколочена туда свайным молотом. Невероятно широкие плечи предполагали огромную силу, но тело в ярких одеждах, поддерживаемое двумя кривыми ногами и большими плоскими ступнями, было телом эфиопского карлика, которое, судя по пропорциям конечностей, природа сначала предполагала для великана.
Глядя на эту необычную внешность, я обнаружил, что внутри нее имелась душа – или живой элемент, кого бы вы думали? Это был не кто иной, как мой обожаемый старый слуга и компаньон готтентот Ханс, чью потерю я оплакивал долгие годы. Сам Ханс, который умер для меня, уничтожив огромного слона Джану на земле кенда, слона, которого я не смог поймать, и тем самым спас мою жизнь.
Хоть я и вернулся назад, в те времена, о которых ничего не знал, в античную империю в состоянии транса, я как наяву разрыдался от радости, что нашел его снова, особенно потому, что инстинктивно знал: как он любит Аллана Квотермейна сегодня, так же он любил этого египтянина в повозке на колесах, ибо, насколько я понял, именно такой была моя национальность в этом сне.
Теперь я огляделся и увидел, что моя повозка была второй в этой кавалькаде. Непосредственно перед ней двигалась еще одна, более торжественная, в ней стоял человек, которого если я и не знал, то должен был догадаться, что это царь, более того, это был Царь царей, и в то время это был самый главный повелитель большей части известного тогда мира, хотя я понятия не имел, как его зовут. На нем было длинное, развевающееся одеяние из пурпурного шелка, украшенное золотом и вышивкой, на талии – пояс, унизанный драгоценностями, с него свисала личная священная печать, та самая маленькая Белая печать, или Печать Печатей, которая, как я узнал позднее, была известна по всей тогдашней земле.
На его голове был плотный капюшон, тоже пурпурный, вокруг него прикреплена лента из ярко-голубой ткани с белыми пятнами. Лучшее сравнение, что мне приходит в голову, – это высокая модная шляпа без полей, слегка сплющенная, так что на верхушке получилась дуга, обмотанная галстуком. Однако, на самом деле, это был головной убор, которые монархи надевали на себя, оставаясь в одиночестве. Если кто-то еще надевал этот убор, например по ошибке в темноте, эту шапку с него снимали вместе с головой, вот и все.
Царь держал в руке лук со стрелой, тетива была натянута. Наверное, мы возвращались с охоты, и, как я должен отметить, львы и тогда не жаловали людей. С его стороны, ближе к краю повозки, лежал длинный, остро отточенный жезл из кедрового дерева с набалдашником из какого-то зеленого драгоценного камня, возможно, изумруда, имеющего очертания яблока. Это был царский скипетр. Сразу за повозкой шли несколько знатных людей. Один из них нес золотую скамеечку для ног, другой – зонт, сейчас он был сложен, еще один человек нес запасной лук и колчан со стрелами. Еще один нес украшенное драгоценностями опахало, сделанное из пальмового волокна.
Я хочу добавить, что царь был молодым и красивым человеком с кудрявой бородкой и чисто выбритым лицом. Однако выражение его лица было плохим, злым, отмеченным печатью усталости или скорее пресыщения. Кроме того, под выразительными темными глазами были отчетливые иссиня-черные круги. Но от него исходила гордость, и было что-то еще в его движениях и взгляде, что вызывало страх. Он был богом, который знает, что он смертен, и его пугало, что в любой момент он может быть призван наверх и тогда разом потеряет всю свою божественность.
Сейчас его не пугала опасность преследования, ведь он был настоящим мужчиной. Но как он мог безбоязненно выступать среди всей этой толпы медленно продвигавшегося люда, не думая о том, что рядом есть тот, кто держит под полой кинжал, готовый вонзиться в его спину, или тот, кто может вылить содержимое пузырька с ядом в его бокал с вином? Он, который держал в кулаке весь мир, был полон тайных страхов, которые я смог распознать в нем, как только увидел его, и которые заполняли всю его сущность.
Этот человек из плоти и крови должен был умереть в крови, хотя и не в результате убийства.
Кавалькада остановилась. Затем вышел толстый евнух в блестящих, отделанных золотом одеждах, похожий в свете солнца на жука-бронзовку. Он медленно, с явным трудом двигался по направлению ко мне. Это был отвратительный человек, и я знал, что мы друг друга ненавидели.
– Приветствую тебя, египтянин, – произнес он, вытирая лоб рукавом, потому что солнце уже пригревало. – Слава тебе! Великая слава! Царь царей велел привести тебя. Он лично поговорит с тобой! Пойдем! Пойдем быстро!
– Быстро, как стрела, Хуман! – засмеялся я. – Видишь ли, последние три луны я, как стрела, отдыхал в тетиве и находился так близко к его величеству!
– Три луны! – завизжал евнух. – Многие ждут три года, а многие уходят в могилы, прежде чем дождутся, а это люди более значительные, чем ты, хотя, я слышал, ты утверждаешь, что в тебе течет царская кровь вон оттуда, с Нила. Но не будем говорить о стрелах, пролетающих навстречу Небесам, потому что они предвещают несчастья, но могут принести тебе и дополнительную славу, пусть они пока и в тетиве, – и он показал рукой, как будто веревка затягивается на горле. – Человек, оставь свой лук! Ты хочешь появиться перед царем вооруженный? Да, и кинжал тоже!
– А может лев появиться перед царем без когтей и зубов? – ответил я сухо, снимая с себя оружие.
Мы пошли вперед втроем, оставив колесницу под охраной солдата.
– Опусти рукава до ладоней, – сказал евнух, – никто не может предстать перед царем, показывая свои голые руки, а ты, карлик, поскольку у тебя нет рукавов, спрячь свои руки под одежду.
– Что я должен сделать со своими ногами? – спросил он в нос. – Не обидится ли царь, если он увидит мои ноги, о благородный евнух?
– Конечно, обидится, – ответил Хуман, – поскольку они такие уродливые, что могут оскорбить даже меня. Скрой их, насколько это возможно. Мы уже близко, опустите свои головы и ползите медленно на коленях и локтях, как я. На колени, я сказал!
Я опустился на четвереньки, хотя в моем сердце бушевал гнев, не забывайте, что я, современный Аллан Квотермейн, знал все мысли и чувства, которые проносились в голове моего прототипа.
Я был как бы зрителем пьесы, вот и вся разница. Я мог читать помыслы и мысли этого альтер эго, так же как и видеть все его действия. Я мог радоваться, когда он радовался, мог рыдать, когда он рыдал, – в общем, чувствовал все то, что чувствовал он, хотя в то же самое время я оставлял за собой право изучать его с позиции современного человека, с присущими мне знаниями. Будучи двумя людьми, мы все-таки были единым целым, или, будучи единым целым, мы были двумя разными людьми, это уж как вам понравится. Мне не доставало этой способности, когда дело касалось остальных актеров этой пьесы. О них я знал столько же мало или много, сколько я – прошлый, если он когда-либо все-таки существовал. Не было ничего необычного в моих способностях, в том, что касается этих людей. Я не мог проникать в их души больше, чем в души людей, которые окружают меня сейчас.
Я надеюсь, что мне удалось разъяснить мою несколько необычную позицию, ссылаясь на эти страницы из книги прошлого.
Итак, возглавляемый евнухом, со следовавшим за мной по пятам карликом я полз по песку, в котором росли какие-то колючие растения, которые впивались в мои колени и пальцы. Мы двигались к человеку, который был правителем всего мира. Он спустился вниз со своей колесницы при помощи скамеечки для ног, затем выпил из золотого кубка, пока его слуги стояли вокруг в различных позах, выражавших обожание и глубокое почтение. Он опустил кубок на колени, внезапно поднял голову и увидел нас.
– Кто это? – спросил он высоким и довольно мелодичным голосом. – И почему они находятся здесь?
– Прошу прощения, мой господин, – ответил наш сопровождающий, склоняя голову к земле в знак великого уважения, – прошу прощения, мой царь…
– Я извиню тебя, собака, если ты ответишь на мой вопрос. Кто это?
– Мой господин, это египетский охотник и знатный человек Шабака.
– Я слышу, – ответил его величество, и в его усталых глазах промелькнул интерес, – и что делает здесь этот египтянин?
– Да простит меня мой господин, вы просили меня привести его к нам, но только сейчас, когда колесницы остановились.
– Я забыл, ты прощен. Но кто это с ним? Это человек или обезьяна?
И тут я покрутил головой в разные стороны и увидел, что мой раб в попытках следовать инструкциям евнуха спрятал свои ноги, что сделало его похожим на мяч; так сворачивается ежик, за исключением того, что его голова торчала из этого мячика.
– О, мой господин, я так понимаю, что это слуга и возница египтянина.
Тот снова заинтересованно глянул и воскликнул:
– Неужели? Тогда египтянин должен быть из очень странной страны, если там живут такие люди-обезьяны. Встань, египтянин, и попроси свою обезьяну тоже встать, потому что я не могу услышать людей, которые говорят, валяясь в грязи.
Итак, я встал и поздоровался, подняв обе руки и поклонившись так, как делали другие, насколько я мог заметить. При этом я попытался освободить руки, которые были прикрыты рукавами. Царь осмотрел меня сверху вниз, затем коротко сказал:
– Каково твое имя и что за дело привело тебя в мой город?
– Да продлятся дни господина на долгие годы, – ответил я, – как сказал этот господин, – я указал на евнуха.
– Это не господин, это пес, – прервал меня монарх, – который носит женскую одежду. Но продолжай.
– Как сказал этот пес, который носит женскую одежду, – здесь царь засмеялся, однако евнух, Хуман, позеленел от гнева и в ярости глянул на меня, – мое имя Шабака, я потомок эфиопского царя Египта, который носит такое же имя.
– Я слышал, что существует слишком много потомков царя Египта. Когда я в следующий раз отправлюсь в эту страну, что вскоре я собираюсь сделать с оружием в руках, – и он бросил на меня холодный взгляд, – возможно, их станет меньше. Например, не станет некоего Пероа.
Он замолчал, но я не ответил, потому что Пероа был двоюродным братом моего отца и членом свергнутого царского дома, кроме того, это был мой покровитель в юности.
– Итак, Шабака, – продолжил он, – в Персии царская кровь – обычное дело, хотя некоторые из нас считают, что лучше, если она проливается. Что еще ты можешь сказать?
– Я убиваю оленей, о Царь царей, охочусь на львов и слонов (это утверждение очень заинтересовало меня, Аллана Квотермейна, поскольку показало мне, насколько постоянны наши вкусы), а когда я дома, развожу скот и выращиваю зерно.
– Все это хорошие занятия, Шабака. Но почему ты приехал сюда?
– Идернес, наместник в Египте, слуга Царя царей, искал кого-то, кто может отправиться на Восток, потому что царь царей хочет услышать об охоте на львов в землях, которые лежат к югу от Египта, по направлению к великой реке. Тогда я, человек, желавший увидеть новые страны, сказал: «Вот он я. Отправь меня». Итак, я приехал и в течение трех месяцев задержался в царском городе, но до настоящего времени не видел лица Великого царя, хотя я много раз давал знать о себе, показывая письма Идернеса, который дал мне охранные грамоты. И я думаю сегодня или завтра отправиться обратно в Египет.
Царь подал знак, и возник писарь, которому он приказал записать мои слова и разрешить проблему, поскольку кто-то мог пострадать от его небрежности. Краем глаза я видел, как Хуман и некоторые другие знатные люди побледнели и принялись перешептываться.
– Теперь я вспоминаю, – воскликнул он, – что просил Идернеса отправить мне египетского охотника. Итак, ты здесь, и мы готовы охотиться на львов, которых так много в тех лесах, это голодные и сильные твари, они в течение трех дней собирались в стаи, потому что не могли найти добычу. Как много львов ты убил, Шабака?
– Пятьдесят три, мой царь, не считая детенышей.
Он с подозрением уставился на меня, сказав презрительно:
– У вас, египтян, длинные языки, я уже слышал об этом. Хорошо, сегодня мы увидим, сможешь ли ты убить пятьдесят четвертого. В час, когда солнце начнет садиться, мы отпустим гончих вон в тех камышах, и, пока вода будет позади них, львы выйдут, и тогда мы все увидим, какой ты охотник.
Я понял, что царь считает меня лжецом, и кровь бросилась мне в голову.
– Зачем нам ждать заката солнца, о, Царь царей? – сказал я. – Почему не войти в камыши, как приказывает обычай в стране Куш, и выгнать львов из дремы в их собственном логове?
Теперь царь громко засмеялся и во всеуслышание заявил своим придворным:
– Вы слышали этого хвастливого египтянина, который говорит о том, чтобы войти в заросли и столкнуться лицом к лицу с львами в их логове? Ни один человек не осмелится сделать этого, потому что не видно, куда надо стрелять. Что ему сказать? Должны ли мы попросить его доказать свои слова?
Некоторые знатные господа выступили вперед, один из них служил охотником, хотя и не был похож на него, аромат его волос достиг меня за несколько шагов, а лицо его толстым слоем, как штукатурка, покрывала краска.
– Да, мой господин, – сказал он вкрадчиво, – давайте позволим ему войти в заросли и убить льва. Но, если он потерпит неудачу, пусть лев убьет его. В дворцовых клетках есть голодные, и негоже царю слышать пустые слова из уст чужеземцев из Египта.
– Пусть будет так, – сказал царь. – Египтянин, ты поклялся своей головой. Докажи, что ты можешь сделать то, о чем говоришь, и тебя ждет великая слава. Не сможешь – и тот, кто лгал про львов, отправится к львам. Но, – добавил он, – неправильно отпускать тебя одного. Выбери кого-нибудь из моих людей, чтобы он составил тебе компанию, он проверит тебя, если ты, конечно, пожелаешь.
Я бросил взгляд на пахнущего человека, который на моих глазах побледнел, и это было видно даже под слоем краски на лице. Потом я посмотрел на толстого евнуха Хумана, который открыл рот и ловил воздух, как рыба, и, взглянув на него, я покачал головой и сказал, как бы размышляя вслух:
– Нет, ни женщина, ни евнух не могут быть моими компаньонами в таком деле. – При этих словах царь и остальные засмеялись. – Карлик и я пойдем одни.
– Карлик! – воскликнул царь. – Он что, тоже может охотиться?
– Нет, мой господин, но, возможно, он может приманить хищников запахом, как иначе я смогу найти их в этих кустах за один час?
– Верно, они точно унюхают его. Как зовут этого человека-обезьяну? – спросил царь.
– Бэс, о, мой господин, по имени одного из египетских богов, которого он напоминает.
– Бэс, ты будешь сопровождать своего господина в этой охоте? – спросил царь.
Бэс поднял голову, начал вращать своими желтыми глазами и ответил своим густым, зычным голосом:
– Я раб своего господина и как я могу отказаться сопровождать его? Если я это сделаю, он может убить меня, как царь царей убивает своих рабов. Лучше умереть с честью в зубах льва, чем с позором от кнута хозяина. По крайней мере мы у себя в Эфиопии думаем именно так.
– Хорошо сказано, карлик по имени Бэс! – воскликнул царь. – Я прикажу думать так всем по всему Египту. Пусть слова этого эфиопа будут написаны и копии разосланы правителям всех провинций, чтобы их могли прочитать все люди на земле. Я, царь, так сказал.
Глава V Пари
Пока писари делали свою работу, я стоял согнувшись перед царем и молился, чтобы он ушел, а мы отправились к своим.
– Езжайте, – сказал он, – и возвращайтесь сюда через час. Если ты не вернешься, известие о твоей смерти дойдет до наместника Египта, так, чтобы твои жены узнали об этом.
– Благодарю тебя, царь, но в этом нет необходимости, потому что у меня нет жен, они – настоящая обуза для охотника.
– Странно, – заметил царь, – я полагаю, многие женщины должны быть счастливы назвать такого человека своим мужем, по крайней мере у жителей восточных земель.
Пятясь и кланяясь, мы с Бэсом вернулись к нашей повозке. Потом мы долго освобождались от стеснявшей нас верхней одежды, пока Бэс не разделся до набедренной повязки, а я не остался в одной безрукавке. Затем я взял свой лук, стрелы и нож, Бэс подобрал два копья, одно легкое, для метания, и другое, короткое, широкое и тяжелое, похожее на зулусский ассегай для близкого боя. Вооруженные таким образом, мы прошли буквально сквозь строй жителей востока, которые уставились на нас во все глаза, и отправились к краю зарослей высоких камышей, где водилось множество львов.
Затем Бэс поднял с земли щепотку пыли и подбросил ее в воздух, чтобы мы могли узнать, откуда дует ветер.
– Мы пойдем против ветра, господин, – сказал он, – чтобы я унюхал запах львов прежде, чем они почуют нас.
Я кивнул и добавил:
– Послушай меня, Бэс. Может так случиться, что мы не убьем ни одного льва в этом месте, где столь трудно стрелять. Я не собираюсь возвращаться, чтобы меня бросили к диким чудовищам по приказу этого злобного правителя. В общем, если у нас ничего не получится, ты убьешь меня, если сам, конечно, останешься в живых.
Он выпучил глаза и усмехнулся:
– Нет, мой господин. Тогда мы пробежим через заросли и спрячемся на их границе до наступления темноты, потому что во мраке эти полулюди не осмелятся искать нас. Затем мы переплывем реку, переоденемся фокусниками и попытаемся достичь берега моря, чтобы вернуться назад, в Египет, предварительно узнав о дороге. Никогда не протягивайте руку смерти, пока она не протянет вам свою, что может быть сделано очень скоро, господин.
Я снова покачал головой и спросил:
– А если лев убьет меня, что тогда, Бэс?
– Тогда, господин, я убью этого льва, если смогу, чтобы доложить об этом царю.
– А что, если он захочет бросить тебя к чудовищам, Бэс, что тогда?
– Тогда сначала я брошу его вниз, к самому страшному чудовищу, тому, кто ждет, чтобы сожрать злодеев в подземном мире, не важно, цари они или рабы, – и он вытянул свои длинные руки и сделал такое движение, как будто сжимал человеку горло. – Но не бойся, господин, я сломаю его, как палку, а потом мы обсудим это дело там, среди мертвых, потому что я проглочу свой язык и тоже умру. Это хорошая шутка, мой господин, я думаю, тебе понравится.
Он взял мою руку и поцеловал ее, а потом мы вошли в заросли. Я, будучи охотником, сейчас чувствовал себя более счастливым по сравнению со временем, когда мы прибыли на Восток.
Да, эта охота обещала быть очень опасной, потому что заросли были высокие и зачастую я не мог видеть дальше чем на длину лука впереди себя. Однако мы нашли тропинку, которая, возможно, была сделана животными, приходившими на водопой, или крокодилами, которые, наоборот, выходили на сушу поспать. Следуя по ней, я вложил стрелу в лук, Бэс же держал в правой руке копье для броска, а в левой – ассегай для удара. Он шел в полушаге впереди меня. Мы медленно двигались, Бэс втягивал воздух своими огромными ноздрями, как делает гончая, пока внезапно не остановился и не принюхался, повернувшись на север.
– Я чувствую, лев где-то рядом, – прошептал он, обшаривая глазами листья камышей. – Я вижу льва, – прошелестел он снова и указал в сторону, но я не увидел ничего, кроме стеблей камыша.
– Вспугни его, – прошептал я ему, – и я выстрелю, как только он прыгнет.
Бэс медленно поднял копье, встряхнул его и метнул. Послышался рев, и появилась львица с копьем в боку. Я выпустил стрелу, но она воткнулась в густые заросли.
– Вперед! – прошептал Бэс. – Это самка, давай поищем самца. Лев должен быть рядом.
Мы снова поползли. Бэс остановился, чтобы вытащить стрелу из тростника и вложить обратно в колчан. Это была хорошая стрела, которую он сделал сам. Но сейчас он переложил широкое копье в правую руку, а в левую взял свой нож. Мы слышали рев раненой львицы неподалеку.
– Она зовет самца на помощь, – прошептал Бэс, и, когда он произнес эти слова, заросли с подветренной стороны начали колыхаться, потому что нас унюхали.
Они закачались, расступились, и, наполовину видимая, наполовину скрытая листвой, появилась голова огромного льва-черногривки. Я натянул тетиву и выстрелил, на этот раз без промаха, потому что услышал характерный звук, с которым стрела входит в шкуру. Но, перед тем как я вставил другую стрелу, зверь уже был рядом с нами, поднимаясь на задние ноги и издавая ужасный рев. Пока я доставал кинжал, он бросился на меня, но я отскочил, и его лапа прошлась над моей головой. Затем он всем весом навалился на меня, и я упал, вонзив кинжал в его живот, скорее на ощупь, чем прицельно. Я увидел его мощные челюсти, уже открытые для того, чтобы прокусить мою голову. Затем они снова сомкнулись, и на сей раз я услышал жалобный вой, как воет раненая собака.
Бэс воткнул свое копье в грудь льва так глубоко, что наконечник вышел с другой стороны. Но зверь был все еще живым, и теперь под ним был Бэс. Карлик прыгнул на него, когда лев снова поднялся, и, сжав своими огромными руками его большое мускулистое тело, стал бороться с ним, как человек с человеком.
Именно тогда я в первый раз узнал всю силу эфиопа. Этот карлик бросил льва на спину, сжал его огромную голову пониже челюстей и стал жестоко бороться с ним. Я поднялся, мой нож все еще был в моей руке и, о Боже! Я тоже был сильным! Я воткнул нож в львиное горло, провернул его туда-сюда, и лев заревел, а вытекающая из раны кровь залила нас обоих. Бэс сел и засмеялся, я тоже засмеялся, потому что у нас обоих были лишь царапины и мы сделали то, что едва ли мог сделать обычный человек.
– Вы помните, господин, – сказал Бэс, прекратив смеяться и вытерев лоб влажным мхом, – как однажды недалеко от места вверх по течению Нила вы напали с копьем на безумного слона и спасли меня, когда я был близок к смерти?
Я, Шабака, ответил, что помню (и я, Аллан Квотермейн, видя все это в состоянии транса в музее замка Регнолл, думал о том, что тоже помнил, как некий Ханс спас меня от какого-то сумасшедшего слона, а точнее от Джаны, незадолго до этого, и это показывает, что жизнь движется по кругу).
– Да, – продолжал Бэс, – вы спасли меня от того слона, хотя, казалось, это грозило вам смертью. И, господин, я скажу вам еще кое-что. В то утро я пытался отравить вас, но вы не стали дожидаться еды, потому что слоны были рядом.
– Правда? – спросил я лениво. – Но зачем?
– Потому что за два года до этого вы захватили меня в битве вместе с несколькими моими людьми, и, поскольку я потерпел неудачу, или из жалости вы сохранили мне жизнь и сделали меня своим рабом. Да, я ведь был вождем, великим вождем, мой господин, не хотел оставаться рабом и желал отомстить за кровь моих людей. Поэтому я и пытался отравить вас, а вы в тот день спасли мне жизнь, предложив за нее свою собственную.
– Я думаю, это случилось потому, что я очень хотел иметь бивни слона, Бэс.
– Может быть, мой господин, только вспомните, что это была молодая самка, и ее бивни ничего не стоили. Хотя, если бы у нее были бивни, они были бы очень дороги, потому что один бивень белого слона стоит дороже многих черных карликов. Итак, сегодня я отплатил вам. Я говорю это, чтобы вы не забыли: если бы не я, лев сожрал бы вас.
– Да, Бэс, ты отплатил мне, и я тебе благодарен.
– Господин, до сего дня я всегда думал, что вы единственный, кто поклонялся Маат, богине Истины. Теперь я вижу, что вы поклоняетесь богу лжи, кто бы это ни был, этот бог обитает в груди женщин и большинства мужчин, но у него нет имени. Поэтому, господин, именно вы спасли меня от льва, а не я вас, поскольку это вы воткнули копье в его горло. Поэтому мой долг все еще не оплачен, и от имени великой Саранчи, мы поклоняемся ей в моей стране, эта богиня значительно лучше всех египетских богов, вместе взятых, я клянусь, что заплачу его вскоре или, может быть, через десять тысяч лет. В конце концов долг будет выплачен.
– Почему вы поклоняетесь Саранче и почему она лучше всех египетских богов? – спросил я устало, потому что в самом деле устал и этот разговор отвлекал меня от дремы, пока мы отдыхали.
– Господин, мы поклоняемся Саранче, потому что она летает и прыгает с человеческими душами от одной жизни к другой или из этого мира в другой прямо в голубом небе. И она лучше всех ваших египетских богов, потому что они оставляют вас самих искать свою дорогу, а затем съедают вас живыми, как если бы вы попытались отравить людей, что, конечно, мы уже делали не раз. Но, господин, мы уже отдохнули, поэтому давайте пойдем дальше, потому что мы должны закончить в течение часа. К тому же, когда львица съест рукоятку копья, она может вернуться.
– Да, – сказал я, желая наконец остановить бесконечную болтовню моего раба, – давай пойдем и доложим царю, что мы убили льва.
– Господин, этого недостаточно. Даже обычные цари мало верят в то, чего не видят, а уж Царь царей-то не верит ни во что, и еще более очевидно, что он не придет сюда, чтобы посмотреть воочию. Так что, если мы не можем принести льва, мы должны взять хоть его кусочек, – и он быстро отрезал хвост животного.
Следуя по крокодильей тропе, мы наконец достигли края зарослей напротив лагеря, где царь сидел во всем своем великолепии под пурпурным шатром, который был там для него сооружен. Он ел мясо, а придворные стояли на расстоянии и голодными глазами провожали каждый кусок.
Из зарослей появился Бэс, обнаженный и окровавленный, он размахивал хвостом льва и пел какую-то эфиопскую песню, и я, тоже перепачканный в крови и полуголый, потому что когти льва содрали с меня часть одежды, следовал за ним с опущенным луком.
Царь поднял глаза и увидел нас.
– Как, ты жив, египтянин? – спросил он. – Честно говоря, я думал, что ты будешь убит.
– Мой царь, это лев убит, – ответил я, указывая на Бэса, который перестал петь свою песню и прыгал вокруг, держа хвост льва во рту, как собака, которая приносит хозяину кость.
– Кажется, этот египтянин убил льва, – сказал царь одному из придворных, тому, с бледным лицом и крашеными волосами.
– Разрешите сказать, мой господин, – ответил тот с поклоном, – хвост – это еще не весь зверь, он может быть взят оттуда или отрезан от уже мертвого льва. Царь знает, что египтяне – великие вруны.
Он говорил так, потому что завидовал нашей победе.
– Эти люди выглядят так, как будто встретили живого льва, а не мертвого, – заметил царь, оглядывая наши окровавленные тела. – Если вы сомневаетесь, вы должны получить доказательства. Итак, мой двоюродный брат, возьми с собой шестерых человек, войди в заросли и поищи там. На такой мягкой земле будет легко пройти по их следам.
– Это опасно, мой царь, – начал принц, а это был именно он.
– И тем не менее это задание придется тебе по вкусу, брат. Отправляйся и возвращайся быстрее.
Итак, были вызваны шесть охотников, которые пошли за принцем. Он шел и из уст его сыпались проклятия, когда он проходил мимо меня. Принц был ужасно испуган, и тому была причина. Внезапно Бэс прекратил свое фиглярство и распростерся на земле с криком:
– О царь! Этот человек сомневается в словах моего господина. Я могу отвести его к тому месту, где лежит мертвый лев, хотя гуляние в тех дебрях может повредить брату Великого царя, Великий царь будет горевать.
– У меня много двоюродных братьев, – сказал царь. – Итак, иди, если пожелаешь, карлик.
И вот Бэс побежал за принцем, быстро схватил его, шлепнул по плечу хвостом льва, чтобы указать дорогу. Потом они исчезли в зарослях, а я пошел к повозке, чтобы смыть кровь с тела и почистить одежду. Застегиваясь, я услышал рев в зарослях, затем одиночный крик, после которого все затихло. Я подошел поближе к зарослям и стоял между ними и лагерем царя.
Внезапно на краю зарослей показался Бэс, танцуя и подпевая, как раньше, на этот раз он нес хвост льва в другой руке. Следом за ним шли шестеро охотников, они тащили тело льва, которого мы убили. Они свалили его на землю перед царем, я подошел к ним.
– Я вижу карлика, – сказал он, – я вижу мертвого льва и вижу охотников. Но где же мой двоюродный брат? Отвечай, Бэс.
– О Царь царей, – ответил Бэс, – могущественный принц, твой брат, лежит вон там, мертвый, под телом львицы, жены убитого льва. Она прыгнула на него и убила его, я прыгнул на них и убил львицу своим копьем. Вот ее хвост, о Царь царей.
– Он говорит правду? – спросил царь охотников.
– Это правда, о царь, – ответил их предводитель. – Львица была ранена, она прыгнула на принца, выбрав почему-то его, хотя он находился позади всех нас. Затем этот карлик прыгнул на львицу из-за спины принца. Он направил свое копье ей в сердце и убил ее мгновенно. И тогда мы взяли первого льва, как приказал нам царь, потому что мы не могли утащить больше из-за великой тяжести.
Царь побагровел от ярости.
– Семеро моих людей и черный карлик! – воскликнул он. – И еще эта чертова львица, которая убила моего двоюродного брата, а карлик убил львицу. Вот такая история дойдет до Египта. И касается она охотников царя всего мира. Охрана, схватите этих людей и бросьте их на съедение диким зверям в подвалах моего дворца.
Тут же все несчастные были схвачены и уведены. Затем царь подозвал к себе Бэса и, взяв золотую цепь, которую носил на шее, перекинул ее через голову карлика и, хотя я не знал ничего ровным счетом о том времени, думаю, что он наградил его достаточно весомым подарком. Затем он подозвал меня и сказал:
– Мне кажется, что ты преуспел в использовании лука и в охоте на львов, египтянин. Я награжу тебя, сегодня днем твоя колесница поедет рядом с моей, и мы поохотимся вместе. Более того, я предлагаю тебе пари насчет того, кто убьет больше львов, потому что знай, Шабака, что я также владею луком, причем гораздо лучше, чем многие из миллионов моих подданных.
– Тогда, мой царь, для меня мало проку соревноваться с тобой, тем более что я видел людей, которые стреляют лучше меня, или, говоря правду, поскольку на востоке все говорят только правду и египтяне не лгуны, что отрицал погибший принц, я знаю одного человека.
– Кто был этот человек, Шабака?
– Властитель Пероа, мой царь.
Царь помрачнел, явно ему не понравилось то, что он услышал, и он ответил:
– Значит, я не более велик, чем Пероа, и не могу, таким образом, стрелять лучше?
– Без сомнения, мой царь, тем более, как могу я, стреляющий хуже, чем Пероа, быть тебе достойным соперником?
– По этой причине я предоставлю тебе преимущество, Шабака. Посмотри на эту нитку розового жемчуга, которую я ношу. Он не имеет равных во всем мире, купцы искали его двадцать лет еще во времена моего отца. На половину этих жемчужин можно купить провинцию. Я выставляю их, – здесь слушавшие внимательно и сопровождавшие нас знатные люди открыли рты от удивления, а толстый евнух Хуман в ужасе воздел руки.
– Против чего, мой царь?
– Против твоего раба, Бэса, на которого я поставил.
Я вздрогнул, а Бэс округлил свои желтые глаза.
– Прошу прощения, о Царь царей, – возразил я, – но этого недостаточно. Я охотник, поэтому царский жемчуг мне не очень-то и нужен. Но карлик необходим для охоты.
– Пусть будет так, Шабака, тогда я кое-что добавлю к пари. Если ты выиграешь, то вместе с жемчугом я дам тебе столько золота, сколько весит карлик.
– Царь очень щедр, – отвечал я, – но и этого недостаточно, потому что, если я выиграю в борьбе против того, кто стреляет лучше Пероа, что невозможно, что я буду делать с таким количеством золота? Наверняка меня постараются убить, и вряд ли я увижу берега Египта.
– Что тогда я должен еще добавить? – спросил царь. – Самую красивую из царства женщин?
Я покачал головой:
– Нет, мой царь, потому что в этом случае я вынужден буду жениться на той, кто останется одинокой.
– В этом нет необходимости, ты можешь отправить ее своему другу Пероа. Может, тебе нужна провинция?
– Нет, царь, тогда я должен буду управлять ею, что отвлечет меня от охоты, до тех пор пока царь не отрубит мне голову.
– Тогда ради всего святого, что я должен добавить к жемчугу и чистому золоту?
Я попытался заставить себя думать о чем-то, что царь не сможет мне дать, хотя у меня вовсе не было никакого желания иметь это, кроме того, мое сердце предупреждало меня о том, что все это плохо кончится. Поскольку никакая мысль не приходила мне в голову, я посмотрел на Бэса и увидел его глаза, направленные на шестерых несчастных охотников, которых уводили прочь. Притворяясь, будто отгоняет муху, он указал на них одним из львиных хвостов. Тут я вспомнил, что приговор, однажды произнесенный царем Востока, не может быть изменен, и увидел путь к их спасению.
– О царь, – сказал я, – вместе с жемчугом и золотом я прошу добавить к условиям пари жизни этих шестерых охотников. Пощади их, если я выиграю.
– Зачем они тебе? – спросил царь.
– Затем, что они смелые люди, мой царь, и я не хотел бы видеть их кости в клетке для диких животных.
– Мой приказ уже записан? – спросил царь.
– Еще нет, мой господин, – ответил главный писарь.
– В таком случае он не имеет силы и может быть отменен без нарушения закона. Шабака, давай подтвердим наше пари. Если я убью больше львов, чем ты, или если двое будут убиты, я убью первым или никто не будет убит, но я всажу больше стрел в их тела, то я забираю твоего раба, карлика Бэса, чтобы он стал моим рабом. Но если ты окажешься лучше меня тем или иным образом, я отдаю тебе этот шнурок с розовым жемчугом и столько золота, сколько весит карлик, и эти шестеро охотников будут освобождены, и ты сможешь делать с ними все, что захочешь. Давайте запишем все и отправимся на охоту.
Вскоре мы с Бэсом уже ехали в своей повозке, которая по команде отправилась вместе с колесницей царя, но на расстоянии в тридцать шагов. Нагнувшись над карликом, который управлял лошадьми, я заговорил с ним:
– Нам сегодня не везет, Бэс, думаю, что еще до конца этой авантюры нам придется расстаться.
– Нет, мой господин, нам сегодня повезет, потому что к концу охоты вы станете богаче на нитку самого прекрасного жемчуга во всем мире, на столько золота, сколько весит мое тело (а я, мой господин, в два раза тяжелей, чем думает царь, и съем двадцать фунтов мяса перед взвешиванием, если у меня будет такая возможность, или, по крайней мере, выпью много воды, хотя в такой жаре она надолго не задержится). Кроме того, у вас появятся шесть отборных охотников, которые будут служить и сопровождать вас и наши сокровища на морское побережье.
– Сначала я должен выиграть, Бэс.
– Вы сможете сделать это и окосевшим на один глаз, мой господин, и одним пальцем, оставшимся из всех на двух руках. Цари наивно полагают, что они умеют стрелять, потому что вся чернь, которая толпится вокруг них, да и знатные люди тем более не осмеливаются показать, что они стреляют намного лучше. Я слышал истории вон в том городе. Бывали дни, когда этот господин всего мира упускал шесть львов, используя множество стрел, и эти большие кошки мурлыкали, будучи прирученными зверьми, привезенными издалека в деревянных клетках, да жмурились, как кошки на солнце. Посмотрите, мой господин, он пьет слишком много вина и поздно успокаивается в своем гареме, а ведь там триста женщин, мой господин. Если вы сомневаетесь, посмотрите на его глаза и руки. Жемчуг, золото и люди, можно считать, уже ваши, а этот крашеный принц, который смеялся над нами, где он теперь? Лежит мертвый в грязи.
Хотите, мой господин, я расскажу вам, как я сделал это? Вы знаете лучше, чем я, что львы ненавидят тех, кто имеет на себе запах их собственной крови. Таким образом, пока я указывал дорогу, я коснулся крашеного принца окровавленным хвостом льва, которого мы убили, притворившись, что это случайность, за которую он ругал меня последними словами. И когда мы подошли к мертвому льву и, как я ожидал, встретили раненую львицу, она прыгнула на принца через охотников, поскольку он пах, как ее супруг-лев, и откусила ему голову.
– Бэс, но на тебе ведь тоже был его запах, даже еще хуже.
– Да, мой господин, но этот крашеный брат царя шел первым. Я держался позади него, притворяясь, что испугался, – и он тихо хихикнул, добавив: – Я думаю, что сейчас он клянет меня Осирису на чем свет стоит, а может быть, и кузнечику, который забрал его туда, ведь всякое может быть.
– Эти жители Востока не поклоняются ни Осирису, ни твоей Саранче, Бэс, они поклоняются пламени огня.
– Тогда он рассказывает историю огню. Я надеюсь, что он ему надоест, и огонь сожжет его.
Мы весело болтали, понимая, что сделали огромное дело, и думали, что перехитрили этих жителей Востока и их царя, не подозревая об их коварстве. Потому что никто не рассказал нам, что человек, который охотится с царем, осмелившийся выпустить стрелу в добычу перед тем, как это сделает царь, будет приговорен к смерти, как человек, который нанес обиду его величеству. Эта царственная лиса все это хорошо знала и помнила, поэтому была уверена, что непременно выиграет пари.
Колесницы повернули и проехали по тропе, которая вывела нас к открытому пространству, оно было очищено от зарослей. Здесь они остановились, причем колесница царя и моя оказались рядом, в десяти шагах друг от друга, а приближенные царя – чуть позади. Между тем охотники с собаками шли в зарослях далеко справа и слева от нас, а также впереди, таким образом, чтобы можно было гнать львов назад и вперед через открытое пространство.
Вскоре мы услышали, как гончие подали голос со всех сторон. Потом Бэс издал всасывающий звук своими огромными губами и указал на край зарослей впереди, в шестидесяти шагах от нас. Взглянув туда, я увидел песочного цвета тень, крадущуюся вперед между темными стеблями, и, хотя для выстрела было далеко, я забыл обо всем, потому что был охотником, и это была моя игра, я поднес стрелу к уху, прицелился и выстрелил, запомнив место ее падения с поправкой на ветер.
Это был хороший выстрел. Стрела попала льву в тело и прошла насквозь. Он вскочил с ревом и стал кататься по траве от боли. Но в это время я натянул вторую стрелу, и, хотя царь уже поднял свой лук, я выстрелил первым. И снова попал, на этот раз в горло, лев взвыл и испустил дух.
Царь глянул на меня со злостью. Сзади, со стороны окружения, раздался ропот удивления, смешанный с глубоким возмущением, они не удивлялись моей меткости, а возмущались, потому что я осмелился выстрелить раньше царя.
– Пока что победа на нашей стороне, – прошептал Бэс, но я умолял его молчать, потому что тут как раз зашевелились другие львы.
Теперь один из них выскочил на открытое пространство, оказавшись перед царем, в тридцати шагах от нас. Он выстрелил и промахнулся, отправив свою стрелу на два дюйма выше его спины. Затем выстрелил я и пустил стрелу как раз в то место, где голова соединяется с шеей, пробив шейную артерию, что привело к мгновенной смерти.
Снова пронесся ропот, а царь ударил своего возницу по голове кулаком, крича, что тот не удержал лошадей и должен быть выпорот за то, что заставил руку дрогнуть.
Этот возница, хотя и был знатным человеком, поскольку на Востоке люди высокого ранга служили царю как рабы и даже стригли ему ногти и бороду, униженно умолял о прощении, признавая свою вину.
– Это ложь, – прошептал Бэс, – лошади не двигались. Как они могли это сделать, если конюхи держали их головы? Во всяком случае, мой господин, можете считать, что жемчуг уже на вашей шее.
– Молчи, – ответил я. – Как мы слышали, на Востоке все люди говорят правду, лгут только египтяне. И на шеях восточных людей тоже висит тетива, так же как и жемчуг, и у них длинные уши.
Гончие продолжали завывать, приближаясь к нам. Львица выпрыгнула из зарослей, подбежала к колеснице царя и, пока все стояли, открыв рты, села, как собака, так близко, что ее можно было достать камнем. Царь быстро выстрелил, попав лишь в переднюю лапу, стрела отскочила и упала в траву, в то время как подданные позади закричали:
– Слава царю! Зверь мертв!
– Мы сейчас увидим, действительно ли это так, – сказал Бэс, а я кивнул.
Еще один лев возник справа от царя. Он снова выстрелил и промахнулся, начав ругаться и выкрикивать свои царские клятвы, а возница затрепетал от ужаса. И тут все закончилось.
Одна из гончих подобралась достаточно близко и прыгнула на львицу, которая была ранена. Она обернулась и убила ее одним ударом лапы, затем, озверев, бросилась прямо на колесницу царя. Лошади встали на дыбы, сбив конюхов с ног. Царь испуганно выстрелил и упал назад, за повозку, как могут делать только цари, если ничего другого им не остается. Львица увидела, что он упал, и прыгнула на него, прямиком за повозку. Когда она прыгала, я выстрелил в нее и проткнул стрелой поясницу, парализовав животное. Хоть она и упала около царя, но приблизиться к нему и тем более напасть она уже не могла.
Я выскочил из своей повозки, но перед тем, как успел добраться до львицы, подбежали охотники с копьями и закололи ее, что оказалось делом не таким сложным, потому что та была обездвижена.
Царь поднялся с земли, он не был ранен, и громко сказал:
– Если моя стрела не попала бы в цель, я думаю, что восточный мир сегодня вечером поклонялся бы другому царю.
И тогда, забыв, что я говорю с царем всей земли, забыв о пари и обо всем остальном, я воскликнул:
– Эй, твоя стрела промазала, это моя попала.
А все придворные закричали:
– Этот египтянин лжет и называет лгуном царя!
– Я лгу? – вскричал я возмущенно. – Посмотрите на стрелу и проверьте, из чьего колчана она выпущена, – и я вытащил одну из своего собственного, сделанного в Египте и отмеченного моим знаком.
Началась суматоха, все придворные и евнухи заговорили одновременно, но все кланялись выпачканному в грязи царю, как пшеничные колосья жмутся к стеблю во время грозы. Не желая и далее никого убеждать в своей правоте, я вернулся к повозке, и для меня охота была закончена, как я решил, поэтому я затянул свой лук, который ценил превыше всех призов, и убрал его на место.
В это время ко мне приблизился евнух Хуман с гнусной ухмылкой и сказал:
– Египтянин, царь требует твоего присутствия, чтобы ты мог получить свою награду.
Я кивнул, сказав, что сейчас приду. Евнух удалился.
– Бэс, – сказал я, когда убедился, что евнух не слышит меня, – у меня плохое предчувствие, я не доверяю царю. Мне кажется, что мне грозит зло.
– Я тоже так думаю, мой господин. Мы были дураками. Когда бог и человек влезают на дерево вместе, человек должен позволить богу взобраться первым и сказать всему миру, что бог – это он.
– Да, – ответил я, – но кто из нас видит мудрость, до тех пор пока она не начинает ускользать? Может быть, бог, будучи сильней, свергнет человека.
Мы оба отправились к царю, оставив воинов сторожить нашу колесницу. Царь сидел на золотом стуле, служившем ему троном, позади него стояли его воины, евнухи и помощники, хотя и не все, на небольшом расстоянии от них другие наказывали прутьями знатного человека, орущего от боли, который был возницей царя. Мы распростерлись перед царем и ожидали, пока он заговорит. В конце концов он произнес:
– Египтянин по имени Шабака, мы заключили с тобой пари, условия которого ты помнишь. Кажется, ты его выиграл, потому что убил двух львов, в то время как я, царь, убил одного, который прыгнул на нас возле повозки.
Бэс тихонько, так, чтобы только я слышал, застонал, а я поднял голову.
– Ничего не бойся, – продолжал он, – все будет оплачено.
Тут царь снял с себя нитку бесценного красно-розового жемчуга и швырнул мне в лицо.
– Кроме того, во дворце, – продолжал царь, – карлика взвесят, и ты получишь столько чистого золота, сколько он весит. Помимо этого тебе принадлежат жизни шестерых охотников, а значит, и они сами.
– Да продлятся дни царя вечно! – воскликнул я, чувствуя, что должен что-то сказать.
– Я надеюсь на это, – ответил тот сурово, – но, египтянин, твои дни сочтены, потому что ты нарушил законы страны.
– Какие, о мой царь? – спросил я, чувствуя, что вот оно, начинается…
– Выстрелив в льва перед тем, как царь вставил стрелу в лук, и сказав царю, что он лжет, прямо в лицо. Оба эти нарушения заслуживают смерти.
Тут мое сердце переполнилось яростью. Но вдруг я преисполнился решимости, встал на ноги и сказал:
– О царь, ты объявил, что я должен умереть, пусть будет так, я не буду больше преклонять колени перед тем, как предстать перед взором Осириса, который значительно более велик, чем любой царь, предстающий перед ним с чистыми руками. Не вы ли издали закон, по которому приговоренный к смерти имеет право изложить свое дело для защиты своего имени?
– Так и есть, – сказал царь. Я думаю, что ему было просто любопытно услышать, что я могу сказать. – Продолжай же.
– О царь, несмотря на то что я столь же высоких кровей, что и вы, о чем я ничего не буду говорить, я прибыл на Восток из Египта по желанию вашего наместника, чтобы показать, как мы, египтяне, умеем убивать львов и других зверей. Три месяца я провел в ожидании позволения увидеть царя – и все напрасно. В конце концов я был приглашен на эту охоту в тот момент, когда собирался возвращаться к себе домой. Я подвергся насмешкам со стороны ваших слуг, вошел в заросли вместе со своим слугой и там убил льва. Затем мне пришлось заключить с вами пари, чего я делать не хотел, – кто из нас убьет больше львов. Теперь я понял, что вы не предполагали, что я могу победить, как бы хорошо я ни стрелял, потому что вы думали, что я не буду стрелять вообще до тех пор, пока вы первый не выстрелите и не убьете зверей или не напугаете их.
Итак, я состязался с вами, как охотник против охотника, потому что на этом поле мы с вами равны. Я состязался не как раб против царя, который решил отомстить за поражение смертью. Мы объявили об этом, потом вышли львы. Я выстрелил в того, кто появился с моей стороны, оставив того, кто был с вашей стороны, целым и невредимым, что обычно и происходит во время охоты. Мое мастерство или моя удача помогли мне больше, чем вам, и я попал, а вы промахнулись или только ранили. В конце концов на вас прыгнула львица, и я выстрелил, потому что иначе она убила бы вас, что легко можно проверить по стреле в ее теле. И теперь вы говорите мне, что я должен умереть, потому что нарушил какие-то законы, которые стыдно было бы вообще принимать. Чтобы спасти свою честь, вы платите мне, потому что я победил, прекрасно зная, что и жемчуг, и золото, и рабы не имеют никакой ценности для мертвого человека и будут возвращены вам обратно. Вот моя история.
Я должен добавить еще кое-что. Вы, жители восточных земель, учите своих детей двум вещам. Первая – как стрелять из лука. Вторая – говорить правду. Мой царь, это мои последние наставления. Учитесь стрелять из лука – потому что вы не умеете этого делать. И учитесь говорить правду, потому что вы этого тоже не делаете. Я все сказал и готов умереть. Я благодарю вас за то терпение, с которым вы выслушали мои слова. И, поскольку ни один царь не живет вечно, я надеюсь однажды повторить их по ту сторону этого мира.
Все знатные люди и помощники царя открыли рот от удивления, выслушав мою смелую речь. Никто никогда не слышал таких слов, обращенных к его величеству. Царь покраснел, как будто от стыда, но ничего не ответил, лишь спросил про этого смельчака:
– Чего заслуживает этот человек?
– Смерти, о царь! – закричали они в один голос.
– Какой смерти? – спросил он снова.
Советники посоветовались между собой, и один из них ответил:
– Самой медленной по нашим законам, смерти в лодке.
Я услышал это и, не зная, что это значит, решил, что меня посадят в лодку, пустят на волю волн и оставят умирать от голода.
– Вот награда за хорошую охоту! – засмеялся я. – О мой царь, за это постыдное деяние я проклинаю вас от имени всех богов всех племен и народов. С этого времени ты будешь видеть только страшный сон о своем последнем дне, а в конце концов ты тоже умрешь в крови.
Царь открыл рот, словно хотел ответить, но ничего, кроме низкого страшного крика, не вырвалось из его горла. После этого подскочила охрана и схватила меня.
Глава VI Приговор
Охранники отвели меня к моей колеснице и затолкали в нее, вместе со мной был и Бэс. Я спросил охранников, приговорен ли Бэс к смерти, как и я. Евнух Хуман ответил, что нет, поскольку он не совершил никакого преступления, но ему необходимо поехать со мной, чтобы взвеситься. Потом солдаты взяли лошадей под уздцы и повели их, в то время как остальные, забрав мой лук и наше оставшееся оружие, окружили повозку плотным кольцом, чтобы мы не сбежали. Мы с Бэсом могли поговорить только на ливийском наречии, который ни один из них не понимал, даже если они и слышали наши слова.
– Твоя жизнь спасена, – прошептал я ему, – царь может забрать тебя в качестве раба.
– В таком случае он получит не очень хорошего раба, мой господин, потому что, клянусь Саранчой, что в течение ночи я придумаю способ убить его, а после этого присоединюсь к вам в землях, где люди охотятся честно.
Я улыбнулся, а Бэс тем временем продолжал:
– Теперь мне хотелось бы, чтобы у меня хватило времени научить вас, как держать язык за зубами, потому что, возможно, вам это пригодится в той лодке, о которой они говорят.
– Бэс, не говорил ли ты мне час или два назад, что только дураки вручают свою судьбу в руки смерти, если она сама не протягивает к нам руки? Я не умру, по крайней мере умру не сейчас.
– Почему, господин? Ведь только сегодня днем вы умоляли меня убить вас, лишь бы только не быть брошенным к диким тварям? – спросил Бэс, глядя на меня с любопытством.
– Ты помнишь старого отшельника, святого Танофера, который находился в погребе над могилой быков Аписа на кладбище в пустыне около Мемфиса, Бэс?
– Того волшебника и оракула, который был братом вашего деда, мой господин, и сыном царя, того, кто воспитывал вас, пока не стал отшельником? Да, я хорошо знаю его, хотя редко бывал рядом, потому что его глаза пугали меня, как они пугали Камбиза, персидского царя, захватившего Египет, когда Танофер проклял его и предсказал ему несчастную судьбу. Это случилось после того, как Камбиз повредил священного Аписа, и тогда Танофер сказал, что он умрет от раны, которую нанесут ему мечом. Его глаза пугали многих других людей.
– Да, Бэс, когда тот царь сказал мне, что я должен умереть, страх переполнил меня, потому что я не хотел умирать, а потом этот же страх заполнил чернотой мой рассудок. Внезапно в этой темноте я увидел Танофера, моего великого дядю, который сидел в могиле, глядя на Восток. Больше того, я слышал, как он говорил, обращаясь ко мне: «Шабака, мой воспитанник, ничего не бойся. Ты в великой опасности, но все пройдет. Поговори с Великим царем обо всем, что тревожит твое сердце, потому что боги мести используют твой язык и какое бы пророчество ты ни произнес, оно будет исполнено». Именно поэтому я сказал те слова, которые ты слышал, и ничего не боялся.
– Это действительно так, мой господин? Если да, я думаю, что святой Танофер, должно быть, вошел и в мое сердце. Знай, что я намеревался прыгнуть на царя и сломать ему шею, так что мы трое должны были окончить свою жизнь одинаково. Но внезапно что-то подсказало мне оставить его в покое и позволить судьбе идти так, как предписано. Но как может святой Танофер, который с годами ослеп, видеть так далеко?
– Я не знаю, Бэс, может быть, потому, что он не такой, как остальные люди, ведь в нем собрана вся древняя мудрость Египта. Кроме того, он живет с богами, которые все еще обитают на земле, и, как остальные боги, может отправлять свой Ка, как мы, египтяне, называем этого духа, или нечто невидимое, что сопровождает его от колыбели до могилы, и после смерти пребудет с ним, где бы он ни оказался. Несомненно, он отправил его мне, которого он любил больше всех на земле. А еще я помню, что перед тем, как я начал это путешествие, он сказал, что я вернусь в целости и сохранности и в полном здравии. Вот поэтому, Бэс, я ничего не боюсь.
– И я не боюсь, мой господин. Если вы увидите, что я делаю странные вещи, или услышите, что я говорю странные слова, не обращайте на это внимания, потому что я буду играть роль мудрейшего.
После этого мы заговорили о сегодняшнем приключении со львами и о других, которые мы пережили вместе. Мы весело смеялись все это время, а солдаты смотрели на нас как на сумасшедших. А толстый евнух Хуман, который сидел на осле, подъехал к нам и спросил:
– Египтянин, который осмелился дважды провести Великого царя, чему ты смеешься? В лодке ты запоешь по-другому, не так, как в своей колеснице. Подумай о моих словах через восемь дней.
– Я подумаю о них, евнух, – ответил я, глядя ему прямо в глаза, – но кто знает, какую песню будешь петь ты через восемь дней?
– То, что я делаю, закреплено властью древней и священной Печати Печатей, – ответил тот дрожащим голосом, трогая маленький цилиндр из белой ракушки, который я заметил на самом царе. Теперь он свисал с золотой цепочки, которая блестела на шее евнуха.
После этого он сделал знак, который выходцы с востока используют для предотвращения зла, потом снова отъехал, выглядев при этом очень испуганным.
Итак, мы приехали в царский город и направились в прекрасный дворец. Здесь нас высадили из повозки и провели в комнату, где был накрыт стол и имелись в огромном количестве еда и питье, и я даже подумал, что меня принимают за какого-то важного гостя, и это меня позабавило и удивило. Бэс уселся на полу на некотором расстоянии от меня, он тоже пил и ел, поскольку у него были свои причины набить живот, как будто это был бурдюк с вином, пока слуги не начали дразнить его обжорой.
Когда мы закончили есть, появились рабы, неся что-то вроде деревянной рамы, на которой были подвешены весы. Также пришли служащие царской сокровищницы, они несли кожаные мешки, в которых, когда их открыли, оказались монеты из чистого золота. Они поставили несколько мешков на одну чашу весов, затем приказали Бэсу встать на другую. Поскольку он оказался тяжелее, чем ожидалось, слуги были вынуждены отправиться в сокровищницу, чтобы принести еще золота, потому что Бэс, хоть и был невысоким, теперь сравнялся по весу с крупным человеком. Один из казначеев заворчал, сказав, что надо было взвешивать перед тем, как он ел и пил. Но чиновник, к которому он обратился, усмехнулся и ответил, что это ничего не меняет, потому что царь наследует все имущество преступников и эти мешки скоро вернутся в сокровищницу, только их придется отмыть. Надо заметить, что эта реплика меня несказанно удивила.
Они поставили несколько мешков на одну чашу весов, затем приказали Бэсу встать на другую
Наконец, когда весы были наполнены, привели шестерых охотников, чьи жизни я выиграл и которые были отданы мне в качестве рабов, и на плечи им положили мешки с золотом. Я был схвачен, руки мне связали за спиной. Я поступил под охрану евнуха Хумана, который проинформировал меня с плохо скрываемой злобой, что ему поручено проследить, чтобы мне обеспечили все удобства до самого моего конца. Вместе с ним было четверо черных людей, одетых одинаково. Это были, как сказал евнух, палачи. Последним прибыл Бэс под охраной трех царских конвоиров, вооруженных копьями, на случай, если карлик попытается освободить меня или причинить кому-то зло.
Мое сердце забилось быстрее, и я спросил Хумана, что же будет со мной.
– А вот что, о египтянин, убивающий львов! Тебя водрузят на ложе в маленькой лодке, спустят на воду, а другую расположат над тобой. Мы называем эти лодки «близнецами». Твоя голова и руки будут на одной стороне, а ноги – на другой. Так тебя и оставят. Тебе будет удобно, как младенцу в колыбели. Дважды в день тебе будут приносить лучшую еду и напитки. Если у тебя пропадет аппетит, моей обязанностью будет пробуждать его при помощи уколов ножа. После каждого приема пищи я буду умывать твое лицо, твои руки и ноги молоком и медом, чтобы мухи, кружащие над тобой, не испытывали голода, а также убирать за тобой естественные отправления. Также я буду защищать твою кожу от солнечных ожогов. Таким образом, ты будешь медленно слабеть и однажды уснешь. Последний, кто был в лодке, – этот тот несчастный, который случайно вошел во двор гарема и видел нескольких женщин с непокрытой головой, он продержался двенадцать дней, а ты, значительно более сильный, проживешь дней восемнадцать. Еще что-то тебя интересует? Если так, то спрашивай быстрей, потому что мы уже рядом с рекой.
Теперь, когда я услышал это и понял весь ужас того, что меня ожидает, то сразу забыл видение своего великого дяди, святого Танофера, и его благоприятные пророчества. У меня заболело сердце, и я не мог сдвинуться с места.
– Ну что, охотник на львов и посланник царей, ты думаешь, что еще рано отправляться в постель? – усмехнулся этот злобный евнух. – Я буду с тобой, – и он начал хлестать меня по лицу ручкой веера.
И тут мужество вернулось ко мне.
– Когда это царь приказал тебе прикасаться ко мне, жирная свинья? – заревел я, повернулся, потому что иначе не мог дотянуться до него связанными руками, и ударил в живот со всей силы, так что он упал, скорчившись и крича от боли. Если бы не охранники, бросившиеся на меня, я мог бы лишить его жизни, пока он лежал. Однако они тут же схватили меня, и Хуман быстро оправился от ударов и оперся на плечи двух охранников. Только теперь он больше не насмехался надо мной.
Мы достигли причала, когда солнце уже садилось. Здесь под охраной одноглазого черного раба в устье реки плавала маленькая квадратная лодка, а на самом причале лежала вверх дном такая же, но более короткая. Теперь охотники, которых я выиграл в пари, смотрели на меня с состраданием, потому что это были смелые люди, и они знали, что именно я спас их жизни. Они разместили мешки с золотом на дне плавающей лодки, на носу которой лежал тюфяк, набитый соломой. Мне на пояс повесили ожерелье из красного жемчуга, руки развязали. Палачи схватили меня и положили на тюфяк. Мои запястья и щиколотки были привязаны к железным кольцам, прикрепленным к банкам на лодке. После этого другая, более короткая лодка была расположена сверху таким образом, что она не касалась меня, оставив мою голову, руки и ноги незащищенными, как и говорил евнух.
Пока делалась эта страшная работа, Бэс сидел на причале и смотрел, как меня прикрепляли и закрывали второй лодкой. После этого он начал смеяться, хлопать в ладони и танцевать с радостным видом, пока евнух, который уже оправился от удара, не спросил с любопытством, что это с ним случилось.
– О благородный евнух, – отвечал Бэс, – когда-то я был свободен, и этот человек сделал меня рабом, и много лет я должен был трудиться для него вопреки своей воле. Более того, он часто бил меня и морил голодом, именно поэтому я так много ел в последний раз, когда вы это видели. Он угрожал убить меня, и теперь наконец-то я отомстил ему, увидев, что он обречен на ужасную смерть. Вот почему я и смеюсь, и пою, и танцую, и хлопаю в ладоши. О, самый благородный евнух, теперь я стану почитателем и слугой Великого царя всей земли и, возможно, твоим другом тоже, о, евнух из евнухов, чью священную персону мой жестокий хозяин осмелился ударить.
– Я понял, – сказал евнух, улыбаясь, хотя на самом деле его лицо искривилось в гримасе, – и доложу царю обо всем, что ты сказал, и попрошу в качестве награды для тебя, чтобы ты смог однажды уколоть этого египтянина в глаз. А теперь плюнь ему в лицо и скажи все, что ты о нем думаешь.
Бэс вошел в воду, здесь было достаточно мелко, плюнул мне в лицо или только притворился, что плюнул, произнося при этом стремительный поток слов на отвратительном языке, некоторые из них звучали на ливийском и означали: «О, мой обожаемый отец, моя обожаемая мать и другие родственники, ничего не бойтесь. Хотя все складывается не очень хорошо, помните видение святого Танофера, который, без сомнения, допустил, чтобы все это случилось с вами, чтобы через вас передать приказ богов. Будьте уверены, что я не оставлю вас умирать, а если не будет возможности убежать, я найду способ избавить вас от мук и отомстить за вас. О, да, я увижу, как эта проклятая свинья, Хуман, окажется на вашем месте в этой лодке. А теперь я отправлюсь ко двору, потому что мне кажется, что эта золотая цепь дает мне право войти, как говорит евнух. Но я скоро вернусь».
Затем последовал новый поток самых ужасных и еще более грязных ругательств, после чего он вышел на берег и обнял Хумана, называя его своим лучшим другом.
Они ушли, оставив меня одного в лодке, которую охраняли воины на причале. Наступила темнота, и воцарилась полнейшая тишина. Мне было очень одиноко лежать, глядя в звездное небо в компании лишь жалящих мошек, и вскоре мои конечности начали неметь. Я думал о тех несчастных, которые страдали в этой же самой лодке, и удивлялся превратности судьбы, по которой их участь стала и моей.
Бэс был верным и умным человеком, но что мог сделать один карлик с этими демонами с черными сердцами? А если он не сможет ничего сделать? О, если он не сможет ничего сделать?
Секунды слагались в минуты, минуты – в часы, а часы казались годами. Какими же должны были быть дни, которые я должен был провести в муках и страданиях, ожидая такой жалкой смерти? Где боги, которым я поклонялся, или хотя бы один бог? Или человек занимается самообманом, думая, что создает богов, в то время как боги создают его, потому что он не любит думать о вечной тьме, в которой он вскоре исчезнет? Да, по крайней мере все это напоминало сон, а сон лучше, чем страдания тела или души.
Я думал именно так, потому что очень устал. Я с трудом приоткрыл глаза, чтобы увидеть, что низкая луна исчезла, а некоторые звезды, которые я знал, будучи охотником, и часто находил по ним дорогу, как бы немного сдвинулись. Я с удивлением думал о том, почему это случилось, как тут же услышал громкие шаги солдат по настилу причала и голос командира, отдающего команду. Потом я почувствовал, что лодку притягивают за веревку, которой она была пришвартована к причалу. Затем верхняя лодка была снята, канаты, которыми она крепилась, убраны, а я поставлен на ноги, потому что был настолько слаб, что едва мог стоять самостоятельно. Голос – а я узнал евнуха Хумана – уважительно обратился ко мне, что заставило меня подумать, что я сплю.
– Благородный Шабака, – молвил голос, – Великий царь потребовал твоего присутствия на пиру.
– Неужели? – ответил я в своем сне. – Но тогда мое отсутствие на их пиру рассердит мошек этой реки.
Хуман и другие угодливо захихикали. Потом я услышал, как мешки с золотом вытаскивают из лодки, после чего мы ушли. Охрана поддерживала меня под локти, пока я снова достаточно не окреп. Хуман следовал позади, возможно, потому, что боялся, что, если будет идти впереди, я пну его ногой.
– Что изменилось, евнух – спросил я некоторое время спустя, – раз я был потревожен в моей постели, когда уже крепко спал?
– Я не знаю, господин, – отвечал тот. – Я только знаю, что царь царей неожиданно приказал, чтобы тебя привели к нему в качестве гостя, одетого в одежды знатного человека, даже если бы для этого пришлось разбудить тебя, и ты должен будешь присутствовать за его собственным царским столом, потому что этой ночью у него пир. Господин, – продолжал он жалобным голосом, – если фортуна сегодня изменила свое отношение к тебе, я умоляю тебя не держать зла на тех, кто, пока фортуна была не на твоей стороне, под давлением главной печати был вынужден против своего желания выполнять команды царя царей. Будь справедлив, господин Шабака.
– Ничего больше не говори. Я постараюсь быть справедливым, – ответил я. – Но много ли справедливости на Востоке? Я слышал только о египетской.
Мы достигли дверей дворца, и меня провели в комнату, где ждали рабы. Там меня помыли и умастили ароматными маслами, после чего переодели в прекрасную шелковую одежду и подпоясали ожерельем из красного жемчуга.
Когда рабы закончили свою работу, я, сопровождаемый Хуманом, был проведен в огромный зал с колоннами, прикрытый шелковыми портьерами, где собрались пировавшие. Я миновал проход и подошел к возвышению в начале зала, где между наполовину прикрытыми занавесками сидел на золотом троне во всей своей славе царь, окруженный виночерпиями и другими слугами. В руке он держал сверкающий кубок. Взглянув на царя, я понял, что тот пьян, что явно в моде у выходцев с Востока на их великих пирах, потому что он выглядел счастливым и человечным, чего никогда не бывало, если он был трезв. А возможно, как я подумал впоследствии, он лишь притворялся, что пьян. Я увидел кое-кого еще, а именно Бэса с золотой цепочкой на шее и одетого в красный головной убор. Он сидел на ковре перед троном и рассказывал царю что-то, что вызывало его смех, и даже его важные подчиненные позволяли себе улыбаться.
Я подошел к возвышению и по едва заметному знаку Бэса, который, казалось, еще не видел меня (такой знак он часто подавал, когда замечал прежде меня, что кто-то ведет игру), распростерся перед царем. Тот посмотрел на меня и сказал:
– Кто это? – и тут же сам ответил: – О, я помню, это египтянин, чьи стрелы не промахиваются, прекрасный охотник, которого Идернес прислал ко мне из Мемфиса, куда я давно хотел отправиться. Египтянин, мы ведь поссорились из-за льва, не так ли?
– Нет, мой царь, – отвечал я, – царь был сердит и справедлив, потому что я не мог убить льва до того, как он напугал его лошадей.
Я сказал так, потому что часы, проведенные мною в лодке, заставили меня смириться, а также потому, что эти слова были у меня на губах.
– Да, что-то такое помню, или ты хорошо лжешь. Что бы это ни было, все закончено, просто спор двух охотников, – и, взяв лежавший рядом длинный скипетр, который был украшен огромным изумрудом, он протянул его мне, чтобы я коснулся его в знак прощения.
Теперь я знал точно, что нахожусь в безопасности, потому что тому, кому царь протягивает свой скипетр, ниспослано прощение за все злодеяния, даже если он покушался на царскую жизнь. Двор тоже это знал, поэтому каждый человек, которого я видел, кланялся мне, даже слуги позади царя. Один из виночерпиев также подал мне кубок царского вина, которое я выпил с благодарностью, произнеся тост за здоровье царя.
– Египтянин, это был прекрасный выстрел, – сказал царь, – когда ты отправил стрелу и пронзил львицу, которая осмелилась напасть на мое величество. Да, царь обязан своей жизнью тебе, и он благодарен, как ты уже понял. Твой раб, – и он указал на Бэса в его ярком облачении, – разъяснил мне все дело, когда рассудок покинул меня, и, Шабака, – тут он икнул, – ты можешь сам увидеть, насколько по-разному видятся вещи невооруженным глазом и сквозь кубок с вином. Он рассказал мне удивительную историю. – Карлик, что это была за история?
– Позвольте мне, Великий царь, – отвечал Бэс, сверкая своими большими глазами, – лишь маленький рассказ о другом царе моей собственной страны, которого я считал великим до тех пор, пока не прибыл на восток и не узнал, какими могут быть настоящие цари. У этого царя был слуга, с которым он обычно охотился, на самом деле это был мой собственный отец. Однажды они вместе выслеживали какого-то слона, чьи бивни были больше, чем другие. Когда слон напал на царя, мой отец с риском для собственной жизни свалил его и добыл бивни, как это бывает у эфиопов. Но царь, которому очень хотелось иметь эти бивни, отравил моего отца и присвоил себе бивни в качестве добычи. Однако перед своей смертью мой отец, который умел говорить на языке слонов, рассказал остальным слонам об этом злодеянии, на что они очень рассердились, потому что знали с самого начала времен, что бивни принадлежат тому, кто добыл их по праву. А слоны, как люди, не любят, когда нарушаются древние законы. Слоны объединились между собой, и, когда царь в следующий раз отправился на охоту, не заботясь о себе, бросились на царя и разорвали его на мелкие кусочки размером с палец, а затем убили его сына-принца, который шел позади него. Вот такова история о слонах, которые любили закон, о, мой царь.
– Да, да, – сказал его величество, пробуждаясь ото сна, – но что стало с этими огромными бивнями? Мне бы хотелось иметь такие.
– Я унаследовал их, мой царь, как сын своего отца, и отдал своему господину, который, без сомнения, пришлет их тебе, как только вернется в Египет.
– Странная история, – заметил царь, – очень странная. Она напоминает мне ту, что случилась не так давно. Что это было? Ладно, это не имеет значения. Египтянин, хочешь ли ты какую-то награду за свой выстрел в львицу? Если да, ты получишь ее. Может, ты злишься на кого-то?
– О царь, – отвечал я, – я ищу справедливости в отношении одного человека. Этим вечером я был привезен на берег реки под охраной евнуха Хумана, который захотел уложить меня в лодку. По дороге, без всякой на той причины, он стал бить меня по голове рукояткой своего веера. Посмотрите, вот остались следы. Но я не припомню, чтобы царь приказывал бить меня, я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в отношении этого человека.
Царь пришел в ярость и закричал:
– Что? Эта собака осмелилась ударить свободного и благородного египтянина?
Хуман в ужасе упал ничком и начал лепетать непонятно что о наказании в лодке, что было явно лишним, потому что царь вдруг встрепенулся и озадачился.
– Лодка! – закричал он. – Да, конечно, лодка! Даже ты, такой жирный, поместишься в ней, евнух. В лодку его, а перед этим сто ударов розгами по ногам, – и он указал на него своим скипетром.
Охрана схватила Хумана и уволокла прочь. Когда его тащили мимо Бэса, то он схватился за него и зашипел ему что-то в ухо, но Бэс стал бить его по руке, пока тот не отцепился.
Итак, Хуман исчез, а его слуги от души смеялись над этим зрелищем, потому что евнух причинил всем много горя.
После этой сцены царь посмотрел на меня и спросил:
– Но зачем я потревожил твой сон, египтянин? О, я вспомнил. Этот карлик сказал, что видел самую прекрасную женщину на земле, к тому же очень образованную, какую-то даму из Египта, однако он не знает ее имени, но ты один знаешь его. Я разбудил тебя, чтобы ты сказал мне это имя, а если ты его забыл, я могу снова отправить тебя в постельку, чтобы ты отдыхал, пока не вспомнишь его. На реке много лодок, египтянин.
– Самую красивую и образованную женщину на земле? – спросил я удивленно. – Кто же это может быть, если только не благородная Амада? – и я замолчал, постаравшись прикусить свой язык перед началом разговора, потому что вовремя почувствовал западню.
– Да, господин, – ответил Бэс звонко. – Это именно благородная Амада.
– Что это за Амада? – спросил царь, на глазах трезвея. – И что она из себя представляет?
– Я могу сказать тебе, царь, – сказал Бэс. – Она похожа на иву, которая качается на ветру благодаря своей гибкости и грации. Ее глаза, как у самки, которая восторженно смотрит на самца, губы похожи на бутоны роз. Ее волосы черны, как ночь, и мягки, как шелк, их запах распространяется вокруг нее, как аромат цветов. Ее голос шепчет, как вечерний ветер, и сладок, как мед. Она красива, как богиня. Когда мужчины видят ее, их сердца тают, как воск на солнце, и долгое время не могут взглянуть на других женщин до следующего дня, если встречают ее вечером, – и Бэс причмокнул своими толстыми губами и посмотрел вверх.
– Клянусь священным огнем, – рассмеялся царь, – я чувствую, как мое сердце уже тает. Скажи, Шабака, что ты знаешь об этой Амаде? Она замужем или еще девица?
Теперь отвечал я, во-первых, потому, что лодка была не так далеко, а во-вторых, я не хотел лгать.
– Она замужем, о Царь царей, за богиней Исидой, единственной, которую она любит.
– Женщина замужем за женщиной! Или даже за царицей всех женщин, – засмеялся царь, – что ж, это еще ничего не означает.
– Нет, царь, это значит много, потому что она под защитой Исиды и девственна.
– Это понятно, Шабака. Я думаю, что я осмелился бы возмутиться существованию любой фальшивой богини на небесах, чтобы только выиграть такой приз. Образованная, ты сказал, Шабака.
– О царь, она умна до кончиков ногтей, к тому же еще и провидица, та, в ком горит божественный огонь, как лампа в вазе из алебастра, та, к которой приходят видения и кто может читать прошлое и будущее.
– Уже лучше, – сказал царь, – именно она будет подходящей парой для Царя царей, который устал от толстых сладкоголосых дурочек, которых здесь повсюду сотни, – и он указал на гарем. – Кто ее отец?
– Он умер, но она племянница принца Пероа, по рождению благородная особа, о царь.
– Значит, из знатной семьи, это тоже хорошо. Слушай меня, Шабака. Завтра ты отправишься обратно в Египет, повезешь письма от меня к моему вассалу Пероа и к наместнику Идернесу. Ты попросишь Пероа передать Амаду Идернесу и попросишь Идернеса отправить Амаду на Восток со всеми почестями и без промедления, чтобы она могла войти в мою семью как одна из моих жен.
Я был полон гнева и ужаса и уже готов был отказаться от этой миссии, когда Бэс мягко произнес:
– Не будет ли любезен Царь царей отдать приказ обеспечить безопасное и почетное путешествие моего господина?
– Он уже отдан, потому что все дела, необходимые для египтянина и его слуги-карлика, сделаны, он получил золото, украшения и рабов, которых выиграл в пари, все это принадлежит ему. Пусть так и запишут.
Писари подбежали поближе и записали слова царя. Как во сне, я подумал, что они уже не могут быть изменены. Царь посмотрел на нас сонным взглядом, затем, кажется, проснулся окончательно и снова обрел ясный ум. В заключение он сказал мне:
– Египтянин, фортуна сегодня улыбалась и хмурилась тебе, но больше улыбалась. Помни, что у нее есть зубы, чтобы перегрызть горло обманщику. Если ты обманешь меня или не выполнишь мое поручение, будь уверен, что умрешь такой жестокой смертью, что вон та лодка покажется тебе ложем удовольствия. Вместе с тобой умрут и Амада, и ее дядя Пероа, и вся ваша родня, – добавил он, подавив вспышку злобы, – и даже этот уродливый карлик, которого я слушал, потому что он смешил меня, но который, наверное, более коварен, чем кажется на первый взгляд.
– О Царь царей, – сказал я, – я не обману, – но не сказал, кого именно.
– Хорошо. Вскоре я отправлюсь в Египет, как уже говорил тебе, и там оглашу приговор тебе и всем остальным. А теперь прощай. Ничего не бойся, потому что у тебя есть мое высочайшее позволение. Но сначала выпей и возьми кубок, а взамен отдай мне твой лук, который стреляет так далеко и так метко.
– Хорошо, царь, – ответил я, поднимая золотой бокал, который слуга подал мне.
Затем перед троном упали занавеси, и слуги подошли к нам с Бэсом, чтобы отвести нас к нашему жилищу. Один из них взял кубок и нес его впереди нас. Спустившись в зал, мы прошли мимо пирующих знатных людей, которые кланялись тому, кому Великий царь оказал милость. Мы вышли из дворца и темной ночью вернулись в дом, где я устроился, пока ждал аудиенции царя. Здесь слуги пожелали мне спокойной ночи, отдали кубок Бэсу и сказали, что завтра рано утром мне принесут мое золото и все то, что нужно для путешествия. Кроме того, один из них заберет лук, обещанный царю, который мне уже вернули вместе со всем нашим имуществом. После этого они поклонились и ушли.
Мы вошли в дом и поднялись по ступеням в верхние комнаты. Тут Бэс с облегчением запер дверь и ставни, чтобы удостовериться, что никто не увидит и не услышит нас.
Он повернулся, простер ко мне руки, поцеловал мою ладонь и залился слезами.
Глава VII Бэс крадет печать
– О мой господин! – еле сдерживался Бэс. – Я рыдаю от усталости, не обращай внимания. День был слишком длинным, и за это время ты, по крайней мере два раза, был на волосок от смерти. Моргание века, крохотный волосок, кончик ногтя – вот что отделяло вас от нее.
– Да, – сказал я, – и ты был этим веком, ногтем и волосом.
– Нет, господин, нет, это было что-то иное, что выше моего понимания. Долото вырубает статую, рука держит инструмент, но рукой управляет дух. Ко времени, когда взошло солнце, моя голова была пустой, как барабан. Потом что-то туда постучало, возможно, святой Танофер, может, кто-то другой, и оно знало, что нужно сказать. Это было, когда я проклинал вас в лодке. Это было, когда я возвращался с евнухом, думая убить его по дороге, но затем вспомнил, что смерть одного злобного евнуха вовсе не поможет вам, в то время как, оставшись живым, он может привести меня к царю, кстати, я не заплатил ему из того мешка золота, который я нес. Хотя он заслужил за свою работу, потому что, когда царь загрустил и вино еще не затуманило его разум, именно евнух подсказал ему, что я смогу его развеселить, я, уродливый и такой разный в своих выходках, потому что всего за несколько минут я сделал то, чего не смогли сделать женщины-танцовщицы.
– И что случилось потом, Бэс?
– Потом я был приглашен и проделал все свои трюки с этой змеей, которую я поймал и приручил и которая сейчас у меня в сумке. Вы не должны больше ненавидеть ее, господин, потому что она помогла нам сыграть свою игру. После этого царь начал разговаривать со мной, и я уже знал, что он чувствует неловкость из-за вас, поскольку сознавал, что поступил неправильно. Тогда я рассказал ему историю о слоне, которого мой отец убил, чтобы спасти царя, – она выросла в моей голове, как поганка ночью, это история про неблагодарного царя и о том, что с ним случилось. Тогда царь забеспокоился еще больше и спросил евнуха Хумана, где вы находитесь. Хуман ответил, что по приказу царя вы спите в лодке и вас нельзя беспокоить. Моя стрела не достигла своей цели, потому что царь не хотел что-либо менять в вашей судьбе, хотя и приказал привести вас из лодки, куда он же вас и отправил. Теперь, когда все казалось потерянным, какой-то бог, возможно, святой Танофер, который всегда присутствует во мне, чтобы видеть, что я его не забыл, вложил в царскую голову идею начать разговор о женщинах и спросить меня, видел ли я когда-нибудь кого-то красивее, чем танцовщицы, которых я встретил, когда проходил мимо. Я ответил, что не обратил на них внимания, потому что они были так уродливы, какими казались мне все женщины с тех пор, когда на берегах Нила я не встретил ту, которая была подобна Хатор в ее красоте. Царь спросил меня, кто бы это мог быть, а я ответил, что не знаю, поскольку не осмелился спросить имя той, которую даже мой господин почитал как богиню, хотя, будучи детьми, они воспитывались вместе.
Потом у царя наконец пробудилась совесть, и он потребовал от старого советника подсказать ему, нет ли такого закона, который давал бы царской власти возможность отменить свое решение, если таким образом он успокоит свою душу и получит новые знания. Советник ответил, что такой закон есть, и начал приводить примеры, пока царь не прервал его и не сказал, что, пользуясь этим законом, он приказывает вытащить вас из постели, которая находится в лодке, и привести к нему, чтобы ответить на вопрос.
Итак, господин, за вами послали, но я не пошел вместе со слугами, боясь, как бы царь не забыл обо всем до вашего прихода. Поэтому я был при нем и развлекал его историями об охоте, потому что не мог думать больше ни о чем, пока вы шли. На самом деле, я начал бояться, что он объявит об окончании пира. Но, в конце концов, в этот момент, когда он заскучал и заговорил с одним из советников о том, что скоро отправится в гарем, и велел предупредить, чтобы они были готовы принять его, вы наконец пришли. Остальное вы знаете.
Я посмотрел на Бэса и сказал:
– Пусть боги всех земель благословят тебя, ведь если бы не ты, лежать мне сейчас в муках в той лодке. Послушай, приятель: если мы когда-нибудь снова попадем в Египет, ты ступишь туда не рабом, а свободным человеком. Ты также станешь богат, Бэс, я обещаю, если мы заберем то золото, которое я выиграл, половина его – твоя.
Бэс припал к полу, и на его уродливом лице заблуждала странная улыбка.
– Господин, вы дали мне три вещи, – сказал он, – золото, которое я не хочу получать в качестве подарка, свободу, которой я не хотел и не хочу в будущем, пока вы живы и любите меня, и звание друга. Этого я и хочу, хотя не понимаю, почему слышу это из ваших уст, ведь я знаю, что многие годы вы звали меня так в своем сердце. Если вы сказали это, то я скажу то, что многие годы скрывал от вас. У меня есть право на это имя, потому что моя кровь так же благородна, как и ваша, Шабака. Знайте, что этот бедный карлик, которого вы взяли в плен и спасли много лет назад, был кем-то большим, чем простой вождь, каковым он сам себя назвал. Он по праву был царем Эфиопии, и свой трон, и богатство, и власть он может вернуть себе хоть завтра, если пожелает.
– Царь Эфиопии! – вскричал я. – О мой друг Бэс, умоляю, вспомни, что мы уже не во дворце, чтобы лгать ради нашего спасения.
– Я говорю правду, Шабака. Перед вами царь Эфиопии. Более того, я отказался от этого звания по собственной воле и, если пожелаю, могу вернуть себе власть, потому что эфиопы верны своим царям.
– Почему? – спросил я, пораженный.
– Господин, потому что я буду называть вас так до того момента, пока мы не прибудем в Египет, где вы обещали мне свободу. Вы не помните ничего странного в тех людях племени, из которого вы и египетские солдаты захватили меня внезапно, потому что они хотели выгнать вас и тех, кто следовал за вами, из своей страны?
Я подумал и ответил:
– Да, была одна странная вещь. Я не видел женщин в их лагерях и ни одного ребенка. Я знаю это потому, что отдал приказ пощадить их, но мне доложили, что ни женщин, ни детей не найдено. Именно поэтому я предположил, что все они ушли.
– Они не ушли, мой господин. Это было мужское братство, которое отказалось от женщин. Посмотрите на меня теперь. Я несчастен, отвратителен, не так ли? Я такой, потому что перед моим рождением моя мать была напугана карликом. Закон эфиопов гласит, что их цари должны жениться не позднее, чем через год после коронации. Следовательно, я выбрал женщину, которая станет царицей и которая давно мне втайне нравилась. Она посмеялась надо мной, поклявшись, что ни за какие троны всего мира не станет женой такого чудовища, а если ее возьмут силой, то она убьет себя. И сказала, что уедет прочь из наших земель. Я сказал, что ее слова справедливы, и отправил в безопасности из наших земель, после чего сложил корону и ушел с теми, кто любил меня, чтобы создать братство женоненавистников на землях ниже по Нилу, за пределами границ Эфиопии. Именно там египетские силы, которыми вы командовали, напали на нас, неподготовленных, и вы сделали меня своим рабом. Вот и все.
– Но почему ты поступил так, Бэс, ведь девушек много и не все думают одинаково?
– Потому что мне нужна была лишь она одна, мой господин, кроме того, я боялся, что стану отцом карликов-близнецов. Итак, я был царем и стал рабом, а дальше – кто знает, как прыгнет Саранча? Однажды из раба я стану царем. А теперь, как цари, побывавшие рабами, и как рабы, ставшие царями, давайте спать.
Мы легли и заснули, а я еще и благодарил богов, что моей постелью больше не была та лодка на великой реке.
Когда я проснулся отдохнувшим, хотя из-за всего того, что я пережил вчера, мой мозг еще не пришел в себя окончательно, свет уже пробивался через вырезанные из дерева окна. Я увидел, что Бэс сидит на полу и что-то делает со своим луком, который, как я уже сказал, был возвращен нам вместе с остальным оружием. Я спросил его сонным голосом, чем он занимается.
– Господин, – ответил мой слуга, – тот царь потребовал ваш лук, и он должен быть отправлен ему. Но в этом нет необходимости, потому что тот лук, которым вы убивали львов, вы цените больше всего на свете, и потому что вы получили его от своего предка, который был фараоном Египта. Кроме того, этот лук был вашим товарищем с самого детства, с тех пор, когда вы стали достаточно сильны, чтобы держать его. Если вы помните, я скопировал этот лук с лука из более светлого дерева, которое смог с легкостью согнуть, и эту копию мы отдадим царю. Но сначала я должен натянуть на него вашу тетиву, потому что она достаточно заметна. И надо сделать одну или две отметины, доказывающие, что это именно ваш лук. Именно это я сейчас заканчиваю делать, а начал я на рассвете.
– Да, ты умен, – сказал я, рассмеявшись, – и я очень доволен. Святой Танофер, однажды поглядев на мой лук, предсказал кое-что. Он увидел, что стрела, вылетев из лука, прольет кровь Великого царя и спасет Египет. Но он не смог увидеть, что это был за царь.
Карлик покачал головой и ответил:
– Я слышал эту историю, как и много других. Поэтому я и проделал этот трюк, ибо лучше, чтобы тот обитатель дворца получил стрелу, но не сам лук. Мне осталось сделать последнюю царапину, и никто, кроме вас и меня, не отличит их друг от друга. Пока мы не покинем эту проклятую страну, ваш лук – это мой лук, господин, а вы возьмете другой, сработанный выходцами с востока.
– Господин… – эхом повторил я вслед за ним. – Скажи, Бэс, я спал, или ты в самом деле прошлой ночью рассказал мне, что по рождению и по праву ты являешься царем великой страны?
– Я говорил вам об этом, господин, и это правда, а не сон, с тех пор как радость и страдание соединились и закрыли уста печатью молчания, я сказал то, что сердце вынуждено прятать. Теперь у меня есть просьба: не говорите об этом ни со мной, ни с кем-либо еще, будь это мужчина или женщина, до тех пор, пока я сам не заговорю на эту тему. Давайте вести себя так, как будто это действительно был сон.
– Я согласен, – сказал я, вставая и облачаясь, но не в свою одежду, которую у меня забрали во дворце, а в прекрасные шелковые одеяния, которые дали мне после того, как я был вызволен из лодки. После этого я умылся и расчесал свои длинные кудрявые волосы. Позднее мы спустились в нижнюю комнату и позвали служанку, чтобы нам принесли еду, которую я съел с большим удовольствием. Закончив трапезу, мы услышали крики на улице: «Дорогу царским слугам!» и выглянули в окно, где увидели огромную кавалькаду, приближающуюся к нам. Ее возглавляли два принца на лошадях.
– Я молюсь, чтобы этот тиран не изменил своего слова, и эти люди не приехали за мной, чтобы отправить обратно в лодку, – заметил я тихо.
– Не бойтесь, господин, – ответил Бэс, – все видели, что вы коснулись его скипетра и выпили из его кубка, который он дал вам. После этого уж точно никто не причинит вам вреда на тех землях, которыми он управляет. Успокойтесь и ведите себя с этим людьми независимо и гордо.
Минуту спустя вошли два принца в сопровождении слуг, которые несли множество вещей. Среди них были мешки, наполненные золотом, которые находились подо мной на дне лодки. Старший принц поклонился, приветствуя меня, назвав «господином», я поклонился в ответ. Он протянул мне какие-то свитки, перетянутые шелком и запечатанные. Я должен был доставить их по приказу царя его наместнику в Египте, а также принцу Пероа. Кроме того, он дал мне еще несколько писем, адресованных слугам царя, которых я должен был встретить по дороге. Они были написаны на глиняных дощечках на языке, которого я не мог понять. По восточной традиции я прикоснулся к ним лбом.
После этого один из принцев сказал мне, что к вечеру все будет готово к путешествию, которое я должен буду предпринять в ранге царского посланника, а значит, меня обеспечат провизией и слугами. Кроме того, у меня будет возможность использовать царских лошадей, меняя их от одного перегона до другого. Он приказал рабам принести те дары, которые царь послал мне, их было огромное множество, включая даже гибкую кольчугу, которая могла защитить от любого удара меча или стрелы.
Я поблагодарил его, сказав, что к вечеру буду готов отправиться, и спросил, не захочет ли царь увидеть меня до отъезда. Принц ответил, что тот очень хотел увидеть меня, но, страдая от головной боли, вызванной чрезмерным сиянием солнца, не сможет этого сделать. Однако он умолял меня не забывать все то, что говорил мне, и хотел быть уверенным, что благородная Амада, о которой я рассказывал, прибудет к нему без промедления. В этом случае моя награда будет огромной, но, если я не смогу выполнить его поручение, ярость его будет велика, и я погибну страшной смертью, как он и обещал.
Я поклонился и ничего не ответил, после чего он и его спутники открыли мешки с золотом, предлагая мне убедиться, что оно там есть, и взвесить снова, чтобы сравнить с весом слуги-карлика и чтобы я удостоверился, что из мешков ничего не пропало.
Я ответил, что слово царя правдивее, чем любые весы, но, несмотря на это, все мешки снова были развязаны и взвешены. Я взял лук, вернее его подделку, и, показав его принцам, завернул его и шесть моих собственных стрел в льняную ткань, чтобы передать царю, снабдив посланием, что, хотя стоит приложить усилия, чтобы натянуть лук, это самое смертельное оружие в мире. Старший принц принял его с почтением, поклонился и пожелал мне счастливого пути, сказав, что, возможно, мы еще встретимся во время его путешествия в Египет, если мои боги даруют мне безопасное путешествие. Мы расстались, и я был рад, что вижу этих людей в последний раз.
Едва они удалились, как в комнату зашли шестеро охотников, которых я выиграл в пари и таким образом спас от смерти. Они упали на колени передо мной и спросили, не будет ли каких-нибудь приказаний, чтобы подготовить мои вещи к путешествию. Я спросил их, пойдут ли они со мной, на что главный ответил, что они теперь мои рабы и будут делать то, что я прикажу.
– Вы хотите пойти? – спросил я.
– О благородный Шабака, – ответил их вожак, – мы пойдем, хотя некоторые из нас должны оставить здесь жен и детей.
– Почему? – спросил я.
– По двум причинам, господин. Во-первых, здесь мы обесчещены, хотя это и не наша вина, и если вы оставите нас на этой земле, вскоре гнев царя найдет нас, и мы потеряем не только наших жен и детей, но и свои жизни. И хотя в иных землях мы можем завести других жен и детей, другую жизнь найти там не сможем. Поэтому мы должны оставить наших любимых нашим друзьям, зная, что вскоре наши жены забудут нас и найдут себе других мужей, а дети вырастут, несмотря на ту судьбу, которую уготовила им жизнь, думая о том, что мы, их отцы, мертвы.
Во-вторых, мы по роду деятельности охотники, а мы видели, что вы – великий охотник, и мы должны гордиться, что служим вам во время погони или во время войны. Вы тот, кто сошел со своей тропы, чтобы спасти наши жизни, потому что увидели, что мы были несправедливо приговорены к жестокой смерти. Вот поэтому мы не желаем в своей жизни ничего, только быть вашими рабами, надеясь на то, что, возможно, сможем заработать свободу хорошей службой.
– Вы все хотите этого? – спросил я.
Один за другим они ответили утвердительно, хотя слезы текли по щекам некоторых из них, тех, которые были женаты, потому что думали о том, что придется расстаться с женами и детьми, которых нельзя взять с собой, потому что они подданные царя и не были упомянуты в пари. К тому же для такого огромного количества людей невозможно было достать лошадей, да и быстро идти они не могли.
– Пойдемте, – сказал я, – и знайте, что, пока вы верны мне, я буду хорошо относиться к вам, проданным в неволю, и, возможно, в конце нашего путешествия вы станете свободными на земле, где дикие животные не разрывают на мелкие кусочки смелых мужчин за любое слово. Но если вы предадите меня или подведете меня, я либо убью вас, либо отправлю к тому, кто знает толк в работорговле, для работы на веслах или в шахтах до самой вашей смерти.
– Отныне у нас нет другого господина, кроме вас, Шабака, – сказали они. Один за другим они пожали мне руку и приложили ее ко лбу, поклявшись в том, что будут верны мне во всем, пока все мы живы.
Я приказал им пойти и попрощаться с теми, кого они любят, и вернуться обратно через полчаса. Если честно, я не ожидал, что они вернутся. Я сделал это, чтобы дать им возможность сбежать, если представится случай, и надежно спрятаться. Но, как я часто замечал, честность у охотников в крови, и в назначенный час все они вернулись. Один из охотников был с женщиной, которая несла на руках ребенка. Она буквально висела на муже и горько плакала. Когда она откинула покрывало, я увидел, что она очень молода и весьма красива.
Вскоре после полудня мы покинули город Великого царя в сопровождении двух его солдат, которые привезли мне на словах царскую благодарность за лук, который я отправил ему. Он велел передать мне, что будет ценить его превыше всех имеющихся у него сокровищ. При этих словах Бэс скорчил гримасу и завертел глазами. Нас посадили на великолепных жеребцов из царских конюшен, одели в подаренные кольчуги, хотя, покинув город, мы тут же сняли их из-за жары, а еще потому, что кольчуга Бэса натерла ему кожу, потому что была слишком большой для его маленького квадратного тела. Наши вещи вместе с мешками с золотом были уложены на вьючных лошадей, которых вели шестеро рабов. Четверо вооруженных солдат шли сзади, это были сильные воины из личной гвардии царя, а двое царских почтальонов были нашими проводниками. Кроме того, были еще повара и конюхи с запасными лошадьми.
Итак, мы начали путешествие при большом стечении народа и в большом волнении, когда огромная толпа наблюдала за нашим уходом.
Путь наш шел через реку, которую мы должны были пересечь на баржах ниже по течению, поэтому через несколько минут мы подошли к тому причалу, где предыдущей ночью я готовился умереть. Да, там были надсмотрщики, и проклятая двойная лодка все еще стояла там, на ее носу показалось измученное лицо евнуха Хумана, который крутил головой в разные стороны, чтобы хоть как-то избежать атак назойливых мух. Он увидел нас и стал громко кричать с просьбой о жалости и прощении, а Бэс только ухмылялся. Солдаты остановили нашу кавалькаду и один из них, обращаясь ко мне, сказал:
– По приказу царя вы, благородный Шабака, должны посмотреть на этого злодея, который оклеветал вас перед царем, а потом осмелился ударить вас. Если вы хотите, войдите в воду и ослепите его, так, чтобы ваше лицо было последним, что он видел перед погружением в темноту.
Я покачал головой, но Бэс, которому в голову пришла какая-то мысль, прошептал:
– Я хочу поговорить с этим евнухом, позвольте мне и ничего не бойтесь. Я не причиню ему вреда, только добро, если будет такая возможность.
Я сказал солдату:
– Благородные господа не должны сами мстить павшим. Но мой раб тоже был оскорблен, поэтому он хочет сказать несколько слов этому Хуману.
– Пусть будет так, – сказал командир, – но попросите его быть осторожным и понапрасну не мучить несчастного, а то он умрет раньше времени и избежит своего наказания.
Тогда Бэс подобрал полы одежды и ступил в воду, размахивая огромным ножом, а Хуман, едва завидев его, начал кричать от страха. Он добрался до лодки и наклонился к евнуху, тихо разговаривая с ним. Я не мог видеть, что он там делает, потому что его одежда закрывала голову Хумана. Однако я увидел взмах ножа и услышал пронзительный мученический крик, сопровождающийся стонами, после чего я приказал ему вернуться и оставить человека в покое. Потому что, когда я вспоминал, что меня могла ожидать такая же судьба, от этих звуков у меня заболело сердце. Я разозлился на Бэса, хотя жестокие жители востока смеялись.
В конце концов он вернулся, усмехаясь и споласкивая лезвие ножа в воде. Я сердито заговорил с ним на его языке, а он продолжал усмехаться, ничего не отвечая. Когда мы снова двинулись и отъехали от этой ужасной лодки, где сидел воющий пленник, я смотрел на Бэса и так и не мог понять ни его поведения, ни его молчания. Он коснулся рукой своего огромного рта и приложил ее к груди. После этого Бэс был готов разговаривать, хотя и очень тихо, чтобы кто-то, кто понимает египетский язык, не мог услышать нас.
– Вы глупец, мой господин, – сказал Бэс, – если думаете, что я стал бы тратить время, мучая этого жирного мошенника.
– Тогда зачем ты мучил его? – спросил я.
– Потому что мой бог, Саранча, сделав меня карликом, дал мне большой рот и хорошие зубы, – ответил Бэс, пока я таращился на него, думая, что он сошел с ума. – Послушайте меня, господин, я не трогал Хумана. Все, что я сделал, – это перерезал веревки под ним, чтобы ночью он смог развязать их и исчезнуть, если получится. Вы, может, не заметили, но я заметил, что перед тем, как царь приговорил вас вчера к смерти в лодке, он взял какую-то круглую белую печать в форме цилиндра с богами и знаками, вырезанными на ней, которая свисала на золотой цепи с его шеи. Он отдал ее Хуману в знак того, что она является гарантом всего, что он делает. Эту печать Хуман показал хранителю сокровищницы, когда они взвешивали золото, и другим людям, которым было приказано подготовить лодку к вашему приходу. Более того, он забыл вернуть ее, потому что, когда сам по приказу царя был направлен в лодку, я увидел цепь на его одежде. Вы все поняли?
– Не совсем, – ответил я, – но и ты ведь недосказал всего?
– Да, вы правы, господин. Когда я разговаривал с Хуманом после того, как он посадил вас в лодку, я спросил про эту печать. Он показал ее мне и сказал, что тот, кто носит ее, на время становится правителем всей империи Востока. Кажется, это единственная печать, которая сохранилась с древних времен и передается от царя к царю, и, имея ее, каждый правитель, великий или нет, имеет власть над всеми землями. Если печать предназначена для него, он сравнивает ее с оттиском, и, если они совпадают, подчиняется приказам, как будто сам царь отдал их лично. Когда мы дошли до царского двора, без сомнения, Хуман должен был вернуть печать, но, увидев, что царь был пьян или просто притворялся, он помедлил из страха, что, отдав печать, он потеряет свою жизнь. Когда его схватили, вы это видели, от ужаса он забыл обо всем, как и сам царь, и его стража.
– Но, Бэс, вероятно, что тот, кто сажал его в лодку, должен был снять с него печать.
– Господин, даже при хорошем зрении невозможно все видеть ночью. В любом случае я надеялся, что они не заметят печать, вот почему я пошел вброд, чтобы уколоть Хумана. Случилось то, на что я так надеялся, – под его одеждой я нашел цепочку. Затем я заговорил с ним и вот что сказал:
– Я пришел, чтобы выколоть твои глаза, как ты этого заслуживаешь за то, что ты так поступил с моим господином. Однако я хочу предложить тебе сделку. Отдай мне древнюю царскую печать, которая открывает все двери, и я лишь притворюсь, что ослепляю тебя. А еще я разрежу твои веревки почти полностью, чтобы ты мог разорвать их, когда придет ночь, потом прыгнуть в воду и скрыться.
– Возьми ее, если ты сможешь, – сказал тот, – и используй, чтобы вредить и разрушать то, что проклято.
– И ты взял ее, Бэс.
– Да, господин, но это было не так легко. Помните, что печать была на цепочке, которая висела на шее, и я не мог снять ее, поскольку его горло, как и руки, были стянуты веревками, как, собственно, было и у вас.
– Я хорошо помню, – отвечал я, – потому что мое горло все еще болит от той веревки, которая была привязана к той же скобе, что и мои руки.
– Да, господин, даже если бы я снял цепочку с его шеи, она бы все равно оказалась под веревками. Я думал перерезать ее ножом, но это невозможно было сделать, поскольку цепочка толстая, если бы я ее потянул при помощи лезвия ножа, это было бы заметно, потому что за мной наблюдало множество глаз. Тогда я решил поступить по-другому. Пока я притворялся, что протыкаю глаза Хумана, я наклонился ниже и вцепился в цепочку зубами. Один зуб сломался – вот, посмотрите, но дело я сделал. Я прокусил мягкое золото, затем затянул цепочку в рот и туда же отправил и печать. Вот почему я не мог говорить с вами – мои щеки были заполнены золотом. Теперь у нас есть царская печать, которой подчиняются все страны. Это может быть полезно там, в Египте, да и золото имеет свою цену.
– Молодец! – воскликнул я. – Очень умно сделано. Но ты забыл кое-что, Бэс. Когда этот мошенник сбежит, он обязательно проговорится, и царь пошлет за нами карательную экспедицию и убьет нас, осмелившихся украсть царскую печать.
– Я так не думаю, мой господин. Во-первых, маловероятно, что Хуман сбежит. Он очень толстый и нерешительный, к тому же сильно страдает. После дня, проведенного на солнце, он очень слаб. Во-вторых, я не думаю, что он умеет плавать, потому что евнухи ненавидят воду. Так что если он и выберется из лодки, то, вероятно, он утонет в реке, потому что не осмелится приблизиться к причалу, где стоит стража. Но если он даже сможет убежать, переплыв реку, то спрячется ради спасения своей жизни и никогда снова не появится. А если его случайно поймают, он скажет, что печать упала в реку, когда его запихивали в лодку, или что один из охранников украл ее. А вот чего он никогда не скажет, так это того, что отдал ее кому-то, кто взамен перерезал веревку, потому что за это он получит еще худшее наказание, чем то, что было в лодке. В конце концов, мы поскачем так быстро, что через шесть часов нас уже никто не поймает. А если они сделают это, я выброшу цепочку и проглочу печать.
Как Бэс сказал, так и случилось. Я так ничего никогда не узнал о судьбе Хумана и ничего больше не слышал о краже печати – до тех пор, пока по всем царствам не было объявлено, что сделана новая печать. Но это случилось значительно позднее, после того как печать помогла мне вернуться в Египет.
Глава VIII Госпожа Амада
Сейчас это наше путешествие, каждая его деталь, день за днем, час за часом, минута за минутой возникли перед моими глазами. Но рассказывать обо всем здесь нет необходимости. Потому что, когда я, Аллан Квотермейн, записываю, что видел, мне все еще кажется, что я слышу топот лошадиных копыт, когда мы скакали галопом через равнины, через горы и по берегам рек. Наша скорость была достойной уважения, через каждые сорок миль стояли почтовые станции, и не важно, были это день или ночь, мы находили свежих лошадей из царской конюшни, которые уже поджидали нас. Кроме того, почтовые служащие знали, что мы уже подъезжаем, что приводило меня в изумление, пока мы не поняли, что их предупреждают о нашем приближении посланцы царя, которые спешили впереди нас.
Казалось, что эти люди – хотя наша стража и проводники открыто демонстрировали незнание вопроса – покинули царский дворец на рассвете в день нашего отъезда, тогда как мы въехали в город чуть позже полудня. Значит, у них было, по крайней мере, шесть часов форы, и, более того, они ехали без нагруженных животных, без поваров и слуг. Помимо этого у них всегда был выбор лошадей, это были трое прекрасных животных, третья лошадь нужна была на случай, если вдруг одна охромеет или случится нечто непредвиденное. Именно поэтому мы никогда не могли нагнать их, хотя за день проезжали почти сто миль. Лишь однажды я видел их, далеко, на фоне линии горизонта была гора, на которую нам надо было взобраться. Но к тому времени, когда мы достигли вершины горы, они уже исчезли из вида.
В конце концов мы доехали до края пустыни без происшествий, углубились в нее и пересекли, хотя и более медленно, чем ожидалось. Но даже если у царя и были здесь посты, за которые отвечали кочевники, жившие в палатках рядом с источниками воды или где-то еще, не было ничего, что могло бы пригодиться ему. Поэтому мы проехали мимо, поджариваясь на горячем песке под нами и таком же горячем песке, клубящемся в воздухе над нами. Вскоре мы достигли границ Египта.
Здесь, на самой границе, два командира неожиданно остановили нашу кавалькаду, сказав, что им приказано вернуться и доложить обо всем царю. Мы расстались. Бэс, я и шестеро охотников, которые держались около меня, поехали вперед, а царские командиры с проводниками и слугами отправились обратно. По приказу царя они передали нам свежих лошадей, на которых мы проехали последний пост; уставших животных, тащивших грузы, оставили там, поскольку навьюченным лошадям, которые привыкли возить колесницы, пришлось бы очень тяжело в Египте. Мы взяли новых лошадей, передав благодарность царю, и снова отправились в путь. Бэс лично вел под уздцы то животное, которое было нагружено золотом, а охотники двигались рядом в качестве охраны.
Я был рад видеть этих последних выходцев востока. Несмотря на то что они доставили нас в целости и сохранности и хорошо с нами обращались, я далеко не был уверен в том, что у них нет приказа загнать нас в ловушку или даже избавиться от нас, пока мы спим, и забрать золото и бесценное розовое ожерелье, из которого любые две жемчужины стоили всего. Но у них не было такого приказа, и они не могли осмелиться украсть у нас что-то по своей инициативе, потому что, если бы даже они и избежали мести царя, их жены и дети заплатили бы за все сполна.
Мы вошли в Египет возле Соляных озер, которые находились недалеко от истока залива, сливающегося с каналом, выкопанным еще при древних фараонах. Его было легко пересечь, потому что он засорился. Перед тем как попасть сюда, мы увидели нескольких крестьян, работавших на своих участках с чахлыми посадками, и я услышал, как один говорил другому:
– Вот еще люди, прибывшие с востока. Как ты думаешь, сосед, что с ними будет дальше?
– Я не знаю, – отвечал второй, – но, когда я пересекал канал сегодня утром, я видел группку людей из царской охраны, которые выходили из крепости. Наверняка они были нужны, чтобы встретить этих людей, о чьем появлении объявили те, двое, которые прибыли пятьдесят часов назад и предупредили солдат.
– Что ты об этом думаешь? – спросил я Бэса.
– Не более того, что мы слышали, господин. Два царских посланника, которые ехали впереди нас всю дорогу из города, сказали командиру у приграничной крепости, что мы приближаемся, поэтому он отправился, чтобы встретить нас. А уж по какой причине – я не знаю.
– Я тоже не знаю, – сказал я, – но мне хотелось бы выбрать другую дорогу, если бы была такая возможность.
– Такой дороги нет, господин, потому что выше и ниже канал заполнен водой, а берега слишком круты для лошадей. К тому же мы не должны показывать сомнение или страх.
Он подумал и добавил:
– Возьмите царскую печать, господин. Думаю, она может пригодиться.
Он отдал печать мне, и я смог рассмотреть ее лучше, чем делал до этого. Она представляла собой цилиндр из плоской белой ракушки, висевшей на золотой цепи, которую Бэс прокусил насквозь, но потом снова собрал, соединив разрушенные звенья. На этом цилиндре были вырезаны фигуры. Мне показалось, что это был жрец, который выказывал почести богу. Над головой бога висел полумесяц, за его спиной стоял человек или демон с длинным копьем. Между фигурами же имелись какие-то таинственные знаки, значение которых мне было неведомо. Качество работы потускнело со временем, и от частого использования цилиндр казался очень старым. Это был священный предмет, который передавался из поколения в поколение, сквозь него проходила серебряная пластинка, на которой он проворачивался.
Я взял печать, подобной которой еще не видел, потому что то была работа ранней эпохи, повесил на шею под кольчугу, и мы продолжили наш путь.
Спустившись с крутого берега канала, мы подошли к броду. Там песок, засоривший канал, был покрыт слоем воды не более фута глубиной. Когда мы вошли в него, на гребне противоположного берега появилась группа из тридцати вооруженных всадников, один из которых нес знамя Великого царя, на нем я заметил герб с теми же фигурами, которые были вырезаны на цилиндре. Было слишком поздно отступать, поэтому мы преодолели водное препятствие и приблизились к солдатам. Их офицер подошел к нам и провозгласил:
– Приветствую вас от имени Великого царя, о, благородный Шабака!
– От имени Великого царя и я приветствую вас! – ответил я. – Что вы намерены сделать с Шабакой, о командир славного царского воинства?
– Лишь оказать ему уважение. Слово царя дошло до нас, и мы приехали, чтобы сопровождать вас ко двору Идернеса – наместника царя и правителя Египта, который находится в Саисе.
– Это не моя дорога, командир. Я направляюсь в Мемфис, чтобы доставить приказы царя моему двоюродному брату, Пероа, правителю Египта под властью царя. После этого я, возможно, приеду к великому Идернесу.
– Тот, кто отдал нам приказы, не будет ждать, о, Шабака, – сказал командир жестко, оглядываясь на вооруженный эскорт.
– Я привык отдавать приказы, а не получать указания, командир!
– Взять Шабаку и его слуг, – вдруг приказал командир коротко, и солдаты двинулись, окружая нас.
Я подождал, пока они окажутся на расстоянии вытянутой руки. Затем внезапно вытащил руку из складок своей одежды и достал маленькую белую печать, которую поднес к глазам командира со словами:
– Кто осмелится поднять руку на того, кто носит царскую Белую печать? Надо думать, этот человек готов к смерти?
Командир уставился на печать, затем спрыгнул с лошади и упал на землю с криком:
– Это древний знак царя востока, данный ему первым богом Солнца Самасом, в чьих руках находится судьба великого царства! Простите меня, о, благородный Шабака!
– Извинения приняты, – снисходительно ответил я, – поскольку то, что ты творил, ты делал по незнанию. Теперь отправляйся к наместнику Идернесу и скажи, что, если он хочет поговорить с тем, кто носит царскую печать, которой все должны поклоняться, он может найти его в Мемфисе. Прощай.
И вместе с Бэсом и шестью охотниками я с горделивым видом проехал мимо гвардии. Никто не осмелился остановить нас.
– Хорошо сделано, господин, – заметил Бэс.
– Да, – ответил я, – те двое посланников царя, которые ехали впереди нас, привезли приказы пограничной службе Идернеса, что я должен быть доставлен ему в качестве пленника. Я не знаю почему, но я думаю, что из-за того, что мы не знаем о том, какие истинные дела творятся в Египте, царь не желал, чтобы я увиделся с принцем Пероа и привез ему новости, которые мог получить. Может быть, Бэс, мы узнали слишком много и благородная Амада всего лишь предлог, чтобы внезапно развязать ссору до того, как Пероа сможет нанести удар первым.
– Возможно, мой господин, потому что эти выходцы с востока – большие мастера. Но, господин, что случится с теми, кто станет использовать белую священную печать царя, не имея на это права? Я думаю, что они оборвут нити, связывающие их с землей, – и он посмотрел в небо, отчаянно вращая своими желтыми глазами.
– Они должны найти новые веревки, Бэс, причем быстро, пока их не поймали. Послушай. Ты сидел на троне, и я могу говорить с тобой. Подумай, нравится ли моему двоюродному брату, принцу Пероа, быть слугой этого далекого восточного царя, если он по праву является фараоном Египта? Пероа может восстать или потерять своего племянника и, возможно, свою жизнь. Вперед, мы должны предупредить его.
– А если он не восстанет, господин, зная силу царя и почему-то при этом не торопясь?
– Тогда, я думаю, Бэс, что мы должны отправиться на охоту далеко-далеко в те земли, на которых, как ты знаешь, ни один Великий царь не сможет найти нас.
– И где, если только я не найду женщину, от взгляда на которую я не заболею и которая не заболеет, глядя на меня, я снова смогу быть царем и господином тысяч вооруженных и смелых людей. Я должен поговорить об этом со святым Танофером.
– Который, без сомнения, знает, что посоветовать тебе, Бэс, а если он потеряет свою волшебную силу, это сделаю я.
Некоторое время мы ехали молча, каждый думал о своем. Потом Бэс заговорил снова:
– Мой господин, мы скоро приедем к Нилу и, имея столько золота, сможем купить лодки и нанять людей. Мне все-таки кажется, что мы должны для собственной безопасности и удобства немедленно отправиться на охоту подальше от Египта, в земли эфиопов. Там я смогу собрать вместе несколько мудрых людей, в чьих руках я оставил право правления моим царством. Кроме того, я смогу поручить им поиск женщины для моей женитьбы. Эфиопы – верные люди, мой господин, и они не откажут мне, потому что я провел несколько лет, изучая этот мир, что поможет мне теперь управлять подданными лучше прежнего.
– Мне представляется, что это невозможно, – возразил я.
– Почему нет, господин?
– Есть одна причина. Ты покинул свою страну из-за женщины? Я не могу покинуть тоже из-за женщины.
Бэс покрутил глазами вокруг, как будто думал найти в пустыне женщину. Не найдя ее, он посмотрел наверх и увидел там свет.
– Ее, наверное, зовут благородная Амада, господин?
Я кивнул.
– Хорошо. Амада, про которую вы сказали царю, что это самая красивая женщина в мире, зажгла огонь любви в сердце царя и много всего того, о чем мы не знаем.
– Ты сказал ему, Бэс, – зло ответил я.
– Я сказал ему о прекрасной женщине, но не называл ее имени. Хотя я не думал об этом какое-то время, возможно, она рассердится на того, кто произнес ее имя.
Страх обуял меня, и Бэс прочитал это на моем лице.
– Не бойтесь, господин. Если в этом проблема, я поклянусь, что сказал имя этой госпожи Великому царю.
– Да, Бэс, но как можно объяснить в этой истории то, что меня вытащили из лодки именно с этой целью?
– Очень просто. Я могу сказать, что вас вытащили из лодки, чтобы подтвердить мою историю. О! Она разозлится на меня, без сомнения, но в Египте даже карлика нельзя убить из-за того, что он назвал какую-то женщину самой красивой в мире. Но, господин, расскажите мне, когда вы поняли, что любите ее?
– Когда мы были еще детьми, Бэс, мы вместе играли, будучи родственниками, я часто держал ее за руку. Потом она неожиданно стала возражать, чтобы я держал ее за руку. Я уже был достаточно взрослым, она была моложе меня, и я понял, что мне лучше уехать подальше.
– Я не должен был говорить об этом, господин.
– Нет, Бэс. Она готовилась к тому, чтобы стать жрицей, и мой дядя, святой Танофер, сказал, что мне лучше уехать, и чем дальше, тем лучше. Поэтому я отправился на юг охотиться и сражаться в командовании армией, где и встретил тебя, Бэс.
– Может быть, это лучше для вас, господин, чем оставаться и смотреть, как благородная Амада проходит свое обучение. Я думаю, что святой Танофер, как всегда, оказался прав. Видите, мой господин, он много думает о жрецах и жрицах, но он уже настолько стар, что забыл все о любви и о том, без чего не было бы святого Танофера.
– Святой Танофер думает о душах, а не о телах.
– Да, господин. Но как масло бесполезно без лампы, так и душа без тела, во всяком случае, здесь, под солнцем. Так учат тех, кто поклоняется Саранче. Но, господин, что же случилось после того, как вы вернулись с охоты?
– Бэс, я увидел, что благородная Амада, пройдя свое обучение, исполнила свои первые обеты Исиде. Она сказала, что не смогла бы изменить свою судьбу ни ради какого мужчины на земле, хотя это и можно было сделать без нарушения закона. И хотя я был дорог для нее как брат, которого она хотела бы иметь при себе, она поклялась, что никогда не думала ни об одном мужчине, она отказалась даже от мысли о замужестве и мечтала только о небесных совершенствах благородной Исиды.
– Ого! – сказал Бэс. – У эфиопов есть жрицы Саранчи, или жены Саранчи, но мы не думаем о ней таким образом. Я боюсь, как бы однажды кто-то, кто окажется сильнее, чем благородная Амада, не заставил ее нарушить клятву божественной Исиде. Возможно, лишь тогда это случится ради другого мужчины, который не отправится на восток из-за такой глупой истории. Но вот и деревня, надо дать отдых лошадям. Давайте остановимся и поедим, я думаю, что даже благородная Амада делает это иногда.
На следующий день мы перебрались через Нил и к заходу солнца вошли в огромный древний город Мемфис. На его белых стенах висели символы Великого царя, на которые Бэс указал мне, сказав, что, где бы мы ни были, ему кажется, что никогда мы не будем свободны от этих проклятых знаков.
– Я живу для того, чтобы плюнуть на них и сбросить в ров, – ответил я в ярости, потому что, чем ближе я был к Амаде, они становились в десятки раз более ненавистными для меня, чем было до этого.
По правде говоря, я находился ближе к Амаде, чем думал, потому что, после того как мы подошли к входу в храм Птаха, самый прекрасный и мощный в мире, мы приблизились к храму Исиды. Там, около ворот с пилонами, мы встретили процессию из жриц и жрецов, которая шла для проведения вечернего жертвоприношения в виде песнопений и цветов. Они были одеты в непорочные белые одежды. Это был праздничный день, поэтому певцы шли вместе с ними. После того как прошли певцы, двинулись жрицы, несущие цветы, а впереди них шла еще одна жрица, которая несла систрум[25], он издавал тихий музыкальный звон.
Даже на расстоянии чувствовалось что-то особенное в этой высокой и стройной жрице, что до глубины души взволновало меня. Когда мы подошли поближе, я понял, в чем дело, потому что это была благородная Амада. Сквозь тонкую вуаль, которая была надета на ней, я мог видеть ее темные нежные глаза, широкий лоб, полный каких-то мыслей, и очаровательный изогнутый рот, которого я не видел ни у одной другой женщины. Никаких сомнений не было, потому что через вуаль, прикрывающую ее грудь, была видна родинка, которая делала ее знаменитой, – знак молодой луны, знак Исиды.
Я спрыгнул с лошади и направился к ней. Она подняла глаза и увидела меня. Сначала нахмурилась, потом лицо ее разгладилось, она успокоилась, и мне показалось, что ее алые губы произнесли мое имя. В легком смятении она даже уронила систрум.
Я прошептал: «Амада!» и прошел вперед, но жрецы встали между нами и оттолкнули меня. В следующий момент она подняла систрум и прошла со склоненной головой. Она даже не подняла глаза, чтобы оглянуться.
– Отойди, мужчина! – закричал жрец. – Отойди, кто бы ты ни был. Думаешь, если ты носишь восточные доспехи, тебе позволено оскорблять Исиду?
– Отойди, мужчина! – закричал жрец. – Отойди, кто бы ты ни был
Я отшатнулся, священный образ богини проплыл мимо, и вся процессия исчезла в воротах. Я, Шабака из Египта, стоял рядом с лошадью и смотрел, не в силах ничего сделать. Я был счастлив, потому как убедился, что Амада жива и более прекрасна, чем раньше, и потому, что она, увидев меня, смутилась и обрадовалась. Но все-таки я был несчастен, потому что она была занята тем святым делом, которое построило стену между нами, и еще потому что мне казалось злом то, что я был отброшен от нее жрецом Исиды, который говорил о проклятии богини. К тому же священная статуя случайно повернулась ко мне, когда ее проносили мимо, и мне померещилось, что она нахмурилась.
Так я думал, будучи Шабакой за сотни лет до христианской эры, однако, будучи современным человеком, Алланом Квотермейном, которому было дано увидеть все таким замечательным образом и кто, увидев это, никогда не терял чувства сегодняшнего дня, я был просто восхищен. Потому что я знал, что благородная Амада была той же, хотя и плоть ее была другой, как и та госпожа, рядом с которой я вдыхал аромат таинственной травы тадуки, чья власть позволила приоткрыть завесу прошлого или, возможно, лишь вызывала сны о том, как это могло быть.
Для постороннего глаза она была совсем другой, как и я был другим, – выше, более стройной, с большими глазами, с более длинными и тонкими руками, чем у западных женщин. Но все равно она была еще более прекрасной и очаровательной. Более того, тот таинственный взгляд, который я время от времени видел на лице леди Регнолл, вообще не сходил с лица Амады. Он возникал в ее глубоких глазах и превращался в лукавую улыбку на изогнутых губах. Эта улыбка была не вполне земная: так улыбаться могла та, которая видела скрытые вещи и слышала голоса, которые звучали за пределами мира.
Однако ни тогда, ни в какое-то другое время, пока я спал, я не мог представить себе, что эта Амада, дочь сотен царей, чью кровь можно было проследить от династии к династии, могла быть только лишь женщиной, которая нянчит детей у своей груди. Как будто что-то из нашей обычной природы было удалено из нее, а взамен что-то иное, неземной природы, чему мы не имеем объяснений, заняло это место. И эти две женщины были похожи, мне известно точно. Ведь кто может сказать, какую часть себя мы оставляем позади, путешествуя от жизни к жизни, чтобы найти ее снова где-нибудь в дебрях времени и судьбы? Одно было явно и точно: родинка в виде молодой луны над грудью, которую жрецы племени кенда объявили печатью жриц, охранявших священное дитя.
Когда процессия уже почти прошла и я больше не мог слышать звуков песен, я снова сел на лошадь и поехал к себе домой, или, скорее, в дом своей матери, великой Тиу, который располагался под стенами старого дворца, глядя фасадом на великую реку. В самом деле, мое сердце было переполнено любовью к матери, которую я обожал и которая обожала меня, потому что я был ее единственным ребенком, а моего отца уже давно не было на свете, так давно, что я даже не помнил его. Восемь месяцев назад я видел ее лицо, а кто знал, что может случиться за восемь месяцев? Я похолодел, подумав о своей матери, которая была уже старой и слабой, возможно, уже собираясь к Осирису. О, только бы все было хорошо!
Я пустил свою уставшую лошадь галопом, Бэс ехал впереди меня, чтобы расчистить дорогу от собравшейся толпы, которая в этот закатный час, кажется, собрала всех бездельников Мемфиса. Они глазели на меня, потому что видеть мужчину на лошади было не совсем обычно для Мемфиса, но без симпатии. Из-за моей одежды и эскорта они приняли меня за посланника своего ненавистного господина, великого восточного правителя. Некоторые даже пытались помешать мне проехать. Однако мы прорвались сквозь толпу и повернули на оживленную улицу, где, утопая в садах, стояли частные дома. Наш был третьим. Около ворот я спрыгнул с лошади, рывком распахнул дверь и углубился в сад.
Мне не пришлось далеко ходить. Во дворе, впереди нашего скромного семейства, одетая в праздничные одежды, стояла моя мать, гордая и седая благородная Тиу. Она стояла так, словно приветствовала почетного гостя. Я подбежал к ней, упал на колени, поцеловал руку и произнес:
– О моя мать! Моя мать, я целый и невредимый вернулся домой и приветствую тебя.
– Я тоже приветствую тебя, мой сын, – отвечала она, склоняясь ко мне и целуя в лоб, – того, кто был в далеких землях и подвергался стольким опасностям. Я приветствую тебя и благодарю богов-хранителей, которые вернули тебя домой целым и невредимым.
Я встал и поцеловал ее, потом посмотрел на слуг, которые кланялись мне в знак приветствия, и спросил:
– Как случилось так, что все собрались здесь? Вы ждали гостя?
– Мы ждали тебя, мой сын. Мы стояли здесь целый час, прислушиваясь к звуку твоих шагов.
– Меня! – воскликнул я. – Это странно, потому что я скакал с востока очень быстро, замешкавшись лишь на несколько минут и то уже после того, как въехал в Мемфис, когда я встретил…
– Кого ты встретил, Шабака?
– Благородная Амада шла в процессии Исиды.
– Да, благородная Амада. Мать ждет, пока ее сын, остановившись, приветствует благородную Амаду.
– Но почему ты ждала, мама? Кто, кроме духа птицы в небе, мог принести тебе весть о моем приезде, особенно если я не отправлял к тебе вестника?
– Должно быть, ты все-таки сделал это, Шабака, поскольку вчера прибыл один такой вестник от святого Танофера, нашего родственника, который обитает в пустыне на кладбище Секера. Он принес сообщение от Танофера, сказав, что надо быть готовыми, потому что до захода солнца мой сын будет со мной, избежав великих опасностей, в сопровождении карлика Бэса и шестерых странных выходцев с Востока. Поэтому я приготовилась и ждала, также я приготовила комнаты для шестерых необычных людей в домиках позади нашего дома и отправила подношения в храм. Знаешь, сын, я очень боялась за тебя.
– И не без причины, но об этом я расскажу тебе позднее, – отвечал я, смеясь, – но как Танофер узнал, что я приеду, – это выше моего понимания. Пойдем, мама, поздоровайся с Бэсом, потому что, если бы не он, я не смог бы выжить и снова держать твою руку.
Она поздоровалась с Бэсом, пока он вращал глазами и шептал что-то о святом Танофере. Потом мы вошли в дом. Там я отправил посланника принцу Пероа, говоря, что, если он захочет, я буду ждать его, потому что мне есть что сказать ему. Сделав это, я принял ванну, приказал постричь мне волосы и бороду, сбросил восточную одежду и снова почувствовал себя самим собой. Я вышел освеженным и выпил бокал сирийского вина.
Потом ночь пала на нас, и я сидел рядом с матерью в комнате, а между нами стояла горящая лампа. Я держал мать за руку и рассказывал ей, что со мной приключилось, показывая ей мешки с золотом, которые прибыли вместе со мной с востока, и цепочку с висевшим на ней бесценным красным жемчугом, который я выиграл в пари с Великим царем.
Когда моя мать услышала, как Бэс своей смекалкой спас меня от мучительной смерти в лодке, она хлопнула в ладоши, чтобы позвать слугу и отправить его за Бэсом, а когда тот пришел, она сказала ему:
– Бэс, до сих пор я считала тебя рабом, которого захватил мой сын, благородный Шабака, в одном из своих дальних походов, потому что ему нравится сражаться и охотиться. Но теперь я считаю тебя другом и позволяю сесть за мой стол. Более того, мне почему-то кажется, что, несмотря на странную форму, приданную тебе каким-то злым богом, ты не тот, за кого себя выдаешь.
Бэс посмотрел на меня, чтобы удостовериться, что я ничего не рассказал моей матери, когда я покачал головой, ответил:
– Благодарю вас, уважаемая хозяйка этого дома, но я лишь исполнял свой долг перед господином. Хотя это правда, что если в мехах из козлиной шкуры может храниться хорошее вино, то и карлика не всегда принимают за того, кто он есть.
Затем он поклонился и ушел.
– Сын мой, мне кажется, мы снова богаты, хотя и нуждались в последние годы, – сказала моя мать, глядя на мешки с золотом, – еще у нас есть жемчужины, которые, без сомнения, значительно дороже, чем это золото. Что ты собираешься делать с ними, Шабака?
– Я думал предложить их в качестве дара благородной Амаде, – ответил я, замешкавшись, – если только тебе они не нужны…
– Мне? Нет, я слишком стара для таких украшений. Сын мой, но тебе было бы лучше оставить их на некоторое время у себя, потому что, пока они у тебя, они могут придать тебе больше веса в глазах принца Пероа и всех остальных. Если ты отдашь их Амаде и она возьмет их, возможно, это будет означать их возвращение на Восток. Ведь ты говорил мне, что она должна отправиться к тому, чьи приказы не обсуждаются.
Я побелел от злости и ответил:
– Пока я жив, Амада никогда не отправится на Восток, чтобы стать женщиной того царя.
– Пока ты жив, мой сын. Но те, кто нарушает волю Великого царя, должны умереть. К тому же это вопрос, который твой дядя, принц Пероа, должен решить так, как диктует политика. А сейчас даже женщина – это мелкая крупица в большой игре. О мой сын, – продолжала она, – не пытайся привязать к себе Амаду. Она очень красива и умна, но может ли она любить? И даже если это так, она жрица, и для нее будет очень трудно выйти замуж, потому что она связала свою жизнь с Исидой. И наконец, помни: если Египет будет свободным, она будет править им, а не ее дядя Пероа. Захочет ли он отдать ее мужчине, который, согласно древним традициям, через нее сможет потребовать право на корону?
– Я не хочу править, мама, я лишь хочу жениться на женщине, которую люблю.
– Амада, которую ты любишь и чье имя называешь ты или твой слуга Бэс, что одно и то же, потому что он вынужден выполнять твои приказы, отдана царю востока, так я понимаю. Прекрасный треугольник, Шабака. Лучше бы мне быть без всего этого золота и бесценных жемчужин, чем распутывать эту задачу.
Перед тем как я смог ответить и объяснить ей все, отодвинулась занавеска, и в залу вошел посланник от принца Пероа, который приказывал мне отобедать с ним в его дворце, поскольку хотел бы увидеться со мной сегодня вечером.
Моя мать повесила мне на шею нитку красного жемчуга на двойной цепочке, я поцеловал ее и вышел вместе с Бэсом, которого тоже просили присутствовать. Снаружи нас ждала колесница.
– Знаете, мой господин, – сказал Бэс, когда мы направлялись во дворец, – я очень хочу, чтобы мы ехали в другой повозке и охотились на львов на востоке.
– Почему? – спросил я.
– Потому что нам было бы чего бояться, но в этой истории не было бы женщины. Теперь женщина вошла в нее, и я думаю, что настоящие неприятности только начинаются. Завтра я обязательно попрошу совета у святого Танофера.
– И я пойду с тобой, – ответил я, – я думаю, он нам понадобится.
Глава IX Посланники
Мы спешились возле главных ворот дворца, и нас провели через пустые залы, которые не использовались с тех пор, как у Египта не было правителя. Так мы попали в то крыло дворца, где жил принц Пероа. Здесь нас принял камергер, потому что сам принц Пероа все-таки имел некий статус, хотя и не очень серьезный, и вокруг него были люди, которые носили старый звучный титул «слуги фараона».
Камергер провел нас с Бэсом в коридор перед залом приемов и оставил, сказав, что он предупредит принца, который хотел увидеть нас до церемонии обеда. Однако в этом не было необходимости, поскольку, пока он говорил, Пероа, который, я думаю, уже ждал меня, вышел из другой двери. Это был величественный мужчина среднего возраста, седина проскальзывала в его шевелюре и бороде, облачен он был в белые одежды с пурпурной каймой и носил на лбу золотой обруч, на передней части которого был знак в форме согнутой змеи. Такой знак могли носить лишь особы царской крови. Его лицо было задумчивым, а взгляд черных пронзительных глаз был проницателен и тяжел, как будто он долго не спал. Я увидел, что он в самом деле встревожен. Он заметил нас, и лицо смягчилось в приятной улыбке.
– Приветствую тебя, племянник Шабака, – сказал он, – я рад, что ты вернулся целым и невредимым с Востока, и горю желанием услышать новости. Молю, чтобы они были хорошими, Египет никогда так не нуждался в хороших новостях.
– Приветствую вас, о принц, – ответил я, преклонив колени, – я и мой слуга вернулись невредимыми, но, что касается наших новостей, вам судить о них.
Я вытащил из складок одежды письмо Великого царя, склонил голову и передал ему свиток.
– Я вижу, ты приобрел восточные привычки, Шабака, – заметил принц, принимая свиток. – Но это мой дом, который когда-то был дворцом наших предков, фараонов Египта, и твое возвращение отменяет эти привычки. Да будет так, – добавил он горько. – Я не могу выносить того, что передо мной лежит письмо чужеземного царя как знак подчинения моей державы.
Он разорвал шелковые нитки печатей и прочитал письмо. Его лицо чернело от гнева по мере чтения.
– Что?! – закричал он, отбрасывая письмо и наступая на него. – Эта восточная собака приказывает мне отправить мою племянницу, царскую принцессу по крови, чтобы она стала его игрушкой, пока он не замучает ее до смерти? Сначала я задушу ее собственными руками. Как случилось так, Шабака, что ты привез мне такое письмо? Если бы я был фараоном, ты заплатил бы своей жизнью за это.
– Я заплатил бы своей жизнью, если бы не привез его, о, принц, и я привез письмо, потому что вынужден был сделать это. Кроме того, копия письма, я полагаю, отправлена Идернесу, наместнику Саиса. Лучше смотреть в лицо правде, принц, но я думаю, что тебе я буду более полезен живой, чем мертвый. Если ты не хочешь отправлять благородную Амаду царю, выдай ее замуж за кого-нибудь другого, и после этого царь никогда не получит ее.
Он бросил на меня проницательный взгляд и сказал:
– За кого? Я не могу жениться на ней, потому что я ее дядя и уже женат. Ты имеешь в виду себя, Шабака?
– Принц, я любил благородную Амаду с детства, – ответил я отважно. – И во мне течет голубая кровь, кроме того, я привез с Востока много золота, я снова богат и готов воевать.
– Ты привез золото с Востока? Как? Ладно, потом расскажешь мне об этом. Но ты летаешь высоко. Ты, знатный человек из Египта, хочешь жениться на царской особе, потому что она такова по крови и по рождению. А это, если Египет вновь обретет свободу, даст тебе некоторые права на трон.
– Мне не нужен ваш трон, принц. Если бы у меня и был таковой, я с удовольствием оставил бы его вам и вашим наследникам.
– Ты говоришь искренне. Но смогут ли дети Амады сказать то же самое? Сказал бы ты это, если был бы ее мужем? И сказала бы так она? Кроме того, она жрица и поклялась не выходить замуж, хотя, возможно, это препятствие и можно преодолеть, если бы она действительно захотела замуж, в чем я сомневаюсь. Может быть, ты увидишь это. Но ты голоден и устал от долгого путешествия. Пойдем пообедаем, а после этого ты расскажешь свою историю. Амада и другие будут рады услышать ее, как и я. Следуй за мной, Шабака.
Мы отправились в зал для приемов меньшего размера, при этом я испытывал сладостное предчувствие от того, что увижу Амаду, и был напуган, потому что должен был рассказать всем свою историю. Мы собрались и ждали принца, отошедшего ненадолго по дороге в зал. Там мы увидели его жену, полную добродушную женщину, двух его старших дочерей и сына – юношу шестнадцати лет. Кроме того, здесь было несколько старших командиров, а за столами в нижнем зале сидели остальные домочадцы, придворные рангом пониже, их жены, а принц Пероа возвышался над ними, словно тень старого египетского двора.
Принцесса и остальные поприветствовали меня и Бэса, который всегда был их любимцем. Он занял свое место у самого дальнего стола. Я тоже поприветствовал всех, оглядываясь в поисках Амады, которую так и не увидел. Однако, когда мы заняли свои места на лавках, она вошла, одетая не как жрица, а в прекрасные одежды великой госпожи Египта. У нее на голове был золотой обруч, обозначавший ее царскую кровь.
Случилось так, что единственное свободное место в зале было рядом с моим. Она заняла его, еще не узнав меня, потому что была занята извинениями за свое опоздание перед принцем и принцессой, сказав, что задержалась из-за церемонии в храме. Внезапно она увидела, кто является ее соседом, и сделала вид, что хочет пересесть, но потом вдруг поменяла решение и осталась там, где была.
– Приветствую тебя, брат Шабака, – сказала она, – хотя мы уже виделись сегодня. Я обрадовалась, когда подняла глаза и увидела тебя в этих странных восточных одеждах, и узнала, что ты вернулся целым и невредимым из своих долгих странствий. Я должна понести наказание за это в виде двух дополнительных молитв, потому что в такое время все мои мысли должны быть посвящены только богине.
– Приветствую тебя, сестра Амада, – отвечал я, – но это должна быть ревнивая богиня, раз она недовольна тем, что ты думаешь о родственнике и друге в такое время.
– Она ревнива, Шабака, потому что является царицей всех женщин и должна одна править сердцами ее сторонниц. Но расскажи мне о своих путешествиях на восток, и о том, как тебе удалось привезти такие замечательные жемчужины, если только жемчуг может быть таким крупным и прекрасным.
У меня было совсем мало шансов поговорить с Амадой, потому что вступила в беседу принцесса, которая сидела рядом с ней. Она говорила с Амадой о каком-то предстоящем празднике, а сын принца, который сидел рядом со мной, обожал охоту и начал спрашивать меня об охоте на востоке. К моему сожалению, я рассказал, что застрелил там львов, и остаток вечера был мне обеспечен. Кроме того, принцесса, которая сидела напротив, очень хотела узнать, что едят знатные люди на востоке, как это приготовлено, как они сидят за столом, какова мебель в их комнатах, присутствуют ли женщины на праздниках и так далее. Поэтому случилось так, что за разговорами, едой и питьем – а я ел, потому что был очень голоден, ибо не съел ничего в доме моей матери, только выпил бокал вина – у меня было мало шансов поговорить с красавицей Амадой. Однако я чувствовал, что она тайком изучает меня, косясь уголками своих больших глаз. Или, может быть, она осматривала красный жемчуг, я не уверен…
Лишь одну вещь она сообщила мне, когда был небольшой перерыв, пока чаша шла по кругу, и она подала ее мне, согласно обычаям. Вот что она сказала:
– Ты выглядишь хорошо, Шабака, хотя немного устал, но гораздо более печальным, чем обычно, мне кажется.
– Возможно, потому что я знаю то, что печалит меня, Амада. А ты выглядишь еще более красивой, чем обычно, если это вообще возможно.
Она улыбнулась и покраснела, отвечая мне:
– Восточные женщины научили тебя говорить любезности. Но не трать их на меня, я покончила с женской суетой и посвятила себя знаниям и религии
– А разве знание и религия не такая же суета?.. – начал было я, когда внезапно принц подал сигнал закончить пир.
В это время вся нижняя часть зала опустела, люди ушли, маленькие столы, за которыми мы ели, были унесены слугами. Нам оставили лишь кубки с вином, которые мы держали в руках, дворецкий время от времени наполнял их, смешивая воду с вином. Это напомнило мне кое о чем, и, попросив позволения, я поманил Бэса пальцем, он задержался у дверей. Я взял у него прекрасный золотой кубок, который Великий царь подарил мне. По моему приказу он завернул его в ткань и спрятал в своей одежде. Развернув ткань, я поклонился и протянул кубок принцу Пероа.
– Что это за удивительная вещь? – спросил принц, закончив любоваться прекрасной ручной работой. – Шабака, это подарок, который ты привез мне от царя востока?
– Это мой подарок, принц, если вы согласитесь принять его, – ответил я, добавив: – Правда, я получил его от царя востока, потому что это был его собственный кубок, который он подарил мне в обмен на некий лук, хотя и не тот, что он искал, после того как он дал слово.
– Мне кажется, ты снискал его расположение, Шабака, а это больше, чем смогли сделать мы, египтяне, – воскликнул он, а затем продолжал поспешно: – Я все же благодарю тебя за твой прекрасный дар, и, от того, как ты получил его, он приобретает еще большую ценность.
– Может быть, мой брат Шабака расскажет нам свою историю, – произнесла Амада, ее глаза все еще не могли оторваться от красного жемчуга, – и о том, как тебе удалось выиграть эти красивые вещички, которые ослепляют наши глаза сегодня вечером.
Теперь я подумал о том, чтобы предложить ей этот жемчуг, но, помня слова матери, а также то, что принцессе может не понравиться, что другая женщина носит такие дорогие драгоценности, не сделал этого. Вместо этого я начал рассказывать мою историю, а Бэс сидел на земле рядом со мной по желанию принца, чтобы в любой момент рассказать свою.
Эта история была долгой, потому что началась задолго до того, как я увидел себя в колеснице, охотясь на львов вместе с царем Египта, а я, как современный человек, который видел это зрелище, узнал об этом в первый раз. В истории сохранились подробности моего путешествия на Восток, мой приезд в царскую столицу и остальное, и нет необходимости это повторять. Затем я перешел к охоте на львов, к моей победе в пари и о том, что случилось со мной, как я был приговорен к смерти, о взвешивании Бэса и о том, как я лежал в лодке.
Я заметил, что Амада побледнела и задрожала.
Тут я замолчал, сказав, что Бэс знает лучше, чем я, о том, что случилось во дворце в то время, как я изнемогал в лодке, и все присутствующие принялись упрашивать Бэса, чтобы он продолжил историю. И он рассказал, причем гораздо красочнее, чем мог сделать это я, выдавая множество подробностей, чтобы перед ними возникла реальная картина, а эфиопы, надо сказать, мастерски умеют это делать. В конце концов он подошел к тому месту истории, где царь спрашивает его, видел ли он когда-либо женщину более прекрасную, чем танцовщицы, и продолжал:
– О принц, я сказал Великому царю, что видел: живет в Египте женщина царской крови с глазами, подобными звездам, с волосами, как шелк, и длинными, как лошадиная грива, с телом богини, чье дыхание подобно цветам, кожа белая, как молоко, голос, как мед. Она умная, как бог Тот, и мудрость ее острая, как бритва, губы, как жемчужины, она величественна, как сам царь, пальцы ее подобны розовым бутонам в розовых раковинах, она двигается, как антилопа с грацией лебедя, плывущего по воде, – и я не помню всего остального, принц.
– Возможно, так и есть, – воскликнул принц, – но что сказал на это царь?
– Он спросил ее имя, принц.
– И какое же имя ты дал этой удивительной женщине, которая превосходит всех богинь по красоте и очарованию, карлик? – весело спросила Амада.
– Что я мог сказать, о божественная? Разве нужно это спрашивать? Какое имя я мог назвать кроме вашего, есть ли в мире другое имя, о котором сердце мужчины, исполненное правды, может говорить подобные вещи?
Услышав это, я вздохнул, но не успел сказать ни слова, потому что Амада вскочила с криком:
– Негодяй! Ты осмелился назвать мое имя этому царю! Тебя нужно пороть до тех пор, пока твои кости не побелеют.
– За что, госпожа? Разве вы не хотите, чтобы я остался сидеть и рассказал, как эти жирные восточные неряхи восхваляют вас? Вы хотите, чтобы я проявил неуважение к вашей царской красоте?
– Тебя надо выпороть, – повторила Амада, топая ногой, – дядя, я прошу тебя приказать выпороть этого плута.
– Нет, нет, – сказал Пероа мрачно, – этот бедняга не нашел ничего лучшего, чем пропеть похвалу тебе в дальних землях. Не сердись на карлика, племянница. Если бы твое имя произнес Шабака, все было бы намного сложнее. Что случилось дальше, Бэс?
– Только это, принц, – сказал Бэс, глядя снизу вверх и вращая глазами в своей обычной манере, когда хотел соврать. – Царь послал своих слуг, чтобы привести моего господина из лодки, чтобы он мог заверить его в том, что я говорю правду. Потому что, о, принц, эти восточные жители имеют про запас множество историй, которые они принимают за правду, о той, которая здесь, в Египте, почитается как богиня. Они не могут почитать ее, потому что она живет в сердце каждого мужчины и некоторых женщин.
Все уставились на Бэса, который продолжал смотреть в потолок, а я встал, чтобы что-нибудь сказать, сам не знаю что, когда внезапно открылись двери и через них прошли с криком глашатаи:
– Слушай, Пероа, принц Египта по милости Великого царя! Послание от Великого царя. Слушай и повинуйся, о Пероа, принц Египта по милости Великого царя!
Пока они кричали, между ними возник человек, чьи длинные восточные одежды были испачканы дорожной пылью. Подойдя без всякого приветствия, он вытащил свиток, коснулся им своего лба, низко поклонился и протянул свиток принцу со словами:
– Целуй слово. Читай слово. Повинуйся слову, слуга нашего господина, царя царей, под чьими ногами мы лишь пыль.
Пероа взял свиток, изобразил, что касается им своего лба, открыл и прочитал. Пока он читал, я видел, что на его шее вздулись вены и вспыхнули глаза, но он лишь сказал:
– О посланец, сегодня у меня праздник, завтра же ответ будет отправлен для передачи наместнику Идернесу. Мои слуги дадут тебе еду и ночлег. Ты можешь идти.
– Пусть ответ будет дан раньше, иначе ты лишишься власти, Пероа, – нагло заявил мужчина.
Он повернулся к принцу спиной и ушел, сопровождаемый глашатаем.
Когда они ушли и двери закрылись, Пероа заговорил гневно:
– Послушайте, как написано письмо.
И он прочитал его.
«От Царя царей, правителя всей земли, Пероа, одному из моих слуг в Египте.
Доставьте без промедления через моего слугу Идернеса женщину по имени Амада, особу царской крови древних фараонов Египта, которая является вашей родственницей и находится под вашей охраной. Она будет в числе женщин моего дома».
Все присутствующие посмотрели друг на друга, в то время как Амада словно окаменела. Она не успела ничего сказать, как Пероа продолжал:
– Обратите внимание, как царь ищет ссоры со мной, хочет уничтожить меня и перемолоть Египет в ступке, содрать кожу и бросить к своим ногам. Все в порядке, Амада, ничего не бойся. Я не отправлю тебя на восток, скорее, я убью тебя своими собственными руками. Но какой ответ мы дадим? Ведь дело срочное, и от этого зависит наша жизнь. Подумайте, Идернес имеет огромную власть там, в Саисе, и, если я категорически откажусь, он нападет на нас, чего, собственно, и добивается царь, если мы не предпримем мер предосторожности. Скажите, должны ли мы сражаться или же отправиться в Верхний Египет, покинув Мемфис, и оставаться там?
Казалось, советники не могли найти ответ, потому что не знали, что сказать. Однако Бэс шепнул мне на ухо:
– Помните, господин, что вы владеете царской печатью. Сделайте так, чтобы ответ был направлен к Идернесу с этой печатью, и предложите подождать вас.
Тогда я встал и произнес небольшую речь:
– О Пероа, случилось так, что я сейчас являюсь носителем личной печати Великого царя, которой должны повиноваться все жители севера и юга, запада и востока, где бы ни всходило солнце над владениями царя. Посмотрите на нее, – и, сняв древнюю Белую печать с шеи, я протянул ее Пероа.
Принц и советники посмотрели на нее. Затем практически в один голос заявили:
– Да, это Белая печать, знак великих царей Востока, – и все как один склонились перед этим пугающим атрибутом высшей власти.
– Шабака, мы не знаем, как Печать Печатей попала к тебе, – сказал принц, – это можно выяснить потом. По правде говоря, представляется, что это действительно древняя Печать Печатей, которая передается от отца к сыну на протяжении бесчисленного количества поколений. Царь царей носит ее на себе, и с ее помощью отдаются его личные приказы и подписываются величайшие документы государства, которые впоследствии никогда нельзя отменить. Копия этой печати изображена на его гербе.
– Это так, – ответил я, – и от царя она временно перешла ко мне. Если есть какие-то сомнения, пусть принесут оттиск, который есть у всех командиров в империи, и сравнят.
Один из офицеров встал и собрался пойти за оттиском, который хранился у него, но Пероа продолжал:
– Если это настоящая печать, как ты можешь использовать ее в нашем нынешнем положении?
– А вот как, принц, – ответил я, – я пошлю приказ с этой печатью Идернесу, чтобы он ждал носителя печати здесь, в Мемфисе. Он заподозрит ловушку и не приедет сюда, пока не соберет огромную армию. Тогда он придет, но за это время и вы, принц, сможете собрать армию.
– Для этого нужно золото, Шабака, а у меня его мало. Царь царей забирает все.
– У меня есть золото, принц, весом с тяжелого человека, и оно полностью в распоряжении Египта.
– Я благодарю тебя, Шабака. Поверь мне, такая щедрость не останется без награды, – и он посмотрел на Амаду, опустившую глаза. – Но если мы сможем собрать армию, что тогда?
– Тогда вы превратите Мемфис в неприступную крепость. Когда Идернес придет, я встречу его и, как носитель печати, отдам ему приказ отступить и распустить армию.
– Но, если это произойдет, ему стоит лишь получить новый приказ от Великого царя, и он снова выступит против нас.
– Нет, принц, не выступит, или выступит, но с другой армией. Когда они отступят, мы нападем на них и уничтожим. И объявим вас, принц, фараоном Египта, хотя и не знаю, что случится потом.
Когда все услышали это, раздался вздох изумления. Лишь Амада прошептала: «Хорошо сказано!», а Бэс тихо хлопнул в ладоши в своей обычной эфиопской манере.
– Смелый совет, – сказал Пероа, – у меня есть ночь, чтобы обдумать его. Шабака, возвращайся сюда завтра утром, через час после восхода солнца. К этому времени я смогу собрать самых мудрейших людей Египта, и мы обсудим это дело. О, вот и оттиск. Давайте рассмотрим печать.
Принесли и открыли коробочку. Внутри нее лежала деревянная пластина, на которой был оттиск царской печати в воске. Ее окружали другие печати, свидетельствовавшие, что это оригинал. Кроме того, внутри лежала бумага с описанием печати. Я протянул печать царю, он сравнил ее с описанием, приложил к восковому оттиску.
– Это она, – произнес он, – смотрите все.
Все посмотрели и согласно кивнули. Затем царь передал печать мне, но я вернул ее со словами:
– Не совсем правильно, что такое оружие, такой символ висит на шее обычного человека, ведь он может быть украден или потерян…
– …Или кто-то может умереть ради него, – прервал меня Пероа.
– Именно так, о принц. Поэтому возьмите его и спрячьте в самом безопасном и тайном месте во дворце, а вместе с ним – этот жемчуг, который слишком бесценен для того, чтобы хвалиться им на ночных улицах Мемфиса, пока, в самом деле… – и тут я повернулся, чтобы посмотреть на Амаду, но ее уже не было.
Итак, мы отдали печать и жемчужины, их убрали в коробку с оттиском, которую унесли. Я не сожалел о том, что вижу их в последний раз, поскольку считал, что поступил мудро. Потом я пожелал принцу и его советникам спокойной ночи и отправился к дому в колеснице вместе с Бэсом.
Наша дорога шла мимо каких-то больших домов, когда-то занятых командирами двора фараона, но сейчас двор лежал в руинах. Внезапно из домов выскочила группа мужчин, одетых в обычную одежду, их лица были скрыты масками с прорезями для глаз. Они схватили лошадей под уздцы до того, как мы успели что-то сделать, подскочили к нам и быстро связали нам руки. Затем высокий мужчина сказал с иностранным акцентом:
– Обыщите этого командира и карлика. Возьмите у них печать на золотой цепи и нитку красного жемчуга, который они украли. Но не причиняйте им вреда.
Они тщательно обыскали все складки нашей одежды, а высокий мужчина помогал им и с помощью других людей держал Бэса, который пытался сопротивляться. Они обыскали при свете луны и колесницу, но ничего не нашли. Высокий мужчина пробормотал, что я плохой командир, и по его знаку люди оставили нас и умчались во тьму.
– Я мудро поступил, Бэс, что оставил кое-какие украшения во дворце, – заметил я. – Но они ничего не взяли.
– Да, господин, – ответил Бэс, – хотя я забрал кое-что у них.
Тогда я не понял, что значила эта фраза.
– Те восточные жители, которых мы встретили возле канала, рассказали Идернесу о печати, и он приказал забрать ее. Этот высокий человек – один из тех посланников, которые приезжали вечером во дворец.
– Но почему они не убили нас, Бэс?
– Потому что убийство того, кто носит такую печать, – плохое дело, убийцу легко выследить и уничтожить, хотя в Мемфисе полно воров, и кто будет волноваться, если кто-нибудь из них исчезнет? Саранча или Амон, или они оба были с нами сегодня вечером.
Я тоже так думал, хотя ничего и не сказал. Мы избежали смерти, но что это значило? Я понял, что печать Великого царя внушает ужас и является желанной добычей даже здесь, в Египте. Если бы она оказалась в руках Идернеса, кто знает, что он сделал бы? Провозгласил бы себя фараоном и стал бы основателем независимой династии. Возможно, почему нет, если империя востока истощена многочисленными войнами? И почему Пероа не сделал так? Тот, за спиной которого было все древнее царство, страдавшее от несправедливостей и иностранного правления?
Той же ночью, перед тем как лечь спать, мы с Бэсом спрятали мешки с золотом, закопав их под глиняной дверью. Я обо всем рассказал моей матери, которая была очень мудрой женщиной. Она выслушала меня, задала несколько вопросов, а потом сказала:
– Это очень опасное дело, и я не могу говорить о том, как все закончится, пока не услышу совета твоего великого дяди, святого Танофера. Дела могут зайти так далеко, что решимость, как мне кажется, будет лучшим выходом, потому что Великий царь ведет войну с Грецией, и, что бы он ни говорил, он еще долго окажется не в состоянии напасть на Египет. Таким образом, если принц Пероа победит Идернеса и его армию, он сможет сам провозгласить себя фараоном и освободить Египет хотя бы на время.
– Я тоже так думаю, мама.
– Не об этом ты думаешь, сын, – ответила она, смеясь, – ты больше думаешь о прекрасной Амаде, чем о высокой политике, во всяком случае, сегодня ночью. Хорошо, женись на Амаде, если ты сможешь, хотя я недостаточно уверена в женщине, которая посвятила себя учению и слишком много думает о своей душе. В конце концов, если ты женишься на ней и Египет станет свободным, как это было на протяжении тысяч лет, ты станешь следующим претендентом на трон, будучи мужем великой царицы.
– Как это может быть, мама, если у Пероа есть сын?
– Самовлюбленная юность не более чем детская погремушка. Если Амада перестанет думать о своей душе, она начнет думать о своем троне, особенно если у нее будут дети. Но это все далекое будущее, а сейчас я рада, что ни она, ни воры не получили те жемчужины, хотя, возможно, здесь они были бы в большей безопасности, чем там, где они сейчас. А теперь, мой сын, иди отдыхать, тебе сейчас это нужно, не думай ни о чем, даже об Амаде, которая, со своей стороны, будет мечтать об Исиде, вот и все. Я разбужу тебя до рассвета.
Итак, я ушел, потому что слишком устал для дальнейших разговоров. Я спал, как крокодил на солнце, и, как мне показалось, проспал всего несколько минут, потому что увидел свою мать, которая склонилась надо мной, говоря, что пора вставать. Я поднялся, правда, неохотно, но силы мои были восстановлены, умылся, оделся, к этому времени солнце уже начало всходить. Я немного поел, позвал Бэса и приготовился отправиться во дворец.
– Мой сын, – сказала моя мать, благородная Тиу, перед тем как мы расстались, – пока ты спал, я думала, поскольку это удел стариков. Пероа, твой дядя, будет очень рад использовать тебя, но он не сильно любит тебя, потому что ревнует и боится, что ты можешь стать его соперником в будущем. Но он честный человек и сделает то, что обещал. Мне кажется, что превыше всего на земле ты любишь Амаду, которой посвятил себя с самого детства. Но она всегда играла тобой и говорила на расстоянии вытянутой руки. Но жизнь коротка, и никто не знает, когда она закончится, и ты знаешь об этом лучше, чем любой другой человек, ибо опасности соседствуют с тобой всю жизнь. Это правильно, что мужчина должен получать то, что хочет, даже если потом выяснится, что найденная им роза полна шипов. Ведь в таком случае ему придется нюхать розу, а не только смотреть на нее, и долго нюхать. Следовательно, перед тем как ты заберешь золото и направишь свою сноровку и силу на службу принцу Пероа, заключи с ним сделку. А именно: если тебе удастся спасти Амаду от царского гарема и помочь посадить на трон Пероа, он должен пообещать ее тебе, освободив от службы Исиде, и в качестве приданого ты отдашь ей красный жемчуг, который стоит целого царства. Таким образом, у тебя будет роза, которая долго не завянет, и если ты уколешься ее шипами, не вини меня. Однажды ты можешь стать царем или рабом – один Бог знает, что будет.
Я засмеялся и сказал, что приму ее совет, потому что мечтаю об Амаде и больше ни о ком. Что касается шипов, то я не обращал на них внимания, поскольку знал, что мать очень меня любит и ревнует к Амаде, которая, как ей казалось, может занять ее место.
Глава X Шабака клянется в верности
Мы с Бэсом во всеоружии направились ко дворцу, держась середины дороги, но солнце уже стояло высоко, и разбойников простыл и след. У ворот посыльный окликнул меня, чтобы я один предстал перед высокой особой Пероа, пожелавшим, как он сказал, переговорить со мной до заседания совета.
– Слыхал я, на тебя напали прошлой ночью, – молвил он, приветствовав меня.
Я ответил, что так оно и есть, и рассказал, как было дело, прибавив, что, к счастью, припрятал Белую печать с жемчужинами в надежном месте, поскольку вероятные грабители с Востока наверняка попытались бы их заполучить.
– Ах, жемчужины! – сказал он. – Один из тех, кто держал их в руках, потому как торговал драгоценными камнями, уверяет, будто они бесценны и бесподобны и что он в жизни не видывал ничего, что могло бы сравниться даже с самой мелкой из них.
Я ответил, что, по моему разумению, это правда. Потом он спросил, какова цена золота, о котором я говорил. И я сказал, назвав огромную сумму, потому как золото в Египте – большая редкость. Глаза его полыхнули, ибо он нуждался в деньгах, чтобы платить воинам.
– И все это ты готов отдать мне, Шабака?
Тут я вспомнил слова моей матушки и ответил:
– Да, властитель, но за достойную цену.
– Какую же, Шабака?
– В обмен на руку царственной Амады, освобожденной от ее обетов. Я же, помимо всего прочего, передам ей жемчужины в качестве приданого, а к твоим услугам предоставлю свой меч и знания, обретенные мною на Востоке, и дам клятву стоять за тебя или погибнуть вместе с тобой.
– Так я и знал, Шабака. Что ж, в этом мире ничто не дается даром, и предложение твое справедливое. Ты знатного рода, как и я, ты храбр и мудр. К тому же Амада пока еще не приняла вечного обета, так что верховные жрецы могут избавить ее от верного служения богине и сыну ее Гору или от чего там еще, ведь я не разбираюсь в этих таинствах. Но, Шабака, даже если судьба и будет благоволить нам и я стану первым фараоном новой египетской династии, тот, кто женат на принцессе-цесаревне чистой крови, может стать угрозой и престолу моему, и роду.
– Это буду не я, властитель, ибо я доволен своим положением и тем, что могу служить тебе.
– И моему сыну, Шабака? Сам знаешь, у меня лишь один законный сын.
– И твоему сыну, властитель.
– Ты честен, Шабака, и я верю тебе. А как насчет твоих сыновей, если они у тебя будут, и как насчет самой Амады? Что ж, великие свершения требуют решимости, и мне нужно золото, а что до остального, чего я не могу взять даром, ты сам завоюешь умением своим и храбростью, и все это будет твое. Ты не сказал нам, как добыл печать, ну да теперь не время.
Пероа ненадолго задумался и, пройдясь взад вперед по зале, продолжал:
– Я принимаю твое предложение, Шабака, насколько это возможно.
– Насколько возможно, властитель?
– Да, я могу выдать за тебя Амаду и устроить вашу женитьбу так, чтобы все было честь по чести, но только при условии, что сама Амада будет на то согласна. Никто не может нарушить волю совершеннолетней египетской принцессы-цесаревны, кроме ее отца, царствующего фараона, а я ей не отец – всего лишь опекун. Но, ежели она не пойдет за тебя, готов ли ты исполнить уговор, кроме того, что касается жемчужин, и попытаться завоевать сердце Амады так, как подобает мужчине, желающему добиться благорасположения женщины, при том что я со своей стороны обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе в твоем деле?
Теперь настал мой черед задуматься. Чем я рисковал? Золотом, да, может, жемчужинами, и только: ведь в любом случае мне предстояло сражаться на стороне Пероа с ненавистным восточным царем, а значит – во славу Египта. Богатства же достались мне по случаю, и, коли я лишусь их по воле того же случая, что с того? К тому же я не из тех, кто будет добиваться руки и сердца женщины, как бы я ее ни боготворил, ежели она даст мне от ворот поворот. Сумею снискать взаимность с ее стороны – отлично. А нет, так и поделом мне – никаким иным образом искать ее любви я не желал. В конце концов, я полагал, и не без основания, что она благоволила ко мне больше, чем к любому другому мужчине, и, если бы не чувство, которое моя матушка называла душевным томлением, она была бы моей еще до того, как я отправился на Восток. В самом деле, однажды она сама мне это сказала, и в ту последнюю ночь было в ее глазах нечто такое, что говорило: да, в глубине души она любит меня, вот только как страстно, я не знал. Так что, не мудрствуя лукаво, я ответил:
– Понятно, я согласен. Золото переправят тебе нынче же, властитель. Жемчужины уже у тебя, и ты храни их до поры.
– Хорошо! – воскликнул Пероа. – Тогда давай немедля скрепим наш уговор подписями, чтобы впредь ни один из нас не был в претензии к другому.
С этими словами он послал за тайным писцом и изложил ему коротко и ясно суть нашей сделки, ничего не прибавив и не убавив. С этого папирусного свитка сделали три копии: одну взял Пероа, другую – я, а третью, по обычаю, передали на хранение в архив при храме Птаха[26].
Покончив со всем, мы с Пероа обнялись и, поклявшись в верности друг другу именем Амона, отправились отобедать в трапезную, где дожидались те, кого созвал властитель. Всего же там собралось десятка три именитых граждан Мемфиса и окрестных землевладельцев, которых созвали вечером. Были среди них старцы, помнившие те времена, когда Египтом правил собственный фараон, прежде чем оказаться под пятой Востока, – те, в чьих жилах текла благородная кровь.
Были там и купцы, торговавшие со всеми городами Египта, и потомственные военачальники с флотоводцами; и греческие командиры наймитов, состоящих на службе у Царя царей, хотя и презиравшие его, подобно всем грекам. Среди приглашенных были также верховные жрецы Птаха, Амона и Осириса и самые могущественные из местных властителей, поскольку не было ни одного селения между Фивами и разветвленным устьем Нила, где не нашлось бы верноподданных, присягнувших беззаветно служить своим богам.
Таким было общество, олицетворяющее собой все, что осталось – и что можно было собрать воедино – от былого и ныне утраченного величия Египта.
Когда двери были плотно закрыты и верные стражники встали рядом, чтобы их охранять, Пероа тихим и серьезным голосом изложил присутствующим суть дела. Он сказал, что царь Востока выискал новый повод для ссоры с Египтом, вознамерившись стереть его в пыль своею пятой, если к его двору, вопреки требованию, не доставят Амаду, его родную племянницу и наследную принцессу Египта, как какую-нибудь наложницу. В случае отказа он грозит послать великое войско под предлогом захватить ее силой и опустошить все земли до самых Фив. Но даже если она и будет обещана ему, он найдет другой повод для распри, и тогда в лице царственной Амады они все будут посрамлены навеки.
Потом он показал присутствующим печать и сказал, что я – а многие из них знали меня по крайней мере понаслышке – привез ее с Востока, и изложил им план, предложенный мною давешним вечером. После этого он попросил у них совета, как быть, объяснив, что до полудня ему надлежит передать ответ Идернесу, царскому наместнику в Саисе[27].
Вслед за тем слово дали мне, чтобы ответить на вопросы, и я чистосердечно признался, что похитил древнюю Белую печать у царского слуги, который носил ее в знак личной царской мести тому, кто обвел его вокруг пальца. Каким образом – я умолчал. Я также рассказал присутствующим о состоянии Великой царской империи и о том, что, по слухам, царь собирается выступить войной против греков, для чего ему понадобится вся его сила, и если присутствующие желают сразиться за свободу, то время пришло.
Затем начались прения, и продолжались они часа два: каждый присутствующий высказывал свое мнение в порядке старшинства, и мнения у всех были разные. Когда обсуждение закончилось и стало ясно, что мнения у всех разные – поскольку одни соглашались и дальше прозябать в рабстве, довольствуясь тем, что имели, а другие желали биться за свободу, и среди них были верховные жрецы, боявшиеся, как бы восточные иноверцы не искоренили их веру, – слово снова взял Пероа.
– Старейшины Египта, – коротко начал он, – кто-то из вас считает так, а кто-то иначе, но нет никаких сомнений, что состоявшийся меж нами разговор не утаить. Он непременно дойдет до ушей лазутчиков, а через них – до Великого царя, и тогда все мы как один будем обречены. Если вы решили сидеть сложа руки, я сегодня же вместе с родней, двором и принцессой-цесаревной Амадой, и всеми, кто верен мне, отправляюсь в Верхний Египет, а оттуда, возможно, в Эфиопию, и сейчас предоставляю вам самим решать – или сдаться на милость Великого царя, как вы сами того хотите, или последовать со мной в изгнание. Царь нападет на нас, вне всякого сомнения, либо под предлогом заполучить Амаду, либо найдет какую-либо иную причину, тем более что Шабака слышал это из его собственных уст. Так что выбирайте.
Затем, недолго посовещавшись шепотом, каждый из присутствующих проголосовал за восстание, хотя некоторые, как я заметил, сделали это с тяжелым сердцем, после чего все дали великую клятву стоять друг за друга до последнего.
Порешив таким образом, мы написали Идернесу послание, как я и советовал давеча вечером, и скрепили его Печатью Печатей. Об отказе в передаче Амады в нем не упоминалось ни словом, зато Идернесу было наказано властью личной Белой печати властителя, которого никто не смел ослушаться, ждать скорейшего прибытия царевича Пероа в Мемфис, где он, как хранитель печати, должен был сообщить волю Великого царя.
Следующий совет перенесли на час пополудни, и большинство присутствующих отправилось снаряжать гонцов, которым надлежало разнести принятое тайное послание по Египту.
Однако, прежде чем они разошлись, мне было велено дождаться моего родственника, святого Танофера, известного всем в Египте величайшего кудесника, и попросить его, чтобы он обратился к своему премудрому, всеведущему Духу и узнал, что ждет нас впереди – удача или погибель.
Когда почти все члены совета ушли, вызвали посланников Идернеса, а вместе с ними, вернее чуть их опередив, в залу величавой походкой вошел Бэс, за которым я перед тем послал, поскольку он не присутствовал на совете.
– Хозяин, – шепнул мне он, – вон тот, самый рослый из посланников, – предводитель разбойников, которые напали на нас прошлой ночью. Погодите, я докажу.
Пероа вручил свиток старшему посланнику, просив передать его наместнику в ответ на грамоту, которую тот прислал. Посланник надменно принял свиток, сунул его под мантию, обнажив порванную и стянутую узлом серебряную цепочку, и спросил, не нужно ли передать наместнику что-нибудь на словах вдобавок к написанному в свитке. Прежде чем Пероа успел ответить, Бэс поднялся и сказал:
– О властитель, прошу и молю, воздай этому человеку по справедливости! Прошлой ночью он с подручными напал на меня и моего господина, намереваясь нас обобрать, но ничего не нашел и отпустил восвояси.
– Ты лжешь, недоросток! – вскричал пришелец с Востока.
– О, да неужели? – усмехнулся Бэс. – Ладно, сейчас поглядим, – вскинув длинную руку, он схватился за цепочку на шее у посланника и мигом сорвал ее. – Взгляни, о властитель! – сказал он. – Ты, верно, заметил прошлой ночью, когда этот человек вошел в залу, что на шее у него висела эта самая цепочка с серебряным ключом?
– Заметил, – проговорил Пероа.
– Тогда спроси его, о властитель, где сейчас ключ?
– Тебе-то что за дело, коротышка? – прервал его верзила. – Ключ – мой знак отличия, я старший дворецкий верховного наместника. Мне что, прикажешь всегда носить его тебе в угоду?
– Всегда не всегда, да только нет его у тебя, дворецкий, – возразил Бэс. – Смотри-ка, вот он, – Бэс достал из обшлага ключ, висевший на обрывке цепочки. – Послушай, о властитель, – продолжал он. – Когда я давеча сцепился с этим типом, ключ оказался у меня в левой руке, но тот тогда ничего не заметил, так ключ и попал ко мне вместе с обрывком цепочки. Сравни их и сам суди. К тому же с разбойника слетела маска, я разглядел его лицо и теперь вот признал.
Пероа сложил вместе обрывки цепочки и угадал в них редкое мастерство восточного золотаря. Затем он хлопнул в ладоши, и по сигналу из-за спины у него тотчас же возникли вооруженные охранники из придворной стражи.
– Все сходится, – молвил он. – Дворецкий Идернеса, оказывается, самый заурядный разбойник.
Верзила попробовал было возразить, но не смог, поскольку все говорило против него.
– Итак, о властитель, – спросил Бэс, – какое наказание ожидает разбойников, безжалостно нападающих на добрых путников на улицах Мемфиса, и какую кару просить мне для этого?
– Отрубить правую руку да высечь плетьми, – ответствовал Пероа.
Заслышав такое, дворецкий попытался улизнуть, но Бэс мигом накинулся на него, точно обезьяна на птицу, и вцепился мертвой хваткой.
– Держите разбойника! – велел Пероа слугам. – Да всыпьте ему полсотни розог. А руку ему я сохраню, потому что его ждет дорога.
Слуги повалили верзилу наземь и, когда принесли розги, принялись сечь его, пока на тридцатом ударе он не взмолился о пощаде, сознавшись, что именно он предводительствовал разбойниками, – Пероа тут же велел скрепить его слова письменно. Потом он спросил, зачем ему, посланцу наместника, понадобилось грабить на улицах Мемфиса, и, поскольку тот отказался отвечать, судебному исполнителю было велено пороть его дальше.
После очередных трех ударов верзила сказал:
– О властитель, это был не простой грабеж наживы ради. Я исполнил приказ, потому что вон у того сановника была при себе древняя Белая печать Великого царя, которую он показал кому-то из слуг наместника на берегу канала. Печать эта, о властитель, – священный знак, и она, как говорят, передается по наследству в роду Великого царя дважды в тысячу лет, а поскольку наместник не ведал, как она попала в руки благородного Шабаки, он приказал мне при случае ее заполучить.
– Вместе с жемчужинами, дворецкий?
– Да, о властитель, потому что цена их очень высока, и на них наместник смог бы купить себе сатрапию[28] побольше.
– Отпустите его, – велел Пероа. И верзила поднялся, потираясь и стеная от боли.
– Теперь, дворецкий, – продолжал Пероа, – возвращайся к своему повелителю с благодарным сердцем, ибо ты избежал того, что заслужил с лихвой. Передай, что ему нипочем не выкрасть печать, и, коли он мудр, пусть смирится, а нет, так участь его будет ужаснее твоей, да и всем его слугам скажи то же самое. Глупец, откуда мог ты или твой повелитель знать, что на уме у Великого царя или каково предназначение Печати Печатей здесь, в Египте? Поостерегись, не то все вы дружно угодите в пропасть, а Идернес падет на самое ее дно.
– Поостерегусь, о властитель, – проговорил пристыженный дворецкий, – и, что бы там ни было начертано на печати, я повинуюсь, как и многие другие.
– Ты благоразумен, – ответил Пероа. – Молю, чтобы и наместнику Идернесу достало благоразумия. А теперь убирайся и благодари бога, которому поклоняешься, что сохранил себе жизнь и запястье на правой руке.
Дворецкий и спутники его пали ниц перед Пероа, потом униженно поклонились мне и даже Бэсу, поскольку в глубине души поверили, что нам покровительствуют несокрушимые силы Великого царя, могущие стереть их всех с лица земли, ежели на то будет наша воля. Потом они ушли – дворецкий слегка прихрамывал: от былой его спеси не осталось и следа.
– Вот и отлично, – сказал Пероа чуть погодя, когда мы остались с ним наедине. – Отныне этот плут так напуган, что нагонит страху и на своего повелителя.
– Да уж, – ответил я, – ловко вы все проделали, властитель. Однако нельзя терять времени, поскольку еще до следующей луны все станет известно на Востоке, а там кто его знает, что им придет на ум, – может, и новая печать появится.
– Говоришь, ты похитил Белую печать? – спросил он.
– Нет, властитель, на самом деле ее приобрел Бэс – некоторым образом, – и я ею воспользовался. Может, оно и к лучшему, что вы пока еще не все знаете.
– Может, и так, – ответил он. И мы расстались, потому как у него было много дел.
Пополудни совет собрался снова. Я передал им золото, и с его помощью все было улажено. Через неделю в Мемфис должна была прибыть посуху тысяча вооруженных воинов, а по Нилу – сотня кораблей с экипажами; кроме того, в Верхнем Египте собиралось огромное войско, большей частью под водительством греков, весьма искусных в военном деле. Греческие города в устье Нила также собирались присоединиться к восстанию, о чем объявили некоторые их граждане, потому что они всем сердцем презирали Великого царя и страстно желали высвободиться из-под его ярма.
Что касается меня, то мне поручили командовать личной охраной Пероа, в числе которой было немало греков, а кроме того, я получил чин полководца; что же до Бэса, ему, по моей просьбе, были дарованы привилегии почетного гражданина, и он принял их с улыбкой – он, который у себя на родине был царем.
Наконец, после того как все приготовления были завершены, я вышел в дворцовый сад отдохнуть перед дорогой в пустыню, где должен был встретиться с моим двоюродным дедом, святым Танофером. Я был один – Бэс пошел за лошадьми, на которых нам предстояло отправиться в путь, – и, усевшись под пальмой, принялся размышлять о великом приключении, на поиски которого мы пустились с легким сердцем: ведь я так любил приключения.
Потом я вспомнил об Амаде, на которой не успел жениться. И вдруг – нате вам, она сама предстала передо мной, без свиты, в тунике – но не жрицы, а знатной египетской дамы – и с подобающей ее титулу маленькой диадемой в волосах. Я встал, поклонился, и, когда мы пошли вместе прогуляться под сенью пальм, почувствовал, как у меня забилось сердце, потому что я понимал: пришел мой час объясниться.
Но первой заговорила она:
– Слыхала я, Шабака, будто ты затеваешь великие козни во благо Египта.
– Египта и тебя, ведь ты и есть Египет, – ответил я.
– Стало быть, брат, я смогу вернуть себе и былое положение, и титул, которые мне подобают, ведь сейчас я самая обыкновенная простолюдинка.
– Притом вернешь навсегда, Амада, и да поможет мне в этом мой меч.
– Брат, а как же обещания, которые ты дал моему дяде Пероа и его сыну?
– Да, я им тоже дал обет, Амада, и сдержу его. Но боги превыше всего, и кто знает, какова будет их воля?
– Да, брат, боги превыше всего, и только им мы можем доверяться в таких делах, стараясь никоим образом не прогневать их нарушением наших обетов.
Какое-то время мы шли молча. Потом я заговорил снова:
– Амада, есть вещи поважнее всех престолов на свете.
– Да, брат, и знаменуют они крах всех престолов, как, например, смерть, которую мы будто сами ищем.
– Но они же, Амада, дают и начало всем престолам, как, например, любовь, которую я ищу в твоем сердце.
– Мне это давно известно, – сказала она, серьезно посмотрев на меня, – и я благодарна тебе, ведь ты значишь для меня больше, чем любой другой мужчина, и так было, есть и будет. Но, Шабака, я жрица и обречена угождать богине, которой служу, а не смертному.
– Твоя богиня, Амада, была замужем и родила сына, отомстившего потом за своего отца, как и мы, надеюсь, отомстим за Египет. Поэтому она благоволит женам и матерям. К тому же ты еще не приняла вечных обетов и можешь быть избавлена от них.
– Пожалуй, – тихо проговорила она.
– В таком случае, Амада, может, ты доверишься моим заботам?
– Конечно, Шабака, хотя сам знаешь, я только и помышляю о том, чтобы постичь Богиню неба и служить ей. Сердце мое взывает к тебе – правда, оно зовет меня денно и нощно, да так громко, что не передать словами, а я все не откликаюсь на его зов; однако не мне одной это решать. Египет тоже взывает ко мне с тех пор, как однажды во время бдения в святилище мне привиделось, будто ты единственный, кто может его освободить, и я думаю, видение это снизошло на меня свыше. Так что я согласна, но только не сейчас.
– Не сейчас… – в смятении проговорил я. – А когда?
– Когда я буду свободна от обетов, а это должно произойти в ночь новолуния, то есть через двадцать семь дней. Потом, если за этот срок меж нами не возникнет никаких препятствий, будет объявлено, что принцесса-цесаревна Египта выходит замуж за благородного Шабаку.
– Двадцать семь дней! За этот срок, Амада, всякое может случиться. Да и что может нам воспрепятствовать кроме смерти?
– Я знаю лишь то, Шабака, что небытие темнее полуночного мрака.
– Мне ли этого не знать, – ответил я.
Мы стояли на прогалине в лучах солнечного света. Когда я произнес последние слова, ветром колыхнуло пальмы, и тень одной упала прямо на меня, что Амада не преминула заметить.
– Кое-кто мог бы принять это за знамение, – с легкой улыбкой молвила она, показывая на край тени. – Ох, Шабака, если б ты признался, что бы там ни было, и сказал правду, я бы все простила. Может, во время твоих странствий по Востоку…
– Ничего, ничего не было! – радостно воскликнул я, тем более что за все это время я почти ничего не сказал юной деве.
– Я счастлива, что на Востоке с тобой не случилось ничего такого, что могло бы нас разлучить, Шабака, хотя, право же, я имела в виду совсем не то, о чем ты подумал, ведь на свете помимо женщин есть много чего другого. Только странно, что ты вернулся в Египет с кучей бесценных даров от злейшего врага египтян.
– Но разве я не говорил тебе, что интересы родины для меня превыше моих собственных? Те дары – выигрыш в честном споре, Амада, и эту историю ты слышала прошлой ночью. К тому же сама знаешь, какой цели они послужат, – с негодованием возразил я.
– Да, теперь знаю наверняка. Не сердись, Шабака, ведь я люблю тебя всем сердцем и надеюсь скоро называть тебя моим мужем. А пока не бери в голову, если я немного сторонюсь тебя, ведь тебе еще предстоит отрешиться от прошлого и приготовиться к встрече с будущим, о котором я и не мечтала.
Напоследок Амада подала мне руку, и я ее поцеловал: покуда она все еще была жрицей, ее уста не могли прикоснуться к моим. В следующее мгновение она со счастливой улыбкой ускользнула прочь, и я снова остался в саду один.
Только сейчас я впервые задумался о предостережениях Бэса – вспомнил, что это я, а не он назвал Великому царю имя прекраснейшей египтянки, причем без всякой задней мысли. А когда вспомнил, тут же почувствовал, как вокруг меня сгустились все тени земные. Я думал разыскать ее, а она упорхнула – растворилась в стенах огромного дворца. Ладно, решил я, в следующий раз, когда мы останемся с нею наедине, я расскажу ей все как есть – объясню, что к чему, и с этой мыслью успокоился, но откуда мне было знать, что пройдет еще немало дней, прежде чем мы будем неразлучны.
И я отправился домой поделиться с матушкой моей радостью, потому что, сказать по правде, не было во всем Египте человека счастливее меня. Матушка выслушала меня, а после с едва уловимой улыбкой сказала:
– Когда отец твой пожелал взять меня в жены, Шабака, он не руку мне целовал, хотя в моих жилах, сам знаешь, тоже течет царская кровь. Но, с другой стороны, я не была жрицей Исиды, так что не сомневаюсь – все будет хорошо. Только за двадцать семь дней много чего может случиться, ведь то же самое ты сказал и Амаде. Однако интересно, почему она… Впрочем, не важно, ибо жрицы совсем не похожи на других женщин, помышляющих только о мужчине, которого они покорили, и больше ни о чем на свете. Да благословят тебя боги вместе со мной, сынок, – и она ушла хлопотать по хозяйству.
По дороге в Секеру – к святому Таноферу – я поведал обо всем Бэсу, прибавив, что по забывчивости не сказал раньше, что это я назвал царю имя Амады, но собирался признаться в ближайшее же время.
Бэс вытаращил на меня глаза и ответил:
– На вашем месте, господин, если б я что и позабыл, то вспоминать бы не стал, потому как бывает, что сейчас хочется в чем-то признаться, а через час уже нет. Зачем вообще выкладывать начистоту то, что женщине тяжело объяснить, какой бы мудрой и благородной она ни была? Я уже сказал, что сам назвал ее имя царю, а вас сняли с лодки только затем, чтобы подтвердить мою правоту. Разве этого недостаточно?
Пока я обдумывал его слова, он продолжал:
– Вы, верно, помните, господин, что, когда я рассказал, ну… все как было, благородная Амада велела выпороть меня до крови. Теперь же, если вы расскажете, как все было на самом деле, поставив под сомнение мою честность, словно чистоту серебряной монеты, она и вовсе сотрет меня в порошок как лжеца, а о том, что ждет вас, я и знать не хочу. К тому же, господин, я больше не раб, а гражданин Египта, не говоря уже о том, кто я есть на самом деле, а посему у меня нет ни малейшего желания вкусить плетей от руки, которую я даже не смею поцеловать, в отличие от вас.
– Но, Бэс, – заметил я, – правда все равно откроется, рано или поздно.
– Господин, если б правда всегда открывалась, земля уже давно бы разверзлась или, по крайней мере, на ней не осталось бы ни одной живой души. Да и зачем открывать правду? Ее знаем только мы с вами, не считая Великого царя, который, наверно, уже все забыл, потому как был пьян. Эх, господин, когда у вас нет ни лука, ни стрел, глупо пинать в живот спящего льва, поскольку он тут же вспомнит, что голоден, и проглотит вас за милую душу. Кроме того, рассказывая вам ту историю первый раз, я оплошал. На самом деле я тогда сказал Великому царю, как теперь отчетливо припоминаю, что благородную красавицу зовут Амадой, и он послал за вами лишь для того, чтобы удостовериться, что я не вру.
– Бэс, – воскликнул я, – с какой же легкостью вы, поклонники Саранчи, рядитесь в тогу добродетели!
– Так же легко, как в сандалии, господин, вернее, не совсем, поскольку Саранче они ни к чему. Мы издревле приглядывались к тем, кто поклоняется египетским богам, и научились у них…
– Чему же?
– Среди прочего, господин, тому, что женщина, если она скромница, приходит в смущение при виде голой Истины.
Глава XI Святой Танофер
Мы въехали в Город гробниц, как еще называют Секеру. Там, посреди защищенных башнями пирамид, скрывающих бренные останки древних, позабытых царей, и среди занесенных песками пустыни улиц со множеством памятников, не было ни единой живой души, за исключением одного-двух жрецов, спешащих на доходную службу в поминальные храмы. Бэс оглянулся кругом и фыркнул, выпустив воздух из широких ноздрей.
– Неужели, господин, смерть такая уж большая редкость на свете, – спросил он, – что живым угодно превозносить ее подобным образом, смакуя на кончике языка, словно лакомство, которое они не торопятся проглотить, поскольку уж больно оно вкусное? Ох, и к чему такие траты? Все они жили в свое удовольствие, но им и теперь подавай роскошные палаты, пирамиды да усыпальницы, где не зазорно почить вечным сном, хотя, если б они верили в то, что исповедовали при жизни, им следовало бы предать свой прах земле, дабы накормить ее так же, как когда-то она кормила их, а души свои отпустить на небеса.
– Но разве твой народ поступает иначе, Бэс?
– Большей частью точно так же, господин. Наших усопших царей и сановников мы замуровываем в хрустальные колонны, и делаем это с двойной целью. Во-первых – чтобы колонны служили оплотом величия их преемников, а во-вторых – чтобы наследники их богатств радовались, видя, сколь прекрасны они в сравнении с теми, кто был до них. А поскольку мумия выглядит не очень приглядно, господин, по крайней мере, если ее распеленать, наших царей мы замуровываем в хрусталь нагими.
– А как с остальными, Бэс?
– Их тела предаются земле или воде, а души Саранча уносит – куда бы вы думали, господин?
– Не знаю, Бэс.
– То-то, господин, и никто не знает, кроме царственной Амады да, быть может, святого Танофера. А вот, сдается мне, и проход в его прибежище, – с этими словами он припустил своего жеребца к проему, напоминавшему вход в гробницу.
Нас, по-видимому, ждали, поскольку возникшая в дверном проеме высокая, с гордой осанкой, черноглазая девушка в белом мягким голосом спросила, не мы ли доблестный Шабака и Бэс, его раб.
– Я Шабака, – был мой ответ, – а это Бэс, да только он не раб, но вольный египтянин.
Девушка воззрилась на карлика своими большими глазами и проговорила:
– При прочих равных, я думаю.
– Каких таких равных? – полюбопытствовал Бэс, уставившись на красавицу.
– Храбрейший из храбрых и светлейший из умов, а с ним тот, кто, возможно, выше, чем кажется.
– Кто тебе сказывал про меня? – с тревогой воскликнул Бэс.
– Никто, о Бэс. По крайней мере я такого не помню.
– Не помнишь! Тогда кто ты такая, чтобы знать то, чего не знаешь?
– Меня зовут Карема, дочь пустыни, я служу Чашей святому Таноферу.
– Уж коли отшельники пьют из такой чаши, я и сам готов стать отшельником, – рассмеявшись, сказал Бэс. – Но как женщина может служить чашей мужчине и что за вино вкушает он из нее?
– Вино мудрости, о Бэс, – ответила она, слегка зардевшись, поскольку, как и большинство арабов с благородной кровью, ее легко бросало в краску.
– Вино мудрости, – вторил Бэс. – Из таких чаш многие вкушают вино скудоумия, а то и безумства.
– Святой Танофер ждет вас, – прервала его она и, развернувшись, вошла в проем.
– Меня зовут Карема, дочь пустыни
Чуть дальше – вниз по проходу – виднелась ниша, где помещались три зажженные лампы. Одну из них она оставила себе, а две другие передала нам. И мы двинулись следом за нею вниз по длинной, крутой лестнице, пока наконец не оказались в большом душном зале, вырубленном прямо в скале, где царил кромешный мрак.
– Что это за место? – испуганно пробормотал Бэс.
Хотя говорил он почти шепотом, наша проводница расслышала его и, повернувшись, ответила:
– Здесь погребен бык Апис[29]. Глядите, вот он лежит, его еще не успели замуровать, – и, подняв лампу повыше, она осветила огромный саркофаг из черного гранита, помещавшийся в нише мавзолея.
– Выходит, они делают мумии не только из людей, но и из быков, – ворчал Бэс. – Ах, ну что за страна! Однако ж со святым Танофером я виделся последний раз в кирпичной келье под сводом небес.
– Наверняка это было ночью, о Бэс, – ответила Карема, – потому что в том пристанище он только спит, а дни проводит в гробнице Аписа, поскольку все зло творится под солнцем.
– Неужели! – проговорил Бэс. – А я-то думал, оно большей частью вершится под луной, хотя святому Таноферу виднее, иначе не спал бы.
Здесь же перед каждой замурованной нишей располагалось по маленькой молельне – у четвертой, откуда исходил свет, девушка остановилась и молвила:
– Входите! Здесь и живет святой Танофер. В молодости он служил этому богу, когда тот был еще жив, а теперь, когда тот мертв, он поклоняется его праху.
– Поклоняется мертвому быку во тьме? Ну и ну! Уж лучше поклоняться Саранче на свету, все веселей, – пробормотал Бэс.
– О, карлик, – послышался громкий низкий голос из молельни, – не смей судить о том, чего не знаешь. Я поклоняюсь вовсе не праху мертвого быка, как ты полагаешь в неведении своем, а духу, который обитал в этом священном животном, всего лишь одном из плотских символов, и тебе, пришедшему в это обиталище призраков, не пристало его оскорблять.
И тут я в кои-то веки увидел, как испугался Бэс: у него разом отвисла массивная челюсть, а сам он задрожал как лист.
– Господин, – обратился ко мне он, – когда в следующий раз вздумаете наведаться в гробницы с девами, умеющими заглядывать к тебе в душу, и отшельниками, читающими любую твою мысль, прошу, бросьте меня снаружи. Я почитаю святого Танофера, но только издали, не у него дома, в его… – тут он глянул на Карему, наблюдавшую за ним с милой улыбкой поверх пламенеющей лампы, и прибавил: – А то, господин, я чувствую себя здесь не в своей тарелке. Врать и то не могу.
– Прекратите там молоть вздор, о, Шабака и Бэс, и входите! – раздался громкий голос из молельни.
Мы вошли – и увидели престранное зрелище. У подпорной стены молельни, озаренной светом ламп, возвышалась высеченная из алебастра в натуральную величину статуя Маат, богини Истины и Правопорядка. Голову ее, покрытую искусственными волосами наподобие парика, венчало перо, шею обвивало ожерелье из лазурита, а на локтях и запястьях сверкали золотые браслеты. Тело плотно облегала туника. В правой руке, опущенной вдоль туловища, она держала Крест жизни, а в вытянутой левой – продолговатый скипетр с набалдашником в форме лотоса; раскрашенные глаза смотрели во тьму. На земле, у подножия статуи, сидел, сгорбившись, в позе писца, мой двоюродный дед Танофер, глубокий старец, длиннорукий, с незрячими глазами, до того тощий, что в пламени ламп просвечивал насквозь. Голова – выбритая, борода – длинная и седая, такая же белая, как и его хламида. Перед ним стоял низенький алтарь, на нем – неглубокая серебряная чаша с чистой водой, а по обе стороны от нее – по горящему светильнику.
Мы опустились перед ним на колени, вернее, только я, поскольку Бэс пал ниц.
– Я ли не Царь царей, которого вы так давно навещали, что не преминули пасть ниц предо мной? – изрек Танофер громовым голосом, казавшимся неестественным, поскольку исходил он от хилого, ветхого старца. – Или вы пришли поклониться богине Истины, что стоит рядом? Коли так, прекрасно, ибо одному из вас, если не обоим, ох как нужна и милость ее, и помощь. А может, вы пришли воздать молитвы спящему быку, что держит весь мир на своих рогах? Или мраку этого святого места, которое напоминает вам о том, что смерть близка и готова впиться когтями вам в горло?
– Нет, дядюшка, – сказал я, – мы здесь, чтобы поклониться тебе, и только, ибо вы с лихвой заслуживаете нашего почтения, если вспомнить, что именно вы, по обоюдному нашему мнению, вырвали нас там, на Востоке, из когтей смерти, о которой только что упомянули, а вернее, львов, избавив от жестокой, мучительной гибели.
– Может, и я, а может, боги, ведь я всего лишь их оружие. По крайней мере, помнится, я отправил вам какие-то послания в ответ на мольбу о помощи, дошедшую до меня в здешнем мраке. Знайте же, с тех пор как мы расстались, я совсем ослеп и отныне принужден читать глазами этой девушки все, что написано в моей волшебной чаше. Зато теперь мне проще сносить мрак этого склепа и готовиться к встрече с вечной тьмой, что ждет меня впереди. Подойди ближе, племянник, поцелуй меня в лоб и помни, покуда пребываешь в силе: придет день, и станешь ты таким же, как я, если боги будут хранить тебя так же долго.
И я поцеловал его, хотя было страшновато: уж больно чудным казался мне старик. Потом он отослал Карему из святилища и попросил меня рассказать мою историю, что я и сделал. Зачем ему это понадобилось, не могу сказать, поскольку он, похоже, и так все знал, потому что раз или два даже напоминал мне кое-какие подробности, если я что-то упускал: к примеру, точные слова, которыми я назвал Великого царя в гневе своем, или каким образом меня связали в лодке. Когда я закончил, он сказал:
– Стало быть, ты выдал Великому царю имя Амады, так? Что ж, никак иначе ты и не мог поступить, коль хотел сохранить свою жизнь, и винить тебя не за что. Однако, прежде чем все закончится, Шабака, не миновать тебе беды, Шабака, ибо среди многих даров, коими боги оделили женщин, недостает разума. Так что смирись, поскольку лучше попасть в беду и остаться в живых, чем избавиться от всех бед и умереть, особенно для тех, чьи дела на этом свете еще не завершены. Ты, а вернее Бэс, похитил Белую печать печатей, совсем невзрачную и простую, хотя она и не дает власти над миром. И ты правильно сделал, поскольку она пригодится, пусть на какое-то время. Пероа решился восстать против царя, и это тоже правильно. О, только не трудись объяснять мне, что к чему, я и так все знаю. Но что тебе угодно услышать от меня, Шабака?
– Мне велено узнать у тебя, дядюшка, чем закончатся эти великие дела.
– Ты, никак, из ума выжил, Шабака, если принимаешь меня за бога, только и умеющего читать будущее.
– Вовсе нет, дядюшка, ведь ты можешь, если пожелаешь.
– Кликни девушку, – сказал он.
Бэс вышел за нею и скоро привел.
– Сядь, Карема, вот здесь, перед алтарем, и посмотри мне в глаза.
Карема повиновалась – и мгновение спустя голова ее склонилась на грудь, как будто девушка погрузилась в сон. Тут он проговорил:
– Очнись, женщина, посмотри на воду в чаше на алтаре и скажи, что видишь.
Девушка как будто очнулась, хотя я почувствовал, что на самом деле это не так, потому что она показалась мне какой-то не такой: лицо у нее было каменное – пугающее, глаза расширились и вроде как застыли. Она уставилась в серебряную чашу и вдруг заговорила чужим голосом, словно ее языком управлял какой-то дух.
– Вижу себя венценосной правительницей страны, которую ненавижу, – холодно проговорила она, к вящему моему изумлению. – Я восседаю на троне подле вон того карлика, – эти слова ввергли в изумление Бэса. – Хоть карлик и страшен с виду, он велик и благороден, хитер, как лиса, и отважен, как лев. И в жилах его течет царская кровь.
Тут Бэс закатил глаза и улыбнулся, но Танофер, будто ничуть не удивившись, сказал:
– Многое мне уже известно, а об остальном нетрудно догадаться. Поведай лучше о том, что ожидает Египет, прежде чем дух покинет тебя.
– Египет ждет война, – ответила Карема. – Вижу побоища; Шабака ведет за собой египтян. Полчища с Востока частью изгнаны, частью перебиты. Пероа становится фараоном, я вижу его на престоле. Шабаку тоже изгоняют, я вижу, как он, повергнутый в печаль, уходит на юг с карликом и со мной. Проходит время. Вижу, как луна проплывает за луной; вижу, как к Шабаке приходят посланники от Пероа и от тебя, о святой Танофер; они сообщают, что Египет постигла беда. Вижу, как Шабака с карликом идут на север во главе великого войска чернокожих, вооруженных луками. Я ликую вместе с ними, потому что сердце мое радуется. Он подходит к храму на берегу Нила, неподалеку от того места, где стоит лагерем другое великое войско – бессчетные полчища с Востока под водительством Царя царей. Шабака с карликом дают бой чужеземцам – завязывается отчаянное побоище. Они разбивают чужеземцев, теснят их в Нил; Нил становится красным от крови. Царь царей падает замертво: стрела, пущенная Шабакой, поражает его в самое сердце. Шабака входит в храм как победитель, а там лежит Пероа – он умер или, того и гляди, испустит дух. Там же, перед священным изваянием, вижу жрицу в покрывале – лица ее не разглядеть. Шабака смотрит на нее. Она простирает к нему руки, глаза ее горят огнем любви, грудь вздымается, а на них сверху хмуро и грозно взирает изваяние. Для Танофера, повелителя духов, все кончено – ты умираешь в том же храме на берегу Нила, и теперь я больше ничего не вижу. Сила, исходящая от тебя, оставила меня.
И Карема снова как будто погрузилась в сон.
– Слыхали, Шабака, и ты, Бэс? – невозмутимо проговорил Танофер, поглаживая длинную седую бороду. – Впрочем, вы можете верить или не верить тому, что дева прочла в воде, воля ваша.
– А ты чему веришь, о святой Танофер? – спросил я.
– Из того, что она рассказала, я знаю точно лишь одно, – сказал он, избегая прямого ответа, – что я умру и что без меня у юной Каремы больше не будет видений. Что же до всего остального, почем мне знать. Такое может случиться, а может и нет. Но, – прибавил он с едва уловимой тревогой в голосе, – как бы там ни было, мой совет вам обоим – до поры держите язык за зубами.
– Тогда какой ответ мне дать тем, кто послал меня к тебе за мудрым словом, о Танофер?
– Можешь им передать: мудрость моя подсказывает, что в знамениях добро перемешалось со злом, и время покажет, что есть истина. А теперь тише, дева вот-вот проснется – ни к чему ее пугать. К тому же мне пора покинуть эту гробницу и переместиться туда, где я сплю, тем более что Ра, думаю, уже совсем низко, и я устал. О Шабака, и зачем тебе понадобилось заглядывать в будущее, ведь оно само откроется тебе, подобно свитку папируса? Довольствуйся настоящим и принимай все хорошее или плохое, уготовленное тебе судьбой, не пытаясь узнать, какие подношения она прячет под своей мантией, приберегая их на грядущие дни, годы и века.
– Однако ж и тебе самому не терпелось все узнать, о Танофер, и недаром.
– Верно, да только какой мне от этого прок? Старому, слепому отшельнику, согбенному под тяжестью лет и теребящему пальцами жалкие нити, которые я в муке и скорби выдергиваю из бахромы покрова Мудрости. Внемли же моим предостережениям, племянник! Покуда ты человек, живи по-человечески, а станешь духом, живи как дух. И не пытайся мешать одно с другим, как масло с вином, иначе лишишься и того, и другого. Я рад слышать, о Бэс, что ты намерен сделать эту девушку царской или невольничьей женой, впрочем, какая разница, тем более что я люблю ее всем сердцем и считаю, что всякий торг ее недостоин. Уж лучше пусть рожает детей, чем читает видения в волшебной чаше, а я буду молить богов, чтобы дети ее рождались не такими карликами, как ты, а походили на свою мать, которая, если верить ей, прекрасна. Но тише! Она приходит в себя.
– Ты очнулась, Карема? Хорошо. Тогда выведи меня из склепа, дабы я мог предаться вечерним молитвам при звездах. Ступайте же, Шабака и Бэс, вы оба храбрецы, и я рад, что один из вас приходится мне внучатым племянником, а другой – питомцем. Мой поклон твоей матушке Тиу. Она добрая и честная женщина, и тебе пристало ее слушаться. Передавай поклон и царственной Амаде да попроси ее больше приглядываться к своему прелестному отражению в зеркале и отрешиться от излишней святости, ибо чрезмерная благочестивость зачастую бывает губительна как для самое себя, так и для нечестивой плоти. К тому же она, как и всякая женщина, любит жемчуга – разве нет? – ведь даже статуе Исиды нравится, когда ее украшают. Что же до тебя, Бэс, хотя, как я понимаю, это ненастоящее твое имя, впредь не лги, за исключением тех случаев, когда это необходимо, ибо жонглер, играющий со множеством ножей, рискует порезать себе пальцы. И еще: прекрати потчевать своего господина дурными советами касаемо женщин. А теперь прощайте! И да услышу я, что будущее благоволит вам хотя бы время от времени, Шабака, ибо ты участвуешь в великом деле, какие и мне самому были по душе до того, как я стал праведным отшельником. О, если б меня в свое время послушали, ныне в Египте все было бы по-другому. Но предначертано было иначе, тем более что писцами выступили женщины. Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи! Я рад, что мысль моя догнала вас там, на Востоке, и научила, что надобно говорить и делать. Порой лучше проявить мудрость ради других, а не ради себя… о, только не ради себя.
– Господин, – сказал Бэс, когда мы под звездами возвращались иноходью домой, – а святой Танофер и впрямь мудрейший из мудрых, и к советам его стоит прислушаться, ведь, даже взойдя на высочайшую вершину святости, он как будто ежится от холода, который от нее исходит, и предостерегает всех, кто собирается последовать по его стопам.
– К тому же он, похоже, пытался избавить тебя, Бэс, да и меня от лишних мытарств, тем более что нам с тобой нипочем не подняться так высоко.
– Да уж, господин, я с радостью внемлю его совету и прижмусь пониже, поскольку мне в мои годы претит ютиться в той духотище по соседству с мертвыми быками и глядеть глазами какой-то девицы в чашу с водой, пытаясь узреть там чудеса, которые куда проще увидеть после кувшинчика-другого доброго вина. О, святой Танофер, конечно, прав! Чему суждено случиться, так тому и быть, потому что мы все равно не в силах ничего изменить, даже если будем все знать заблаговременно. Да и кто, господин, согласится знать заранее, когда ему перережут глотку?
– Или когда он женится, – намекнул я.
– Вот-вот, господин, поскольку такие пророчества в конце концов сбываются, и все благодаря нам, ведь мы сами прилагаем к этому руку. Стало быть, придется мне жениться на этой Кареме, если она согласится, не то святой Танофер, боюсь, и впрямь будет держать меня за лгунишку.
Я рассмеялся, а потом спросил Бэса, обратил ли он внимание на то, что сказала провидица о нашем бегстве на юг и последующем возвращении с великим войском чернокожих, вооруженных луками.
– Да, господин, – серьезно ответил он, – и то войско, сдается мне, будет состоять из эфиопов, чьим царем я считаю себя по праву. Нынче же ночью отряжу гонцов, чтобы передали тем, кто остался править вместо меня, что я жив и переменил свое мнение насчет женитьбы. А коли так, я вернусь к ним мудрейшим из правителей, когда-либо царствовавших в Эфиопии, ведь я немало постранствовал по свету и много чему научился.
– А что, если те, кто правит вместо тебя, Бэс, не пожелают вернуть тебе престол? Что, если они захотят тебя убить?
– Не бойтесь, господин, я же говорил, эфиопы умеют хранить верность. Кроме того, они знают, что за подобное злодеяние они навлекут на себя проклятие Саранчи, тогда нагрянет ее несметное воинство и опустошит их землю, а когда они останутся голодными, на них обрушатся вражьи полчища. Наконец, они народ храбрый и бесхитростный и ни за что не посмеют свергнуть с престола самого мудрого карлика на свете, хотя бы потому, господин, что для них это будет внове.
Я снова рассмеялся, решив, что Бэс, по своему обыкновению, шутит. Но когда той же ночью за углом я случайно наткнулся на него и увидел, что его голову венчает диадема из перьев, а в руке он держит лук и повелительно говорит с тремя чернокожими сановниками, склонившимися перед ним как перед богом, то изменил свое мнение. Я было попятился, но он, завидев меня, сказал:
– Прошу тебя, господин мой Шабака, останься!
Вслед за тем он снова обратился к троим соплеменникам, переводя мне слово в слово то, что говорил им. А сказал им он вкратце нижеследующее:
«Передайте правителям и советникам Древнего царства, что у меня, каруна (вероятно, это был его титул), есть друг, и величать его властитель Шабака – вот он, стоит перед вами; в который уже раз он спасает мне жизнь, вскармливая из своих рук, подобно тому, как мать вскармливает свое дитя, – он самый храбрый и мудрый на свете после меня. Передайте им, что если я действительно склонюсь к женитьбе и вернусь, исполнив закон, то буду просить сего могущественного царевича сопровождать меня, и, если он согласится, это будет самый счастливый день для эфиопов за тысячу лет, ибо он научит их мудрости и поведет их войска на великие, славные битвы. А посему пусть жрецы Саранчи молятся, чтобы он дал на то свое согласие. Так приветствуйте же могущественного властителя Шабаку, могущего пронзить насквозь одной стрелой не только вас троих, но и еще двоих у вас за спиной, и трогайтесь в путь, нигде не задерживаясь ни на день, ни на ночь, покуда не доберетесь до земли эфиопской. После того как вы передадите послание каруна военачальникам и советникам, возвращайтесь назад – или отрядите кого другого, – разыщите меня, где бы я ни был, и передайте мне часть эфиопского золота и прочие дары вместе с их ответом, памятуя, что ни я, ни властитель Шабака, у чьих ног лежит весь мир, ни за что не прибудем туда, где нас не ждут».
На этом сановники приветствовали меня как самого Царя царей, после чего замели свои следы в пыли перед Бэсом, проговорили что-то, чего я не разобрал, вскочили на ноги с дружным возгласом «Карун!» и скрылись в ночи.
– Хорошо побывать в шкуре раба, господин, – сказал Бэс, когда они ушли, – ибо только после этого понимаешь, что быть царем куда лучше, во всяком случае, иногда.
Здесь же могу прибавить, что в течение последующих дней Бэс частенько куда-то пропадал. Когда же я допытывался, где его носит, он отвечал, будто ходил вкусить мудрости святого Танофера из серебряного сосуда, который дева Карема подносила к его устам. Из всего этого я заключил, что он искал расположения девушки, которая называла себя Чашей Танофера, хотя на мои расспросы, как продвигаются его дела, он отвечал так: «Лучше и не спрашивайте».
Конечно, у меня было не так много времени, чтобы поговорить с Бэсом на столь незначительные темы, поскольку события в Мемфисе стали развиваться стремительно. В течение недели все великие правители из тех, что остались в Верхнем Египте, поклялись присоединиться к восстанию под водительством Пероа, и в город с каждым часом все прибывали их приспешники и наймиты. Моим же долгом было собрать войско, чем я и занялся без промедления, начав с того, что взялся формировать подразделения и обучать их военному искусству, – помимо всего прочего, мне предстояло наладить снабжение провиантом боевых кораблей. Вскоре пришли вести, что Идернес выдвинулся из Саиса во главе несметной силы с Востока – должно быть, всего гарнизона, размещавшегося в Нижнем Египте, а сообщили об этом его посланцы в ответ на переданный ему ультиматум, скрепленный царской Печатью Печатей.
Амаду все эти дни я почти не видел: мы изредка встречались за трапезой у Пероа или на людях. Остальное же время она предпочитала обходить меня стороной. Раз или два я пытался застать ее одну, но не тут-то было: она денно и нощно предавалась служению своей богине. Однажды, после трапезы у Пероа, я шепнул ей на ухо, что хотел бы поговорить с нею. На что она покачала головой и сказала:
– Дождись новолуния, Шабака. Тогда сможешь говорить со мной, сколько пожелаешь.
Словом, мне так и не случилось рассказать ей о том, что произошло при дворе Великого царя. Тем не менее каждое утро она присылала мне всякие безделицы, цветы и разные подарки, а однажды я получил от нее перстень, принадлежавший, должно быть, кому-то из ее предков, поскольку в гнезде камня был выгравирован царский урей[30] вкупе с символами долголетия и здравия; этот перстень я повесил себе на шею, решив не надевать на палец, потому что боялся, как бы знаки царского достоинства не оскорбили Пероа или кого-то из его придворных, если б они ненароком их заметили. Я тоже посылал ей в ответ цветы и разные дары, а что до всего прочего, то мне оставалось только ждать своего часа.
Все это моя матушка наблюдала с улыбкой, приговаривая, что царственная Амада проявляет удивительное благоразумие и всякому мужчине пристало ценить подобное поведение жены, да еще такой красавицы, тем более что оно угодно и ее покровительнице – богине Исиде. Я же на это отвечал, что как влюбленный ценю подобное поведение не столь высоко, как, несомненно, оценил бы, став мужем. В ответ матушка снова улыбалась и переводила разговор на другую тему.
Так дни и шли за днями, пока однажды над Египтом не сгустились грозовые тучи.
Как-то ночью мне не спалось. Было это как раз в новолуние, и я знал, что в это самое время под покровом тьмы Амада принимает избавление от своих обетов Исиде перед тайным советом жрецов в пышной, торжественной обстановке подле храмового алтаря, обретая тем самым свободу и право на замужество, как всякая женщина. Матушка моя, будучи Певицей Амона, разумеется, тоже присутствовала на церемонии – и по возвращении домой не преминула рассказать, как все прошло.
Она описала, как появилась Амада, облаченная в жрицу, как она вознесла молитвы четверым верховным жрецам, восседавшим в важных позах перед нею, и как просила их освободить ее от обетов «во спасение своей души и Египта».
Потом один из верховных жрецов, тот, что служит Амону и потому главенствует над всеми остальными, приблизился к статуе Исиды, прошептал ей молитву, и после недолгого затишья богиня трижды кивнула, как показалось всем присутствующим, показывая таким образом, что она согласна. Вслед за тем верховный жрец вернулся на место и на древнем наречии возгласил, что Амада освобождается от данных ею обетов «во спасение ее просящей души и Египта» с благословения и согласия богини, а в дополнение к сказанному он сообщил, что, «вняв твоей мольбе, я, дочь и мать, богиня Исида, обрываю узы, связующие меня с тобою на земле. Однако ж если ты пожелаешь восстановить их вновь, то оборвать уже не сможешь, ибо, если попытаешься, они задушат тебя, в каком бы обличье ни пребывала ты на земле, и всех в колене твоем, заодно с мужем, что выбрал тебя, и теми, кто отдаст ему тебя. Так говорит Исида, Богиня Неба».
– И что это значит? – спросил я матушку.
– Это значит, сынок, что, если женщина, освобожденная от обетов Исиде, примет их вновь и вновь же начнет служить этой богине, а потом вдруг опять вздумает от них отрешиться, она и человек, ради которого ей пришлось пойти на такое, попадут в паутину, точно мухи, и останутся там навсегда, не только в этой жизни, но и в других, что будут дарованы им на этом свете.
– Похоже, у этой Исиды длинные руки, – заметил я.
– Нет спору, сынок, притом очень длинные, ибо Исида, каким бы именем ее ни называли, всемогуща, бессмертна и ничего не забывает.
– Что ж, матушка, в таком случае помнить ей ничего не придется, потому что Амада больше никогда не будет ее жрицей.
– Не уверена, Шабака. Да и кто знает наверняка, что может прийти женщине на ум сейчас или потом? Что до меня, я была счастлива служить Амону, а не Исиде хоть бы и потому, что смогла выйти замуж.
Глава XII Смерть Идернеса
Пока мы с матушкой вот так разговаривали, за мной прислали по срочному вызову из дворца. Я отправился туда и там, в маленькой передней встретил Амаду – она была одна и как будто ждала меня. На ней были обычная, мирская туника и знаки царского достоинства, и выглядела она распрекрасно. Больше того, изменился весь ее облик: ведь она уже была не жрицей, окутанной покровом тайн, а любимой и любящей девушкой.
– Вот и свершилось, Шабака, – шепнула она. – Отныне ты мой, а я твоя.
Я раскрыл ей свои объятия, она прильнула к моей груди, и я впервые поцеловал ее в губы, а потом еще и еще, и, пока целовал, – о! – сердце мое переполнялось радостью. Но каким скоротечным было наслаждение первыми плодами любви, семена которых я посеял так давно и все ждал, когда же они наконец взойдут: мы только-только соединились с моей возлюбленной, только-только принялись нашептывать друг другу разные нежные слова, как вдруг раздался голос – это звали меня, и я был вынужден оставить мою возлюбленную, даже не успев спросить, когда мы с нею поженимся.
Между тем во дворце собрался совет. До него дошли вести, что наместник Идернес с десятитысячным войском стал лагерем на берегу Нила, неподалеку от великих пирамид, откуда до Мемфиса рукой подать. Кроме того, его посланцы объявили, что он намерен нынче же прибыть к царевичу Пероа всего лишь с небольшим отрядом личной охраны и выяснить все, что касается печати, а посему он просит для себя охранную грамоту от имени Великого царя, а также богов Египта и Востока. В противном же случае он без промедлений нападет на Мемфис, какие бы указы свыше он ни получил, даже если они будут скреплены печатью, ибо, пока не увидит собственными глазами, он будет считать ее подложной.
Вопрос заключался в том, какой ответ ему направить. Завязался спор, долгий и нешуточный. Одни склонялись к тому, чтобы без лишних проволочек напасть на Идернеса, невзирая на то что его лагерь, как стало известно, был обнесен рвами и подступал с одной стороны к Нилу, а с противоположной его защищала возвышенность, где размещались великий сфинкс и пирамиды. Другие, и я в том числе, считали иначе, и мне казалось, что какой-то злой гений надоумил меня дать совет, благой для Египта и пагубный для моего счастья. Возможно, этим гением была Исида, недовольная утратой своей служительницы.
Я заметил, что, приняв Идернеса, Пероа сможет выиграть время, дав войску в три тысячи человек, а то и больше, которое подходит к нам по Нилу, соединиться с нами до того, как ему, возможно, успеют отрезать подступы к городу, – таким образом мы сравняемся с Идернесом в силах, а может, и превзойдем его. К тому же, добавил я, мы переложим всю ответственность на себя, если, требуя от Идернеса клятвенного обещания хранить верность печати, откажемся его принять и немедленно на него нападем.
Третьи ратовали за то, чтобы впустить Идернеса вместе с охраной в Мемфис, а после взять его под стражу или убить. Тут я снова заметил, что тем самым мы не только нарушим торжественную клятву и навлечем проклятие богов на наши головы, став в лице всех предателями, но и поступим безрассудно, поскольку Идернес не единственный военачальник на Востоке, и если мы убьем его вместе с охраной, то опять же мало что выиграем, потому что в таком случае пришельцы с Востока будут биться за праведное дело.
В конце концов все сошлись на том, что требуемая охранная грамота будет предоставлена и что Пероа примет Идернеса в этот же день на торжественном пиру в его честь. Соответственно древнему обычаю, охранную грамоту ему отправили с условием, что он передаст с посланцами клятвенное обещание, что ни сам он, ни свита его, числом не больше двадцати человек, не будут чинить ущерб в Мемфисе и что на обратном пути наша охрана будет сопровождать его до сторожевых постов их лагеря.
Вслед за тем меня в сопровождении одного только Бэса отрядили на колеснице к берегу Нила – поторопить идущие к нам войска, о которых я говорил, чтобы они подоспели к Мемфису до захода солнца. Но перед уходом я успел переговорить с Пероа один на один. Он сообщил, что о скорой моей женитьбе на царственной Амаде будет объявлено на пиру тем же вечером. Тогда я попросил его передать Амаде нить бесценных розовых жемчужин, которые оставил ему на сохранение в качестве обручального подарка, и сказать, чтобы она предстала в них на пиру, ради меня. Поговорить ни о чем другом времени не было.
Путь к Нилу оказался долгим: дорогу местами занесло песком, а кое-где она утопала в грязи – после наводнения. Наконец я отыскал войска – они как раз снимались в поход после привала – и, к вящей своей радости, увидел, что воинов было больше, чем я ожидал. Я ввел командиров в курс дела, и они заверили меня, что прибудут форсированным маршем в Мемфис за два часа до полуночи.
На обратном пути Бэс сказал:
– А знаете, почему меня было не сыскать нынче утром?
Я ответил, что понятия не имею.
– Потому что хороший раб бежит на шаг впереди своего господина, чтобы проторять ему дорогу и предупреждать о ловушках. Я женился. Так что теперь Чаша святого Танофера по законному праву считается эфиопской царицей. И вы уж, когда снова увидите ее, соблаговолите обходиться с нею с большим почтением, как я.
– Разумеется, Бэс, – рассмеявшись, сказал я. – Но когда же ты успел? Должно быть, усердно обхаживал ее все эти дни, а значит, мы с тобой оба не теряли время даром.
– Уж не больно-то и обхаживал, господин. Хотя времени, конечно, было маловато. Зато я успел заручиться благоволением святого Танофера, а это поважнее будет.
– Святого Танофера? – воскликнул я.
– Да, господин. В конце концов, сами знаете, эта прекрасная Чаша принадлежит ему. Ее разум – тень его разума, к тому же из нее он черпает свою мудрость. Вот я и излил ему душу. Поначалу святой Танофер здорово разозлился, потому как, несмотря на все, что наговорил вам и мне, он оказался на поверку таким же, как все мужчины: уж больно не хотелось ему расставаться со своей Чашей. Понятно, будь он помоложе, думаю, наверняка пожертвовал бы своей святостью ради нее. Впрочем, он привык зреть в корень вещей – и все ради вас, господин, не меня, ибо мудрость подсказала ему, что я должен снова стать царем эфиопов, а для этого мне надобно жениться. Во всяком случае, он изрядно потрудился над разумом своей Чаши, внушив ей, что она должна привести себе на замену свою младшую сестрицу; поэтому, когда я все ей рассказал, она сразу согласилась.
– Кто бы сомневался, Бэс, ведь она влюблена в тебя, и чужая воля здесь ни при чем. Девушка ни за что не согласилась бы выйти замуж абы за кого, лишь бы угодить святому Таноферу.
– Ох, господин, – ответил он уже другим голосом, совсем безрадостным, – как мне хотелось бы думать так же! Но вы посмотрите на меня, жалкого карлика, проклятого с рождения. Разве может красавица, подобная Кареме, выйти замуж за такого, как я, ради того, чтобы осчастливить его?
– Что ж, Бэс, тогда тому должны быть другие причины помимо воли святого Танофера, – скороговоркой ответил я.
– Никаких других причин нет, господин, разве что Чаша, пробуждаясь, вспоминает, что содержала в себе, будучи в помраченном состоянии, но я в это не верю. Я обхаживал ее как мог и ни словом не обмолвился о том, что я тоже царь эфиопов или, по крайней мере, не самый последний человек на свете, как может показаться. Да и потом, святой Танофер не сказал ей ничего такого, в чем клятвенно меня заверил, а он слову своему хозяин.
– Так что же она сказала тебе, Бэс? – полюбопытствовал я.
– Она обманула меня и глазом не моргнув, господин. Сказала – впрочем, то же самое она говорила, когда мы встретились с нею в первый раз, – так вот, она сказала, что во мне есть гораздо больше, чем видит глаз, и она, долго прожившая среди духов и видящая скорее дух, чем плоть, любит меня, будь я хоть карликом, хоть кем еще, и желает выйти за меня, чтобы стать мне верной, преданной женой и спутницей жизни. Она врала мне так искусно, что раз или два я почти поверил ей. Во всяком случае, я поймал ее на слове, но вовсе не ради себя, уж поверьте, господин, а только лишь потому, что я безоговорочно верю святому Таноферу, предрекшему наше будущее, из чего явствует, что это вам нужно, чтобы я женился.
– Так ты что, женишься на ней ради меня, Бэс?
– Вот именно, господин. В конце концов, она такая крошка, такая красивая, благородная и славная, что мне было трудно ее не полюбить. И я не виноват, что в моем лице она обрела больше, чем ожидала, ведь, если ее дети не будут карликами, они наверняка смогут стать царями. Сомневаюсь, – задумчиво прибавил он, – что даже самые верные эфиопы захотят заполучить в цари еще одного карлика. Им и одного довольно, а о двух или трех не может быть и речи. Да и какой здоровяк из числа сильных мира сего захочет иметь дело с коротышкой?
Я взял Бэса за руку и пожал ее, проникшись глубиной его любви ко мне и готовностью к самопожертвованию. И тогда некий дух – не иначе как ниспосланный святым Танофером – побудил меня сказать:
– Утешься, Бэс, уж я точно знаю, дети твои вырастут крепкими, стройными и высокими и на голову превзойдут во всем своих пращуров.
И это, безусловно, была чистая правда: ведь уродство их отцов было всего лишь несчастной случайностью, а не врожденным пороком.
– Какие добрые пророческие слова, господин, благодарю, хотя святой Танофер сказал то же самое, когда нынче утром скрепил наш союз священными словами и дал нам свое благословение, оделив мою жену кое-какими дарами тайной мудрости, которая, по его заверениям, пригодится и ей, и мне.
– Бэс, а где она сейчас?
– Со святым Танофером, господин. Карема пробудет с ним, пока я не приведу ей на замену ее младшую сестру, чтобы она стала ему новой достойной волшебной Чашей. Да только, боюсь, случится это теперь не скоро, потому что не за горами тот день, когда нам придется пролить свою кровь.
– Да уж, Бэс, поэтому было бы лучше, если б ты предоставил это право другим, ведь ты только-только женился.
– Нет-нет, господин. Поле брани лучше супружеского ложа. Потом, неужто вы думаете, что я могу оставить вас сражаться в одиночку? Если я это сделаю и с вами случится беда, я умру от позора или повешусь, и Кареме уже нипочем не стать царицей. Это будет для нее двойным ударом, поскольку, выйдя замуж, она не сможет снова стать Чашей, и без меня сердце у нее разорвется от боли… Но вот уже и ворота Мемфиса, так что забудем про любовь и вспомним о ратных делах.
Спустя час я и моя матушка, благородная Тиу, уже находились в дворцовой трапезной вместе со многими другими приглашенными, и нам сообщили, что наместник Идернес со своей свитой прибыл в Мемфис и соблаговолил почтить пир своим присутствием. Чуть погодя грянули трубы, и в трапезную вошла сиятельная процессия. Во главе ее шествовал Пероа и под руку он вел Идернеса. У этого важного сановника с Востока, высокого, крепко сложенного, были усталые, беспокойные глаза, свойственные, по моим наблюдениям, всем слугам Великого царя, и по сей день не знающим, что их ждет впереди – славная победа или бесславная погибель. Он был облачен в пышные шелка, голову его венчала шапочка со сверкающим спереди драгоценным камнем, а под одеждами у него я разглядел блестящую кольчугу.
Войдя в залу и увидев большое число высоких гостей, взиравших на него с оживлением и ожиданием, Идернес вздрогнул – словно испугался, но, мигом совладав с собой, поспешил высказать слова признательности хозяину и направился к почетному месту за столом, которое ему указали, – оно располагалось по правую руку от властителя. За ними следовали жена Пероа с сыном и дочерьми. Затем появилась египетская принцесса-цесаревна Амада в подобающем ее рангу дивном парадном облачении. Впрочем, никаких царских регалий на ней сейчас не было – то ли потому, что негоже было ей блистать ими перед наместником, то ли потому, что теперь она считалась невестой человека, не принадлежащего к царскому роду. Действительно, как я заметил, к вящей своей радости, единственным украшением ей служила нить розовых жемчужин – сложенная вдвое, она прилегала к ее груди.
Она отыскала меня глазами, улыбнулась, проведя пальцами по жемчужинам, и проследовала к своему месту рядом с дочерьми Пероа во главе стола – с одного его конца, – поставленного в форме подковы.
За нею прошествовали знатные спутники Идернеса, важные вельможи с Востока. Одного из них, рослого военачальника с ястребиным взором, я как будто признал. И ошибиться я не мог, тем более что стоявший у меня за спиной Бэс, которому надлежало прислуживать мне на пиру, шепнул мне на ухо:
– Гляньте-ка на того вояку! Это он был у Великого царя, когда вас привели к нему с лодки, а значит, он тогда все видел и слышал.
– Лучше бы его здесь не было, – прошептал я в ответ, почувствовав, как меня вдруг пронизал невесть откуда нахлынувший страх.
Мало-помалу все заняли указанные места. Мое располагалось рядом с матушкиным – за длинным столом, стоявшим поперек главного, но на некотором удалении от него, так что я оказался почти напротив Пероа и Идернеса и мог видеть Амаду, хотя она сидела слишком далеко от меня, чтобы я мог разговаривать с ней.
Пир начался в гнетущей тишине, поскольку, за исключением обмена любезностями, никто не решался завести разговор. Но в конце концов вино, к которому Идернес прикладывался изрядно, равно как и его свита, в отличие от Пероа и египтян, так вот, вино развязало язык сотрапезникам, и они постепенно оживились. Однако, если подданные Великого царя не считали для себя зазорным обсуждать дела частные и государственные в хмельном угаре, египтяне, напротив, блюли при этом трезвость. О пристрастии чужеземцев к вину было хорошо известно Пероа и многим из нас, особенно мне, немало пожившему среди них, поэтому, и это было одной из причин, Идернесу и предложили встретиться на пиру, где в спорах с ним мы могли бы заручиться преимуществом.
Некоторое время спустя наместник обратил внимание на дивный кубок, к которому он то и дело прикладывался, и спросил о чем-то вельможу с ястребиным взором – того самого, о котором я упомянул выше. И, когда получил ответ, громко, достаточно громко, чтобы я мог его слышать, произнес:
– Скажи мне, о властитель Пероа, не принадлежал ли когда-то этот кубок Великому царю, уж очень он на него похож?
– Понимаю тебя, о Идернес, – ответил Пероа. – Так и есть, но потом этот кубок стал моим, ибо его подарил мне Шабака, а он принял его в дар от Великого царя.
Лицо у наместника, как и у всех из его свиты, исказилось от ужаса.
– Ну конечно, – ответствовал он, – этот Шабака, должно быть, ни во что не ставит царские милости, коли запросто передает их первому встречному. По крайней мере, да не осквернят слуги Царя царей кубка, коего касались уста его. Прошу тебя, о властитель, пусть мне дадут другой кубок.
После того как ему принесли другой кубок, Пероа попытался обратить все в шутку и попросил меня рассказать историю с этим кубком. Все обратились в слух, и я сказал так:
– О властитель, высочайший наместник ошибается. Это был вовсе не дар Царя царей. Я приобрел у него кубок в обмен на знаменитый в некотором смысле лук и не вижу ничего зазорного в том, что передал его тебе, мой повелитель.
Идернес промолчал в ответ, решив, как видно, забыть это дело.
Немного погодя, однако, его взгляд упал на Амаду и жемчужины, что были на ней, и, опять обратившись с вопросом к своему военачальнику с ястребиным взором, он сказал:
– Не сочти меня нелюбезным, о властитель, за то, что я не могу отвести глаз от той благородной юной красавицы, чье появление на публике у нас в стране, где женщинам не пристало показываться на людях, сочли бы за оскорбление. Но на ее прекрасной груди я вижу некие жемчужины, похожие на те, что, как известно всем на свете, издавна украшали правителей, восседающих на троне Востока. И мне было бы любопытно узнать, те ли это жемчужины или нет?
– Не знаю, о Идернес, – ответствовал Пероа. – Единственное, что мне известно, так это то, что благородный Шабака привез их с Востока. Расспроси его, если это доставит тебе удовольствие.
– Шабака снова… – начал было Идернес, но тут же осекся, воздержавшись от продолжения.
– Да, о наместник, и снова Шабака. Я выиграл эти жемчужины на спор у Царя царей, а заодно и немного золота. Думаю, тебе это уже известно, поскольку намедни твоего посланника высекли за то, что он пытался их выкрасть, в чем он сам же и признался, сказав, что пошел на кражу не по своей воле, о наместник.
Идернес ничего не смог возразить против столь смелого ответа. Однако его военачальники насупились, а многие египтяне прошептали слова одобрения.
Вслед за тем пир продолжался без каких бы то ни было происшествий – восточные гости пили без устали, и так до тех пор, пока столы в конце концов не опустели и низшие рангом не покинули трапезную, за исключением дворецких и личных слуг, к числу коих относился и Бэс, – они так и стояли за спинами у своих хозяев. Тут же воцарилась тишина, подобная той, что наступает перед бурей, и в самый ее разгар Идернес заговорил с заметной вялостью в голосе:
– Я прибыл сюда, о Пероа, – сказал он, – оставив кресло правителя Саиса не затем, чтобы вкушать твое мясо и вино. А для того, чтобы обсудить с тобой дела первейшей важности.
– Вот именно, о наместник, – ответил Пероа. – Так чего же тебе угодно теперь? Быть может, ты желаешь обсудить их наедине со мной и моими советниками?
– Есть ли в том нужда, о Пероа, тем более что я не собираюсь говорить ни о чем таком, чего не должно слышать всем?
– Как будет угодно. Тогда говори, о наместник.
– Я прибыл сюда, властитель Пероа, во исполнение писания, скрепленного так называемой Печатью Печатей, древней Белой печатью, издревле принадлежавшей предкам Царя царей. Так где же эта печать?
– Здесь, – молвил властитель, распахивая на себе мантию. – Вот она, взгляни, наместник, и пусть твои приближенные тоже поглядят, только не вздумайте ни ты, ни кто-либо из них к ней прикоснуться.
Идернес смотрел на нее долго и упорно, как и некоторые его спутники, в частности военачальник с ястребиным взором. Потом они переглянулись и, смутившись, принялись перешептываться.
– Похоже, это подлинная печать, та самая Белая печать! – наконец воскликнул Идернес. – А теперь скажи, Пероа, как эта священная реликвия, которой пристало храниться на Востоке, попала в Египет?
– Ее доставил мне благородный Шабака вкупе с кое-какими грамотами от Великого царя, о наместник.
– Опять Шабака, уже в третий раз, клянусь Священным огнем! – вскричал Идернес. – Он привез кубок, достославные жемчужины, золото и, наконец, Печать Печатей. Чего он только не привез! Уж не стоит ли он, случаем, превыше самого Царя царей?
– Ничего особенного, о наместник, всего лишь указы Царя царей за Белой печатью, и мы готовы передать их тебе, дабы ты принял их к исполнению.
– Какие еще указы, египтянин?
– Вот какие, о наместник. Тебе и войску твоему, что ты привел с собой, предписано вернуться в Саис и следом за тем покинуть Египет, да как можно скорее, а если ослушаетесь, то поплатитесь жизнью.
Идернес и его военачальники онемели от изумления.
– Это что, бунт? – вопросил он.
– Нет, о наместник, всего лишь воля Царя царей, скрепленная Белой печатью, – с этими словами Пероа снял с груди свиток, поднес его ко лбу и, к прискорбию Идернеса, прибавил: – Изволь повиноваться предписанию, скрепленному печатью, не то данной мне властью, как только ты с войском своим вернешься восвояси и как только истечет срок данной тебе охранной грамоты, я обрушу на тебя весь свой гнев и сотру в пыль.
Идернес огляделся кругом, как затравленный волк, и спросил:
– Неужто ты задумал убить меня прямо здесь?
– Никоим образом, – ответствовал Пероа, – ведь у тебя есть наша охранная грамота, а египтяне – народ великодушный. Однако ты отстраняешься от должности, и тебе велено покинуть Египет.
Идернес на мгновение задумался, потом сказал:
– Если я и покину Египет, то, во всяком случае, не один, ибо мне велено как устно, так и письменно, в чем вы можете не сомневаться, привезти с собой деву по имени Амада, которую Великий царь желает видеть в числе своих жен. Мне было сказано, что она сидит вон там, подобная драгоценному камню и прекрасная, как те жемчужины на ее груди, которые таким образом вернутся к своему царственному хозяину. Так отдайте же ее мне, и пусть она тотчас же отправится со мной.
Тогда, нарушив повисшую в воздухе тягостную тишину, Пероа ответил:
– Египетская принцесса-цесаревна Амада не может отправиться в гарем Великого царя без согласия благородного Шабаки, которому она отныне принадлежит.
– Шабака, уже в четвертый раз! – проговорил Идернес, сурово глянув на меня. – Коли так, пусть Шабака тоже едет с нами. Впрочем, и одной его головы в корзине будет довольно, благо это избавит нас от дальнейших хлопот, а самого Шабаку от мучений. Да-да, теперь я припоминаю. Ведь это тот самый Шабака, которого Великий царь приговорил к смерти в лодке за злой умысел против его величества и который выторговал себе жизнь, пообещав доставить к нему самую прекрасную и самую ученую девушку на свете – египетскую принцессу-цесаревну Амаду. Так что пускай этот плут держит свое слово!
Тогда я вскочил на ноги, как и большинство присутствующих. Только Амада осталась сидеть, не сводя с меня глаз.
– Ты лжешь! – воскликнул я. – И я убью тебя, хоть ты и заручился охранной грамотой.
– Я лгу? – презрительно усмехнулся Идернес. – Тогда скажи ты, присутствовавший при том разговоре, скажи перед этой честной компанией, лгу я или нет, – и он указал на военачальника с ястребиным взором.
– Он не лжет! – проговорил тот. – Я был тогда при дворе Великого царя и слышал, как этот самый Шабака выторговал себе помилование, обязавшись через своего брата передать царю принцессу-цесаревну Амаду. В подарок ей ему были вверены жемчужины, те, что сейчас на ней. Золото, о котором здесь упоминалось, тоже было дано ему, чтобы она могла прибыть на Восток в полном парадном облачении, – по крайней мере, я так слышал. Кубок же был отдан ему в награду вместе с деньгами на личные нужды.
– Это неправда! – выкрикнул я. – Имя Амады вырвалось у меня случайно, только и всего.
– Вырвалось случайно, да неужели? – рассмеялся Идернес. – Тогда, коли ты мудр, то стерпишь, когда царственная Амада вырвется из твоих рук, и уже не случайно. Но оставим этого шельмеца. Властитель, так готов ли ты отдать мне эту красавицу или нет?
– Нет, наместник, – ответил Пероа. – Твое требование оскорбительно и толкает нас на восстание, ибо во всем Египте нет мужчины, который с готовностью не отдал бы свою жизнь в защиту египетской принцессы-цесаревны.
Это заявление было встречено одобрительными возгласами всех египтян, присутствовавших в трапезной. Идернес выждал, когда стихнет шум, и сказал:
– Властитель Пероа, египтяне, вы передали мне некие указы, скрепленные Печатью Печатей, похищенной, я полагаю, вот этим Шабакой. Слушайте же: я повинуюсь вашей воле, но лишь до тех пор, покуда все не прояснится. Я возвращаюсь с войском в Саис, отошлю отчет Великому царю и дождусь его предписаний. Если же во время перехода в нашу сторону будет пущена хоть одна стрела, это будет означать открытый мятеж, и в отместку Египет будет стерт с лица земли, и вам, здесь присутствующим, тогда не сносить головы – всем, кроме царственной Амады, ибо она считается собственностью Великого царя. Итак, благодарю вас за радушие и прошу сопроводить меня вместе со свитой до моего лагеря, потому, как сдается мне, мы оказались здесь в самой гуще врагов.
– Прежде чем ты уйдешь, Идернес, – крикнул я, – попомни, ты и твой лживый прислужник сами поплатитесь головой за то, что оклеветали меня.
– Многие еще поплатятся головой за свои ночные подвиги, о похититель жемчугов и печатей, – ответил наместник и, повернувшись кругом, вместе со свитой вышел из трапезной.
Я же кинулся искать Амаду, но и она успела удалиться вместе с придворными женщинами Пероа, испугавшимися, как бы пир не закончился кровопролитной стычкой и как бы не пролилась их собственная кровь. В самом деле, из всех гостей, присутствовавших на пиру, в трапезной осталась одна лишь моя матушка.
– Разыщи благородную Амаду, – обратился я к ней, – и расскажи ей всю правду.
– Хорошо, сынок, – задумчиво проговорила она в ответ, – да только где она, правда? Как я понимаю, это Бэс первым назвал имя Амады Великому царю. И вот теперь мы узнаем от тебя, что это был ты. Однако ты поступил бы куда мудрее, сынок, если бы прикусил себе язык, вместо того чтобы говорить такое, потому что далеко не всякая женщина это поймет.
– Ее имя сорвалось у меня с языка случайно, матушка. А Бэс расписал царю все прелести некой благородной египетской красавицы.
– Я, сынок, думаю так: это Бэс рассказал Пероа и его гостям, что именно он, а не ты назвал ее имя царю, и ты этого как будто не отрицал. В таком случае вина ваша, бесспорно, в том, что вы оба совершили глупость, и только, ведь я знаю, ты скорее умер бы десятикратно, чем выторговал себе жизнь, пожертвовав ради этого честью египетской принцессы-цесаревны. То же самое я скажу и ей, как только смогу, а после ты расскажешь мне все как на духу – что ты собирался сделать до того, как Бэс, если я не ошибаюсь, со свойственной чернокожим хитростью надоумил тебя поступить иначе… Но смотри, Пероа зовет тебя, да и мне пора, тем более что грядут дела похлеще споров, кто выдал имя Амады Царю царей.
И она ушла, а мы держали спешный военный совет: напасть ли на войско наместника или дать ему вернуться в Саис. Когда спросили мое мнение, я, в свою очередь, сказал:
– Напасть, и немедленно, потому что взять Саис приступом у нас нет никакой надежды. К тому же сейчас мы сильны, как никогда прежде, однако, если воины наши будут пребывать в праздности и если вдобавок им не будут платить, они скоро разбегутся. И даже если нам не удастся сокрушить Идернеса с его войском, пройдет немало времени, прежде чем Царь царей, вознамерившийся бросить всю свою мощь против греков, снова соберется с силами, а между тем Египет сможет превратиться в могучее государство, способное защитить себя под властью Пероа, своего фараона.
В конце концов я и мои единомышленники одержали верх – и еще до рассвета я отбыл вниз по Нилу во главе флотилии и двух тысяч воинов, вверенных под мое командование. Кроме того, я взял с собой шестерых охотников, которых заполучил у Великого царя, потому как верил в их преданность и рассчитывал, что их знание восточных традиций может пригодиться. Нам было предписано удерживать перешеек между рекой и возвышенностями, где должно было пройти войско Идернеса, а Пероа со всеми своими силами собирался ударить по нему с тыла.
Спустя четыре часа ветер сделался попутным, мы благополучно добрались до означенного места и, став лагерем, расположились на отдых, сохраняя, однако, бдительность.
Ранним вечером, когда я спал, забывшись глубоким сном, меня растолкал Бэс и указал на юг. Я посмотрел в том направлении и сквозь висевшее над пустыней марево разглядел колесницы Идернеса: они катили стройными порядками впереди, а за ними длинной вереницей тянулись пешие воины.
У нас колесниц не было – только лучники да два отряда копьеносцев, вооруженных длинными копьями и мечами. Кроме того, у мореходов на кораблях имелись пращи и дротики. Зато у нас было преимущество на местности: мы расположились на возвышении, и пространство между нами и рекой было узким, а после разлива Нила – еще и заболоченным, и колесницам пришлось бы продвигаться одной колонной, притом очень медленно, так что обрушиться на нас стремглав они не могли.
Идернес и его военачальники тоже все видели и потому спешили. Они отрядили вперед гонца – узнать, кто мы такие, и именем Великого царя передать нам приказ расступиться, чтобы дать проход их войску.
Я ответил, что мы египтяне и Пероа наказал нам перекрыть дорогу наместнику, который оскорбил Египет, потребовав передать ему египетскую принцессу-цесаревну, чтобы переправить ее на Восток в качестве наложницы, а если наместник желает расчистить себе дорогу, что ж, пускай попробует. Или, если ему будет угодно, пусть возвращается в Мемфис либо отправляется куда глаза глядят, поскольку мы не хотим нападать первыми.
Вслед за тем я прибавил:
– Меня, говорящего от имени властителя Пероа, зовут благородным Шабакой – я тот самый Шабака, которого только давеча наместник с одним из своих военачальников назвали лжецом. Пришельцы с Востока, конечно, храбрые воины, но мы, египтяне, слыхали, что среди них нет храбрее Идернеса, возвысившегося благодаря своей отваге и воинскому мастерству. А посему пусть он выйдет вперед вместе с военачальником, назвавшим меня лжецом, и пусть у них обоих будет только по мечу, а им навстречу выйду я, лжец и, стало быть, трус, на пару с моим слугой, черным карликом, и мы сойдемся в поединке – один на один перед лицом того и другого войска, и будем биться насмерть. Если же Идернес откажется, что ж, пускай не приходит – тогда я сам найду его и убью в бою, а нет, так пусть он убьет меня.
Гонец, оглядев меня и Бэса, которому он рассмеялся в лицо, отправился с моим ответом к наместнику.
– Думаете, он придет, господин? – спросил Бэс.
– А куда ему деваться, – ответил я, – ведь у них на Востоке постыдно не принять вызов от любого, кого они называют дикими, и того, кто откажется, впоследствии ожидает смерть от руки Великого царя. Но даже смертью он не смоет позор, запятнавший его честь.
– Да, – сказал Бэс, – к тому же они держат меня за никчемного карлика, который нипочем не сможет им помешать вас убить. Ладно, еще поглядим, кто кого.
Теперь, когда вызов был брошен, мною владело только одно желание: отомстить Идернесу и его прихвостню за нанесенное мне прилюдное оскорбление. Мне хотелось отсрочить нападение их полчищ на наше маленькое войско, чтобы дать время Пероа с основными силами зайти к ним с тыла. И даже если меня убьют, потеря будет невелика, благо у меня в подчинении смышленые командиры, знавшие обо всех моих замыслах.
Мы видели, как гонец добрался до войска наместника, а потом, спустя некоторое время, повернул обратно к нам, и мы уже было решили, что мой вызов отвергнут, тем более что гонца сопровождал один из их военачальников – его, должно быть, отрядили, смекнул я, чтобы выведать, какие у нас силы. Но все оказалось иначе, потому что по прибытии он сообщил следующее:
– Наместник Идернес поклялся именем Великого царя убить похитителя печати, а его голову послать Великому царю, и он боится, как бы вор не ускользнул от него прежде, чем он дождется встречи с ним в бою. Поэтому он намерен принять твой вызов, о Шабака, и покончить с тобой, тем более что по законам Востока ему нельзя отказаться. Но сановник Великого царя не может сражаться с черным рабом, разве только высечь его плетью, – так вправе ли этот сановник принять вызов от карлика Бэса?
– Еще как может! – ответил Бэс. – Ведь я не раб, а вольный египтянин. Помимо того, у себя на родине, в Эфиопии, я почитался как царь. Наконец, передай ему, что, если он не придет, а после попадет в руки ко мне или к благородному Шабаке, ему, заикнувшемуся о плети, придется отведать ее самому, и бит он будет до тех пор, пока с его костей не сойдет плоть и дух из него не выйдет вон.
Так сказал Бэс, вращая своими глазищами столь грозно, что гонец и спутник его отпрянули на шаг или два. Я же заметил вслед за тем, что, если мое предложение их не устраивает, я согласен сразиться один: сперва с Идернесом, а после с сановником. На том они отбыли к своему войску.
И вот, наконец, мы увидели, как к нам направляются Идернес со своим военачальником в сопровождении десяти человек охраны. Объяснив нашим командирам, что к чему, мы с Бэсом тоже вышли вперед, сопровождаемые десятью копьеносцами. Сошлись мы на небольшой песчаной равнине у подножия возвышенности, аккурат между их войском и нашим; командиры их и нашей охраны договорились об оружии и о прочем, а мы вчетвером хранили молчание, так и не обменявшись друг с другом ни словом, ибо время разговоров вышло. Впрочем, мы с Бэсом, присев на песок, все же малость поговорили – об Амаде с Каремой и о том, как они узнают о нашей победе или смерти.
– Какая разница, господин, – сказал в заключение Бэс, – ведь, ежели мы умрем, то уже этого не узнаем, а коли останемся в живых, то они все узнают от нас самих.
Наконец, когда все было оговорено, мы вчетвером встали друг против друга, вооруженные одинаково. По примеру Идернеса и его военачальника с ястребиным взором мы с Бэсом облачились в кольчуги – те самые, которые привезли с Востока. Оружием нам служили короткие тяжелые мечи, маленькие щиты и ножи на поясе.
– Взгляните последний раз на солнце, лжецы, – насмешливо бросил Идернес, – ибо снова вы обратитесь к нему лишь незрячими глазами с наконечников пик, прикрепленных к колоннам врат дворца Великого царя.
– Вы при жизни были болтунами, болтунами и подохнете! – выкрикнул Бэс, в то время как я смолчал.
Наконец мы договорились, что по сигналу Идернес и я, его сановник и Бэс сойдемся все дружно, и если они убьют одного из нас или мы – одного из них, двое оставшихся в живых будут биться с тем, кто уцелеет. Как позже вспоминал в разговоре со мной Бэс, по сигналу он стрелой кинулся вперед с искаженным лицом и пеной на губах, но не успел я сойтись с Идернесом, не знаю почему, как сановник с Востока хватил его, Бэса, мечом по щиту, а он, Бэс, даже не дрогнув, обхватил его за колени своими длинными ручищами. В следующее мгновение они оба оказались на земле – Бэс верхом на противнике, и тут же я услыхал скрежет ударов, одного за другим, не то ножа, не то меча, впивавшихся в кольчугу военачальника с Востока, а затем – победоносный возглас египтян, заслышав который я понял, что Бэс сразил противника.
Но вот сошлись и мы с Идернесом. Он был выше меня и здоровее, но при этом старше и дороднее. Поэтому было разумнее держать его подальше от себя и постараться измотать, что я и делал, мало-помалу пятясь, всякий раз отражая его удары щитом и лишь иногда парируя их мечом.
– Он идет! Идет! – заорали воины с Востока. – О Идернес, остерегайся карлика!
– Не подходи, Бэс! – крикнул я. – Это мое дело, – и он повиновался, как нередко случалось, когда мы вместе охотились.
Вдруг Идернес нанес мне резкий удар по шлему, едва не сбив меня с ног, а следом за тем, прежде чем я успел оправиться, еще один, и выбил у меня щит, на что воины с Востока ответили громоподобным криком. И тут меня охватил страх неминуемого поражения, чуть было не лишив меня рассудка, поскольку этот наместник оказался на поверку недюжинным бойцом. Тогда я с криком «Слава Египту!» двинулся на противника, точно раненый лев, и скоро пришел его черед пятиться. Но, увы, слишком сильно ударил я его в очередной раз, так, что мой меч сломался о его кольчугу.
– Нож! – завопил Бэс. – Нож!
Я швырнул рукоятку меча Идернесу в лицо, мигом выхватил из-за пояса кинжал. Ринулся вперед и, застав его врасплох, стал наносить ему один удар за другим. Он схватил меня в охапку – мы повалились наземь и принялись кататься, подминая друг дружку под себя. И только богам ведомо, чем бы все это кончилось, не найди я в разгар этой невообразимой возни прореху в его кольчуге, лопнувшей, должно быть, после того как я сломал о нее свой меч, что лишило его сил. Впрочем, разум его тоже ослаб, потому что он простонал, задыхаясь:
– Пощади меня, египтянин, и все мои сокровища будут твоими. Клянусь огнем!
– Ни за какие сокровища на свете, наветчик! – выпалил я в ответ и трижды вонзил в него кинжал по самую рукоятку, после чего он испустил дух.
Затем я встал, и, когда воины с той и другой стороны увидели, что я вышел победителем, а Идернес так и остался лежать на земле, египтяне сотрясли воздух оглушительным победоносным криком, которому вторил злобный рев пришельцев с Востока.
– Пощади меня, египтянин, и все мои сокровища будут твоими. Клянусь огнем!
С возгласом «Лихо, господин!» Бэс набросился на убитого и отсек ему голову, как уже сделал это с трупом сановника с ястребиным взором. Затем, взяв в каждую руку по голове, он показал их пришельцам с Востока.
– Воины Великого царя! – сказал я. – Призываю вас в свидетели, мы бились честно, один на один, хотя нужды в том не было.
Все десятеро охранников наместника стояли молча, а один из моих вдруг воскликнул:
– Назад, Шабака! Они наступают!
Я поднял глаза, увидел, как пришельцы с Востока двинулись на нас неудержимыми волнами, и в окружении охранников во главе с Бэсом, который приплясывал впереди, потрясая отрубленными головами, кинулся обратно – к своему лагерю; один из наших дал мне испить вина и плеснул водой на раны, оказавшиеся всего лишь легкими царапинами. Не успел я напиться и ополоснуться, как завязался бой, и вскоре в пылу сражения я совсем забыл про смерть Идернеса и его прихвостня-клеветника.
Глава XIII Амада возвращается к Исиде
Мы сошлись в жесточайшей схватке в тот вечер на берегах Нила. Мы занимали превосходную позицию, однако нас было вчетверо или впятеро меньше, к тому же неприятель с наймитами не на шутку рассвирепели после того, как от моей руки пал наместник. Время от времени они приходили в такую ярость, что кидались на нас вверх по склону, точно дикие буйволы. Мы отбрасывали их назад главным образом с помощью лучников, поскольку наши плохо обученные ратники едва ли могли противостоять закаленным в сражениях воинам с Востока. Так что мы, укрывшись за скалами, обрушили на них град стрел, валя с ног лошадей, запряженных в колесницы, а потом принялись выкашивать пеших, которые шли следом. Что до меня, я схватил свой большой черный лук, трижды натянул тетиву – и увидел, как один за другим упали трое неприятельских командиров: никакая кольчуга не могла бы уберечь их от пущенных мною стрел, потому что в стрельбе из лука я был весьма искусен. Никто во всем Египте не стрелял так далеко и метко, как я, за исключением разве что Пероа. Впрочем, воспользоваться луком в полной мере у меня не было времени: мне то и дело приходилось перемещаться вдоль наших рядов и подбадривать моих боевых товарищей.
Трижды мы теснили их, пока они не решились пойти на хитрость. Отказавшись от натиска напролом и собрав остававшиеся в резерве колесницы, они направили один отряд вверх по склону с той стороны, где нападающим было бы легче укрыться за скалами от наших стрел, а другому их отряду предстояло продраться через заросли тростника и хлебные поля вдоль берегов реки и выйти к нам с той стороны, откуда из-за плохого обзора мы не могли вести прицельную стрельбу из луков, хотя пращники, защищавшие наши корабли, все же их малость потрепали.
Таким образом, они атаковали нас с обеих сторон, и, покуда мы отражали их натиск с флангов, они ударили по нам и спереди. Вот когда завязался самый ожесточенный бой: луки теперь были бесполезны, и в ход пошли мечи и копья. В какой-то миг мы дрогнули, и мне показалось, что неприятель, того и гляди, прорвет наши ряды. Но я тут же собрал наши силы в кулак и бросил их в контратаку – и мы снова потеснили неприятеля, хоть и совсем немного. И все же исход сражения был неясен, пока у меня из-за спины вдруг, откуда ни возьмись, не выскочил дико оскалившийся Бэс с небольшим отрядом греков, который мы держали в резерве, – тогда-то, думаю, при виде жуткого карлика, похожего на не на шутку разгулявшегося злого духа, пришельцы с Востока и дрогнули, при том что греки испугались его не меньше.
Во всяком случае, выкрикивая что-то про злого духа египтян, под которым думаю, они разумели бога, в честь коего был наречен Бэс, пришельцы с Востока отступили, бросая убитых – их было не счесть – и унося с собой раненых, чтобы избежать полного разгрома.
У подножия склона они перестроились и стали держать совет, а потом расселись прямо на земле – на расстоянии полета стрелы, будто расположившись на отдых. И тут я разгадал их замысел. Они намеревались дождаться ночи, благо она была не за горами, поскольку солнце клонилось все ниже, и затем, когда нам будет не видно, куда стрелять, либо атаковать нас в лоб, пользуясь своим численным превосходством, либо, отойдя к скалам пониже, взобраться на них, чтобы занять более высокое положение на открытой возвышенности.
Тогда мы тоже собрались на совет, хотя так толком ничего не решили, потому как не знали, что делать дальше. Нас было слишком мало, чтобы самим атаковать такое большое войско, да и взобравшись на скалы, мы вряд ли смогли бы выдержать натиск неприятеля посреди песчаной пустыни, вздумай он напасть на нас под прикрытием тьмы. Если бы это случилось, все, что нам оставалось бы делать, так это стоять до последней возможности, а потом уцелевшими силами отступить под защиту наших кораблей. Но тогда мы проиграли бы сражение, а большая часть воинов с Востока вернулась бы в Саис с победой, если, конечно, нам на выручку не подоспели бы основные наши силы под водительством Пероа.
Покуда мы вот так советовались, я велел перенести раненых на корабли до того, как сгустится тьма. Бэс вызвался их сопровождать. А некоторое время спустя он опрометью вернулся обратно.
– Господин, – сказал он, – вечерний ветер дует все сильнее и вздымает тучи песка, но с верхушки мачты я все равно разглядел знамена Пероа. Войско его обходит излучину реки где-то в четырех стадиях[31] отсюда. Выступай же и ты, тогда пришельцы с Востока окажутся между молотом и наковальней и, отвлекшись на нас, забудут оглядываться назад.
Я тотчас направился к нашему маленькому лагерю и сообщил воинам добрые вести, рассказав и о своих намерениях. Воины все выслушали и согласились со мной. Мы построились, собрав последние наши силы, – нас осталось, может, не больше тысячи – и выступили. Пришельцы с Востока расхохотались, видя, как мы спускаемся по склону: они решили, что мы рехнулись и что они перебьют нас всех до единого, полагая, должно быть, что у Пероа нет другого войска. Подойдя к ним на расстояние полета стрелы, мы начали стрелять, и все наши стрелы, за редким исключением, попали в цель. Уязвленные меткостью наших лучников, они выстроились в боевые порядки, собираясь снова двинуться на нас. Мы с криками бросились им навстречу, тем более что теперь и я разглядел с возвышения колесницы Пероа, мчавшиеся нам на выручку.
Мы столкнулись вновь. Такого побоища не было со времен Тутмоса[32] и Рамсеса Великого[33], уж это точно. И тем не менее пришельцы с Востока отбросили нас и теснили до тех пор, покуда с тыла на них нежданно-негаданно не налетели колесницы и пешие воины Пероа. Враги дрогнули и побежали кто куда: одни – к берегу Нила, другие – к холмам. В лучах заходящего солнца мы с ними покончили: еще до наступления тьмы войско Великого царя было наголову разбито, а тех редких беглецов, которым удалось улизнуть, мы изловили на другой день.
Да, в той битве погибло десять тысяч пришельцев с Востока вместе с их наймитами, и посреди поля брани на рассвете мы провозгласили Пероа фараоном Египта, а он, в свою очередь, назначил меня главным военачальником своего войска. В той битве пало и больше тысячи моих воинов, включая тех шестерых охотников, которых я выиграл в споре с Великим царем и привез с собой с Востока. На поле брани они служили мне телохранителями, сражаясь не на живот, а на смерть, и кто знал, что у них не было никакой надежды на пощаду от своих соплеменников. Они пали замертво один за другим, а последние двое – во время атаки на заходе солнца. Что ж, они проявили отвагу и преданность мне, и да упокоятся их души с миром. Уж лучше умереть так, чем в яме со львами.
В Мемфис мы вернулись с триумфом – я, с трофеями, прибыл в арьергарде. Прежде чем мы с фараоном расстались, к нам подоспел гонец с добрыми вестями. Как стало доподлинно известно, в подвластных Царю царей землях грянули мятежи, и он объявил войну Сирии, Греции, Кипру и другим, наполовину покоренным им странам, где тоже, разумеется по взаимному согласию, внезапно полыхнуло пламя бунтов. И вот уже посланцы Пероа отбыли к восставшим, чтобы поведать им о том, что произошло на берегах Нила.
– Если это правда, – сказал Пероа, когда все выслушал, – Великому царю не хватит сил, чтобы снова пойти на Египет.
– Именно так, фараон, – ответствовал я. – Только, думаю, он одержит верх в этой великой войне, а стало быть, года через два будь готов сойтись с ним лицом к лицу.
– Два года – большой срок, Шабака, за это время с твоей помощью можно много чего сотворить.
Однако волею судеб ему было суждено лишиться этой помощи, и все из-за Девы-губительницы.
А произошло вот что. В разгар великих торжеств по случаю победоносного возвращения Пероа в Мемфис в огромном храме Амона, перед образом бога, расположили наши трофеи: тысячи правых рук, отсеченных у павших врагов, тысячи же мечей и прочее оружие, а также колесницы, груженные множеством сокровищ, частью причитавшихся богу. Верховные жрецы благословили нас именем Амона и других богов, а народ осыпал нас во время шествия цветами: весь Египет торжествовал, ибо он вновь обрел свободу.
В тот же день в храме, по древним обычаям и традициям, Пероа венчали на египетский престол. Скипетры и драгоценные камни, сокрытые для поколений грядущих, извлекли из потайных хранилищ, известных только хранителям; на голову ему возложили венцы древних фараонов: да-да, то был двойной венец – Верхнего и Нижнего Египта. Так, в охваченном безудержным весельем Мемфисе, свободном от чужеземного гнета, он был помазан как первооснователь новой династии, а вместе с ним помазали и его царицу.
Я тоже был удостоен высоких почестей, поскольку история о том, как Идернес пал от моей руки, и о других моих подвигах разошлась и за пределами Египта, так что следом за фараоном меня нарекли величайшим человеком в Египте. Не был обделен вниманием и Бэс: простой люд в большинстве своем принял его за духа в обличье карлика, эдакого крепыша-ловкача, ниспосланного нам в помощь богами. Помимо всего прочего, в завершение церемонии многие зрители подняли голос за то, чтобы я, намеревавшийся жениться на египетской принцессе-цесаревне, был наречен следующим наследником престола.
Заслышав такое, фараон глянул сперва на своего сына, потом с недоверием посмотрел на меня – я смутился и был вынужден спешно ретироваться.
В открытой галерее храма не было ни души: все, даже стража, собрались в просторном внутреннем дворе поглазеть на церемонию венчания Пероа на царство. Только в тени у подножия одной из двух громадных статуй перед наружным пилоном храмовых ворот сидел крохотный с виду человечек, кутавшийся в темную хламиду, которого я поначалу принял за нищего. Когда я поравнялся с ним, он схватил меня за край мантии. Я остановился и стал ощупывать себя, пытаясь найти, что бы ему дать, но ничего не нашел.
– У меня ничего нет, отец, – рассмеявшись, сказал я, – кроме разве что золотого эфеса меча.
– Не бери в голову, сынок, – ответил мне низкий голос, – к тому же, думаю, он тебе еще пригодится, пока все не закончится.
Затем, пока я приглядывался к нему, он откинул капюшон, и под ним я увидел старое, морщинистое лицо, обрамленное длинной седой бородой, как у моего двоюродного деда, святого Танофера, отшельника-кудесника.
– Великие дела вершатся там, Шабака, столь великие, что я даже выбрался из своего склепа, чтобы посмотреть, а вернее, послушать, ибо я слеп, – послушать то, что уже трижды слышал на своем веку, – и он указал на пеструю толпу во дворе. – Да уж, – продолжал он, – я повидал фараонов, царствующих и почивших, при том что один из них пал от руки захватчика. А что станется с этим фараоном, как думаешь, Шабака?
– Тебе лучше знать, дядюшка, ведь я не пророк.
– Да как же я теперь увижу, племянничек, ежели твой карлик отнял у меня чудесную Чашу? Впрочем, я нисколько не жалею, ибо твой карлик храбр и умен и еще может оказать тебе не одну услугу, как и Египту. Но прежней Чаши нет, а новая пока не обрела угодную мне форму. Так как же я тебе отвечу?
– Полагаясь на мудрость сердца.
– Хорошо, племянничек. Что ж, мудрость сердца моего подсказывает, что за пирами порой следует голод, за весельем – скорбь, за победами – поражение, за великими прегрешениями – покаяние и несуетное обращение к добру. А еще она подсказывает мне, что ждет тебя дальняя дорога. Где сейчас царственная Амада? Я не расслышал ее поступи среди шагов сошедшихся в Мемфис на торжество? Хотя, быть может, мой слух ослаб в последнее время, Шабака, и теперь я слышу хорошо только в ночной тиши.
– Не знаю, дядюшка, да и кого только не занесло нынче в Мемфис. Но что ты имеешь в виду, спрашивая об Амаде? Она, конечно, готовится к пиру, где я с нею и увижусь.
– Ну конечно. Скажи: а что происходит в храме Исиды? Когда я проходил мимо пилона, нащупывая дорогу нищенским посохом, я подумал… а почем ты знаешь, сколько народу сошлось в Мемфис? Хотя, определенно, я слышал много голосов, и все кричали, что тебя, Шабака, надобно наречь следующим наследником египетского престола. Так ли это?
– Да, святой Танофер. Потому я и ушел – с досады, ибо, клянусь, не ищу для себя подобной чести и, конечно, совсем не желаю.
– Вот-вот, племянничек. Однако ж дары имеют свойство доставаться тем, кто их не желает, а последнее, что я видел перед тем, как расстаться с Чашей, – вернее, последнее, что видела она, – так это тебя в двойном венце. Чаша сказала, что ты смотрелся в нем великолепно, Шабака. А теперь ступай, потому как – слышишь? – сюда направляется процессия с новопомазанником-фараоном, для которого ты завоевал царскую мантию в той лощине, где сразил насмерть Идернеса и дал отпор его полчищам. Да, ты был молодцом, моя новая Чаша, хоть она и несовершенна, показала мне все. Я горжусь тобой, Шабака, но ступай, ступай же!.. Подайте бедному старцу! Подайте, высокочтимые, бедному слепцу, который лишился всего, еще когда последний фараон заступил на египетский престол, и который с тех пор живет одними лишь тягостными воспоминаниями!
Дома я застал матушку – она только-только вернулась с венчания, но Бэса нигде не было, я решил, что он, должно быть, отправился проведать свою новоиспеченную женушку – Карему. Матушка обняла и благословила меня, похвалив за ратные подвиги, а потом занялась моими ранами, хоть они и были пустячные. Но, едва она принялась за дело, как я ее остановил, спросив, не видела ли она, случаем, Амаду. Матушка ответила, что нигде ее не видела и ничего о ней не слышала, и это показалось мне странным, тем более что она тут же затараторила о чем-то своем. Я сказал ей то же, что и святому Таноферу, предположив, что Амада, верно, готовится к пиршеству, поскольку на венчании я ее не видел.
– Наверно, прощается со своей богиней, – кивнув, ответила матушка, – поскольку некоторым куда тяжелее бывает спуститься с небес на землю, чем вознестись с земли на небеса, а ты, сынок, в конце концов, настоящий герой.
С этими словами матушка удалилась переодеваться, оставив меня в недоумении, поскольку она была женщина прозорливая и слов на ветер не бросала.
А тут еще святой Танофер – должно быть, неспроста помянул храм Исиды, а ведь он тоже не бросает слов на ветер. О, сейчас я чувствовал себя точно так же, как тогда, в тени под пальмой в дворцовом саду.
Впрочем, хандра у меня быстро прошла: кровь моя вновь закипела от радости великой победы, и сердце мигом закрыло доступ тоске, ибо в тот день я и впрямь прослыл величайшим героем в Мемфисе. Однако на самом деле, сказать по правде, я об этом узнал, лишь когда вместе с матушкой вошел в главную трапезную дворца, немного, однако, опоздав, поскольку уж больно долго матушка наряжалась.
Первым, кого я увидел, был Бэс, разодетый в восточные шелка, которые он умыкнул из шатра наместника: карлик стоял на столе, чтобы всем было его видно и слышно, и потрясал в воздухе обеими руками, держа в одной мерзкую голову Идернеса, а в другой – голову того сановника с ястребиным взором, которого он прикончил самолично; при этом он зычным голосом рассказывал подробности нашего поединка. Заприметив меня, он громко возгласил:
– Глядите! Вот идет храбрец! Вот он, герой, которому Египет обязан свободой, а фараон – царским венцом!
Вслед за тем все, кто был в зале: знать, воины и слуги, толпившиеся у дверей, – принялись громогласно восхвалять и славить меня, так, что я даже пожалел, что не могу раствориться в воздухе, как святой Танофер, которому, по слухам, такое было вполне под силу. Поскольку это было никак невозможно, я кинулся к Бэсу, который с ловкостью обезьяны успел спрыгнуть со стола и, все так же потрясая жуткими трофеями и что-то выкрикивая, уж не знаю как, выскочил из залы под громогласный хохот гостей.
Потом глашатаи возвестили о появлении фараона – и все разом смолкли. Он вошел торжественно, в сопровождении свиты, и мы, его верноподданные, по древней традиции простерлись перед ним ниц.
– Вставайте, гости мои! – воскликнул он. – Вставай, народ мой! И прежде всего встань ты, Шабака, возлюбленный брат мой, которому Египет и я обязаны всем!
Тогда мы поднялись, и я занял почетное место за пиршеским столом, усадил матушку рядом и огляделся в поисках Амады, но нигде ее не увидел. Мраморное кресло, в котором она должна была восседать рядом с царевнами, пустовало. Сперва я подумал, что она опаздывает, но время шло, а ее все не было; тогда я спросил: может, ей нездоровится, но ответить мне никто не смог.
Пир проходил сообразно всем древним церемониям, сопутствующим венчанию фараона Египта на царство, благо приглашенные на пир старейшины хорошо помнили традиции, а писцы и жрецы записывали все на свитках.
Я же не был ни писцом, ни жрецом и ничего не записывал. Наконец фараон поднял кубок во славу своих подданных, а подданные восславили фараона. Затем двери распахнулись, и в залу вошла процессия бритоголовых, облаченных в белые одежды жрецов – они несли на погребальных носилках мертвое тело, спеленутое вроде мумии. Сначала сотрапезники было рассмеялись, потому что подобный ритуал не проводили в Египте давно: его перенял Царь царей Востока, и с тех египтяне о нем забыли. Но вот смех стих: траурная процессия жрецов, проходившая мимо величественных колонн и то скрывавшаяся в их тени, то будто выраставшая из тени, мало-помалу заворожила пирующих, произведя на них поистине гнетущее впечатление, тем более что сопровождалась она заунывным траурным пением.
В наступившей тишине матушка шепнула мне, что они несут тело последнего египетского фараона, извлеченное из гробницы, впрочем, я не мог сказать наверняка, так это или нет. Наконец они поднесли мумию, увенчанную царским уреем и покрытую траурными гирляндами, к Пероа, и, когда водрузили ее на ноги у него за спиной, аккурат между ним и тем местом, где сидели мы с матушкой, сердца наши налились тяжестью.
Мне в ноздри тут же ударил тяжелый запах бальзамов, на голову упал увядший цветок с гирлянды, а оглянувшись через плечо, я увидел нарисованные или расписанные финифтью глаза золотой маски: они будто уставились на меня. Я не на шутку испугался, сам не знаю чего. Нет, конечно, не смерти, потому как последнее время не раз смотрел ей в лицо, и она меня нисколько не страшила. На самом деле то был даже не страх, а скорее глубокое ощущение бренности всего сущего. Мне показалось, что это ощущение проникло в самую глубину моего сознания – Шабаки или Аллана Квотермейна, поскольку видения в моем сне, или что это было, через дух вдохнули жизнь в нас обоих, – и, как никогда прежде, я вдруг со всей отчетливостью почувствовал, что… все есть ничто; что победа и любовь, и даже самое жизнь суть никчемны; что в действительности не существует ничего, кроме человеческой души и Бога, которому, возможно, душа отчасти и принадлежит и который отпускает ее на какое-то время, чтобы она действовала от его имени, совершая добро или зло. При мысли об этом я поднялся, сам не свой: на мгновение мне показалось, будто все, что делает человека человеком, куда-то исчезло, и я стою один-одинешенек, нагой перед достославным Богом, видимый лишь ярким звездам, озаряющим его небесный престол. Да-да, и в это самое мгновение я вдруг постиг, что все боги есть не что иное, как один Бог, многоликий и разноименный.
Потом я услышал, как жрецы возгласили:
– Фараон, Осирис приветствует фараона, живущего на земле, и передает ему послание: «Подобным мне будешь ты, где буду я, там будешь и ты, ибо отныне суждено тебе жить веки вечные».
Фараон живой поднялся и поклонился фараону усопшему, и следом за тем фараона усопшего понесли обратно к его вечному пристанищу, а я подумал: «Что, если его Ка, или дух, или часть его, продолжающая жить, сейчас наблюдает за нами и запоминает пиршество, в котором он и сам когда-то участвовал, среди пышного убранства этого колонного зала, в точности, как все происходило с его праотцами сотни, а то и тысячи лет назад».
И лишь когда мумию унесли прочь, лишь когда смолкли последние отголоски траурного пения жрецов, у пирующих снова отлегло от сердца. И вскоре они забыли о происшедшем, ибо живым свойственно забывать о смерти и о тех, кого поглотило Время: вино было добрым и крепким, глаза у красавиц сверкали точно звезды, наши копья венчала победа, и Египет снова стал свободным, пусть и на время.
Так продолжалось до тех пор, пока Пероа не поднялся и не удалился, звеня массивными золотыми сережками в ушах, и пока не смолкли трубы, возвестившие о его уходе. Я тоже встал, собираясь с матушкой покинуть пиршество, как вдруг в зале появился гонец, сообщивший, что меня с карликом Бэсом ждет фараон. Мы отправились прямиком к нему, а мою матушку кто-то из военачальников сопроводил домой. Когда я проходил мимо нее, она удержала меня за рукав и шепнула на ухо:
– Сынок, что бы ни случилось, не падай духом и помни, что земля не на одних женщинах держится.
– Хорошо, – ответил я, – земля держится на смерти и на Боге, а может, смерть и Бог держат ее.
Не знаю, кто вложил эти слова в мои уста, тем более что их смысл я так и не понял, а времени поразмыслить над этим не было.
Гонец проводил нас до дверей в личные покои Пероа, те самые, где я виделся с ним по моем возвращении с Востока. Гонец пригласил меня войти, а Бэсу велел подождать за дверью. Я вошел и увидел там двух мужчин и женщину: все трое стояли молча. Это были сам фараон, не успевший снять с себя парадную мантию и двойной венец, и верховный жрец Исиды в белом; рядом с ними стояла Амада, тоже облаченная в белые одежды Исиды.
Стоило мне увидеть ее в этом наряде, как у меня замерло сердце и я застыл как вкопанный, не в силах вымолвить ни слова. Она тоже хранила молчание, а под прозрачной вуалью я разглядел ее печальное, бледное лицо, точно у мраморного изваяния. И то верно, сейчас она больше походила не на прекрасную живую девушку, а на саму богиню Исиду, чьи символы служили ей украшениями.
– Шабака, – молвил наконец фараон, – египетская принцесса-цесаревна Амада, она же жрица Исиды, намерена тебе кое-что сообщить.
– Так пусть же египетская принцесса-цесаревна обратится к своему слуге и нареченному супругу, – ответствовал я.
– Благородный Шабака, главный военачальник, – начала она холодным, звонким голосом, словно повторяла заученный урок, – знай же, что отныне ты мне не нареченный супруг, а я тебе больше не нареченная жена, ибо я намерена вернуться к служению божественной Исиде.
– Не понимаю. Может, соблаговолишь выражаться яснее? – едва выговорил я.
– Хорошо, я буду говорить яснее, благородный Шабака, яснее, чем ты, говоривший со мной прежде. И раз уж мы видимся с тобой в последний раз, мне и правда следует выражаться яснее. Так слушай же. Когда ты вернулся с Востока, то в этом самом зале поведал нам о том, что там с тобою приключилось. Потом говорил карлик, твой слуга. Он сказал, что ты назвал мое имя Великому царю. Я не на шутку рассердилась, но, даже когда я просила, чтобы его за это высекли, ты не стал отрицать, что именно он выдал мое имя царю, хотя фараон здесь же сказал, что, если это все же был ты, дело принимает уже совсем другой оборот.
– У меня не было времени оправдаться, – ответил я, – потому что тогда же объявились посланцы от Идернеса, а потом, когда я искал тебя, чтобы рассказать все как есть, ты куда-то исчезла.
– А разве у тебя не было на это времени, – холодно вопросила она, – тогда, под пальмами в дворцовом саду, когда мы были уже помолвлены? О, времени у тебя было сколько угодно, но тебе не хотелось признаваться, что ты купил себе жизнь и получил великие дары, заплатив за все честью египетской принцессы-цесаревны, чью любовь ты украл.
– Ты не понимаешь! – в отчаянии воскликнул я.
– Прости, Шабака, но я все отлично понимаю, ибо на пиру в честь Идернеса я слышала от тебя самого, что «имя Амады» сорвалось у тебя с языка и тут же дошло до ушей Великого царя.
– В словах Идернеса и его прихвостня не было ни слова правды, за это мы с Бэсом с ними и поквитались.
– Возможно, было бы куда лучше, если бы ты сохранил им жизнь, тогда бы они сами признались, правда это или ложь. Но тебе, конечно, было выгоднее, чтобы они были мертвы, ибо с мертвецов какой спрос, вот ты и вызвал их на поединок.
Я едва не задохнулся и не смог выговорить ни слова в ответ, мне вдруг показалось, что рассудок покидает меня, а она меж тем уже более снисходительно продолжала:
– Я не желаю срывать на тебе зло, брат мой Шабака, в частности, потому, что ты совершил великие подвиги во славу Египта. Помимо того, по закону, которому я служу, я не вправе гневно говорить с кем бы то ни было. Да будет тебе известно, что, узнав всю правду, поскольку я не могу любить никого, кроме тебя, по плоти и потому же не могу выйти замуж ни за кого другого, я искала заступничества у богини, к которой обратилась ради тебя. И она соблаговолила меня принять в свои объятия, забыв о моем отступничестве. И в этот самый день я во второй раз дала обеты, которые уже не могут быть нарушены, так что отныне нам не суждено увидеться вновь, никогда, к тому же фараон внял моей просьбе и соблаговолил наречь меня верховной жрицей и прорицательницей Исиды, назначив мне местожительством ее храм в Амаде, в далеком Верхнем Египте, где я родилась. Итак, между нами все сказано и сделано, а посему прощай.
– Сказано и сделано не все, – вспыхнул гневом я. – Фараон, прошу твоего позволения рассказать во всех подробностях, как имя благородной Амады стало известно Царю царей, и пусть это будет сделано в присутствии карлика Бэса. Ибо даже рабу дозволено сказать свое слово перед тем, как ему вынесут приговор.
Пероа взглянул на Амаду – она не возражала – и сказал:
– Позволяю, великий воин Шабака.
Вслед за тем в покои фараона позвали Бэса – он с любопытством огляделся кругом и уселся на пол.
– Бэс, – обратился я к нему, – ты не слышал ни слова, произнесенного здесь. (Тут я ошибался, поскольку, как он сам мне потом признался, карлик все слышал, потому что дверь была приоткрыта.) Так вот, Бэс, ты должен повторить слово в слово все, что произошло при дворе Царя царей до того, как меня вытащили из лодки, и после.
Бэс повиновался и подробнейшим образом рассказал все как было, не допустив ни малейшей ошибки, – все слушали его, затаив дыхание. Когда он закончил, слово взял я и рассказал, как у меня, обессиленного после пытки в лодке и едва стоявшего на ногах, случайно вырвалось имя Амады и что тогда я и помыслить не мог, что царь вдруг потребует ее себе, и что я скорее тысячу раз расстался бы с жизнью, чем согласился бы на такое. К этому я прибавил то, что позднее услышал от наших охранников: имя Амады, оказывается, уже было известно Великому царю, и он думал использовать его как повод для распрей с Египтом. Больше того, он избавил меня от смерти в страшных муках потому, что видел сон, покуда отдыхал накануне пиршества, и в том сне ему явился бог, и бог сказал, что негоже лишать жизни человека, оказавшегося ловчее на охоте и что за подобное злодеяние его ждет расплата на небесах. Однако закон его страны требовал, чтобы он нашел открытый предлог для освобождения человека, приговоренного к смерти, и тогда он решил сыграть на имени Амады, объявив, что посылает меня за ней.
Когда я закончил, фараон, поскольку Амада по-прежнему молчала, спросил Бэса, почему в тот вечер, когда мы вернулись, он говорил одно, а сейчас – другое.
– Потому, о фараон, – ответил Бэс, заводя глаза, – что я впервые в жизни дал маху и пустил стрелу слишком далеко. Так выслушайте меня, о фараон, принцесса-цесаревна и ты, верховный жрец. Я знал, что господин мой любит благородную Амаду, как знал я и то, что она бойка на язык и горяча и что обидеть ее проще простого, хотя, обижаясь, она ввергает себя в горькую печаль и губит собственную жизнь, а заодно и свою страну. Поэтому, хорошо зная женщин у себя на родине, я понял: после того, что случилось, она непременно обидится, и посоветовал моему господину держать язык за зубами и ничего не говорить о том, как имя Амады было помянуто при царе. Но какой-то злой дух надоумил его внять моему плохому совету и, пока я тут городил невесть что, разозлив благородную Амаду так, что она велела меня высечь до костей, он молчал, не решаясь сказать всю правду. Он не вымолвил ни слова и потом, поскольку боялся, что в противном случае меня и впрямь высекут: ведь мы с моим господином любим друг друга. И вовсе не желаем, чтобы кого-то из нас высекли, хотя, боюсь, нынче мне достанется, – и он посмотрел на Амаду. – Я все сказал.
И вот наконец заговорила Амада:
– Будь мне все известно с самого начала, быть может, я не сделала бы того, что сделала сегодня, и, возможно, все простила бы и забыла, потому что, на самом деле, даже если карлик опять лжет, твоим словам я верю, о Шабака, и прекрасно понимаю, отчего все так вышло. Но сейчас уже поздно что-либо менять. Скажи, о жрец Матери моей, разве нет?
– Слишком поздно, – чинно ответствовал жрец, – тем более что, если твои обеты будут нарушены во второй раз, о прорицательница, проклятие богини падет не только на тебя, но и на него, ибо из-за него ты нарушила то, что обещала богине, и прокляты вы будете не только в этой жизни, но и во всех других, что, возможно, будут отпущены вам на земле или где еще.
– Фараон! – в отчаянии вскричал я. – Мы связаны с тобой договором. Это записано и скреплено печатью. Я исполнил мою часть договора; мои сокровища оказались в твоем распоряжении; я поверг твоих врагов; я достойно командовал твоим войском. Так, может, пришло время тебе выполнить свою часть договора, повелев жрецам освободить эту благородную девушку от обетов и отдать ее мне, как было обещано? Или я должен поверить, что ты отказываешь мне, и не из-за богинь и обетов, а потому, что эта самая принцесса-цесаревна – истинная наследница престола, которой суждено продолжать свой род, чего не может себе позволить прорицательница Исиды. Так поэтому или потому, что до твоих ушей дошли недостойные возгласы, когда тебя венчали на царство перед Амоном-Ра и другими богами?
Пероа вспыхнул, заслышав такие слова, и ответил:
– Ты говоришь неучтиво, брат, и, будь ты не тот, кто есть, я был бы вынужден ответить тебе столь же резко. Но я знаю, как ты страдаешь, и потому прощаю тебя. Нет, тебе не пристало верить во все это. Лучше вспомни, что в помянутом тобой договоре записано, что я обещал отдать за тебя благородную Амаду лишь в случае ее согласия, а она взяла его назад.
– Тогда слушай, фараон! Я завтра же покину Египет и отправлюсь в другую землю, и верну высочайшее звание военачальника, коим ты меня удостоил; я вложу обратно в ножны меч, который надеялся еще поднять во славу Египта и в твою честь, когда придет великий день новой битвы, а он придет. И знай: я не вернусь до тех пор, пока благородная Амада сама меня не позовет вновь, чтобы сражаться за нее и за тебя в обмен на обещание отдать ее за меня в качестве награды.
– Этому никогда не бывать, – промолвила Амада.
Тут я почувствовал, что в покоях есть еще кто-то, но как и когда неизвестный сюда проник, я не знал, хотя догадывался, что это могло произойти, пока мы были заняты бурными разговорами. Вслед за тем между мной и фараоном вдруг возникла согбенная фигура человека, закутанного в нищенскую хламиду. Он отбросил капюшон – и я увидел обрамленное белоснежной бородой, мертвенно-бледное лицо святого Танофера.
– Ты знаешь меня, фараон, – молвил он своим низким, степенным голосом. – Я Танофер, царский сын; Танофер-отшельник, Танофер-провидец. Я все слышал, не важно как, и пришел к тебе с посланием, я, читающий в человеческих сердцах. Об обетах, богинях и женщине я не скажу ни слова. Скажу только, что если ты нарушишь дух своего договора и обречешь вот этого Шабаку на смерть от отчаяния, то навлечешь беду и на себя самого. Далеко не все воины Великого царя пали там, на берегах Нила, и, может, однажды он придет, дабы предать земле кости павших, а заодно и твои, о фараон. Не думаю, что ты сейчас готов прислушаться ко мне, как и эта благородная дева, объятая жаром, исходящим от ревнивой богини. И все же пусть она внемлет моему совету и попомнит мои слова: пусть в минуту крайней опасности она пошлет к Шабаке с просьбой о помощи, обещая ему взамен то, что он просил, и пусть она запомнит, что Исида любит ее не меньше, чем Египет, ибо богиня эта тоже родилась на берегах Нила.
– Уже поздно, слишком поздно!.. – простонала Амада.
Тут она разрыдалась и, повернувшись, ушла вместе с верховным жрецом. Фараон тоже ушел, оставив нас с Бэсом одних. Я огляделся кругом в поисках святого Танофера, потому как хотел с ним поговорить, но его и след простыл.
– Пора бы и ко сну, господин, – заметил Бэс, – а то после всех этих пересудов чувствуешь себя хуже, чем после изрядной драки. Ба! А это еще что такое, да с вашим именем сверху? – он поднял с пола шелковый мешочек и раскрыл его.
Внутри оказались бесценные розовые жемчужины!
Глава XIV Шабака сражается с крокодилом
– Куда теперь? – спросил я Бэса, когда мы вышли из дворца, поскольку я был сам не свой и не знал, что делать.
– Домой к госпоже Тиу, господин, ибо вам нужно подготовиться к завтрашнему отъезду и попрощаться с нею. О! – продолжал он как будто с восторгом, который, как я узнал потом, был напускным, хотя тогда я об этом как-то не подумал. – О, как вы, должно быть, счастливы сейчас, когда освободились от всех этих женских пут и перед вами открылась новая, яркая жизнь! Подумайте, господин, об охоте, что ждет нас там, в Эфиопии. Никаких тебе забот и хлопот о благе Египта, никаких увещеваний неверующих, что пора-де браться за оружие, никаких отчаянных битв за честь страны, воздетую на острие меча. А коли пожелаете сойтись с женщиной, что ж, в Эфиопии их что песку морского, знай себе порхают туда-сюда, легкие, точно вечерний ветерок, и благоуханные, как цветы, и никогда не докучают тебе поутру.
– Что ни говори, а сам-то ты, Бэс, не освободился от этих пут, – сказал я, заметив в лунном свете, как вытянулось его широченное лицо.
– Нет, господин, я привык сам держать их за горло. Так уж устроен мир, видите ли, а может, так угодно богам, которые этим миром правят, почем мне знать. Я столько лет был свободен и счастлив, радовался приключениям, путешествовал в дивные края и набирался уму-разуму, что, думаю, стал мудрейшим человеком на берегах Нила, бок о бок с тем, кто был мне дорог, я ничем не рисковал, кроме собственной шкуры, которая, впрочем, стоит не больше, чем жизнь мошки, кружащей под солнцем. И вот все изменилось. У меня теперь есть любимая жена, и люблю я ее так, что не передать словами, – он вздохнул. – Но кого ей теперь любить, кого слушаться… да-да, слушаться? Больше того, скоро я обрету свой народ и надену корону, начну управлять советниками и государством, буду поддерживать старую веру и делать много чего еще, что одной только Саранче ведомо. Все бремя забот отныне перевалилось с вашей спины на мою, господин, отягчив мне сердце, не знавшее тягот… Но пусть на том все и закончится.
И тут я рассмеялся, хотя до этого пребывал в печали, потому как в рассуждениях Бэса определенно была доля истины.
– Господин, – продолжал он изменившимся голосом, – я был глупцом, и глупость моя обернулась вам во зло. Простите меня, ведь я хотел как лучше, да только кто его знает, что лучше, а что нет. Но вот мы и подошли к вашему дому, я пойду проведую мою женушку и улажу кое-какие дела. А на рассвете вы должны быть готовы в путь-дорогу – мы отбываем в Эфиопию.
– Ты и правда хочешь, Бэс, чтобы я отправился с тобой?
– Конечно, господин, если только вам не взбредет податься куда еще, к примеру, по морю на юг. Коли так, я, наверно, соглашусь быть вам попутчиком, к тому же Эфиопия никуда не денется, а мне охота еще много чего повидать на свете. Вот только как быть с Каремой: ведь она ждет, а вернее, еще долго будет ждать, ежели все узнает, когда теперь станет царицей? – нерешительно прибавил он.
– Нет, Бэс, я слишком устал и не хочу строить новые планы, так что давай-ка лучше отправимся вместе в Эфиопию и не будем огорчать Карему, к тому же она так долго держала в руках всевидящую чашу, что теперь ей наверняка не терпится подержаться за скипетр.
– Думаю, это очень мудрое решение, господин; по крайней мере, святой Танофер, безусловно, счел бы его таковым, а ведь он живое воплощение гласа судьбы. Да и чего нам, собственно, беспокоиться, ведь, в конце концов, мы, и каждый из нас, всего лишь жалкие костяшки на игральной доске судьбы.
С этими словами он развернулся, оставив меня одного, я прошел в дом и увидел матушку: она сидела в том же парадном облачении, словно ожидая чего-то. Глянув на мое лицо, она спросила, чем я так опечален. Я присел на скамеечку у ее ног и рассказал все как есть.
– Я так и думала, – сказала она, когда я закончил свой рассказ. – Чересчур умные женщины – что скользкие рыбешки, их не удержать в руках, а чересчур большая душа что слишком большой парус на лодке, пустынный ветер над Нилом опрокинет ее в два счета. Что ж, не стоит винить ни ее, ни Бэса, ни Пероа – он больше обеспокоен будущим своей династии, и ему лучше, чтобы Амада была жрицей, чем твоей женой, да и богине Исиде это в угоду, ибо она ревностно относится к своим прислужницам. Тут пристало винить скорее власть, ту, что таится в тени, ибо пред нею мы склоняем наши головы, хотя даже не представляем себе, что она творит на самом деле. Стало быть, Египет закрывает пред тобою свои двери, сынок. И куда же ты подашься? Надеюсь, не на Восток, как прежде, ибо там ты живо станешь на голову короче.
– Я отправляюсь в Эфиопию, матушка, благо Бэс там как будто важный человек и может меня приютить.
– Значит, мы перебираемся в Эфиопию, верно? Что ж, хотя для старухи путь туда долгий, в Мемфисе, где я прожила столько лет, меня гложет тоска, а лучшего кладбища, чем южные пески, не сыскать.
– Мы!.. – воскликнул я. – Мы?
– Ну да, сынок, ибо, потеряв жену, ты снова обрел мать, и отныне нас ничто не разлучит – только моя смерть.
Когда я это услышал, глаза мои наполнились слезами. У меня проснулась совесть, потому как последние дни, не сказать годы, я помышлял только об Амаде и совсем не думал о матушке. И вот Амада оттолкнула меня, поступив не по справедливости: она не пожелала узнать правду и убедила себя в самом худшем, решив, будто я, боготворивший ее, выдал ее имя, чтобы избавить себя от медленной, мучительной смерти, а матушка, забыв все, вновь приласкала меня, как когда-то в детстве. Я не нашелся, что сказать, но, вспомнив о жемчужинах, достал их и повесил матушке на шею.
Она посмотрела на чудесные вещицы, улыбнулась и сказала:
– Такие украшения лишь подчеркивают седины и иссохшую грудь. Однако ж я буду беречь их, сынок, пока ты не найдешь себе жену, – не Амаду, так какую другую.
– Никто мне не нужен, кроме Амады, – с горечью проговорил я, на что она только улыбнулась.
И вслед за тем оставила меня, намереваясь отбыть ко сну.
На другой день мы были готовы отправиться в путь только к двум часам пополудни, поскольку перед дорогой нужно было много чего успеть сделать. Среди прочего – передать дом на попечение друзей и собрать все необходимое для дальнего путешествия. А тут еще прибыл гонец от фараона, просившего меня ради него и ради Египта хорошенько подумать, прежде чем уезжать, на что я ответил так: решение мое непреложно, а ежели фараону будет угодно узнать, где я, пускай он обратится к святому Таноферу, поскольку тот знает все. Следом за тем прибыл другой гонец, с прощальными дарами от фараона, наградившего меня почетной цепью, высочайшим титулом и полномочиями его посланника в любой стране, куда бы я ни прибыл, и многим прочим, – получение всего означенного мне надлежало подтвердить ответом. Наконец, когда мы покидали дом, собираясь направиться к берегу Нила, где нас ожидала лодка, которую подготовил Бэс, подоспел третий гонец, при виде которого у меня сердце упало: то был жрец Исиды.
Он поклонился и передал мне свиток. Я открыл его дрожащими руками и прочел нижеследующее:
«От прорицательницы Исиды, чей дом положен в Амаде, и в прошлом принцессы-цесаревны Египта, к благородному Шабаке:
Насколько мне известно, о брат мой Шабака, ты покидаешь Египет, и сердце мое обливается кровью. Поверь, брат мой, я горячо тебя люблю, даже больше, чем кто было то ни было на свете, и любви своей никогда не изменю, несмотря на то что богиня, держащая мое будущее в своих руках, знает, из чего мы сделаны, и не ревнует к прошлому. А посему она не отринет земную любовь той, которая отдала себя в ее божественные руки. Мы благословляем тебя, я и она, и если нам больше не будет суждено увидеться с тобой лицом к лицу на этом свете, быть может, мы снова встретимся в обители Осириса. Прощай же, возлюбленный мой Шабака. О, и зачем ты позволил этому черному повелителю лжи, карлику Бэсу, оговорить себя, скрыть от меня правду?»
Так заканчивалось послание, под которым я заметил два влажных пятнышка, – следы от слез, как я догадался. Кроме того, к свитку было прикреплено завернутое в шелк золотое колечко с царским уреем, которое Амада носила с детства. И только минувшим вечером я заметил его на большом пальце ее правой руки.
Я тут же схватил стиль[34], вощеные таблички и на одной из них написал так:
«Будь ты мужчиной, Амада, а не женщиной, думаю, ты судила бы обо мне иначе, но, даже будучи просвещенной жрицей и прорицательницей, ты все равно остаешься женщиной. Возможно, придет время и ты снова обратишься ко мне, коли будет нужда; и я, если буду жив, непременно приду. Но даже если меня и не будет среди живых, думаю, я все равно приду, поскольку на самом деле ничто не может нас разлучить. А пока я буду носить твое кольцо денно и нощно и, глядя на него, вспоминать Амаду – девушку, чьи уста прикасались к моим; при этом, однако, я буду забывать Амаду-жрицу, которая ради спасения своей души ранила душу человека – того, кто любил ее и кого в гордыне своей и в гневе, к прискорбию его, она недооценила».
Я завернул табличку в ткань и скрепил глиной, а также колечком Амады, воспользовавшись им вместо печати, после чего вручил послание жрецу, чтобы он передал его по назначению.
Наконец мы прибыли к реке и там, на открытом берегу, я увидел многих из тех, кто бок о бок сражался со мною в том бою с пришельцами с Востока, а вместе с ними – несметную толпу горожан. Они обступили меня со всех сторон – некоторые из них были ранены и опирались на костыли – и принялись упрашивать, чтобы я не уезжал, ибо с моим отъездом, как они предвидели, Египет будет ввергнут в печаль. Но я, едва ли не со слезами на глазах, отбился от них и вместе с матушкой укрылся под навесом, покрывавшим лодку. Там нас уже поджидал Бэс вместе со своею прекрасной женой, которая, несмотря на горечь расставания с Египтом, приветливо улыбалась нам, а кормчий и гребцы, все до одного эфиопы, разом поднялись и приветствовали меня как великого военачальника. Дождавшись попутного ветра, мы подняли парус и заскользили вверх по Нилу, уносясь прочь от Мемфиса, чьи храмы и пальмовые рощи через некоторое время исчезли из вида.
Нет нужды подробно рассказывать о нашем долгом-долгом плавании. Выше по течению Нила мы продвигались медленно: нам то и дело приходилось перетаскивать лодку через пороги – и так до тех пор, пока Египет не остался у нас далеко за кормой. В конце концов спустя несколько дней после того, как мы миновали устье другой реки, синего цвета, которая, стекая с северных гор, впадала в Нил, мы подошли к тому месту, где пороги оказались настолько длинными и крутыми, что нам пришлось тащить лодку волоком по суше. На заходе солнца мы снова сели в лодку и двинулись вверх по реке дальше, и вскоре я заметил чуть поодаль на песчаном берегу толпу людей, а за ними лагерь, состоявший из множества дивных шатров, расшитых, как мне показалось, шелком и золотом, под стать развевавшимся над ними знаменам с рельефными фигурами саранчи с золотым туловищем и серебряными лапами.
– Похоже, посланцы мои добрались вполне благополучно, – сказал мне Бэс, – потому что, как видишь, там собралась часть моих подданных, и они пришли нас встречать. Отныне, господин, я больше не буду величать вас господином, поскольку, сдается мне, я теперь снова стал царем. А вы теперь должны звать меня не Бэсом, а каруном. И еще, простите, но отныне вам придется кланяться в моем присутствии, хоть сам я того не желаю, но так велит обычай эфиопов. О, как бы мне хотелось, чтобы вы были царем, а я вашим другом, но теперь прощай беззаботная жизнь и свобода!
Я рассмеялся, а Бэс и бровью не повел – только повернулся к своей женушке, которая уже взирала на него свысока, и сказал:
– Госпожа Карема, наведи на себя красоту, да побольше, и забудь, что когда-то ты была Чашей или чем там еще, безусловно полезным, ибо отныне тебе суждено стать царицей, коли ты придешься по нраву моему народу.
– А что, если я не придусь ему по душе, муженек? – полюбопытствовала Карема, распахнув свои прекрасные глаза.
– Даже не знаю, женушка. Может, меня отвергнут, хотя горевать по такому случаю я не стану. Или тебя, потому как уж больно ты кожей бела, а все царицы эфиопов чернокожи, и тогда я уж точно не выдержу и зальюсь слезами.
– А если они и впрямь отвергнут меня, потому что я белая, вернее коричневая, а не черная, как агат, что тогда, о муженек?
– Тогда – о! – тогда не могу сказать, о женушка. Может, они отошлют тебя обратно на родину. Может, упекут в храм, где ты будешь жить в одиночестве, хоть и в достатке. Помню, как-то раз они упекли туда одну белую женщину, нарекли ее богиней и поклонялись ей до тех пор, пока она не померла с тоски. А может… ну, я даже не знаю.
Тут Карема вышла из себя.
– В таком случае уж лучше я осталась бы Чашей, – сказала она, – и служила дальше святому Таноферу – по крайней мере, он учил меня всяким таинственным фокусам, – вместо того чтобы забраться в такую глушь к чернокожим дикарям за компанию с карликом, который хоть и царь, но, как видно, не имеет никакой власти, потому что даже не может защитить свою избранницу-жену.
– Ну почему женщины всегда впадают в раж за здорово живешь? – робко вопросил Бэс. – Ладно бы попрекать меня, когда б такое и впрямь случилось.
– Если хоть что-нибудь похожее случится, муженек, я и не такое скажу, – огрызнулась она.
Однако спор на том и закончился, поскольку как раз в это время наша лодка подошла к берегу и в воду с дикими песнями тут же кинулась часть встречавших нас туземцев, чтобы вытащить лодку на прибрежный песок.
Бэс встал на носу лодки, потрясая луком, и ответом ему был громогласный крик:
– Карун! Карун! Это он! Он вернулся через столько лет!
Туземцы дважды прокричали так и тут же все как один пали ниц, уткнувшись лбами в песок.
– Да, народ мой! – воскликнул Бэс. – Это я, карун, чудесным образом избегнувший многих опасностей в дальних краях благодаря Саранче – на небесах и, как вам, верно, рассказали мои посланцы, дорогому моему другу, благородному Шабаке-египтянину, соблаговолившему прибыть со мной и какое-то время у нас погостить… Так вот я наконец вернулся в Эфиопию, дабы оделить вас мудростью, как солнце – светом, излив его на ваши головы топленым медом. Кроме того, памятуя о наших законах, которыми я некогда пренебрег и оставил вас, я обошел весь свет, пока не нашел самую красивую девушку на земле и не взял ее себе в жены. Она также соблаговолила прибыть в эту далекую землю, дабы стать вашею царицей. Подойди же, прекрасная Карема, и покажись народу моему, эфиопам.
Карема вышла вперед и встала рядом с Бэсом – то была странная парочка. Эфиопы, поднявшись на ноги, впились в нее глазами, и тут один из них сказал:
– Карун назвал ее красивой, но на самом деле она почти белая и на редкость уродливая.
– Во всяком случае, она женщина, – проговорил другой, – ведь у нее женская фигура.
– К тому же он женился на ней, – заметил другой, – и даже царь вправе хоть раз выбрать себе жену. Да и можно ли в таких делать судить о вкусах?
– Довольно! – властно сказал Бэс. – Это сегодня она кажется вам некрасивой, посмотрим, что вы скажете завтра. А теперь дайте нам сойти на берег и перевести дух.
Пока мы высаживались на берег, у меня была возможность рассмотреть эфиопов. Они были высоки и черны как смоль; у них были полные губы, белые зубы и плоские носы. Глаза – большие, а белки – желтоватые, волосы – курчавые, точно шерсть, бороды – короткие, лица – неизменно улыбчивые. Что до одежды, то они были почти нагие, хотя старейшины или вожди рядились в леопардовые шкуры, а некоторые – в некое подобие шелковых туник с поясами. У всех имелось оружие: луки, короткие мечи и маленькие, круглые щиты, обтянутые шкурой не то гиппопотама, не то носорога. Они были буквально увешаны золотом – даже не самые знатные носили на руках широкие золотые браслеты, при том что шеи вождей обвивали массивные крученые золотые ожерелья, а у некоторых тяжелыми браслетами из того же золота были обхвачены и лодыжки. Обуты они были в сандалии; головы у одних были украшены страусиными перьями, а у других, которых я принял за жрецов, – искусной отделки золотыми ободами в форме саранчи. Однако ни одной женщины среди них не было.
Солнце опускалось все ниже, и нас сразу провели к роскошному шатру, сплетенному из льна и расшитому, как я уже говорил, шелком и золотом, – там для нас приготовили богатую трапезу, состоявшую из молока в кувшинах, жареной и пареной баранины и говядины. Между тем Бэса препроводили в другое место, что разозлило Карему пуще прежнего.
Не успели мы покончить с едой, как в шатер вошел гонец и возгласил:
– Падите ниц! Немедля всем пасть ниц: Саранча идет! Карун идет!
Здесь я должен заметить, что титул карун означает «Великая саранча», но Карема, не знавшая этого, спросила в недоумении, с какой стати ей преклоняться перед какой-то саранчой. Она не поклонилась, даже когда в шатер вошел Бэс, облаченный в пышную цветастую мантию с длинным шлейфом, который поддерживали двое его здоровых соплеменников. В своем наряде он выглядел до того нелепо, что мы с матушкой тут же склонились чуть ли не до земли, стараясь спрятать улыбки, а Карема при виде его сказала:
– Было бы куда лучше, муженек, если бы полы твоего наряда несли детишки, а не эти верзилы. К тому же, если ты вздумал разукраситься под саранчу, то дал маху, потому как у саранчи окрас зеленый, а на тебе сплошь золото да пурпур. Потом, у саранчи нет перьев на голове, а у тебя хоть отбавляй, и все торчат сикось-накось.
Бэс закатил глаза, словно от боли, повернулся и велел сопровождавшим его здоровякам выйти вон. Те повиновались, хоть и неохотно, поскольку не желали оставлять своего повелителя наедине с нами, после чего он задернул полу шатра, сбросил свое пышное облачение и сказал:
– Как ты не понимаешь, женушка, наши обычаи совсем не то, что у вас в Египте. Там я был счастлив как раб, а тебя держали за чудесную Чашу святого Танофера, хоть и премудрую. Здесь же я несчастный царь, а ты – неказистая, неразумная чужеземка. О, никаких возражений, молю тебя, знай только, что пока все складывается замечательно. До поры ты будешь считаться моей женой и подчиняться решениям совета старших женщин и моих родственниц, ибо только они могут решить, когда нам выдвигаться в город Саранчи и признают ли тебя царицей эфиопов или не признают. Нет-нет, ничего не говори, прошу, поскольку мне нужно идти, прямо сейчас, ибо по законам эфиопов для Саранчи пришло время ложиться спать, в одиночестве, Карема, потому как тебя еще не нарекли моей женой. Ты можешь спать с госпожой Тиу, а для Шабаки приготовили отдельный шатер. Сладких тебе снов, женушка. Ну вот, слышите? Меня уже зовут.
– Ну, ежели я сама по себе, – заявила Карема, – тогда посплю лучше в лодке и завтра же отправлюсь назад в Египет. А ты что скажешь, благородный Шабака?
Но я ничего не сказал, и Бэс, так и не услышав моего ответа, вышел из шатра, предоставив ей обсуждать что да как с моей матушкой. Я увидел, как верноподданные толпой сопроводили Бэса ко сну – в другой шатер, а сами, расположившись вокруг, принялись играть на музыкальных инструментах. Вслед за тем один из них пришел за мной и отвел меня в отведенный мне шатер, где помещалась хорошая постель, где я должен был спать. Впрочем, уснул я не сразу, потому что меня разбирал смех, да и потом, как тут заснешь, когда кругом грохотали барабаны и трубили рога, услаждая слух Бэса. Теперь я понимал, почему он любил приговаривать, что уж лучше быть рабом в Египте, чем царем в Эфиопии.
Утром я поднялся чуть свет и спустился к реке искупаться. Но не успел я заняться водными процедурами, как заметил, что ко мне направляется Бэс с немногочисленной свитой.
– Давненько не было у меня такой ночи, господин, – сказал он. – По крайней мере, с тех пор, как вы захватили меня в плен много лет назад, ибо законом мне запрещено останавливать барабанный бой и глас рогов. Однако отныне, и опять же по закону эфиопов, до восхода солнца я считаюсь сам себе хозяин, вот и пришел нарвать вон тех голубых лилий в подарок Кареме, ведь она так их любит. К тому же, боюсь, она все еще злится на меня, а они, надеюсь, ее утешат.
– Конечно, злится, да еще как, – подтвердил я. – Во всяком случае, давеча вечером, когда мы прощались, она была вне себя. О, Бэс, ну зачем ты позволил своим подданным называть ее уродицей?
– А что мне было делать, господин? Разве ты никогда не слыхал, что в одном эфиопы непревзойденны, а именно: если они что говорят, то только правду. Она им чужая, вот и не приглянулась. И ежели они говорят, что она уродица, стало быть, так оно и есть.
– Но такая правда ей совсем не по душе, Бэс, и Карема, не сомневаюсь, скоро сама тебе об этом скажет. А что они думают обо мне? Должно быть, тоже держат за урода?
– Что верно, то верно, господин. Они также думают, что ты из тех, кто ловко владеет луком и мечом, а у эфиопов это в большом почете. О матушке твоей они ничего не говорят, потому как она в преклонных летах, а старость у нас в почете, ибо Саранча ждет их к себе.
Я снова рассмеялся и пошел с Бэсом собирать лилии. Они росли у края зарослей камышей, переплетенных под напором течения. Бэс распластался на животе, прямо на этой камышовой подстилке, покуда приближенные молча и с любопытством наблюдали за ним, держась поодаль от берега, и простер вперед свои длинные руки, силясь дотянуться до бело-голубых лотосов. Едва он успел ухватить пару цветков и дернуть их на себя, как вдруг подстилка под ним разошлась в стороны и он провалился в воду.
В следующий миг я увидел, как бурая вода вспенилась и закружилась – из нее будто вырос огромный крокодил. И бросился на Бэса с разверзшейся пастью. Будучи неплохим пловцом, Бэс метнулся в сторону, стараясь уклониться от нападения, и тут я услышал, как громадные крокодильи зубы с лязгом сомкнулись, впившись в короткую кожаную подвеску у него на поясном ремне.
– Злой дух явился за мной! Прощайте! – крикнул Бэс и скрылся под водой.
Как уже было сказано, перед тем я почти разделся, собираясь искупаться, не успел снять короткий меч – он так и висел у меня на поясе. В мгновение ока я выхватил его и под крики насмерть перепуганных эфиопов, наблюдавших за происшедшим с берега, кинулся в реку. Среди пловцов мне не было равных, к тому же я хорошо нырял с открытыми глазами и мог надолго задерживать дыхание под водой, поскольку упражнялся в этом с детства.
Под крики насмерть перепуганных эфиопов я кинулся в реку
Я тут же увидел, как огромная тварь устремилась вниз, к илистому дну, утаскивая с собой Бэса, чтобы его утопить. Но река в этом месте была очень глубокая, и, сделав пару-тройку гребков руками, я изловчился поднырнуть под крокодила. Затем что было сил метнулся вверх – и вонзил меч в мягкую часть его глотки. Почувствовав боль от впившегося в нее железного клинка, тварь выпустила Бэса и повернулась ко мне. Не знаю, как все случилось, но через мгновение я уже оказался верхом на твари и дубасил ее по глазищам кулаками. Один удар, по крайней мере, пришелся в цель – ослепленная бестия выскочила на поверхность, утаскивая меня следом за собой… и – о чудо! – я с жадностью принялся хватать ртом воздух.
Так мы и вынырнули на поверхность: я, верхом на крокодиле, точно на лошади, из всех сил колол его мечом, а Бэс, безоружный, лишь дико вращал глазами. Тварь все еще была жива, хотя истекала кровью, но от боли и ярости она словно обезумела. Между тем эфиопы стояли на берегу и кричали, не в силах мне помочь: у них были только луки, однако стрелять они не решались, боясь ненароком попасть в меня. Потом крокодил стал опять погружаться в воду, отчаянно молотя передними и задними лапами. И тут я вспомнил один трюк, который проделывали прибрежные жители Нила: я видел это не раз собственными глазами.
Дождавшись, когда огромные челюсти крокодила разомкнутся, я вставил между ними свой короткий меч так, что рукояткой он уперся в язык твари, а острием – ей в небо. Крокодил попытался сомкнуть челюсти, но не тут-то было: ему мешал крепкий железный клинок – и они так и остались широко открытыми. Затем я ослабил хватку и всплыл на поверхность, целый и невредимый, если не считать царапины на запястье, оставленной одним из его острых зубов. Следом за мной всплыл крокодил – он истекал кровью и бился в судорогах. Что было дальше, я не знаю – помню только, что очнулся уже на берегу, в окружении склонившихся надо мной эфиопов, среди которых был и Бэс. А рядом, на мелководье, валялся издохший крокодил – между челюстями у него все так же торчал мой меч.
– Ты ранен, господин? – в ужасе воскликнул Бэс.
– Похоже, самую малость, – ответил я, усаживаясь и осматривая свою окровавленную кисть.
Бэс отстранил Карему, которая выбежала к нам из шатра, едва прикрыв наготу, и сказал:
– Все хорошо, женушка. Сейчас я принесу тебе лилии.
Но прежде он припал к моим рукам, облобызал их, поцеловал меня в лоб и, повернувшись к толпе, горячо воскликнул:
– Давеча вечером вы спорили, позволить ли этому благородному египтянину остаться у меня в гостях здесь, в Эфиопии. Кто из вас готов снова затеять этот спор?
– Никто! – хором прокричали его соплеменники. – Он не человек, а бог. Ибо ни один человек неспособен на такой подвиг.
– Вот именно, – уже спокойно проговорил Бэс. – Во всяком случае, такое никому из вас не под силу. Однако он не бог, а человек, имя которому герой. А еще он мне брат, и, пока я царствую в Эфиопии, он будет править вместе со мной, иначе мы с ним уйдем.
– Да будет так, карун! – в один голос прокричали они. И следом за тем перенесли меня в шатер.
У шатра ждала моя матушка – она с чувством гордости поцеловала меня перед всеми, и эфиопы снова восторженно закричали.
Так закончилось это приключение с крокодилом – остается только добавить, что потом Бэс вернулся на берег за двумя лилиями для Каремы, лежавшими уже в лодке, и это лишний раз убедило эфиопов, что он и правда ее очень любит, хотя и не так сильно, как меня.
Тем же вечером, разместившись на носилках, мы отправились в город Саранчи и прибыли туда через четыре дня. На подходе к городу нас встречали толпы народа числом не меньше двенадцати тысяч человек, а то и больше, и в город мы вошли в сопровождении огромного скопища людей, распевавших торжественные песни под аккомпанемент музыкальных инструментов, да так громко, что у меня голова шла кругом.
Это был большой город с глинобитными домами под камышовыми кровлями. Стоял он на широкой равнине, и посреди его громоздился естественный каменистый холм, на гребне которого возвышался сложенный из сверкающего мрамора и покрытый металлической, отливавшей золотом крышей храм Саранчи – обнесенное колоннами здание, очень похожее на египетские святилища. Вокруг храма размещались другие строения, в том числе дворец каруна, окруженный тройной мраморной стеной, служившей ему надежной защитой от вражьих набегов. Еще никогда прежде не видывал я ничего более прекрасного, чем этот холм с его ослепительной белизны зданиями, крытыми золотом и медью, ярко блестевшими на солнце.
Спустившись с носилок, я подошел к паланкину, где сидели моя матушка с Каремой, – к Бэсу, преисполненному собственного величия, приближаться было запрещено – и поделился с ними впечатлениями от увиденного.
– Да, сынок, – ответила матушка, – видно, и впрямь стоило проделать такой долгий путь, чтобы поглядеть на эдакую красоту. Я обрету последнее пристанище в прекрасном месте.
– А я все это уже видела, – вступила в разговор Карема.
– Когда же? – полюбопытствовал я.
– Не помню. Наверно, когда была Чашей святого Танофера. По крайней мере, здесь мне все знакомо. Хотя и совсем не в радость, поскольку чего стоит страна, где белых считают страшилищами, а жене если и позволено приближаться к мужу, то разве что между полуночью и рассветом, когда смолкает их жуткая музыка.
– В твоей власти поменять их обычаи, Карема.
– Да, – воскликнула она, – уж я постараюсь!
После этого я вернулся к своим носилкам.
Глава XV Зов о помощи
У ворот города Саранчи нас встречали по-царски. К нам вышли жрецы, толкавшие перед собой плоскую колесницу с огромным изваянием своего божества, и мне, помнится, тогда даже стало любопытно, сколько может стоить эта золотая громадина, если ее переплавить. Вышли к нам и члены совета, все как один вековые старцы – эфиопы в основном живут больше ста лет. Может, потому их и обрадовало возвращение Бэса: они были слишком стары и не могли удерживать власть в своих руках, хотя были вынуждены править во время его долгого отсутствия. Ведь кроме Бэса среди живущих эфиопов не было никого с истинно царской кровью, кто мог бы занять его место на престоле.
Были там и тысячи женщин, широколицых, улыбающихся; их черная кожа, смазанная маслами, блестела, поскольку из одежды на них были только набедренные повязки, не считая золотых украшений. У некоторых золотые серьги были размером с ладонь, а в носах у многих торчали большие золотые кольца, в точности как у египетских быков. Матушка рассмеялась при виде их, а Карема сказала, что, по ее мнению, выглядят они ужасно, просто отвратительно.
Странный народ, эти эфиопы: большинство из них были как дети – веселые и добрые и совершенно не способные сосредоточиться на одной вещи более чем на минуту. Они могли плакать и одновременно смеяться. Была у них и своя знать – люди высокопросвещенные, хранители многих древних знаний. Они создавали законы, которые могли бы показаться чужеземцу несуразными, строили храмы, управляли золотыми, железными и медными копями и занимались искусством. То были настоящие господа, окружившие себя рабами, которые, впрочем, жили в полном довольстве, ибо на своей плодородной земле не знали ни нужды, ни лишений.
Так и протекала жизнь эфиопов от колыбели до могилы – среди песен, цветов и нехитрых трудов, за исключением которых делали они что хотели и любили кого хотели, и особенно своих чад, а детей у них было множество. Эфиопские мужчины по натуре своей и традиции были воинами и охотниками; они мастерски владели луками, и на войне, когда она случалась, впрочем довольно редко, им не было равных. В самом деле, к тому времени, когда мы нагрянули к ним, у эфиопов совсем не осталось врагов, и они сразу же стали упрашивать Бэса, чтобы он повел их на какую-нибудь войну, поскольку им уже было невмочь пасти скотину да возделывать поля.
Все это я узнавал постепенно, как и то, что эфиопы были великим народом и могли снарядить семидесятитысячное войско на войну, оставив достаточно воинов для защиты своей земли. О том же, что творилось за ее пределами, большинство из них имело слабое представление, хотя мудрецы, с которыми я беседовал, знали многое, поскольку они путешествовали в Египет и другие страны, чтобы изучать чужеземные обычаи и традиции. А что до их собственных верований, эфиопы поклонялись только одному божеству – Саранче, и, подобно этому насекомому, они беззаботно прыгали и стрекотали на протяжении всей своей жизни, а когда приходила зима, пора смерти, они так же легко перепрыгивали в иной мир, о котором ничего не знали, оставляя после себя потомство, чтобы оно могло так же греться под лучами грядущего лета жизни. Вот такими были эфиопы.
Что касается церемоний, проведенных по случаю приема Бэса и его повторного венчания на царство как каруна, об этом я мало что знаю, поскольку от укуса крокодила у меня началось заражение крови, я сильно занедужил и целую луну, а то и больше пролежал в роскошных дворцовых покоях, где золота, кажется, было столько, сколько глиняных горшков в Египте, и где вся посуда была из чистого хрусталя. Если бы не искусные эфиопские лекари и, главное, не заботы моей матушки, думаю, я бы, несомненно, умер. Ведь это матушка воспротивилась, когда они было вознамерились отрезать мне руку, и поступила мудро, потому как рука у меня постепенно зажила и снова стала как новенькая. В конце концов я выздоровел и, выйдя на площадку перед дворцом, был представлен Бэсом народу как его спаситель и как второй после него человек в царстве, чего я никогда не забуду, как и оказанного мне восторженного приема.
В качестве жены Бэса народу представили и Карему, прошедшую через испытание в кругу старейших женщин, и то, думаю, лишь потому, что, как выяснилось, она вот-вот должна была произвести на свет наследника престола. Поскольку ее красоту они восприняли как уродство и так и не смогли понять, как вышло, что, вопреки общепринятым в Эфиопии традициям, разрешающим царю иметь только одну жену – дабы потом их дети не перессорились, – выбрал на эту роль белую женщину. Поэтому они приняли ее сдержанно, хотя перед тем долго шептались, споря меж собой, что привело Карему в ярость.
Однако, когда пришел срок и на свет появился младенец, чудный, ладненький чернокожий мальчуган, они смилостивились над нею, а когда она родила второго, они уже возлюбили ее всем сердцем. Но Карема все им припомнила – и все так же испытывала к ним неприязнь. Не очень сильно была она привязана и к своим чадам, потому как они были чернее ночи, что, по ее словам, лишний раз доказывало, сколь заразна кровь эфиопов. Что верно, то верно, я и сам не раз замечал, что, если эфиоп брал себе в жены женщину другого цвета кожи, потомство у них рождалось чернокожее, и так до третьего, а то и четвертого колена. В общем, Карема не чаяла скорее вернуться в Египет: ей была не в радость даже роскошь, которая ее окружала.
Она желала этого так страстно, что даже стала заниматься колдовством, которому научилась у святого Танофера, и подолгу просиживала, всматриваясь в наполненный водой хрустальный шар, силясь разглядеть, что сейчас происходит в Египте. Благо она вновь обрела большую часть своего дара и обо всем, что видела, непременно рассказывала мне, потому как делиться своими тайнами больше ни с кем не хотела, даже с мужем.
Так, однажды она увидела Амаду, коленопреклоненную и рыдающую перед статуей Исиды в храме, и это сильно меня опечалило. Видела она и святого Танофера, погруженного в раздумья во мраке Бычьей пещеры, и прочла в его мыслях, что он думает о нас, хотя о чем именно, узнать не смогла. А еще Карема увидела восточных посланников, передающих какие-то свитки фараону, и по его лицу догадалась, что он встревожен и что Египту снова грозят беды. И тому подобное.
Вскоре слухи о чудесных способностях Каремы разлетелись по всей стране, и эфиопы стали бояться ее колдовских чар – с тех пор, что бы они там себе ни думали, никто больше не смел называть ее уродицей. К тому же дар у нее был самый что ни на есть настоящий: когда она рассказывала мне о тех или иных вещах, как, например, о прибытии восточных посланников, это непременно случалось, и тогда мне многое становилось понятно, хотя толковать свои видения она сама не могла.
Теперь, после того как я снова окреп, а Бэс прочно обосновался на престоле, мы с ним решили заняться тренировкой и обучением эфиопского войска, которое до сей поры являло собой скорее банду разбойников с луками и щитами. Мы разбили воинов на фаланги, как у греков, вооружили длинными копьями, мечами и большими щитами взамен прежних маленьких. Потом мы взялись за лучников – обучили их выдвигаться вперед разомкнутым строем и стрелять из-за укрытия, ну и, наконец, выбрав лучших воинов, назначили их командирами и начальниками. Так, спустя два года моего пребывания в Эфиопии у нас сформировалось войско числом шестьдесят тысяч человек, а то и больше, и я был готов без страха выступить с ним против любой армии мира, поскольку наши воины отличались небывалой силой и храбростью, и потом, как я уже говорил, они были прирожденными воителями. К тому же луки у них были длиннее и крепче, чем у кого бы то ни было, и стреляли эфиопы намного дальше, чем воины с Востока или египтяне.
Эфиопские вельможи удивлялись, зачем нам с царем все это нужно, ибо они не видели врага, против которого можно было бы выставить эдакую силищу. Поэтому мы с Бэсом созвали отдельный совет и все им разъяснили, заметив, что воинам надлежит быть готовым к войне во всякое время, потому как, прознав об их богатствах, Царь царей, не исключено, попытается захватить их страну. Так что месяц за месяцем я занимался своим делом, не жалея сил: водил войско в отдаленные уголки Эфиопии, чтобы они привыкали к дальним походам, и несли с собой все необходимое, включая продовольствие.
Так продолжалось до тех пор, пока не случилась беда: однажды по возвращении из очередного дальнего похода – нам надлежало покарать одно племя, члены которого расправились с нашими охотниками, и в отместку мы угнали у них несколько тысяч голов скота – я узнал, что моя матушка при смерти. Ее сразила лихорадка, распространенная в это время года, и ей не хватило сил побороть недуг, потому как она была совсем стара и слаба.
Поскольку лекарь так и не смог ей помочь, жрецы Саранчи денно и нощно молились в храме за ее здравие. Да, они молились золотому идолу Саранчи, установленному на алтаре святилища, окруженному хрустальными саркофагами с телами усопших эфиопских царей. На меня подобное зрелище произвело безотрадное впечатление, и Бэс тогда спросил, какая разница, кому поклоняться – Саранче или образам со звериными головами, или же карлику, похожему на него, как мы делаем в Египте, и я не нашелся, что ему ответить.
– Истина, брат, в том, – сказал он, поскольку с известных пор обращался ко мне только так, – что все люди на свете обращаются с мольбами не к тому, что видят и что должно почитать, а к тому, что они воспринимают как некий знак. Однако, почему эфиопы избрали себе божественным символом вездесущую Саранчу, я, увы, сказать не могу. Как бы то ни было, они поклоняются ей не одну тысячу лет.
Когда я подошел к ложу, на котором лежала моя матушка, то застал ее в бреду и понял, что долго она не протянет. Но вскоре сознание у нее прояснилось – она узнала меня, и по ее бледным щекам потекли слезы: ведь я все-таки успел вернуться до ее отхода в иной мир. Она напомнила мне о том, что всегда говорила: умереть ей суждено в Эфиопии, и попросила похоронить ее в земле, а не над землей в хрустальном саркофаге, как велит здешний обычай. Потом она сказала, что видела во сне моего отца и меня и что мне не стоит так печалиться по Амаде, ибо, как ей стало известно, пройдет совсем немного времени и я снова буду целовать ее в уста.
Я спросил, означает ли это, что я женюсь на Амаде и что мы будем жить в счастье и достатке. Матушка ответила, что, по ее разумению, я непременно женюсь на ней, а остальное ей неведомо. Тут ее лицо исказилось от боли: должно быть, ей подумалось о чем-то горестном – и, оставив разговоры об Амаде, она попросила Карему принести мне розовые жемчужины, потом благословила меня, помолилась за наше воссоединение в обители Осириса и вскоре умерла.
Я распорядился забальзамировать ее по египетскому обычаю и положить в хрустальный саркофаг со скарабеем на сердце, которого Карема подобрала где-то в городе: дело в том, что она везде и всюду искала вещицы, которые напоминали был ей о Египте, благо время от времени путешественники и чужеземцы чего только не привозили оттуда. Вслед за тем, исполнив все подобающие обряды, хоть и за отсутствием жрецов Осириса, мы с Каремой похоронили матушку в гробнице, которую Бэс велел выкопать у лестницы храма Саранчи, а сам Бэс вместе с приближенными наблюдал за церемонией погребения издали.
Прощай же, возлюбленная моя матушка, благородная Тиу!
После смерти матушки мне стало очень грустно и одиноко. Покуда она была жива, я и на чужбине чувствовал себя как дома, а теперь ощущал себя изгоем, чужим в чужой стране, где не было ни одного моего соплеменника, с которым можно было бы обменяться хоть словом, за исключением Каремы, но и с нею, во избежание сплетен, до коих эфиопы были весьма охочи, я не решался беседовать подолгу. Впрочем, был еще Бэс, что правда, то правда, но он был великим царем и временем своим, как и все цари, не распоряжался. Кроме того, Бэс оставался Бэсом и эфиопом, а я – самим собой и вдобавок египтянином, так что, невзирая на нашу братскую любовь, мы с ним никогда не стали бы людьми одной крови и родины.
Словом, мне стало совсем не по себе в Эфиопии с ее никчемным золотом, влажными, вечнозелеными зарослями и нескончаемым зноем – я безмерно скучал по пескам и сухому пустынному ветру. Бэс, заметив такое, предлагал мне жен, но мне претили чернокожие женщины, хотя они были добрые и веселые, и я не хотел иметь от них потомство, ибо потом уже ни за что не смог бы расстаться со своими чадами. Но я поклялся, что не вернусь в Египет до тех пор, пока не услышу голос, зовущий меня, а он все молчал. Единственное, что мне оставалось, так это довольствоваться дальнейшим обучением войска, которое, однако, мне, как главнокомандующему, некуда было отправить.
Наконец я решился. Будучи по природе охотником и воином, я попросил Бэса дать мне несколько храбрецов из числа людей, хорошо мне известных, охочих до приключений и рисковых, чтобы выдвинуться вместе с ними на юг по слоновьим тропам и идти по ним, куда бы ни привели нас боги. В конце концов они непременно привели бы нас к смерти, но какое это имело бы значение для тех, кому жизнь совсем немила?
Покуда я вынашивал в уме свои планы, Карема прочла мои мысли – наверное, потому, что и сама так думала, а может, благодаря своему таинственному дару, хотя почем мне знать. Как бы там ни было, в один прекрасный день, когда я сидел в одиночестве, глядя из дворцового окна на лежавший внизу город, она подошла ко мне, такая красивая и загадочная, в любимом своем белом одеянии, и сказала:
– Господин мой Шабака, тебе наскучила эта медвяная земля с ее беспечным житьем, ласковыми ветрами, цветами, золотом, хрусталем и чернокожими обитателями, которые вечно скалят зубы, пустозвонят и сторонятся тебя, разве нет?
– Да, царица, – ответил я.
– Не называй меня царицей, господин мой Шабака, я устала от этого имени, да и от всего остального, как и ты. Зови меня Каремой-кочевницей или Каремой-Чашей, как тебе угодно, только не царицей, заклинаю тебя именем Тота, бога мудрости.
– Господин мой Шабака, тебе наскучила эта медвяная земля…
– Карема так Карема, – согласился я. – Но почем ты знаешь, что я от всего устал, Карема?
– А как же иначе, ведь ты не дикарь и все так и живешь с Египтом в сердце, с верой в судьбу Египта и… – она посмотрела мне прямо в глаза… – с помыслами о благородной египтянке. Потом, я мерю тебя по себе.
– Но ты, по крайней мере, счастлива, Карема. Ведь ты окружена величием, богатством и любовью, ты жена царя, самого лучшего из людей, и к тому же мать.
– Да, Шабака, все это так и вместе с тем не так, ибо разве можно насытиться одними лишь сладостями, если тебе больше по вкусу кислое? Ты только погляди, какие мы чудные. Когда я была девчонкой, дочерью вождя кочевников, сытая и образованная волею судеб, мне наскучила суровая жизнь в пустыне и мое узколобое окружение, потому что я хотела стать мудрее и узнать великих людей. Так я стала Чашей святого Танофера и окружила себя мудростью, таинственной мудростью иного мира, дикой и тонкой мудростью Танофера и тайной мудростью мертвецов, среди которых я жила. Но все это мне тоже наскучило, Шабака. Я была красива и знала это – мне хотелось блистать при дворе, чтобы мною восхищались, вожделели меня… мне хотелось править. И вот я повстречала своего мужа. Он был умен и благороден. К тому же он оказался твоим другом, и я думала, что он, без сомнения, верный и сердечный. Он был царем, или должен был им стать, хотя думал, что я ничего не знаю. Я вышла за него, на что святой Танофер только рассмеялся, хотя и ничего мне не сказал, и вот я стала царицей. И теперь мне иногда хочется умереть или же снова стать Чашей святого Танофера, полной божественной мудрости, разливающейся вокруг меня в безмятежном мраке среди гробниц. Кажется, в этом мире мы уже никогда не будем счастливы, Шабака.
– Нет, Карема, нам это только кажется, потому что на самом деле все обстоит иначе. Чем же тебе помочь, Карема?
– Менее всего тем, что ты уйдешь восвояси и оставишь меня здесь одну, – ответила она со слезами на глазах.
Посмотрев на нее, я подумал, что мне было бы все же лучше уйти, и прямо сейчас, но она, знавшая мои мысли наперед, покачала головой и рассмеялась.
– Нет-нет, я сама взвалила на себя это бремя и буду нести его до конца. Разве нет у меня двух чернокожих детишек и мужа-героя, благоразумного и острого на язык, или нет у меня престола и груд золота да хрусталя, о чем я никогда и не мечтала… и разве я не привязана ко всему этому великолепию? Если б ты ушел, я стала бы лишь немного несчастней, только и всего. Но не ради себя я прошу тебя остаться, а ради тебя самого.
– Как это – ради меня самого, Карема? Я сделал здесь все, что мог. Создал целое войско, превратил неумелых мальчишек в заправских воинов. Бэсу я больше не нужен, ему нужна ты, его дети да родная земля… а я здесь умираю с тоски.
– Но ведь ты можешь использовать свое войско по прямому назначению, Шабака.
– Против кого? Воевать-то не с кем.
– Против Великого царя Востока. Слушай же! За последнее время дар мой окреп, и теперь я вижу яснее. Только сегодня я видела, как фараон встречается со святым Танофером и Амадой. Все трое были взволнованны, не знаю почему, под конец Амада написала что-то на свитке и передала написанное посланникам – и вот уже те мчатся во весь опор на юг… к тебе, Шабака. Только не смотри на меня с таким недоверием: я верно говорю.
– Хорошо, что ты мне это сказала, Карема, потому как через одну луну я оказался бы там, где меня не нашли бы никакие посланники. Но теперь я обожду, а ты пока расскажи все Бэсу. Как думаешь, он даст мне войско для похода в Египет, если будет надобность?
Карема кивнула и сказала:
– Конечно, и тому есть три причины. Во-первых, он любит тебя, во-вторых, ему тоже наскучили Эфиопия и такая жизнь – в роскоши и лености, и, в-третьих, я скажу ему, что так надо.
– Тогда к чему другие две причины? – рассмеявшись, сказал я.
Итак, я остался в городе Саранчи и стал обдумывать, как организовать передвижение войска, чем его кормить и как поддерживать его боеспособность в течение полугода или года; помимо того, я заказал сотням искуснейших мастеров изготовить луки, стрелы и щиты. Бэс не возражал и ни в чем мне не препятствовал. Напротив, он всячески помогал скорейшему воплощению в жизнь всех моих начинаний, издавая соответствующие указы, и тут, как я догадывался, не обходилось без советов Каремы.
Так прошло три месяца, и я уже подумывал, не подвел ли Карему ее чудесный дар и что, если видение ее исходило не из сердца, а ненароком сорвалось с губ, лишь бы удержать меня в Эфиопии. Но она и в этот раз прочла мои мысли и только улыбнулась.
– Нет, Шабака, – сказала она, – просто с теми посланниками случилась беда: их захватило маленькое племя у пределов Эфиопии… вроде как из-за женщины. Но десять дней тому назад пограничные стражи их освободили.
И я снова стал ждать, и ждал до тех пор, пока наконец не объявились посланники: трое египтян и трое эфиопов, подавшихся в Египет изучать его мудрость. Они, все шестеро, в точности подтвердили слова Каремы, сказав, что из-за глупого слуги их захватил в плен вождь какого-то кочевого племени, потому они и задержались в пути. Затем они передали нам свитки, которые им удалось сберечь. Один свиток был посланием фараона к каруну Эфиопии, другой – от святого Танофера к Кареме и третий – от благородной Амады ко мне.
Дрожащей рукой я сорвал шелковую нить с печатями и стал читать. В послании говорилось нижеследующее:
«Брат мой Шабака.
Ты покинул Египет, сказав, что не вернешься, покуда я, жрица Амада, не позову тебя, а я ответила тебе, что такому не бывать. Еще ты сказал, что если и откликнешься на мой зов, то потребуешь себе награду – меня, а я ответила, что никогда не смогу быть твоей, ибо дважды дала обет Исиде. Так вот я призываю тебя и говорю, что, если ты придешь и победишь, и я буду еще жива, тогда, коли ты по-прежнему будешь того желать, я стану твоею. А дела обстоят так: Великий царь идет на Египет с несметным войском, ибо воинов у него – что песка в пустыне, и у Египта нет никакой надежды одолеть его в одиночку, без сторонней помощи. Он идет, чтобы поработить нашу землю, убить ее детей, сжечь ее храмы, разорить ее города и осквернить ее богов. Больше того, он идет, чтобы схватить меня и силой увезти в свой гарем, дабы подвергнуть унижениям.
Посему, во спасение богов наших и Египта, а также ради моего спасения, заклинаю тебя: приди и выручи нас. Я все так же люблю тебя, Шабака, да, но только в тысячу раз больше, хотя не знаю, любишь ли ты меня по-прежнему. И во имя этой любви я готова нарушить обеты Исиде и пренебречь ее местью, коли она действительно захочет мне отомстить, – я же, в свой черед, буду оберегать ее и поклоняться ей, моля, чтобы гнев свой она обрушила только на меня, а не на тебя. Я сделаю так по совету святого Танофера, по воле фараона и с согласия верховных жрецов Египта.
На этом я, Амада, заканчиваю мое послание. Выбирай же, Шабака, возлюбленный сердца моего».
Таково было послание, от которого у меня голова пошла кругом, а в душе разгорелось пламя. Но я не проронил ни слова – просто спрятал свиток под мантию и стал ждать. Через некоторое время Бэс закончил читать адресованный ему свиток, оторвал глаза от написанного и заговорил, сказав так:
– Хочешь ли ты, брат, увидеть, как летят стрелы и сверкают щиты в бою? Если да, случай такой представился. Фараон за самоличной печатью взывает ко мне и просит заключить союз между Египтом и Эфиопией. Он сообщает, что Царь царей идет на него войной и что если он захватит Египет, то, по его же словам, на том не остановится и двинется дальше на Эфиопию, ибо, как ему стало известно, там отныне правит некий карлик, похитивший некогда его Белую печать, а в соправителях у него некий египтянин, убивший некогда его наместника, Идернеса.
– И что скажет карун? – осведомился я.
Бэс закатил глаза и, повернувшись, к Кареме, спросил:
– А что скажет жена каруна?
Карема отложила в сторону свиток, который читала, и ответила так:
– Она скажет, что получила приказ от своего повелителя, святого Танофера, немедленно прибыть к нему, а зачем – он объяснит по ее прибытии, иначе проклятие его ляжет на нее, детей ее, страну ее и мужа ее, и не только на них, но и на духов, которые служат ему.
– Проклятие святого Танофера – дело нешуточное, – сказал Бэс, – и я, почитающий его, знаю это, как никто другой.
– Нет, муженек, и потому я отправляюсь в Египет как можно скорее. Похоже, сестра моя умерла в прошлом году и святому Таноферу некем заменить Чашу.
– И что прикажешь делать? – спросил Бэс.
– Тебе решать, муженек. Но, если хочешь, можешь остаться здесь и приглядывать за нашими детишками, а водительство войском перепоручить благородному Шабаке.
Поскольку мы были одни, Бэс скорчил гримасу, закатил глаза и расхохотался, как делал это обыкновенно, прежде чем стал каруном Эфиопии.
– О-хо-хо, женушка! – наконец сказал он. – Значит, ты задумала податься в Египет, а меня оставить здесь, чтобы я забавлялся, как нянька, с детишками и чтобы войсками верховодил мой брат, а я, сидючи здесь, приглядывал за стариками да женщинами. Нет уж, у меня другое мнение. Решено, я тоже пойду, если, конечно, брат не против. Не он ли спасал мне жизнь, а я – ему, и все такое? Так что сказано – сделано. Выходит, нам снова суждено сражаться с тобой бок о бок, брат, а после будь что будет, пусть судьба нас рассудит. Скажи лучше, сколько у нас лучников да меченосцев и можем ли мы выступить против Великого царя, с которым у меня, как и у тебя, свои счеты?
– Семьдесят пять тысяч, – доложил я.
– Прекрасно! Стало быть, через пять дней выдвигаемся с войском в Египет.
Глава XVI Танофер находит свою разбитую Чашу
Итак, мы выдвинулись в поход – но не через пять дней, а через пятнадцать, поскольку уж больно затянули с подготовкой. Первым делом надлежало узнать мнение совета эфиопов, выразителя воли народа. Поначалу дело не заладилось – поскольку многие были против войны на чужедальней земле, хотя Бэс уверял всех, что лучше самим напасть, чем ждать, когда нападут на тебя. На это члены совета возразили, и справедливо, что здесь, в Эфиопии, защитой нам служат отдаленность и пустыня, к тому же Царь царей, сколь бы велика ни была его сила, несомненно, ослабеет и оголодает, прежде чем ступит в пределы Эфиопии.
В конце концов узел удалось рассечь мечом: когда в войсках прознали о споре, все, от командиров до простых воинов, стали ратовать за дальний поход, ибо, повторюсь, эфиопы, все как один, были прирожденными воителями, а поблизости не было ни одного врага, с которым можно было бы свести счеты. Поэтому, когда совет понял, что ему придется выбирать между тем, вести ли войну за пределами Эфиопии или подавлять военный мятеж в ее пределах, он уступил, хотя и выдвинул одно непременное условие: чтобы дети каруна не покидали родную землю, ибо, если с ним что случится, на родине у него останутся единокровные наследники.
В довершение всего жрецы обратились за советом к Саранче – и она дала им благие знамения. Оказывается, как мне потом сказали, ее огромный золотой идол как будто вскинулся на задние лапы и зашевелил усищами, что случалось лишь перед тем, как на эфиопскую землю обещала снизойти чудесная благодать. Это напомнило мне поведение статуй наших египетских богов, с поклоном встречавших представляемого им новоиспеченного фараона, или реакцию той же Исиды, которая благосклонным кивком приветствовала Амаду, вознесшую молитвы этой Божественной матери. По правде говоря, я подозревал, что без Каремы тут явно не обошлось. Но что случилось, то случилось.
Наконец мы выступили в поход – несметной силой, Бэс командовал меченосцами, а я, будучи у него в подчинении, – лучниками общим числом больше тридцати тысяч человек; меня охватила непередаваемая радость, когда мы сказали все прощальные слова и высвободились из толпы плачущих женщин. Поначалу Бэс с Каремой очень тосковали, расставшись со своими чадами, но через некоторое время снова повеселели, поскольку один предвкушал мгновение, когда извлечет меч из ножен, а другая – когда увидит пески Египта.
Долго рассказывать о походе я не стану – скажу только, что продвигались мы медленно, хотя никто не смел чинить препятствий столь могучему войску. Поскольку передвигаться приходилось пешим ходом, за день мы покрывали не больше пяти лиг[35]: даже когда мы подошли к реке, лодок все равно на всех не хватило, к тому же одну пришлось выделить для Каремы с ее свитой. Помимо всего прочего, по дороге надо было кормить и то и дело подгонять скотину. Тем не менее на всем пути до Египта ни один из наших не занедужил, не получил увечий и не возроптал.
Когда мы подошли к пределам Египта, нас уже встречали посланцы фараона – они передали нам свитки в ответ на наши, в которых мы перед тем извещали его о нашем прибытии. Вести от фараона были скупые и безрадостные. Из них явствовало, что Великий царь с бессчетными полчищами захватил все города в Дельте[36] и после долгой осады взял в мешок и завладел Мемфисом, вследствие чего египетское войско после отчаянных стычек на суше и на Ниле было вынуждено отступить на юг, к Фивам. Фараон писал также, что он предложил упрочиться в укрепленном городе Амада, ибо никто не ведал, что сталось с войском Нижнего Египта: сдалось ли оно на милость захватчиков с Востока или отступило, поднявшись вверх по Нилу. Фараон благодарил и благословлял нас за обещанную помощь и просил поторопиться, чтобы избавить Египет от порабощения, а его самого – от верной смерти.
Среди переданных нам свитков было и адресованное мне послание от Амады, в котором она писала:
«О, приди же скорее! Поспеши, возлюбленный мой Шабака, если не хочешь застать меня среди мертвых, ибо я ни за что не сдамся в руки Великого царя. Времени у нас совсем не осталось, и, хотя Амада укреплена достаточно, нам, боюсь, недолго суждено противостоять таким громадным полчищам, да еще с боевыми машинами».
Были среди свитков и послания к Кареме от святого Танофера, писавшего в том же духе: если мы-де не подоспеем через луну по получении нами свитков, все будет кончено.
Прочитав послания, мы стали держать совет. Затем двинулись дальше с удвоенной скоростью, отрядив вперед самых быстрых гонцов с просьбой к фараону держаться с войском до последнего копья, до последней стрелы.
На двадцать пятый день по получении этих известий мы подошли к большому приграничному городу и застали тамошних жителей в панике: казалось, они и правда обезумели от страха. Там мы переночевали и отведали разных угощений, которыми нас на славу потчевали горожане. Затем, отрядив арьергард в пять тысяч человек из числа самых уставших удерживать город, мы поспешили дальше, тем более что до Амады оставалось еще четыре дня пути. На четвертый день утром нам сообщили, что город то ли вот-вот падет, то ли уже пал, и, когда он наконец показался перед нами, мы увидели, что его осаждают и впрямь неисчислимые восточные полчища, а на Ниле собралась огромная флотилия с греческими и киприйскими наймитами. Хуже того, подоспевшие к нам вскоре посланцы Царя царей объявили: «Сдавайтесь, дикари, иначе еще до следующей зари все как один уснете вечным сном».
На это мы ответили, что прежде будем держать совет, а там, может, и решим поутру сдаться, ибо, выдвинувшись из Эфиопии, мы даже не представляли себе, сколь велико на самом деле царево войско, потому как были сбиты с толку извещениями фараона. И что при всем том было бы мудро со стороны Царя царей оставить нас в покое, поскольку отваги и стойкости нам не занимать, а стало быть, ему и впрямь лучше бы отпустить нас обратно в Эфиопию, нежели потерять свое войско в смертельной схватке с нами.
С этими словами, а произнес их сам Бэс, посланцы отбыли восвояси. Однако один из них, судя по всему, человек не из последних, громко крикнул своим спутникам, что негоже-де высоким сановникам выполнять подобные поручения и вести переговоры не с человеком, а с обезьяной, чье место скорее на цепи, подвешенной к столбу. Бэс ничего не ответил – только завел свои желтоватые глаза, а когда обидчик был уже далеко и не мог его слышать, сказал:
– Клянусь же Саранчой и всеми египетскими богами, что в отместку за подобное оскорбление загоню все войско Великого царя в Нил да там и утоплю, а этого мерзавца посажу на цепь и подвешу к носу царского струга.
Такого от него я никак не ожидал.
Итак, когда посланцы отбыли, Бэс распорядился накормить войско и потом всем ложиться спать.
– Думаю, – сказал он, – Царь царей не станет нападать на нас прямо сейчас, ибо надеется, что, увидев, какая у него сила, мы этой же ночью уберемся прочь.
И вот эфиопы насытились и улеглись спать, благо им это удавалось во всякое время, даже когда они не были настолько уставшими. А пока они отдыхали, Бэс, я и Карема с несколькими военачальниками долго и обстоятельно совещались. Ибо, сказать по чести, совершенно не знали, что делать дальше. Но в лиге отсюда лежал город Амада, осажденный сотнями тысяч захватчиков с Востока так, что в город и из города и мышь не могла проскочить, а за городскими стенами укрывались остатки фараонова войска числом не больше двадцати тысяч человек, если все, что мы слышали, было правдой. Кроме того, на Ниле стояла крупная греческо-киприйская флотилия численностью более двух сотен кораблей, хотя, насколько нам было видно в лучах закатного солнца, многие из них отошли к западному берегу, где египтянам их было не достать.
В остальном же позиция наша была неплохая: мы расположились на пустынной возвышенности перед распаханными землями, примыкавшими к восточному берегу Нила. А прямо перед нами, отделяя нас от южного крыла царева войска, простиралось непроходимое болото – и наступать с этой стороны в безлунную ночь не представлялось никакой возможности. Наконец, главные силы восточного войска числом двести тысяч человек, а то и больше размещались к северу от Амады.
Все это мы обсуждали хоть и тихо, но истово, сидя под шатром, пока совсем не стемнело и нам уже было не разглядеть лица друг друга и пока рядом спали крепким сном наши воины, которых у нас сейчас насчитывалось под семьдесят тысяч человек.
– Мы в ловушке, – наконец проговорил Бэс. – Если будем сидеть и ждать их наступления, они задавят нас числом. А если отойдем, они нагонят нас на верблюдах и лошадях и всех перебьют; к тому же у них есть корабли, а у нас ни одного. Если же мы сами пойдем в наступление, то только через болото и без всякого прикрытия, но тогда мы там все и увязнем. А фараон меж тем гибнет за стенами Амады, которые, того и гляди, сокрушат вражьи тараны. Клянусь Саранчой, я ума не приложу, что делать. Похоже, мы напрасно проделали весь этот путь и не многим из нас будет суждено снова увидеть Эфиопию, да и судьба Египта уже предрешена.
Я молчал, поскольку мое полководческое искусство здесь было бессильно, да и сказать мне было нечего. Молча сидели и командиры, и только Карема, истинно женская натура, всплакнула, да я и сам готов был расплакаться, думая, каково сейчас Амаде в ее храме: ведь она, должно быть, сидит там, как овечка в загоне, и ждет, когда придет мясник и поведет ее на заклание.
И вдруг за входом в шатер, хотя я думал, что он завешен, послышался чей-то низкий голос:
– Я всегда замечал, что эти эфиопы туго соображают после захода солнца, чего не скажешь о египтянах.
Странный этот голос показался мне до боли знакомым, но я, как и остальные, не проронил ни слова, потому что все мы испугались и решили, будто он нам почудился. Да и кто мог незаметно подобраться к нашему шатру, обойдя тройное оцепление? Словом, мы застыли как вкопанные, вперившись во тьму, и сидели так, пока ее не разредил мерцающий огонек, похожий на промелькнувшего светляка, как оно часто наблюдается в Эфиопии. Огонек все разрастался, а мы так и сидели, затаив дыхание от страха, покуда в свете огонька не возникла фигура – фигура со старческим, иссохшим лицом, незрячими глазами и седой бородой, какая была только у святого Танофера. В самом деле, невысоко над землей в зыбком свечении мало-помалу обозначилась голова святого Танофера, возникшая, будто отражение от пламени ближайшего бивачного костра.
– О возлюбленный мой повелитель! – воскликнула Карема и тут же бросилась к нему.
– О возлюбленная моя Чаша! – молвил в ответ Танофер. – Рад, что ты цела и невредима.
Вслед за тем полыхнул факел, и – нате вам! – перед нами предстал сам святой Танофер в своей мрачной хламиде.
– Откуда ты взялся, дядюшка? – изумился я.
– Уж не из дальнего далека, как ты, племянничек, – ответил он, – а прямиком из Амады. Спросишь – как? Это просто, ежели ты старый, нищий слепец, знающий дорогу. Кстати, если у вас осталась какая снедь, я бы с радостью поел чего-нибудь, да и попил, поскольку в Амаде последнее время каждый кусок на счету, а к нынешней ночи из съестного и вовсе почти ничего не осталось.
Карема выбежала из шатра и вскоре вернулась с хлебом и вином, чему Танофер несказанно обрадовался.
– Давненько не пивал я такого крепкого напитка, – признался он, осушив кубок. – Но уж лучше нарушенный обет, чем разум, особливо когда есть над чем подумать и что сделать. Во всяком случае, надеюсь, боги сказали бы то же самое, случись мне повстречаться с ними прямо сейчас. Ну вот, кажется, я снова полон сил. А теперь скажите, какая у вас сила?
– Мы рассказали.
– Хорошо. И что думаете делать?
Мы покачали головами, потому как не знали, что сказать.
– Бэс, – строго молвил он, – похоже, став царем, ты совсем отупел… хотя, может, виной тому твоя женитьба. Ведь все минувшие годы ты строил планы один хлеще другого, да так, что они не успевали слетать с твоих толстых губ. А ты, Шабака, неужто растерял всю свою воинскую удаль да смекалку, которой у тебя было с лихвой, под ласковым ветерком Эфиопии? Или, может, тень неудавшейся женитьбы помутила твой разум? Что ж, тогда спросим женщину, единственную среди стольких мужчин. Так что можешь предложить ты, Карема? Говори скорей, ибо время не ждет.
Тут лицо Каремы застыло, глаза затуманились, и она заговорила медленным, размеренным голосом, будто знала наверняка, что говорит:
– Предлагаю сокрушить все воинство Великого царя и освободить город Амаду.
– Отличный план, – согласился святой Танофер, – загвоздка лишь в том – как?
– Сдается мне, – продолжала Карема, – есть в лиге отсюда, вверх по течению, место, где в это время года Нил может перейти вброд любой, кто большого роста, даже не замочив плеч. Так что первым делом я отправила бы к тому броду пять тысяч меченосцев, дабы, перейдя реку, они могли подкрасться к кораблям Великого царя и поджечь их, покуда люди на них бражничают в беспечности своей или спят мертвым сном. Южный ветер нынче крепок – и корабли заполыхают один за другим. Их команды большей частью поглотит огонь, а остальных добьют пять тысяч наших меченосцев.
– Превосходно! Просто замечательно! – сказал святой Танофер. – Но этого мало, ибо на восточном берегу собрались полчища численностью больше двухсот тысяч воинов. Так как же быть с ними, Карема?
– Кажется, я вижу дорогу за тем болотом. Она тянется вдоль края пустыни за барханами. Я отправила бы лучников, которых у нас больше тридцати тысяч, под водительством Шабаки по той дороге, и она вывела бы их аккурат за Амаду. По ту сторону от города стелются низкие каменистые холмы. Там я укрыла бы лучников до рассвета. А на рассвете они увидели бы внизу большую часть восточного войска и смогли бы засыпать стрелами из своих луков всю равнину от холмов до самого Нила, к тому же с таким количеством стрел – по сотне на человека – они запросто уложили бы десять тысяч неприятельских воинов, а после, когда остальные бросились бы на них в атаку, добили бы их на ходу, пронзая одной стрелой двоих сразу.
– Опять же неплохо, – согласился Танофер. – А как насчет войска Великого царя, что стоит по эту сторону от Амады?
– Думаю, еще до рассвета, полагая, что нас совсем немного, оно выдвинется вперед и с первыми лучами солнца начнет пробиваться через болото, поэтому нам не худо бы выставить против него пять тысяч лучников. А когда неприятель все же прорвется, хоть и с потерями, он наткнется на наши плотные ряды с сомкнутыми щитами, но ни конные враги, ни пешие не пробьют в них бреши, ибо еще никому не удавалось вбить клинья в ряды эфиопов, обученных Шабакой и каруном Бэсом. Я говорю: они откатятся, как валы от утеса, и так снова и снова, и все реже и реже, покуда шум битвы и крики ужаса и боли не долетят до их ушей со стороны Амады, где Шабака с лучниками будет крушить вражье войско с другой стороны и пока вид полыхающих кораблей не ввергнет их в ужас и они наконец не обратятся в бегство.
– Неплохо-неплохо, – одобрительно сказал святой Танофер. – Но с обоих фронтов все едино останется немало врагов, ибо восточному воинству нет числа. Как же быть с ними, о Карема?
– С этими управился бы и фараон с остатками своих сил, выдвинувшись через северные и южные ворота Амады, иначе они там станут подобны раненым львам, оказавшимся меж двух разъяренных буйволов, которые забодают их и затопчут, – словом, сокрушат всех подчистую. Единственное, я не знаю, как это передать фараону и когда.
– Хорошо-хорошо, – снова согласился святой Танофер, – очень хорошо! Что до фараона, я сам скоро ему все передам. Странно, моя треснувшая Чаша, которую я едва не выбросил за ненадобностью, хоть ты и со сколами, однако ж мудрость свою не растеряла. Знай же, как это ни удивительно, все эти планы, которые ты нам тут изложила, пришли в голову и мне, просто я хотел убедиться, сочтешь ли ты их мудрыми или нет.
С этими словами он рассмеялся, а Карема простерла вперед руки, будто очнувшись от сна, потерла глаза и спросила, не желает ли он еще откушать.
Но Танофер уже говорил о другом – быстро и четко.
– Бэс, о царь, – сказал он, – ты, конечно, готов исполнить волю своей жены. А посему пора воинам пробудиться и взяться за оружие. Волею случая там снаружи ждут четверо моих верных людей. Двое из них проведут пять тысяч ваших воинов через брод и дальше к кораблям. А двое других поведут Шабаку с лучниками по дороге, которую Карема знает как свои пять пальцев, наверно, потому, что бродила по ней в детстве. Я же вернусь в Амаду, дабы удостовериться, что фараон сделает свое дело, и своевременно. И еще, если за ночь не управимся, завтра Амада падет, кое-кто из жриц умрет и ты, Бэс, и воины твои больше никогда не увидят Эфиопию. Договорились?
Я кивнул, потому что не хотел тратить время на разговоры, а Бэс завел глаза и ответил:
– Ежели кому отказывает разум, тому не худо прислушаться к добрым советам других, да и охотником быть куда лучше, чем дичью. И особливо стоит прислушиваться к тому, что говорит святой Танофер или его разбитая Чаша. Командиры, вы все слышали. Поднимайте же воинов, призовите всех к оружию и построению!
Командиры мигом выскочили из шатра, метнувшись во тьму, точно стрелы из лука, и следом за тем мы услыхали шум: воины строились в боевые порядки.
– Где же твои проводники, святой Танофер?
Танофер глянул через плечо, подав знак, и прямо из темноты один за другим возникли четверо и прошли в шатер. То были до странности спокойные люди – больше ничего о них сказать не могу, поскольку их лица были скрыты под покрывалами, да и после битвы мне не было суждено увидеть никого из них: наверное, они погибли… А может, когда еще и объявятся, кто знает.
– Вы все слышали, – обратился к ним Танофер, на что они ответили, склонив свои таинственным образом покрытые головы.
– А ну-ка, брат, – шепнул мне на ухо Бэс, – скажи мне, сделай милость, как эти четверо, находясь снаружи, могли слышать, о чем говорилось в шатре, и как они умудрились пройти через посты, которым было приказано убивать на месте всякого, кто не знает пароль, тем более что головы у них закутаны в покрывала?
– Ума не приложу, – ответил я, на что Бэс только простонал, а Карема едва заметно улыбнулась, словно про себя.
– Ну, а раз слышали, выполняйте! – велел святой Танофер, на что те четверо опять же ответили поклоном.
– Но разве ты не скажешь им, что они должны делать, о высокочтимый? – нерешительно полюбопытствовал Бэс.
– Думаю, это ни к чему, – сухо ответил Танофер. – Зачем учить ученых?
– А почему ты не предложила им поесть, ведь они, наверное, тоже голодны? – спросил я Карему.
– Молчи, глупец! – с презрением ответила она. – Разве… друзья… Танофера нуждаются в пище?
– Думаю, да, и еще как, тем более что после месячной осады города немудрено оголодать. И если их господин хочет есть, почему бы их тоже не накормить? – пробурчал я.
Тут меня осенило – и я прикусил язык.
Вслед за тем один из командиров вернулся доложить, что все приказы выполнены и воины, все как один, построены.
– Хорошо, – сказал Бэс. – Тогда бери пять тысяч человек, выдвигайся к Нилу и сожги эти корабли, чтобы все было по плану, предложенному царицей Каремой, да ты и сам все слыхал, – он перечислил отряды, которые ему надлежало взять с собой, те самые, что находились в непосредственном подчинении его, Бэса, а после прибавил: – Впрочем, несколько кораблей все же оставь – потом переправишься на них вместе с людьми обратно и присоединишься ко мне или к отряду благородного Шабаки, опять же все по плану. И да поможет тебе Саранча добыть победу и не потерять мудрость!
Командир отдал честь и спросил:
– Кто же поведет нас вброд через великую реку?
Двое с покрывалами на лицах выступили вперед, и при виде их командир шепнул мне на ухо:
– Не нравится мне их личина. Молю Саранчу, чтоб они не заманили нас в реку смерти.
– Не бойся, командир, – молвил святой Танофер из дальнего конца шатра. – Если ты и люди твои справятся с порученным делом и проводники не подкачают, корабли уж точно сгорят заодно со всеми людьми. Только не забудьте взять с собой огонь.
После такого напутствия командир с напуганным видом отбыл в сопровождении двух проводников – и вскоре выдвинулся к Нилу во главе пяти тысяч меченосцев.
Тут Бэс посмотрел на меня и сказал:
– Думаю, и тебе пора выдвигаться с лучниками, брат. Надеюсь, святой Танофер покажет вам дорогу.
– Нет-нет, – ответил Танофер, – дорогу ему покажут мои проводники. Не сомневайся, Шабака. Или я оставил тебя там, на Востоке, когда ты угодил в лапы Царя царей и когда смерть ходила по пятам не только за тобой, но и за Бэсом?
– Не знаю, – ответил я.
– Не знаешь, зато я знаю, да и Бэс с Каремой тоже знают, ибо кто-то отправляет послания, а кто-то получает. И уж коль я не оставил тебя тогда, неужто оставлю сейчас, когда Египет в страшной беде? Ступай за проводниками, которых я тебе даю, и… – тут он потянулся к колчану со стрелами, лежавшему на земле около меня, достал с несвойственной слепцу ловкостью одну, с двумя черными перьями и одним белым на конце, и продолжал: – …попомни мои слова, когда пустишь эту стрелу из своего большого лука и увидишь, куда она попадет.
– Ступай за проводниками, которых я тебе даю
Тогда я повернулся к Бэсу и спросил:
– Где же мы снова встретимся?
– Не могу сказать, брат, – ответил он. – Может, в Амаде. А если нет, то у престола Осириса или на полях Саранчи, или же во мраке, что поглощает все и вся, даже богов заодно с людьми.
– Карема пойдет со мной или останется с тобой? – снова спросил я.
– Ни то, ни другое, – прервал нас Танофер, – она пойдет со мной в Амаду, потому как может мне понадобиться, да и там ей будет безопасней. О, ничего не бойтесь, ибо всякий отшельник, хоть и нищий, думает о своих подопечных и о своей Чаше, хоть и треснувшей.
После этого я пожал Бэсу руку и ушел, недоумевая, то ли это явь, то ли сон; последнее, что я видел в шатре, – прекрасное лицо Каремы, улыбавшейся мне. Я счел это добрым знаком, потому как знал, что мне улыбнулся сам святой Танофер в сердце своем, а ее глаза были зеркалом его души.
И вот уже тридцать тысяч моих лучников были готовы выступить в поход, и я, удостоверившись, что их колчаны полны стрел, а фляги – воды, выдвинулся впереди отряда следом за двумя проводниками. Я поглядывал на них с настороженностью, поскольку опасно было доверять войско незнакомцам: ведь они могли заманить нас прямиком в стан наших врагов. Но тут я вспомнил, что за них поручился сам святой Танофер, мой двоюродный дед, которому я доверял, как ни одному другому человеку на свете, и сразу успокоился.
Как же он все-таки подобрался к нашему шатру, недоумевал я, и как он, слепец, думает вернуться в Амаду, хоть бы и с Каремой, если и правда возьмет ее с собой? Что ж, пути святого Танофера неисповедимы: ведь он больше похож на духа, чем на человека. Быть может, на самом деле мы видели не его самого, а то, что у нас, египтян, называется Ка, – его двойника, который может перемещаться с места на место по своему хотению. Но разве Ка могут голодать? Насколько я был сведущ в таких делах, подношения – снедь и питье – возлагают разве что на их усыпальницы. В общем, как бы там ни было, предоставив святому Таноферу поступать как знает, я стал размышлять о предстоящем нам деле – о том, как застать врасплох войско Великого царя.
Обогнув болото, мы вышли на неровную возвышенность, и, хотя в темноте было почти ничего не видно, я знал, что мы продвигаемся вверх по склону. Вскоре мы перевалили через гребень холма, и, когда спустились по ту его сторону примерно на тройное расстояние полета стрелы, я почувствовал, что шагнул на дорогу. Здесь проводники свернули влево, и мое войско числом тридцать тысяч лучников цепочкой двинулось за ними следом. Так мы шли в полной тишине, поскольку никакой скотины с собой не гнали и наши ноги, обутые в сандалии, ступали почти бесшумно; к тому же по цепочке был передан приказ всем держать рот на замке – того же, кто нарушит приказ, ожидала смерть.
Мы шли так часа два, может, больше, затем опять повернули налево, потом снова двинулись вверх по склону, и я смекнул, что мы, должно быть, уже обошли Амаду. Тут проводники внезапно остановились – по команде, переданной по цепочке, остановились и мы. Один из проводников тронул меня за плащ, отвел чуть в сторону – к гребню холма – и, вскинув белый рукав хламиды, указал куда-то вниз. Я глянул в ту сторону и увидел там, внизу, на расстоянии полета стрелы тысячи бивачных костров в стане царева войска: на сильном ветру они полыхали очень ярко, и пламя от них металось из стороны в сторону. Огни простирались вдаль на целую лигу, и мы находились аккурат напротив середины этой огненной цепи.
– Смотри, Шабака, предводитель войска, – впервые за все время заговорил проводник свистящим шепотом, как будто у него не было губ, – у твоих ног спит восточное воинство, столь огромное, что ему даже не было надобности выставлять охранение здесь, на хребте. Построй же лучников в четыре шеренги, так, чтобы с первыми проблесками зари они могли укрыться за скалами и стрелять, не задевая друг дружку. Ты же сам стань здесь, посередине, чтобы твое знамя было видно всем как с севера, так и с юга. А я со спутником моим проведу лучников из головного твоего отряда дальше, где хребет спускается к Нилу, чтобы они встали преградой и разили всякого, кто попытается бежать вниз по реке. Остальное за тобой, ибо мы всего лишь проводники, а не полководцы. Собирай же своих командиров и отдавай приказы!
Мы вернулись к войску, я созвал всех командиров, рассказал, что им надлежит делать, и распустил их по своим отрядам.
Некоторое время спустя головной отряд из десяти тысяч человек тронулся в путь и скоро скрылся из вида, а вместе с ним исчезли и оба облаченных в белые хламиды проводника, и я их больше никогда не видел. Затем я расположил в порядке готовности главные свои силы, насколько это было возможно в темноте, и велел всем отдыхать или ложиться спать, если кто мог уснуть… А чуть погодя, за полчаса до рассвета, распорядился, чтобы все поели и напились, благо снедь и воду каждый нес с собой, и приготовили к бою луки и колчаны со стрелами. Покончив с этим, я взял несколько доверенных человек, состоявших при мне посыльными и телохранителями, и поднялся с ними на гребень холма, то есть на вершину склона, – там мы залегли и стали наблюдать.
Глава XVII Битва… и после
Минуло два часа, и по звездам я определил, что скоро займется рассвет. Взгляд мой был прикован к Нилу – к огням, что мерцали на носу кораблей Великого царя. Где же они – те, кому надлежало их поджечь, недоумевал я, поскольку никого из наших не мог разглядеть издалека. Что ж, им предстояло пройти долгий путь и к тому же перейти реку вброд. Может, они еще не подоспели, а может, у них что-то не заладилось. Как бы там ни было, на кораблях царевой флотилии все было спокойно. Ни тебе сигналов тревоги, ни суеты часовых.
Наконец забрезжил рассвет, и у меня за спиной послышались шорохи: это поднимались эфиопские воины и тут же принимались за еду, как им было велено, – так что я тоже решил поесть и напиться, хотя был совсем неголоден, чего прежде за мной никогда не замечалось. Покуда на востоке мало-помалу светлело, гладь Нила вдруг озарилась вспышкой не то упавшей звезды, как мне сперва показалось, не то фонаря, раскачивавшегося на ветру, который в это время года дует довольно сильно, особенно на рассвете. Но вот огонек разгорелся ярче – и надо же, в следующее мгновение я увидел, как такелаж одного из кораблей объяло пламя.
Оно пожирало снасть за снастью, парус за парусом, разгораясь все сильнее, при том что то же самое происходило и на других кораблях, стоявших ближе к нам, – и в конце концов огонь поглотил их целиком, будто накрыв огромным красным плащом. Наши не сплоховали – флотилия Царя царей полыхала ярким пламенем! И пламя это раздувалось вширь крепкими порывами ветра. Огонь переметывался с корабля на корабль, точно живое существо, потому как они стояли борт к борту, уткнувшись носом в берег, и развести их не представлялось никакой возможности. Впрочем, некоторым все же удалось отойти от берега, но они были объяты пламенем, а на ходу да под таким ветром оно разгоралось еще быстрее. Не успело солнце верхним краем показаться над горизонтом, как на протяжении лиги, а то и больше все обратилось в сплошной костер – с горящих кораблей доносились душераздирающие крики, а огонь буйствовал все сильнее, словно торжествуя свою великую победу.
Однако наблюдать за происходящим и дальше у меня не было времени: надо было подниматься и действовать. Небо посерело, но и блеклого света хватало, чтобы оглядеться кругом. И вот, наскоро осмотревшись на местности, я понял, что лучшей позиции для лучников было не сыскать. Спереди склон представлял собой крутой откос длиной под сотню шагов, а то и больше, сплошь заваленный каменными глыбами, – лучшего укрытия для лучников не придумать. Дальше склон был сплошь песчаный и пологий, и взбираться по нему неприятелю было бы трудно. Еще ниже простиралась уходившая вдаль равнина, где и размещался стан захватчиков с Востока, а за долиной, не более чем в двух стадиях от ее дальнего края, уже виднелись берега Нила.
Да уж, для столь великого войска позиция была выбрана неудачно: оно там едва могло разместиться, ибо лагерь тянулся на целую лигу в длину, и на всем его протяжении яблоку негде было упасть. Вот из рассветной дымки показались и неприятельские шатры: их было видимо-невидимо, и тянулись они вдаль, насколько хватал глаз, а почти напротив меня, ближе к речному берегу, возвышался огромный, расшитый золотом шелковый шатер, служивший, как я сразу догадался, укрытием его величеству Царю царей. Я убедился в этом наверняка, когда разглядел полоскавшееся над ним царское знамя, уж больно хорошо мне знакомое, поскольку с него-то и была сорвана Белая печать печатей, которую я потом похитил. Воистину у святого Танофера, или его Чаши – Каремы, или его посланцев, или духов, с которыми он разговарвал, – кто его знает – был наметанный полководческий глаз, безошибочно угадавший лучшее место для смертельной западни.
Так думал я, когда спешил обратно к моему войску, чтобы собрать командиров и привести все дела в порядок. Много времени на это не ушло, поскольку командиры пребывали в боевой готовности, как и грозные эфиопские воины, набравшиеся сил после отдыха и трапезы: каждый из них уже успел натянуть тетиву на свой лук и развязать пучки стрел в колчане. Когда я подошел к ним, они вскинули руки в приветственном жесте, ибо не смели поднять голос, и я негромко сказал, пустив слова по их рядам, что пришел день, когда им суждено сразиться и победить либо погибнуть во славу Эфиопии и своего царя. Затем я отдал предварительные приказы – и еще до восхода солнца лучники выдвинулись вперед четырьмя шеренгами, укрылись за камнями, припав ничком к земле, и стали ждать решающего мгновения.
Краем багряной своей мантии Ра величественно показался на востоке, я присел за камнем, который выбрал себе в качестве укрытия, и огляделся. О, вот уж действительно, Танофер или египетские боги распорядились так, что обстоятельства благоволили нам. Необъятный неприятельский лагерь пробудился, встревоженный тем, что случилось на Ниле. Но рассмотреть происходящее им было не с руки: мешали высокие прибрежные камыши; и тогда, плюнув на приказ и дисциплину, они многотысячной толпой – точно сказать было невозможно, – кто с оружием, кто без, кинулись к песчаному склону прямо под нашими укрытиями и полезли по нему все выше, силясь получше рассмотреть полыхавшие вовсю корабли.
Солнце, как водится в Египте, взошло быстро. Его сияющая кромка озарила гребень холма, оставив низины до поры в тени. Время пришло. Я досчитал до десяти, глянул вправо-влево, чтобы удостовериться, что все готовы, и чтобы подпустить скопище врагов поближе, но не дать им подойти к нижней кромке каменных глыб, к которым они мало-помалу подбирались. Затем я подал двойной сигнал – и на него тут же последовал ответ.
За спиной у меня взмыло знамя золотой Саранчи на высоком древке и заколыхалось на ветру. То был первый сигнал – по нему все вскочили на одно колено и приложили стрелы к тетивам. Затем я вскинул свой лук – старинный черный лук, который пускал в ход в исключительных случаях, – и натянул тетиву до самого уха.
Вдали, за пределами дальности полета стрелы, как сказали бы многие, развевалось знамя Великого царя над его шатром. Туда-то я и целился – и, взяв поправку на ветер, спустил тетиву. Стрела рванулась вперед, сверкнув на солнце, и скрылась в тени, потом снова сверкнула, потом еще раз… и впилась в далекое знамя, пригвоздив его к древку!
При виде этого благого знака, восторженный рев прокатился по нашим рядам справа и слева – рев, вырвавшийся из тридцати тысяч глоток. Но вслед за тем он будто растворился в звуке, очень похожем на пронзительное шипение грозового ливня в Эфиопии, – звуке тридцати тысяч стрел, разом рванувших сквозь ветер. О, они были нацелены верно, все как одна, – стало быть, не зря я отдал столько времени и сил на обучение эфиопских лучников.
Сколько же врагов пало перед ними? Египетским богам это только и ведомо. Мне – нет. Единственное, что я знаю, так это то, что длинный песчаный склон, сплошь ощерившийся бегущими вверх людьми, вмиг покрылся убитыми – они лежали вповалку, будто спали. Да и какая кольчуга могла выдержать удары стрел ощетинившихся острыми железными наконечниками и выпущенных из тугих эфиопских луков?
И это было только начало, потому как летящих друг за другом стрел было столько, что их нескончаемый рой заслонил солнце. Вскоре на склоне не осталось ни одной живой мишени: они пали все до одной, и тогда последовал приказ поднять луки выше и стрелять по неприятельскому стану, целя главным образом по загонам с обозной скотиной. Так что скоро стоявшие там животные частью попадали замертво, частью разбежались в разные стороны.
Наконец восточные военачальники огляделись и смекнули, что к чему. С их стороны последовали громкие приказы – и многотысячная неприятельская орава отпрянула к берегам Нила, куда не долетали наши стрелы. Там неприятель перестроился в боевые порядки, и восточные военачальники стали держать совет. Впрочем, совещались они недолго, потому что скоро все их воинство, с целым скопищем лучников впереди, двинулось в сторону холма.
Тогда я передал команду по рядам эфиопам, среди которых никто не пострадал, снова залечь и ждать. Захватчики с Востока шли в наступление несметным скопищем, отливавшим пурпуром и золотом; их кольчуги и мечи ослепительно сверкали в лучах восходящего солнца. А их боевые порядки нельзя было охватить одним взглядом. Они подошли к песчаному склону, сплошь заваленному телами их убитых и раненых товарищей, и на миг застыли в недоумении, потому как не видели перед собой противника: чернокожие эфиопы прятались за черными камнями, а их черные же луки не отражали свет.
Затем от пышно разодетого десятитысячного отряда так называемых Бессмертных, среди которых, как я догадывался, был и Великий царь в окружении многочисленных телохранителей, отделились глашатаи и, выйдя вперед, выкрикнули приказ «в атаку!». И вся эта орава разом поперла вверх по зыбкому песчаному склону, а я ждал, пока их нескончаемые ряды не подойдут к нам на расстояние пятидесяти шагов, откуда они обрушили на нас град стрел, которые с треском ударялись в каменные глыбы, не причиняя нам ни малейшего урона. Тогда я велел трижды вскинуть знамя Саранчи, которое перед тем было опущено, – и после третьего взмаха вниз по-над склоном устремился тридцатитысячный рой наших смертоносных стрел.
Неприятель покатился вниз, отходя все дальше и дальше. А задние его ряды между тем напирали снизу все сильнее, ибо на них было обращено грозное око Великого царя и бежать с поля боя означало неминуемую позорную смерть в страшных муках. Мы не могли перебить и половины наседавших врагов: уж больно много их было. Теперь неприятельские передовые ряды находились уже в десяти шагах от нас – чтобы прицельно стрелять, нам пришлось встать на ноги, и наши воины тут же стали падать один за другим, сраженные вражьими стрелами. Я протрубил сигнал к отступлению в рог из слоновой кости, и мы неспешно, шаг за шагом попятились к гребню хребта, отстреливаясь на ходу. На гребне воины мигом перестроились в две шеренги, встав плотнее друг к дружке на всем протяжении наших рядов по правую и левую руку от меня. И тут я вспомнил трюк, который не раз отрабатывал с моими лучниками в Эфиопии.
Выхватив флажок, я подал сигнал прекратить стрельбу и повторил приказ устно, пустив его по рядам, так что в воздух больше не взметнулась ни одна стрела. Неприятель оторопел, заподозрив ловушку, или, может, решил, что у нас вышли стрелы, а я меж тем отрядил гонцов с приказом к нашим передовым отрядам как можно скорее отступить за холм. Не успел я это сделать, как услышал донесшийся снизу окрик:
– Великий царь повелевает сокрушить дикарей. Да будет так!
В следующее мгновение неприятельские орды хлынули неукротимой лавиной – но не вниз, а наверх. Я выждал, когда они подойдут к нам на расстояние двадцати шагов, и скомандовал «стрелять – ложиться!».
Первая шеренга выстрелила – и это было страшно: ни одна стрела не пролетела мимо цели, а многие пронизали сразу двоих, потому как неприятель надвигался сплоченными рядами. Мои лучники выстрелили и упали наземь, чтобы снова вставить стрелы в луки, и в тот же миг вторая шеренга выстрелила поверх них. Затем поднялась первая: дала выстрел – упала, и тут же вскинула луки вторая шеренга и обрушила на неприятеля новый смертоносный град стрел.
И вот захватчики с Востока приостановили наступление: передние их ряды лежали вповалку, и задним пришлось бы перебираться через павших, а это было бы крайне затруднительно. Да, застыв на месте, они только сверкали доспехами, в страхе не решаясь сделать вперед ни шагу, в то время как командиры подгоняли их мечами и копьями. Первая наша шеренга выпустила очередную лавину стрел – мы снова упали наземь, предоставив второй шеренге выстрелить поверх нас. Это было уже чересчур: никто не смог бы противостоять столь ошеломительному натиску. Враги тысячами валились как подкошенные – остальные в смятении попятились.
Тогда по моей команде рога из слоновой кости протрубили сигнал атаки. Наши, все до одного, перебросили луки за спину и выхватили короткие мечи.
– Круши их! – крикнул я и ринулся вперед.
Подобно черному потоку, низверглись мы с вершины холма, перепрыгивая через мертвых и раненых. Отступление неприятеля обратилось в беспорядочное бегство: перед лицом наших крепких, черных, как эбеновое дерево, широкоглазых воинов давшим слабину захватчикам с Востока было уже не устоять. Они бежали назад и кричали:
– Черные духи! Черные духи!..
Вскоре мы смешались с ними и обрушили на их головы и спины наши короткие мечи. Выбирать цели не приходилось: их было хоть отбавляй. Как стадо обезумевших баранов, развернулись они и в беспорядке побежали к Нилу. Мои команды услышал наш головной отряд, затаившийся в высокой траве на узком болотистом перешейке между каменистыми холмами и Нилом, – при подходе неприятеля наши из засады встретили их ливнем стрел, благо стрелять из-за подступавшего к тому месту каменного откоса было сподручно. Неприятельские колесницы вязли колесами в болоте, лошади и люди, сбившись в кучу, давили друг друга, и так продолжалось до тех пор, пока там не выросла стена из мертвых и умирающих. А мы рвались вперед и главными силами, и арьергардом. Мы наседали и наседали, покуда под стоявшем уже высоко солнцем не увидели, что Великий царь лишился доброй половины своего войска. Тогда мы перестроились, чтобы подсчитать наши потери, благо они были невелики, и напиться из Нила.
– Дело еще не кончено! – крикнул я.
Потому как Бессмертных оставалось еще немало и они плотно сомкнулись вокруг своего царя. Другие же неприятельские части, а там насчитывалась не одна тысяча воинов, по-прежнему удерживали позиции между нами и стенами Амады, при том что к югу от города располагалось второе царево войско, с которым должен был сразиться Бэс, но о том, удалось ли ему одолеть его, я не знал.
– Эфиопы! – воскликнул я. – Еще рано торжествовать победу, ибо битва только началась. К бою, покуда враг не спохватился!
И мы двинулись на Бессмертных всеми силами, благо теперь к нам присоединился и головной наш отряд.
Построившись в длинные цепи, мы пошли в наступление по залитой кровью равнине, и, завидев это, Великий царь бросил против нас оставшиеся колесницы. Но проку в них не было никакого, поскольку лошадям, хвала богам, было не увернуться от наших стрел. А я заготовил их впрок в изрядном количестве, и нас ими снабжали по мере надобности мальчики-оруженосцы. Словом, до нас докатило совсем немного вражьих колесниц, но и они были уничтожены до того, как успели врезаться в наши ряды.
Итак, колесницы были остановлены, а возницы – убиты, однако ж оставались еще построенные в каре Бессмертные. Мы обстреливали их из луков до тех пор, пока у нас не закончились стрелы, после чего, придя в неописуемый раж, они ринулись в атаку. Мы не стали дожидаться, когда они насадят нас на свои длинные копья, а, поднырнув под них, бросились на атакующих с короткими мечами – тогда-то и закипело побоище, жестокое и отчаянное, поскольку захватчики были закованы в кольчуги, а эфиопов защищали только короткие безрукавки из бычьей кожи.
Так мы бились, пока нас не начали теснить. В конце концов дело обернулось против нас – мы сотнями падали как подкошенные. И я уже подумал, не отступить ли нам на холмы, тем более что неприятель заметно превосходил нас численностью, а мы совсем выбились из сил. И вдруг – о чудо! – когда все, казалось, обернулось против нас, со стороны Амады послышался громогласный клич, и из распахнутых настежь городских ворот выкатили остатки фараонова войска числом, может, восемнадцать или двадцать тысяч человек. При виде этого я снова воспрял духом.
– Держитесь! – крикнул я нашим. – Держитесь!
И вот мы держались.
Египтяне с ходу набросились на неприятеля, и над их головами я видел реющее знамя фараона. Мало-помалу битва сместилась к берегам Нила, при этом мы находились на севере, египтяне наступали с юга, а неприятель метался между нами. Он пытался обойти нас с фланга, и ему бы это удалось, но тут на глади Нила показались какие-то корабли. Поначалу я подумал, что наше дело худо, ибо это могли быть струги греков или киприйцев, но вскоре я разглядел знамя Саранчи, развевавшееся на носу одного из них, и понял, что это те самые корабли, которые оставили себе пять тысяч наших воинов, спалившие остальную часть флотилии Великого царя. Вот они подошли к берегу, и с их палуб на прибрежный песок ринулось скопище из пяти тысяч воинов, или сколько их там было; не успев ступить на берег, они бросились крушить остатки восточных полчищ.
Мы пошли в атаку последний раз, а египтяне тем временем наседали с юга. Наконец – ха-ха! – ряды Бессмертных дрогнули. Мы вклинились в них. Я увидел фараона – узнал его по урею на шлеме. Он был ранен и окружен со всех сторон. Один из Бессмертных, здоровенный детина, ринулся на него с копьем и пронзил насквозь.
Фараон пал.
Я накинулся на злодея и сразил его, рубанув мечом по шее, но мой меч зацепил его кольчугу и разбился. Битва разгорелась с новой силой, меня оттеснили в сторону, и я увидел только, как фараона понесли прочь с поля брани. И тут – ба! – неподалеку от меня возник сам Великий царь на золоченой колеснице, Великий царь во всей своей славе, каким я видел его когда-то на далеком Востоке. Он тоже признал меня – и пустил в мою сторону стрелу из лука, думая, что это мой старый, добрый лук, не дающий промаха, при этом он вскричал: «Умри же, египетский пес!» Стрела пробила мой шлем, но голову не задела. Я было рванул к обидчику, но достать его не смог.
Началась настоящая бойня. Бессмертные были разбиты, как глиняные горшки. Они отступали, сбившись в кучи и отчаянно отбиваясь, – одна такая куча, самая большая, обступала Великого царя. Ненавистный мой враг ускользал от меня. У него остались лошади – он, наверное, рассчитывал прорваться к Нилу, соединиться со своими резервными частями и отступить дальше на Восток, а там собрать новые полчища, числом поболее, благо под его властью находились миллионы людей. Потом он вернется и сотрет Египет в пыль, ибо эфиопы уже не смогут прийти египтянам на выручку, а после захватит Амаду и отправит в свой гарем. Да вот они уже прорываются через окружение, а я так далеко от них и к тому же ранен в грудь и слегка – в ногу, да и меча у меня больше нет.
Что я мог поделать? Стрелы у меня тоже вышли, да и оруженосцы исчерпали все свои запасы. Ан нет, одна у меня в колчане все же осталась. Я достал ее. На конце у нее было два черных пера и одно белое. Кто же рассказывал мне о такой стреле? Я вспомнил: Танофер. Мне следовало раньше поразмыслить над смыслом его слов. Сейчас же, недолго думая, я вскинул лук и наложил стрелу на тетиву.
Но Великий царь был уже слишком далеко – большинству лучников его было не достать. Колесница царя мчалась впереди его недобитой охраны, а царская свита, некогда окружавшая его жалкую персону, рассыпалась по холмику, где когда-то ютилась деревня, ныне стертая с лица земли. Кольчуга Великого царя поверх шелковой мантии в лучах солнца переливала всеми цветами радуги, спина его была обращена ко мне.
Я натянул лук – прицелился – спустил тетиву! Быстрая, дальнобойная, она молнией понеслась вперед… И – клянусь Осирисом! – пронзила его меж лопаток – и вот он, Царь царей, Властелин мира, подался вперед, припал к поручням колесницы и вывалился из нее наземь. В следующее мгновение послышался рев: «Царь мертв! Великий царь мертв! Бежим! Бежим! Бежим!»
И враг побежал, а за ним в погоню пустились тысячи преследователей – они рубили и рубили убегавших прямо на ходу до тех пор, пока им хватало сил держать оружие. Однако кое-кому из беглецов удалось улизнуть от преследования, но жители Фив и окрестных поселений вскоре настигли их и перебили, так что на Восток вернулись лишь немногие, и то затем, чтобы рассказать, как было истреблено всесильное войско Царя царей, который по злой прихоти судьбы принял смерть от стрелы, пущенной из большого черного лука Шабаки-Египтянина.
Я остановился перевести дух, и тут услышал сбоку голос. Он сказал:
– А ты, как я погляжу, неплохо справился с делом, брат, даже лучше, чем мы по ту сторону от города, хотя и у нас там заварушка вышла такая, что аж пыль столбом. Ну а твой последний выстрел и вовсе выше всяких похвал, я сам видел, собственными глазами. Какую-то важную птицу с лету завалил. Пойдем-ка глянем на нее.
Я обвил рукой бычью шею Бэса, оперся на него, и мы пошли к тому месту, где одиноко лежал царь, окруженный лишь свитой из убитых соплеменников.
– Так он еще дышит, – заметил Бэс. – Давай-ка глянем на его лицо, – он перевернул тело навзничь и разложил на песке; из тела, в двух пядях[37] выше пояса, торчала стрела.
– Ба! – воскликнул Бэс. – Так ведь эту самую птицу мы видали на Востоке! – он громко рассмеялся.
Тогда Великий царь открыл глаза, признал нас – и его мертвеющее лицо исказила гримаса ненависти.
– Выходит, твоя взяла, египтянин, – проговорил он. – О, попадись ты мне тогда еще раз на Востоке, когда я по глупости тебя отпустил…
– Тогда ты снова привязал бы меня к своей лодке, той самой, с которой я сбежал благодаря мудрости Бэса.
– Хуже того, – тяжело выдохнул он.
– Но я не стану глумиться над тобой, – продолжал я. – А оставлю умирать как воина на славном поле брани. Только знай, тиран и душегуб, стрела, догнавшая тебя, была пущена из черного лука, который тебе так хотелось заполучить; и ты думал, что заполучил его… но натянула его вот эта рука… не знающая промаха.
– Я уж понял, – прошептал он.
– И еще знай, царь, что благородная Амада, которую ты вожделел не меньше, скоро станет мне женой и что несокрушимое войско твое разбито, и что Египет освободили Шабака-Египтянин и Бэс-Карлик.
– Шабака-Египтянин, – пробормотал он, – ты же был у меня в руках, а я отпустил тебя, поддавшись грезам и политическому расчету. Значит, Шабака, ты собрался жениться на Амаде, которую я вожделел потому, что не мог заполучить, и, несомненно, ты намерен править Египтом, став фараоном, как думал и я до сего дня. О Шабака, ты сильный и великий воин, но на свете есть вещи посильнее тебя… то, что люди называют судьбой. Твоя удача оскорбляет богов. Посмотри на меня, Шабака, посмотри на Царя царей, правителя всей земли, униженно распростертого в пыли пред тобою, и, проклятый Шабака, не думай, будто тебе так уж повезло, ибо скоро и ты будешь умирать так же, как я.
С этими словами он раскинул руки и испустил дух.
Мы окликнули воинов, чтобы погрузить тело царя на носилки, и, сопровождая его величественный прах, с триумфом вошли в Амаду. Это был совсем небольшой городок, главным его украшением служил храм, и мы направились прямиком туда. В наружном дворе мы увидели фараона: он лежал при смерти, ибо жизнь источалась из него вместе с кровью через многие раны – лекари тут были бессильны.
– Поздравляю тебя, Шабака! – молвил он. – Ты с эфиопами спас Египет. Мой сын пал в битве, да и я вот умираю, так кому же править страной, как не тебе, тебе с Амадой? Когда-то ты хотел жениться на ней и поклялся никогда не оставлять меня. Она была глупа и упряма, а я… завидовал тебе, Шабака. Прости же меня и прощай!
Больше он не проронил ни слова, хотя какое-то время еще был жив.
Из внутреннего двора вышла Карема. Она поздравила своего мужа, потом повернулась ко мне и сказала:
– Благородный Шабака, тебя там ждут, хотят приветствовать.
Я оперся на ее плечо, потому как идти самостоятельно не мог.
– Что случилось с войском каруна? – спросил я, пока мы шли, очень медленно.
– Случилось, повелитель, то, что и предсказывал святой Танофер. Захватчики с Востока пошли на наших через болото, думая подавить их числом. Но тропы оказались слишком узкие, и враги целыми колоннами увязли в топи. И все же они отбивались от эфиопских стрел, а после эфиопы напали на них и, будучи налегке – без громоздких доспехов, – враз одолели, хоть их и было много больше. О, я видела все с кровли храма. Бэс не оплошал, и я горжусь им, как и тобой.
– Тебе больше пристало гордиться эфиопскими воинами, Карема, ибо хоть их и было впятеро меньше, чем неприятеля, они сокрушили его в этой великой битве.
Мы прошли в конец второго двора, где помещалось святилище.
– Входи! – сказала Карема и отступила назад.
Я вошел, но, хотя кедровая дверь осталась приоткрытой, поначалу ничего не мог разглядеть, настолько темно было внутри. Мало-помалу глаза мои свыклись с темнотой, и я увидел алебастровую статую богини Исиды в натуральную величину, а на руках у нее – дитя из слоновой кости, тоже в натуральную величину. Затем я услышал вздох и, опустив глаза, рассмотрел женщину в белом, коленопреклоненную в молитве у подножия статуи. Вдруг женщина поднялась с колен, повернулась, и на нее упал луч света, пробивавшегося через приоткрытую дверь. Это была Амада, облаченная в прозрачную жреческую тунику и такая прекрасная, что представить себе невозможно… такая прекрасная, что у меня aж сердце замерло.
Она увидела меня в потрепанной кольчуге, с окровавленной грудью, с кровью на лбу, и в ее глазах вспыхнул огонь, какого я прежде в них никогда не видел, – огонь, какой может быть только от факела женской любви. Да, то были уже глаза не жрицы, а женщины, сгорающей от смертельной страсти.
– Амада, – прошептал я, – наконец я нашел тебя, Амада!
– Шабака, – прошептала она в ответ, – наконец ты вернулся ко мне, к себе домой, – и она простерла ко мне руки.
Но, прежде чем я успел заключить ее в свои объятия, она негромко вскрикнула и отпрянула от меня.
– О, не здесь, – молвила она, – только не здесь, не на глазах у Священной, ибо она видит все, что творится на небесах и на земле.
– В таком случае, Амада, она наверняка видела, какая битва нынче кипела там, на поле брани, за свободу Египта, и знает, ради кого.
– Слушай, Шабака. Я твоя награда. Больше того, теперь я твоя женщина. И я не желала ничего так сильно, как твоих поцелуев. Ради этого, и только, я готова отдать свою душу на мученическую смерть. А за тебя я боюсь. Дважды давала я обет этой богине, очень ревнивой к тем, кто отнимает у нее верных прислужниц. Боюсь я, как бы ее проклятие пало не только на меня, но и на тебя, и не только в этой жизни, но и во всех, что будут дарованы нам потом. Ради твоего спасения молю, оставь меня. Я слышала, дядя мой, фараон, умер или при смерти, и престол его, несомненно, предложат тебе. Ты же прими его, Шабака, я на него не претендую. Прими его, а мне предоставь и дальше служить этой богине до самой моей смерти.
– Я тоже служу богине, – сиплым голосом ответил я, – зовут ее Любовь, и ты ее жрица. А до Исиды мне нет дела, пусть она сама послужит богине Любви. Иди же ко мне, поцелуй меня прямо здесь, прямо сейчас, а то, боюсь, я вот-вот умру. Поцелуй меня, ведь я так ждал, и давай поженимся.
Мгновение-другое она медлила, пошатываясь от порывов страсти, словно высокая тростинка на берегу Нила… а потом – ах! – бросилась ко мне на грудь и прильнула устами к моим.
…И после
Несколько мгновений я, Шабака, как будто пребывал в бреду, окруженный розоватой дымкой. Потом я, Аллан Квотермейн, услышал резкий, прерывистый звук, напоминавший бой часов, и открыл глаза. Это действительно били часы, прекрасные старинные часы на камине напротив меня, и стрелки показывали десять часов.
Теперь я вспомнил, что несколько столетий назад, уснув глубоким сном, не весть почему, я видел эти самые часы со стрелками в том же положении и знал, что они пробили дважды десять часов. Так что все это значит? И сколько времени прошло – тысячелетия… или всего лишь восемь секунд?
На плечо мне что-то давило. Я посмотрел, что это может быть, и увидел изящную голову – леди Регнолл спала сладким сном. Леди Регнолл!.. В том дивном сне, который мне привиделся, она была жрицей и звалась Амадой. А вот и знак молодого месяца у нее повыше груди. Да, но ведь еще мгновение назад я был в храме с Амадой, облаченной так же, как нынче вечером была одета леди Регнолл, и находился с нею в такой близости, что при одном лишь воспоминании об этом меня бросило в краску. Леди Регнолл! Амада!.. Амада! Леди Регнолл! Храм! Будуар! О, я, верно, схожу с ума!
Мне не хотелось будить ее: это было бы… совсем уж недостойно. И я, Шабака, или Аллан Квотермейн, так и сидел недвижно, ощущая себя на удивление уютно и пытаясь свести воедино все пережитое, как вдруг Амада… то есть леди Регнолл, сама очнулась.
– Интересно, – проговорила она, не поднимая головы с моего плеча, – что сталось со святым Танофером. Кажется, я слышала сквозь мрак, как он отдавал распоряжения, какую могилу рыть фараону и в каком месте, и все приговаривал, что нужно поторапливаться, потому как дни его сочтены. Да-да, а мне хотелось, чтобы он ушел прочь. О Боже! – воскликнула она и тотчас встала.
Я тоже поднялся – и мы так и стояли, глядя друг на друга.
Между нами, напротив камина, помещался треножник с чашей из черного камня, на дне которой виднелась горстка серого пепла, – остатки тадуки. Мы посмотрели на чашу.
– И куда же нас занесло, Шаба… то есть мистер Квотермейн? – вздохнула она, глядя на меня в изумлении.
– Ума не приложу, – смущенно ответил я. – На Восток, кажется. Но это… это был всего лишь сон.
– Сон? – переспросила она. – Ерунда! Скажите, разве не вы стояли вместе со мной в святилище перед статуей Исиды, той самой, что два года назад рухнула на Джорджа и задавила его насмерть? И разве не вы дарили мне ожерелье из чудесных розовых жемчужин, которое мы повесили на шею статуи в знак милостивого дара, потому что я нарушила данные ей обеты, – то самое ожерелье, которое вы выиграли на спор у Великого царя?
– Нет, – торжествующе ответил я, – ничего подобного. Разве я не заслужил эти бесценные жемчужины в сражении? Я отдал ожерелье на хранение Кареме, после того как матушка моя вернула его мне, когда лежала на смертном одре. Я отлично помню.
– Да, а Карема потом передала жемчужины мне в знак вашей любви, когда появилась в городе со святым Танофером и принесла с собой нечто куда более ценное для нас в те дни – кое-какую снедь. Потому что мы там умирали с голоду, да будет вам известно. Так вот, а после я соединила этим ожерельем нас обоих в храме в знак нашего вечного союза. Правда, вслед за тем мы решили, что будет разумнее преподнести жемчужины в дар богине… чтобы умилостивить ее, да будет вам известно. О, и как только посмели мы связать друг друга смертной клятвой в ее святилище, в ее же присутствии, и особенно я, дважды присягнувшая ей перед тем в верном служении? То было оскорбление, усугубленное святотатством.
– Это только так кажется, потому что любовь сильнее страха, – возразил я. – Но вы как будто спали немного дольше меня. А значит, можете сказать, что было дальше. Сам я помню только… впрочем, далеко не все, – прибавил я, потому как вдруг все вспомнил, но продолжать не мог.
Она вся зарделась и пришла в сильное волнение.
– У меня мысли путаются! – воскликнула она. – Помню, дальше вышло как-то глупо… все эти нежности. Но, сами знаете, чего только не бывает во сне.
– А, по-моему, вы сказали, это был не сон.
– На самом деле я даже не знаю, что это было… А ваша рана больше не болит? Вы тогда просто истекали кровью. И даже испачкали меня, – она прикоснулась к груди и с удивлением оглядела свое священное древнее одеяние, думая увидеть на нем красные следы.
– Надо же, ни пятнышка, а значит, это и впрямь был сон. Но, клянусь честью, битва была! – ответил я.
– Да, я наблюдала за ней с крыши пилона… О, это было грандиозное зрелище! Помните, как эфиопы атаковали Бессмертных? Ну конечно, помните, вы же сами вели их в бой. А потом фараон Пероа погиб … это был Джордж, чтоб вы знали. И Великий царь пал, сраженный из вашего черного лука… да уж, вы и тогда были не промах… И горели корабли – полыхали ярким пламенем! И много чего еще было.
– Да, – сказал я, – было, было. Святой Танофер оказался неплохим стратегом, а может, его Чаша, кто знает.
– А вы оказались неплохим полководцем, как, впрочем, и Бэс. О, сколько мук я натерпелась, когда все вдруг стало так неопределенно! Сердце у меня горело огнем, да, я так боялась за… – она вдруг осеклась.
– За кого? – спросил я.
– За Египет, конечно, а когда я увидела в алебастре ваше отражение – как вы вошли в храм, где, если помните, я молилась за вашу удачу и жизнь, то едва не умерла от радости. Потому что была привязана к вам, Шабака, да-да, чтоб вы знали, и так все время, пока продолжалась моя роль в этой истории, о чем мы, верно, даже не догадывались. Хотя я держалась холодно и упрямилась, я любила, да-да, и в той жизни знала, каково оно – любить. А Шабака выглядел – о! – таким героем в своей изодранной кольчуге и с победоносным блеском в глазах. К тому же он был по-своему красавец. Впрочем, я несу чушь.
– Да уж, притом несусветную. Однако жалко, что мы не знаем, чем все закончилось. Жаль, что вы все забыли, хотя я просто сгораю от любопытства. А тадуки, что, больше не осталось?
– Ни щепотки, – твердо сказала она, – да и потом, двойная доза за день может быть смертельна. Мы и так узнали все, что нужно. Хотя мне также хотелось бы знать, что было после нашей… женитьбы.
– Значит, мы все-таки поженились, не так ли?
– Я имела в виду, – продолжала она, пропустив мое замечание, – как долго вы правили в Египте. Потому что править должны были вы, вернее Шабака. А еще – вернулись ли потом захватчики с Востока… может, они изгнали нас или что там было. Знаете, а Дитя из слоновой кости почему-то исчезло – мы нашли его снова в земле кенда только через несколько лет.
– Может, мы отправились в Эфиопию, – предположил я, – и ему, то есть Дитя, продолжали поклоняться в каком-нибудь уголке этой страны, после того как Эфиопское царство отжило свой век.
– Может быть, только не думаю, что Карема согласилась бы вернуться в Эфиопию, разве что по принуждению. Вы же помните, как ей там все претило. Нет-нет, она даже своих чернокожих детей не желала больше видеть. Впрочем, мы того не знаем, а коли так, что тут гадать.
– Кажется, немного тадуки все же оставалось, – горько заметил я. – Точно, я видел в ящике.
– Ни понюшки, – с еще большей решимостью ответила она и, протянув руку, захлопнула крышку ящика, прежде чем я успел в него заглянуть. – Так-то оно лучше, поскольку при столь счастливом завершении истории я не желаю – о! – совсем не хочу знать, чем проклятие Исиды обернулось для вас и для меня.
– Стало быть, вы в него верите?
– Да, верю, – горячо ответила она, – более того, думаю, оно все еще в силе, потому-то, должно быть, все мы и вернулись в этот мир – вы, я, Джордж, Ханс и даже этот старик Харут, с которым мы повстречались в земле кенда и который, думаю, и был святым Танофером. Поскольку, это так же верно, как и то, что я живу, мне доподлинно известно, что, какие бы имена мы сейчас ни носили, вы были полководцем Шабакой, а я жрицей Амадой, египетской принцессой-цесаревной, и над нами, точно грозный меч судьбы, висит проклятие Исиды. Поэтому Джордж и погиб, поэтому… впрочем, что-то я устала, сил нет, – думаю, мне лучше пойти прилечь…
Помнится, я уже говорил, что мне нужно было уезжать из замка Регнолл на следующее утро, причем очень рано, поскольку впереди меня ждала охота. О Боже, меня ждала охота!
Но что бы там ни говорила Амада, то есть леди Регнолл, тадуки у нее еще оставалось с лихвой – мне ли было не знать.
Примечания
1
Savage (англ.) – дикий.
(обратно)2
Унция – старинная мера аптекарского веса, равная 29,8 грамма.
(обратно)3
Черри-бренди – крепкий спиртной напиток, вырабатываемый из сока вишни.
(обратно)4
Харут и Марут – в мусульманской мифологии ангелы, согрешившие на земле, обучавшие людей колдовству. Их имена стали символами волшебства и колдовства.
(обратно)5
Моа – вымерший отряд бескилевых птиц, по внешнему виду напоминавших страусов.
(обратно)6
Гор – в египетской мифологии бог света, борющийся с силами мрака.
(обратно)7
Исида (Изида) – мать Гора, богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности.
(обратно)8
То есть в тюрьме.
(обратно)9
Английское имя Джейкоб соответствует библейскому Иаков.
(обратно)10
Не знаю (готтентотск.).
(обратно)11
Бой (от английского «boy» – мальчик) – так называли туземную мужскую прислугу в колониальных странах.
(обратно)12
Шамсин – ветер; то же, что и самум в Сахаре.
(обратно)13
Ехидны – род ядовитых змей семейства аспидных.
(обратно)14
Сет – в египетской мифологии бог «чужих стран», бог пустыни, олицетворение злого начала. Сет коварно убил своего брата Осириса, бога земледелия и ремесел. Жена Осириса Изида после убийства мужа нашла его тело, зачала от него и родила сына Гора, который должен был отомстить Сету.
(обратно)15
Согласно библейскому повествованию, израильские пророки Моисей и Аарон прокляли Египет за то, что фараоны держали еврейский народ в рабстве, и наслали на страну «десять казней египетских», приведших Египет к полному разорению.
(обратно)16
Левиафан – библейское чудовище огромных размеров, враждебное Богу.
(обратно)17
Всемогущий! (голл.)
(обратно)18
Магут – погонщик слонов.
(обратно)19
Курортный городок в Англии.
(обратно)20
Ушебти – в Древнем Египте это магические фигурки в виде мумий или людей с орудиями труда: кирками или мотыгами. При погребении помещались вместе с усопшим: по верованиям древних, они должны были замещать умершего на работах в загробных полях Осириса. – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)21
Во второй половине XIX века в Британии в книгах с желтой обложкой публиковались авторы популярных развлекательных романов (Р.Л. Стивенсон, У. Коллинз и др.).
(обратно)22
Ветхий Завет. Притч. 1:17.
(обратно)23
Здоровый, сильный человек с громовым голосом (от библейск. «васанский бык»).
(обратно)24
Кетгут (англ. catgut, буквально – струна), нити, вырабатываемые из кишок мелкого рогатого скота; хирургический шовный материал. Применяется для наложения внутренних швов, перевязки сосудов при операциях; на кожу кетгутовые швы иногда накладывают под гипсовую повязку.
(обратно)25
Систрум – у египетян ссеш или кемкен. Греческий инструмент, обычно делавшийся из бронзы, но иногда из золота или серебра, имеющий открытую кругообразную форму, с ручкой и четырьмя струнами, проходящими через отверстия, на концах которых были прикреплены звенящие кусочки металла; вверху он был украшен фигурой Исиды, или Хатор. Это был священный инструмент, используемый в храмах для того, чтобы производить магнетические токи и звуки. По сей день он сохранился в христианской Абиссинии под названием санасек, и благочестивые жрецы применяют его, чтобы «прогонять чертей из помещений», – действие, понятное для оккультиста, хотя оно и вызывает смех у скептика-востоковеда. Жрица обычно держала его в правой руке во время церемонии очищения воздуха или «заклинания стихий», тогда как жрецы держали систрум в левой руке, правой манипулируя «ключом жизни» – крестом с рукояткой, или тау.
(обратно)26
Птах – древнеегипетский бог.
(обратно)27
Саис – древний город в Египте.
(обратно)28
Сатрапия – округ, провинция, подчиненные сатрапу, или наместнику.
(обратно)29
Апис – древнеегипетский бог плодородия, имевший облик быка.
(обратно)30
Урей – изображение кобры на атрибутах власти египетского фараона.
(обратно)31
Стадий (древнеегипетская мера длины) – равен 209,4 метра.
(обратно)32
Тутмос (имеется в виду Тутмос III) – египетский фараон (умер в 1426 г. до Р.Х.).
(обратно)33
Рамсес Великий, он же Рамсес II – египетский фараон (ок. 1279–1213 гг. до Р.Х.).
(обратно)34
Стиль – заостренный стержень для письма в древности.
(обратно)35
Лига (уставная) – мера длины, равная 4,83 километра.
(обратно)36
Имеется в виду дельта Нила.
(обратно)37
37 Пядь (здесь) – примерное расстояние от кончика большого пальца до кончика мизинца.
(обратно)
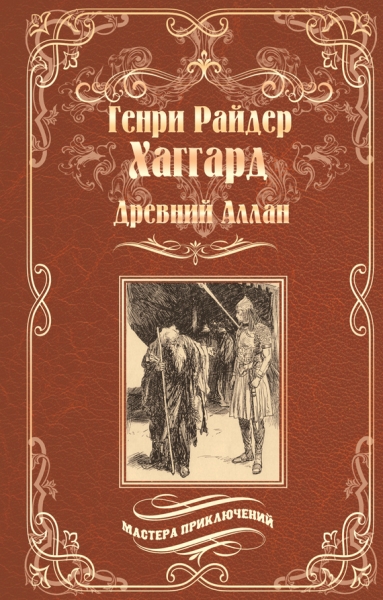
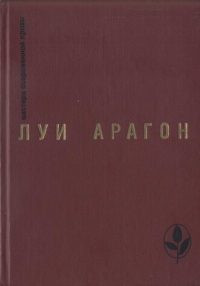



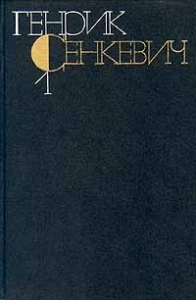


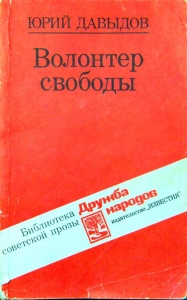

Комментарии к книге «Древний Аллан. Дитя из слоновой кости», Генри Райдер Хаггард
Всего 0 комментариев