Наталья Манасеина ЦАРЕВНЫ
Роман
Алексей Михайлович (1645–1676)
Царь Алексей Михайлович был одним из лучших людей древней Руси. Он не только исполнял посты и церковные обряды, но обладал и глубоким религиозным чувством. Характера он был замечательно мягкого и «гораздо тихаго». Обидев кого в коротком гневе, он долго потом не мог успокоиться и искал примирения. Ближайшими советниками царя были в первые годы — его дядька Б. И. Морозов, в 50-х годах — патриарх Никон, в конце царствования — боярин А. С. Матвеев.
Непосильные для народа налоги, несправедливость приказных людей, отголоски старой смуты вызвали ряд народных бунтов в разных городах (Москва, Сольвычегодск, Устюг, Новгород, Псков, бунт Разина, Брюховецкого и др.) и в разное время. Добровольное присоединение Малороссии к Московскому государству привело к двум войнам России с Польшей. Эти тяжелые удары России удалось вынести только благодаря сосредоточенности власти, единству, правильности и непрерывности в распоряжениях. Из внутренних распоряжений при Алексее Михайловиче замечательны: Соборное уложение 1649 года и как его дополнение — Новоторговый устав и Новоуказные статьи о разбойных и убийственных делах и поместьях. Основаны новые центральные учреждения, а именно: приказы Тайных дел, Хлебный, Рейтарский, Счетных дел, Малороссийский, Монастырский. Тяглые классы окончательно прикреплены к месту жительства. В церкви была предпринята, патриархом Никоном необходимая реформа — исправление богослужебных книг, что вызвало, однако, раскол, т. е. отпадение от русской церкви. Прославились русские первопроходцы в Сибири: A. Булыгин, О. Степанов, Е. Хабаров и другие. Появились новые города: Нерчинск, Иркутск, Селенгинск. Лучшие люди в Москве уже тогда сознавали нужду в науке и преобразованиях. Таковы особенно бояре: А. Л. Ордын-Нащокин, А. С. Матвеев, князь B. В. Голицын.
У царя Алексея, от первого брака его с Марией Милославской, было два сына — Феодор и Иоанн и несколько дочерей; от вторичной женитьбы па Наталье Нарышкиной родился в 1672 году сын Петр. По смерти Алексея Михайловича на престол был возведен Феодор Алексеевич (1676–1682).
1
Жарко и душно царевне. Места себе не находит Федосьюшка. Думала после обеда соснуть в своей опочивальне, да за кисейный полог комары забрались. Мама Дарья Силишна захрапела, едва голову на лавку положила. Не добудилась ее Федосьюшка. Встала сама, чтобы кого из девушек в сенях свистулечкой серебряной позвать, да раздумала. Свистулечку положила назад на дубовый стол, накрытый красным сукном.
«После обеда все равно никого не докличешься. Спят все. А сегодня и подавно».
Только утречком вернулась в Москву государева семья со всеми боярами, боярынями верховыми и со всей челядью дворцовой. Думали в Измайлове среди зеленых садов неделю целую для прохлады пожить, да Алексею Михайловичу случилась нужда на Москве побывать: послы из немецкой земли прибыли. Чужеземным людям надобно не сады показывать, а богатство и красоту кремлевских палат.
Думал Алексей Михайлович один в Москву съездить, да его молодая жена Наталья Кирилловна без себя царя не отпустила. А за царицей и весь дом поднялся. Повезли и деток ее малых: трехлетнего царевича Петра, двухлетнюю Натальюшку и годовалую Федорушку. Поехали и дети от первой покойной жены государя: царевич, наследник объявленный, четырнадцатилетний Федор и десятилетний царевич Иван. Поднялись и все шесть дочерей-царевен, начиная с Евдокеи, старшей, кончая двенадцатилетней Федосьюшкой. Потянулись за всеми и сестры царя, царевны: Ирина, Анна и Татьяна Михайловны.
Чуть что не полсотни колымаг, да больше сотни подвод из села Измайлова к Москве тронулось. Тучей встала от этого поезда пыль по дороге, давно не видавшей дождя. Царевны только потому насквозь не пропылились, что окошки в их колымагах простояли, по обычаю, весь путь не только запертыми, но еще камкой персидской позавешенными. Пропылились не так, чтобы очень, а чуть не задохлись от тесноты да духоты.
Царевна Софья все бунтовала, все пытала окошко открыть, да царевна Евдокея старый порядок отстояла:
— Негоже, сестрица! Упаси Бог, ненароком, кто чужой нас, фатой не накрытых, увидает — кругом народ.
Так и доехали, запертые да занавешенные.
Федосьюшка после езды этой никак отойти не может. Мутит ее. Голова кружится. Она и всегда слабая, а тут укачало ее, видно. За обедом ничего в рот не взяла. Думала отоспаться. Комары не дали.
Ходит-бродит по своим трем покойчикам царевна, золочеными высокими каблучками сафьяновых чеботков постукивает.
В опочивальне ей не сидится. Уж очень расхрапелась Дарья Силишна. В столовом покое мухи. С обеда остались, да мамушка еще ложку из-под варенья убрать позабыла. В Крестовой, крошечной моленной, уставленной образами, с узким оконцем — темно и мух нет. Думала Федосьюшка здесь приткнуться, да не усидела. Скучно уж очень. Назад пошла в опочивальню.
Под самыми окошками царевниных покоев сад комнатный. Настежь раскрыла слюдяную оконницу царевна. Пахнуло на нее запахом лилейным. На всех длинных грядках, что тянулись под окошками царевен, сразу все лилеи желтые и белые распустились и запахом своим заглушили все другие цветы и душистые травы.
Захотелось Федосьюшке на лилеи поближе поглядеть. Из окошка в сад совсем мало видно. Покои ее в самый уголышек втиснуты.
Семья у Алексея Михайловича уж очень велика. При матери родной Федосьюшка возле государыни Марии Ильиничны помещалась, а при мачехе Наталье Кирилловне ее в уголышек к сестрицам да тёткам втиснули. Едва выгадали покойчики.
Тесно у царевны. Хорошо, что сама она, словно былинка, тоненькая, да боярынь, боярышен и челяди разной у нее, против других сестриц, совсем мало, а карлиц, да дурок, да шутих, которыми кишмя кишат женские покои, и совсем никого.
Не любит их Федосьюшка.
— Шуму от них много, а не веселят они меня, — так говорит.
Пошла царевна, крадучись, мимо расхрапевшейся мамы, да чеботок не вовремя каблучком, как раз под ухом Дарьи Силишны, пристукнул — она сразу и вскочила.
— Заспалась никак? Ах ты, грех какой! Да куда же ты, государыня-царевна, собралась?
— Испить бы мне чего холодненького, мамушка, — попросила Федосьюшка.
— Ох и сама я попью. Вот уж попью! Внутри все присохлоо с жары да с пыли. Обожди малость. Мигом тебе мама кваску добудет.
— Мне бы водицы малиновой…
— Уж знаю, знаю, чего тебе надобно. Квас-то я сама люблю, — на ходу откликнулась Дарья Силишна и, оправляя съехавшую во время сна кику, развалисто заторопилась к дверям.
Долго дожидалась ее Федосьюшка.
— Да разве теперь на Сытном дворе чего добьешься? — оправдывалась вернувшаяся наконец мамушка. — Все сразу поднялись, все испить просят. Челядь у ледников да погребов с ног сбилась. Кому квасу, кому меду белого, кому ягодного, кому яблочного, кому можжевелового, кому черемухового, кому воды ягодной, кому пива холодненького. Так во все концы жбаны и растаскивают. А тут еще меня в сенях государынина постельница позадержала. Такое мне слово сказала, что я сразу даже ушам не поверила.
— Что же такое сказала она тебе, мамушка? — заинтересовалась Федосьюшка и поставила на стол пустой серебряный ковш из-под малиновой воды.
— А то сказала, что государыня наутро к Троице-Сергию собралась.
— Быть не может! — всполошилась Федосьюшка. — Только сегодня из Измайлова вернулись… Да и разговора о том, чтобы на богомолье идти, не было… Послов немецких глядеть хотели.
— А ты погоди малость, и все я тебе, Федосья Алексеевна, порядком скажу.
Дарья Силишна опустилась на лавку, накрытую алым суконным полавочником, и продолжала:
— Нынче, либо на днях, сон нехороший государыне, сказывают, привиделся. Вспомнилось ей, что давно она у Троицы-Сергия не бывала. Весной из-за дороги — совсем проезда туда не было, — и на пятое июля, день обретения святительских мощей, тоже не удалось побывать царице в обители. У царевны Федорушки тогда зубки тяжело резались. И напала вдруг тревога на государыню. «Не хочу, — говорит, — осеннего большого похода дожидаться. Одна помолюсь угоднику. Он, святитель, во сне мне о себе напомнил». Отпросилась государыня у царя-батюшки. Завтра же в обитель идет.
— А мы как же? Когда же нас собирать будут? — У Федосьюшки сразу и глаза заблестели, и румянец на щеках заиграл. Любила она в обитель ездить.
— А про вас, царевен, точно и речи не было. Похоже, что на этот раз царица одна едет. Наспех едет. Собрать-то вас всех не мало времени надобно.
Так более ничего и не добилась от своей мамы царевна. Порешила в комнатный сад пройти. Там сестрицы всегда послеобеденный сон разгуливали. С ними захотелось поговорить Федосьюшке.
Одна за другой выходили из своих покоев заспанные царевны. Сверх тафтяных рубах накинули они для выхода шелковые распашницы. Все жаловались на духоту, на комаров и мух.
— После Измайловского приволья по дощатым дорожкам, песком усыпаннным, и ступать неохота, — проворчала царевна Катерина. Хмурая стала у расписанных зеленым аспидом и золотом входных дверей.
— А ты подумай, каково без сада-то жилось. Дальше сеней и ступить было некуда, — попробовала разговорить сестрицу шедшая следом за нею веселая царевна Марьюшка. — Спасибо батюшке, что подумал о нас, затворницах, да сад велел под самыми окошками развести.
— Ну и сад! Двенадцать саженей в длину да в ширину восемь. Не разгуляешься.
— А гулять мы после вечерен в Верховой сад пойдем Батюшка наказал там всем собираться. Полно бурчать, Катеринушка. Пойдем лучше крыжовнику пощипать.
И веселая Марьюшка, ухватив сестрицу за висячий, расшитый серебром и жемчугом рукав распашницы, потянула ее в конец сада к каменной стенке с частыми, высоко от полу посаженными, решетчатыми окошками. Здесь росли рядами несколько кустов крыжовнику, красной смородины и малины. Здесь же, присев у куста, уже лакомилась ягодами старшая царевна Евдокеюшка.
— В Измайлове крыжовник куда слаще! А и колкий же он здесь! — И Евдокеюшка протянула сестрам поцарапанную пухлую белую руку.
— Разве сенных девушек либо боярышен кликнуть ягод собрать? — предложила Катеринушка.
— И что придумала! Разве с сенными девушками да с боярышнями здесь повернешься, — остановила ее Евдокеюшка. — Да и ягод здесь всем не хватит, — прибавила она.
— А вот и Софьюшка с Марфинькой пожаловали, — сказала Марьюшка.
По дорожке, между длинных гряд, огороженных расписными досками и цветными столбиками, на которых висели проволочные клетки с канарейками и перепелками, шли рядышком две царевны, сестрицы-подружки.
Старшей из них, Марфе, было изрядно за двадцать. Софье всего девятнадцатый кончался. Обе они были рослые, плотные, чернобровые, белолицые. Марфинька и лицом, и станом была очень схожа с Софьюшкой. Малость пониже только сестрицы младшей была она, да и яркости Софьюшкиного лица у ней не хватало. Все краски на нем словно повыцвели. В черных глазах, которыми Софьюшка, как огнем, опаляла, того жару не было, брови соболиные так высоко, смело и гордо, как у сестрицы младшей, у старшей не взлетывали.
— Сестрицы, государыня Наталья Кирилловна наутро к Сергию Преподобному идет, — сказала Софья, подойдя к засевшим под крыжовником и смородиной сестрам.
Словно вспугнутые птицы поднялись, шурша шелковыми одеждами, царевны.
— Наутро? К Сергию Преподобному? А нас когда оповещать будут? Собраться не поспеем! — раздались, заглушая птичье пенье, девичьи голоса.
А к царевнам-сестрицам уже три тётки, сестры царевы, поспешают.
— В поход богомольный наутро идет государыня. Никому не сказавшись, идет.
У тёток, старых девушек, лица обиженные. Особенно недовольна старшая, Ирина Михайловна, в молодости веселая красавица, первая песенница и хороводница, а теперь богомолица и постница, всегда суровая, не улыбающаяся, с худым желтым лицом. Лет ей немало. За сорок давно. Когда скончалась первая братнина жена, Мария Ильинична Милославская, Ирина Михайловна, до новой его женитьбы, всем теремом, как старшая, заправляла, а как женился царь, сразу конец ее власти пришел.
Уже три года как молодая царица всем заправляет, а все царевны, и большие, и меньшие, из ее рук смотрят. Особенно много воли забрала она, как Петр-царевич родился. И прежде царь Наталью Кирилловну сильно любил, а теперь просто души в ней не чает. На все согласен, что только скажет царица.
Медаль, вычеканенная в честь рождения царевича Петра.
— Ей бы с нами по уговору, по согласию, а она все тишком да молчком, — негодует Ирина Михайловна и постукивает от раздражения своим драгоценным посохом из кипарисового дерева. Каменьями, золотом посох этот изукрашен. Достался он Ирине Михайловне от матери ее Евдокии Лукьяновны Стрешневой, жены первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича. Не расстается с ним царевна никогда.
— Государыня лесами зелеными поедет, в шатрах на душистых полянах ночевать станет, а мы здесь в духоте да жаре… — жалобно, чуть не плача, проговорила не в меру растолстевшая Анна Михайловна.
— На свет Божий взглянуть всякому хочется, — поддержала сестру Татьяна Михайловна.
— Из потайного места, из-за запоны шелковой на послов немецкой земли поглядим, — с подзадоривающей насмешкой вдруг вставила, сверкнув глазами, Софья.
Шестнадцатилетняя Катеринушка на эти ее слова даже рукой отмахнулась.
— Из-за запоны с потайного места на послов глядеть! Придумала. Теперь в зелень густую, в перелески, под небо широкое тянет…
— А хуже всего, что не по обычаю царица поступает, — перебила Катеринушку Ирина Михайловна. — Негоже так-то, не посоветовавшись да не предупредивши.
— Не блюдет старых обычаев Наталья Кирилловна, — поддержала сестру Анна Михайловна.
— И не впервой это, — подхватила было и Татьяна Михайловна, но звонкий голос Марьюшки покрыл ее слова:
— Попросимся у государыни, чтобы и нас взяла с собой, и вся недолга.
Против этого никто слова не сказал. Всем была охота великая у Троицы-Сергия побывать. Только, как стали перебирать, кого проситься посылать, — все призадумались.
Царевны-тётки сразу идти отказались.
— Негоже это нам. Годы наши не такие, чтобы спрашиваться. Откажет — обида большая.
Евдокеюшку-смиренницу хорошо бы послать. Старшая она между сестрицами, и с царицей у нее неладов не было. Всем хороша Евдокеюшка для посылки, да в одном у ней недохватка: не речиста больно. Слово вымолвит, за другим в карман идет. Пока достает, о чем речь завела, — позабудет.
Марфа с Софьюшкой много речистее. Софья особенно. Но их лучше с мачехой не сводить. Не ладят они с ней. Катеринушка тоже вовремя смолчать не умеет. Вот разве еще Марьюшка…
И в то самое время, как на Марьюшке остановились, Федосьюшка в сад пришла. Не успела царевна рот раскрыть, чтобы сестрицам про поход рассказать, как все зараз, в один голос, ей навстречу:
— Федосьюшка к царице пойдет!
На Федосьюшке все сразу порешили. Ее Наталья Кирилловна любит. Еще на днях говорила, чтобы Федосьюшка к ней почаще в покои хаживала. Детки царицыны ждут не дождутся, чтобы царевна с ними позабавилась.
Отправили к царице Федосьюшку.
Скорехонько, руками привычными, обрядила мама свою царевну для выхода. Повязку Федосьюшкину девичью — венец, шитый жемчугом, — на голове поправила, тяжелый косник — на конце косы подвеску треугольную из каменьев цветных — подергала, посмотрела, крепко ли вплетено и, как всегда, не удержалась, сказала:
— Эх, коса-то у тебя, царевна, тихо растет. Коснику, почитай что, держаться не в чем.
Поохала мама, летник царевне выходной через голову продевая, что и шея-то у Федосьюшки больно тонка, и плечи под оплечьями, каменьями зашитыми, словно гнутся.
— Мне бы поскорей, мамушка. Сестрицы да тётушки меня в саду дожидаются, — остановила ее царевна и отстранила рукой ларец уборный, который поднесла ей Дарья Силишна.
— Для светлости личико бы подбелила да румянца бы подбавила… — попытала уговорить мама. — Бровки бы подсурмила…
— Не люблю я этого. Будет того, что ты мне утром на лицо навела.
Вышла царевна с мамой в сени светлые, просторные. Сенные девушки с лавок повскакали, длинным рядом выстроились. Впереди них карлицы в лазоревых душегреях стали, дурки, шутихи вперед протиснулись. Все, кроме Фе-досьюшкиных двух боярышен-подружек и ее собственных сенных девушек, на месте остались, а ее, царевнины, парами степенно к дверям тронулись. Впереди них стольники, дети боярские, подростки лет десяти — двенадцати, двери отворять заспешили.
Кабы своя воля у Федосьюшки, в миг единый она бы у царицы была. Да разве сговоришь с мамой?
Дарья Силишна, как только в сени выйдет, такую важность на себя напустит, что ногами еле переступает.
Шестой Алексеевны мама! Птица, коли разобраться, не велика, а глянут сенные девушки на Дарью Силишну и так же низко ей, как боярыням при старших больших царевнах, кланяются.
Идет Дарья Силишна, голову в кике золотой назад откинула, глазами словно ни на что и не глядит, а все видит.
— Ширинку повыше подыми! Вошвой пол заметаешь. Да не торопись, государыня царевна, — шепотком говорит мама. — Дай время стольникам двери-то распахнуть.
Бегут впереди стольники в голубых с серебром кафтанах, бегут вдоль сеней просторных, светлых, где праздниками царевны хороводы водят да на качелях качаются, распахивают двери расписные, взбегают на лесенки с точеными перильцами, переходами и переходцами выводят Федосьюшку с мамой, с боярышнями и сенными девушками в сени царицыны.
Сени теремов
Тесно в государыниных сенях. Девушки сенные, словно пичуги на веточке, рядышком по стенкам стоят, верховые царицыны боярыни важные, в тяжелых нарядах, от жары разомлевшие, по лавкам сидят. Заснули бы с жары и духоты, если бы не карлицы, дурки, арапки, калмычки, да шутихи — утехи вседневные.
Маринке, главной шутихе, новой меди на шумихи к красной кике выдали. Мечется Маринка по сеням, шумихами звон подымает. Подбежит то к тому, то к другому. Под самым носом важной боярыни пальцами щелкнула. Вздрогнула боярыня, а Маринка уже на другом конце штуки строит. А вот и с самой Маринкой штуку состроили. Карлица Пелагейка злющая ей подножку подставила. Грохнулась на землю Маринка, кика с шумихами в сторону отлетела. Захохотали боярыни, боярышни, девушки сенные. Поднялась шутиха, кику схватила и бросилась за Пелагейкой, Пелагейка от нее, Маринка за ней. Обе визжат. Царевну Федосьюшку чуть с ног не сбили. Обе ей под ноги подкатились.
— Ой, прости, государыня царевна! — первая Маринка опомнилась. — От Пелагейки злющей житья нет. Заступись, Федосья Алексеевна.
— Маринку, сделай милость, уйми, государыня царевна, — визжит Пелагейка.
— Дорогу царевне! — прикрикнула на них Дарья Силишна. — Не задерживайте. К государыне царице поспешаем.
И, низко склонив рогатую кику пред царицыной верховой боярыней, которой черед нынче к государыне с докладом идти, сказала:
— Государыня царевна Федосья Алексеевна бьет челом государыне царице Наталье Кирилловне дозволить ей, царевне, предстать пред царские очи пресветлые.
Наталья Кирилловна в ту пору у годовалой своей младшей дочери Федорушки сидела. Туда к ней и двухлетнюю царевну Натальюшку мама в повозочке катальной привезла.
Пошла в детский покой Федосьюшка, а царица подняла голову, склоненную над колыбелью, червчатым бархатом обитою, и говорит:
— Нынче Федорушка у нас, слава Богу, веселее стала. Зубок у нее прорезался.
И от светлой улыбки лицо государыни еще краше сделалось.
А маленькая Натальюшка, завидев Федосьюшку, сестрину любимую, к ней так потянулась, что не подхвати ее мама — вывалилась бы из своей повозочки царевна.
— Не зашиблась ли? — обеспокоилась Федосьюшка. А Наталья Кирилловна:
— Видишь, как люба ты ей. Уж не откажи, сделай милость, позабавь сестрицу.
— По делу я к тебе, государыня-матушка, — начала было Федосьюшка, но дальше слова молвить не успела.
Словно вихрем распахнуло двери, и в горницу вбежал кудрявый черноглазый мальчик в атласном красном кафтанчике, а за ним вдогонку запыхавшаяся мама и две боярыни.
— Матушка! — задыхаясь от бега и волнения, бросился царевич к матери. — Они сказывают, что я завтра в колымаге поеду! Не хочу в колымаге! В золотой карете, что мне Сергеич подарил, поеду и на лошадках пигмейных.
Мальчик, прильнув к матери, гневно сверкавшими глазами поглядывал на смущенных боярынь.
— Пытали мы всячески уговаривать царевича, — оправдывалась мама. — Не слушает.
— Палочки барабанные, почитай, все переломал, — вставила одна из боярынь.
— Кубарики по горнице расшвырял… Лошадку катальную опрокинул, — добавила другая.
Игрушка времен Алексея Михайловича
Игрушка времен Алексея Михайловича
— В золоченой каретке на пигмейных лошадках поеду! — упрямо повторил мальчик.
— А ты, государыня, про колымагу сказывала, — вставила мама. — Скажи сама ему, государыня. Нам он не верит.
Обхватила Наталья Кирилловна обеими руками сынка любимого, в глаза ему заглянула, кудри рукой со лба отвела и тихо, ласково молвила:
— В золоченой карете на пигмейных лошадках ты, Петрушенька, осенью в обитель поедешь. Тогда и батюшка государь с нами богомольным походом пойдет.
— Нынче хочу в золоченой карете! — вырываясь из рук, закричал мальчик.
Но Наталья Кирилловна удержала его.
— Скучно мне без тебя ехать будет, сынок мой любимый. Путь долгим покажется. Посиди уж нынче со мной в колымаге, Петрушенька.
Сразу стих царевич.
— По-твоему пускай будет, матушка. Колымаги больно не люблю, а перечить тебе не хочу. Уж поеду.
— Ну, слава Тебе, Господи, обошлось! — тихонько молвила с облегчением мама боярыням и стала звать царевича обратно в его покои.
— Назад пойдем теперь, царевич-батюшка, мы тебе карлов кликнем, шутов позовем, пускай кувыркаются. В барабаны потрещим. То-то веселье у нас будет! Пойдем скорее, батюшка.
— Нет, я здесь у матушки останусь. Она шкатулочку с «Раем» покажет.
Любили дети сундучок с «Раем» разглядывать. В сундучке дерево стояло. На дереве — ангел с мечом, а по сторонам того дерева — люди и всякие звери.
— Покажи, матушка, пускай и сестрица Федосьюшка с нами поглядит, — не унимался мальчик.
Увидала тут царевна, что дальше ей с просьбой медлить нельзя, и заторопилась все сразу Наталье Кирилловне объяснить. Сказала, что и сестрицам, и тёткам — всем охота большая с царицей на богомолье побывать.
— Послали они меня согласья твоего, государыня-матушка, попросить. Как скажешь, так то и будет.
Не сразу ответила Федосьюшке Наталья Кирилловна. Темные кольца сыновних кудрей пальцами перебирая, раздумывала она, как ей быть. Отказать — весь терем обидеть. Согласиться — с тихостью, в которой душа отдыхает, — проститься. Хотелось на этот раз государыне без царевен уехать. Не приходится.
— Скажи бо́льшим и ме́ньшим царевнам, Федосьюшка, что спехом собралась я в обитель. Думала, хлопотливо будет теремам за мной следовать. Оттого о походе и не объявляла.
Еще самую малость позадержалась государыня.
«Отказать нельзя. Обида большая. Вернешься с похода богомольного — не угомонишь терема».
И, приняв решенье уже твердое, так кончила государыня:
— Ежели хотенье имеют помолиться, я этому делу, богоугодному, не противница, пускай поспешают, собираются. Завтра утречком на заре и выедем.
Не пришлось на этот раз царевичу с Федосьюшкой «Рай» в шкатулочке поглядеть, не пришлось и Натальюшке с сестрицей любимой позабавиться. Заторопилась царевна. Не посмотрела даже на слезы Натальюшкины — чуть бегом не убежала, сестриц с тётками оповестить заспешила.
Словно в улье перед роеньем, загудел царский терем. Кравчие, ларешницы, постельницы, мовницы — все на ноги встали. Казначеи заспешили к царицыной Мастерской палате, сундуки, коробья, ларцы отпирать. Ездовое да выходное парадное платье всех царевен за их печатями там хранилось. Распечатывали сундуки кипарисовые, где от всякой порчи, заговора и наговора белье береглось. Лекарки домашние снадобья всякие, на случай хвори нежданной, припасали.
А в кухонных избах, в подвалах, в кладовых ночь целую челядь глаз не сомкнула. Там в путь-дорогу съестное всякое да питье разное набирали. Не для одного царского стола припасов требовалось. Целые возы с рыбой отборной и свежей, и соленой, бочонки с икрой, кадушки с медом царица в дар обители с собой повезет.
Ночь наступила. И на Спасских, и на Тайницких, и на Троицких воротах в каменной стене вокруг Кремля часы музыкой давно отбивают ночное время. А Федосьюшка все заснуть не может. Все к окошку бегает. Красно ли наутро-то будет? А вдруг да гроза! В грозу царь-батюшка ни за что не отпустит. Хочется царевне взглянуть, чисто ли небо звездное. Комнатный сад не дает. Окна Федосьюшкины все до одного туда глядят, а в саду стенка высокая, каменная.
2
По большой столбовой дороге, что идет от Москвы к Троице, потянулся царицын поезд.
Открывают его стрельцы с батогами, за ними скороходы с бичами, чтобы путь расчищать. За скороходами огромная колымага царицына, по золоту разными красками расписанная. За нею опять стрельцы да стольники для обереженья, за ними колымага с царевнами большими, потом колымага с царевнами меньшими, а дальше колымаги с боярынями, с боярышнями, с мамами, с сенными девушками и с разной другой женской челядью.
За колымагами отряд с казной шатерной и столовой. Здесь и укладничий, и шатерничий, и стольники, и подьячие, и ключники, и подключники, и истопники. За ними повозки с верхами суконными, коронами украшенными. В одной из повозок постели путные, в других — платье, белье и разная мелочь походная вместе со столами разъемными и стульями разгибными.
Позади всего поезда «телега поборная». В нее складывают покупки, дары, которыми царице народ челом бьет, и все челобитные, что ей по пути подают.
Рядом с телегой старший дьяк царицына приказа шагает. Он челобитные отбирает, счет им ведет.
Далеко в длину вытянулся поезд царицын, а в ширину дороги ему не хватило. Колымаги просторные, а по сторонам их пешими идут бояре ближние, дети боярские, стольники, рынды с мечами.
Стрелец
Рында
Рядом с колымагой царицыной выступают верные сберегатели молодой царицы, ее родный батюшка Кирилл Полуэктович Нарышкин с дядею Артамоном Сергеевичем Матвеевым. Оба в кафтанах золотных, на обоих оплечья и шапки каменьями самоцветными расшиты. У грузного Кирилла Полуэктовича дорожный посох сандального дерева при каждом шаге золоченым острием глубоко в сухую землю уходит. Матвееву — тому полегче. Толщины на нем боярской нет, да и к ходьбе он привычнее. За границей бывал Артамон Сергеевич, там ходить научился.
Артамон Сергеевич Матвеев
— Сергеич! — вдруг крикнул царевич Петр, проворно откинул персидскую камку с колымажного окна и застучал пальцем по слюде, расписанной травами и розанами. Быстро обернулся Артамон Сергеевич на голос любимца своего балованного, но еще быстрее одна из мамушек от окошка царевича оттащила, а другая — погуще складками занавеску на том месте, где выглянул мальчик, собрала.
— Селом как раз едем. Ах, грех-то какой! Недоглядела ты, мама, — с укором сказала бабушка.
Анна Леонтьевна, царицына мать, сидела рядом с дочерью, сложив на коленях пухлые белые руки.
С той поры, как дочь сделалась царицей, эти когда-то проворные руки, которыми Анна Леонтьевна работала и в доме, и в саду, и в огороде, теперь только надевали да снимали дорогие перстни. За четыре года сухая хлопотунья Анна Леонтьевна стала толстой, важной, важнее самой царицы. И боялись ее все боярыни больше, чем Натальи Кирилловны. Каждая, наперерыв, ей чем-нибудь да угодить старалась.
После слов ее к мамушке все боярыни, что на атласных тюфяках под расписными розами, репьями да птицами сидели, все до одной испуганные лица сделали, головами закачали, заахали:
— Ты, мама, в оба глядеть должна. Мало ли по дороге прохожих, да с глазом лихим. Глянут, и вся недолга — испортили.
— Вот Федорушку тоже на днях…
— С Натальюшкой-то что было…
А царевич все крутился в маминых руках и, покрывая женскую трескотню, требовал звонким голосом каких-то калачиков.
— Повремените малость, — сказала царица, и разом все стихло.
— Тебе, Петрушенька, чего? — наклонилась она к сыну. Разобрали, и оказалось, что царевич, выглянув из окошка, разглядел, как на торгу продавали какие-то калачики.
— Будь по-твоему, сынок. Купим калачиков.
Остановили весь поезд царицын.
Казначея из мешка дьяку на покупку денег отпустила. Приказала сходить за калачиками да прихватить за одно всего, что на торгу приглянется.
Пока дьяк ходил, царица деток рядышком посадила, а Федосьюшку, для уговора ребячьего в царицыну колымагу взятую, рядом с царевичем Петром пристроили.
Примолкли ребятки. Что им с торгу дьяк принесет, дожидаются. Натальюшка калачики любит. Так вся к дверцам и подалась, их дожидаючи. А царевич Петр шепчет Федосьюшке:
— Эх, самому бы сбегать да выбрать…
Только царевичу Ивану словно все — все равно. Пересадили его — пересел. На новом месте, как и на старом, сидит — не шевельнется. Глаза опустил. Пуговки золоченые на своем кафтанчике атласа желтого перебирает.
— Аль тебе калачиков не хочется? — спрашивает его мачеха и, не дождавшись ответа, обращается к матери — Надобно бы мне тебя, матушка, послушаться. Хорошо было бы и Федорушку захватить…
— Другим разом и Федорушку возьмем, — говорит Анна Леонтьевна. — Что дьяк-то замешкался? Гляньте-ка, боярыни, не идет ли?
Но, вместо дьяка, из села народ привалил. Как увидели люди, что остановился поезд, все на дорогу бросились.
А по колымагам тревога:
— Государыни царевны, от окошек отстранитесь. Занавеску плотнее, мамушка, сдвинь! Вдруг да увидят!
Заработали стрельцы и скороходы батогами да бичами. Ничего не помогает. Народ к золоченым колымагам, как река, бежит. Всякий, что успел, чего Бог послал, с собой прихватил. Не с пустыми руками бегут люди к царице. Приказали царицын батюшка и дядя людей к колымаге государыниной допустить. Приняла казначея пироги пряженые, блинки горячие, квас, мед, брагу холодненькую. Иное со стольниками в поборную телегу отослала, а иное по колымагам разнести велела.
Прежде чем дьяк с торгу поспел, царевичи и царевны блинками закусили, кваском запили. Калачики уж не так вкусны показались. Больше радовались братинкам да ложкам расписным, коникам деревянным да репке с морковью, которые дьяк прихватить догадался.
Забавлялись малые. Те, кто постарше, на них глядючи, утешались, а колымага свое дело делала. Огромные, железом обитые красные с золотом колеса, не торопясь, поворачивала, на ухабах подскакивала.
Наспех собралась государыня. Не успели для ее проезда царского, как полагалось, дорогу починить. В одном месте чуть совсем на бок не завалилась колымага. У царевича Петра от толчка шапочка с головы скатилась. Толстую казначею за руки поднимать пришлось. В другом месте, как через реку ехали, мост такой попался, что, благословясь, бродом пошли.
А как ухнули в речку колеса, как забурлила вода, как ударили брызги в слюдяные оконца, не удержали малых старшие. Занавеска на сторону, оконца настежь — все головы наружу. Кричат дети, пищат. Колеса по воде шлепают. Мамушки да боярыни охают. Из колымаги, где царевны-сестрицы сидят, тоже визги слышатся.
У царевичей и царевен щеки от брызг мокрые. Царевичу Петру ворот смочило. Вытирать не дает.
— Не надо! — кричит.
Едва проехали, по местам, где им сидеть полагалось, детей рассадили. Затихли на время малые. Да ненадолго.
— Ой и жарко же! — пожаловалась Федосьюшка, а за ней и все распищались: «Жарко, жарко!» Взглянула на детей сама раскрасневшаяся от духоты Наталья Кирилловна, а они все, что пичуги заморенные, рты пораскрывали, глазами чуть смотрят.
— Где едем? — спросила Наталья Кирилловна боярыню, что поближе к окну сидела.
Вздрогнула задремавшая боярыня, но раньше, чем успела разобрать, что ей сказали, другая уже за нее ответила:
— Полями, государыня царица. По одну сторону поля, лес — по другую.
— Отними запону. Окошко приоткрой, Матрена Васильевна, — распорядилась Наталья Кирилловна.
Зазвенели колечки серебряные по желтому шелковому шнуру, протянутому вдоль всей колымаги. Распахнулось маленькое окошко в красоту великого мира Божьего. Встрепенулась Федосьюшка. Насторожилась, словно птица пойманная, когда ее с клеткой вдруг да на чистый воздух вынесут. И как птица в клетке по жердочкам, так от одного окошечка к другому стала переметываться царевна. С одной стороны колымаги — поля зреющие. Клонит тяжелый, желтый уже колос под легким ветерком рожь усатая. С другой стороны темной стеной встал густой бор, голубое небо безоблачное и солнце заслонивший. Только кое-где, сквозь листву, золотые лучи прорвались и зелеными зайчиками по лицам и одеждам забегали.
— Государыня-матушка, дозволь слазку сделать, — взмолилась Федосьюшка.
А Наталья Кирилловна и сама уже про слазку думала.
— Останови поезд, Матрена Васильевна, — приказала она казначее.
Стрельцов, рынд, ключников, подключников со всею челядью мужской подальше угнали, и, словно орехи из кузова, выкатились из колымаг все, кто на золоченых да на атласных подушках сидел. Выкатились кто в сторону полей, и к то к лесу поближе. Выкатились и стали. С непривычки после колымаги Божий свет уж очень просторен показался.
Первой царевна Софья в себя пришла. Шагнула вперед своей поступью тяжелой, уверенной, и за нею все Алексеевны тронулись, а за царевнами их боярыни, боярышни заспешили. Сенные девушки солнечники над царевнами пораскинули. Михайловны так в колымаге и остались. Ирина Михайловна сестер не пустила. Сказала, что раньше Тайнинского слазки никогда не бывало, а разгуливать в полях и лесах, на богомолье собравшись, совсем не дело.
Федосьюшка сразу на ту сторону, где лес, перебежала.
Там царица с детками шла.
— Дозволь, государыня-матушка, ягодок понабрать.
— Чего же не поискать? Ищите. Только поближе к дороге держитесь. Зверь либо человек лихой не наскочил бы.
А царевнам и говорить нечего, чтобы в чащу не забирались. На каблучках высоких далеко не уйдешь. Сенные девушки — те живо разулись, а царевнам негоже босыми по лесу бегать.
— Царевны бо́льшие так в колымаге и сидят, — шепнула Наталье Кирилловне мама с Натальюшкой на руках.
А другая мама, с царевичем Петром на коленях, прибавила:
— Сказывают, не по обычаю будто нынче слазку делают.
Наталья Кирилловна чуть поморщилась. Не к добру остались золовки в колымаге. Пересуживают ее теперь, что не по положенью она сделала.
Но другие мысли посылает лес Наталье Кирилловне.
Эти леса, до самого села Тайнинского, вдоль и поперек мужем ее любимым, царем Алексеем Михайловичем, изъезжены: соколиной охотой он здесь тешился. И Наталью Кирилловну не раз с собой на охоту, против обычая, брал. Тогда тоже золовки гневались. Но не печалил молодую царицу их гнев: за охоту соколиную все стерпеть можно.
Недаром сам царь в правилах этой охоты написал: «Красносмотрителен и радостен высокого сокола лёт… Забавляйтесь и утешайтесь сею доброю потехою, да не одолеют вас кручины и печали всякие».
И взгрустнулось Наталье Кирилловне, когда подумала она, что давно забросил царь свою забаву любимую. С той поры, как сибирского славного кречета Гамаюна в рощах Сокольничьих государь пробовал, ничего об охоте не слышно. И когда охота будет, про то неведомо, и что за причина тому такая — никто не знает. Только сердце-вещун неспокойное, словно беду чует, когда царица об охоте раздумается. Уж здоров ли сам ее сокол ясный, царь-государь Алексей Михайлович.
Пробовала царица с матушкой про тревогу свою говорить, заговаривала и с батюшкой и с другом верным Матвеевым — все в один голос заверяют ее, что в добром здравии царь-батюшка.
А царице все что-то не верится.
— Из Тайнинского гонца со здоровьем к царю послать надобно, Сергеич, — говорит она подошедшему Матвееву. — Как-то он там в Москве с Федорушкой?..
Заглянул Артамон Сергеевич в лицо любимой племянницы. В рамке белого, расшитого золотом и жемчугом дорожного убруса оно ему печальным показалось.
— Заскучала, государыня? — ласково улыбаясь, сказал он. — Вот дай нам малость с Петрушей пешими пройтись. А там живо и до Тайнинского доберемся.
Идут, лесными и полевыми запахами обвеянные, по тропе, что рядом с большой дорогой стелется, царица с царевнами и царевичами. За ними мамы, боярыни, боярышни, сенные девушки.
Царевна Федосьюшка от гущины лесной глаз отвести не может. Манит ее сумрак душистый.
А царица торопит:
— В Тайнинское пора, — говорит. — К обеду нам поспеть туда надобно.
Едва успела Федосьюшка с дороги лиловых да красных цветиков с собой в колымагу прихватить. Царевны Катеринушка с Марьюшкой целую охапку васильков натащили.
— Венки станем плесть! — кричат.
Поехали.
Возле села Тайнинского на поляне раскинутые шатры алого сукна богомольцев дожидались. В высланной сюда еще ночью поварне давно обед поспел.
Прежде чем за стол сесть, государыня стольника к царю со здоровьем послала. А как кушать сели, в ту самую пору из Москвы гонец от государя поспел.
— Государь с наследником и с царевной в полном добром здравии, — оповестил он. — Спрашивает царь, в добром ли здоровье государыня свое богомолье свершает?
Радостная, успокоенная села за обеденный стол Наталья К ирилловна.
После обеда не сразу в путь тронулись.
Отдыхать во всех шатрах полегли. А как поднялись, жара к тому времени спала. По вечерней прохладе поехали. Думали ехать сразу, не мешкая, а через версту, у самого села, постоять пришлось. Народ дорогу запрудил.
Пытали стрельцы да скороходы батогами, бичами работали, чтобы задержки не было, да государыня не приказала.
Остановились колымаги.
Пораздвинули пальцы, перстеньками унизанные, по окошкам камку персидскую. Любопытные девичьи глаза глянули в мир неведомый.
Запыленные, обгорелые лица, мозолистые, корявые руки, одежды холстинные да сермяжные. Кто на коленях, кто совсем на земле, серой от пыли, серым комком лежит, а тот, кто стоит, только потому на ногах удержался, что последней догадки перед золоченой колымагой лишился.
Такого хоть насмерть бичом забей — с места не тронется.
Попик тощенький с матушкой в телогрее заплатанной да с дочкой косенькой, в алый сарафан принаряженной, вперед к самой колымаге протиснулся. Сам попик с бражкой, попадья с блинками, дочка с медом сотовым. Все трое до земли кланяются, дары к колымаге, львами да орлами по золоту расписанной, протягивают.
Разглядела их через занавесочку Наталья Кирилловна и приказала дары принять, а попу с семейством выдать по рублю на человека.
— Там их много с дарами… Есть и с челобитными, которые… — шепчет взволнованная Федосьюшка. — Старики… старухи… детей много…
— Всех деньгами одели, Матрена Васильевна, — приказывает государыня казначее. — Кому копейку, кому алтын. Никого не обижай. Детям по грошику. Дары в поборную телегу складывайте. А челобитные пускай дьяк все до одной оберет.
Дары с челобитными обобрали. Дальше поехали. Путь от Тайнинского полями пошел. Лентой, закатным солнцем расцвеченной, вилась на просторе река Яуза. Ласточки острыми крыльями траву чиркали. Сильнее запахло цветами, спелой рожью. Откуда-то издали песня донеслась, а кругом — безлюдье: одни поля золотые. Где-то рожь уж зажинают.
— Жнецы с поля пошли, — прислушавшись, сказала Наталья Кирилловна и, помолчав, прибавила — Ночь тихая, теплая подходит. В патриарших палатах в Пушкине душно будет. В шатрах заночевать бы.
— В шатрах, в шатрах! — подхватил царевич Петр.
— Петрушеньку нам не застудить бы, — опасливо молвила Анна Леонтьевна. Пуховики в патриарших палатах были ей больше по вкусу раскидной путной кровати.
— Спаси Господи! Долго ли! Да вдруг дождик, — хором поддержали ее боярыни.
— В шатрах! — еще громче крикнул царевич и даже кулачком пристукнул.
А Федосьюшка шепотком тоже в шатры просится.
Решила Наталья Кирилловна в шатрах заночевать.
Совсем стемнело, когда колымаги остановились у шатров, освещенных изнутри слюдяными фонарями.
Уселась царица с царевнами на раздвижных стульях за накрытыми уже раскидными столами, и забегали стольники между столовым и кухонным шатром с блюдами, мисами, тарелами и жбанами.
— Петруша-то спит совсем, — сказала Федосьюшка.
— Заснул, заснул царевич-батюшка. Ну-ка я его в постельку положу… — И мама бережно поднимает царевича и, осторожно ступая, выходит из столового шатра. За ней встает мама с Иванушкой, за ними царица, а за царицей и все.
Тихая теплая ночь смотрит золотыми очами-звездами на затихший царицын стан. Кольцом опоясали его стражи верные, стрельцы с ружьями, батогами, бичами. Возле каждого шатра рынды, подрынды, стольники, ключники, подключники стали.
— Мамушка, душно! Полу у шатра пооткинуть бы. Пускай бы к нам звезды глянули… — запросила Федосьюшка.
— А? Что? — встрепенулась уже засыпавшая Дарья Силишна. — Аль чего испугалась, царевна?
— Душно, мамушка, жарко. На звезды поглядеть охота. Ночным воздухом прохладным да душистым дохнуть бы.
— Ишь, что придумала! Забыла, что стража кругом поставлена?
— А ты бы им, мамушка, подальше отойти велела.
От этих слов царевниных с Дарьи Силишны сразу весь сон соскочил.
— Да никак ты ума, царевна, лишилась? Без стражи, да среди поля чистого, да возле леса темного? Да мало ли людей лихих по дорогам да без дорог вокруг стана теперь бродит? Видела сколько народу незнамого у колымаг собирается? Спи, царевна! Закрой глазки. Засни.
Закрыла глаза Федосьюшка, и длинным рядом потянулись перед ней люди незнамые, от пыли серые, люди в холстине да в сермяге, люди в лаптях обтоптанные, да босые.
Открыла царевна глаза, а люди все не уходят. Незнамые люди, что по дорогам и без дорог ночью летней душистой под звездами бродят, до самого света царевне заснуть не дали.
Только вздремнула Федосьюшка, а над ней уже мама с полотенцем стоит.
— Росы я, царевна, с цветиков полевых зарею на плат собрала, — говорит Дарья Силишна, склонившись над разоспавшейся Федосьюшкой. — Дай я личико тебе оботру. Светлость красоте умыванье росное придает.
И чуть не силою вытерла мама влажным полотном Федосьюшкино лицо.
— Сразу зарозовела, — обрадовалась Дарья Силишна. — Личико-то тебе в дороге малость ветром обвеяло. Ну, да ничего. Дома у меня, на случай загара, настой из дубового листа припасен.
Еще не высохла на полях роса прохладная, когда царские колымаги дальше в путь тронулись.
Федосьюшка приподнятую оконную занавеску из рук не выпускает.
Возле Пушкина, как и вчера у Тайнинского, целая туча незнамых людей скопилась. И опять, как вчера, у кого челобитные в руках, у кого дары.
Кланяется народ, к земле припадают люди, подолгу лежат на ней комьями серыми, неподвижными.
— Матушка государыня, стать прикажи. Прикажи оделить деньгами, — без умолку повторяет Федосьюшка.
— Ох, припоздаем к вечерне, — вздыхает на каждой остановке царицына мать и, пока стоят, все хмурится и ворчит.
Опять за окошками колымажными потянулись поля, леса. Встречных людей, чем ближе к лавре, тем все больше. Богомольцев с котомками за спиной, с клюками дорожными оставляет за собой поезд. Нищие, издали завидев стрельцов царицыных, запевают:
Уж ты, свет государыня, Ты подай нам милостыню спасенную, Ради Христа, Царя Небесного, Ради Матери Божьей Богородицы, Ради Святителя Чудотворца Сергия.Кончат и опять сначала запевают. Кланяются и поют. Покрасневшими от пыли и солнца глазами глядят в окошки, наскоро задернутые камкой персидской, а мимо них, обдавая пылью дорожною, переворачиваются красные с золотом грузные колеса расписных колымаг.
К монастырю с последней стоянки, как вечереть стало, тронулись. До самой обители лесом, красными закатными лучами прорезанным, ехать пришлось. Здесь, по краю дороги, почти непрерывной цепью народ стоял.
Завидев поезд, земно кланялись расписным колымагам
Гонец с вестью о пришествии царицыном за день опередил поезд, и все население посада, все нищие, убогие, безрукие, безногие, горбатые, юродивые и слепые двинулись навстречу царице. Завидев поезд, земно кланялись расписным колымагам со слепыми окнами и громко, нараспев выкрикивали свои моления. Раскачиваясь, на один голос пели заунывные стихи. Пели о Лазаре:
Живал себе славен на вольном свету, Пивал-едал сладко, носил хорошо, Дорогие одежды богат надевал, Милостыню Божью богат не давал…О Страшном суде пели:
Спустился на землю судья праведный, Михаил Архангел, свет. Со полками он, с херувимами, Со всею он силою небесною, И с трубою он златокованой…Сразу Федосьюшка приподнятый край занавески выпустила, когда взглядом встретилась с глазами незрячими. Жутко стало царевне и от глаз невидящих, и от гула людского. Отошла, как, все покрывая, раздался из обители колокольный звон.
Угольная башня крепостной стены Троицко-Сергиевского монастыря
Вовсю звонят колокола троицкие. Пропускают, невидимыми руками широко распахнутые, ворота — золоченые колымаги. Во дворе ни души. Все, начиная с самого игумена, в кельи попрятались. Старый обычай дедовский даже монахам на дворцовых затворниц глядеть не велит.
Одна за другой, прямо к собору, направляются колымаги. С двух сторон дверец до входа церковного из алого сукна переход сделали. Этим переходом царица с царевичами и царевнами в церковь на потайное место проходит. У царицы и царевен лица еще белыми фатами из крымской кисеи принакрыты. Только в церкви за запоной шелковой те фаты откинулись.
Душистым ладаном пахнет.
«В лесу, когда дорожкой, скользкой от опавшей хвои, шли, так пахло», — вспомнилось вдруг Федосьюшке.
В синеватом кадильном дыму мерцают зажженные перед образами свечи.
«Словно звезды, на которые ночью из шатра поглядеть хотелось», — подумалось царевне.
Под молитвенное пение монашеское склоняются до земли, каждая со своим молением, все теремные затворницы.
Приветно встретили гостей монастырские келейки, освещенные восковыми свечами. Поужинав постным, сладко и крепко позаснули все среди бревенчатых стен, пахнувших деревом и смолкой.
Одной Наталье Кирилловне не спалось.
Выждав, когда все успокоилось, среди ночи глубокой поднялась царица. С матушкой да с двумя боярынями самыми ближними прошла в собор государыня. Пелену, ее руками за здравие царя расшитую, на гроб Чудотворца она положила и молилась в соборе, пока в колокол к заутрене не ударили.
А утром, после обедни, когда и народ, и все монахи, до одного человека, из собора повыходили, святительским мощам кланялись царевны в праздничных летниках белого атласа, с золотыми, до земли, рукавами-вошвами.
За царицей мамы царевичей, в золотых кафтанчиках, на руках к мощам поднесли.
Всем хотелось в тихой обители, каменными зубчатыми стенами от мира отгороженной, хотя бы два денечка еще погостить, да Наталья Кирилловна на этот раз несговорчива была. Сама Ирина Михайловна просила ее с поездом повременить. Старшей царевне отказала молодая царица. Ушла Ирина Михайловна из кельи Натальи Кирилловны до того разгневанная, что даже посоха своего дорожного деткам поглядеть не дала. А те просили. Хотелось им поглядеть трубку подзорную, в рукоятке вставленную.
— Останемся, сестрицы, в обители, да и все тут, — вдруг предложила Софья-царевна. — Пускай царица себе едет, а мы и одни поживем.
Царевны в это время горячими блинками закусывали. Так у них от этих слов Софьюшкиных блинки в горле стали.
— Как же это? Одним? Да разве так водится? Да когда же так бывало?
Смотрят царевны на Софьюшку во все глаза.
А она смеется:
— Чего испугались? Останемся, да и вся недолга. Своей воли у нас, что ли, нет?
А царевны в ответ ей ни словечка. Наспех блинков поглотали и, как только колымага к крыльцу подъехала, из кельи заторопились. Испугались, как бы Софьюшка их в обители не удержала.
До того заторопилась в Москву Наталья Кирилловна, что и слазки раньше обеда не велела делать. А только часу не прошло, как возле леса остановили весь царский поезд. Царевич Петр из открытого окошка ежа разглядел.
— Пустите меня! — кричит. — Поймаю я его. Давно мне такого ёжика хотелось.
Поймали царевичу ежа. Приказал он его к себе на полу кафтанчика положить.
Положили.
Сунул царевич палец в острые иглы. Укололся, а виду не показал. Взял Натальюшкину костяную свистулечку, стал ею ежа тормошить. А тот, как мертвый, сделался.
— Пустим его назад в лес, Петрушенька, — уговаривала сынка Наталья Кирилловна. — Неравно еще пальчик наколешь.
— В лес не пущу. На стоянке наиграюсь с ним, — порешил мальчик.
— На стоянке и поиграешь. А пока пускай спрячут ёжика. — И Наталья Кирилловна сделала казначее знак, чтобы убрали ежа. — В поборную телегу спрячьте, — прибавила она.
Схватили ежа, сунули в холщовый мешок и потащили в поборную телегу с дарами, покупками и челобитными.
А в обед царевич про ежа и не вспомнил. По пути ему расписным возком с деревянными кониками поклонились, да братинками, да ложками резными. Забав и без ежа набралось.
Хотела царица и Воздвиженское, где уже который год у Катерины-пряничницы всегда останавливались, миновать, да взбунтовались детки.
— Без мятных рыбок не хотим домой ехать! К Катеринушке заедем!
Пряник
А Катеринушка-пряничница, на всю округу прославленная, царицу с раннего утра дожидалась. Нарядилась баба во все наилучшее, домашних вырядила, пряников горой на блюдо, шитым полотенцем накрытое, навалила, на крылечке резном стала, с дороги глаз не спускает.
Нарядилась баба во все наилучшее, царицу дожидается.
А внизу крылечко народ обступил. Бабы, мужики, ребятишки сбежались поглядеть, как Катерина пряниками царице поклонится. Со всего Воздвиженского люди понабрались. Богомолка старая с девчонкой селом к Троице проходила. Узнала, что царицу ждут, не пошла дальше. Вместе с воздвиженскими у Катерининой избы привал сделала. Пытали ее прогонять, а потом и сама запросилась бы старая — не отпустили бы. Бабушка занятная, речистая оказалась. Про свои богомолья так рассказывала, что с нею половина дня за часочек показалась. Ну, а девчонка ее — та уж юластая. То туда, то сюда и всем под ноги, а хватилась ее бабушка — след Орьки простыл. В лес с ребятишками за малиной убежала. А тут как раз передовые стрельцы царского поезда показались. Про Орьку даже бабушка сразу забыла.
Насторожился народ. Затих.
Выждала время Катеринушка и со ступенек сходить стала. Привычная она была. На нижнюю ступила в то самое время, как царицына колымага у крылечка остановилась. Уже блюдо с пряниками протянула баба казначее, как вдруг, откуда ни возьмись, богомолкина девчонка в сарафанишке заплатанном, босая, с косёнкой, лоскутом заплетённой, в самое блюдо с разбега головой ударилась.
Ахнуть не успела Катерина, как пряники ее на земле очутились. Обомлели все. Оторопела девчонка. Схватилась рукой за ушибленный лоб. А Катерина ее да за косёнку.
— Убить тебя мало! — кричит. От злости и стыда все голове помутилось у бабы. Румяное лицо словно снегом покрылось, страшным сделалось.
Увидала его из-за камки персидской Федосьюшка и не своим голосом крикнула:
— Девочку не вели обижать, государыня-матушка!
Всполошил царевнин крик всю колымагу. Царевич Петр кулачонками в дверцу забил. Натальюшка заплакала. Царевич Иванушка к маме прижался. Боярыни к окошкам потянулись.
— Сходи поскорей, что случилось, немедля разузнай! — приказала одной из них Наталья Кирилловна.
Только двери приоткрыла боярыня, а навстречу ей казначея.
— Из-за девчонки бродячей царские дети без пряников остались, — ворчит.
— А девочку били? — Федосьюшка спрашивает.
— Поймаешь такую! Со всех ног девчонка в лес припустилась. Ищи ее там.
— А в лесу волки, звери всякие, — вспомнилось Федосьюшке.
— Да что за девочка такая? Чья она? — спросила Наталья Кирилловна.
И рассказала казначея, что девочка и совсем ничья. Где-то по пути старуха богомолка подобрала ее, а теперь, после беды с пряниками, слышать про нее не хочет.
— Разве такую мне надобно? — кричит. — С ней беды не оберешься.
А пряничница вопит:
— К дому близко не подпущу разбойницу!
— Пропадет девочка… Матушка! — С плачем припала Федосьюшка к жемчужному оплечью царицы. — Девочку бы нам к себе на Верх взять. Ничья ведь. Она бы за птичками моими походила…
Гладит рукой Наталья Кирилловна мокрые от слез щеки Федосьюшки. Всем тонким слабым телом прильнула царевна к Наталье Кирилловне. Утешить, успокоить захотела царица между падчерицами свою любимую.
— Прикажи, Матрена Васильевна, девочку немедля отыскать. Я ее на Верх беру. — Так сказала царица и велела в путь трогаться.
Заворочались тяжелые колымажные колеса, подымая пыль с разъезженной дороги, а стрельцы полетели к лесу, куда им люди указывали. Схватили они Орьку, как зайчонка, за кустик со страху присевшую. Как зайчонок, выбивалась девчонка из крепких рук. Всем тощим телом выкручивалась. Не выкрутилась. Потащили Орьку к поборной телеге. Опомниться не успела девчонка, как очутилась затиснутой между кадушкой меда, плетушкой с малиной и мешком, где ёж сидел.
Так Орька нежданно-негаданно в Москву, во дворец царский, попала.
3
Только из колымаги в терем Федосьюшка ступила, стала она про девочку из села Воздвиженского спрашивать.
— Да точно ли привезли ее, мамушка? Сходи, разузнай, милая.
— Девчонку бродячую с дороги в царский терем тащить! Да ее допрежь того в семи щелоках отмывать надобно.
Смутилась Федосьюшка да вспомнила, что нынче день субботний как раз.
— В баенку прикажи сводить девочку, мамушка.
— Вот это дело. Отмоют девчонку, тогда и приведут, — огласилась Дарья Силишна. — А только ума не приложу, тебе-то она на что?
— На что? — повторила Федосьюшка, и разом душистой зеленой стенкой встал перед нею бор, речка блеснула, пестрыми головками цветики закивали.
Молчит царевна, не знает, что маме ответить. Слов не находит. Сама хорошенько не понимает, зачем это ей так девочку взять захотелось.
— Веселее с нею будет, — нерешительно начала она. — Для забавы взяла…
— Для забавы? — удивилась Дарья Силишна. — Жди, пока девчонка бродячая смехотворные хитрости одолеет. Для забавы Дунька-калмычка куда лучше ее годится. Царицына постельница мне ее намедни совсем отдавала. Две Дуньки у них там завелись: Дунька-немка да Дунька-калмычка. Обеих одним именем, не подумавши, окрестили, и вышло, что в одном месте их держать не способно. Одну кликнут — другая бежит, а то и обе вместе кидаются. Девочки занятные: обе дурковатые, калмычка презлющая. Ее ежели раздразнить, как кошка в человека вцепится. Калмычку и возьмем.
Но Федосьюшка даже головой замотала:
— Не хочу калмычки…
— Не хочешь калмычки, другую найдем. Опять же у государыни царевны Татьяны Михайловны всяких девчонок лишних для раздачи много. В подклети места для спанья всем не хватает. Девочка безногая у нее там. Что твой кубарик, на руках по терему катается. Ее бы выпросить.
— Не хочу безногую…
Больше не стала мама царевну и уговаривать. Тиха-тиха Федосьюшка, а ежели чего уж очень захочет, ни за что не собьешь ее. Мама это хорошо знает и перешла на другое:
— Ездовое платье твое, царевна, мне прибрать надобно. Я приборкой займусь, а тебе боярышен да сенных девушек пошлю.
Поморщилась Федосьюшка. Боярышни хотя и считались у нее, как и у всех царевен, за подружек, но ей с ними всегда бывало скучно.
— Пускай лучше боярышни в светлицу идут. Там у них ожерелье жемчугом низать начато. А девушки пускай в сенях посидят. Когда понадобится, я их свистулечкой позову.
Захлопотала мама, царевнины телогреи с летниками разбирая.
— Кружевцо золотное у ворота пообтерлось. На зарукавье жемчужинки не хватает. А вот и пуговка корольковая болтается. Все, раньше чем в Мастерскую палату по описи сдавать, в светлицу занести надобно. Пускай там починят. Да и на чеботках серебряная подковка порасшаталась. Чеботнику сказать надобно, чтобы гвоздиками подбил.
А царевна, пока мама окруты ее разбирала, ларец кипарисовый, в золото и серебро оправленный, пред собою на стол поставила. Захотелось ей перстенечки, сережки да цепочки самой по местам уложить. В коробочки, красным бархатом обитые, с ящичками выдвижными, «золотая казна» убиралась.
По ящичкам все бережно разложила царевна и кипарисовый ларец на замочек замкнула. Ключик в потайное место, в поставце возле кровати, положила.
А мамы все нет. В светлицу, сказывала, пойдет, потом к чеботнику, а уж потом за девочкой.
Села к столу царевна, лазоревый атлас, на верх шапочки выкроенный, перед собой положила. Открыла шкатулочку, где хранился жемчуг вместе с дробинками от камешков самоцветных.
Ухватила царевна искорку изумрудную, хотела паве, шелками расшитой, вместо глаза ее посадить — и раздумала. Не люба вдруг стала ей пава пестрая.
Другой бы ей узор на лазоревую шапочку выбрать. Травами бы шапочку расшить.
Вспомнились Федосьюшке былинки придорожные, сквозные листья рябиновые, игольчатые веточки елей и сосен. Тропинки, словно змейки средь травы зеленой, в гущине леса побежали.
«Не хочу павы с хвостом жемчужным», — вдруг решила царевна и проворно запрятала в шкатулку лазоревый лоскуток.
А и ту пору и Дарья Силишна вернулась.
— Девчонку прямо из баенки сюда приведут. А тебя, Федосья Алексеевна, царевна Ирина Михайловна через свою казначею к себе звать наказала. Нови ей всякой из Покровного сада прислали. Поглядеть просит.
Заблестели глаза у Федосьюшки:
— Слаще малины Покровской ни в одном саду нет! Побегу я скорее, мамушка.
Непривычно людно и шумно в покоях Ирины Михайловны. Обычно в них тишина. Старая царевна шума не любит, молодых к себе не приближает. Все ее боярыни и прислужницы женщины пожилые, говорят тихо, носят платья темных «смирных» цветов. На монастырские кельи царевнин терем похож. И запах в нем монастырский: ладаном и воском повсюду пахнет. Только сегодня по-другому все у Ирины Михайловны. Набежали в ее терем сестрицы Михайловны с племянницами Алексеевнами. За ними боярыни да боярышни их пробрались. Всем захотелось на покровскую новь поглядеть.
А новь — удивленье.
Ну и вишенье! А розы! Ну и махровые же!
— А дыни-то каковы? — спрашивает Ирина Михайловна, и от довольной улыбки молодеет ее увядшее лицо.
Покровский сад — это последняя, не изменившая ей, радость.
Все, чем жизнь веселила царевну, ушло от нее. Изменил любимый жених, датский королевич Вольдемар. Еще при отце своем, царе Михаиле Федоровиче, она это горе узнала. Дикой, неприветной показалась королевичу родина его невесты. Московию до того невзлюбил он, что и жены из нее брать не захотел. Пытал царь королевича уговаривать, вотчины богатые за дочерью любимой жениху сулил, а королевич в ответ только молил в Данию его поскорей отпустить. Горевал Михаил Федорович горем дочери любимой, так горевал, что от этого гореванья последнего здоровья лишился.
Скончался батюшка, умерла матушка; бабки, инокини Марфы, еще раньше, чем их, не стало. От любимых у царевны только сад покровский остался. Бабка-инокиня царевне его подарила. И Михаил Федорович этот сад больше всех садов любил.
В переднем углу, под образами с лампадами зажженными, на своем кресле позолоченном, старая царевна сидит, а перед нею на столе две дыни, каждая в полпуда весом.
Ахают царевны, руками всплескивают, на дыни не налюбуются, к розам — понюхать их — тянутся.
Стоит позади всех, почти у порога, Федосьюшка. Ничего ей, кроме островерхих маковок тёткиного золотого венца, не видать. Хорошо, что Софьюшка сестрицу заметила.
— Пропустите Федосьюшку к столу!
— Ну и дыни! Таких я еще и не видывала! — на весь покой раздался звонкий Федосьюшкин голос.
— Да, удались нынче дыни, — сказала Ирина Михайловна. — Таких даже и при батюшке не бывало. Выдай садовнику за его старанье четыре аршина сукна вишневого на кафтан, — приказала она своей казначее-боярыне, — а дыни разошли: одну патриарху отправь, другую — к столу государеву. А вы, сестрицы любезные и племянницы дорогие, в столовый покой пожалуйте. Вишенье там для угощенья вам припасено.
Низко поклонились царевны Ирине Михайловне.
— За ласку, за угощенье спасибо тебе, государыня.
Потянулись царевны к дверям, а Марьюшка с Катеринушкой, перемигнувшись, поотстали и опять к столу подошли.
— Травы иссоповой вместе со слетьем не прислано ли тебе, государыня? Для светлости лица нет иссопа лучше покровского.
— Прислали иссопу, — отвечала племянницам Ирина Михайловна. — У боярыни постельничьей возьмите.
Услыхали и другие царевны про траву иссоп, все до одной вернулись у Ирины Михайловны травки попросить.
— Много ее там, на всех хватит, — успокоила их старая царевна.
Ушли сестрицы и племянницы. Одна осталась в покое на своем кресле золоченом Ирина Михайловна. Розы готторпские на столе перед нею.
В соседнем покое молодой говор, смех девичий звонкий. Когда-то и сама Ирина Михайловна так смеялась. Веселая это была пора, когда из садов герцога готторпского батюшке-царю Михаилу Федоровичу розы привезли. До привоза этого на Руси один только шиповник рос. От этих первых готторпских кустов и пошли розы, что теперь лежат на столе перед царевной. То-то была радость да удивление, когда на кусту зацвела первая роза!
Королевича Вольдемара тоже водили в сад. Розы ему показывали. Высокий, тонкий, в своей иноземной одежде, стоял он между сановитыми бородатыми боярами в тяжелых, до земли, кафтанах. Ирина Михайловна тогда на него в слюдяное окошечко глядела. Цветами разными то окошечко было расписано, и королевич прильнувшей к окошку царевны не мог видеть. Но, прежде чем отойти от розового куста, откинул он голову и глянул прямо в сторону терема.
В самую душу царевнину иноземный королевич своими голубыми глазами тогда заглянул.
Много лет с той поры прошло, состарилась Ирина Михайловна, а увидит красные розы готторпские — как живой встанет перед ней королевич, золотистую голову над розовым кустом склонивший.
Могло бы счастье быть, да мимо прошло.
Увидаться бы ей тогда хоть разок с королевичем. Быть может, красота ее, всеми прославленная, заставила бы его забыть зеленую Данию. Быть может, и полюбилась бы ему Московия. Поговорить бы ей, царевне, с королевичем… Да разве царевнам с иноземцем говорить дозволено? Да разве девушек царского рода кому показывают? А если бы и показали, на каком языке они между собою говорить стали бы? Царевна иноземным языкам не обучена, а королевич по-русски ни слова не знал.
Капают слезы на розы готторпские, а из столового покоя девичья песня доносится.
Яблонька, моя яблонька, Яблонька моя зеленая,—заводит свою любимую песню голосистая Марьюшка.
Сама стану я яблоньку поливати, Сама корешок обчищати, Сама червячков обметати,—подхватывает песню Катеринушка. За Катеринушкой и все царевны запели. Заслушалась песни Ирина Михайловна и не заметила, как отворилась дверь из переднего покоя. Обернулась царевна, когда под чьим-то грузным шагом половица скрипнула. Наскоро слезы ширинкой смахнув, встала Ирина Михайловна со своего кресла и навстречу гостю нежданному, дорогому государю-братцу, пошла.
— Не чаяла я, свет мой Алешенька, что ты нынче ко мне пожалуешь.
Ставит царевна для братца любимого рядом со своим креслом другое, для почетных гостей запасенное.
— Не далеко прошелся, а устал, — говорит Алексей Михайлович, грузно опускаясь на золотое сиденье. Откинув голову на высокую спинку кресла, он кладет на бархатные поручни пухлые, с болезненной желтизной, руки. Перстни с каменьями и печатями точно вдавлены в пальцы. Не в меру за последнее время потучнел царь. Двигается с трудом. Одышкой страдает.
— Шел я спросить тебя, сестрица любезная, в добром ли здоровье ты богомолье свершила?
Ласково смотрят на старую царевну усталые, добрые глаза. В последнее время царь часто стал заглядывать к Ирине Михайловне. Тянет его к сестре. Почти погодки они с нею. Вместе кубарики расписные детьми катали. С гор вместе скатывались, на качелях комнатных, под пенье мамушек да нянюшек, вдвоем качались. Сиротами тоже вместе жили.
Благодарит Ирина Михайловна брата за его ласки и неоставленье.
— Я-то, государь-братец, в полном моем здоровье, а расскажи-ка мне, как ты здесь без нас иноземных послов принимал. Из какой земли послы те приехали и за делом каким?
— Из земель немецких да персидских посольство у меня было. У того и другого дело одно — торговое. Персы челом били, просили дозволить им шелк-сырец к немцам через наше государство возить, да и назад купчин ихних из-за моря через Архангельск с немецкими товарами в Персию пропускать. А немцы свободной торговли с персами по Волге просят. Свое согласье я и тем, и другим обещал. Теперь боярам рассудить надобно, сколько с кого пошлины брать. Да, Иринушка, с каждым годом растет наша торговля с иноземными царствами. От провоза товаров в казну пойдет пошлина, и будет от нее нашему государству превеликая прибыль. И не в этом одном выгода, — все больше и больше увлекаясь, продолжал царь, — выгода еще в том, что торговля нас сблизит с богатыми и сильными западными государствами. Перенять от них надобно все, что делает их богаче и сильнее нас.
Теперь, когда Алексей Михайлович высказывал свои заветные мысли, сразу он другим стал. Утомление исчезло лица, глаза оживились. Он выпрямился, высоко вскинул голову. И голос другим сделался: зазвучал молодо, сильно.
— Без флота нам теперь никак невозможно. Надобно у Архангельска корабли строить. У Балтийского моря места куда лучше, чем в Архангельске, да до сих пор у нас там своих гаваней нет.
Эта недоступность балтийских берегов всегда сердила и огорчала царя. И теперь, вспомнив о них, он вдруг вскипел и, неожиданно для себя самого, стукнул кулаком по столу.
Стукнул и смутился.
— Прости, Иринушка, — произнес виновато, — заговорил про скорбь мою непрестанную и вот, видишь, не сдержался… Да и про подарок, для тебя припасенный, забыл.
Откинув атласную полу вишневого кафтана, царь засунул руку в карман своей нижней одежды, такого же кафтана, только желтого цвета и покороче верхнего.
— Вот тебе, Иринушка, трубка призорная. Что дальнее в нее смотрится, все близко видится. Немцы вместе с другими подарками мне трубкой этой челом били, а мне ведомо, что любо тебе все затейное. Вот и принес.
Обрадовалась Ирина Михайловна подарку нежданному. Любит царевна всякие трубки зрительные. Много их у нее и поставцах запрятано.
— А что это у тебя, Иринушка, за стенкой словно хороводы водят? — спросил царь, прислушиваясь к пенью. — С чего это так развеселились твои боярыни да боярышни смиренные?
— Там сестрицы да все племянницы покровское вишенье отведать собрались, — пояснила Ирина Михайловна. — Давно бы им сказать надобно, чтобы приутихли малость.
Царевна направилась было к дверям, но Алексей Михайлович удержал ее.
— Не тронь их, Иринушка. Дело их молодое. Пускай веселятся.
А царевны в ту пору как раз с вишеньем прикончили и веселой гурьбой опять в теткину опочивальню вернулись, да с порога царя увидали. На месте застыли. Ширинок до ртов, красным соком выпачканных, не донесли.
— Царь-батюшка! Государь-братец! — испуганным шепотком проносится.
Смеется Алексей Михайлович.
— Девицы в теремах, что в клетках птицы, пугливы не в меру. Ближе подойдите! Дайте на себя поглядеть. Дней пять я вас не видал.
Скромницами, опустив глаза, шагом степенным, одна за другой подходят к царю девицы. Каждую Алексей Михайлович взглядом или словом ласкает.
— Что не весела, сестрица Татьянушка? А ты отчего спала с лица, Марфинька?.. Новую польскую книгу послал я тебе, Софьюшка… Здравствуй, Федосьюшка! И тебе я подарок в терем отправил. Занятную штуку мне нынче немцы привезли. Часы в собачке серебряной вызолоченной, а под ними шкатулочка. В шкатулочке много чего позапрятано. Сама разберешь, рассказывать не стану.
Обрадовалась часам Федосьюшка, даже закраснелась вся. Часов у нее не было, а эти еще и в собачке. Да и в шкатулочке-то что?
— Ну, уж беги! Вижу, тебе на часы поглядеть охота, — посмеиваясь, сказал Алексей Михайлович. — Да и все заодно бегите. Часы занятные. А после вечернего кушанья мы опять свидимся. Нынче соберемся все в Верхнем набережном саду.
4
За часами с собачкой Федосьюшка даже о девочке позабыла. Шкатулочку под часами отворяла, затворяла, черниленку, песочницу, палочку серебряную с карандашиком вместе то вынимала, то назад убирала. Всем, кто приходил, подарок показывала.
Только после вечернего кушанья, когда мама собралась царевну к выходу в сад наряжать, пристроила, наконец, Федосьюшка свою немецкую собачку туда, где ей быть полагалось: на стол в переднем углу, алым сукном покрытый. Здесь у нее черниленка с песочницей всегда стояли, и перо лебяжье, которым царевна писала, здесь же лежало, а рядом с пером книжечка записная на дощечке каменной и ножках серебряных.
Пораздвинула все это царевна и в середину собачку немецкую поставила. Потом отошла малость от стола, поглядеть, как все это у нее вышло, захотела, а в это время как раз Дарья Силишна к ней с ларцом уборным подошла.
— Торопись, Федосьюшка. Аль забыла, что нынче в Верховом саду собираются? Негоже тебе, царевне младшей, запаздывать. Нынче я тебе для выхода «шубку» кызылбашской камки приготовила, ту, что по лазоревому полю копытцами да подковками зашита.
— Не люблю шубки. Через голову продевать неловко. Распашная телогрея либо летник куда лучше.
— Царевны ноне на выходе все в шубках.
Федосьюшка покорно подставила голову, и мама накинула через нее одежду с небольшим разрезом на груди для одеванья. Потом пристегнула к вороту широкий воротник, «накладное ожерелье», шитое жемчугом и каменьями.
— Саженья золотого прибавить бы, — сказала Дарья Силишна, оглядывая царевну. — Сережки орликами в ушки продень, перстеньков прихвати.
Поднесла мама царевне шкатулку со всей «ларечной казною».
— Выбирай все, что приглянется, да побольше бери, чтобы от сестриц не отстать. Царевна Евдокея Алексеевна нынче для выхода целый день всякими травами светлость на лицо наводила: иссопом да бедренцом мылась. Царевна Татьяна Михайловна постельницу к Марфе Алексеевне подсылала: захотелось ей выведать, чем царевна яркость румянцу придает. Да та разве скажет…
И с таинственным видом, губы к уху царевны приблизивши, Дарья Силишна прибавила:
— А вот, мама твоя для тебя до всего дознается. Сестрица перед выходами перец эфиопский с корицей жует. Пожует — и сразу личико разгорится. Пожуй и ты зелья того, хотя бы малость самую, Федосьюшка, — сделав умильное лицо, попросила мама.
Но никакого ответа на эти ее слова не успела дать царевна. Такой в ту самую пору в сенях вой раздался, что она чуть перстенька из рук не выронила.
— Мамушка, что там такое?
А в дверях с порога сенная девушка докладывает:
— Девчонку ведут.
— Ах, девочка!
С собачкой немецкой как будто совсем и позабыла о ней Федосьюшка. А мовницы, бабы-прачки, что в бане Орьку мыли да терли, уже через порог ее в царевнину опочивальню тащат. Орька барахтается, из крепких рук вырывается, не своим голосом вопит:
— Ой, больше не буду… Смилуйтесь, люди добрые!
Не сразу признала Федосьюшка в девочке, распухшей от слез, крика да теплопарной баенки, ту, что из колымажного окна разглядела. Бледной, худой, словно камышинка, тоненькой Орька царевне тогда показалась. А у этой, за обе руки крепко мовницами прихваченной, лицо словно клюква, и сама она ровно чурышек.
Постарались мовницы. Рук не жалеючи Орьку скребли да терли. Всю пыль и грязь придорожную с девчонки поснимали, а как стали обряжать ее в наряд, из выростков любимой царицыной сенной девушки выданный, как глянули на сарафан лазоревый, на пуговки посеребренные — вдруг зло их взяло.
— Девчонке бродячей да наряд такой! На дороге большой незнамую подхватили и прямо на Верх… На глазах государских девчонка теперь всегда будет. Там и подарки, и харчи, и милость всякая… А вот мы…
И такое зло мовниц взяло, что сразу по-другому они Орькой заговорили:
— Погоди вот… Покажут тебе за пряники… Дай срок…
А у Орьки от всего, что с нею приключилось, давно голова кругом пошла, а от бани да одеванья и все в ней перевернулось. И зачем схватили, и куда повезли, и что с нею дальше будет, — ничего, как есть, Орька не понимала. А тут от слов злых сразу все прояснилось. Схватили, чтобы за пряники отодрать, а может, и хуже, страшнее что будет… По-звериному, отмытая и принаряженная, Орька завыла. С этим воем ее и в терем царевнин потащили. А она упиралась. Идти не хотела.
Затихла малость, как ее перед царевной поставили. Голову опустила. Тумака дожидается. И нежданно над собой ласковый голос услыхала:
— Плачешь чего, девочка?
Глянула запухшими глазами на царевну Орька и прямо ей в ноги бухнулась.
— Смилуйся! Не вели казнить. Ненароком ведь я пряники твои разроняла.
Едва на ногах от смеха мовницы держатся, сенные девушки у порога расфыркались. Боярышни, для выхода принаряженные, как раз в опочивальню подоспели. У стенки стали — хихикают. Досадно на всех Федосьюшке.
— Зовут как тебя, девочка? — спросила она.
— Орькой, — услужливо, в голос, мовницы подсказали.
— Веселая девочка, ничего, — поджав губы, усмехнулась мамушка, и все в покое дружно, громким смехом отозвались на ее слова. Не знает Федосьюшка, что ей делать с девочкой. Кругом все насмешницы, а Орька опять заливается-плачет. Обрадовалась царевна, что мама вовремя ее на выход заторопила:
— Не опоздать бы! Царевны бо́льшие, никак, пошли уже.
Встряхнула ширинку царевна, идти собралась.
— А девочка-то?
— О девочке не печалься. Пристроим ее, — успокоила царевну мама.
Прихватила покрепче обеими руками ширинку Федосьюшка и, не оборачиваясь, к дверям пошла. Пошла, а на душе у нее все неспокойно. До того неспокойно, что и саду своему Верховому, любимому, царевна не сразу обрадовалась.
А сад этот Алексей Михайлович на диво разделал.
Комнатные сады во дворце и при отце его устраивали, а такого большого, затейного — не бывало еще. Выбрал для этого сада царь место над бывшими палатами Ивана Грозного, Годунова, а потом Самозванца, теми самыми, из которых Лжедимитрий в окошко выбросился. Вид отсюда на всю Москву открывался.
Приказал царь это место высокой каменной стенкой в частых окошках окружить. Пол свинцовыми, плотно спаянными досками принакрыли и навозили на них, аршина на полтора, хорошо просеянного чернозема. Черной земли тогда в самой Москве вдоволь было. По немощеным улицам целые залежи всякой грязи, никем не убираемой, в чернозем перерабатывались. Особенно много такой черной земли на бревенчатых московских мостах накапливалось. С них и возили. А как навезли — за посадки принялись. Посадили всяких фруктовых деревьев: яблонь налив, груш сарских, вишен, слив, кустов смородины черной, красной и белой. Цветов всяких развели. Часть сада отвели под огород, где и горох, и бобы, и морковь, и редиска, и редька к царскому столу поспевали. И под аптекарский сад еще кусок отдали: анис, рута, заря, чабер, тмин, иссоп, мята для государевых лекарств и для приготовления ароматных вод там выращивались.
В таком саду от одних запахов душа веселится. Дохнула царевна воздухом душистым, и сразу легче у нее на сердце стало. До середины сада дошла, до пруда с водовзметами, глянула на воду, закатным солнцем пронизанную, заглянула в окошки решетчатые на Москву-реку да на Замоскворечье, с его садами зелеными, с далями лугов и лесов — и всю свою заботу и тревогу позабыла царевна.
Хорошо в саду у царя-батюшки.
А тут и сестрицы подоспели. Пришли нарядные, веселые. Захрустели под их чеботками дорожки дощатые, песком с Воробьевых гор усыпанные. Заметались по клеткам на столбиках точеных вспугнутые канарейки, соловьи, перепелки.
— Ну и яблонька кудрявая да наливчатая!
— Цветики-то! Душа радуется.
— На водовзмет, сестрицы, гляньте! Капли что искорки алмазные.
— А из окошка-то красота!
Столпились все царевны возле окошек на Замоскворечье, ширью, для них непривычной, любуются. Отскочили, как бо́льшие царевны в сад вошли. Рядом выстроились Алексеевны, в пояс теткам поклонились. А за тетками мачеха-царица Наталья Кирилловна с детками, с матушкой своей да с боярынями в сад вошла.
За Натальей Кирилловной и сам царь пожаловал. С ним батюшка царицы и дядя ее Матвеев. Других мужчин нет. Приближенные царя и те за дверьми остались. При царице и царевнах мужчин в сад не пускают.
Довольный и веселый, как всегда в кругу своей большой и любимой семьи, сел Алексей Михайлович на свое «государево место» в кресло точеное, расписное, сукном-багрецом обитое. Искуснейший иконописец то кресло расписывал. Поверху, над самой головой, двуглавого орла в короне золотом навел, красками всякими узоры по дереву расписал.
Царь Алексей Михайлович с семьею в Верховом саду
Рядом с креслом государя — другое, для Натальи Кирилловны. Для царевен лавки по сторонам. Сюда же и мама с царевичем Петром, рядом с мамой царевны Натальюшки, присесть захотела. Да не успела. Царевич у нее из рук выскользнул и кинулся прямо к пруду, к корбусику, красной с золотом маленькой лодочке, для потехи его припасенной.
— Кататься хочу! — закричал, а как увидал, что его мама ловить собралась, — к отцу бросился. — Дозволь мне, батюшка, в корбусике малость самую покататься.
— Катайся на здоровье, Петрушенька.
Слова против Наталья Кирилловна не сказала, только глаза ее тревожными сделались. Боялась она этих забав на воде. Не выдержала.
— Неравно опрокинется корбусик! — наклонившись, она царю прошептала.
— А глубина-то всего два аршина! Выловим, — засмеялся Алексей Михайлович.
Здоровый, смышленый растет у него сынок. Ничего не боится. Не в Иванушку.
Алексей Михайлович отыскивает глазами среднего сына. Рядом с Федосьюшкой на лавке царевич пристроился. Лицо бледное, одутловатое. Глаза большие, растерянные, словно незрячие.
«Главою скорбен», — мелькает в мыслях у царя. И другой старший сын, Федор-наследник, отца печалит. Разумом бог царевича не обидел, всякими науками умудрил, сердцем золотым наделил, одного не дал — здоровья. Редкий день в полном здоровье царевич проводит. Бабы-лекарки из покоев его не выходят. Мама, Анна Петровна Хитрово, за царевичем ходит, как дитя малое бережет его. Ею только наследник и держится.
Затуманился Алексей Михайлович.
А в эту самую пору, от сестер отделившись, царевна Софья к государеву месту приблизилась. Ширинку к груди прижав, низко отцу поклонилась и, прямо в глаза ему глядя, такую речь повела:
— За книги польские занятные благодарствую, государь-батюшка.
— А ты, Софьюшка, и почитать их уже время выбрала? — любуясь плотной и крепкой красавицей дочкой, спросил царь. «Вот кабы наследник мой таким-то был, — мелькнуло у него в голове. — Умна, учена, здорова…»
И не один царь, все в саду, кто с любованием, как отец, а кто с осужденьем, загляделись на Софьюшку.
— Смела, ох, уж и смела! Негоже так-то девушке перед народом говорить, — перешептывались старые боярыни. — Голову бы малость приклонила, глаза бы опустила.
— Я и постарше, а умерла бы раньше, чем так-то выйти, шепчет одна тетка другой. А Софьюшке ни до кого дела нет. Говорит, что ей надобно.
— В ту пору, как книги принесли, старец Симеон, мой наставник, ученостью умудренный, ко мне в терем пришел. С ним вместе те книги мы разглядели. Об иноземных государствах много занятного в них понаписано.
Даже Наталья Кирилловна от красного с золотом корбусика решилась глаза отвести, чтобы на падчерицу поглядеть. День ото дня все смелеет Софьюшка.
— Ты бы с братцем Федором книжицы те почитала, — посоветовал дочери царь. — И ему надобно о землях, откуда к нам и мастеров разных, и товары всякие шлют, поболее узнать.
Хотела Софьюшка ответить, да царь уже о другом подумал. Посмотрел на Ирину Михайловну, о дыне вспомнил.
— Спасибо тебе за подарок твой, сестрица любезная. А мои дыни в Измайлове не удались нынче. Померзли все. И чем это садовник твой такие полупудовики уберег? Ума по приложу, как он это сделать ухитрился.
При первых словах брата Ирина Михайловна с места своего поднялась. Слушала царя с головой склоненной, с глазами опущенными. После Софьюшки вся ее старая повадка особенно в глаза бросилась. Утешенные, сразу успокоенные, ласковыми глазами глядели на Ирину Михайловну старые боярыни.
— Вот это так царевна! Все-то у нее по чину, все по уставу. Софье Алексеевне, всякими науками умудренной, у тетки бы поучиться.
А Ирина Михайловна, царю на его вопрос о дынях отвечая, говорит:
— Надумал мой набольший садовник, государь-братец, выдавать садовнику, что за дынями ходит, вместе с двумя верхними одежами для него самого по две покрышки для дынь. В огород он в одном исподнем платье выходит. Ежели холод почувствует, надевает он на себя верхнюю одежу, а покрышкою дыни покрывает. Ежели все ему тепла мало, надевает он и другую одежу, а дыни второй покрышкой покрывает. Потеплеет — скинет садовник теплую одежу и с дынями так же, как с собой, сделает. От этого ни одна дыня у меня в Покровском не померзла.
— Ловко придумано, — похвалил Алексей Михайлович. — Слышишь, Сергеич, — обратился он к Матвееву, — до чего русский человек сметлив? Говорю тебе: вскорости нашим садам иноземцы дивиться будут. В моем Измайлове оранжевые яблоки, деревья лимонные, апельсины и винную ягоду станут выращивать. Из самой Флоренсы я нынче деревьев надумал выписать.
— Станут ли только те плоды заморские доспевать у нас? — осторожно спросил Артамон Сергеевич. — Во Флоренсе, сказывали мне послы, снега никогда не бывает. О Крещенье там жары такие, как у нас на Иванов день.
Но Алексею Михайловичу, когда он увлекался, все казалось возможным. С той поры, как сады заменили ему недоступную по его здоровью охоту, стали они его заботой и радостью. Для них он не жалел ни трудов, ни денег. Весь загорался, когда речь о садах заходила.
— Тутовый сад в Измайлове заведем. Семян хлопчатой бумаги надумал я с Кавказа добыть. За шелковичными червями в Астрахань послано. Те, что армянин нам из Персии в шкатулке привез, пропали все до единого. А виноградные кусты, что из Киева с монастырскими старцами весной привезены, пошли нынче, Сергеич. Надобно бы кустиков виноградных и в наших кремлевских садах посадить.
Слушают о будущих диковинах царевны. Чего-чего только в больших и малых садах не разводит батюшка! Таких беседок или «чердаков» затейных, таких гульбищ (галерей) резных да расписных, как в Измайлове, ни в одном саду не бывало еще. При ярком солнышке даже пестрит в глазах от позолоты и всяких красок.
А что за чудо чудное «вавилон», или лабиринт садовый. Царевны поодиночке и близко к нему не подходят. В одиночку в его извилинах и дорожках путаных заблудиться — с ума от страха сойдешь. Ну, а всем вместе оно и ничего. Покричат, попищат, поохают и выберутся.
А батюшке царю все диковин мало. Как завел речь о своем Измайлове любимом, так и остановиться не может.
— В виноградный сад машиною из пруда воду часовник поднять хотел. Как-то выйдет у него? Миндальных ядер заморских, когда в Измайлове буду, при себе насадить прикажу.
Ударяет закатное солнце в окошки, настежь раскрытые на Москву-реку. Тих и тепел вечер августовский. Сладко пахнут цветы на грядах, огороженных заборчиками дощатыми.
— С вышки бы на реку теперь поглядеть, — говорит Алексей Михайлович и подымается с кресла своего золоченого. Опираясь на посох, направляется он по дорожке, желтым песком посыпанной, между столбиков расписных, к беседке узорчатой, красным аспидом снаружи, а внутри лазурью выкрашенной. Рядом с ним царица идет. Довольна она, что наконец-то Петрушенька ее подальше от воды будет. Сыровато на воде в час закатный, да и боязно ей всегда, когда он на корбусике забавляется.
За царем и царицей царевны идут. Евдокеюшка за руку братца Иванушку прихватила, Марфинька его за другую поддерживает. Когда долго посидит царевич, разойтись сразу не может. Так ему легче, когда под руки поведут.
По всходам беседки поднялась царская семья. Солнышко уже низко к самой земле приклонилось. Потухли золотые кресты замоскворецких колоколен, гуще, темнее кажется зелень садов и огородов. Душистой предночной прохладой потянуло в окошки.
— Благодать! — умиленно говорит Алексей Михайлович, разнеженный дивным вечером, красотой родимой Москвы и близостью семьи любимой.
Федосьюшка ближе всех к царю стоит. На ее слабое плечо и ложится большая тяжелая рука Алексея Михайловича.
— Люба ли тебе, Федосьюшка, собачка немецкая?
— Люба, царь-батюшка, ох, уж люба! — задыхаясь от нежности, отвечает царевна.
Хороший ей нынче день выдался. До обеда за вишеньем сладким да еще в песнях прошел, до вечерен возле собачки немецкой, а вечером — в саду Верховом, возле батюшки, сестер, теток, братьев и мачехи, милой ее сердцу не меньше родных. А в терем вернется царевна — там девочка Орька. Девочка и часы с собачкой. Две новинки. Еще не нагляделась на них царевна. А девочку Орьку Федосьюшка вместо сказочницы у постели своей посадит. Сказки, какие в теремах сказывают, царевна уже все до последнего словечка знает. Пускай Орька про новое ей сказывает. Про лес, про поля, про людей незнакомых… Много чего царевне по пути к Троице-Сергию разглядеть не пришлось. Обо всем она Орьку расспросит.
С этими мыслями Федосьюшка к себе в покои из Верхового сада вернулась. Торопилась она. Больно хотелось ей Орьку послушать. Но дожидались ее только часы с собачкой. Девочка Орька давно спала в подклети, где помещалась вся мелкая женская челядь царевен. Дали ей кусок войлока на подстилку, старую телогрею с вытертым заячьим мехом на покрышку — она и заснула. Сенная девушка, Федосьюшкой посланная, ее не добудилась. Орька только мычала. Побежали сенные девушки к царевне:
— Волоком разве девчонку тащить прикажешь?
— Ой, не тащите! Весь дворец девчонка всполошит! — испугалась Дарья Силишна. — Аль про вытье забыли?
— Пускай спит девочка. Устала она, — решила Федосьюшка. Ей и самой спать захотелось. Да и не одна Федосьюшка в этот день раньше, чем всегда, спать собралась. Все приустали.
Тушили восковые свечи в высоких шандалах постельницы, в спальных покоях ночники затепливали. Укладывались царевны под одеяла парчовые, на перины пуха лебяжьего. К постелям их, между столбиков точеных, под пологами парчовыми, сказочницы придвинулись.
Неслышно ступая крымскими туфлями без каблуков, в белой шелковой распашнице сверх алой тафтяной рубахи, вышла из своего покоя Наталья Кирилловна. Впереди нее боярыня с фонарем слюдяным пошла. В комнатный сад, отделявший ее покой от покоев царевича Петра, вышла царица. Выбрала этот путь, как единственный, от стольников, спальников, детей боярских и всякой стражи ночной свободный. Улыбнулась по пути Наталья Кирилловна на пушечку деревянную, орликами оловянными изукрашенную, подняла с полу ядро, кожей обшитое. В шатерик потешный его подкатила и с улыбкой к царевичу вошла. Душно и жарко ей в спаленке, обитой сукнами, показалось. Приказала она отдушину у печки открыть, парчовое на соболях одеяльце в сторону со спящего царевича сдвинула. Сделала вид, будто не слышит, как старшая мама при этом ахнула. Пускай себе ахает, а Наталья Кирилловна у воспитателя своего, Матвеева, к другому воздуху привыкла. Знает, что духота да жара ребенка слабым делают. Знает, а настоять на своем не может. Наутро же ей мама, ежели что не по ней, ежели что по-новому сделают, доложит, что царевичу что-то неможется. За мамой нянюшки зашепчутся, за нянюшками царевны. Все, кто за старое стоит, против царицы молодой поднимутся. А ей и так горя не мало. Не любят ее сильно падчерицы, все, кроме Федосьюшки. И мужнины сестры не любят. Все, кто близко к прежней царице стоял, на новую царицу косятся. Заслонила она собой все прежнее от царя-батюшки. Остуда на деток Марьи Ильиничны от нее пошла. Но чернокудрый царевич так пригож среди всех своих пуховиков, между парчи, золота и каменьев, что Наталья Кирилловна, глядя на него, забывает все свои горести. Наклонившись, осторожно целует она толстенькую теплую ручку и тихонечко выходит из покоя.
Государева комната
Потемнели царицыны окошки, а у царя все еще огонь светится. Сидит Алексей Михайлович у себя за столом, зеленым сукном накрытым, обдумывает то, что наутро вместе с ним бояре обсуждать станут. На носу у царя очки в золотой оправе, на столе перед ним «Книга Уложенная» — сборник указов, им самим составленный. Не раз в эту книгу царь заглядывает. Любит он, чтобы все по уставу да по закону делалось, и сам первый от того, что раз постановил, никогда не отступает.
— Ошибки царей могут бедствия народные за собой повлечь, — часто повторяет он.
«Про торговые дела с боярами обсудить надобно. Про крымцев, что наши земли набегами пустошат. Челобитную астраханцев на воеводу немилостивого рассмотреть. Как бы чего не забыть?» Здесь же, на столе, на этот случай «столбцы» нарезанной полосами бумаги припасены. На них Алексей Михайлович заносит лебяжьим пером, своим почерком узорчатым, все, что ему помнить надобно. Не хватило места на одном столбце, взял клею из клеельницы и новый столбец к исписанному подклеил. Про воеводу написал, в челобитную астраханцев еще раз заглянул и сердцем вскипел.
Почерк царя Алексея Михайловича
«Сменить разбойника немедля. Людей замучил. Разорил поборами неправедными, донял пытками, батогами до смерти заколачивает. Злодей этакий!» Вся кровь в голову царю бросилась. «Да такому руки отрубить, в Сибири его уморить в самую пору! Пускай рассудят бояре, как злодея наказать».
И вдруг вспомнилось, как злодей в походе на польского короля Яна Казимира рубился. Жизни не щадя, в огонь шел. Да и в деле со шведами все он же храбростью безмерной отличился. Сразу отошло вспыльчивое сердце Алексея Михайловича. «Нет человека без греха. В каждом добро со злом непрестанно борются. Только Божья помощь дает одоление доброму».
Даже среди самых близких царю много таких, что при случае не лучше астраханского воеводы себя покажут. Таких воевод, как Ордын-Нащокин, пожалуй, и не найти. Слезами псковичи обливались, когда он от них уезжал. Город небывалым богатством при нем процвел. Вот каков воевода был. А где он теперь? В монастыре дальнем, врагами затравленный, жизнь кончает. Чует царь, что неправдой советчик его погублен, а поделать ничего не может.
Нет возле него и Ртищева, друга сердечного, воспитателя покойного наследника Алексея. Не намного он царевича своего пережил. А что за человек был! Одним добром, как лампада предыконная неугасимая, душа его непрестанно теплилась. В польском походе, своих от врагов не отличая, раненых подбирал. Места в телегах не хватило — свою подводу отдал, сам пешком пошел, а у него тогда ноги сильно болели, едва плелся, сказывали. В Москву с похода вернулся, приюты для увечных, убогих и пьяниц строить стал. Голод Вятку постиг, — Ртищев все деньги, какие у него были, туда послал. Поистине великой души человек был.
Подошли в ночной тишине к царю от него ушедшие, скорбыо сердце его наполнили, слезами глаза затуманили. Словно через мглу, видел царь белые столбцы лежавшей перед ним бумаги. На покой бы давно пора, а сон из глаз убежал. Прошлое и настоящее перед царем встают. Опять Ордын-Нащокин вспомнился.
Боярин А. Л. Ордын-Нащокин
Благодаря ему, царь настоящего учителя, самого умного и ученого из всех западнорусских ученых, Симеона Полоцкого, к царевичам допустил. И не только к царевичам. Царевна Софья учиться пожелала, и ее Полоцкий всякими науками умудрил. До Симеона царевичи только Часослов, Псалтирь да Апостол проходили, а царевны почти все так неграмотными и оставались.
Оба советчика любимые к иноземному тянулись. Помогали царю в его заветном желании перенимать у чужих народов Запада то, что есть у них хорошего. И теперь у царя есть советчик и друг — Артамон Сергеевич Матвеев. Он тоже западник. Больше Ртищева и Ордын-Нащокина западник. Весь дом у себя по-новому переделал. Дать ему волю, так он и дворец, и всю Москву на заморский лад перестроит. Иной раз опасается его царь. Те оба, что ушли, иные были. Они старину любили, любили то хорошее, что на Руси есть.
Вот хотя бы платье.
— Заморское не по нас, наше не по ним, — часто Ордын-Нащокин говаривал, и лучших слов для своих мыслей сам Алексей Михайлович прибрать не мог. Тянуло его к новшествам и теперь тянет, а от старины заветной отступить не хочется. Потому трудно и тяжко царю. А у Матвеева все просто и ясно. По-новому, по-западному жить надобно — и конец. У царя не так. Для нового старое ломать надобно, а для ломки у Алексея Михайловича твердости не хватает. Твердости да, пожалуй, и жестокости. Когда ломка идет, от осколков всегда кому-нибудь больно. Один терем поворошить — женских слез не оберешься. Птицами в клетках там души живые томятся, темнотой невежества от света заграждены они. А изменить ничего нельзя. От каждого новшества слезы, обида. Сестры царя любимые за старый порядок крепко держатся. Печалились, когда царь свою молодую жену на сокольничыо охоту вместе с боярами повез, гневались, когда царевен-дочерей в заморских каретах по Москве катал. Нет, пускай уж в терему все по-старому идет. Вот торговлю наладить, ремесленные да земледельческие книги переводить — это другое дело. Все это — прямая польза государству, а всякое доброе начинание от царя идти должно. Повелением царским много полезного завести можно, и бояр, ежели противиться станут, мирить. Малограмотные, а то и совсем неграмотные в Боярской Думе сидят. Людей знающих не хватает. На глазах бояре дела тормозят, с глаз на воеводство отправишь — людей теснят.
«Челобитную на воеводу астраханского прежде всех дел утром прочту, — решил царь, — да к случаю, в поучение советчикам, кое-что из того, что ночью надумал, прибавлю. Ох, трудно, тяжко самодержцем быть. Силы мои, Господи, умножь, подкрепи меня. Сам видишь — слабеет раб Твой, к великому делу велением Твоим призванный!»
Быстро скатал склеенные бумажные столбцы Алексей Михайлович и мимо ожидавшего его в опочивальне постельничьего прошел в Крестовую. Долго еще перед сном на молитве царь простоит. Коротка у него ночь будет.
У царевича Федора все восковые свечи в высоких шандалах к утру догорят. Натертый всякими целебными мазями, напоенный травами, до самого рассвета царевич без сна промается.
Наплакавшаяся, усталая Орька, пожалуй, всех крепче и слаще на своем войлоке под заячьей телогреей эту ночь проспала.
5
Орька живо к царским палатам привыкла.
Как только уверилась, что за пряники ее не будут бить, так и привыкать стала. Новая жизнь ей по вкусу пришлась.
После смерти бабушки у чужой старушки Орьке куда не сладко жилось. Об этой жизни жалеть не приходилось. Христовым именем они со старушкой кормились, ночевали, где Бог послал. К голоду и холоду Орька давно притерпелась. А тут вдруг все по-другому пошло. Даже при бабушке родной никогда Орька так вкусно и сытно, как теперь ее кормили, не ела. И наедалась же она! От сытости ее после каждой еды так ко сну и клонило. И спать ей хорошо было. Со старушкой когда в лесу по овражкам, когда в чистом поле, а чаще всего на голом земляном полу в чужой избе они заночевывали. А тут Орьке сразу мягкий войлок дали, телогрею заячью для укрывки, а мало дней спустя, в торговом ряду для нее теплое киндячное на зайце одеяло купили. Никогда еще Орька под одеялом не леживала. Вытянувшись во весь свой рост, засыпала она под ним, и снилось ей все такое хорошее. Снилось, будто солнышко весеннее их на завалинке вместе с бабушкой пригревает, снилось, что обе рядышком у натопленной печки они полеживают. Под теплым и сны про теплое снятся.
А наутро проснется Орька, нарядится, как и в праздник большой у себя в Гречулях не наряжалась, взварцу горяченького с калачиком попьет и на работу — на службу. А вся ее служба, вся ее работа в том, чтобы с другими девушками в сенях на лавке сидеть.
Много их, девушек, собирается каждый день в просторных, светлых сенях, живописным письмом украшенных. Двери из покоев всех царевен сюда выходят. Возле каждой — свои сенные девушки посиживают. То одну, то другую, а то и всех сразу серебряными свистулечками вызывают. Подать, принять, убрать либо послать куда — для всего сенные девушки требуются. Орьку пока никуда еще не посылали. Ждут, чтобы огляделась девочка. Пока она обучается только тому, как в сенях стоять, как в покои входить да как кланяться.
В сенях стоять надо смиренницей, руки сложивши, глаза опустивши. Входить, когда позовут, — тихохонько, словно бы ты не девочка, а кошечка на лапочках мягоньких. И все с поклонами, и для каждого поклоны все разные. А у Орьки на диковинки невиданные глаза разбегаются. В сени х одних чего только нет. По стенкам и люди, и звери, и птицы всякие, и деревья красками разными, золотом да серебром наведены. Прямо напротив Орьки, возле дверей резных, красками расцвеченных, что в покои Федосьюшки ведут, птица небывалая с головой человечьей свой радужный хвост распустила. А над птицей по сводчатому погодку — ангелы с крыльями золотыми между звезд частых.
Бегают Орькины глаза, словно два мышонка, и по стенкам, и по потолку, все диковинки выглядывают. Только разглядится Орька, а на конце длинного хода, что к крыльцу ведет, дверь распахивается. Именитая боярыня в большом наряде, вся в парче, в каменьях дорогих, в золоте, в жемчугах, едва ноги передвигая от важности да от тяжести всего на нее надетого, в сени вошла. За боярыней следом ее слуги верные с калачами саженными. Боярыня, по случаю своих именин, приехала, по обычаю, калачами царице да царевнам поклониться.
Побежали с докладом о приезжей в теремные покои сенные девушки. Боярыня на скамью присела, отдувается. В Кремле у ворот с колымаги сходить надо было. Только для пеших через царский двор пропуск. А боярыня к ходьбе, да еще в наряде большом, непривычна. Отдышаться не может. Как испуганное стадо, жмутся к ней ее слуги. Дома они босые, неприбранные бегали. В бане отмытые, напоказ наряженные, калачами нагруженные, опасаются, как бы им в царских хоромах не оплошать. За такую провинность дома не спустят.
А боярыня отдышалась малость, к ключнице наклонилась и шепчет:
— В оба гляди, как бы калачи не примяли!
Иными днями таких боярынь по нескольку приезжает. Часами именинницы в сенях дожидаются. Случается, что, дожидаясь, между собой и повздорят. Особливо ежели врагини встретятся. Слово за слово — и почнут именинницы друг друга корить да стыдить. На шум да на крики верховые боярыни выбегают, спорящих на разные концы с ней разводят. И в самую пору. Иной раз Орьке сдается, что еще немного — и боярыни в парче да в жемчугах, не хуж баб гречулевских, друг другу в волоса вцепятся.
Кроме боярынь, из монастырей дальних да ближних монахини приезжают. Проходят мимо Орьки величавые старицы с посохами. За ними — молодые послушницы с дарами монастырскими. Пахнет от них ладаном, холстиной от мешков, сухими грибами, деревом кипарисовым. Вспоминается Орьке, как она с бабушкой по монастырям на богомолье хаживала.
Когда и приезжих не бывает, в сенях поглядеть всегда есть на кого. Людные эти сени между царевниными покоями. Царевны и в церковь, и друг к дружке в гости по этим сеням ходят. Перед каждой и дурки, и карлицы, и девушки сенные, и подружки-боярышни выступают. У кого арапки либо калмычки водятся, те их впереди вместе с карлицами посылают. У карлиц сапоги сафьяновые: желтые, красные, синие да зеленые, платье на них цветное. Дурки — в лоскутных одежах, из кромок цветного сукна понаделанных. По рукавам у них змеи расшиты. Есть на что Орьке поглядеть в сенях. Она во все глаза и глядит. А к царевне кликнут, так тоже, куда ни глянешь, — одно удивленье. На поставцах вдоль стен, лазоревым сукном затянутых, — звери крылатые, шкатулочки и чарочки всякие.
А Дарья Силишна, только Орька на пороге покажется, так и кричит:
— Чего вытаращилась?.. Ногами не стучи! Подошвы у тебя не гвоздями подбиты.
Подошвы совсем мягкие, а только Орька привыкла все больше босиком да бегом, а тут шагом да в башмаках — неловко ей, ну и стучит, словно еж, в покои пущенный.
А Дарья Силишна не унимается:
— И кланяться не умеешь, и руки не так держишь!
Любушка с Дунюшкой, две боярышни, однолетки Федосьюшкины, за пяльцами пересмеиваются:
— Ну и деревенщина!
Оробеет, застыдится Орька. До царевны дойдет — слова от нее не добьется Федосьюшка.
— Ты бы мне песенку, девочка, спела, — скажет царевна.
Молчит Орька, глаза в пол, зеленым сукном понакрытый, уставила.
— Сказку бы нам рассказала. Может, такую знаешь, какую мы и не слыхивали?
Тяжело и громко дышит Орька. Сказок да песен она много знает. У бабушки родной наслушалась. Да разве сказку кто так-то, среди бела дня да посреди покоя стоючи сказывает? И песню сразу не запоешь.
Молчат все, на Орьку уставились. Тихо в покое. Только слышно, как перепелки в медной клетке, задевая крылышками прутики, с жердочки на жердочку перескакивают.
Дарья Силишна к царевне, к самому ее креслу, багрецом и золотом обитому, подошла.
— Отпусти девчонку, государыня. Разве от такой чего добьешься? Вот я тебе другую, посмышленее, кликну. Фенюшка!
Входит румяная, толстая Фенюшка со своими сказками переслушанными, наизусть выученными.
— Прикажешь сказку сказывать, государыня царевна?
— Сказывай, — говорит Федосьюшка. Не хочется ей отказом девушку обижать. А Дарья Силишна уже за плечи Орьку из покоя выпроваживает.
— Иди себе в сени. Нечего тебе здесь пенечком торчать.
Идет к дверям Орька, а за ее спиной Фенюшкин голос:
— Ранним утречком вышли дочери царя Архидея, Луна да Звезда, вместе с мамушкой своей, в сад погулять…
Такой сказки Орька еще и не слыхивала. Остаться бы да послушать. Но Дарья Силишна уже и дверь за нею притопнула. Не хочется мамушке чужую девчонку к своей царевне подпускать. Тех, что до Орьки в терему были, она не опасалась. Знала, что ни одна ее перед царевной не заслонит. Ни одну Федосьюшка ничем перед другой не отличала. Мама для царевны всегда и во всем впереди всех стояла. Ну, а эта новая — кто ее знает. Сама царевна ее для себя пожелала, дождаться, когда приведут, не могла. Не хотелось маме Орьку в тереме приваживать. А тем кончилось, что Орька в опочивальню Федосьюшкину, к самой постели царевниной пробралась. Все это просто, но нежданно для всех случилось.
Целыми днями, с самой зари утренней, с великим обереженьем да опасеньем ходила мама за своей царевной. Крепко Дарья Силишна обычную для всех царских мамушек клятву блюла: в оба глядела, как бы худа какого не приключилось с ее хоженой. Все, что здоровью помогало, лучше иной лекарки она знала. В аптечных ларцах и погребчиках у мамы и мази всякие, и настои из разных трав хранились.
Все, что красоте помогает, мама припасала. Каких только умываний для светлости лица у нее не было: и семя дынное, в воде варенное, и настой из цвета дубового, и вода из травы иссоповой, и сок корня травы бедренца. Припасена была у мамы и овсяная мука, смешанная с добрыми белилами, и ячмень толченый и вареный в воде до великой клейкости, потом сквозь плат выжатый. И овсяная мука, и ячмень в теплой воде от загара помогали. На случай всевозможных болезней у Дарьи Силишны свои зелья были: корень девясил для жевания при зубной боли, трава ужик — на случай ушиба, петушковые пальцы от пореза и едкий состав из нефти, скипидара и деревянного масла, настоянный на зеленых полевых кузнечиках. Этот настой употреблялся при большой простуде после жаркой бани. Больного терли тем составом и давали его внутрь в горячем вине.
В погребцах деревянных в скляницах с завертками оловянными хранились ароматы и бальзамы, помады, приготовленные по заказу самой мамушки, и водка апоплектика, настоянная на разных сильно духовитых, пряных растениях. Водка эта, как лечебное средство, давалась внутрь, и ею же для благовония мыли голову.
Была еще у Дарьи Силишны шкатулка с пряными зельями для благолепия. Там лежала и корица, и гвоздика, и мускатный орех, и перец эфиопский, и шафран. Но как ни убеждала мамушка свою царевну, что корица, в питье приемлемая, бледность из лица выводит, томность очную сгоняет и светлость творит, не поддавалась на ее уговоры Федосьюшка. Попробовала она раз настоя гвоздичного, очам светлости наводящего, и все внутри у нее словно огнем опалило и целый день туман перед глазами стоял. Видеть с той поры царевна шкатулку ту не могла.
Знала мама, что и от сглаза и порчи, этой непрестанной, вечно грозящей беды, делать. Лихо и в питье, и в еде, и на платье, и на белье, и в каждом уголке терема притаиться может. Трубу печную крестом не оградишь — ведьма залезет либо какая из семи сестер-трясовиц. Кикиморы глазастые тоже только и выглядывают, в какое бы им жилье попасть. Терем ли царский, изба ли — им все равно, только бы к человеку поближе. К сундуку кипарисовому с бельем царевниным, к ее скрыням с окрутами мама никого не допускала. Своими руками все вынимала, сама прятала, сама на замки крепкие, надежные все запирала, а ключи от замков этих на шелковых плетушках, к поясу подвешанных, при себе носила.
Царица Мария Ильинична, первая жена царя Алексея Михайловича
Знала государыня Мария Ильинична, кого к своей последней младшей дочери приставить. Слабенькой родилась Федосьюшка, не чаяли, что и выживет. Мамушка царевну выходила. Федосьюшка выросла, а мамушка стареть начала. Раздобрела не в меру, теперь чуть что — и ко сну ее клонит. Особенно вечером. А Федосьюшка частенько половину ночи, глаз не смыкаючи, на своей постели пуховой под одеялом горностальным мается. Знает про то мамушка, а ничего с Федосьюшкиным сном поделать не может. А уж она старалась! Нашептанной водицей царевну поила, с уголька спрыскивала, сушеные лапки лягушечьи да паучьи тайком от нее под изголовьице клала. Ничто не берет. С каждым днем худеет да бледнеет царевна, а тела да румянца у Федосьюшки и так лишнего нет. Убивалась мама, на свою хоженую глядючи. Прослышала от истопника, что за Москвой-рекой живет ворожея баба Феколка. За Феколкой послала. Сказывали, что баба та сон нагонять умеет.
Приходила в Федосьюшкин терем в пору вечернюю старая баба, вся скрюченная. Проводили ее ходом потайным с крылечка заднего, из которого ход во двор на поварню шел. Обметала веником старая все углы в опочивальне царевниной, открывала печную трубу, сдувала в нее простому глазу невидимое, по углам заметенное. Сдувала, сама приговаривала:
— Зори-зорицы, вы себе сестрицы, соберитесь в купочки да возьмите, отгоните от рабы Божьей Феодосии ночницы, ходни-бродни, хожены-брожены, подуманы-погаданы, насланы-наговорены, ветрены-водяны. Тут им не бывать, тут им не стоять ни в твоих очах, ни в твоих плечах, ни в твоих руках, ни в твоих ногах…
Не помогла почему-то баба Феколка Федосьюшке.
Удивлялась мама:
— Для всех хороша Феколка, а Федосьюшке после нее будто даже хуже сделалось.
До Феколки царевна только не спала, а тут еще и пугаться стала. Расхрапится мамушка, заснут в соседнем покое на перинах, по широким лавкам прилаженных, Любушка с Дунюшкой, — страх нападает на Федосьюшку. Бояться, кажись бы, и нечего. По всему дворцу, по всем сеням, ходам и переходам стража надежная: стольники-дети боярские для оберега поставлены, у каждой входной двери решетки чугунные на замках, да стрельцы. По всему двору царскому тоже стрельцы. Вокруг дворца стена каменная, высокая, ворота на запорах. Чужому и днем не пробраться. Человек не попадет, а другие? Все эти лихи, ночницы, ходни-бродни, ветрены-водяны… Вдруг да не послушались они страшной бабушки? Вдруг да не вылезли в трубу? Притаились по угольникам, да оттуда на нее, Федосьюшку, и выглядывают?
Схватила царевна пальцами захолодевшими край тафтяного полога, хотела плотнее его позадвинуть. А за пологом еще страшнее стало. Ночь ветреная выдалась. Дождик осенний по крыше барабанит. Протяжно перекликается на часах ночная стража: «Слу-ша-ай!»
В такую ночь хожены-брожены, ветрены-водяны, даже коли в трубу и повылезли, назад проберутся. Вот на ночник откуда-то подуло. На занавеске видно, как огонек трепыхнулся. Половица скрипнула. Мышь тоненько пискнула. Хожены-брожены из углов к постели ползут.
Не своим голосом царевна крикнула. Любушка с Дунюшкой чуть с перин на пол не покатились: так испугались. Дарья Силишна на ноги вскочила. Подбежала к постели царевниной. Крестит, голубит свою хоженую мамушка, малиновой водицей отпаивает.
— Аль сон тебе страшный привиделся? — спрашивает.
— Не спала я вовсе, — тихим голосом отвечает Федосьюшка. — Тяжко мне, мамушка. Боюсь я.
— Господи! Да сохрани тебя Христос!.. Вот я тебе Любушку с Дунюшкой кликну. Поглядишь на живых людей — легче станет… Любушка, Дунюшка!
Кричит мамушка на все три царевнины покойчика. Боярышни голоса не подают. Обе с головами одеялами закрылись. С перепуга чуть дышат.
— Оставь их, мамушка! Пускай себе спят, — попросила Федосьюшка. — Светает уж, никак, за окошком.
Целый день, словно муха сонная, после такой ночи бродит царевна.
— Тяжко мне по ночам, — жалуется она. — Мыши скребутся… ты, мамушка, храпишь… Жуть на меня нападает.
— Ох и горе мне с тобой! — вздыхает опечаленная Дарья Силишна. — Дозволь боярышню какую у постели посадить. Сенную девушку, хочешь, кликнем?
— От них только храпу прибавится.
— Сказочницу у Татьяны Михайловны не попросить ли на ночь?
— Не люблю я чужих, мамушка. И сказок мне не надобно.
Не знает, что ей и делать, Дарья Силишна.
— Ну-ка, я у людей разведаю, чем бы мне самой сон мой тяжелый разогнать. Разгоню и буду с тобой ночки коротать.
— Что придумала! Да так я и к утру не засну, мамушка. Уж я одна как-нибудь.
Но прислушиваться одной к ночным шорохам было уж очень жутко.
— Орьку ты бы кликнула мне, мамушка, — попросила как-то царевна. — Пускай бы девочка возле моей постели легла. Водицы бы мне испить подала…
Взглянула мама на изведенную бессонницей свою хоженую и велела сенным девушкам Орьку привести. А та уже спать собралась. Косник из косы вынула, сарафан скинула.
— Живей, ты! Царевна тебя дожидается! — налетели на Орьку сенные девушки. Уже на бегу она пуговки оловянные на своем сарафане застегнула.
В опочивальне ночник медный теплится. На высоко взбитой перине, сверху широкой лавки положенной, Дарья Силишна лежит. Из пуховиков, между точеных столбиков расписной кровати, Федосьюшкина голова с двумя жиденькими недлинными косицами виднеется.
— Вот здесь на коврике, возле постельки государыни царевны и приляжешь, — сказала Дарья Силишна. — На столе водица малиновая в чарочке. Испить захочет царевна — подашь. Слышишь?
Строго так на Орьку глядит со своей перины Дарья Силишна. А царевна видит, что Орька уже оробела, и говорит:
— Засыпай себе, девочка. Ничего мне пока не надобно. Надо будет — я тебя разбужу. Мне только руку к тебе протянуть.
Ласково так эти слова сказала Федосьюшка. Дарья Силишна как услыхала их, на Орьку так и вскипела:
— Проснется такая! Да она и не во сне, что твой чурышек. Разве ее растолкаешь! Ох, кабы не сон мой тяжелый!
Ворча и вздыхая, недовольная и Орькой, и сном своим, мамушка на подушки откинулась. Поглядела Орька на лежавшую с закрытыми глазами Федосьюшку. Без золотого венца трехъярусного, с тоненькими косицами, не царевной, а просто девчонкой-однолеткой, да такой худой, бледной, показалась ей Федосьюшка.
«Совсем спать не стану, постерегу болезную», — решила она про себя.
Привычна была Орька с бабушкой ночи коротать. Старушка пряла, Орька ей кудель подавала да сказки, которые бабушка без конца рассказывала, слушала.
Царевна не открывала глаз. Стихло мамушкино ворчанье. Еще малость постояла Орька и на коврике присела. Близость девочки, с первого взгляда почему-то ей полюбившейся, успокоила Федосьюшку. Задремала царевна, но во сне жуть ночная снова прокралась к ней. Навалилось на нее что-то тяжелое да мохнатое, душить стало. А Орька, чуть застонала царевна, сразу на ноги и вскочила да за чарочку схватилась. Наклонилась над спящей с водицей малиновой.
— Испить не хочешь ли?
Не открывая глаз, царевна по подушке головой заметалась.
— Не хочу пить… Боязно мне.
Ухватила тоненькими пальчиками шершавую Орькину, большие испуганные глаза открыла.
— Боюсь я, — шепчет.
— Боишься? Да бояться-то чего? Бояться здесь нечего. Ведь замки да запоры, кругом стража.
— Не людей боюсь, другое страшно… Хожены-брожены, ветрены-водяны мне спать не дают. Баба Феколка гнать их пытала, а они не пошли. Чую, здесь, в опочивальне, в углах притаились…
— Господь с тобой, царевна! А святые-то иконы на что? Да разве нечисть там, где икона, держится? Дай-ка я пелену с образа отдерну.
Неслышно ступая по сукну босыми ногами, прошла Орька к образу в переднем углу покоя и, потянув за шелковый шнурочек, раздернула скрывавшую его шелковую, жемчугом расшитую пелену. Спущенная с расписного потолка на золоченых цепях лампада озарила потемневший от давности лик Богоматери.
— Заснешь, а Богородица на тебя Своими глазами пречистыми глядеть станет. Перекрестись да скажи: «Матерь Божия, прикрой меня, отроковицу Федосью, Своею ризою нетленною». Так меня бабушка говорить учила. Скажи и ты.
Послушно вслед за Орькой повторила Федосьюшка молитвенные слова. На душе ее сразу стало спокойнее, только сон совсем из глаз убежал. Захотелось царевне девочку возле себя придержать и спросила она:
— А тебе по ночам боязно?
Вздернула Орька свой тупой нос, тряхнула головой с всклокоченными волосами. Черными змейками курчавые пряди на тени по стенке метнулись.
— В дому-то боязно? Придумала. Здесь бояться, почитай что, и некого. Домовика, ежели с ним да по-хорошему: ну, когда там молока кринку либо киселя овсяного на ночь оставить, — так его и не слыхать. Ну, а от нечисти всякой, что в жилье пролезть норовит, так для нее, для каждой свой оберег. Всего лучше, ежели вовремя трубу заговорить. Хода тогда разной погани и нету…
Орька повторяет то, что не раз ей самой говорила бабушка, и голос ее сделался похожим на бабушкин, когда та свою внучку на ум наставляла. Царевна с подушек приподнялась. Села. Не отрываясь, глядит она на Орьку большими глазами. А Орьке только начать, да чтоб ее слушали. Речистей ее девчонки во всех Гречулях не было.
— В лесу, вот где страшно-то, — наклонившись к царевне, таинственно зашептала она. — Наша деревня Гречули к самому лесу подошла. Избушка у нас возле опушки, девонька, как есть самая последняя…
Село времени Алексея Михайловича
Забыла Орька, что царевна перед нею — «девонькой» ее назвала и сама того не приметила. Да и какая же царевна эта тощенькая, в белой сорочке девочка! Разве царевны такие бывают? Иная гречулевская девчонка куда больше перед Орькой задавалась. А эта хоть бы что! Простая совсем. Орьку слушает. Что ей ни скажи — всему поверит. Чего бояться надобно, а чего нет — и того не разбирает.
Забыла Орька, что царевна перед нею.
— Неужто и там, возле леса темного, тебе боязно не было? — тихонько спросила Федосьюшка.
— Да кому же в лесу не боязно? — Орька даже руками развела. — Боялась и я, да еще как боялась-то! Особливо ночью да в непогоду. Буря развоется, лес расшумится, заскрипит дерево о дерево… Так дрожкой до самой зари, глаз не смыкаючи, и трясешься вся. Страшен лес человеку крещеному. А у нас нечисть лесная возле дома самого… Леший высокий, черный, мохнатый да страшный такой…
Ухватилась царевна за Орькин рукав тонкими пальцами.
— Полезай ко мне на постель, — просит, а сама дрожит.
Покосилась Орька на лавку с Дарьей Силишной.
А вдруг да проснется! Вдруг Орьку на одеяле горностальном под золотою камкою кызылбашскою увидит? Эх, была не была! На полу ноги давно позастыли, да и на мягком посидеть охота. Перемахнула на высокую постель Орька, потонула в перине. Славно! Никогда еще так мягко она не сиживала. Подхватила Орька коленки обеими руками. Половчее устроилась. С гречулевскими девчонками сказки сказывать так-то она присаживалась.
— Страшнее леса на свете и нет ничего, девонька. По краешку, по опушечке или дорогой наезженной, благословясь, пройти можно, а ступит человек на тропу звериную — и насторожатся лесные. Притаятся, выглядывать станут, а потом, кто ползком, кто летом, кто бегом — всякий по-своему — да за человеком следом. Леший напрямик через гущину ломится, ужи-ужицы, змеи-змеицы, медяницы шипом зашипят, вороны-каркуньи с ветки на ветку перелетают — беду сулят, волки рыскучие, человечий дух почуя, н стаю сбираются…
Испуганное, побледневшее лицо царевны, ночная жуть покоя, озаренного лампадой, — все это возбуждает Орьку. Таинственным шепотом рассказывает она про лес дремучий.
— Как увидит нечисть лесная, что человек в чащу пробраться норовит, станет она его с дороги сбивать. Тропы лесные перепутает, корнями корявыми за ноги захватит, свистом, шипом, ауканьем, гоготаньем оглушит. Ни жив ни мертв с перепуга человек сделается, душа с телом на расставанье запросится…
Остановилась Орька. Царевна уже ничего и спросить не может. Только губами шевелит. Поглядела на нее Орька, выпрямилась, голову откинула и тем же таинственным шепотом, только более раздельно и торжественно продолжала:
— И в ту самую пору смертную чуть приметной искоркой в гущине лесной далеко впереди огонечек сверкнет. Заметит его человек, и разом ему легче станет. Силы у него прибудет, шаг крепче сделается, страх упадет. И увидит он, как ужи-ужицы да все змеи-змеицы по своим норам поползут, как звери рыскучие по своим местам разбегутся, как у лешего ноги все глубже в землю уходить станут.
А огонек, что вдали искоркой блеснул, уже ровным неугасимым светом светится. Вот деревья раздвинулись, поляну опоясали, а на поляне, меж вековых дерев на золотых цепях, с неба спущенных, хрустальчатая, вся в алмазах, лампада качается, голубым светом своим поляну ту заливает. И кем та лампада повешена, кем затеплена — про то не ведомо никому. Сказывают люди старые, богомольные, что с самого неба те лампады по лесам угодниками неведомыми спущены. Для оберега людей от всякой напасти лесной затеплены. Оттого и легче становится человеку, чуть только ему издалека свет лампадный замерцает. А на поляну выйдет да как глянет кругом — и о страхе забудет: стоит поляна вся голубая. Меж стволов черных, высоких тихо хрустальчатая лампада покачивается…
— А ты ту лампаду видела? — царевна спрашивает.
— И, что ты, милая! Да нешто меня бабушка далеко от себя не отпускала. До чащи идти да идти надобно.
— А бабушка твоя видела?
— У бабушки ноги старые. Плохо носили ее, когда ей про лампаду странница одна, старуха древняя, рассказала.
— А странница лампаду видала? — добивается царевна.
— А вот уж не знаю. Сама видела либо кто другой. Не спросили тогда мы ее с бабушкой. Сказывала она, что не всякому к лампаде пройти дано. С сердцем покойным, с мыслями чистыми к ней идти надобно. А в молодости сердце неспокойное мыслями гневными часто в голову стучит. Старого — ноги не носят. Без ножа, без топора, без всего, чем привык человек от лиха оберегаться, идти к той лампаде надобно. Гвоздь при себе — и тот мешает. Только перед тем, кто страх одолеет, из темной гущины хрустальчатая лампада издалека еще звездочкой блеснет. Тогда уж все просто: иди на звездочку к свету лампадному. Только и всего…
— Человека, что до лампады дошел, повидать бы мне, — задумчиво говорит царевна, а сама глядит на золоченую лампаду в переднем углу покоя перед потемневшим ликом.
Длиннеют золотые лучики. От образа древнего через нею горницу потянулись тонкие золотые нити, до постели между четырех точеных столбиков добрались. И вдруг, вместо Орькиного голоса, словно ручеек по песчаному донышку зажурчал. И о чем Орька говорит, того царевна уже не разбирает. Мысли ее в чаще лесной у лампады хрустальчатой, для человечьего оберега затепленной. Мысли тихие, светлые. С ними и заснула царевна.
6
С этой ночи так уж и пошло, что Орька каждый день у царевны ночевала.
Разденет мама свою хоженую, с низкими поклонами примут сенные девушки из рук Дарьи Силишны окруты царевнины, унесут боярышни ларец с сережками, с колечками да с цепочками, уляжется на постель между столбиков расписных Федосьюшка.
Тогда приказывает Дарья Силишна Орьку кликнуть. А Орька с войлоком и душегреей давно уже у дверей, когда ее позовут, дожидается. Прошмыгнет к царевниной постели, войлок — на пол, сама на войлок, душегрея сверху — готово. Так, словечком не перемолвившись, друг на дружку не поглядевши, полеживают царевна с Орькой до тех пор, пока все не улягутся.
А как только всхрапнет Дарья Силишна, обе головы, и Федосьюшкина и Орькина, сразу с изголовьиц приподнимутся.
— Заснула мамушка, никак? — шепотом Орька спрашивает.
— Заснула, заснула, — шепотом ей Федосьюшка отвечает. — Скорей полезай ко мне на постель, Орюшка.
Царевна договорить не успеет, а проворная Орька уже у нее на горностальном одеяле сидит.
— Ох и долгонько же нынче что-то сон ее не брал! — косясь в сторону лавки с мамушкой, говорит она.
С этой жалобы Орька всегда начинает. Лежать, притаившись, не шевелясь, для нее всего труднее и скучнее.
— А мне день долгим показался. Ждала все, когда придешь про вчерашнее сказывать, — говорит царевна.
Но Орька плохо помнит про то, что вчера было.
— Нынче меня в поварню посылали… Ну и нагляделась же я там… Такого шипа да треска я отродясь не слыхивала. Печки огнем так и пышат. Люди возле печей, что твои сатаниилы в аду, кто с ножом, кто с вилами, кто с вертелом… На столах и куры, и гуси, и утки, и мясо разное тушеное, и рыба всякая.
— Народу во дворце мало ли. Все приедят. А что останется, по городу с царской милостью боярам да боярыням разошлют, — торопливо говорит царевна. Про поварню ей ни слышать, ни говорить не хочется. — Обещала ты мне, Орюшка, про то, как с бабушкой жила, сказывать.
Орька только рукой махнула.
— И слушать про нас нечего. Не такое наше житье деревенское, чтобы про него тебе сказывать… Бегала я нынче с постельницами на чердаки. Ну и сундуков, ну и укладок, ну и коробьев там! Все рядами, все под замками, все под печатями. Спрашивала я, что там понакладено. Постельницы сказывали: «казна государева».
— Окруты там наши схоронены.
— А мне сказывали, окруты возле Мастерской палаты в скрынях лежат.
— Там одежа носильная, а на чердаках все, что отношено, что в переделку либо на пожалованье идет. Дарить ежели кого захотят — так оттуда вынимают.
Царевна торопится покончить с тем, что ей уже надоело, как давно знакомое, а Орька оторваться от всего, на что за день нагляделась, не в силах.
— Ну и добра же у вас! Нарядиться есть во что. У нас вот с бабушкой всего по две перемены было. Одна в будни, другая в праздник. Сундук и у нас был, да еще какой! Бабушка в нем травы лекарственные да разные снадобья держала.
— Лекарка, видно, бабушка у тебя была? — царевна спрашивает.
— Лекарка не лекарка, а людям помогала и как еще помогала-то! Каждую травку знала бабушка. Летом, бывало, чуть солнышко глянет, разбудит она меня, и пойдем мы с ней по росе за травами да кореньями.
— В лес ходили?
— Известно, по лесу. Наберем чего надобно, — домой вернемся. Бабушка все разберет, пучочками навяжет, сушить развесит. Мази да снадобья целебные она готовить умела. Хворых много к ней приходило.
— Вот бы ее к братцу Иванушке позвать!..
— Хворает у тебя братец? — участливо спрашивает Орька. — Давно захворал?
— С самого рожденья все Иванушке недужится, — запечалившись, отвечает царевна. — Ножками братец все мается. Да и другой братец, Феденька наш, тоже не больно здоров.
— Ишь ты, дело какое! — качает головой Орька. — Хворость, да еще давнюю, простые травы да коренья и не берут. Вот разве под Иванову ночь, на Агриппину купальницу, одолень-травы для братцев твоих собрать. Одолевает трава эта всякое зло, все напасти, всякую болезнь лихую отгоняет. Она же и в пути человеку помогает. Бабушка ее с воском и ладаном варила, потом вощанку делала и вощанку ту в ладанку зашивала. Сказывала, что с ладанкой той дорожному человеку все нипочем. Не страшны ему ни горы высокие, ни леса дремучие, ни озера глубокие, ни реки быстрые. Через все одолень-трава проведет.
— А ты эту траву, где искать, знаешь?
Не сразу на это Орька ответила.
— Без бабушки трудно искать будет. Одолень-трава не всякому в руки дается. Умеючи брать ее надобно… А вот хорошо бы братца твоего в баенке веничком из купальских трав попарить. Из тех трав девушки в Иванову ночь венки себе завивают. Гадают на них.
— Слыхала, что гадают. Сама не гадала.
— А я так гадала. Приходили к бабушке девушки, и я с ними собирала купаленку, ушко медвежье, васильки пахучие, зверобой желтый, мяту, колокольчики, полынь, ноготки — всего восемь трав. Завивали мы их венками, надевали на голову и в ту самую пору, как зажигались костры купальские, пускали венки на реку. Тут каждая свою судьбу и узнавала. Который венок на воде долго держится, та девушка радуется: счастливый для нее год будет, ну а той, у которой венок потонет, — кроме худа, ждать нечего.
— Страшно, поди, так-то судьбу узнавать? Узнаешь про горе, раньше времени закручинишься.
— Закручинишься, может, когда про гаданье потом вспомнится, а Иванова ночь всякую кручину прогонит. Ох и веселая же это, девонька, ночь! Только раз в году такая ночь и бывает. По всем горушкам до самого света горят костры купальские, девушки хороводы водят, песни поют. Ни старому, ни малому той ночью в избе не усидеть. Кто у костра, кто у реки, кто в хороводе, кто в лесу папоротников цвет выглядывает.
— Тот это, что огненным цветом в самую полночь расцветает? Слыхала я про него. Чародейный то цветок: он и клады открывает, и все, чего только человеку пожелается, дает. А тебе тот цветок, Орюшка, увидать привелось?
— Придумала! За папоротником смелые из смелых ходят. Мужик не всякий чародейный ночью в лесную чащу пойдет, а девушка одна и к опушке подойти боится.
Но вдруг Орькино лицо сделалось сразу веселым, и она продолжала:
— А бывает и так, что цветок дается тому, кто о нем и не думал вовсе. Рассказывала мне бабушка, что давно, когда она еще совсем молодая была, жил у нас в Гречулях мужичонка, такой собой неприглядный, хромой, косой да и рябой в придачу. Пропала у этого мужичонки корова: в лесу, должно, заблудилась. Пошел он ее искать под самую Иванову ночь. Ну и заплутался в лесу. Ходил, ходил, притомился. «Эх! — думает. — Кабы я да царем был, не стал бы и и лапти из-за коровенки оттаптывать. У царя коровушек без счета, одной больше, одной меньше — и не заметно. Хорошо царем быть!» Сказал это он, а ему в ту самую пору облетевший папоротников цвет под ногу и попади. К лаптю один махонький лепесточек пристал, и что тут сталось, девонька, что сталось-то!
Ближе друг к другу две головы, одна черноволосая, другая белокурая, придвинулись.
— Вышел из лесу мужичонка — время уж к рассвету подходило — а перед ним город незнамый. Золотые маковки церковные на солнышке восхожем разгорелись. Пошел мужичонка прямо к городу, а ему навстречу во все колокола трезвон. Народ на дорогу из ворот городских так валом и валит. Подошел к мужичонке, и все, от мала до велика, ему с поклонами прямо в ноги. Опомниться он не успел, как подхватили его под руки бояре набольшие, впереди стража, путь расчищая, к городу бросилась, народ позади тронулся. А колокола так и гудят, так и гудят. Пушки так и палят. Привели это мужичонку в город ко дворцу под золотой крышей, с почетом на крыльцо ввели, в горницу на золоченое кресло усадили. Сидит мужичонка, ничего как есть не понимает, глаза вытаращил, оглядывается. А кругом все к нему да с поклонами: «Чего только пожелаешь, царь-государь наш? Слово молви, все, как скажешь, так и будет». Гулом народ гудит. Писцы наготове перья держат, мужичьи слова записывать собираются. А народ одно твердит: «Чего только пожелаешь…» Поглядел мужичонка на свои лапти растоптанные и решил для начала новые пожелать. Рта не успел разинуть, как бояре набольшие разувать его кинулись. В миг единый лапоть с папоротниковым цветом стащили, а как стащили — тут все по-другому пошло. Мужичонку с кресла золоченого долой, да в три шеи, да из горницы, да вниз по лестнице, да вон из города так и проводили. Уж он рад был и босым убежать. Только пятки сверкали. Вот что от папоротникова цвета приключиться может.
Смеются девочки тихим смешком, опасаются, как бы им Дарью Силишну не потревожить.
Рассказы у Орьки, словно орехи из кузова, так и сыплются. Слушает царевна про житье-бытье девочки, случаем из глухой деревушки занесенной во дворец царский. Овражки, лесные полянки, буераки, кочки, пенечки — все это у Орьки любимое. Водит она царевну по лесу темному, и царевна за Орькой идет. Ничего, что там и леший косматый, и русалки злющие, и змеи ползучие, и гаденыши всякие. Поглядеть на дива невиданные царевну тянет. Жутко станет, так она Орьку за руку покрепче ухватит, поближе к ней подвинется. А вспомнится лампада хрустальчатая — и страха как не бывало.
— Я, Орюшка, с той поры, как про Господнюю лампаду узнала, ничего не боюсь, — шепчет царевна. — Знаю, что такое место есть, где всякому страху конец, и все стерпеть могу.
Хотела Орька ответ царевне дать, рот уже раскрыла, да так и осталась. На трех башнях: на Спасской, на Троицкой и на Тайнинской, что по кремлевской стене идут, сразу трое часов отбивать время принялись. Скоро уже месяц, как Орька часовой башенный звон слышит, а привыкнуть к нему все не может. Каждый раз, что бы ни делала, куда бы ни шла, так на месте и застынет — слушает.
Пятый ночной час — первый с заката солнечного считается — на башнях отбило, а на Спасской башне, прежде чем большой колокол в сто пудов бухнул, все тринадцать перечасных колоколов, пудов по пятнадцати каждый, музыкой, звонами подобранной, так и рассыпались.
Главнейшие и самые большие в Москве часы, находящиеся над Спасскими воротами и показывающие время дня от восхождения солнца до захождения оного, так что в должайший день бьют до 17-ти часов, а ночью только 7 часов. Находящееся вверху изображение солнца указывает часы на обращающейся, помеченной цифрами, доске.
— Экая штука занятная! — восхитилась Орька. — Век бы слушала.
— Аглицкой земли часовой мастер те часы, сказывают, строил. Каменную башенку над ними он же выводил, — говорит Федосьюшка. Спасские часы с их музыкой все царевны любят. Как себя помнят, привыкли они из окошек покоев заглядывать на огромный лазоревый, с золотыми и серебряными звездами, солнцем и луной, узнатный часовой круг.
— Пытала я учиться время без боя по часам разбирать, — говорит Орька. — Не уразумела.
— А и просто же это, когда поймешь. Погоди малость, вот удосужусь, сама тебе покажу часы разбирать.
— Покажи, — уже вяло соглашается Орька. Глаза у нее сделались, как щелки, и большой рот во всю ширину растянулся зевком. — Спать захотелось. Ой и спать же мне хочется!
И Орька с тою же быстротой, с какой влезала на царевнину постель, очутилась у себя на войлоке.
Наклонилась к ней царевна, собиралась еще словом перемолвиться, а Орька уже сопит.
Улыбнулась Федосьюшка и сама голову на изголовьице пуха лебяжьего откинула. Под одеялом горностальным комочком свернулась и под Орькино сопенье, Орькины рассказы в памяти перебирая, заснула.
А наутро боярышни Дунюшка с Любушкой, усевшись у окошечка в пяльцах пелену к образу расшивать, такой между собой разговор завели:
— Мало спалось мне нынешней ночкой, — толстая, румяная Любушка молвила. — Мыши, что ли, развозились, так и шуршат.
— Может, и не мыши, может, другое… — И подвинувшись поближе к Любушке, на царевну в переднем углу возле стола озираясь, Дунюшка шепотком, да так, что на весь покой слышно, добавила:
— Шептуны такие, мне нянюшка сказывала, в домах заводятся. Уши у них что лопухи, губы что лист капустный, сами крохотные, на ножках тонюсеньких, а глаз и совсем нет. Днем они, шептуны эти, все, что кругом говорят, слушают, а ночью все, что услыхать довелось, друг дружке и рассказывают. Соберутся возле печи и — шепотком, шепотком…
— Ой, боюсь! — на весь покой Любушка взвизгнула. А царевна жемчужинку иглой поддела — в церковь теремную свою любимую Ризоположения пелену к образу она расшивала — жемчужинку поддела, голову подняла, спокойно на боярышень глянула и так сказала:
— Ежели ночной порой что почудится, крестным знамением себя осените и так скажите: «Ризою Своею нетленною от всякого страха прикрой меня, Матерь Божия».
Сказала, с сиденья своего поднялась и прошла к слюдяному окошку. Здесь на цепи, что по железному колесу передвигалось, с потолка медная клетка с канарейками, любимыми птичками царевниными, была подвешена.
Заглянула царевна за прутики медные. Вода в склянице мутная, да и нет ее, почитай. Так, на самом донышке малость осталось.
— За птичками Божьими у девушек усердья нет ходить, — рассердившсь, царевна молвила.
А птички, как только она к ним подошла, на жердочки повскакали, головки набок наклонили, черными глазками-бисеринками на царевну поглядывают.
— Чирик-чирик, пик-пик!..
Словно жалуются, словно пить просят.
Вскочили со своих мест Любушка с Дунюшкой, к царевне подбежали, ахают, охают, в клетку заглядывают.
— Ах, горе какое! Птички непоеные. Вот недогляд-то!
А сами ни с места.
Свистнула царевна в свистулечку серебряную. Стаей влетели к ней сенные девушки. Влетели, словно воробышки на ветке рядышком выстроились, головы опустили, руки сложили. Приказа царевниного ожидают.
А Федосьюшка им:
— Девочку, ту, что по ночам у постели моей спит, сюда немедля позвать.
Дарьи Силишны в ту пору в горнице не случилось: пошла она на чердак, лоскут подбирала, душегрею себе чинить. Вернулась, а царевна Орьке уже ключик от поставца с птичьим кормом дает.
— Вот тебе, девочка, ключик. Крепко-накрепко наказываю я тебе за птицей с береженьем ходить.
Мама в дверях с лоскутьями так и стала.
А царевна ей с укором:
— Божьи птицы некормлены, непоены в клетках сидят.
Не без вины и мамушка в том была. Недоглядела, значит, за девушками. Вскипело сердце ее горячее на нерадивых. Брови Дарья Силишна сдвинула, глазами недобрыми на примолкнувших девушек повела.
— Погодите! Будет вам ужо…
— Сама я их уже побранила, — поспешила остановить мамушку царевна. — Да в наказанье и ключик от них отобрала. Будет Оря теперь за птичками ходить. С нее и спрашивать буду.
Сдержать себя не стало сил у Дарьи Силишны.
— В оба гляди у меня, деревенщина! — с угрозой вырвалось у нее.
А Орька только низехонько в ответ поклонилась:
— Уму-разуму научи меня, деревенщину, боярыня милостивая.
Такого вкрадчивого, умильного голоса у Орьки еще никто во дворце не слыхивал. Да и вся Орька словно другой стала. Все, что в терему царском видела да слышала, все сразу к делу приложила. Стоит смиренницей: руки, как у сенных девушек, сложены, губы поджаты, взгляд спокойный, по сторонам не бегает, словно она одну Дарью Силишну во всем терему только и видит. Федосьюшка глаза на свою бойкую ночную сказочницу раскрыла. А Орька еще поклон мамушке, да еще пониже первого, отвешивает:
— Сделай милость великую, боярыня, научи меня, несмышленую, как мне государыне царевне угодить.
Никакого ответа Дарья Силишна девчонке не дала, а за ученье тем же часом принялась. Для начала, как за перепелками ходить надобно, все Орьке рассказала, показала поставец кормовой, где всякий птичий корм ставился. Наказала Орьке ключик от того поставца каждый раз на место класть, зерен, как за кормом пойдет, не просыпать и, ежели из птичьей клетки что на пол от самых птиц просыплется, в ту же пору все до последнего зернышка прибирать.
— А пуще всего берегись у меня ежом топать. В горницу к птичкам ты, когда государыня царевна еще почивает, приходить станешь, а половицы у нас ненадежные. Ступишь без опаски — на все покои скрип поднимется. Ох и давно бы у нас пол затвердить надобно, да не допросишься. Все, сколько их есть мастеров, на работе у тех, кто постарше да построже. Чеботника торопить станешь, и у того отговоры: «И так, почитай, что скован сижу с чеботками вашими. Обождите, пока на царицыну половину да царевнам, тем, что вашей набольше, отработаю». Так и говорит.
Расстроилась мама, задышала часто-часто. На лавку опустилась, чтобы вздохнуть малость.
А царевна ей:
— Полно тебе, мамушка! И чеботки у меня пока держатся, и пол, на днях ты мне сказывала, немедля затвердить обещали.
И, обратившись к Орьке, прибавила:
— Иди себе, Оря, в сени. Нужно будет — свистулечкой позову.
Не любила Федосьюшка, когда ее мамушка при чужих жаловаться принималась. Рада была царевна, что Дунюшка с Любушкой за пяльцами не засиделись. Как Дарья Силишна на них прикрикнула, в ту же пору обе боярышни, переглянувшись, в сени выскользнули. Захотелось им о том, что в терему случилось, на свободе посудачить. Девчонка бродячая, на большой дороге подобранная, к царевниным птичкам приставлена! Есть про что в сенях рассказать.
Осталась мама вдвоем со своей хоженой без чужого глаза да без помехи, волю своей обиде дала. Давно обида эта в мамушкино сердце занозой вошла. С той самой поры, как царь, нежданно-негаданно для всех теремных, взял себе в жены молодую красавицу Наталью Кирилловну. Как снег на голову всем, и дальним, и ближним, этот новый брак государя свалился. Никому не объявлял царь о том, что опять жениться задумал, не рассылал гонцов во все концы государства собирать невест на смотрины царские. Для него самого все это нежданно-негаданно приключилось. Два года в горести по первой покойной жене своей провел Алексей Михайлович. Государством правил по-прежнему, всякие дела, и большие, и малые, сам вершил, к детям еще ласковее прежнего сделался. Никто худа от того, что царь в печали живет, не видал, только самому Алексею Михайловичу трудно было. Без радости ни один человек долго жить не может. Растение к свету не дотянется — хиреть, чахнуть начнет. Так и с человеком бывает, коли радость его вовремя солнышком не осветит, не пригреет.
Солнышком, нежданно из темных туч выглянувшим, мнилась Наталья Кирилловна Алексею Михайловичу.
Приехал царь в гости к боярину своему любимому, Артамону Сергеевичу Матвееву, и в доме, где все по-иноземному велось, за ужином его племянницу увидал. Старых обычаев Матвеев не придерживался, ни жены, ни племянницы в потайных покоях не прятал. Хороши были глаза у Натальи Кирилловны. От одного взгляда этих глаз, молодых да огненных, новой бодрой, радостной жизнью на царя пахнуло.
С этого все и началось, а кончилось тем, что в царском терему новая царица, хозяйка всему явилась.
А за время вдовства Алексея Михайловича его три сестры-царевны да шесть царевен, дочерей от первой жены, хозяйками были. Пришлось царевнам и бо́льшим, и меньшим молодой мачехе первое место уступить. Они и уступили. Так спокон веку заведено, чтобы царицу в терему, как царицу в улье, все слушались. Царевны-тетки, и те, смирение на себя напуская, со всякой безделицей на поклон к царице ходят. И царевны-дочери за ними тянутся. Идут царевны смиренницами, кланяются молодой царице низехонько, а к себе в терем вернутся, душу отводят:
— Не молоденькие мы, чтобы спрашиваться. Да и Евдокеюшка с Марфинькой, и Софьюшка — все новой царицы старше…
А те уж и подхватывают:
— Не матушка она нам родная, чтобы ей кланяться. Да и было бы кому кланяться! Род-то у ней какой! В Смоленске у своего батюшки она, сказывают, в лаптях по бедности хаживала.
Так между собой царевны бунтуют. Все до одной, кроме Федосьюшки, на мачеху злобствуют. Слушают царевен мамушки, боярыни их ближние, боярышни, девушки сенные, карлицы, шутихи и в угоду им тоже на молодую царицу шипят.
Нету прежнего согласия в царском терему.
А поглядеть, когда при царе соберутся, — все тихо да мирно. Без памяти любит царь молодую царицу. Одной мысли, что ей в чем-нибудь перечить могут, не перенес бы. Ну и таят про себя свою злобу царевны. Пожаловаться им на судьбу свою горькую некому. Всех родных Милославских разогнали родные новой царицы. Кто на воеводство в разные города отправлен, кто от дел отрешен, в дальние вотчины отослан. Так и живут царевны взаперти да со злобой на мачеху. Остудила она сердце царское для прежней родни да для детей от первой жены.
Одна Федосьюшка ничего этого как будто не понимает.
— Мачеха молодая, веселая. С нею и батюшка повеселел, — говорит она сестрам.
Любит Федосьюшка, чтобы все кругом мирно да тихо было. И мамушку, когда та сокрушаться да жаловаться принимается, всегда останавливает.
Остановила и теперь:
— Чеботков мало ли у меня, а что пол скрипит — беды в том нет: привыкли давно к скрипу. Сокрушаться, выходит, и не о чем, мамушка.
А Дарья Силишна все про свое:
— Скрыню намедни дубовую с ящиками выдвижными готовую подать обещали. Позолотчик задержал. Принесли ему новые пушечки потешные да ядра к ним для царевича Петра золотить. Ну, наша скрыня и в сторону. А у нас летние окруты в коробе, крысами проеденном, лежат.
— Принесут скрыню, мамушка. Сама сказывала, позолотили уже. Теперь только высушить…
— Скрыню только так, к слову упомянула, а у нас везде недохватка. Гречане зарукавников, серег, перстеньков навезли, купчины персидские шелками кланялись. Все мимо нас прошло. Кружев плетеных золотых со звездами серебряными уж так-то мне тебе на летник прихватить хотелось. Не дали. Царевнам-несмышленышам, дочкам царицы молодой, все понесли. Выход снаряжать станешь — ни тебе карлицы, ни тебе арапки, ни тебе калмычки…
— Да не люблю я их, мамушка.
— Любишь, не любишь — это уж другая статья. А только в забросе нам быть не приходится. Вот пойдут в Новолетье царевны в Грановитую на царский выход из окошек глядеть, а у меня, у мамы твоей, на сердце кошки так и заскребут. У всех впереди и карлицы, и арапки, и калмычки, а у нас — никого. Сенных девушек — и тех в обрез. Скоро, пожалуй, девчонку твою бродячую для выхода обряжать придется.
Долго еще причитала и ворчала расходившаяся мамушка, перебирая в памяти все обиды последнего времени. Федосыошка под конец даже и слышать ее перестала. Сидела молча, вспоминала сказки ночные. Радовалась, что теперь с птичками Орька и днем будет поближе к ней. Скучала она, когда долго ее не видела. С каждым днем девочка ей нее милее делалась.
7
С самого раннего утра, едва на небе заря Семенова дня загорелась, поднялись на Кормовом дворе все без малого двести поваров-мастеров, что готовят про царя, про царицу, про царевичей, царевен, да про людей, какие в царском дворце живут, да еще и про всех тех, кому вседневная подача от стола государева для милости и почета идет.
В Новолетье, что с Семенова дня на первое сентября начинается, у царя для патриарха и для бояр именитых всегда стол бывал. У царицы для боярынь свой особый стол наряжали. В этот же день, в самое Новолетье, именины царевны Марфы приходились. Для ее хором, кроме калачей именинных, тоже немалое угощенье требовалось.
Вот с раннего утра и захлопотали слуги царские. На хлебном дворе хлебники за калачи из крупитчатой муки принялись, за караваи да за пироги пшеничные, что подают к горячему. Пряженых и подовых тоже не мало напечь надобно. Начиняют те пироги и говяжьим, и бараньим, и заячьим мясом, кладут в них мелко накрошенное сало всякое. С такой готовкой скоро ли управишься? А обедня отойдет — и обед сейчас.
Повара на горячее «рассол» уже поставили. В медных ведерных чанах на огуречном рассоле станут мясо со всякими пряностями варить. Для патриарха и для тех, кто не ест мясного, из живой рыбы уху подадут.
С соусами да жареными хлопот всего больше.
«Куря рафленое» да «куря бескостное» из всех поваров мастера готовят. Сарацинское пшено отборное им для начинки кур отпускают, пряностей, изюму, шафрану не жалеют. Куриные шейки, печенки, сердца, потроха лебяжьи — все это особо, тоже с соусом, под медвяным взваром готовят. В поварнях столы всякой птицей и рыбой завалены.
Только что убитые, лежат лососи, с дальнего севера, из Корелы живьем доставленные. Вместе с осетрами, белорыбицей, стерлядями волжскими и сыртью ладожской они живыми, до случая, в царских прудах подмосковных додержаны. Хорошая нынче и птица досталась. Уток, журавлей, цаплей, гусей, лебедей без счета настреляно. Было из чего выбирать для стола новолетнего.
Задалась бы теперь только птица в жаренье. Гуся шестного, кашей начиненного, не мудрено сготовить, а с цаплями, с журавлями, особливо же с лебедями, умеючи справляться надобно. У самого главного мастера не всякий раз птица с вертела на блюдо, словно живая, садится.
А выйдет ошибка — батогов и мастеру не миновать.
Не один раз призадумаются повара, прежде чем птицу на вертел садить, не один раз проверяют, то ли масло для жаренья отпущено, да нет ли изъяна какого в приправах. Что-нибудь не так покажется — со всех ног к ключникам бросятся. А ключники туда да сюда по всем дворам так и снуют, кладовые, погреба, ледники отмыкают, всего, что там заготовлено да запасено, по счету да по мере на все стороны отпускают. Отпустили для царского стола и пряников, и коврижек, и пастилы всякой, да арбузов с дынями в патоке, с перцем, с имбирем, с корицей да с мускатом сваренных. Выдали того же и для стола царицына, а тут пришли еще и в покои именинницы, царевны Марфы Алексеевны, сластей спрашивать. Шум, гам на сытном дворе поднялся.
От царевны Марфы Алексеевны, чтобы именинницу не обидели, сама боярыня-кравчая с Верху спустилась. Сама, никого не слушая, отобрала сахарных уток, леденцов белых и красных, что из краев заморских через Архангельск пришли, голубей, которых на столы для красы ставят. Хотела боярыня еще и сахарный терем прихватить, да не удалось: только для царя с царицей тех теремков заготовили.
Спорить пытала боярыня.
Слово за слово — и такая руготня поднялась, что квасовары с медоварами из ледников и погребов повыскакивали. А боярыня, сердце свое сорвавши, рукой махнула и, переваливаясь, обратно в терем заспешила, а за нею на блюде сахарных птиц понесли.
Как раз в ту пору, птичьи клетки оправляя, Орька в окошко глянула. Увидала сахарных птиц, руками всплеснула и на все три покойчика ахнула. Федосьюшку мамушка к новолетнему царскому выходу обряжала. Сенные девушки серебряную лохань с рукомойником после умыванья уже унесли и царевне уборный ларец подали. Подняла Федосьюшка крышку, в зеркальце, что на внутренней стороне крышки вправлено, смотрится, сама сурьму себе на бровь накладывает. А Орька как раз в эту пору и ахни, да так ахнула, что царевна с перепугу сурьмой, вместо брови, прямо по носу хватила.
Сенные девушки рукавами закрылись, от смеха удержаться не могут, а Дарья Силишна разгневалась:
— Ох уж эта мне девчонка досадная! В подклети бы ее держать. Место ли ей в терему государском?
А царевна словно не слышит, сенным девушкам приказывает:
— Орюшку мне кликните. Дознаться хочу, что с ней приключилось.
Пряник печатный подарочный
Пришла Орька, про сахарных птичек рассказала, хотела еще что-то прибавить, да на Дарью Силишну глянула и сразу рот закрыла. Торопится мамушка царевну свою обряжать. Раньше царицы и бо́льших царевен в Грановитую меньшие поспеть должны. Того и гляди, на башнях третий дневной час отобьет. Тут и идти надобно. Выстроились по две в ряд сенные девушки, боярышни тоже по две в ряд стали.
Оглядела всех Дарья Силишна:
— Идти время!
Распахнулись двери терема. За ними стольники, мальчики-подростки, в рудо-желтых кафтанах, уже дожидаются. Много им дверей расписных распахнуть надобно, прежде чем царевна до Грановитой дойдет.
По сеням просторным, по ходам, по переходам тесным идет Федосьюшка. Утро погожее выдалось. Солнышко хотя и осеннее, а светит ярко. Ударяет в окошки слюдяные, в переплеты, жестью пробранные, цветными стеклами расцвеченные. Играют солнечные пятна по стенам и потолкам, священным письмом украшенным, рассыпаются веселыми зайчиками по златотканой одежде царевны, скользят по цветным уборам девушек, по рудо-желтым кафтанам стольников.
Вот и последняя дверь в палату Грановитую. Распахнулась дверь тяжелая, а за нею словно риза золотой парчи развернулась: все стены сверху донизу в красках, все в позолоте. Пророки, святые угодники, великие князья, государи московские, а над всеми, под сводами, Сам Бог Саваоф с воинством ангельским.
Дверь Грановитой палаты
Сколько раз ни бывала в Грановитой Федосьюшка, всякий раз она невольно на пороге задержится, глазами всю палату окинет. Загляделась и теперь на ангелов, золотые крылья по синему своду раскинувших, а сестрицы ее к себе уже кличут:
— Скорей, Федосьюшка! Сюда к нам иди! Вместе в окошко поглядим.
Поспешила царевна к сестрицам. Наскоро со всеми поздоровавшись, вместе с ними к слюдяной оконнице прильнула. Через слюду, цветами и травами расписанную, все, что на площади, словно через запотелое стекло, виднеется, и мамушки еще тафтяные занавесочки сдвинуть прилаживают.
— Негоже, коли вас, царевен, народ с площади разглядит.
— Брось, мамушка, не дадим задергивать.
И Марьюшка с Катеринушкой с двух сторон занавесочку ухватили.
Отступилась мамушка.
— Словно птицы, из клетки выпущенные, наши царевны в окна забились, — одна мама другой шепчет.
— Народ-то на площади! Гляньте, сестрицы, за окошком так и чернеет, — говорит Марьюшка.
— Бояре словно золотые стоят! — перебила сестру Катеринушка.
— Сестрицы-голубушки, на крайнего молодого боярина поглядите. Ну и пригож!
Расщебетались, словно птицы, царевны, не заметили, как сестрицы старшие в Грановитую вошли. Все разом к дверям обернулись, когда их боярыни оповестили про то, что сестрицы идут. Низко, в пояс, младшие старшим поклонились, а потом все опять у окошек стали. Пять Алексеевн в Грановитой сошлись. Шестой не хватает. Марфа-именинница у себя в покоях осталась. Недосуг ей: вечером она гостей к себе ждет. Всех сестриц, теток всех царевна к себе позвала. Принимать гостей нужно ей приготовиться, а главное — негоже имениннице, чтобы до обедни ее поздравляли.
За сестрицами тетки-царевны пожаловали.
Ирина Михайловна, старый порядок во всем соблюдая, и близко к окошку не подошла. Поодаль села, но тотчас же зрительную трубку на площадь навела. Татьяна с Анной Михайловной у самого окошка пристроились. Присесть не успели, как обе, словно сговорившись, ухватились за шнуры занавесные.
— Позадернуть бы малость. Как бы нас, царевен, спаси бог, с площади не увидали!
И только они это сказали, на колокольне Ивана Великого в царь-колокол, весом на семь тысяч пудов, ударили. Затряслись оконницы от звона богатырского, вздрогнули царевны, шнурочек из рук выпустили и сами того не заметили.
Гулом загудели все кремлевские и московские колокола.
— Крестный ход тронулся! — пронеслось по Грановитой.
Вплотную царевны к окошкам придвинулись. Ирина Михайловна трубку зрительную, в рукоятке посоха вставленную, к глазам приблизила.
— Царица идет! — оповестила на всю Грановитую казначея-боярыня.
Пришлось опять от окошек оторваться.
Царицу все, стоя, низкими поклонами встретили.
Припоздала Наталья Кирилловна. С царевичем Петром, наряжая его, замешкалась, а потом перед самым выходом царевичу Ивану вдруг занедужилось. За руки его мамы едва до Грановитой довели.
Торопливо отвечая поклонами на низкие, чуть не до земли, поклоны, проходит царица к своему окошку.
— Сестрица Федосьюшка, к нам сюда пожалуй, — на всю Грановитую закричал царевич Петр.
Унимать его некогда: царь с наследником уже на площади перед патриархом стоят.
Золотятся хоругви, возносясь к безоблачному небу, сверкают алмазы на Мономаховой шапке Алексея Михайловича, переливаются на одежде его сребротканой каменья самоцветные. Вот патриарх высоко обеими руками для благословенья крест поднимает.
Принадлежности царской одежды XVII века
— Иди! Уж иди, Федосьюшка!
Почти вытолкнули младшую сестрицу царевны. Все знают Петрушеньку: не угомонится, пока по его не сделают. Усадили между двумя братцами Федосьюшку. Колокола замолкли. Патриарх царя и царевича приветствует. Духовенство, бояре царю кланяются.
Все, что глаза видят, царевны из окошек, хотя и не совсем ясно, разбирают, а что говорят на площади, того им и совсем не слышно.
Только когда те, что за кафтанами золотными, вдаль уходящей тучей темнели, свой голос подали — такой гул пошел по кремлевской площади, что и в Грановитой загудело.
— Многолетствуй, царь-государь, нынешний год и впредь идущия многия лета в род и в род и вовеки!
Поклонился царь миру, склонилась алмазами украшенная Мономахова шапка перед множеством всенародным. Опять загудели колокола, и под их звон медленно и торжественно направился царь к обедне в Благовещенский собор.
Рядом с ним шел наследник, позади царевич грузинский, царевичи сибирский и касимовский, а за ними, словно из золота отлитые в своих одеждах златотканых, бояре двинулись.
Окно Грановитой палаты
И когда они прошли, и мимо окошек Грановитой потянулась темная толпа народная, поднялись со своих мест царица и царевны. Им тоже было время идти обедне. Но пошли они не в собор, а в одну из тесных тихих и безлюдных верховых церквей, предназначенных для молений всех женщин царской семьи.
8
В Новолетье, до самых вечерен, народ во дворце толпился.
После обедни патриарх с боярами у царя обедал. Не все гладко на праздничном пиру прошло. Пока гости по местам рассаживались, два боярина чуть большой драки между собой не учинили. Ни один не захотел ниже другого за праздничный стол сесть. Пытали гости их уговаривать — не помогло. Тот, кого ниже посадить хотели, пока из силы не выбился, от всех руками и ногами вовсю отбивался. Золотного кафтана своего не жалеючи, пытал под стол спускаться. Изо всех сил боярин свою честь и честь рода своего отстаивал. Только когда совсем изнемог, силе он покорился, пригрозив врагу обиды своей не забыть.
Всего один оглашенник на этот раз царский пир омрачил. В иное время шума всякого и драк куда больше бывало. Вежеством и тихими нравами бояре не славились, спор о местничестве был одним из самых лютых в тогдашней дворцовой жизни.
На славу в Новолетье царь своих гостей угостил: у стольников руки заломило от серебряных и золоченых блюд с осетрами пудовыми, с лососями, с птицей жареной. Много было гостями поедено, а выпито и того больше.
Боярыни у царицы за ее столом тоже не хуже бояр угостились. Досыта напились-наелись и гости именинные Марфы Алексеевны. Царица, по обычаю, в повалуше столы накрыть приказала. Собрались за столами этими монахини, верховые старухи-богомолицы, странницы, бахарки, убогие, калеки всякие. Сама царевна не один раз по витой узкой лестнице из своих покоев к гостям спускалась, всех калачами именинными из своих рук оделяла. Мелких калачиков, что про нищую братию на хлебном дворе заготовили, почитай что, и не хватило, а больших именинных калачей настоящих — в два аршина длиною и в четверть высотою — еще и осталось.
С каждым годом именитых гостей у Марфы Алексеевны, да и у других царевен, все меньше и меньше бывает. Милославские, по матери родичи, все дальше от Москвы отходят: кто на воеводство в дальний город давно отослан, кто в вотчине в опале живет. Ходу Милославским родня новой царицы не дает. А от новой государевой родни царевнам большого почета ждать не приходится. И Матвеев, и Нарышкины рады ко всему прицепиться, чтобы больших царевен обойти, унизить да от людских глаз заслонить.
Приспешники родни новой царицы им в угоду стараются: «Новолетье… Недосуг было к царевне заглянуть».
Недосуг! Федорушку с Натальюшкой, даром что они совсем махонькие, не обошли бы. А про царевича Петра и говорить нечего. Вся Москва на Воробьевых горах его именины справляла. У него молебны по всем церквам, и пированье, и пушки, и огни потешные. Пированье во дворце и сегодня. Пированье, да не про царевну забытую. Горько на душе именинницы от этих мыслей обидных. Лишний раз по витой узкой лесенке спускается к своим гостям Марфа Алексеевна:
— На доброе здоровьице угощайтесь, гостьи мои любезные!
А старческие голоса ей в ответ хором:
— Многолетствуй, царевна-государыня. Пошли тебе Господь милостивый здоровьица долгого, протяженного.
Вокруг стола все старые, полуслепые. Лица у всех сморщенные. Жутью на царевну пахнуло. Почти бегом по лесенке она к себе наверх припустилась.
Горят лампады перед образами, праздничными пеленами убранными. Все покои синеватой дымкой душистого ладана после заздравных молений еще затянуты. У именинницы духовенство из Вознесенского монастыря, усыпальницы всех царевен, побывало. Приходили священники с причтом и от Екатерины Великомученицы, и от Ризоположения, двух самых любимых царевной дворцовых верховых церквей.
На скамьях у Марфы Алексеевны атласные, шитые полавочники положены, у окошек такие же наоконники. Все гранатовое, царевниного цвета любимого. На столе, турского бархата скатертью накрытом, подарки именинные.
От батюшки — на летник атлас турецкий: по серебряной земле люди со щитами да с саблями, люди на слонах, барсы, луны, мечети. От мачехи — шелк, персидскими купчинами привезенный. Тетки да сестрицы чего только имениннице не надарили!
На столе — дела немецкого рукавички перстчатые, шелком брусничным в узор вязанные, и чулки цвета шафранного и запонка жемчужная. Здесь же и ларец резной, аспидом зеленым и красным расписанный, лоскут лазоревого атласа, чтобы молитвенники оболочить, и ароматник хрустальный.
Тетка Ирина Михайловна отдала имениннице одну из своих драгоценных турецких ширинок: по кисее паутинной золотом и серебром тончайший узор наведен.
Хороши подарки, а сердце не веселят.
Новолетье царевнин праздник заслонило. Не будь Новолетья, у царя-батюшки Марфа Алексеевна в этот бы день обедала, обедала бы и с батюшкой, и с братцами, и с тётками, и с сестрицами. Все близкие, любимые в этот праздник с нею были бы.
А тут батюшка с братцем старшим, царевичем наследным, к имениннице только заглянул. Недосуг им обоим, недосуг и царице. Боярынь принимать она торопилась. Царевен-девиц к столу, где все мужние жены сидят, звать не приходится.
Вот и остались они ни при чем с именинницей вместе. Пообедала каждая у себя наспех, а потом, ходами да переходами, в тайник над Золотой царицыной палатой все Алексеевны, кроме именинницы, пробрались. Захотелось им поглядеть, как у царицы боярыни пируют.
Под золочеными сводами, расписанными деревьями, виноградными кистями, диковинными цветами и птицами, сидят вдоль столов гостьи именитые, все в парче драгоценной, каменьями и жемчугами увешанные. За столом боярынь царица грузинская на самом почетном месте сидит. За столом, поближе к царице, старицы монастырские с игуменьями. Среди золота и каменьев самоцветных еще строже и темнее кажутся их черные одежды.
Между столами, гостям прислуживая, снуют малолетние стольники — дети боярские, все с ног до головы в белом. Боярыни кравчие неподвижные, строгие, чин столовый блюдя, по концам палаты дозором стоят. На своем царском месте за отдельным столом царица сидит. За нею на стене, весь в лампадах зажженных, большой образ Пречистой Девы с Младенцем, кругом него лики угодников в золотых венцах. Сама царица, прекрасная и торжественная, в короне сверкающей. Глянула на нее Евдокеюшка и громко на весь тайник ахнула:
— Царица-то!
— Красавица, что и говорить! — подхватили сестрины. — Всех за столами она краше.
— Поглядеть — не догадаешься, что у себя в Алешине и лаптях хаживала. Давно ли полы веником заметала, заходы скребла, холопкой слыла?
Все покрыла царевна Софья своим голосом грубоватым, насмешливым.
Оторопели сестрицы, переглянулись:
— Что ты, Софьюшка! Да потише ты. Замолчи, родная! — Да разве им Софьюшку унять!
— Ключницей у родича своего Нарышкина в селе Желчине из-за хлеба наша царица жила. В черевичках на босую ногу при восходе солнечном на погребицу выдавать припасы домашние бегала, за подпольем, где вина с наливками хранились, все она же доглядывала. Так мне про мачеху соседка ее родича рязанского, боярыня Остро-Саблина, рассказывала. Лапотница она!
— Не надо так, сестрица! — Федосьюшка в темноте тайничка Софьюшку за руку схватила. — За что ты ее… так-то… До нас она добрая, заботливая.
— Замолчи, несмысленыш! — отмахнулась царевна от своей любимицы.
Заплакала Федосьюшка.
— Вон отсюда до беды уйдем! — вмешалась Евдокеюшка.
— Уйдем, уйдем! — подхватили все царевны. — Невелико веселье из-за прутьев железных на чужое пированье выглядывать. Поглядели — и полно.
Выбрались сестрицы из тайничка.
После темноты от одного света на душе сразу легче сделалось. Софьюшка Федосьюшку, как только в переходе выбрались, обняла.
— Прости меня, сестрица, — сказала и, обратившись к Евдокии, спросила:
— Куда бы нам теперь пройти, смиренница наша? К себе по теремам расходиться что-то не хочется.
— В Смотрительную башенку пойдем! — Катеринушка крикнула.
— В Смотрительную, в Смотрительную! — подхватили сестры.
Софьюшка, руки Федосьюшкиной из своей не выпуская, по переходу бегом припустилась. За нею сестрицы, словно лебедки, в своих сребротканых летниках полетели.
Всполошили они в сенях девушек. Повскакали те со скамей резных, друг на друга глаза таращат, не знают, за царевнами ли им бежать или на месте оставаться. Спросить, что делать, не у кого. Званые боярыни в Золотой палате пируют, незваные из щелей на столованье царицыно выглядывают.
Пока сенные девушки о том, что им делать, раздумывали, царевны уже добежали до конца сеней и отперли дверь, что вела на витую башенную лесенку.
На башенке Смотрительной светло и солнечно.
Софьюшка, как только вошла, сильной рукой сразу большое окно со слюдой, в жесть забранной, откинула. Непривычным свежим воздухом на Алексеевн пахнуло, непривычный простор пред ними раскинулся. Все, от чего отгораживала царевен обставленная пушками высокая кремлевская стена, с башенки, как на ладони: улицы кривые во все стороны разбежались. Словно прижатые друг к дружке, теснятся на них темные бревенчатые дома под гонтовыми и соломенными крышами. Отдельно, целыми усадьбами, раскинулись хоромы боярские, окруженные службами, садами, огородами. Между улиц площади, пустыри, болота. Москва-река всеми своими извилинами на солнце искрится, за нею Замоскворечье, а за ним даль полей и лесов. И сады московские, и даль лесная уже осенью позолочены. Белые колокольни бесчисленных церквей с золочеными куполами еще белее в прозрачном осеннем воздухе кажутся.
— Вот когда бы в Измайлово съездить! Бабье лето красное подошло. Не пропускать бы денечков ясных! — вырвалось у Марьюшки.
— В Измайлово! В Измайлово! Станем у батюшки проситься! — подхватили царевны.
— Не видать вам Измайлова до самой весны, — остановила их Софья, — аль забыли, что нынче с летом прощаются? Подошла осень с дождями, с грязью непролазной.
Сегодня царевна на всякое слово радостное тучу нагонит.
С утра самого всколыхнулась ее душа неспокойная. С той минуты, как она из окошек Грановитой толпу увидала, на волю ее потянуло. Тайничок в церкви, где она потом обедню стояла, темницей ей показался. Задохнулась она в тереме. Захотелось ей на людей поглядеть, потянуло взглянуть, как за новолетним столом званые гости пируют. Опять в тайничок царевна попала. А здесь, в башенке Смотрительной, все, чем она целый день мучилась, непереносной обидой и мукой ей в сердце и в голову ударило.
— Жизни подневольной, жизни заточенницы, сестры-голубушки, сносить дольше не в силах я, — стоном у Софьи вырвалось. — Живем, словно заживо погребенные. Да и живем ли? Так, смерти ждем. Из терема нашего нет нам других путей-дороженек, как одна вековечная — в Вознесенский монастырь, царевен всех усыпальницу.
Слова жуткие, голос за сердце хватает, на саму Софьюшку глядеть страшно. Стоит она у окошка, вся, даже под румянами, бледная, густые брови над переносицей сошлись, в потемневших глазах словно зарницы трепыхаются.
— Что с тобой? Помолчи, родная! Аль тебе недужится?
Не слушает Софья, что говорят ей сестрицы встревоженные.
— Нет, скажи хотя бы ты, Евдокеюшка, из нас самая старшая, люба ли тебе жизнь твоя? Скажи мне, любо ли тебе, сестрица, в девичестве стареть, как состарились тетки наши? Всем нам судьба одна: вековушками жизнь кончать. Суженого нам, царевнам, во всем мире ни одного не сыскать. За бояр идти негоже — бояре в челобитных царю холопами пишутся, за царевича заморского пойти — от православной веры отступиться надобно, так не возьмут. Уж на что тетка Ирина Михайловна датского королевича крепко любила, а и для него веры переменить не могла. Так и состарилась, от радости отказавшись. За Евдокеюшкой теперь черед. Еще малость подождать, и совсем старухой сестрица будет. На Катеринушку с Марьюшкой гляньте. Им бы молодцев песнями приманивать, из красавцев красавца в мужья себе выбирать. Одной Федосьюшке, по малолетству ее, неволю стерпеть еще можно, да и душа у сестрицы меньшой не в меру покорная. Гляньте-ка на нее: слов моих — и тех испугалась.
Такой гневной и такой в гневе красивой первый раз Федосьюшка Софьюшку увидала. С братцем Петрушенькой, когда он в гневе своем необузданном весь терем пугает, сестрица вдруг схожа сделалась.
Одну Федосьюшку в такие гневные минуты царевич к себе подпускал.
Мимо грустно поникших сестриц Федосьюшка к Софьюшке проскользнула, с лаской несмелой к плечу ее головой припала.
— У всякого доля своя, радость моя сестрица, и всякая доля у человека от Господа. Девичья…
Не дала ей Софья дальше слова выговорить.
— Долю свою всякий сам с Божьей помощью строит. Княгиня Ольга, святой церковью и людьми чтимая, сама ходила устроять землю свою и древлянскую. Сама дань собирала. Не побоялась княгиня пути долгого, в Царьград ездила…
— Вдовой княгиня тогда была… — попробовала вставить свое слово Евдокеюшка.
— Были и девицы царского рода, что жили по-другому, чем мы, — прервала ее Софья. — Еще вчера я с учителем моим, Симеоном Полоцким, про Пульхерию, царевну византийскую, беседовала. Она, как и мы, царевной была, а на девятнадцатом году облеклась в порфиру и на престоле воссела. Хотите, расскажу я вам о ней все, что сама знаю?
Усадили царевны Софьюшку, сами возле нее разместились, и стала она им сказывать про чудесную девицу, что двенадцать веков тому назад в Византии далекой всем царством управляла:
— Умна и пригожа царьградская царевна была, а брат ее, наследник престола, хилым рос…
— Не одному нашему Феденьке, видно, Господь здоровья не посылает, — вырвалось у Евдокеюшки.
Покосилась на нее Софьюшка и дальше свой рассказ повела:
— Пришло время царевичу царствовать, а он, слабый, недужный, видит, что одному ему с царством не совладать. Стал у сестры помощи просить, и согласилась Пульхерия тяготу его облегчить. Рядом с собою брат-император сестру свою поставил, без ее совета ни единого дела, ни большого, ни малого, не вершил. Слава про царенье мудрое, про советчицу ума великого и красоты небывалой по всем землям пронеслась. Много королей и королевичей царевну за себя сватали, а она ни за кого не пошла, без помощи своей брата покинуть не захотела. И когда жизнь братнина кончилась…
Здесь у Софьи голоса не хватило. Оборвалась ее речь. Остановилась она, сестер всех быстрым взглядом окинула и торжественно, словно тайну им великую открывая, продолжала:
— И когда не стало царя, вся Византия Пульхерию царицей своей назвала. В диадеме и порфире воссела Пульхерия на древнем престоле царей царьградских, а когда упрочилась власть ее, выбрала она себе супруга по сердцу из своих же подданных. Так всю радость женской доли с величием мудрого правителя Пульхерия в себе сочетала, и славное имя ее через века до нас дошло.
Заворожила Софья рассказом своих сестриц. Через века, давно минувшие, царьградская царевна, свободная, сильная, смелая, к затворницам подошла.
Терема
— И мужа по сердцу имела, и царство ей досталось, — словно просыпаясь от сна, с завистью молвила Евдокеюшка.
— Я бы со всем и не справилась. Мужа по сердцу себе взяла бы, царство — Софьюшке бы отдала. — Веселая Катеринушка, сама первая своих слов испугавшись, вся вспыхнула и закрыла рукавом смущенное лицо.
Софья ей ответить собралась, да не успела. Во дворе, как раз в это время, зашумело, загудело, и все царевны бросились к окнам.
— Гости царские по домам расходятся, — сказала Софьюшка.
— Жалко, что сверху во двор плохо видать.
— За воротами пыль поднялась.
— Колымаги тронулись.
— Верховых лошадей боярам подводят.
— Гляньте вдаль, сестрицы-голубушки! Красота какая. Золотом зелень в садах осень тронула.
Примолкли у окошка царевны, и долго стояли они притихшие, словно опечаленные.
Казалось им, что в солнечной дали, осенью и закатом позлащенной, в порфире и диадеме стороною от них проходит гордая и прекрасная царевна царьградская.
Но больше на башенке они про Пульхерию словом не обмолвились. Разошлись, словно ничего и не случилось, но у каждой на душе осталось такое чувство, будто в жизнь вошло неведомое. Счастье либо горе — разобрать мудрено.
И когда вечером все собрались на девичье веселье к имениннице Марфе Алексеевне — первым делом, улуча время, спросили Софьюшку, когда она сестрице про Пульхерию скажет. А царевна Софья, на боярышен и сенных девушек покосившись, сказала:
— Про Пульхерию вы помалкивайте, а Марфиньке я еще раньше, чем вам, про византийскую царевну сказывала.
Обрадовались сестрицы, что уже знает Марфинька про Пульхерию, что нет, значит, между ними, Алексеевнами, никаких тайностей, и девичье веселье, словно река от запруды освобожденная, по терему разлилось.
Щелкают нюренбергские щелкуны орехи разные, на серебряных тарелках поверх браной скатерти поставленные. Пальцы, перстнями унизанные, выбирают между лакомствами, кому что приглянется.
Евдокеюшка пастилу калиновую, почитай что, одна дочиста приела, Марьюшка от малиновых левашей оторваться не может, Катеринушка мазюню-редьку в патоке похваливает.
Угощаются царевны за столом под паникадилом, что с середины свода на цепях спущено. В паникадиле все двадцать четыре восковые свечи от нового света зажжены. Старухи-богомолицы, дедовский обычай блюдя, из сухого дерева новогодний огонь добыли. Сама царевна огонь на лучину приняла. От той лучины засветили и паникадило, и шандалы стоячие — подсвечники для стола боярышен, — и шандалы висячие вдоль стен, осветив ими сенных девушек и собранных для потехи дурок, шутих и карлиц. Угощаясь, царевны не забывают и тех, кто вдоль стенок пестрым рядом вытянулись. Боярыня-кравчая, по приказу именинницы, нет-нет и пройдет вдоль стен. За нею другая боярыня с заедками всякими на блюде серебряном. Сенные девушки только руки под сласти подставляют.
Угостившись досыта, Марьюшка и других сама угостить надумала. Захватила в пригоршню леденцов заморских и, размахнувшись, дуркам швырнула. С визгом кинулись потешницы на полу леденцы подбирать, а тут и шутихи еще к ним пристали. Карлихи не утерпели — туда же припутались. Принялись все друг у друга леденцы отнимать: кричит, визжат, толкаются, кусаются. Шутихе кику, жестью убранную, с головы сбили. Карлица дурке чуть палец не откусила.
— Презлющая она у меня, — царевна Марфа молвила. — Ежели ее да с дуркой Феколкой стравить — водой разливать придется. Вот поглядите…
Стравили Феколку с карлицей, а когда они визгом своим надоели, приказали всем шутихам и карлицам их разнимать.
От гама невообразимого у всех в ушах зазвенело. Тогда царевна Софья предложила сестрам в сени пройти:
— Душно здесь. Там прохладнее. Пускай девушки песнями нас повеселят.
Полились под низкими сводами среди стен расписных песни, душу из духоты и тесноты уносившие.
Сплетаются и расплетаются девичьи руки в снего-белых рукавах, разными цветами пестрят летники, алеют повязки на черноволосых и русых головах.
Из-за гор девица утей выгоняла, Тига-утушка, домой! Тига-серая, домой! Я сама гуськом, Сама сереньким. Ой свет, сера утица, Потопила малых детушек И в меду, и в сахаре И в ястве сахарном.Не выдержала Катеринушка. В круг вошла, сама песню ведет.
Не уступила ей Марьюшка, и она свой звонкий голос подала:
Как у нас во пиру, Как у нас во беседе, Ай люли, во беседе, Всем девицам весело, Всем Алексеевнам весело, Ай люли, весело!Одна песня другую за собой ведет.
Спели девушки, как пиво на горе варили, спели, как мак под горой растили, про затейника-воробышка спели.
Много разных расписных дверей песни веселые без ключей отомкнули: царицыны боярыни, бабы комнатные, вся челядь женская по концам сеней собралась. Мамы царевичей и те песни послушать вышли.
Мама Федора Алексеевича, Анна Петровна Хитрово, веселье смутила. Охая, ахая, глаза к небу поднимая, рассказала, что наследнику опять занедужилось.
— Чуть устанет — и ноги его не держат. В аптеку за приемом камня безуйного царевич меня послал. На миг единый я и в сени-то к вам заглянула. Ночью бессонной стану я царевича моего ненаглядного сказами про веселье ваше девичье забавлять.
Ушла мама и словно веселье все с собой унесла.
Замолкли песни, приуныли царевны. Старшего братца они все крепко любили, но только Софье одной пришла в голову смелая мысль недужного навестить. Тихонечко в сторону отошла царевна и, улучив время, никому не сказавшись и никем не замеченная, из сеней выскользнула.
В покои Марфы Алексеевны опять перебрались царевны. Снова угощались, а потом, с кусками именинного пряника, по своим покоям разошлись.
Вернулась к себе и Федосьюшка.
Не хватило терпенья у Орьки дожидаться, пока мамушка заснет. Увидала царевну, и слова у нее, словно орехи из туго набитого и вдруг прорванного мешка, так и посыпались:
— Сколько бед нынче в один денечек стряслось! Холопы, за кремлевской стеной бояр своих дожидаючись, смертным боем разодрались: кому глаз вышибли, кому ребра поломали… А у нас во дворце один стольник другого с лестницы кубарем спустил. Так вместе с блюдом тот вниз и покатился… А Емельян, что с гусем от царского стола к боярину хворому послан был, гуся того на свой двор утащил. Завтра его за провинность беспременно батожьем угостят… Лихих людей, сказывают, изловили. В Разбойном приказе пытать станут…
— Да ну тебя, оглашенная! — прикрикнула на девочку Дарья Силишна. — Нашла о чем к ночи болтать. Не любит царевна наша, когда о таком говорят…
— Нет, ничего я… А ты на Орю не гневайся, матушка. Устала я. Мне бы лечь поскорей.
Захлопотала, Федосьюшку раздевая, мама. Притихшая Орька расстилала свой войлок у постели.
Уже мама царевну одеялом укутывала, когда вдруг часто-часто зазвонили в набатный колокол.
Спасская и Набатная башни со стороны кремлевского сада
— Пожар, мамушка! Где горит? Не у нас ли? — Испугалась Федосьюшка, на постели вскочила. Сидит. Дарья Силишна к несмолкающему звону прислушивается.
— Далече где-то в городе загорелось. Спи, голубенок мой. Слышишь, тихим обычаем в один Тайнинский колокол бьют. Но все три кремлевские набат сразу ударят, ежели, не дай бог, да возле нас загорится. А это далеко…
— Людей жалко, мамушка. Боязно мне.
Орькины вести с набатом тоску на царевну нагнали. Припала она русой головой к мамушкиному плечу, чуть не плачет. А Дарья Силишна ей:
— Дива тут никакого, родная моя, нету. Редкий день на Москве без пожара проходит, и нынче к тому же и день не простой — праздничный. Народ вином упился. До беды долго ли? Опять же и поджигают. В переполох чужим добром поживиться всего легче. А горит от нас совсем далеко. Огню к нам не подобраться. У нас во дворце стража надежная, стены каменные…
Давно спит мамушка, заснула и Орька, а царевна все к набату прислушивается. «Много народа нынче без крова останется, — думала она. — На чердаках коробьев с бельем отставным без счета… Завтра с утра прикажу все мое погорельцам отправить. У сестриц выпрошу… Страшно там на пожаре!»
Огненное пламя словно перед глазами трепыхается. Жарко, душно от него Федосьюшке. Закрыла глаза — перед нею царевна византийская в диадеме, в багряной мантии встала. Софьюшкино лицо, каким она его в Смотрительной башенке увидала, вспомнилось.
«Матерь, Царица Небесная, успокой душу ее неспокойную, смятенную, — нежданной для нее самой молитвой вырвалось у Федосьюшки. — Труднее, чем всем нам, сестрице Софьюшке жить. Облегчи ее, Пречистая!»
9
Склонилась над книжным налоем царевна Федосья. Медленно переворачивала листы рукописного «Златоструя». Составлен он из размышлений и поучений, выбранных из разных духовных книг.
Наилучшую из всех затейных заглавных букв хочет выбрать царевна сестрице Софье для ее именинного поздравления.
Любит сестрица все книжное, и Федосьюшка каждый год к семнадцатому сентября пишет ей поздравление на золотом, красками расцвеченном нарядном листе дела немецкого. Софьюшка этот поздравительный лист приказывает прибить у себя на стенке медными гвоздиками.
Прошлогодний повесили над резной полкой с любимыми книгами царевны. Хочется и на этот раз Федосьюшке угодить сестрице любимой.
Чтобы ей не мешали, приказала она свой книжный налой в постельную поставить. У самого окошка, где посветлее, устроилась царевна.
Дождит на дворе. Мелким осенним бусенцем слюдяное окошко от света Божьего затянуло.
В соседнем столовом покое, тоже возле самых окошек, с пяльцами боярышни пристроились. Сенные девушки в переднем покое шепотком, чтобы их мамушка не услыхала, переговариваются. Орька возле окошка позевывает. Над головой у нее высоко поднятая железная клетка с перепелками. По случаю осеннего ненастья, из комнатных садов в терема на зимовку птиц разнесли. Прибавили перепелок и в клетки у Федосьюшки. Орька приглядывает, как бы старые новых не обидели.
Не любит Дарья Силишна, когда ее царевна за книгу берется. Ничего, кроме вреда для здоровья телесного и духовного, мама от книг не ждет.
— Царевича наследного Алексея насмерть заучили, — часто и про себя, и в беседе с другими сокрушается мама. — У Федора Алексеевича не от чего другого, как от непрестанного сидения за налоем книжным, ноги сохнут… Царевна Софья, не меньше братьев книжную мудрость возлюбившая, телом, правда, крепка, как была, осталась. Ей бы вот с братцами здоровьицем поделиться. На всех бы хватило. Богатырь царевна. Без ученья неладного всем бы взяла, а с книгами совсем не то вышло. Высокоумием царевна вознеслась, так перед всеми вознеслась, что никакого сладу с ней нет.
Во всем, что случилось, Дарья Силишна Симеона Полоцкого винит:
— С монаха этого киевского все книжные беды у нас пошли. Никто, как он, во всем виноват. Хоть бы уж мучил, ненавистный, одних царевичей, так нет, до царевен в теремах добрался. Ну, дело ли девице, да еще царевне, за книгой сидеть? Ей и над пяльцами, девичьим делом вековечным, глаза свои трудить не приходится: для того у нее боярышни, сенные девушки есть. Все, что потребуется, всякими узорами разошьют. Сама царевна, ежели только по обету, в церковь Божию над чем постарается. Скука найдет — потешницы со сказками и песнями всегда наготове. Только кликнуть.
Знает Дарья Силишна все, что ее Федосьюшке во всякое время ее царевниной жизни надобно. И чего не надобно — сердцем чует. Монаха с его книжною мудростью мама от терема отвадила. В самую пору тревогу подняла, до царя с жалобой доходила. Убедила Алексея Михайловича, что Федосьюшка от большого ученья жизни лишится. Говорила, что не пьет, не ест и не спит царевна ее в те дни, когда учитель-монах у нее в терему побывает.
Испугался царь за дочь свою, от покойной жены последнюю. Тоньше и бледнее всех дочерей у него Федосьюшка уродилась.
Не стали больше к ней в терем ученого монаха пускать. Мама радовалась, Федосьюшка не спорила. Родительскому слову она покорной росла, да и сама, видно, чуяла, что большой учености не осилить ей. Симеон Полоцкий к ней больше не приходил, а к чтению и письму царевну тянуло по-прежнему. Больше всякого шитья золотного, больше саженья жемчужного любила она выводить затейные буквы узорчатые.
«Вот эту в цветочном уборе написать бы…» Еще ниже над книгой старинной склонилась русая головка в золотой повязке: пасмурно, а узор мелкий.
Склонилась над книжным налоем царевна Федосья.
«Умудрил Господь игуменью Юлианию. Затейно буквы у нее расписаны».
Задумалась Федосьюшка. Вспомнилось ей все, что она об Юлиании слышала.
Дочь богатого славного боярина, девицей она в монастырь ушла. Грамотница была и монахинь всему, что сама знала, учила. Много в Алексеевском московском монастыре, пока она там игуменствовала, всяких священных книг переписано. Эту, что перед Федосьюшкой на книжном налое развернутая лежит, сама Юлиания писала. С той поры два века прошло. Пожелтели страницы, сафьяновый переплет поистерся, а красота букв осталась. И слова почти везде разобрать можно.
— «Не любит Бог высокия мысли нашия, — шепчет, приглядываясь, Федосьюшка. — Возносящагося смиряет. Господь бо гордым противится. Смиреннаго Бог любит, покоренному благодать дает. Всяк возносяйся смирится, смиряйся — вознесется…»
«Софьюшке при случае эти слова прочту, — решила Федосьюшка. — В помыслах и речах у сестрицы гордыни много… А букву ландышевым цветом украшу. Всех цветов — белый душистый ландыш мне милее. На зеленом тонком прутике он, словно райских садов колокольчик ангельский воску белого, нам о весне звенит…»
— У окошечка сидючи, не застудилась бы ты, государыня.
Не хватило больше терпения у мамушки. Приоткрыла она дверь. Федосьюшка вздрогнула, обернулась.
— Сейчас я, мамушка…
А Дарья Силишна уже стеганую шелковую занавеску на кольцах задергивает.
— Дует от окошка-то. Время наоконники теплые класть. Завтра накажу зимние рамы готовить. В два ряда новым сукном по краям обить их надобно. Щели, где какие есть, все до единой войлоком и паклей забьем. На дверях, чтобы не дуло, стеганые занавески навесим…
— Погодить бы еще, мамушка.
— Чего годить-то? У царевен бо́льших давно по-зимнему настроено. Кошки в теплых печурках сидят, мышей караулят, а у нас печи холодные, кошки по двору и бегают. По ночам от мышьего писка покоя нет.
Мамушка краем занавески свет заслонила. Покорно застегнула царевна застежки серебряные у «Златоструя» и бережно вложила книгу в нарочно для нее недавно сделанное лагалище из аглицкого сукна червчатого.
— Слава Тебе, Господи! Посидела за книгой — и будет, — с облегчением вырвалось у мамушки. — Разомни ноженьки свои, моя ласточка, по своим покойчикам пройдись. Там без тебя боярышни наскучились, сенные девушки без дела настоялись. Прикажи им песенку спеть.
Видит Федосьюшка, что ей с мамой не справиться. Приняться снова за книгу или за писание Дарья Силишна сегодня ей ни за что больше не даст. Мешать будет. Делать нечего, вышла царевна из спаленки. Мама ей в тот же час девушек послала.
— Скажи им, государыня царевна, какую песню твоей милости послушать угодно.
Но Федосьюшка не захотела сама выбирать. Только сказала:
— Спойте, девушки, что вам самим любо.
Девушки подумали, перемолвились между собою и затянули царевнину любимую песню про несчастную Ксению, дочь Бориса Годунова:
Сплачется малая птичка, Серая перепелочка: «Охти мне молодой горевати: Хотят сырой дуб зажигати, Мое гнездышко разоряти, Мои малый дети побити, Меня, перепелку, поймати…»За оконцем слюдяным плачет осень мелким холодным дождем, в терему под низким сводчатым потолком плачет песня тоскливая. Сидит Федосьюшка на своем кресле, обитом бархатом веницийским, руки, возле кистей драгоценными зарукавьями стянутые, на поручни положила. Едва от слез царевна удерживается. Жалко ей царевну несчастную, против воли самозванцем в монастырь заточенную. И себя почему-то жалко.
Ах вы светы, золотые ширинки, Леса ли я вами стану дарить? Ах вы светы, яхонты-сережки мои, На сучье ли мне вас понадеть?..Сил нет Федосьюшке тоску одолеть. К самому сердцу она ей подступила.
— Тоже песню выбрали! — налетела на девушек позадержавшаяся в спаленке мамушка. — Догадки у вас никакой. Хороши царевнины потешницы! Поживей другую затягивайте!
Песенницы и сами видят, что неладно выбрали. Царевна голову склонила. Лица ее и не видно. А только всякому, кто на нее глянет, заметно, что плохо ее развеселили.
Растерялись песенницы. Друг на дружку поглядывают. Чем дело поправить, догадаться не могут. Хорошо, что Маланьюшка выручила. Бойчее других она была. Не дожидаясь, когда сговорятся, сама начала:
Прилука моя, прилука моя, Зеленые луга, Примана моя, примана моя, Ключевая вода…Не успели девушки песню подхватить, оборвала ее боярыня, от сестриц за Федосьюшкой посланная. Уставный низкий поклон отвесив, прощенья попросила, что не в пору с делом спешным зашла: нынче золотной мастерице Прасковьюшке в светлице свадебницы поют. Государыня царица ее за своего старшего истопника просватала. Песни слушать собрались государыни царевны, только Федосью Алексеевну дожидаются.
Вскочила Федосьюшка со своего кресла, на три ступеньки от пола поднятого. Обрадовалась. Авось в других покоях, на людях, да вместе с сестрицами, развеселится душа.
— Иду, иду я, мамушка. Давно в царицыной светлице не бывала я, давно шитью золотному не дивовалась.
— Малость обожди, царевна, — остановила ее мамушка. — Выход собрать время надобно. Девушки, живо стольников кликните!
— Малым выходом, наспех идут царевны. От одной Евдокии Алексеевны стольников да девушек берут, — объяснила посланная постельница Дарье Силишне. — От вас никого не нужно, только поспешить просят.
Малым выходом тронулись Алексеевны, а и то переходы, что покороче, из конца в конец занимают. Стольников и сенных девушек у Евдокеюшки, царевны старшей, число не малое.
Идут привычным, размеренным шагом царевны. Спешат, а шага ускорить нельзя: надо время дать встречных, кого не надобно, с пути убрать.
Идут царевны спокойно-торжественные, с глазами опущенными. Возле царицы, на ее половине, Милославских всегда есть кому осудить. По ходам и переходам на половине мачехи мимо завистниц и шепотух бегом не припустишься, громким голосом слова не скажешь, не просыпешь, как жемчуг, смеха девичьего.
Молча идут царевны с лицами застывшими. Вдруг Катеринушка шепчет:
— Поют там…
Насторожились, ход замедлив, царевны.
— Поют, поют!
Прибавили шагу. Песня все слышней доносится.
— Никак, моя любимая, — разобрала Марьюшка.
— Скорее, сестрицы!
Алексеевны и так спешат. Про завистниц-шепотух думать забыли. Стольники и девушки впереди них чуть что не бегом бегут.
— Слышишь, Марьюшка?
Из-за лесу, лесу, Лесу темного…— Как не слышать, Катеринушка!
Из-за лесу конь бежит, Под конем земля дрожит, На коне узда гремит…— Да ну вас, скорей идите!
Царевны уже в сенях светличных. Каждое песенное слово здесь, будто над ухом его поют. Сенные девушки у дверей в Мастерскую, лицом к царевнам оборотившись, стоят. Ждут знака дверь открывать.
А Марфинька сестрицам:
— Здесь постоим малость, послушаем.
Звонко звонят в Новегороде, Звончей того во каменной Москве. Звонила звоны Прасковьюшка, Звонила звоны Ефимовна. Мимо ехал тут Лука-господин, Мимо ехал тут Львович. Звона ее он заслушался, Красоты ее засмотрелся. Приехал домой, стал рассказывать: «Видел я, матушка, свою суженую, Видел я, сударыня, свою ряженую. Ростом она и тонка, и высока, Лицом она и бела, и румяна, Бровью она почернее меня».Не оборвали песни царевны. До конца дослушали. Только войти собрались, как за дверью другую затянули.
Стучит, гремит по улице У терема Ефимовны, У высокого Прасковьюшки. Едет то ее суженый, Едет то ее ряженый На добрых конях на вороных. Везет с собою атласу, бархату, Дорогой сарафан самоцветный. Везет с собою каменьев, жемчугу Крупное зарукавьице, Везет с собою золот перстень, Золот перстень, золот венец…Не стали больше у дверей ждать Алексеевны. Знак девушкам подала Софьюшка. Вошли в светлицу царевны, и, словно вспугнутое стадо лебединое, взмахнув, как крыльями, снего-белыми рукавами, поднялись со своих мест мастерицы золотные.
— Обручница у вас где? — спросила Евдокеюшка.
Вспыхнула до корней волос Прасковьюшка. За смуглость лица Чернавушкой ее прозвали.
Прасковьюшка-Чернавушка, у царицы мастерица любимая, в переднем углу под образом с лампадой зажженной сидела. От нее по обе стороны вдоль стола золотные мастерицы вытянулись. Перед каждой — пяльцы, ларец с тем, что для шитья надобно.
Мимо девушек прямо к Прасковьюшке царевны двинулись.
— Свадебниц твоих, Чернавушка, послушать хотим, — сказала смущенной девушке Евдокея Алексеевна.
И все царевны, как одна, на обручницу уставились. Знают давно они все Прасковьюшку. Девчонкой на Верх ее привели. На глазах у них она выросла. Разглядывать им ее как будто и нечего, а они Чернавушку взглядами, словно чужую, никогда не виданную, буравят. Другой с той поры, как обручницей сделалась, Прасковьюшка им представляется.
К счастью близко Чернавушка подошла. Словно пожарным полымем, оно ее осветило. Красота ее смуглая сразу видней сделалась.
— Пойте, девушки! Что примолкли? Вы песни пойте, а мы столы обойдем, на шитье поглядим, — сказала Софья.
Девушки песни поют, царевны по столам шитье разглядывают. Смотрят вошвы, ожерелья, верхи шапочные, зарукавья, убрусы, ширинки. Над царицыной пеленой, за здравие государя обетной, все до одной задержались. Поахали.
Самый искусный рисовалыцик-знаменщик из государевой Иконописной палаты узор для пелены наводил. По камке вишневой Пречистая, силами ангельскими окруженная. Кругом тропарь со словами молебными.
Тропарь и лик Богородицы царица своими руками у себя в терему вышила, девушки только дошивают пелену.
Разглядели пелену царевны и подошли к столу, где жемчугом и каменьями по шитью низали. Стали, играючи, к песням прислушиваясь, жемчуг между пальцев пересыпать. А жемчуг по счету из царицыной казны выдают. Жемчуга бурмицкие, что с берегов Персидского залива шлют, и жемчуг кафимский, что из города Кафы идет, с приговорами да наказами боярыня-казначея только тем работницам, что всех надежнее, выдает. Пуще глаза берегут его мастерицы, тревожно следят, как бы беды от царевниных забав не приключилось. Обронят жемчужину — ищи потом. От сердца отлегло, когда царевны крупный жемчуг оставили и за весовой, мелкий принялись, что с реки Варгузы возле Архангельска добывают. За этот «свой» меньше спрашивают.
У стола с жемчугом не столько низанье, сколько песня хорошая задержала царевен.
Заслушались они, как
…во терему сидела Прасковьюшка, Во высоком сидела Ефимовна, Она шила шелками в пяличках, Она шила цветными во новых, Сама шила, сама приговаривала: «Ты гори, гори, солнышко, Ты гори, ясное, красное! Не скоро закатывайся, По залесью останавливайся, А я пялички дошью». Как ехал мимо того терема суженый, А ехавши, молвил: «Бог на помочь, красная девица! Для кого шьешь, для кого вышиваешь?» — «Шью, сударь, сердечко золотцем Для себя и для тебя».— Присядем, сестрицы, — предложила Евдокеюшка, когда песня смолкла. — На ногах не малое время мы простояли.
Спорить не стали царевны. Повернули к резным креслам, вдоль стены расставленным, но по пути задержались. Марфа Алексеевна углядела в углу небольшой стол, весь заваленный парчовыми, золотыми и шелковыми лоскутами.
— Что шьете? — остановившись, спросила она у девушек, что за ним работали.
— Потешным куклам государыни царевны Натальи Алексеевны наряды шьем.
— А вот там, рядом, Петрушеньке кафтанчик расшивают, — молвила Марфа Алексеевна.
— Ожерельице — это Федорушке.
— Вошвы тоже им, царевнам-малолеткам, — прибавила Софья Алексеевна. — Хорошо, сестрицы, тем, кого матушка родимая на белом свете сиротами не покинула. Правду ли и говорю, девушки?
Громко, на всю светлицу спросила Софьюшка, но ответа никто не дал. Всем не по себе от царевниных слов сделалось. Светличная боярыня, та, что над всей палатой начальствовала, глаза опустила, девушки ниже к работе пригнулись, царевны на шитье глядят, узоров не разбирают.
Все словно ожили, когда Марьюшка про песни напомнила:
— С песнями, девушки, не мешкайте. Мы сядем, а вы пойте.
Первую, что им на ум пришла, девушки, долго не сговариваясь, запели:
Душенька Прасковьюшка, Кована твоя косынька! Хотят косу расковати, Лукина коня подковати. Конь Лукин резов Везет Прасковьюшку К Божьему суду, К золотому венцу.Перестали шить девушки. Все до одной поют. Из палаты рядом, где белье работают, мастерицы к дверям подошли — слушают. Царевны на резных креслах с высокими спинками не шелохнутся. Заслушались. Всю девичью жизнь, словно кусок узорчатой камки, песня раскатывает. Счастье, с печалью сочетавшись, вековечные узоры на камке той вышивает. Радости ли, горя ли — чего больше в узорах затейных — жизнь потом сама разберет. А пока Прасковья-Чернавушка, песнями овеянная, одно только счастье чует. Всем, кто глядит на нее, завидно становится.
Словно уразумев это, сама обручница уже другую песню заводит:
Ой вы, девушки-голубушки, Вы подружки мои красные, Не пойте весело и радостно, Запойте пожалостливее, поунывнее. Уж как хотят ли увезти меня Чужие люди незнакомые К чужому отцу-матери, Не спать, не дремать, Без слез горько плакати, Без думы крепко думати, Без скуки скучати, Без горя горевати.А девушки ей в ответ хором:
Ты не плачь, не плачь. Не плачь, душа Ефимовна, Не плачь, свет Прасковьюшка! Не чужой гость идет, не чужой, Не чужой, идет твой суженый, Идет к тебе твой ряженый.За окошками слюдяными уже смеркается, гаснет без света золото и серебро на шитье. Каменья, искорки, дробинки уже не блестят. Светличная боярыня на столы поглядывает. Давно пора все разложенное по ларцам убирать, а царевны с кресел своих не поднимаются.
— К вечернему кушанью поспешить надобно, — решается, наконец, напомнить Евдокее Алексеевне кравчая боярыня. Знает она, что царевна покушать охотница.
— Пора домой, сестрицы!
— На расставанье еще одну песню последнюю, — запросила Катеринушка.
— Еще песню! — подхватили и другие царевны.
— «Стучит-гремит по улице» еще разок, девушки, спойте. Всех песен звончее песня эта у вас.
Еще раз спели песню девушки и замолкли.
Хрустнула пальцами Софьюшка, когда они кончили. Печально и строго лицо ее сделалось. Первой с кресла высокого она поднялась.
— За песни благодарствуйте, красные девицы, — сказала. И все пять сестер повторили за нею ее слова. Потом, молча, одна за другой, вышли они из светлицы и по ходам-переходам, спускаясь и поднимаясь по узким витым лесенкам, пошли каждая к своему терему.
Веселые песни звучали у них в ушах, но тоскливо на сердце было. Все, как одна, они знали, что «стуча, гремя по улице, с каменьями и жемчугом» не примчится суженый с их высоким царевниным теремам.
10
Ранняя осень Москву захватила.
Намесили дожди непролазной грязи по улицам. На площадях пешие чуть до самого пояса не проваливаются, у конных лошади среди дороги останавливаются. Боярам, особенно тем, что подальше живут, тяжело по утрам до Кремля добираться. Кто помоложе и на коне приезжает, тому еще с полгоря, а те, кто погрузнее да постарше, в колымагах своих расписных часами среди улиц простаивают. Ждут, пока челядь загрузнувшие колеса из грязи вытащит. Сердятся бояре, из себя выходят: опоздать к царскому выходу из постельной никому не хочется, да и любит Алексей Михайлович, чтобы бояре ему до обедни челом били. С ними вместе он и в церковь в девятом часу шествует.
Из-за грязи раньше обычного бояре со сна поднимаются. Из дома загодя выезжают. А загрузнут колеса — не только к выходу опоздают, не только обедню пропустят, а и к «сидению», когда государь доклады и челобитные слушает, не попадут. Едва успеет запоздавший боярин во дворце отдышаться, глядишь — время к полудню подошло. Обедать пора. Домой боярин торопится. К вечерням — опять во дворец поспешает. А тут уж и сумерки. Назад едет боярин, не чает и к вечернему кушанью домой попасть.
Отягчила осенняя грязь житье боярское.
Московская улица в XVII столетии
Боярыни, те только по крайности во дворец едут. Дела, челобитные до зимы откладывают. Жалеют колымаг золоченых, шелками внутри обитых. Колеса, серебром окованные, поломать боятся. Выездных лошадей в большом уборе, в цепях гремячих, в перьях, в звериных хвостах, под попонами бархатными, берегут.
Больших приездов даже у царицы убавилось, а у царевен и совсем тихо. Монахини из пригородных монастырей — и те санного пути дожидаются. Приездов нет, а в теремных подклетях народа прибавилось. Нищие, странницы, нищие, калеки всякие, что по церквам да монастырям ближним и дальним, пока погода держалась, бродили — на зимовку во дворец потянулись.
В комнатных садах больших и малых все к зиме приготовлено. Царьградский орех, кусты сереборинника, гряды и кустарники рогожами и войлоком закутали. Клетки с канарейками, соловьями, попугаями и перепелками по теремам разнесли. На двери садовые входные большие висячие замки понавесили.
Некуда царевнам для прохлады пройтись. А в покоях душнее, чем летом. Жарко натапливают истопники сухими дровами перелетовыми печи изразчатые. От ветра и стужи на окнах и на дверях шелковые занавеси, на хлопке стеганные, повесили. На подоконниках теплые наоконники положили, вторые рамы сукном и войлоком окаймили. Через две слюды, в цветах и травах разметных, свет в покои едва пробивается.
Скука, словно паутина серая, света боится, сумерки любит. Ткет она по углам свои нити серые, с одного конца покоя на другой их перекидывает, мутью все заволакивает.
Скучают царевны. Чаще прежнего теперь они друг к дружке захаживают, к теткам наведываются.
У старшей, Ирины Михайловны, богомолицы верховые, старухи старые, из покоев не выходят. Любит царевна про божественное послушать.
Нынче Ненила-странница во дворец зимовать пришла. Год целый старая по монастырям богомольем ходила. В Соловки лесами дремучими через озера глубокие, через реки порожистые, а потом на поморских судах морем пробралась. Святым мощам в Киеве поклониться сподобилась. Ветром иссушенная, солнцем испеченная, в Москву воротилась Ненилушка. Здесь ее давно поджидали. Ирина Михайловна не раз про старуху спрашивала. Как только странница объявилась, в тот же день царевна к себе в терем ее позвала, а сестрам и племянницам к себе в гости приходить наказала.
«Со скуки, куда деваться, не знают. Пускай Ненилу послушают, — так рассудила Ирина Михайловна. — Речиста странница, да и видеть ей много чего привелось, а чего и не доглядела сама — у других выспросила».
Так думала царевна, прохаживаясь по своей опочивальне в ожидании часа, назначенного для сбора гостей. Любила Ирина Михайловна со своими мыслями с одного конца покоя на другой походить. А нынче о самом заветном ей думается.
Давно тянет царевну в святом граде Иерусалиме побывать. Слыхала Ирина Михайловна про Мономахову внучку Предиславу, дочь князя Полоцкого. Приняв монашество, с именем Евфросинии, не побоялась княжна пути далекого и опасного. В Иерусалим ездила.
И царевна ничего не боится.
Ничего, кроме тоски, что временами низкой и черной тучей над нею спускается.
— Всю-то жизнь заточенницей провела, — остановившись у окошка, шепчет царевна.
Изо всех дочерей самой холеной у батюшки с матушкой росла Ирина Михайловна. Первым ребенком она у царя с царицей родилась. Нарядить во что, не знали, Иринушку, чем подарить ее — не ведали.
Детские утехи, те, что памяти подороже, и посейчас у царевны целы.
К поставцу подошла Ирина Михайловна.
Вот золоченая чарочка с надписью: «Чарка стараго двора великия государыни инокини Марфы Ивановны, пити от нея про государево многолетнее здравие государыни царевны и великия княжны Ирины Михайловны». Эту чарочку бабка подарила.
Ящик, бархатом обитый, в Крестовой стоит. В нем крест с мощами — тоже бабкино благословение. Там же и цепочка золотая, а на ней резной на яхонте образ Спасителя. Это от матушки, царицы Евдокии Лукьяновны. А вот на поставце лютый змей золотой, крылатый, во рту у него голова человечья. Батюшка царь Михаил Федорович змея подарил. Кораблик серебряный на колесиках и бочечка золотая от него же.
Много всяких детских подарков раздарила племянницам Ирина Михайловна, а с этими расстаться не могла.
С этими, да еще с одним подарком — деда-патриарха Филарета Никитича.
Возле постели, под затворкой и занавесочкой зеленой тафты, на деревянном резном уголышке зеркало прилажено. Забыла Ирина Михайловна, когда в последний раз зеленую занавесочку отдергивала. Кажется, было это в тот самый день, когда она первой седины у себя испугалась. Давно это было, а каждую чеканную травку на серебряном ободке царевна помнит. И зеркала никому не отдает. Невестой датского королевича она в него смотрелась.
Счастья-то, счастья-то сколько мимо прошло!
Ломает худые, бледные пальцы царевна. Тяжко тем, кому счастье солнышком в очи глянуло, век без него доживать. Аннушке с Татьянушкой, счастья не ведавшим, куда легче.
Не удалось Ирине Михайловне королевной с мужем любимым в чужом краю побывать. Хотелось бы ей теперь с миром в душе жизненный путь завершить. В святой град Иерусалим тянет ее неудержимо. Палестинским местам поклониться хочется. Да разве ее туда отпустят? Послушать тех, кто там бывал, и то мудрено. Странницы редко до Палестины добираются, а странников в терем не пускают. Вот разве Ненилушка что расскажет. На богомолье старую отпуская, наказывала ей царевна у бывалых людей побольше обо всем выведать. Выведала ли?
Через запертую дверь громкий говор донесся и звонкий смех. Прислушалась Ирина Михайловна.
«Никак, Марьюшка уже пришла, — различив голос веселой племянницы, подумала царевна. — Время и мне к гостям выходить».
Обмахнула ширинкой лицо Ирина Михайловна, венец на голове поправила и, по виду спокойная и, как всегда, сурово-величавая, вышла в соседний покой.
Скинув телогреи, подбитые соболями, царевны рассаживались по лавкам, расставленным по обе стороны от высокого кресла Ирины Михайловны. Подальше садятся боярыни, возле них боярышни выстраиваются. Сенные девушки у дверей стали.
Входит Ненила.
И лицо, и руки у нее словно из дубовой коры вырезаны: коричневые, в морщинах глубоких. Сама она под расписными сводами среди стен золоченых, ровно бы куст бурьяна, осенним ветром из полей занесенный, стоит.
Помолилась Ненила образу Пречистой, поклонилась на все четыре стороны — Ирине Михайловне, хозяйке и самой старшей, пониже всех — потом руки сложила, стоит, дожидается, о чем ее спрашивать станут. А Ирина Михайловна ей:
— Что видела, что слышала, по святым местам ходючи, обо всем, странница, Богу угодная, нам расскажи.
Не по атласу заморскому, не по бархату веницийскому шелками и золотом расшивает узоры Ненилушка. Словами, словно жемчугом, нижет старая. Нашептали те слова ей реки глубокие, раздольица широкие, леса дремучие, студенцы гремячие, овраги да буераки, ею исхоженные.
Заслушались царевны., Шеи, туго ожерельями стянутые, вытянули, глазами в рассказчицу впились. А Ненилушка видит, как ее слушают, и еще речистее становится.
— Паромом по Днепру, где князь Владимир народ в христианскую веру крестил, я, недостойная, вместе с другими людьми странными шла. Широко Днепр разлился: в половодье вешнее мы попали. По берегам сады зацветали. Яблоневый, вишневый цвет на паром заносило.
Простором, волей в покое повеяло.
К Киеву далекому унеслись царевны. Вместе со странницей бродят они по каменным переходам лавры, заходят в пещеры угодников, лампадным светом озаренные.
А Ирина Михайловна, выждав время, про то, о чем непрестанно думает, помянула:
— От Киева в святые места палестинские, сказывают, прямой путь лежит?
— Реками, государыня царевна, идти надобно: спервоначала Днестром, потом Прутом-рекой до города Яссы, потом Дунаем до Измаила, а там уже морем до Царьграда. Оттуда до Иерусалима рукой подать.
— Про Иордань-реку, где Спаситель крестился, не приводилось ли тебе чего от странных людей услыхать? — спрашивает старая царевна.
Умеет Ненилушка и про то, что от других слыхала, так рассказать, словно все своими глазами видела.
— Катится в море Содомское глубокая крутоберегая Иордань-река. Море то два города — Содом и Гоморру — пожрало. Дымом курится оно и поныне, оттого и в Иордань-реке вода светлости не имеет. А на берегу, на том месте, где Спаситель стоял, на камне, как на воске, след от ноги Его пречистой выпечатался. Странники его своими глазами видели. И пещеру в Вифлееме, где Христос родился, видели, и ясли, где Он в пеленах лежал, и дом Иосифов, и колодезь, откуда Христос и Матерь Его Пречистая воду пили. В Назарете место показывают, где Святая Дева сидела и червленицу ткала, когда к ней от Бога Архангел Гавриил явился…
Нет конца Ненилушкиным рассказам. В один раз не переслушаешь старую. В царских подклетях ни за что ни про что не станут держать. А Ненила не первый раз во дворце зимует. За речистость ей и тюфяк оленьей шерсти для спанья у самой печки кладется, и одеяло на зайце, и еда сытная отпускается. И платье у нее жалованное. Ненила у Ирины Михайловны рассказчица любимая. И Федосьюшка любит ее послушать. Словно в книгу священную заглянет, когда старая свой рассказ поведет.
К другим теткам не всегда хорошо попадешь. У них утешницы на Ненилушку мало похожи. Старухи Татьяны и Анны Михайловны дальше ближних монастырей не хаживали, ног своих не трудили. Слушали только, что кругом них говорили и, словно пчелы с цветочным сбором, всякими местями нагруженные, вместе с ненастьем осенним в царские подклети забивались.
Анна и Татьяна Михайловна, от сытой и неподвижной жизни обе не в меру растолстевшие, любят поохать и поахать над тем, что большого удивления и ужаса достойно. И в терему у них все по-другому, чем у старшей сестры. У Ирины Михайловны все посты, еда скудная и то в положенное время. Никаких запасов у старой царевны не водится, а у сестриц ее, в их сенных кладовых всякая снедь хранится. На сытный двор каждый раз посылать не приходится. У царевен не только орехи, пряники да коврижки припасены, у них и яблоки в патоке, и в квасу, и огурцы, и капуста, и грибы соленые. Все в бочонках, от всего кислым духом в сенцы, а из сенец и в покои тянет. Ежели очень натянет, принесут жаровенку на стоянцах бараньих, росным ладаном покурят. Легче на время станет, а потом опять кислый дух пойдет. Пахнет, да зато все под рукой. Грибков, огурчика соленого либо капустки отведать охота придет — мигом все на серебряную тарелку положат и подадут.
Евдокеюшка, когда ее на еду потянет, всегда к теткам идет. А иногда и все сестрицы, сговорившись, придут к ним посидеть. Сидят царевны, две тетки с племянницами — одной только Софьи нет — снедь с тарелок подбирают, а какая-нибудь из утешниц им про Гога и Магога, диких зверей, что людей пожирали, сказывает.
— Царь Александр Македонский тех зверей в щели земные меж горами высокими снежными загнал. Нынче слух прошел, — таинственно и зловеще прибавляет рассказчица, — будто недавно звери те из щелей вон повыдрались…
— Страсти какие! — вырывается у Катеринушки.
— Куда же те звери из грузинской земли тронулись? — спрашивает Марьюшка.
— От напасти всякия защити нас, Пречистая, ризою своею нетленною прикрой, — шепчет про себя Федосьюшка и ближе к Марфиньке подвигается.
— Звери диковинные, страшные куда подевались? Сказывай нам все, да поскорей, старая, — заторопила Марфа Алексеевна рассказчицу.
— Сказывай, Фетиньюшка, скорей сказывай! — подхватили царевны.
— Прослышал дадианский царь, что Гог с Магогом на свет Божий выдрались. Собрал он, царь, всю землю грузинскую, Гога с Магогом назад в гору заталкивал, а щель ту каменьем сверху завалить приказал. И кои были у тех щелей двери железные — и те двери в землю ушли.
— Слава Тебе, Господи! Пускай себе Гог с Магогом под землею сидят. Нечего им у нас в христианской земле делать, — с облегчением говорит Татьяна-царевна.
— Сказывал мне один стар-старичок, будто Гог с Магогом перед святопреставлением опять на земле объявятся, — вставляет слово свое Евдокеюшка.
— Перед тем как миру кончаться, всякий гад на человека поднимется, — подхватывает Фетинья. — Гог с Магогом впереди всех пойдут. Всех дольше звери те под землей сидели, всех больше злобы во тьме подземной у них понакоплено. Худо от них человеку придется.
— Не дай, Господи, и дожить до часа страшного, — шепчет Федосьюшка.
— Тоже не все правда, что странницы да богомолки сказывают, — тихо молвила, наклонясь к ней, Марфинька. — Книги такие есть, и в книгах тех все доподлинно рассказано. Да вот грамоте плохо мы учены.
— Читать примусь — разумение пропадает, — с сокрушением говорит, прислушиваясь к словам сестры, Евдокеюшка. — Ничего тут не поделаешь.
— Симеона Полоцкого пускай Софьюшка про Гога с Мигогом спросит, — предложила Марфинька.
— Тошнехонько мне и подумать про монаха ученого. Софьюшку он от нас совсем отделил, — возмутилась Евдокеюшка. — Дальше, Фетинья, про диковинную землю грузинскую сказывай нам.
— Стоит на той земле гора Араратская, снегами глубокими покрытая, а поверх горы видать, что ковчег стоит…
— Ковчег, это в чем Ной от потопа спасался? — перебивает Катеринушка.
— Тот самый. Концами он на две горы оперся, а промеж тех гор щель великая. В ней дно ковчега чернеется, а на самом ковчеге снег…
— Про потоп, как он приключился, не можешь ли чего рассказать, старая? — перебила Анна Михайловна богомолку. — Мне сказывали, да я позабыла.
Пытала старая про потоп что-то сплести, да, видно, сама плохо знала, ничего у нее не вышло. Запуталась.
— Послать в подклети да поискать там старуху, что про потоп доподлинно знает, — порешила Татьяна Михайловна.
В миг единый не стало Фетиньи. Пропала, словно сквозь землю провалилась, а на месте ее уже другая стоит.
Старуха, первой постарше, беззубая, с горбом за плечами. Больше первой она обо всем была наслышана и про потоп все доподлинно знала.
— Тридцать оконцев в океан-море, — зашамкала она, — и те оконцы тридцать китов своими головами затыкают. Пришло время, повелел Господь китам от оконцев отойти. Море землю залило, тут и потоп приключился.
И диковинно, да понятно. А вот Марфиньке почему-то не верится.
— Да подлинно ли так-то оно было? — сомневается царевна. Наклонившись к Евдокеюшке, шепчет:
— Сестрица Софьюшка намедни сказывала: Симеон Полоцкий…
— Ну тебя и с Симеоном Полоцким! — вскинулись на Марфиньку и сестрицы, и тетки. — Он причинен, что Софьюшка высокоумием вознеслась, никого знать не хочет. Нет чтобы у теток со всеми посидеть, старших почтить. Дальше сказывай, Улитушка. Говори все, что тебе ведомо.
Шамкает рот беззубый про чудеса диковинные:
— Триста ангелов солнце воротят, оттого день с ночь сменяются. Птицы финиксы, крылья благоуханные в океан-море окуная, ими на солнце кропят, дабы оно людей не попалило. Земля на воде плавает, под водою камень на четырех китах золотых. Бросят киты тот камень держать, и земля со всеми людьми в огнем кипящую преисподню провалится…
На весь покой все царевны испуганно ахнули. А Улита, от радости, что хорошо ее слушают, все, что знает и чего не знает, так и выкладывает:
— Единорог, крокодил, ноздрах — звери лютые, а всех аспид лютее. Аспид, змей крылатый, живет в горах каменных. Перья на нем пестрые, нос — птичий и два хобота. В которую землю попадет, все там приберет дочиста…
Как отуманенная, выбирается от теток Федосьюшка, Вышла в сени, постояла, подумала и побежала к Софьюшке. Перемолвиться с сестрицей о всем диковинном, что услыхать довелось, захотелось царевне.
Домашняя утварь XVII века
У Софьюшки в ее терему все такое же, как у теток и у сестриц — и все словно по-другому. Боярышни за работу пяличную усажены. Не хуже главного знаменщика из палаты иконописной умеет Софья Алексеевна узор начертить. Сама узор на голубой камке для новой пелены к образу Пречистой царевна навела. Боярышен сама вышивать усадила, наказала им потише сидеть, пока она книжным делом у себя в опочивальне займется.
Дверь в опочивальне притворив, за книжный налой села Софья. Мольера-француза, всяких веселых комедий составителя, пьесу проглядывает. Царь-батюшка театральную хоромину к Потешной палате пристроил, а комедий для нее, почитай что, и нету совсем. Один Симеон Полоцкий пьесы из священной истории с польского переводит. Да больно тяжеловат язык у старца. В театральной хоромине все о библейском говорят церковным тяжелым языком. Давно бы надобно комедию о простых и веселых людях поставить и все понятным языком изложить. Таким, каким люди вправду между собой говорят.
«Доктора принужденного» царевна наметила.
Четыре года тому назад пьесу эту немецкие лицедеи под управлением Ягана Грегори, Матвеевым выписанного, перед царем представляли. Переведена была пьеса так, что местами зрители ровно ничего понять не могли. А комедия веселая, занятная. Симеон Полоцкий для царевны на польском языке ее добыл. Хорошо бы с подлинником сличить.
Князь Василий Голицын, старший царский стольник, всяким наукам обучен, иноземные языки знает. У него целый покой с книгами заморскими. Его бы спросить. Да как спросить? Самой царевне нельзя. Разве через братца Федора попытаться.
Нахмурилась Софья. Представилось ей, как она о выходе к брату у мачехи дозволенья станет просить, как будет с Федором о том, когда ей к нему прийти, через боярынь договариваться, как впереди нее, когда она, наконец, пойдет, стольники-малолетки всех встречных криком: «Царевна идет!» разметут.
Потемнело Софьино лицо, злым сделалось.
И вдруг словно из-за тучи солнышко на царевну глянуло: нежданно голос меньшой любимой сестрицы за дверью она услыхала.
Вскочила с места своего Софья, дверь распахнула.
— Сюда, сюда ко мне, Федосьюшка! Откуда пришла? Где побывала, светик мой ясный?
Сели. Софья на прежнее место возле налоя, Федосьюшка рядом на стулец.
— От государыни тетки Анны Михайловны я к тебе, сестрица, зашла. Там странница про потоп таково занятно рассказывала. Еще про птицу финикса говорила, про змея крылатого, что аспидом называется.
Покачала головой Софья, когда Федосьюшка про Фетинью и про Улиту ей рассказала.
— Бреднями старухи вам головы набивают, а вы слушаете да еще верите. Теток не переделать, годы их не такие, а тебе, Федосьюшка, еще время есть. Симеона Полоцкого тебе бы послушать, сестрица, книжки бы какие почитать. Не то сделаешься такой, как наша Евдокеюшка. Чему и училась — все позабыла. Намедни сама мне призналась, что складов не разбирает…
Помолчала немного Софья, потом вдруг стремительно поднялась с места и быстро сменила головную повязку на золотой венец.
— К братцу Федору сходим, сестрица.
Широко открыла удивленные глаза Федосьюшка.
— К братцу? Так прямо, не спросившись?
А Софья уже мамушку кликнула и про спешный выход приказ отдала. Не мешкали, когда она приказывала. Федосьюшка опомниться не успела, как в сенях очутилась. Подхватила ее Софьюшка, словно река быстрая листочек, с дерева опавший.
Летник долгий, трудно в нем при скорой ходьбе ноги переставлять, а Софьюшка чуть что не бегом бежит. Путается в одежде Федосьюшка. Стольники-малолетки, царевен опережая, двери распахивая, на все сенцы выкликают:
— Царевны идут!
От крика их рынды, подрынды, стрельцы, истопники — все в стороны, кто куда разбегаются. Встречный боярин, врасплох захваченный, с перепуга к полу припал. Еще недавно одного такого встречного на пути царицыном захватили. На рассвете к Онуфрию Святителю собралась Наталья Кирилловна. Помолиться о благополучном прорезывании зубов у Натальюшки пошла. В проходе под воротами царский стольник ей попадись.
Что тут поднялось! Розыск делали. Дознавались, не было ли у встречного какого зла на уме, не подослан ли он кем. Пыток да батожья всякий опасается. Все словно вымирает на пути царицы и царевен.
А у самого входа к наследнику, как ни остерегали стольники, а столкнулся князь Василий Голицын с царевнами.
Оповещенный о приходе сестер, Федор Алексеевич спешно от себя всех бояр, и старых, и молодых, через малые сени проводил, всех слуг выслал. Один Голицын, старший стольник Алексея Михайловича, у царевича замешкался, а потом, заторопившись, не в ту дверь вышел и прямо на царевен попал. Не стал боярин, в заморских краях побывавший, наукам обученный, с перепуга на пол валиться. Встрече нежданной князь даже обрадовался. Много дивного довелось ему слышать про царевну Софью. Федор-царевич ему о сестре говорил:
— Философические книги царевна читает.
И доставал у Голицына для сестры польские и латинские сочинения.
Симеон Полоцкий не мог достаточно нахвалиться «великим, больше мужеским, чем женским умом» своей ученицы.
И Софья про Голицына наслышана. Во всей Москве нет боярина умнее и ученее князя Василия. У него в доме и книги, и картины заморские, и все там по-иноземному. Встретились на мгновенье два взгляда пытливых, в душу один другому заглянуть хотели, да не успели. Разошлись торопливые, смелостью своею испуганные. Оглянулся Голицын и только увидел, как замкнулась золоченая дверь. Словно кто невидимый поглотил и царевну, и всю свиту ее, нежданной встречей всполошенную.
Печать царя Алексея Михайловича
11
Обрадовался редким гостям царевич. Засуетилась мамушка его, Анна Петровна, царевен усаживая.
На столе тарелки серебряные с леденцом заморским и стручками царьградскими.
Только теперь, когда Федор сел на свое кресло золоченое и переднем углу под образами, разглядели сестры, до чего пи изменился и похудел за последние дни.
— Аль тебе, братец, все еще неможется? — участливо спросила Софья.
Не успел царевич никакого ответа на эти слова дать, как перед ним встала мамушка с чарочкой вина, на камне-безуе настоянном.
— Испей, государь, настоя целебного. От всяких болезней в нем ограждение, а всего паче от глаза лихого да наговора вражеского.
— Слыхала я, будто царю-батюшке из Сибири всяких целебных трав навезли, — вспомнила Софья. — Их бы братцу отведать.
— А я все мое упование на камень-безуй полагаю, — ответила, как отрезала, мамушка.
— От всякой немощи телесной и духовной одно ограждение — молитва усердная, — передавая пустую чарочку Анне Петровне, заметил царевич. — Нынче я в церкви был, — обратился он к сестрам. — Псалом один я на стих переложил. Старец Симеон мне в этом деле богоугодно помогал. Господу благодарение я принести хотел, что умудрил он меня, недостойного. Чувствую, что пение церковное телу моему крепости придало. Давно этого со мной не бывало…
— А из церкви государь Федор Алексеевич прямехонько к царевичу Петру Алексеевичу прошел, — вставил мама. — Братца давно не видавши, соскучился.
Сказала мамушка будто спроста, но глаза ее маленькие и запавшие, словно два острых гвоздика, впились в Софьино лицо. Анна Петровна была почти уверена, что царевна вскипит от ее слов, и не ошиблась.
Софья не понимала и не прощала Федору его любви к маленькому Петру и Наталье Кирилловне. Но сдержала она на этот раз слово гневное, промолчала, только руку к ожерелью, шею ей охватившему, подняла. Тесно оно ей сразу сделалось.
А Федор, ничего не замечая, продолжал все так же добродушно и просто:
— Посидел я у братца. Долго глядел, как он со своими ребятками всякие игры заводил. В поход собирал их, сам приказы давал. Волосы курчавые у него растрепались, глаза, что у орленка, голос звонкий… Думалось мне, на него глядя, что выйдет из него муж телом крепкий и духом сильный. Для страны такой царь…
Не успел договорить Федор. Софья к брату бросилась, за руку его ухватила:
— Молчи, — побелевшими губами почти крикнула она. — Ежели ты, наследник объявленный, так говорить станешь, Нарышкины нас, Милославских, всех до единого с земли сотрут. И так мы свыше всякой меры обижены, по щелям загнаны. Скажи, родичи наши где? Милославских, окромя дяди Ивана, на Москве никого. Нарышкины всех разогнали. Они да Матвеев гонители наши. Спят и видят, как бы тебя с Иванушкой извести. Давно ли ворот от рубахи твоей неведомо куда задевался? Давно ли пеплом тебе на след посыпали? Давно ли братцу Иванушке наговорную соли подсунули?
Еще бледнее, чем был, царевич сделался. У Федосьюшки глаза слезами наполнились.
— Мало ли чего, Софьюшка, досужие люди не выдумают, — несмело попробовал возразить Федор Алексеевич. Но его тихий и нерешительный голос не успокоил разгоряченную царевну.
— Не выдумки это, а правда истинная, — перебила она брата. — Без розыска ни одно ведовское дело, ни большое, ни малое, не оставлено. Всех виновных до пытки доводили, всех огнем большим либо малым жгли — все одно показывали.
Задохнулась от волнения Софья, а мамушка ей на ухо:
— На братца, государыня царевна, взгляни.
Напугался царевич от всего, Софьюшкой наговоренного. Белый весь сделался, чуть с кресла не валится.
Осилила себя царевна. К брату подошла, крепко его обняла. Положил царевич ей голову на плечо широкое, а она большой и сильной рукою стала его гладить по влажному лбу и запавшим щекам.
— Прости, Феденька, друг мой сердечный, погорячилась я, тебя напугала… А все оттого, что люблю я тебя, и Иванушку, и сестриц люблю. Света белого милее вы мне, мои родные. Жалко мне всех вас.
Федосьюшка давно, уткнувшись лицом в браную, орлами затканную, скатерть, ревмя ревет. Анна Петровна ее травяным настоем из золотой чарочки потчует:
— Былка-трава то… В Иванову ночь собрана… Испей, государыня.
И совсем тихо, так что слышит ее одна только Федосьюшка, прибавляет:
— Нынче у самой государыни царицы в ее светлице Золотной плат девичий с корешком неведомым подняли.
— Господи! — вскрикнула царевна, но мама показала ей глазами на царевича.
Успокоенный Софьей, он сидел утомленный, с полузакрытыми глазами, подперев голову тонкой и слабой рукой. У него, как всегда после всякого волненья, поднялась головная боль. Вместе со слезами Федосьюшка проглотила и все слова, какие собиралась сказать.
Не удалось на этот раз Софьюшке спросить у братца про французскую веселую комедию.
Вспомнила она, зачем к нему идти собиралась, уже когда к себе в терем вернулась. Только за обеденным кушаньем, когда сошлись в столовом покое и братцы, и сестрицы, и батюшка с мачехой, дозналась царевна обо всем, что ей узнать было надобно.
Все царевны эти семейные обеды очень любили. Собирались на них, как на праздник. Выходное, самое нарядное платье — «шубку» тогда надевали. Любил и Алексей Михайлович с семьей пообедать. Когда время позволяло и не было приглашенных к столу бояр, обед всегда подавали у царицы в ее столовом покое. Чинно, по скамьям вдоль стола обеденного, разместились царевны в своих «шубках» бархата веницийского.
Жарко шее от меховых бобровых ожерельев, под белилами и румянами щеки горят, от венцов трехъярусных голове тяжело, серьги тройчатые уши оттянули, но царевны ничего худого не замечают. Сидят за столом довольные, веселые. Рады, что из терема тесного выбрались. И всем за столом хорошо. Радуется царь на свою семью любимую. Царица то на мужа, то на сынка поглядывает. За царевичем глаз да глаз надобен. Одним мамушкам да нянюшкам за ним не уследить.
— Ноне сыночек наш за лапу медведя потрясти хотел. Едва удержали мальчишечку, — добродушно посмеиваясь и ласково поглядывая на своего любимца, говорит царь.
Уже рассказали Наталье Кирилловне про то, что на медвежьей потехе случилось. Знает она, что благополучно все обошлось, но пережитый страх еще не улегся в ее материнском сердце. Наклонившись к сыну, она заглядывает в его смеющееся лицо встревоженными глазами.
— Соколик мой! А что как тебя зверь да лапой своей косматой погладить бы захотел? — с нежной укоризной она спрашивает.
— Дворовый медведь то был, матушка, — оправдывается царевич. — Дворовый никогда человека не тронет.
— А давно ли на дворе медведь охотника за голову ел да зубы ему все повыломал?.. Конюха Исая медведь вконец изломал…
— Да ведь то бойцы были. На бой с медведем они выходили, Натальюшка. Петрушенька не на драку шел. Поездить малость на медведе верхом охота мальчишечке пришла.
Алексей Михайлович в добром духе, и ему хочется пошутить с женой.
— За лапу того медведя большущего мне больно хотелось подержать, — сожалея, что ему не удалась затея, сказал царевич.
— Возле самой ограды, где медведи стояли, Петрушеньку мы изловили, — добавил Федор Алексеевич. — Как сказал медведник, что медведи его всякому, кто захочет, лапу дают, Петрушенька наш разом с места соскочил. Я за ним было сунулся, да Иванушка со страху на меня навалился — помешал. Старший ловчий братца изловил.
Федор Алексеевич не скрывает своего любованья смелым мальчиком. Царевны давно сидят перепуганные. Вскрикивают, охают, но в разговор вмешивается одна Софья.
— У Иванушки с того перепуга и посейчас головушка болит.
Все понимают, что хочется ей осудить Петрушеньку, но никто ее не поддерживает, хотя и всем жалко Иванушку: сидит, как плат белый. Тельного из рыбы и не попробовал. Все, что на тарелку взял, целым осталось.
— А расскажи-ка сестрицам, как медведи вас тешили, — торопится спросить у Петрушеньки Федор Алексеевич. Испугался царевич, что Софья неладное скажет. Но маленький царевич упрямится и ничего больше говорить не хочет. Досадует, что помешали ему с медведем за лапу поздороваться, не дали и верхом на звере лютом прокатиться.
Тогда Федор Алексеевич поспешил рассказать сам про потеху медвежью:
— Целую комедию медведи исполнили: для начала вывели их с хлебом-солью в передних лапах на огороженный тыном круг. Потом плясать их заставили, а потом бороться. И еще звери те на палках верхом, словно малые ребята, по кругу ездили, карлами престарелыми, согнувшись и спотыкаясь, бродили, показывали, как родная мать детей своих холит, а мачеха пасынков с падчерицами по-своему убирает.
— А забыл ты, братец, как малые ребята горох воровали? — не выдержал Петрушенька. — Где сухо, там на брюхе ползком, а где мокро, там на коленках. А уж всего лучше, как медведь с палкой на плече, словно стрелец с пищалью, ходил. Люба мне потеха медвежья! А когда, батя, ты меня на медвежий бой поглядеть возьмешь?
Алексей Михайлович давно бы показал царевичу, как охотники на дикого зверя с вилами ходят, да Наталья Кирилловна все не соглашается отпустить сына. Редкий бой охотнику благополучно сходит. Часто зверь, раздразненный вилами, раздирает зубами и когтями бойца на части.
— Не дитячья это потеха глядеть, как дикий зверь увечит человека, — говорит царица, и говорит это так убедительно, что царь с нею не спорит и теперь на просьбу сына отвечает не то серьезно, не то шутливо:
— Погоди, Петрушенька, вот я из Кызылбаша редкого зверя — льва — выпишу. То-то у нас потеха с ним будет.
— Слона, батя, привезти прикажи, — вмешался в разговор и Федор-царевич. — Сказывают, при покойном государе Михаиле Федоровиче арапы-слоновщики слонами тешили.
— Слона приведут, львов выпишут… — весело перешептываются между собою царевны. Не глядеть им самим на зверей потешных, не девичье это дело, а послушать, поахать да посмеяться шуткам медвежьим можно. Боярыни, что служат вместо бояр и стольников, когда царь с царицею обедают, на рассказы веселые улыбаются. Дети боярские, взад и вперед с мисами, блюдами и тарелками пробегая, про медведей ни единого слова мимо ушей не пропустили. Один из стольников малолетних до того заслушался, что ложку и уронил, а ближняя боярыня его, молча, да за ухо:
— Не зевай!
— В Потешной палате у нас, почитай, уже все налажено, — говорит, поднимаясь из-за стола, Алексей Михайлович. — С той недели станем мы, дочери мои любезные, там вечера коротать, разгонять скуку осеннюю.
— Вот радость-то! — не выдержав, громко на всю палату вскрикнула Марьюшка. Катеринушка руками всплеснула. Просияли лица у Евдокеюшки и Марфиньки с Софьюшкой.
— Спасибо, царь-батюшка!
— Спасибо, спасибо.
Радостные разошлись царевны из покоя столового. Ходами-переходами, как к себе шли, не раз останавливались, сбившись в кучку, поминали органы, цимбалы, гусли, свирели, плясунов канатных.
Золотая решетка в кремлевских теремах
В сенях у железной вызолоченной решетки, что их терема от других покоев отгораживала, еще постояли:
— Плясуны под музыку плясать станут. Немецкие фокусники, сказывали, понаехали.
Птицы прирученные, когда их полетать выпустят, раньше чем в клетки прыгнут, перед открытой дверцей всегда помедлят. Так и царевны.
Долго не могли мамушки с боярынями своих царевен в покои заманить.
12
Назначен был день собираться в Потешную палату. Собирались туда все, но никто не попал. До обеда все ладно шло, а как пообедали, всколыхнулись тревогой, а потом и ужасом великим во дворце все от царя до последней девчонки, что в беготне с приносами да относами и сама, как зовут ее, позабыла.
— Царевича Петра лиходеи извести замыслили! — по Кремлю пронеслось.
Что за лиходеи такие объявились и где они — про то доподлинно пока никто еще ничего не ведал. Знали только, что как поднялись к обеду мастерицы золотные, одна из них обронила плат с корешком неведомым, а другая мастерица показала, что плат тот Кишкиной Марьи, чей муж за Москвой-рекой у бояр Троекуровых дворничает. О деле таком казначея-боярыня, не медля, царице донесла, а Наталья Кирилловна тем же часом государя о том оповестила. С такими делами не медлили.
Нынче корень неведомый подняли, а на днях у царевича Петра в простынях поруху углядели: с одного уголышка заметка, словно лоскут брать думали. Взять ничего не взяли, а дыр понаделали. Портомоек-прачек, что в коробках за царскими печатями на Москву-реку полоскать государское белье возили, всех до одной допрашивали. Ничего не открыл розыск. Сама боярыня постельничья впереди короба, как всегда, для оберега двором шла, она же через ворота портомойные белье на Москву-реку проводила. Встречных из лишних людей на пути никого не попадалось, и на плотах тоже чужих не было. Показали на допросе портомойки, что от мышей в простынях поруха:
— Мыши уголышек изгрызли — только и всего. Мало ли зверья этого по дворцу бегает. Как станут по осени хлебное зерно в царские амбары свозить, мышей ни ловушки, ни коты не берут. По ночам в опочивальнях от писка мышиного покоя нету. Диво ли что пробрались мыши в сквозные чердаки решетчатые, что над палатой портомойной поставлены, пробрались и, пока там белье висело, уголышек простынки выгрызли…
Кто-то зубки махонькие на простынях разглядел и другим те заметки показывал. А мамушки не поверили.
Напоили на всякий случай царевича настоем всяких трав, для отговора припасенных. С уголька водой спрыснули. Бабушку-ведунью из-за Москвы-реки привозили. Старая в ковш с водою три угля брала, уговаривала воду царевича обмыть, все хитки и притки, уроки, призоры, скорби, болезни, щипоты и ломоты, злу худобу с него снять, унести за осиновый тын в лес сосновый. Все исполнили, как полагалось, чтобы отвести беду наговорную.
Успокоились. И вдруг корень неведомый! Да еще в месте каком? В Мастерской палате самой государыни! Знать, то не мыши простынку грызли. Лиходеи опять во дворце завелись. Любимого царевича, холеного, береженого, извести хотят! Простынку углядели, корень нашли, а как другое что да проглядят? Порчу во всем наслать можно: и в хлебе, и в белье, и в платье, и в еде всякой. Разве за всем углядишь? Лиходеев выискать надобно. Надобно дочиста, до единого из дворцовых покоев их вытравить. По всем теремам, по всем сеням, ходам-переходам, в поварнях, во дворах — речи одни слышатся.
Марью Кишкину дворцовый дьяк с пристрастием допрашивал. Так сам царь приказал. Говорила Марья, что корень ей баба-ворожея за Москвой-рекою давала, чтобы муж ее, Марью, не бил. Не поверили бабе. Приказали малым огнем ее попугать. Малый огонь к правде подвел, а большим и до всего дознались. Марья-кружевница, огнем палимая, на весь застенок криком кричала, к делу ведовскому причастных по одному называла. За Москву-реку за ворожеей посылали. Связанную скрюченную старуху старую на очную ставку с Марьей приводили.
Обе они разное показали. Стали и ворожею огнем пытать. Оговоренных обеими бабами тоже к огню приводили. Много кого, от огня обезумев, Марья-кружевница в страшное дело припутала.
Дознавались в теремах обо всем, что на допросах и пытках показывали. В сглаз, порчу, наговоры, отговоры, коренья лютые, зелья лихие — в те времена все от мала до велика верили. Во дворце верили не меньше, чем в самой последней избушке в деревеньке глухой, заброшенной.
Дожидаются царевны мамушек да боярынь, к дьяку подосланных. В теремах ни сказок больше не слушают, ни песен не поют, рассказывают да вспоминают всякие дела дедовские, что допрежь этого бывали: первую жену деда царя Михаила Федоровича, Марию Долгорукую, извели, в питье ей зелья подсыпали. Попила и со дня на день сохнуть начала красавица. Через месяц не стало ее. У батюшки царевен, у государя Алексея Михайловича, еще до Марии Ильиничны, любимая невеста была. Ее тоже зельем испортили. Сказывали, что и у братьев, царевичей покойных, не раз корешки находили.
Страшные сказки в терем вошли. Уже не скука серая свою паутину плетет, туча черная над всем Кремлем встала. На кого пытаемые покажут? Оговорят еще кого? Всякий за себя дрожкой дрожит. Нарышкины на Милославских косятся: не они ли всему делу заводчики? Не любят они царевича. Ото всех заслонил он сердце отцовское. Только на младшего сынка и глядит Алексей Михайлович.
Привяла Федосьюшка от шепотов зловещих, от взглядов косых, недобрых. Сестриц она любит и мачеху любит, любит и деток ее малых, а Петрушеньку больше всех. И Софьюшка у нее сестрица любимая. А у Софьюшки в терему на царицу всего злее шипят. У царицы даже на нее, на Федосьюшку, коситься стали. Не сама Наталья Кирилловна, а мамушки с нянюшками. А Федосьюшка без привета ласкового, словно былинка без солнышка, никнет. Забилась и терему царевна, никуда из своих покойчиков не идет. Книги, какие есть, читать пробовала. Но ни «Повесть о царевиче Иосафе», ни «Страдания блудного сына» ее не трогают.
— Сделал бы так Господь Милостивый, чтобы сердце у людей друг для друга в добре открылось, — говорит царевна мамушке. — Так жить тяжко.
Мама свою хоженую хорошо знает, про дело ведовское с нею помалкивает. Федосьюшка все, как есть и как было и как не было, от Орьки узнает. Выберет Орька времечко, с глаз Дарьи Силишны улизнет и сенцами малыми на черное крылечко припустится. С крылечка на двор кормовой, с кормового на хлебный, оттуда на сытный. Все обежит девчонка, во все уголышки заглянет, все, что говорят, переслушает — и к царевне. Улучит времечко, когда Дарьи Силишны в покое нет, и обо всем, от спешки и волненья захлебываясь, Федосьюшке и доложит:
— Марья-кружевница на царскую постельницу еще показала. Ох и много же там оговоренных набралось. Сказывают, всех до одной огнем палить станут…
— Ты, Орька, чего здесь торчишь? В сенцы, на свое место ступай!
Не заметила девочка, как мамушка вернулась. И Федосьюшка не слыхала. Ушла Орька из покоя царевниного, в клетку с перепелками заглянула, а там и глядеть не на что. От корма сытного, от тесной клетки пожирели полевые птицы вольные, лениво с жердочки на жердочку перепрыгивают. И сама Оря, как и птицы ее, вширь пошла. Одними щами мясными наварными да кашей, жирно салом приправленной, досыта в подклетях дворцовая челядь наедается. Обедает и ужинает с челядью вместе и Орька, а потом еще и всем, что ей под руку попадется, добавляет. Не углядит Дарья Силишна — Орька с тарелки на ходу и пряничек, и стручок царьградский, а не то и леденчик заморский утянет. Сама Федосьюшка всякой снедью частенько ее наделяет. Да разве девчонку когда досыта сладким накормишь?
— Мало ешь, мало пьешь ты у меня, царевна болезная, — жалуется Дарья Силишна. — Уж не напустили ли чего на тебя? Зелья от еды отворотного не подсыпали ли?
Поит мамушка Федосьюшку толчеными рожками змеиными. Что это за рожки такие, про то и сама Дарья Силишна хорошо не знает. Так, порошок какой-то. В вине его пить надобно. Дивится Федосьюшка мутным настоем пахучим. Со всех тарелок серебряных после него все дочиста Орьке отдает. Пускай думает мама, что ее на еду потянуло. Только бы змеиных рожков больше не пить. У Орьки живот, что барабан, сделался, лицо, словно блин, круглое, глаза позаплыли. А царевна все худеет. По ночам опять спать бросила. Дарья Силишна траву-пострел доставала. Пучочком сухим над постелью Федосьюшки ее вешала. Зелейщица в одной руке великоденское яйцо держала, другой в ночь купальскую ту траву собирала.
Не помогла пострел-трава. Орька своими рассказами траву пересилила. Только глаза закроет царевна, перед нею в ночной тишине огонь заполыхает. Потерпит царевна, страх пересиливая, а потом не своим голосом, не хуже самой Марьи-кружевницы, на все терема закричит.
И вдруг сразу от сердца отлегло. Приказал царь розыск про корень неведомый прекратить. Сказывали, что сам Артамон Сергеевич Матвеев за дело взялся и дознался доподлинно, что никакого злоумышления на царскую семью и государское здоровье не было. Просто глупая баба захотела, чтобы муж ее поменьше пил и не дрался. А потом, от страха и от огня, и невесть что про саму себя да и про других помысла. Знал царь, что Матвеев за царицу с царевичем душу свою положить рад, и поверил во всем боярину. Марью-кружевницу, для верности и другим для острастки, в дальний монастырь отправили, старуху-ворожею в другой сослали. Марьиного мужа, что у Троекуровых дворничал, в Мезень угнали. А жизни никого не решили и увечья большого никому не причинили.
Не всякий розыск так хорошо кончался.
13
Грозовая туча мимо прошла.
Чтобы совсем о ней позабыть, вечером того же дня, когда отдан был приказ о прекращении розыска, созвал царь своих домашних в палату Потешную.
Еще отец Алексея Михайловича, вскоре после своего избрания в цари, отвел в отстроенном после пожара дворце несколько палат, где приказал собрать все «стременты музыкальные и всякую рухлядь потешную». Вот и собрали сюда все забавы дворцовые. Царь Михаил Федорович был ногами слаб и недомогал часто. Не по здоровью ему были государские полевые потехи. Единой ему утехой была палата Потешная, и он непрестанно заботился об ее украшении.
«Стремент» потешный, тулумбас с вощагою (бубном)
Из немецкой страны выписали «стременты на органное дело» и со «стрементами» двух братьев-немцев: Анса и Мельхарта Лун. Братья в Москве «стремент» поставили и доделали: окружили резным станком, расцветили красками, позолотили и приделали к нему соловья с кукушкою.
Михаил Федорович чуть что не каждый вечер слушал, как играет орган, а обе птицы поют «без видимых человеческих рук».
Алексей Михайлович, пока был молод и здоровьем крепок, мало обращал внимания на Потешную палату. Отъезжее поле, псовая, а особливо соколиная охота ему мила была. Но прошли молодые годы. Все, чем тешился в полях I и в лесах государь, не под силу ему делалось, и с каждым годом все больше и больше стал вспоминать он про утехи комнатные.
Всякое дело любя «до полного устроения и удивления», как он говорил, «доводить», царь и отцовскую скромную палату устроил великолепно.
Украшая ее, не о себе одном думал: вся семья от мала до велика в той палате веселье себе находила. Сыновья Федор и Иван, оба немощные, других утех царевичевых не знали, а царевны-дочери, затворницы вековечные, с первых осенних дней выхода в Потешную, словно праздника, дожидались.
На этот раз выходные сборы были желаннее и шумливее, чем когда-либо. Самую память о тяжелом ведовском деле стряхнуть хотелось.
Алексей Михайлович всем потешникам до единого наготове быть приказал. Немецких фокусников, бесовскими делами людей напугавших и тем же часом сгоряча из Москвы высланных, с дороги воротили.
Скрестив ножи, те немцы над деньгами, на столе положенными, их поднимали, а деньги те сами к ножу подскакивали. Бояре, как только это увидели, сразу порешили, что фокусники — чародеи и бесовскою силою добрых людей морочат.
Фокусников выслали, а прослышал про них царь, и захотелось ему забавою, еще не виданной, своих потешить.
Погоню за высланными немцами отправили.
В страхе великом, как бы чего над ними не учинили, немцы в свою страну катили. Их нагнали и назад воротили.
Фокусники с ножами первые до прихода царицы и царевен должны были искусство свое показать, но напуганные отсылкой, а тем, что их вернули, и того больше, ничего как есть не показали. Ножи скрещивали, над деньгами их поднимали, но деньги с места не трогались.
Соскучился царь, на них глядючи. Приказал фокусников из палаты вывести и наутро обратно в их землю немецкую отправить.
Раньше, чем ожидали, оповестили царицу с царевнами, что время им в Потешную идти.
Ходы-переходы, сени большие, сени малые, опять переходы, лесенки то вниз, то вверх, ступеньки, приступочки — нее тускло слюдяными фонарями освещенное. А вот и Золотая палата царицына.
Через нее в Потешную проходить надобно. Драгоценное паникадило со львом, что землю в когтях держит, не зажжено, и только кое-где по стенам золоченым шандалы светятся. Живописи на стенах, расписанных подвигами Святых жен, почти нельзя разобрать. Тускло поблескивают золотые стены и своды, и золотые занавеси на окнах, и золотые звери и птицы на поставцах.
Потешная с Золотой рядом. В сенях, что за Золотой, уже слышится тягучее пение калик.
Всех потешников, кроме слепцов, что духовные стихиры поют, и верховых богомольцев, стариков столетних, что про старину сказывают, из покоя, куда царица с царевнами войдут, вон выслали. Ушли и бояре, что вместе с царем и царевичем наследным немецких фокусников смотрели. Только двое из них остались: Артамон Сергеевич Матвеев, друг сердечный царя и сберегатель бессменный его молодой жены с детками, да еще отец Натальи Кирилловны, Кирилл Полуэктович, с царевичем хитро вырезанными из слоновой кости шахматами играет. Матвеев с царем у такого же шахматного столика присел. Возле дверей в палату, где органы стоят, по одну сторону вдоль стены сидят слепцы, калики перехожие, в белых холстинных одеждах, по другую — верховые богомольцы, все четырнадцать старцев столетних, в крашенинных кафтанах, шелковыми поясами подпоясанных.
По всей Руси изо всех певцов старины наилучших для царя собирали. Живут те старики в подклетях, под хоромами самого Алексея Михайловича. Спят они на мешках, мягкой оленьей шерстью набитых, под голову подушки гусиного пера кладут, накрываются шубами овчинными.
Любит старцев своих Алексей Михайлович. У них во дворце и баня своя отдельная, и каждый праздник царь их чаркой водки и ковшом крепкого меда жалует.
Пухлыми пальцами, туго перстнями охваченными, передвигает государь шашки резные. Слепцы тягучими голосами про Федора Тыринова поют:
Как поехал Федор Тыринов Да на войну воеватися; Воевал он трое суточек, Не пиваючи, не едаючи, Из струменов ног не вынимаючи, Со добра коня не слезаючи. Притомился его добрый конь, Притупилася сабля острая, Копьецо его мурзавецкое. Повела его родна матушка На Дунай-реку коня поить. Налетал на нее лютый змей О двенадцати головах, О двенадцати хоботах. Он унес его матушку Через те лесья темные, Через те ли круты горы, Через те моря синие, Моря синие, бездонные, Через бездонные, бескрайние, Во пещеры белы каменны…Слова и напев, с самого детства привычные, говорить про свое не мешают.
— Хоромину комедийную обрядят скоро ли? — спрашивает царь у Матвеева. — Пост Филипповский подойдет, не до комедий тогда будет.
— На этих же днях, государь, все к Артаксерксову действию приготовим, — отвечает Артамон Сергеевич. — Нынче голубцом твое кресло да царевичево покрыли, для скамей новые полавочники давно приготовлены. Тайник для царицы с царевнами порасширили. Тесновато им в старом было. Стены в тайнике новым сукном-багрецом обили…
Оборвал речь свою Матвеев и с места поднялся.
Распахнулась без шума золоченая дверь, пропуская царицу с царевичем Петром, царевен, мам, боярынь и боярышен.
Распахнулась золоченая дверь, пропуская царицу с царевичем царевен, мам, боярынь и боярышен.
На шелест одежд женских, на стук каблучков высоких оборотились в сторону дверей глаза незрячие, слепцы громче песню свою повели:
Как подъехал Федор Тыринов Ко тому ль ко синю морю, Как где ни взялася рыба-кит, Становилася из края в край, Из синя моря бездонного, Что бездонного, бескрайнего; Как поехал Федор Тыринов По морю, словно посуху. Подъезжает Федор Тыринов Ко пещерам белым каменным. Видала его матушка Из красного окошечка: — Не замай, мое дитятко, Не замай, Федор Тыринов! Как увидит нас лютый змей, Он увидит, совсем пожрет. — Не убойся ты, матушка, Не убойся, родимая! У меня есть книга евангельска, У меня есть животворящий крест, А еще сабля острая Да копьецо мурзавецкое.Молча, чтобы не прерывать пения, одними поклонами здороваются вошедшие с теми, кто уже в палате сидит. Приветно улыбается царь своим любимым. Не выпуская из пальцев царевичевой руки, Наталья Кирилловна садится на золоченое кресло рядом с государем. Царевны рассаживаются на разгибных стульях.
— Послушай, Петрушенька, каково хорошо про Федора Тыринова слепцы поют, — наклонившись к сыну, шепчет Наталья Кирилловна. Хочется ей мальчика песней занять. — Вот змея лютого Федор убил, освободил матушку родную. Слушай, сынок!
Посадил Федор Тыринов Да свою родну матушку На головку, на темечко; Он понес свою матушку Через те леса темные, Через те горы крутые, Через те моря синие, Моря синие, бездонные, Что бездонные, бескрайние. Как подъехал Федор Тыринов Ко тому ль, ко синю морю, Как где ни взялася рыба-кит, Становилася из края в край. Как поехал Федор Тыринов По морю, словно посуху. Как пришел Федор Тыринов Да во свой во высок терем, Посадил свою матушку Он за свой за дубовый стол…Смолкли певцы, а Петрушенька матушкину голову к себе за шею пригнул и на ухо ей прошептал:
— И я у змея, родная моя, тебя не покинул бы.
Крепко поцеловала сынка царица и, слегка отстранив его, улыбаясь, повернулась к мужу.
— Сестрицы мои любезные что позамешкались? — спросил жену Алексей Михайлович.
— Занедужилось Ирине Михайловне, а сестрицы покинуть ее не захотели, — объяснила, слегка затуманившись, Наталья Кирилловна. — Прощенья у тебя все три попросить наказали, — поспешила она прибавить, заметив неудовольствие на лице царя.
Нахмурился Алексей Михайлович.
Давно старшая сестра упрямством его раздражает, к старине не в меру стала за последнее время привержена. В Потешную палату прийти не захотела и сестер не пустила. Еще на днях, брата укоряя, так говорила:
— При первой жене в теремах благочестие было, порядок старый во всем соблюдали… А нынче! Сама царица в колымаге открытой в Новодевичий монастырь проехала… Народ со страха наземь валился. Звон про выезд небывалый по всей Москве поднялся. Хорошо ли так-то?
И во всем, как и всегда, старая царевна винила Матвеева:
— Он, никто, как он, всему злу заводчик. В доме у него все по-иноземному. Наталии Кирилловне доброму научиться где было? Что с нее и спрашивать!
Много чего наговорила Ирина Михайловна. Сдержал себя Алексей Михайлович. Старшей сестре и своей крестной гневного слова не вымолвил, а сердцем вскипел. Пытал сестру уговаривать, а она молчала, слушала, на посох свой опираясь. Досадило молчанье ее царю, и помянул он ей про время стародавнее, когда и она от иноземного не отказывалась.
Шелестя одеждами, царевна поднялась с кресла своего резного. Выпрямилась, посохом пристукнула:
— Было время, что враг человеческий душу мою опутать хотел! — на весь терем гневные слова раздались.
А царю сестру жаль стало.
«Только сердце, горечи не осилившее, то, что счастьем своим называло, в муке клянет», — так он подумал.
Порешил, что все злое у Иринушки с горя, и в мире с сестрою расстался. Надеялся, что она опомнится, в Потешную со всеми вечер осенний скоротать придет, а она и сама не пришла, и сестер при себе удержала.
Но на веселье настроившись, все, что душу мрачит, отогнать хочется. Алексей Михайлович старается больше не думать о строптивой сестре. Приказал трубачам, литаврщикам, скрипичникам и цимбальникам, что через два покоя от палаты, где он сидит, дожидаются, за «стременты» свои потешные взяться.
— Органных мастеров немедля к органу допустить, — добавил он.
Громкая музыка огласила покои Потешной палаты.
— Пускай бы на одном органе теперь сыграли, — предложил Федор Алексеевич, когда музыка, наконец, смолкла. У царевича хороший слух, и он сам часто поет во время службы на клиросе. Оркестр ему неприятен, но он боится обидеть Матвеева, который им заведует.
— Батюшка, пускай нам кукушечка прокукует, — попросил царевич Петр и бросился от матери к отцу.
Алексей Михайлович приказал завести старый отцовский орган. Он сам его слушал, когда был ребенком.
Взяв сына за руку, царь прошел с ним в палату, где стоял «стремент». За ними пошел и Федор Алексеевич.
Царевны проводили ушедших завистливыми взглядами: и они поглядели бы лишний разок на трубы золоченые, на решетку резную. Ноги бы поразмяли.
Труба
Нельзя. Там мастера органные.
Кукует кукушка, соловей заливается.
Не те голоса у них, что пятьдесят лет тому назад были.
Постарел «стремент». Новые куда лучше, а во дворце этот старый, из-за моря привезенный орган остается, как и был, самым любимым.
Под его соловья и кукушку все повыросли.
Вернулся к царице Алексей Михайлович, сына ей за руку передал.
Памятью прошлого от старого органа на него повеяло. Детство припомнилось, отец… К давно миновавшему потянулась душа. Про деянья славные стародавние приказал царь своим старцам петь.
Ковылем-травой прикачнулись друг к другу седовласые головы. Перемолвились между собою богомольцы верховые.
Жуком, нежданно в палату залетевшим, густой звук домры дедовской пробасил и умолк. Словно кто заговорившие струны сразу оборвал, чтобы не глушили они голосов старческих:
Как у ласкова князя Володимира Было пированье — почестный пир, Было столованье — почестный стол На все князи и бояре И сильные могучие богатыри. Будет день в половину дня, Будет стол во полустоле. Богатыри прирасхвастались Молодецкою удалью: Алешенька Попович — что бороться горазд, А Добрыня Никитич — что гораздей его, А Дунай, сын Иванович, — что из лука стрелять…Снова домра звуком басистым в песню ворвалась, но голоса человечьего уже не осилила. Славное время богатырское не хуже вина старого, драгоценного старцам силы придало. С каждым словом голоса их все мощнее звучат. И когда дошли до корабля Сокола, громче уже не смолкавшей домры на все палаты потешные, раздались слова:
По морю, по морю, по морю синему, По синему, по Хвалынскому Плавал Сокол-корабль ровно тридцать лет. А на якорях тот корабль не стаивал, У крутых зеленых берегов не бывал, Церквей и монастырей не видывал, Колокольного звона не слыхивал. Хорошо Сокол-корабль изукрашен был: Бока сведены по-звериному, А нос да корма по-змеиному, Кормою владеет млад Полкан-богатырь, А всем кораблем Илья Муромец.Песен, что от начала Руси певались, все заслушались и еще бы слушали, да Петр-царевич по малолетству своему на месте не усидел.
— Куколок поглядеть хочу, — начал он тихо. — Куколок поглядеть, — громче и настойчивее повторил он.
Пытала мать сынка уговаривать, по кудрявой головке его гладила.
— Обожди малость, — шептала. — Вот… скоро уже.
Но царевич свое заладил:
— Хочу куколок!
Прислушался к сыну Алексей Михайлович, разобрал, о чем просит мальчик, и, выждав песни завершения, сам предложил на кукольную комедию поглядеть.
Вмиг Петрушенька рядом с батюшкой оказался.
— Идем скорее! — нетерпеливо звал он отца, ухватив его за руку.
Засмеялся государь, поднялся с места и встретился взглядом с просящими глазами своих Алексеевн.
Ко всем был жалостлив царь, а тут перед ним еще и дочери родные, наполовину сироты.
— Сергеич, накажи комедиантам наготове быть, — обратился он к Матвееву. — Царевны на куколок поглядят.
Как птицы разом с места снимаются, когда вдруг после ненастья долгого солнышко выглянет, так радостно и Алексеевны со стульцев разгибных поднялись.
— И мы куколок поглядим! И мы…
Смеются, щебечут, словно птицы. Высокими каблучками постукивая, из палаты, где слепцы и старики столетние, выйти торопятся. А в другой палате рядом, под самым паникадилом, что с расписного свода на золоченых цепях спустилось, стоит уже наготове кто-то весь в белом, словно из двух холщовых мешков составленный: мешок вместо туловища и вместо головы — тоже мешок. Человек внутри под мешками, но ни он царевен, ни они его не видят.
Стали все кругом комедианта, а у него из верхнего мешка Петрушка как выпрыгнет! Бубенцами трясет, костяшками щелкает, своим петрушечьим голосом выкрикивает:
— Коня лихого, люди добрые, себе на торгу поискать хочу.
Тут на голос его из того же мешка цыган выскочил.
Гусляры с гудочниками, как на заправской ярмарке, заиграли.
А цыган Петрушке кричит:
— У меня конь лихой. Торгуй!
Заторговались Петрушка с цыганом, заспорили, разодрались. Петрушка визжит, цыган кричит, гусляры с гудочниками стараются.
Привели коня. Конь — голова, ребра да хвост, а брыкается. Петрушка его со всех сторон обходит, а вскочить на него не может. Конь его и хвостом, и ногами бьет. Вот повалил. Визжит Петрушка, и царевич Петр от восхищения подвизгивает.
— За узду коня прихвати, да покрепче! — кричит. Хохот гусли и гудки глушит. Голоса петрушечьего давно не слыхать. Развеселил всех на славу Петрушка бедовый и провалился с конем и цыганом назад в тот же мешок, откуда на свет вылез, а веселья с собой не унес.
Разыгрались гудочники с гуслярами, осмелели дурки в летниках из пестрых суконных покромок, шутихи с вошвами, змеями расшитыми, медью-шумихой на киках звякнули, карлики сапожками из цветного сафьяна затопали.
Заметались, закружились потешники государские.
Сопели, дудки, жалейки к гуслям и гудкам пристали.
А Наталья Кирилловна, на Петрушеньку глазами показав, так тихонечко царю молвила:
— Сыночку нашему на покой пора бы…
— Повремени малость, Наташенька, — так же тихо, как и она сказала, ответил ей Алексей Михайлович. — Мал время спустя, все вместе из палаты пойдем. Пора и мне на покой…
— Аль тебе, государь, неможется? — сразу всполошилась царица.
— Здоров я, а душно нынче в Потешной. Долго мне здесь не высидеть.
Тревогу, от этих слов ее охватившую, Наталья Кирилловна осилила. Слова не вымолвила государыня, но после того, что от мужа услыхала, все уже скучным ей показалось. Рядом с царем она, как и прежде, выступала, но уже ничего не видела и не слышала.
Для царевича канарейку заморскую, а потом шкатулочку с музыкой заводили. А царевнам захотелось на плясунов поглядеть. Обступили отца Алексеевны.
— Сделай милость, батюшка, плясунами нас потешь. Сказывали, немчин Ян Готфрид ловко их всяким пляскам заморским выучил.
— Осмелели! Сладу нет с вами! — рассмеялся царь.
И эту вольность уже готов он был дочерям разрешить, но Наталья Кирилловна не выдержала:
— На покой, государь, ты собирался, — напомнила она. И столько тревоги и просьбы вложила царица во взгляд своих черных очей и в голос свой ласковый, что царь устоять не мог.
— До другого раза плясунов оставим… Время позднее…
Притихли Алексеевны. Только развеселились, а их опять в терем опостылевший посылают.
И все мачеха!
Не скажи она слова неладного, батюшка бы им и плясунов показал.
Жаль стало Алексею Михайловичу дочерей опечаленных.
— На этих же днях в Комедийную палату я вас, дочери мои любезные, соберу. Сергеич нам действо «Есфирь» учинить обещал.
Повеселели царевны.
— Спасибо тебе, государь-батюшка! На ласковом слове благодарствуй!
Улыбаются отцу Алексеевны, на мачеху все, кроме Федосьюшки незлобивой, косо поглядывают. Софья особенно. Поймала Наталья Кирилловна недобрый взгляд падчерицы и невольно Петрушеньку к себе притянула.
К дверям выходным царь с царицею пошли. Младший царевич с ними рядом, позади царевич-наследник, а за всеми царевны.
— Поглядим, как, по царицыну челобитью и по Мардохеину наученью, Артаксеркс Амана повесить велел, — вспоминая батюшкино обещанье об Есфири, говорит Софьюшка.
— Поглядим. Любы нам потехи комедийные. Только бы дождаться! — вполголоса переговариваются между собою на ходу сестрицы.
Утешил посулом царь дочерей, а только не скоро обещанную «комидию» им поглядеть довелось. У Матвеева все, как он говорил, поспело, но когда все уже было приготовлено к представлению — царю занедужилось. Последнее время все чаще и чаще на Алексея Михайловича даже не хворь настоящая, а какая-то непонятная тоска нападать стала. Все, слава Богу, у царя за последние годы его царствования сложилось. С войнами кровопролитными покончено, измена из государства повыведена, Стеньку Разина и того одолели. Цветущую Малороссию, землю славную и богатую, от поляков освободив, Алексей Михайлович под свою власть подвел. «Самодержцем всея Великия и Малыя и Белыя Руси» царь теперь пишется. Торговля им улучшена. Купцы и послы государские не только в земли христианские — в Турцию и Китай пробираться стали. И для внутреннего устроения великое дело царь содеял: в старых судах много всякой неправды творилось, и богатый почти всегда над бедным верх брал. Сильно сокрушало это Алексея Михайловича, и приказал он выборным из дворян и городских жителей дознаться, в чем нужда и от чего терпят. Так под его руководством и составилось «Уложение» для насаждения во всем государстве правды истинной. Богатые и бедные, холопы и бояре отныне им под один суд праведный, для всех одинаковый, подведены.
Слава о мудром царе по чужим землям прошла. Говорят иноземцы, что русский царь такой государь, какого все христианские народы себе пожелать могут.
И в дому своем у Алексея Михайловича есть на что порадоваться: добрая, умная, молодая жена-красавица, детки от нее малые, дочки-царевны от первой жены, от нее же и два царевича. Здоровьем слабоваты те, что от Милославской, зато сын от Нарышкиной всем взял. Богатырь духом и телом растет Петрушенька.
Утешен в дому своем Алексей Михайлович, а нападет минута горестная, и тяжко царь призадумается. А что, коли Господь века его государского не продлит? Что, коли не доживет он до той поры, пока Федор-наследник телом окрепнет? Да и окрепнет ли? На Иванушку царь не надеется. Телом и духом скорбен царевич. Что будет, ежели Федор совсем захиреет, а Петр в силу войти не успеет? С царством, Богом ему, государю, порученным, что тогда станется?
Тяжело царь задумывается, а от близких тревогу свою таит. Нет в этом деле возле него человека, чтобы все по истинной правде рассудил, — Милославские за Милославских стоят, Нарышкины к Нарышкиным тянут и Матвеев за ними. Пока жив Алексей Михайлович, дальше взглядов и недобрых слов никто не решится пойти… А ежели Господь дни царской жизни да прекратит? Подумать страшно, что тут поднимется! Утешает себя Алексей Михайлович, что не время еще ему о смерти думать. Пятидесяти царю не стукнуло. Жизни еще остается. Рассудок так говорит, а вещун-сердце другое выстукивает. Часто по ночам не спится царю.
Накануне дня, для комедийной потехи назначенного, когда все уже заснули, поднялся с постели своей Алексей Михайлович, в Крестовую прошел и молился там, пока души не успокоилась.
Наутро, во время обычное, едва свет забрезжился, он, как всегда, уже на ногах был. День молитвой начал, потом к обедне в собор Архангельский вместе с боярами ходил. Отслужить панихиду по своему государскому родителю ему захотелось. Царица в этот же день, по уговору с царем, в соборе Вознесенском панихиду над гробами цариц служила.
После обедни Алексей Михайлович, как всегда, с думными боярами дела вершил, потом пообедал и отдохнуть прилег. Потом к вечерне ходил, ужинал. За ужином семья собралась. Радовались все, что в Комедийную хоромину идут. С тем, что идут, из-за стола вышли, но когда Матвеев пришел сказать, что в хоромине все готово, понял Алексей Михайлович, что не под силу ему еще несколько часов на ногах пробыть.
— Что-то устал я, Сергеич. Как и быть мне, не знаю, — нерешительно проговорил он.
Не меньше царевен и Матвеев любимой потехи дожидался. Давно хотелось ему показать, под его руководством немчинами обученных, русских лицедеев. Но государское здоровье всего превыше ставил Артамон Сергеевич и сам стал уговаривать колебавшегося царя не ходить в хоромину комедийную.
— Разденься да пораньше спать ложись, царь-государь. Сном все недомоганье твое и пройдет.
Дал себя уговорить Алексей Михайлович. Приказал китайской травы-чаю запарить. В подарок трава эта ему царем монгольским с поклоном была послана, за лекарственную считалась, и государь ее «для здоровья» пил.
— Государыню об отмене сам сходи оповестить, друг мой сердечный. Не испугалась бы она. Накажи ей с Петрушенькой у меня побывать. Пускай своими глазами повидает, что нет недуга во мне настоящего. Так, видно, леность одолела…
Алексею Михайловичу сразу полегчало, как только он и постель лег. Неловко ему перед теми, кто из-за него осенний вечер в терему без потехи обещанной скоротает.
— Леденцов иноземных, тех, что через Архангельск морем присланы, прикажи, Сергеич, царевнам бо́льшим и ме́ньшим по теремам разослать. Скажи, что царь-батюшка гостинцы шлет, — наказал он уже вслед уходившему Матвееву.
Один царь остался.
Представляется ему уютный тихий вечер с женою и сыном-любимцем. Жалкими кажутся ему дочери и сестры-затворницы. Никогда ни одна из них не узнает счастья семейного. Одинокими, без мужа любимого, без детей свой путь безрадостный царевны от века свершают.
14
Намостила зима ледяных мостов, застудила грязь непролазную, снегом, словно скатертью белою, все застлала.
Пришли Филипповки. От дней постных, молитвенных, словно от снега чистого, прохладного, на людей тишиной пахнуло.
По московским улицам, бубенцами позванивая, литаврами громыхая, с песнями и гиканьем уже не мчались поезда свадебные. Гусляры и жалейщики, что по торгам поют, позапрятались. Позамолкли песни веселые. В тишине притихшего города слышнее церковный благовест раздается. Утром и вечером народ по церквам собирается.
Позатихло и во дворце государевом.
В Потешной палате органы и всякие «стременты музыкальные» на ключи позапирали. Даже у царевича Петра трехлетнего цимбальцы его, гусельки и шкатулочку с музыкой заводную в поставец припрятали. С кик шутихиных медь-шумиху поснимали, у дурок пестрые вошвы, змеями расшитые, до праздника в сундук убрали.
Последний веселый день перед заговеньем на славу и теремах вышел. Прасковьюшку-чернавушку, мастерицу золотную, в этот день с истопником повенчали. Царица свою любимицу, богатыми дарами одарив, сама к венцу благословила. Царевны на последнем ее девичнике почетными гостьями все до одной побывали. А на другой день после свадьбы все веселье словно под землю ушло.
Пост наступил.
Прежде утреннего питья — взварца душистого, горячего — мамушка теперь Федосьюшке просфору подает. Каждое утро постом царице и царевнам из Вознесенского монастыря просфоры шлют. Из земли Сольвычегодской, с севера дальнего, из обители, основанной Святым Христофором во имя чудотворной иконы Божьей Матери Одигитрии-путеводительницы, монахи в посудах вощеных святую воду привезли. Воду ту чудотворную сам царь от старцев-монахов принял. При нем ее и в скляницы малые для разноса по теремам разливали. Одну из таких скляниц Федосьюшка получила. В Крестовой, моленной своей, под образом Богородицы на полочку ту воду священную царевна поставила. Здесь у нее на полочке мешочек с землей из Иордана-реки, где Спаситель крестился, крест с мощами, бабки-инокини Марфы благословение, другой крест поменьше — яхонтовый, страшливые сны отгоняющий. Четки корольковые с золотыми кистями рядом лежат.
Каждое утро, просфору царевне подав, Дарья Силишна бережно отливает несколько капель священной воды в золоченую чарочку.
— Благословясь, испей, свет моя государыня, — говорит она. — Телу здравие, душе спасение святая водица дает. Нынче глазки у тебя будто туманные. Видно, не доспала опять, моя ласточка?
Далеко за полночь просидела царевна, а мамушке в том не признается. С первого дня Филипповок принялась Федосьюшка за работу обетную. Вечерами перед сном, когда боярышни и сенные девушки на покой разойдутся, вынимает мамушка из высокой скрыни с выдвижными ящиками раскроенный грубый холст и перед царевной его на столе раскладывает. Орька воском нитки сучит. Приготовит все и рядом с царевной за стол сядет. Рубахи вместе они шьют. Тем, кто по тюрьмам томится, те рубахи к празднику Рождества царевна готовит. Орька в помощницах у нее. Рада бы и Дарья Силишна своей хоженой подсобить, да глаза ее при свечах плохо видят. Садится на лавку мама неподалеку от девочек, руки под беличьей телогреей сложит — пригреется и задремлет.
— Ты, мамушка, на покой бы шла, — говорит ей царевна.
— Я лягу, а ты тут без меня за полночь просидишь, — сонным голосом бормочет мама.
— Ложись себе, мамушка. Не задержусь я.
Невмоготу Дарье Силишне с дремотой бороться. Еще раз наказывает она царевне не засиживаться, Орьке велит поосторожнее с огнем быть и, переваливаясь, уходит в соседний покой, где на спальной скамье постельницы ей давно мягкую перину постлали.
Остались Орька с царевной вдвоем.
У жарко натопленной печки в распашницах, сверху рубах накинутых, девочки холст небеленый вощеными нитками строчат. Головы не поднимая, усердно Федосьюшка работает. Потягивается и позевывает Орька. Не посидит минуточки спокойно. Вот затихла. Подняла на нее глаза Федосьюшка, а Орька про шитье и думать забыла. На печку уставилась, словно на братца родного, глядит на нее.
— Устала ты, что ли, Орюшка? — спашивает царевна. — Ежели устала, отдохни малость, потом работа спорче пойдет. Печка тепла ли? — Федосьюшка из-за стола поднялась, к печке подошла, руки к горячим кафелям прикладывает. Рядом с нею и Орька печку руками шлепает.
— Занятная печка! — говорит она. — Целый бы день на нее глядела — не соскучилась.
И правда, печка занятная. Все кафели на ней разрисованы синей краской, всюду звери, птицы, цветы всякие, Под каждым рисунком подпись. Под зайчиком, что на задние лапки привстал и одним глазком хитро поглядывает: «Недремлющим оком караулю» — поставлено. «Дух мой будет сладок» — под земляничным кустом стоит. «Помалу, помалу» под одной черепахой, а под другой такой же: «Свой дом дороже всего».
Изразец печной
Изразец печной
Изразец печной
Разглядывают девочки печку. Федосьюшка подписи вслух читает. Орька слушает, царевне слова подсказывает. Памятлива она, а печку они вдвоем не в первый раз разглядывают.
— Да, печка у нас, что твой букварь, — говорит Федосьюшка. — Давай грамоте по ней учиться. Вот и буквы тебе покажу.
Распухшим от уколов иглы пальцем царевна водит по синим буквам.
Да, печка у нас, что твой букварь.
— Вот — аз. Хорошенько гляди на него, Орюшка. Это — буки, там — веди… Следом за мной говори.
Но не ладится у Орьки с буквами. Федосьюшка учить не мастерица, а Орька и без букв разбирает, где зайчик, где куст земляничный. От букв все хуже, непонятнее делается.
— Ох, не одолеть мне твоей грамоты, — вздыхает она и, зевая, крестит широко раскрывшийся рот.
— Помалу, помалу, — смеется Федосьюшка. — Черепаху видела? Уж на что домик у нее тяжелый, а куда ей потребуется, всюду доберется зверюшка малая. Так и ты. Грамота — твой домок, а ты черепашка. Знай тащи старайся — только и всего.
Смеется и Орька.
— На сегодня грамоты будет, — говорит она. — Шить еще, что ли, станем? Ночь поздняя, спать бы ложиться.
— Еще самую малость пошьем, — отвечает Федосьюшка. — Нынче, как новую пряжу у царицы делили, я себе еще холстов выпросила. Успеть бы пошить все. А то ложись себе, Орюшка, я и одна посижу.
Но на это Орька не согласна. Снова садится рядом с царевной, и снова вощеные нитки строчат суровый холст.
— Сказывали мне, Орюшка, что иные заточенники долгие годы света Божьего не видали, во тьме по земляным тюрьмам сидят. Полонянники тоже, из чужих земель навезенные, взаперти томятся. По женам да деткам несчастны поди, соскучились.
Строчат вощеные нитки рубахи несчастненьким. От лампады у образа Богородицы золотые лучики тянутся.
В соседнем покое храпит Дарья Силишна, мыши скребутся.
За окном ночная стража перекликается. Отбивают часы с перечасьем время ночное.
— Что это? Слышишь, Орюшка? — испуганно насторожилась царевна. — По крыше словно треснуло, — чуть слышным шепотом прибавляет она.
— То мороз баб будить принялся, чтобы печи топили, — спокойно и уверен но объясняет Орька. — Здесь-то у вас в хоромам тепло, теплее и не надо, а по деревням народ стынет. От стужи дети малые по утрам слезьми плачут. Есть такие, что без одежи, без обуви до весеннего солнышка на печи проваляются. Мы с бабушкой в ночи метельные до света дожить не чаяли.
— Лучше тебе здесь-то, поди?
— В тепле да в сытости кому худо. Хорошо живете, Работы, почитай, никакой. Сени просторные. Разгуляться есть где.
— Кабы не батюшка, я в монастырь бы пошла, Орюшка, — опустив на колени работу, неожиданно говорит Федосьюшка. В тихий ночной час душа ее сокровенных слоя не побоялась. Девочке, подобранной на большой дороге, царевна первой открылась.
У Орьки от слов нежданных сразу весь сон соскочил.
— В монастырь? — с испугом и недоверием повторила она. — В монастырь — от богатства несметного, от братцев родимых, от сестриц любимых? Терем изукрашенный, убор дорогие покинешь ли? Келья монастырская убогая. У монахинь, окромя черной одежды да черного куколя, другого наряда нет.
— За родных я денно и нощно усердной молельщицей стала бы, — словно вслух про себя думая, царевна ей говорит. — В куколе да в рясе монашеской к Богу путь ближе. От уборов дорогих тяжело плечам моим, Орюшка. Трехъярусный венец, рясы жемчужные, серьги тройчатые к земле пригнетают. А на земле, сама знаешь, страхов всяких не оберешься.
Царица в наряде невесты-цаевны, ожидающая выхода на свадебное место. На ней венец «с городы», телогрея и шубка. Перед нею боярыни-свахи
Наряд невесты: кика, убрус, ожерелье жемчужное и бобровое, шубка. Знатная боярыня в убрусе, ожерельях и шубке. Убрус.
Женские одежды XVII века
— Тебе ли, царевна, чего опасаться? Тебя ли не холят, тебя ли не берегут! Солнышко тебя не печет, ветерок тебя не обвеет.
Покачала головой Федосьюшка.
— Ничего, как есть, не понимаешь ты, Орюшка, — ласково укорила она подружку. — Бывает так, что в златотканой одежде павой выступаешь, а у самой ноги от страха подгибаются: а ну, как по вынутому следу ступаешь, а вдруг кто пеплом наговорным дорогу посыпал, в каждом уголке потайной дурной глаз видится. Есть, пить станешь — раздумаешься: кусок в горло не пойдет. Еду и питье испортить долго ли?
— А мамушка у тебя на что? Глазаста, что и говорить, Дарья Силишна.
— Бережет меня мамушка, денно и нощно стережет, — согласилась Федосьюшка, — без креста да молитвы кусочка мне проглотить не даст, да разве за всем углядишь? Злых людей много, и велика сила бесовская. А я дьявола, Орюшка, ох как боюсь! Схорониться мне от него да от людей лихих хочется. В монастыре сила бесовская не та, что в миру. В келейку, сосновым духом пропитанную, молитвами от страхов загражденную, душа просится. Келейка тихая, кругом лес…
— Возле Суздаля мы с бабушкой в таком монастыре были, — прервала царевну, вдруг вся загоревшись, Орька. — Земляники там силища! Полянка солнечная от ягод так и краснеется. А и жара же тогда стояла! Согнувшись, яго ды брать тяжело было. Прилегла это я на землю да ртом землянику и хватаю. Душисто таково. Ягода спелая, сочная.
Заблестели глаза у Федосьюшки.
— Земляники и я бы поела.
Голос у царевны совсем другой сделался. Сказала про землянику и облизнулась.
— Плохо ли! Хлебушка бы теперь пожевать, и то хорошо, — поддразнила ее Орька. — Есть что-то захотелось.
— И мне поесть хочется.
Рассмеялись полунощницы и вдруг спохватились, одна на другую испуганно руками замахали.
— Тише ты!
— И ты потише. Разбудишь.
Но Дарья Силишна храпела вовсю, и девочки успокоились.
— Ничего не поделаешь, заснем голодными, — сказала покорно и грустно Федосьюшка.
— Ну, уж нет! — возмутилась Орька. — Погоди малость. Сейчас я.
Захватив с поставца резной станок с лучиной, припасенной «для случая» мамушкой, Орька, осторожно ступая, прокралась к дверям. Через несколько времени вернулась она с узелком и, не говоря ни слова, высыпала все, что в нем было, на колени Федосьюшке.
— Чего не доела — все припрятала. Вот и пригодилось, — довольная своей догадкой, говорила Орька и совала царевне ржаные сухари, кусок коврижки, царьградкий стручок и леденцовую птичку. Впопыхах позабыла, что и стручок, и птичку попросту стащила с серебряной тарелки.
— Ночью хорошо естся, — хрустя сухарем и закусывая половиной надвое разделенного стручка, говорила Орька.
Царевна похрустывала ржаной корочкой и повторяла:
— Хорошо!
Непотушенная лучина в резном станке трепыхающим светом озаряла два улыбавшихся, одинаково довольных детских лица.
А когда Федосьюшка заснула, не черный монашеский куколь приснился ей, а полянка от солнца золотая, от земляники красная, и не Орька, а сама Федосьюшка обеими руками брала спелые ягоды, а ромашки те, что на пути к Троице-Сергию цветут, кивали ей белыми головками и повторяли:
— Любо, любо, любо!
15
Подходило Рождество.
По всем теремам, начиная с терема старшей царевны Ирины Михайловны, кончая веселыми покоями Марьюшки и Катеринушкой — все по-своему готовились к празднику.
Ирина Михайловна послала на торг пряжу, наработанную ее гюкровскими крестьянками. Вырученными деньгами царевна собиралась кормить нищую братию. Татьяна Михайловна с Анной Михайловной тоже про нищих, убогих и увечных помнили. Своих денег у них не было, и они ждали случая попросить на праздничное столованье у государя-братца, а пока коротали постные дни, угощаясь почти беспрерывно всякой снедью. Тестяных шишек, левашников, перепечей, маковников, луковников, — всего без счета с хлебного двора в терема во всякое время отпускали. Покровские бабы, на приказчика жалуясь, рыбными пирогами Ирине Михайловне челом ударили. Так царевны и пироги те все приели.
Обеду да ужину такая еда не ко времени не мешает. Пирогов гороховых, рыбных да с кашами всякими, щей, ухи, рыбы жареной, тельного, киселей, взваров из овощей, приправленных имбирем, шафраном и корицей — всего изрядно отведывалось. От такой пищи, пряностями сдобренной, жирно постным маслом приправленной, жажда томила. Квасов всяких, бражки, щей кислых, вод брусничных, черемуховых да черничных со двора Сытного в жбанах приносили.
Ирина Михайловна, одна в пище и питье строгая, по средам и пятницам, кроме воды и хлеба, ничего не принимала. Того же от сестер и племянниц требовала.
Худая, постом изможденная, часто появлялась, нежданная, в терему, где у которой-нибудь из царевен, несмотря на постные дни, собирались в гости сестрицы.
— Дьявол вас, неразумных, в сети свои улавливает, — укоряла она, посохом указывая на стол, заставлены всякими заедками. — Молению, воздержанию дни пос предназначены… Нынче в церкви одну Евдокеюшку я заприметила.
— Ты, государыня, у Рождества Богородицы обедню стояла, а мы вдвоем с Марфинькой у Ризоположения, — оправдывалась Катеринушка, наскоро вытирая ширинкой сладкие губы.
— А я, государыня Ирина Михайловна, в церкви Екатерины Великомученицы службу отстояла, — сказала Федосьюшка.
— Все мы, почитай что, каждый день в которую-нибудь из сенных церквей ходим. Не изволь гневаться, государыня. В чем другом, а в этом вины на нас нету.
Говорит Софья, как всегда, громко, уверенно и потому убедительно. Да и права она: усердно царевны по своим верховым церквам ходят.
Подобрело лицо у Ирины Михайловны, да ненадолго, В глаза ей старуха-бахарка бросилась. Как ни заслоняли сказочницу сенные девушки, разглядела ее тетка.
— Никак, постом сказки баете? Жития святых слушать надобно, примером праведных, как душу свою спасти, поучаться…
И сделалось суровым по-прежнему лицо старой царевны. Голос сердитый. Опять застучал по полу двоерожный посох из Кирилло-Белозерского монастыря. Постом царевна сменяет на него свой обычный резной, драгоценными каменьями украшенный.
Никто ей больше ответов не дает. Младшие выслушали старшую, покорно опустив головы, но только вышла за дверь старая царевна, и опять защелкали орехи, леденцы захрустели, и голос бахарки, старой беззубой старухи, подхватил сказку с того самого слова, где ее оборвал нежданный приход Ирины Михайловны:
— Хорошо в теремах изукрашено. В небе солнце — в тереме солнце, на небе месяц — в тереме месяц, на небе звезды — в тереме звезды, на небе заря — в тереме заря и вся красота поднебесная. В том терему Афросинья сидит за тридесять да за замками булатными. Буйные ветры не вихнут на нее, красное солнце лица не печет. Двери у палат-то железные, а крюки-пробои по булату — золоченые…
Что-то скучно нынче Федосьюшке от сказки любимой. Неправду она говорит. Звезды, что по теремным сводам расписаны, на звезды небесные мало похожи. Нынче ночью на Божьи звезды царевне поглядеть пришлось. Царица в Вознесенский монастырь с собою ее взяла. У гробов цариц и царевен о многолетнем здравии всей семьи государской вдвоем они помолились. Под небом звездным, по снегу хрустящему царевна прошла. От воздуха чистого, морозного с непривычки кружилась у нее голова, каждый шаг ей в радость великую был. И целый день радость та в душе ее пела, целый день Божьи звезды над ее головою дрожали. Не хотелось ей на теремные, золотом наведенные звезды глядеть.
Когда же про замки бахарка помянула, не захотела больше и сказки слушать Федосьюшка. Потихоньку, никому не сказавшись, из покоя выбралась. Хотела к себе пройти, да позадержалась в сенях у окошка. Потянуло ее на Божьи звезды взглянуть. Но звезды не увидала царевна. Словно перья лебедей белых, ветром подхваченные, кружились за окном большие снежные хлопья.
— Ты чего, не сказавшись, ушла? — раздался вдруг за Федосьюшкиной спиной Марьюшкин голос. — Жарко, душно в терему у нас, — не дожидаясь ответа, прибавила она. — На крылечке бы теперь постоять, снегом бы лицо остудить!
— Вот вы где! И мы к вам.
Подбежали к окошку сестрицы все до одной. Все на жару да на духоту теремную жаловались.
— Никак, бубенцы? — спросила, насторожившись, Катеринушка.
— Бубенцы! Бубенцы! Какие бубенцы? Откуда бубенцам быть?
Столпились у окошка царевны. Стоят. Слушают.
— Не кто другой, как молодые, перед Филипповками обвенчанные, в санях расписных по городу катаются, — догадалась Марфинька.
— Мне боярышни сказывали, что теперь самое время катаньям пришло.
— Звон-то какой… Веселье!
— Прасковья-чернавушка наша тоже, поди, так-то закатывает…
Стоят царевны. Прислушиваются. Но не слышно больше бубенцов веселых, только воет метель за окном.
16
Поднялась во дворце уборка предпраздничная. Рогож, метел, щеток, голиков, веников, крыльев гусиных, ветошек, сукна сермяжного по всем покоям, на все концы из казны разослали. Везде моют, чистят, скребут, выколачивают. В крестовых царя и царевичей дьяки осторожно и благоговейно мягкими грецкими губками обмывают мылом бесчисленные образа в серебряных и золотых окладах. Псаломщицы, что у царицы и царевен святые книги вслух читают, тоже теремные крестовые убирают. Богомазы подправляют стенную и потолочную живопись. Сенные девушки над хоромным нарядом стараются. Пересматривают праздничные полавочники и наоконники, где что оборвано — зашивают.
Не хочется и Орьке от людей отставать. Препорученную ей птичью клетку к подоконнику спустила, трет изо всей силы суконкой золоченых орлов по уголкам. Клетка из стороны в сторону шатается, водопоечки друг о дружку стукаются, из кормушек зернышки на пол сыплются, серенькие пичуги, острыми крылышками проволоку зацепляя, в страхе мечутся, а Орька знай себе трет да трет. Опомнилась, когда вдруг нежданно и пребольно за ухо ее ухватили.
Подняла голову — Дарья Силишна.
— Клетку брось! Аль оглохла? — строго, не выпуская зажатого уха, матушка приказала. — Грязи-то что кругом навела! Птицы со страха ополоумели.
— Да я, государыня-боярыня, к празднику постараться хотела, — вся красная, натягивая на голову сбившийся платок, попробовала оправдаться Орька, но от мамушкиного тумака сразу язык прикусила.
— Все, что нагрязнила, мигом убери. Со всех ног, как все уберешь, на чердак беги. Царевна там тебя спрашивает… Или нет, лучше обожди меня, вместе пойдем. Вот я ключи захвачу.
С дозволения царицы, все царевны перед праздником делают на чердаке обычный смотр отставным нарядам и белью. Сами, как всегда, рук своих не трудят: разбирают вещи боярыни с боярышнями и сенными девушками. Отобранное мамушкам передают.
Дарья Силишна не сразу с царевной пошла. Позамешкалась. Теперь Орьку торопит:
— Скорей идем. Поможешь нести. Мне и с пустыми руками спустить себя по лестнице трудно.
Громыхая тяжелой связкой ключей, боярыня-казначея на чердаке уставленные коробья, скрыни, сундуки обходит, замки отмыкает. Как птицы к зерну просыпанному, налетают на укладки девушки. Много всякого отставного добра по чердакам, кладовушкам, клетям да подклетям накоплено. Носильное платье расхожее каждая царевна у себя в терему держит, праздничные и выходные уборы возле царицыной Мастерской палаты в покое особом хранятся, а то, что поизносилось либо понаскучило, на чердаки отсылают. Наряды из тканей добротных шьются, настоящего сноса им никогда не бывает, вот и хранится все отставное до случая. Укладкам на чердаках счета нет.
В разруху московскую, когда поляки Кремль сожгли, сгорели наряды, еще от первых цариц схороненные. После чистки огневой просторны стали чердаки кремлевские, но ненадолго. С Евдокии Лукьяновны, первой царицы из дома Романовых, опять стали копиться скрыни, коробья, сундуки, ларцы большие и малые. Одних летников больше сотни Наталье Кирилловне от покойной Марии Ильиничны досталось, а телогрей да распашниц — и того больше. Носильное отобрали и в Мастерскую палату поместили, а лишнее на чердак отправили. Сюда же и выростки после царских детей, лоскутья и обрезки всякие прибирают.
— Уголышка свободного не найдешь скоро, — часто жалуется казначея-боярыня, — а все несут и несут. Изничтожить бы половину…
— Лоскут иной бросишь — слезами потом наплачешься, — отвечает ей кто-нибудь из запасливых боярынь. — Понадобится — на торгу подбирая, измаешься, а случается, что и вовсе не подберешь.
— Хвостик бобровый, что от шубки царевниной остался, прибери, боярыня, — советует которая-нибудь из бережливых мамушек.
Прибирается хвостик бобровый, а там принесли заячий лоскут. Вершок бархата от шапочки сдают.
— Ох, задавили вы меня, задавили! — стонет боярыня-казначея. Радость ей большая, что царевны хоть часть добра собрались в дело пустить.
Выбрали царевны каждая, кому что приглянулось. Для себя ничего не нашли. Все послежалось, потускнело, повыцвело, где порвано, где молью поедено, а для праздничного отдариванья, при небольшой починке сойдет. Федосьюшка на наряды и не глядит. К коробьям с бельем отставным припала царевна.
— Спрошу у царицы для полоняников, — говорит она сестрице Марфе.
— А я для нищей братии возьму.
Евдокеюшка к ним подошла. Смотрят царевны, как боярыни белье отбирают.
— А вот и мамушка идет, да и с Орей, — обрадовалась Федосьюшка. — Сюда, ко мне поспешайте! Ты, мамушка, принимай, а Оря носить станет. Побольше, мамушка, набирай.
— Федосьюшка, подь ко мне. Помоги парчовых да бархатных лоскутов выбрать: книги мне оболочить надобно.
— Иду, иду!
Подбежала к Софье Федосьюшка. Принялись сестрицы вдвоем цветные обрезки разбирать.
А Софья торопит:
— Да ты проворней, сестрица. Некогда мне всю эту рухлядь чердачную ворошить. Нынче Симеон Полоцкий ко мне придет. Новую книгу душеполезную старец составляет. «Венец веры» той книги название. Вместе с учителем мы все, им сочиненное, прочитываем.
Ушла Софья. Прискучило и другим царевнам на чердаке старье ворошить. Собрались уходить сестрицы. Катеринушка с Марьюшкой лоскутов и обрезков всяких, и шелковых, и бархатных, и парчовых, прихватили.
— Сестрицам малым куколок к празднику нарядим.
— Сами не заиграйтесь. От малых недалеко еще ушли, — подсмеялась над ними Евдокеюшка.
Опустел чердак. Взято мало, разворочено все. До следующего праздника замыкает боярыня-казначея коробья, сундуки, ларцы большие и малые. Ждут не дождутся потревоженные мыши, когда наконец все затихнет. Тогда и они за обычную работу примутся. Без мышей да без моли одним людям не под силу было бы справиться со всем тем лежалым и ненужным, что незаметно накапливается вокруг них долгими годами.
17
Из труб узорчатых над золотыми кровлями, украшенными башенками, орлами, единорогами и львами, дым валит. Но дворце все баенки затопили.
Всем от мала до велика охота перед праздником в тепло парной баенке помыться. Накануне, перед тем как топить, день целый в большие чаны липовыми бадьями воду таскали. С раннего утра в медных тазах щелок из березовой воды разводили, веники, из подгородных деревень крестьянами навезенные, в горячей воде отпаривали.
Ждут не дождутся царевны, когда их мамушки в баенку позовут. Словно на веселье, туда собираются.
У Дарьи Силишны давно весь мыльный наряд для царевны ее припасен. Из кипарисового сундука достала мама простыню полотна тверского для обтиранья, рубаху белую тонкую, чулки тафтяные на белке, чтобы царевна после жаркой баенки себе ножки не застудила. Припасено и опахальце тафтяное на случай, ежели Федосьюшка от жары сомлеет.
Все готово. Ничего не забыли, а из баенки, куда то и дело сенных девушек гоняют, день целый все один ответ:
— Обождать надобно.
То натопить не могли, а натопили — угар.
Только после вечернего кушанья попали царевны в баенку. Ступила Федосьюшка голой ногою на мелко нарубленный можжевельник, которым посыпали свинцовый пол в мовной, и всю ее словно обожгло.
Постарались бабы-мовницы. Каменку докрасна раскалили. От липового чана сорокаведерного с кипятком — пар валит. Федосьюшка на первую возле дверей лавку присела.
— Ой, не пойду. У меня, мамушка, голова слабая.
— Худо ли, что баенка жарко натоплена? Дала бы попарить себя, косточки поразмять, — попробовала, как и всегда, уговаривать Дарья Силишна. Но Федосьюшка только головой трясла.
— К нам сюда иди! — сестрицы ее закричали. А она за лавку обеими руками хватается. Туда, к каменке, к пеклу парному, она ни на шаг, даже к любимым сестрицам, не подвинется.
Привольно всем им без одежд царевниных. Шея высоким, чуть не до ушей, и тесным жемчужным ожерельем не сдавлена, тяжелые вошвы златотканые рук не оттягивают; высокие трехвершковые каблуки ступню не подпирают. По душистому, мелко нарубленному можжевельнику, кипятком до мягкости размоченному, босые ноги опасливо ступают.
— Ай, колко. Вот упаду!
Смеются, визжат, друг друга подталкивают сестрицы.
Уселись на холщовых подушках, набитых травами душистыми, и мамушкам головы подставили. Торопят туго сплетенные, словно кованые, косы расплетать.
— Ах и хорошо же! — с облегчением говорит Марфинька и встряхивает густыми, длинными, ниже колен волосами. — У меня на висках от тугой косы припухло.
— И у меня болит.
— Глянь-ка, мамушка, каково ты мне волосы убираешь, — с укором сказала Катеринушка и, ухватив маму за руку, провела ее пальцами по своему вспухшему виску.
— По-другому под венец волосы не убираются, — оправдывалась мама. — Выбьется волосиночка, тебя же, государыня, люди осудят, да и меня, маму твою, не похвалят. У сестриц на виски погляди. И у них не лучше, чем у тебя.
А сестрицы и думать про виски позабыли. Брызгают друг на дружку холодной водой из липовых шаек, смеются, визжат. Разыгрались, пока мовницы душистое индийское мыло для головного мытья вспенивали. Сразу примолкли, притихли, когда мыльную пену им на голову спустили. Тут уже не до разговоров да смеха. Обеими руками лицо закрывают. Опасаются, как бы им мыло в глаза не попало.
Словно с дитем малым баба-мовница с Федосьюшкой управляется. Трет, мнет, переворачивает, а царевна и не пискнет. От жары да от духовитости, напущенной можжевельником и пахучими травами, у царевны голова затуманилась. «Пускай что хотят, то и делают, только бы поскорей кончали, поскорей бы из баенки отпустили».
Сестрицы, те покрепче Федосьюшки, приказывают мовницам жару поддавать. Чтобы баенка теплопарная до костей пробрала, раскаленную каменку еще квасом поливают. Плеснут — и на время потонет все в белом, обжигающем тело пару.
Все больше и больше потеет слюда на фонарях, все тусклее свет от них.
— Еще малость поддайте, — приказала Евдокеюшка. — Париться пойду.
— И я с тобою! И я! — подхватили сестрицы.
— Ох, нет силушки, — стонет Федосьюшка. — Да чисто уже… Будет…
А мамушка к ней с опахальцем:
— Еще малость потерпела бы. К празднику моешься.
От опахальца чуть легче стало.
Евдокеюшка пошла париться. В этом деле она всегда верховодница. Потянулись за нею и сестрицы.
— Растопися, банюшка, разгорися, сыра каменка! — подпевает Марьюшка.
Мовницы не зевают. Жару и квасом, и яичным пивом поддают.
— Ох, умру, мамушка!
Уже ничего не видит и не слышит Федосьюшка. Шип докрасна разогретой каменки, визг, смех, крики — все смешалось и потонуло в молочном тумане. Белее пены мыла индийского сделалось у царевны лицо. Подхватила Дарья Силишна с мовницами Федосьюшку, под руки в предмылье ее вывела, на скамью, сверху перинки пуха лебяжьего, уложила.
— Кваску попей, — угощала она царевну. — От холодненького отойдешь.
Но Федосьюшка, не открывая глаз, только покрепче губы сжала.
Испугалась мамушка. Уж не сглазил ли кто ее хоженую? Наговорного как-нибудь не попало ли? До греха долго ли? Баенка — место опасное.
Крестит со всех четырех сторон мама Федосьюшку.
— Крест на мне, крест у меня, крест надо мною, крестом ограждаю, крестом дьявола побеждаю от стен четырех, от углов четырех. Здесь тебе, окаянный, ни чести, ни места, всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь.
Чует Федосьюшка тревогу мамушкину и, себя перемогая, шепчет:
— Получше мне стало. От жары сомлела…
А мамушка свое твердит:
— Человеку от баенки польза одна, а от лиходея в пору оборониться надобно. Время упустишь — назад не воротишь.
Не спорит Федосьюшка. Хорошо ей, на пуху лебяжьем полеживая, сестриц поджидать. Пускай мама что хочет, то и делает. От ее теплых пухлых рук, от шепота ласкового береженьем на Федосьюшку, словно от опахальца прохладой, веет.
Одна за другой из баенки в предмылье потянулись сестрицы.
Спасибо вам, мамушки, На пару, на баенке, На мягком веничке, —припевает, как клюква, красная, Марьюшка. Раскрасневшиеся, распаренные, все лоснящиеся царевны, одна за другой, валятся в изнеможении на лебяжьи перинки, положенные на лавки.
Полежали, отдышались и веселую возню подняли. Начала Катеринушка. Скатанным рушником в Марьюшку запустила. Та в долгу не осталась. Поднялись все сестрицы: кто за Марьюшку, а кто за Катеринушку. Залетали рушники, ширинки, пояса. Марьюшка лебяжьего пуха изголовьице у себя из-под головы выдернула, хотела им в широкую спину Евдокеюшки запустить, да промахнулась. У мамы ковш с квасом холодным из рук вышибла. Мама только ахнула, сенные девушки визг подняли, а царевнам любо. Развеселились, словно котята выспавшиеся. Наигрались, приустали и опять на перинках растянулись, о праздничном переговариваются:
— У батюшки, сказывают, мехов да парчи заготовлено!
— Царица ноне зарукавьями да ожерельями нас дарить собралась…
— А я слыхала, будто государыня тётка Ирина Михайловна все зеркала свои раздарить хочет…
— Неужто правда? Кто тебе сказывал, Марфинька? Вот хорошо, кабы подарила!
Взволновались царевны, радуются, но не до конца верят. Не первый год тетка им зеркала обещает, а как придет время расстаться с ними, решиться не может.
А зеркала у нее!
Таких, как у Ирины Михайловны, у самой царицы нет. Все в каменьях самоцветных, в оправах золотых и серебряных, с прорезью травною да цветочною. Отец с матерью, да и дед патриарх Филарет Никитич с бабкою инокинею Марфою — все красавицу царевну драгоценными зеркалами дарили. Пока молода была, любила Ирина Михайловна на красоту свою поглядеть. То у одного, то у другого зеркала, тафтяную занавесочку раздернув, подолгу царевна стаивала.
Но пришел день, когда она все зеркала сразу в один большой кованый ларец убрать приказала. Много лет схороненные зеркала те под спудом лежали, а на днях царевна их достать приказала. Выбрала шесть самых лучших и велела их почистить.
— Каждой из нас по зеркалу готовит, — объяснила Марфинька.
— Ох и наряжусь же я в праздник. Будет на что в новое зеркало поглядеть, — сказала Катеринушка.
— И я наряжусь.
— И я!
— Все нарядимся!
— В сочельник в шубках бархата веницийского с батюшкой за стол сядем.
— Ко всенощной шубки наденем, а из церкви прямо в столовый царицын покой пойдем.
— Сребротканые летники в день Рождества обновим…
— Цепочками, крестиками, монистами уберемся…
— Белил да румян на торгу накуплено…
— В ароматники с аптекарского двора всяких ароматов добыто…
— Сурьмы хватит ли?
Перебивают друг друга сестрицы. Глаза у всех блестят. Голоса веселые.
— А на вас, принаряженных, кто любоваться-то станет? — громко, на все предмылье, спросила до той поры молчавшая Софья.
Оторопели сестрицы от вопроса нежданного. Катеринушка руку с костяным гребнем, бирюзой украшенным, на колени уронила. Марьюшка концы белого головного плата из пальцев выпустила.
— А батюшка, а братцы?.. — неуверенно и робко напомнила Федосьюшка.
Покосилась на нее Софья. Усмехнулась. Всех сестер оглядела царевна. Жалкими они ей показались. Лица, в баенке от притираний отмытые, помолодели, почти детскими сделались, и все до одной царевны ресницами моргают. Дети, когда их среди игры испугают, так делают.
«Несмышленыши!»— подумала царевна и усмехнулась печально.
А Марфинька, к ней наклонившись, шепнула:
— Не смущай их, Софьюшка.
Трудно бывало царевне с собою справляться, когда вдруг нее закипало у нее на душе. Как заговорили о празднике, не наряды, а катанье в санях расписных ей на ум пришло. На конях лихих, по снегу скрипучему, с бубенцами звонкими промчаться ей захотелось. Пускай бы метелица в лицо хлопьями забивала, бобровая шапка в снегу искристом индевела. Пускай бы народ московский на красоту, в терему схороненную, дивовался. Пускай бы люди вслед говорили:
— Вот Софья-царевна в санях катит. Нет ее пригожее да умнее в теремах царских.
Как птице дикой, когда ей крылья опутают, царевне биться, кричать захотелось. Пускай бы с ней вместе заметались, забились и закричали другие, любимые. Все было бы лучше, чем это житье заживо погребенных. Слова гнева, веками накопленного, у царевны на губах были, но опять разглядела она перед собою детские испуганные глаза с ресницами моргающими.
«Ежели скажу все, что думаю, еще пуще сестриц опечалю», — мелькнуло у нее в голове.
Стиснув губы, Софья круто повернулась к давно ожидавшей ее мамушке и склонила голову, чтобы та могла накинуть на нее летник.
18
Тихо и торжественно, словно с самого звездного неба, спустился на землю сочельник.
Была еще темная ночь, когда царь Алексей Михайлович уже поднялся с постели и прошел для умыванья в свою мыленку, а оттуда в Крестовую для утренней молитвы. Помолившись в Крестовой, он оделся для своего обычного в этот день «тайного выхода» и вышел из Кремлевского дворца на улицу.
Молчали колокола кремлевских церквей. В этот день «тайного выхода» не полагалось провожать царя колокольным звоном.
Словно упавшие на землю звезды, засветились вдоль улицы огоньки слюдяных фонарей. За огоньками-звездочками шел царь.
Темно еще было, но на пути царя собралось все, что было скорбного, убогого и нищего не только в самой Москве, но и во всех ее пригородах и деревнях. Отовсюду тянулись руки к медленно проходившему по улице царю. Ни одна протянутая рука не оставалась без подаяния. Каждого просящего оделил царь из мешков, которые несли за ним подьячие. Каждый из царских рук получил разговенье к Великому празднику.
Но самые несчастные во всей Москве не могли выйти на улицу к проходу царскому. Крепко держали их тюрьмы своими решетками, засовами, замками и цепями железными. Неволей и муками выкупали тюремные сидельцы свои грехи. Были между ними и такие, от которых даже свои близкие отказались. Родные позабыли. Сидели несчастные, всеми забытые, долгие годы не видели ни солнышка, ни звезд, ни снегу белого, ни зелени весенней. Ни праздника, ни будней у них не было, одна темнота и мука.
Вот к этим-то несчастным из несчастных и собрался царь в Сочельник.
— Царь идет! Царь идет! — проносилось по тюрьмам. Гремели засовы, распахивались двери тяжелые. Огоньки-звездочки слюдяных фонарей заглядывали к тюремным сидельцам. А в дверях сам царь. Стоит, опираясь на свой посох индийский, и горит его золотая шапка, каменьями изукрашенная.
— Батюшка наш! Вспомнил для великого праздники Христова.
Опустели мешки у подьячих. Назад в Кремль повернул Алексей Михайлович. Тяжело опираясь на посох, медленно поднялся он по крыльцовым ступеням, усыпанным белым песком с Воробьевых гор. Устал он. Ноги отяжелели от непривычной ходьбы. Душа устала. Много горя перевидал он за эти часы.
А всем ли помог? Всех ли, как надо, оделил?
«По мере сил наделил. По мере сил», — успокаивал себя Алексей Михайлович, но тревожно было у него на душе.
— Прибавить казны для раздачи нищей братии у Красных ворот да на Лобном месте, — сказал он подьячим, задержавшись у распахнутой перед ним дверью.
Когда стемнело, в шубе серебряной, в Мономаховой, каменьями украшенной шапке, опираясь на золотой посох, ко всенощной в Успенский собор государь прошел.
Пораздвинув тафтяные занавески, глядели царевны из окошек, как по кремлевскому двору царь-батюшка с братцем Федором, боярами окруженные, в собор проходили.
Рынды, все в белом, впереди шли. За плечами у них топоры серебряные, в руках фонари в оправе серебряной. Ими они царский путь освещали.
Дрожали, искрились на небе далеком золотые звезды вековечные, великое чудо первой ночи рождественской вспоминая.
— Может, вот та, что голубым отливает, в Вифлеемские ясли заглядывала, а Он, Младенчиком новорожденным, на соломе лежал, — сказала тихонько Федосьюшка Марфиньке, сидевшей с нею рядом.
Но в эту минуту вовсю гудели и кремлевские, и все московские колокола. Не расслышала Марфинька слов сестриных. Федосьюшке повторить пришлось.
— Может, эта, а может, и другая какая в ясли заглядывала, — задумчиво проговорила ей в ответ Марфинька.
— Гляньте, сестрицы-голубушки, на звезду, что над Иваном Великим зажглась, — почти крикнула Марьюшка. — Вот звезда Вифлеемская.
Не хочется царевнам от неба звездного отрываться, а время в церковь идти.
Пошли.
Идут сенями, ходами-переходами в тесный тайничок, за навеской тяжелой от церкви отгороженный. Усердно, с коленопреклонениями частыми, не жалея шубок бархата веницийского, царевны молятся, и, когда раздается «Христос рождается», от радости нахлынувшей тесно сердцу в груди становится. Хочется, запону откинув, со святою песнею из тесноты на простор выйти, туда, под золотые звезды, которые Спасителя в яслях видели. Под небом бескрайним землю родную из конца в конец обойти потянуло.
Из церкви пошли. Ходы-переходы и сенцы теснее, чем были, кажутся. Ступени на лесенках словно круче сделались.
В Столовом покое царицыном царевны-сестрицы вместе с Натальей Кирилловной, царевичем Иваном и маленьким Петром дожидаются царя из собора Успенского. Здесь же Ирина Михайловна с сестрами.
Тяжелое золоченое паникадило сотнями восковых свечей освещает стол, накрытый к вечернему кушанью. На скатерти браной, с лосями среди леса на ней вышитыми, кроме тарелок, двузубых золоченых вилок, ножей и ложек по краям да перечницы с солоницей и уксусницей на середине стола, ничего больше не поставлено, но в соседнем покое кормовой поставец и столы заставлены всякой снедью.
Ни у кого, кроме самого младшего — Петрушеньки, до самого вечера ничего во рту не было, и все поглядывают с нетерпением на двери.
Вот из дальних покоев послышалось молитвенное пение. Встрепенулись все. Прислушиваются. Царь из церкви пришел. С ним патриарх с первым славленьем по дворцу идет.
Смолкло пенье. Государь с наследником в палату вошел. Забегали малолетние стольники с золочеными и серебряными блюдами. Боярыни кравчие, торжественные и безмолвные, к столу, порядок держать, подошли. С каждым блюдом стольники к старшей царицыной боярыне подходят. Она первая каждое кушанье отведывает. В соседнем покое, где на кормовой поставец все заготовленное в поварне ставят, старший царский стольник кушанье пробует. На себе пытает, нет ли в государевом кушанье порчи либо отравы какой. Боярыня, на глазах самого царя, уже поверку делает.
Молчат все. Голод утоляя, двузубыми золочеными вилками и ложками с витыми ручками только постукивают. Икры осетровой, уксусом, перцем и мелко накрошенным луком приправленной, всласть поели и за пироги принялись. Для праздника всем, что только разве во сне увидать можно, их начинили. Всего перепробовать — с места не встанешь. Из пирогов каждый только свои любимые выбирает. Так и с кушаньями. Больше семидесяти блюд в поварне приготовлено, и почитай что все на подачи боярам и боярыням пошло. Прямо от царского поставца стольники верховым блюда во двор выносили, и те мчались с почестью царскою по московским улицам к указанным боярским дворам.
Умиленный святым днем, с раннего утра растроганный видом несчастных, царь особенно хотел радовать близких и дальних. Внимательный ко всем, он старался каждому выбрать кушанье по вкусу. Наталья Кирилловна помогала мужу. Напомнила, что отец ее охотник до рыбного каравая — тертой рыбы, смешанной с мукой и пряностями и облитой ореховым маслом. Для Артамона Сергеевича она же указала на икряные блины.
— Спасибо тебе, Натальюшка, помощница ты мне, улыбаясь, — поблагодарил жену Алексей Михайлович. — И разумница, — совсем уже тихо прибавил он, когда Натальи Кирилловна помянула про подачу Милославскому, родственнику покойной царицы Марии Ильиничны.
У всех царевен от радости, что не забыт их дядя любимый, светлее лица сделались. Показалось Наталье Кирилловне, что даже Софья поласковее, чем всегда, в ее сторону поглядела. Не слыхала царица, как царевна, к тарелке с пшеничной кутьей наклонившись, верному своему другу Марфиньке шепнула:
— Хитра больно мачеха стала.
Но, когда царевна опять подняла голову, лицо ее не нарушило тишины святого вечера. Да никто в эту минуту и не смотрел на нее. Все занялись Петрушенькой. Мальчик вскочил со своего места и бросился к отцу с криком:
— Батюшка, дозволь для праздника самоедским людишкам меня по Москве-реке на оленях покатать!
— Холодно на льду, сыночек. Ноженьки, ручки застудишь, — попробовала унять царевича Наталья Кирилловна. — Помоги мне сыночка уговорить, крестная, — обратилась она к Ирине Михайловне, сидевшей рядом с царем.
— Слово родительское для детей закон, — уклончиво и, как всегда, сурово отозвалась старая царевна.
— Петрушеньке я к празднику перстчатые рукавички заготовила, — вмешалась в разговор Софья. — Завтра братцу подарок отдам. Соболем для тепла я те рукавицы подпушить приказала.
Поблагодарила Наталья Кирилловна падчерицу.
— Тепло тебе, сынок, в сестрицыных рукавичках будет, — так она громко сказала, а про себя подумала, что никогда те Софьюшкины рукавички Петрушенькиных пальчиков не увидают.
Как бы вместе с теплом худо какое от подарка в царевичи не пробралось. Материнское сердце-вещун остерегаться падчерицы наказывает.
Но царь, по своей доброте и бесхитростности, того, что за словами, взглядами и улыбками притаилось, — не чует.
Радостен и весел он среди своей семьи любимой в этот последний в своей жизни Сочельник. Кажется ему, что все им любимые любят друг друга, что последняя вражда потонула в безмерной радости вечера звезды Вифлеемской.
19
К Васильеву вечеру праздник из покоев царя, царицы и царевичей к царевнам перешел. Там позатихло, а в девичьих теремах, как и по всем московским теремам, веселье началось.
С утра мамушки своим хоженым все для гаданья наладили. Петуха отборного в чулан заперли: голодная птица девиц не томит, сразу к зерновым кучкам бросается. Олово для литья припасено, чаша серебряная, куда перстеньки в воду опускают, плат белый. Чуть смерклось, в просторных царевниных сенях, в золоченых шандалах зажгли все восковые свечи, золотом для праздника перевитые. Вдоль стен выстроились игрицы-песенницы и хороводницы, все в приволоках — атласных накидках цвета голубого, красного, рудо-желтого и брусничного.
На качели, подвешенные к потолку на веревках, обшитых бархатом, положены красные атласные подушки, набитые пухом лебяжьим.
Одна за другой, окруженные мамами, боярышнями, карлицами и шутихами, каждая из своих дверей выходят в сени царевны. Веселой святочной песней встречают их песенницы:
Овсень пришел, Овсень прикатил, Он повесил кафтан На воротный столб.Кто такой этот таинственный Овсень, про то никто не знает. Из времен стародавних языческих донеслось это слово, к веселью святочных вечеров призывное.
Евдокеюшкина мама, в молодости хороводница и песенница известная, знает всех лучше, как вечер Васильев справлять. Ничего она из старины не упустит, ничего не забудет.
После первой песни, долго не мешкая, песенница на другую, еще веселее той, что спели, наладила:
Как в средине Москвы Все ворота красны, Верхи все пестры. Ой Овсень, ой Овсень! Походи, погуляй По святым вечерам, По веселым теремам. Ой Овсень, ой Овсень! Посмотри, погляди, Ты взойди, посети К государю царю-батюшке. Ой Овсень, ой Овсень! Посмотрел, поглядел К государю во двор…Закачались алым бархатом обитые качели.
— Выше, выше! — приказывает сенным девушкам Марьюшка, а сама золотым венцом чуть о низкосводчатый потолок не стукается.
— Ой, потише! — вскрикивает Катеринушка. — Забыли, видно, что качели не в саду измайловском.
Из всех боковушек и покойчиков, битком набитых, по случаю праздника, всякими пришлыми и приезжими, словно тараканы из щелей, ползут к сеням девицы, молодушки и старухи старые — все родня да знакомые верховой челяди. За чугунной решеткой, что отгораживает сени с выходного конца, притаилась в полутьме толпа любопытных. Сюда же пробрались и монашенки из Псковской обители, с праздником царицу и царевен поздравить приехавшие. Не к месту в вечер Васильев веселый их одежды печальные, а поглядеть на веселье и им хочется.
— Эта, что орехами да пряниками оделяет, которая из царевен-то будет? — шепчет одна старуха другой.
— Царевна Софья Алексеевна, — отвечает одна из монахинь. — Нынче, как мы ее с праздником здравствовали, она нам из своих рук Евангелие рукописное для церкви пожаловала. Сказывают, до последней буковки все сама переписала. Заставицы узорами вывела, золотом да красками все расписала.
— Умудрит же Господь! — умилилась старушка. — Девиц, чтение разумеющих, и то с огнем поискать, а царевна и писание одолела. Чудо чудное, диво дивное!
— Красавицами да разумницами наделил Господь царя-батюшку.
Перешептываются между собою старухи и монахини, хороводницы тем временем в шумном хороводе «заиньку» ловят. Заинька — Орька. К празднику ей сшили сарафан из крашенины лазоревой, оторочили мишурным серебряным кружевом, оловянными пуговицами украсили. Стоит Орька среди круга из девичьих, плотно сомкнутых рук, зоркими глазами лазейку себе выглядывает, а сама, песне послушная, перебирает ногами, для праздника в чеботки сафьяновые обутыми.
Заинька серенький, попляши, Горностаинька беленький, поскачи…Вспомнилось Орьке, как она в Гречулях по зеленой мураве босыми ногами отплясывала. В чеботках красных на полу кирпича дубового еще ловчее. Тогда на нее свои, деревенские, дивовались. Теперь пускай царевны, боярыни да боярышни поглядят. Заиграли у Орьки все жилочки, заплясали все косточки. Над головою, алой повязкой украшенной, ширинкой узорчатой высоко она взмахнула и по кругу, пестрыми девичьими уборами расцвеченному, павой поплыла.
Царевны к самому кругу придвинулись, за ними боярыни, боярышни.
— Ну и плясунья! Вот так заинька! Ах ты, горностаинька!
Слышит Орька, как ее хвалят, сама чует, что ладно у нее выходит, и еще пуще старается.
— Ох, да и кто же это так здорово пляшет?
— Царевны Федосьи Алексеевны девчонка…
— Орька-девчонка! Неужто она?
— Вот так плясунья!
— Крепче за рукав прихвати меня, Марьюшка, — просит сестрицу Катеринушка, — не то сама я в круг прорвусь. Запляшу!
— А я за тобою.
— Нам, царевнам, на людях и петь, и плясать строго настрого заказано…
В самую пору поняла Евдокеюшкина мамушка, что время заправить игру так, как ей идти полагается. Шепнула старшей песеннице, и напев из плясового сразу перешел в жалостный:
Некуда заиньке выскочити, Некуда серому выпрыгнути…Соболем Орька через девичий круг перемахнула. Взвизгнули зазевавшиеся девушки, руки уронили, в сторону ускакавшего зайки поглядеть обернулись и еще громче завизжали, увидев, как горностайка с расскока прямо на царя с царицею налетел. Хорошо, что Артамон Сергеевич поспел вовремя девчонку за плечи ухватить: без него она бы кого-нибудь с ног сшибла.
У Орьки от страха словно сразу черным глаза занавесило. Крылечко резное на проезжей богомольной дороге в памяти встало, пряничные рыбки на ступеньках, безумный бег по меже во ржи созревшей.
«Теперь куда броситься? И что будет? Что будет?»
Замирая от страха, Орька приподняла опущенную голову и увидала над собою ласково улыбающееся лицо Алексея Михайловича.
— Это кто же такая будет? — спросил царь.
— Царевны Федосьи Алексеевны девчонка…
В миг единый умелые боярыни прыткую девчонку собою заслонили и к стене отодвинули. По свободному проходу царевны батюшке навстречу заспешили.
— На ваше девичье веселье поглядеть захотел, — сказал царь.
Бесшумно и ловко сенные девушки обитые бархатом кресла царю и царице поставили. Царевны-тетки из своих покоев в сени пожаловали. Анна Михайловна с Татьяной Михайловной, кабы их воля была, давно бы к племянницам вышли, да царевна Ирина их без себя не отпускала. Заждались обе Михайловны, в большой наряд принаряженные, пока оповестила их старшая, что идти время.
Ирине Михайловне рядом с царем кресло поставили. Анна с Татьяной возле царицы сели.
— Что это братцы на веселье наше девичье и поглядеть не хотят? — удивляются царевны.
— Братцы с гор кататься ушли, — им царь отвечает. — Повеселее это будет, чем в сенях забавляться.
Пошутить хотел Алексей Михайлович, но шутка не к месту пришлась. Сам первый он это понял, и не по себе ему стало. Затворниц, дочерей и сестер, он всегда жалел, находил, что время им всем побольше свободы дать, но ломка старых порядков пугала его. «С Ириной одной горя натерпишься. Да и с народом не сразу справишься», — так рассуждал он, вспоминая, сколько ропота было, когда Наталья Кирилловна по Москве в открытой колымаге проехала. Нет, не ему, мягкосердому и жизнью уже утомленному, старый порядок рушить. Другой, покрепче его, за это дело примется.
— Батюшка, дозволь и нам на санках!
Кто, кроме Софьюшки, такие слова выговорит?
Она начала, а за нею и все:
— С гор скатных, батюшка, дозволь покататься!
Ряженые царя выручили. Веселой гурьбой, с бубенцами, сопелями, дудками в сени ввалились. Здесь и поводырь, и коза, и медведь с медвежонком. За ними скоморохов толпа. Заплясала коза, затопотали, зарявкали медведи, оглушили скоморохи музыкой своей скоморошьей.
— Ряженые-то кто? В девичий терем поводыря да скоморохов кто пропустил?
Волнуются мамы. Заметались боярыни верховые. Одна к Матвееву сунулась:
— Гнать либо не гнать? Ума не приложим. Присоветуй, что делать, боярин?
А Матвеев боярыне:
— Гони!
Напустились мамы на ряженых. Ряженые от мамушек хоронятся. Медвежонок так по полу и катается, по-звериному рявкает, всех за ноги хватает, от мамушек увертывается. Рады царевны шуму-гаму нежданному. Давно разобрали они, что поводырь — братец Федор Алексеевич, что медведь — Иванушка, скоморохи — их же шутихи с карлицами наряженные. Медвежонок кто — разобрать не могут. Ухватила его Катеринушка, а он ее да зубами. Ахнула царевна медвежонка и выпустила.
— Да уж не Петрушенька ли медвежонок-то?
— Петрушенька наш давно в постельке своей под пологом спущенным почивает, — ответила, улыбаясь, Наталья Кирилловна.
Свои же ряженые медвежонка выдали. Медведь большой — Федор Алексеевич от жары сам умаялся и, за меньшого братца опасаясь, ухватив медвежоночка, прямо его к батюшке на колени принес.
— Полно тебе, Петрушенька! Жарко. — И сдвинув большой воротник вывороченной шубы, Федор Алексеевич открыл потное и красное лицо маленького царевича.
— Со мной посиди малость, — сказал Алексей Михайлович, ухватив покрепче сынка. А Наталья Кирилловна ширинкой по его вспотевшему лицу провела, сбившиеся кудри мальчику пригладила.
— Песни послушаем.
Под песню незаметно, как и вошли, уходят царь с царицей, а девичье святочное веселье своим чередом идет. Все, что для разгадыванья судьбы требуется, умелые и услужливые мамушки в сени поставили. Из чаши, белым платом накрытой, под песню подблюдную, царевны, одна за другой, колечки вынимают.
Слава Богу не тебе, Слава! Государю нашему на сей земле, Слава!Под эту первую, для начала гаданья песню положенную, Евдокеюшкино колечко вынулось.
Растворю я квашонку на донышке; Слава! Я покрою квашонку черным соболем, Слава! Опояшу квашонку ясным золотом, Слава! Я поставлю квашонку на столбичке, Слава!..— Больше песен про нас, царевен, как будто и нет, — шепчет Софьюшка Марфиньке. — В других все про суженых да про сватанье поется. Замуж нам не идти.
— Неужто для нас и судьбы нет! — возмутилась вдруг Марфинька.
Под пенье, как они с Софьюшкой перешептываются, никому не слышно.
Шла щука из Нова-города, Слава! Она хвост волокла из Бела-озера, Слава! Как на щуке чешуйка серебряная, Слава! Что серебряная, позолоченная, Слава! А голова у щуки унизанная. Слава!Оборвалась песня. Мамушка Марфиньке кольцо подала.
Не поглядев, надела его на палец царевна и, наклонившись к Софьюшке, шепнула:
— Нынче я в зеркало, сестрица, глядеть стану. Сенцами мовными проводишь ли меня в баенку?
— Проводить провожу, — ей Софья ответила, — а только лучше бы тебе, сестрица, в баенку не ходить. Симеон Полоцкий сказывал…
— Слышать про учителя твоего не хочу, — оборвала Марфа Алексеевна. — Гаданье в зеркале из всех гаданий гаданье. Только до дверей баенки проводи меня, Софья.
Мовными сенцами неосвещенными крадутся Марфинька с Софьюшкой. Под дверьми мыленки полоса светится. Мамушка Марфиньке для гаданья все приготовила и свет оставила.
Остановились у дверей царевны.
— Боязно мне, — шепчет Марфинька.
— Давай я первая погадаю, — вырвалось, неожиданно для нее самой, у Софьи.
В гаданье она не верит, верит Симеону Полоцкому, который говорит, что все волхвования вздор один, а в темных мовных сенцах перед баенкой захотелось ей вдруг свою судьбу испытать.
Обрадовалась Марфинька.
— Иди, Софьюшка. Я обожду. — Второй идти не так жутко, как первой, ей показалось. — Только у дверей мне стоять не приходится. Гаданью от этого вред. Мал время спустя, приду я за тобою, сестрица. — Сказала это Марфинька и торопливо ушла. Софья одна осталась.
Слюдяной фонарь на стене освещает знакомое предмылье с лавками вдоль стен и столом посередине. Как и тогда, когда в баенке перед праздником царевны мылись, стол красным сукном накрыт, только на сукне не стряпня мовная, а зеркало в оправе серебряной. По сторонам его серебряные шандалы со свечами зажженными.
Смела царевна Софья, а тут и на нее нежданная жуть напала. За спиной — сенцы темные, прямо перед нею — закрытая дверь в темную баенку. Что-то теперь там, возле каменки холодной, в темноте делается? Словно от набежавшего холода, передернула плечами царевна. Невольно в угол передний глянула. Нет на привычном месте образа Пречистой. Мамушка, к страшному гаданью все припасая, образ, как водится, убрала. Растерялась Софья. Страшно ей, а оборониться от страха нечем. Назад к себе в терем бежать совестно, да и не хочется. В час полуночный, в затишье пустой баенки, все, во что веками верили теремные затворницы, ближе всяких мудрых слов учительских царевне вдруг стало.
«Загляну в зеркало, авось мне что и откроется».
С этой мыслью села царевна на стул разгибной, перед столом поставленный. Разглядела возле зеркала соли щепотку на тарелке и кусочек хлеба с нею рядом и громко и явственно сказала:
— Тот, с кем мне век вековать, хлеба-соли откушать ко мне приходи. — Сказала, и словно кто невидимый в пустой баенке за дверью, плотно запертой, возле самой каменки ей в ответ стукнул.
Немигающим взглядом глядит перед собою царевна, а из зеркала, тоже не мигая, большими темными глазами она же сама на себя смотрит. Новым, доселе не виданным в этот час полуночный царевне лицо ее кажется. Страх одолевая, разглядывает она себя в зеркало. «Орлицей» часто ее в терему называют. И впрямь орлиному подобен взгляд ее темных, зарницами блистающих глаз. Волосы густые, курчавые из-под золотного венца выбились.
С венцом девическим неужто ей, царевне, свой век свековать? А только и кика замужняя с рясами жемчужными вряд ли ей, орлице, красы прибавит. Корона орлу, как на гербе российском, пристала.
Привычным движением откинула голову Софья. Прямо в алмаз посередине венца вправленный, свет из серебряных шандалов ударил, искрами золото опоясал. В золоте, вокруг головы сверкающем, царевна из зеркала на ту, что у стола сидит, глянула.
— Корона!.. Корона государская… — шепчет пересохшими губами в восторге царевна. Вся вперед, поближе к зеркалу подалась. Сразу алмаз потух, искры погасли. За плечами Софьи в зеркале кто-то черный недвижимый вдруг встал.
Стукнули о раму серебряную перстни царевнины, похолодевшими пальцами стиснула зеркало Софья, а на нее из-за оплечья, золотом и каменьями расшитого, старушечье лицо в черном монашеском куколе испуганными глазами глядит.
На всю баенку, на все сенцы мовные крикнула Софья. Зеркало, сильными руками отброшенное, на полу в осколках лежит.
Опомнилась: старушка-монахиня ей в лицо водою брызгает, тугое ожерелье на шее расстегивает.
— Ох и не чаяла я, государыня, на тебя напасть. Мимо шла, вижу, под дверьми светится. Думала, праздничным временем в баенке огонь загасить позабыли. Пожара я, старая, побоялась, и вышло так, что тебя, государыню, глупостью своею старушечьей напугала. Простишь ли? Смилуйся, не до конца на меня прогневайся.
В землю старуха кланяется, слезами плачет, сама трясется.
— На покой, старая, обеим нам давно пора, — овладев собою, но все еще даже и под румянами бледная выговорила наконец Софья. — О том, что здесь было, ты помалкивай. Сболтнешь лишнее — на себя пеняй.
Съежилась и замерла старуха под грозным царевниным взглядом, а Софья ей:
— Ступай!
Со всех ног по сенцам старая припустилась. Рада, что дешево отделалась. Давно бы ей на перине под заячьей шубой полеживать. И чего сунулась? В царском терему порядки наводить собралась. Никто, как лукавый, на это дело ее подбил. На святках нечисть всякие шутки над человеком строит.
В конце мовных сенец Марфинька сестрицу дожидалась.
— Что видела? Сказывай, Софьюшка, да поскорее. Время и мне в баенку идти.
— Не ходи, сестрица. Того, что я увидала, на обеих нас хватит.
Шепотом рассказала Софьюшка все, что с нею в баенке приключилось. Перед сестрицею, другом сердечным, испуга своего не скрыла.
— И посейчас не отошла еще, — призналась она, — черный куколь так в глазах и стоит.
— Да ведь сама говоришь: живую монашку в зеркале увидала, — успокаивала ее Марфинька.
— Куколь черный вечером Васильевым в зеркале мне привиделся, — упрямо и мрачно повторила царевна.
Крепко за плечи обняла Марфинька сестрицу свою любимую. Из темных мовных сенец вышли они вдвоем в большие сени, где вечером веселились царевны. От слюдяных фонарей здесь светло только по концам, где они горели, было. В середине полутьма стояла. Гулко по дубовому кирпичу застучали высокие каблучки девичьих чеботков. Теснее друг к другу, жутью охваченные, прижались сестры. У резных тяжелых дверей перед расставаньем они позадержались.
— На всю жизнь подружкой в счастье и в горе будешь ли мне, Марфинька? — спросила смущенная тяжелым предчувствием Софья и глубоко заглянула в сестрицыны глаза.
— С тобою всегда, до самой смерти, — приникнув к Софьюшке, шепнула ей в ответ Марфинька.
20
Все царевны в Васильев вечер судьбу разгадывали, но ни единой та беда, что черной тучей на терема надвигалась, ничем не открылась.
Царевич Федор разнемогся на другой же день после своего ряженья. Он часто прихварывал, недомоганье его давно уже привычным сделалось и на этот раз во дворце никого особенно не всполошило. Мама, Анна Петровна Хитрово, окурила недужного травами наговорными, напоила его настоем камня безуйного, а когда это не помогло, решила, что вся болезнь от простуды приключилась: вспотел царевич под шкурой медвежьей — только и всего, а от застуды лекарство известное: приказала мама баенку пожарче вытопить, жаром да паром принялась боль выгонять. А только плохо помогла царевичу баенка теплопарная. Прямо с полка, чуть что не замертво, принесли его в опочивальню. Рудометница тут же сразу ему жильную кровь отворила. И это не помогло. Наутро мама не узнала своего царевича: пожелтел и опух весь Федор Алексеевич. Тогда поднялась во дворце тревога.
Алексей Михайлович, с верным другом своим Матвеевым посоветовавшись, к наследнику лекарей иноземцев — Костериуса да Стефана Симона послал. Оба грека по-русски не говорили. Переводчик, грек Спафарий, за них объяснялся и слова царевичевы как умел, так лекарям и толковал.
— Ох, недоброе сердце чует, — с тоской жаловался Алексей Михайлович Матвееву.
Каждый день Артамон Сергеевич заходил перед сном в опочивальню царскую.
Тогда высылались из покоя все приближенные, и государь с боярином часто подолгу душевно беседовали между собою.
Так и теперь зашел Матвеев к царю, когда тот уже в постель лег.
Постель в опочивальне Теремного дворца
— Лекаря заверяют, что опасной боли у царевича нет, — с тою же тоской, не слушая уговоров боярина, продолжал Алексей Михайлович, — а мне не верится. Отцовское сердце, Сергеич, вещун. Словно коршун когтями острыми мне сердце когтит. Веришь ли, порой от боли дух занимается. Приласкался ко мне нынче Петрушенька, захотелось мне на колени мальчишечку взять — поднять не мог. Так в груди схватило, что чуть криком не закричал. Хорошо, что в ту пору Натальюшка Федорушкой занялась, а то напугал бы я ее.
— Свыше меры ты себя, государь, тревожишь. Полегчало уже царевичу. Не впервой у него это.
— Тем для меня горше, — перебил Матвеева царь. — Забота о царстве предо мною неотступно стоит. На кого покину я престол, Господом Богом мне препорученный?
— Господь дни твои государские продлит еще на многие лета.
В ответ на эти слова Матвеева Алексей Михайлович только безнадежно махнул рукой. Помолчав немного, заговорил еще неспокойнее:
— Каждый человек, а государь тем паче, всякое дело до полного устроения доводить должен. А разве я сделал свое дело великое, дело, выше и труднее которого на земле нет? Крымцы, как и раньше, православные земли пустошат, немцы торговлю захватили… Люди от мучений, голода да бедности на Украйну, в Сибирь бегут… Пристанищ морских у России как не было, так и нет. Думал я на Каспийском море флот завести — кораблей нет. Стенька Разин мой первый корабль, «Орла» моего, пожег…
— Погоди, дай срок. Лучше «Орла» корабль выстроим. Потрудился ты, государь, не мало и еще потрудишься.
— По мере сил трудился я, Сергеич, а теперь и сила ушла. Нового «Орла» не построить… — с мукой вырвалось у царя. — Веришь ли, друг мой сердечный, устал я до того, что всяких начинаний страшусь. Дочерям и сестрам давно бы посвободнее жить надобно. Разве не грех живых людей в теремах, словно мертвецов в могилах, хоронить? Софьюшке-то как тяжко, поди! Родись она царевичем, царством бы управляла. Богатырь телом и духом дочь у меня…
Но Артамон Сергеевич Софьи не любит. Любованье отцовское ею ему неприятно, и он спешит отвести мысли царя на другое.
— Петрушенька чем не богатырь у тебя, государь!
— Мал еще Петрушенька, — не сразу сдается царь, но уже посветлело его лицо. Одно имя любимого сына обрадовало. Матвеев видит это и ловко сводит разговор на царевича.
— Полк из малых ребяток царевич наш собрал, в зеленые кафтанцы всех нарядил, со знаменами, ружьями, барабанцами военному делу мальчонки обучаются…
— В постель с сабелькой, сказывала мне намедни Натальюшка, царевич спать ложится, — подхватывает, весь оживившись, Алексей Михайлович. — А ноне кричит мне: «Командиром, батя, меня сделай. К тебе с докладом всякий день ходить стану…»
Успокоенным, далеко за полночь, оставил царя Матвеев.
— Поправится наследник, и государь в добром здоровье, Натальюшка, будет, — утешал Артамон Сергеевич свою воспитанницу.
Но царице не верилось. Тревога за мужа с самой осени жила в ее душе, но она всеми силами скрывали ее. Служила Наталья Кирилловна частые молебны, подымала иконы чудотворные, в церкви и соборы по ночам молиться ходила. Говорила, что о здравии наследника болящего молитвы творит, а сама думала и молилась о муже, имени его перед людьми не называя.
Тревожились и царевны за брата любимого. С утра раннего, только глаза откроют, так мамушек и выспрашивают:
— Что братец? Дознайтесь, хорошо ли ночью ему спалось? Полегчало ли болезному?
— Опух весь царевич-наследник. Как и прежде, недвижим лежит, — доносят мамушки.
Словно под тучей царевны день целый проводят. Притихли терема, песен не слышно, об играх и думать забыли.
— Братца бы мне повидать. Соскучилась без него, — жалуется Федосьюшка.
А сестрицы ей вторят:
— Ох, соскучились!
Пройти к Федору Алексеевичу им нельзя. Нет такого положенья, чтобы больного царевича сестры навещали. Шепотком, ушам своим не веря, передавали друг другу царевны, что Софья у брата не раз побывала.
Дверь в теремах
Так то — Софья! Для нее препон нету. Что захочет, то и сделает.
— Вот полегчает братцу — сам нас и позовет. Ждать теперь недолго. Полегчало ведь ему, мамушка? — спрашивала Федосьюшка, кутаясь на ночь в одеяло. Она устала тревожиться, устала не спать по ночам. Так захотелось ей уснуть успокоенной.
И мама, поправляя подушки с коей хоженой и затыкая все щелочки пушистым мехом, бормотала привычные молитвенные и ласковые слова:
— На сон грядущий Ангела Хранителя помяни. Заснешь — а он, заступник, к Господу полетит, станет сказывать, как раба Его Федосья день провела, что доброго сделала. Вот и у Пречистой лампадку поправлю… Пускай ярче горит. Светлее будет ангелу к твоему изголовью лететь.
Крепко, без снов, заснула Федосьюшка. Дарьей Силишной до рассвета разбуженная, сразу взять в толк не могла, зачем ее мамушка рано взбуживает. Темно еще. Спалось сладко. К стене лицом отвернулась царевна. Трепыхающийся свет зажженной лучины режет глаза. А мамушка подвела ей под спинку холодную руку и тихонечко царевну с подушек приподняла.
— Вставай, болезная. Горе стряслось!
— Горе!
Царевна уже на постели сидит. Кулачками руки к груди прижала. Глаза сразу огромными сделались.
— Братец… Феденька?.. — Слова в горле остановились.
А мамушка ей:
— Нет, другое…
Шевелит губами царевна, а голоса нет. Схватили пальцами за мамушкину руку, одними глазами молит не томить ее, всю правду поскорее сказать.
— С батюшкой царем худо, — выговорила наконец мамушка и, как перышко, Федосьюшку с постели на руках подняла. — Чеботки, летник поскорей подавай, Орька!
Заметалась, босыми ногами зашлепала девочка.
— В сени сбегай, Орька! Там чего не слыхать ли?
Бросилась девочка к дверям, но Федосьюшка обогнала ее. Застегивая на ходу летник, царевна первая в сени выбежала. Вдогонку за нею мама с теплой душегреей припустилась.
За слюдяными окошками еще ночь черная, а в теремах все на ногах. Хлопают двери тяжелые. Боярыни, боярышни, девушки сенные взад и вперед мечутся. В сенях холод ночной. Тускло горят фонари. Тени от мечущихся женщин по стенам трепыхаются.
Переход в теремах
— Сестрицы! Где вы, сестрицы? — кричит Федосьюшка.
Из покоев полуодетые царевны выбегают.
— Батюшке худо!
— За лекарями послано!
— Без памяти лежит, сказывают…
— Преставился! — покрывая все, пронесся по сеням отчаянный вопль.
С плачем и стоном бросились царевны к чугунной золоченой решетке, что отделяла их сени от проходов в покои царя и царевичей. Чугунная решетка, по ночному времени, на замок заперта.
— Пустите! Отоприте! Царевен пропустите!
А в ответ только тяжелые удаляющиеся шаги слышатся. Испуганная ночная стража, что ей делать не ведая, подальше от теремов отошла.
За холодный чугун еще теплыми после сна пальцами Алексеевны хватаются.
— К батюшке нас пустите! К батюшке!
А в ответ все те же шаги тяжелые, все дальше уходящие.
Подоспели к решетке мамушки с боярынями.
— Куда вы, царевны болезные! Обождите. Самим вам туда идти гоже ли? Ходами боковыми, через двор, постельным крыльцом мы пройдем. Все вам разведаем.
— Отоприте! — не помня себя, кричит Софья. Гулом по сеням голос ее прокатился.
Ухватившись обеими руками, царевна дергает прутья чугунные. Но крепок чугун и для рук ее сильных. Золоченая решетка не дрогнула.
Бледные, дрожащие, в кучку сбились все Алексеевны. Друг дружку за холодные руки хватают, обнимаются, плачут. А за решеткой вдали гудит, шумит, шевелится все громче, все зловещее.
Кто-то, не выдержав, взвизгнул, кто-то заплакал навзрыд.
С ужасом неведомым и смятением справляться дольше сил не хватило.
Тогда отвела Софья от своей шеи охватившие ее руки Федосьюшки.
— Тише, вы! — властно крикнула она, и сразу притихла толпа.
Зорким взглядом наметила царевна лицо посмышленнее.
— Боярыня Ненила Васильевна, тебе поручаю обо всем, что у батюшки содеялось, с толком и разумением дознаться и немедля о том нам, государыням, донести.
Пропала в конце сеней заторопившаяся боярыня.
За слюдяными оконницами ночь посветлела. Чадят фонари нагоревшие, холодом утренним по сеням несет.
Где-то вдали спешные шаги слышны. Кто-то кого-то позвал… Вскрикнул кто-то… Вот опять стихло, но тишина эта самых страшных звуков страшнее.
— Господи, спаси, сохрани! Пронеси беду. Спаси, Господи!
— Никак, боярыня назад идет?
От быстрого бега у тучной боярыни дух занялся.
— Патриарх у государя, — едва выговаривая слова, доносит посланная. — Два лекаря в опочивальне царской. По всему дворцу смятение великое. Царицына постельничья мне в сенях попалась… За Артамоном Сергеичем государыня послала…
— Батюшка родный, светик желанный! — заголосила Катеринушка.
— Что ты? Словно по мертвом, — оборвала ее Софья. — В церковь пойдем, сестрицы. О батюшкином здравии вместе помолимся.
Темные образные лики в озарении лампад неугасимых. Полумрак, холодок и застоявшийся дух ладана в маленькой сенной церковушке.
Жемчуг на образных окладах, на пеленах и покровах, словно слезы давних молений застывшие.
Слезы горячие, живые на щеках и шелковых одеждах царевен.
— Царь небесный, смилуйся! Скорби свыше сил не пошли. Нам, сиротинкам без матери родной, батюшку сохрани. Один он у нас.
Поднялись с колен сестрицы. Друг дружку заплаканными глазами оглядели.
— Софьюшка где же?
— Софьюшка ведает, где ей быть надобно, — так царевна Марфа сестрицам ответила. — А нам время назад в покои идти. По пути к государыням теткам зайдем.
Сказала и первая в сени вышла.
В окошки уже рассвет заглянул.
Над белыми оснеженными крышами встали золотые кресты церковные, восхожим солнышком озаренные.
Оповещая Москву про нежданную скорбь великую, в большой колокол на колокольне Успенского собора ударили.
21
Незаметно из церковушки выскользнув, Софья переходами и потайными ходами в покои братца Федора птицей понеслась. На ходу она душегрею свою теплую сверху не покрытой венцом головы набросила. Рукой выше подбородка полы прихватила. Лица не видать стало, одни глаза выглядывают.
— Пропустите! От государыни царевны Софьи Алексеевны к царевичу-наследнику послана.
Стражи ночные от окрика смелого сторонятся. Мало их на местах осталось. Кто куда, почитай, все разбежались.
Торопится царевна, а в голове так и стучит: «К мамушке братцевой поскорей! Про все у нее дознаюсь. Ей все уже ведомо».
У дверей в покои наследника ни души. Все, как и стража сенная, разбежались. Покоями, тоже опустелыми, в братнину опочивальню пролетела Софья. Дверную ручку кованой меди изо всей силы дернула.
На запоре дверь.
— Пустите! Отомкните! — стучится царевна в дверь дубовую. Ни звука за нею. Словно вымерло все. — Мамушка! Анна Петровна! Пусти, боярыня. Это я, Софья-царевна.
Тихонечко, едва-едва приоткрылась тяжелая дверь, и в щель опасливо выглянуло худое, бледное лицо «постницы» — мамушки Федора Алексеевича.
— Государыня! Тебя ли вижу?
И распахнулась дверь.
— Посылать за тобою сама хотела, да некого. Все разбежались. Так-то оно и лучше, что сама пожаловала. — Остановилась мама, помолчала, словно собираясь с силами. Потом впилась в лицо Софьи своим острым пронизывающим взглядом и сказала о том, что саму ее ужасом и тревогой переполнило:
— Государь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя Руси Самодержец, ноне в пятом часу преставился.
Рухнула на лавку царевна.
Еще острее взгляд мамы сделался. Не пошевелилась она, к простертой на лавке царевне не бросилась. Ни слова не говоря, ждала того важного и страшного, чему сейчас решиться надлежало.
Умна и прозорлива была Анна Петровна Хитрово. Одна из всех приближенных Марии Ильиничны Милославской при Нарышкиной она уцелела. Удержалась непрестанной болезнью наследника, а главное, своим уменьем со всеми ладить. Никто не мог понять во дворце, как она, царевнам угодная, к Наталье Кирилловне подошла. Да и как еще подошла! За крестинным столом царевича Петра Анна Петровна чуть что не на первом месте сидела. Верили ей и царевны, и все Милославские, верила и Наталья Кирилловна. В царских теремах что хотела, то и делала ловкая мамушка: кого припугнет, кого обойдет, кого обманет, но всех одинаково проведет, а сама из воды, ею же замутненной, хрусталиком выплывет.
Нежданная смерть Алексея Михайловича и ее, как и всех, врасплох захватила. Великий переполох почуяв, мама сразу, что ей делать надобно, догадалась.
Царь преставился, наследник при смерти, царевич Иван в счет не идет. У Нарышкиных богатырь-царевич, мать — молодая царица в силе, Матвеев им на подмогу. Кто кого одолеет? Помогать кому? Нарышкиным? А может, для Милославских постараться?
Кажется, первый раз в жизни растерялась умелая боярыня. Растерялась, да не совсем. «Пускай они там… А я тут… Обожду. Тот, кому услуга моя надобна, и здесь отыщет меня, маму старую». Так она рассудила и для верности замкнула покой перед опочивальней царевича. Ждет. И вдруг перед нею Софья Алексеевна встала.
«Не вдвоем ли нам за род Милославских стать? — мелькнуло в голове Анны Петровны. — Умна, учена царевна, да и хитра. Вот только силы горе нежданное одолеть у нее хватит ли? Федор-царевич, как про батюшку услыхал, слезами изошел. Слова вымолвить не может».
Стоит над простертой царевной мама. Стоит молча. Ждет, что дальше будет. А Софья, как молодой дубок, на малое время к земле бурей пригнутый, вдруг поднялась.
Ни слезинки в глазах, взгляд сухой, горячий, брови, и концах разлетевшись, кверху поднялись.
— А царство? — громко и отрывисто спросила она.
— Орлица! — кинулась к ней боярыня. — Сердце мое первого слова от тебя заждалось. Отныне раба и помощница я тебе верная. Царица уже за Артамоном послала. Надобно и нам о том, что делать, подумать…
— Кого батюшка на царство назвал? — перебила ее Софья.
— Не ведаю, — растерялась боярыня. — Нежданно худо царю сделалось. Патриарх приехал, а государь уже без языка.
— Возле батюшки царица была?
— Опоздали оповестить Наталью Кирилловну. Уже не дышал государь, когда она пришла.
— Братец Федор, как и был, недвижим?
— Недвижим, государыня.
— Знает про батюшку?
— Сказала я ему. От слез и посейчас слова не вымолвит.
Узнала Софья все, что ей надобно. Замолчала. Горе осиливая, соображала, что ей дальше делать. Мама с нее глаз не спускала.
— Дознаться, что там у царицы делается, — наконец прерывая молчанье, обратилась Софья к Анне Петровне. — Да еще человека понадежнее к дяде Милославскому Ивану Михайловичу пошли. Пускай во дворец немедля идет. — Говорит решительно, приказывает, а мама с подобострастием каждое слово ловит. Выслушала и побежала исполнять порученное.
Одна Софья в покое осталась. Постояла, подумала и стремительно двинулась в опочивальню. Раздвинув у кровати шелковый полог, позвала тихо и ласково:
— Феденька!
Тяжело ей в ответ простонал царевич.
— Преставился батюшка. Тебе, наследнику его объявленному, о царстве подумать время.
Склонилась Софья над братом, тронула его за плечо рукой.
— Ох, ничего не могу я, Софьюшка. Наплакаться о родителе дай, — простонал ей в ответ царевич.
— Про горе и радость свою цари, для блага от Господа им народа препорученного, забывать должны. Осиль печаль свою, царь, на престол родительский призванный.
— Слаб я, Софьюшка… Телом и сердцем слаб… Сама видишь… Батюшку родимого жалко…
От громких рыданий оборвался голос. Софья стояла возле плачущего брата, когда послышались быстрые шаги и в опочивальню вбежала запыхавшаяся Анна Петровна.
— Артамон там у царицы уже вовсю орудует, — закричала она, заглушая плач Федора. — Царевичу Петру присягать будут.
Вздрогнула Софья. За точеный столб у кровати ухватилась. Оборвались громкие рыданья царевича. Уныло раздавались над Кремлем редкие и протяжные удары печального колокола.
— Пропали мы, Милославские, — выговорила Софья.
— Пропали, — как отголосок повторила за нею Анна Петровна. И задрожали обе, услышав за дверями тяжелые шаги многих людей.
— Отоприте! Свой человек. Милославский Иван Михайлович.
Метнулась к дверям боярыня, но Софья ее глазами остановила.
Подавшись вперед, царевна все еще напряженно прислушивалась, еще проверяла, нет ли обмана.
— Будто и впрямь Милославского голос, — шептала постница. — Хитрово Богдан будто крикнул… Что делать? Приказывай, государыня!
Ожидая знака, глядела на царевну мама, а дубовая дверь уже трещала и подавалась под натиском невидимых людей за нею.
Тогда Софья сама повернула замок.
— Свои ведь? Чего опасаешься?
В покой вошли Милославские — дядя с племянником, за ними Хитрово Богдан Матвеевич. Из-за дверей выглядывал Василий Голицын и великан ростом и силой князь Григорий Сенчулеевич Черкасский.
— Царевна София Алексеевна! Тебя ли вижу? — растерялся, не сразу разглядевший ее, Милославский.
— Царевна! Софья Алексеевна!.. — вслед за ним с изумлением и испугом повторили другие.
— За тобою, Иван Михайлович, по наказу царевны и послано, — поспешила сказать Анна Петровна.
Сама Софья стояла молча, опустив глаза. Молчали и все. Растерялись от необычного, не знали, что делать с царевной.
«Неужто в терем пошлют? — стучало в голове Софьи. — Не пойду».
Гордо и смело подняла она склоненную голову, поглядела на дядю, обвела глазами всех, кто пришел с ним.
— Времени терять нельзя, — заговорил Милославский. — Сказывают, будто наследником царь никого назвать не поспел. Патриарх, единый смерти его свидетель, молчит до времени. Матвеев для царицы с ее сыном уже вовсю старается. Со всех концов Москвы ко дворцу приспешники Нарышкиных собираются. Шел я по двору — с братом царицы Афанасием у постельного крыльца столкнулся, а он мне и говорит: «Одна беда за собою другую ведет. От горя по отце царевич Федор кончается». Смекаете, зачем он мне такие слова сказал?
— Смекаем! Как не смекнуть? — в голос ответили все. Сгоряча бояре малолетнему присягнут — и готово. Тогда у Матвеева все царство в руках.
— А мы, Милославские, по тюрьмам сгнием.
— Не поддадимся Матвееву!
— Довольно он над нами повластвовал!
— Довольно мудрил!
— А ежели да поверят бояре, что Федор Алексеевич кончается?
— Царевича им показать надобно…
— Да как покажешь-то? Недвижим лежит.
— Недвижим…
Уставились друг на друга бояре глазами недоумевающими, растерянными. На всех лицах отчаяние, страх. Анна Петровна руки ломает.
— Царевич в Грановитой на престоле родительском положенное целование руки принять должен, — спокойно и властно произнесла Софья. — Облачите наследника объявленного в одежду царскую, на руках его, слуги верные, к боярам вынесите!
Просветлели умы боярские. Мимо царевны с мамой ринулись в опочивальню Милославские с Хитрово.
Словно ребенок испуганный, жалобно заплакал царевич:
— Не могу я… сами видите… Ноженьки ходить не хотят… Ох, при последнем я издыхании…
В отчаянии и страхе неописуемом хватался за полог шелковый, за столбики у постели точеные и, когда увидел, что силы ему не одолеть, затих, глаза закрыл, перестал отбиваться, даже не шевелился больше. Только слезы, катившиеся из-под опущенных век царевича, показывали, что он еще жив. Так его недвижимого и подхватили, как перышко, могучие руки великана Григория Сенчулеевичн. Высоко над головой поднял Черкасский ношу свою драгоценную и почти бегом устремился с нею в Грановитую.
Словно старый лес под налетевшей грозой, волновались и шумели бояре. Царя, всеми любимого, не стало, горевать не время еще. Прежде чем печали отдаться, нужно долг исполнить: новому царю поклониться надобно.
А кому поклониться?
Царевич, наследник объявленный, при последнем издыхании… Так бояр оповестили. Смута неописуемая с его кончиной поднимется. Хуже еще лихолетья недавнего время настанет. Милославские, за власть ухватившись, добром от нее не отступятся. А каково с Милославскими, про то всем хорошо ведомо. При Марии Ильиничне чего только от них не натерпелись. Присягнут Петру-царевичу — все, как и было при Алексее Михайловиче, останется. Матвеев и при покойном царе управлял.
Шумит и гудит толпа боярская, со страхом на пустой престол со львами золочеными поглядывает. В большие красные окна зимнее утро погожее глядит. Редкие печальные удары колокола, сердце тревожа, не смолкая, гудят.
Каждый боярин свое выкрикивает. Выкрикнув, сам пугается: а вдруг да не по его будет, по-другому все сложится? Припомнят тогда крикуну слово его неладное.
Возле Матвеева бояре кучкой столпились.
Горе свое пересиливая, Артамон Сергеевич им что-то толкует, в чем-то их убедить пытается. На лицах боярских нерешительность и страх. Примолкли все. Заунывный, за душу хватающий колокольный звон слышнее стал. И вдруг в палату вбежал, весь залитый слезами, любимец Алексея Михайловича — князь Юрий Долгорукий.
— Кого царь на царство назвал? — во всю мощь своего зычного голоса крикнул он.
Растерялись все от вопроса нежданного. Про то, кого сам царь на царство назвал, в переполохе дознаться позабыли.
— Патриарх при кончине царя был? Кто патриарху назван? — еще громче кричит Долгорукий и всхлипывает от подступивших слез.
Бросился кое-кто из бояр к патриарху. Он еще из покоев Алексея Михайловича не выходил. Оставшиеся в Грановитой между собою переговариваются:
— Царевич Феодор кончается…
— Вот-вот кончится…
Растерялся Долгорукий, к речам боярским прислушавшись.
— Господи, что же теперь будет? — простонал. Хотел поднять заплаканные глаза к Богу Саваофу, написанному на потолке над престолом государским, но невольно остановил взгляд свой там, куда, замерев от неожиданности, вдруг устремились все глаза.
На золоченом престоле под Богом Саваофом, между золотыми львами, сидел сам царевич, наследник объявленный. На мертвеца бездыханного походил он, но был прямым заместителем только что скончавшегося царя, и дрогнула палата от криков восторженных.
— Батюшка царь! — покрывая все своим голосом воловьим, воскликнул Долгорукий и первый же бросился к престолу. За ним устремились и все бояре.
Смолк колокол печали. Под радостный торжественный звон начался обряд целования руки нового государя. Земно кланяясь новому царю, Матвеев одним из первых приложился к холодной безжизненной руке.
Патриарх объявил, что на царство Алексей Михайлович успел назвать Феодора, а Юрия Алексеевича Долгорукова назначил ему в опекуны.
Выслушав все это, Матвеев, как всегда, покорился воле любимого царя.
— Все сделаю по слову твоему, — сказал он и с покорной любовью склонил седую голову к опухшей, словно восковой руке нового властителя. — Ему послужу, как тебе служил!
От слез, застилавших глаза, не разобрал, подняв голову, Артамон Сергеевич, с какою ненавистью, уже не затаенной, а явной, глядели на него, худородного, дьячьего сына, превыше именитых бояр поставленного, славы его недавней завистники. Не разбирал ничего, что вокруг него происходило, и Федор Алексеевич. Он давно был в обмороке, и, как только кончился обряд целования руки, его поспешили вынести из Грановитой. Первое лицо, которое, очнувшись, увидел новый царь, была склонившаяся над его постелью Софья.
— Приветствую тебя царем всея Руси великой! Земно тебе, самодержцу, кланяюсь, — торжественно проговорила она и склонилась до самой земли перед братом.
— Ох, не по силам задачу ты мне, Софьюшка, задала, — с укором вырвалось у Федора.
— Дозволь мне, братец, о твоем государском здорова порадеть, — словно не слыша его слов, сказала Софья. — Кто лучше сестры родного брата оберечь может? Походить за тобою хочу.
Федор вместо ответа только опустил веки на утомленные, заплаканные глаза.
— Оповести ближних бояр про то, что братец мне безотлучно у себя быть наказал, — приказала Софья Анне Петровне.
22
Светел и радостен лик усопшего царя.
В дубовом гробу, обитом червчатым бархатом, лежит он, всю радость, все горе земное изведавший. Любовь, злоба, сомнения — со всем добрым и худым на земле покончено, Тело тяжелое, грузное больше не тяготит. В последнюю ночь своей жизни земной — царь от тяжести его отдохнул.
Бодрее и веселее, чем за все последнее время, он, отходя к своему сну земному последнему, себя чувствовал. Засыпая при свете лампады ночной, славную и красную птичью потеху — свою любимую охоту соколиную, давно им оставленную, вспомнил. Вспомнил, как перелесками зелеными, полянами душистыми, лугами цветущими верхом на коне езживал, глазами красу Божьего мира охватывал. С тем и заснул.
А как заснул, радостный сон ему привиделся. На соколиной охоте себя царь увидал. На руке у него на цепочке сокол любимый в наряде большом, руками царицы расшитом. Чует царь трепет птицы нетерпеливый. Сам с соколом вместе трепещет, глазами зоркими в небе безоблачном добычу выглядывает.
Вот в синеве зачернелось. Широкими смелыми кругами в высоте небесной плавают крылатые, подымаются все выше и выше. Соколу любимому, славному, добычу достойную царь углядел, и привычным плавным движением размахнулась рука у охотника.
Но не сокол любимый вверх крутою дугою взмыл, неведомые крылья самого царя подхватили. Рассекая воздух могучими взмахами, сам он соколом полетел. Выше, все выше сокол несется, про добычу забыл. К синему небу, к солнцу стремится. От быстрого полета дух замирает. Сердце в груди останавливается. Остановилось. В ярких лучах света нездешнего все потонуло. Ловчий Небесный, над всеми соколами земными Хозяин, старого сокола утомленного на покой принимает:
— Отдохни.
— Там, внизу, без меня как?..
Сразу отяжелели крылья старые. До последнего приюта донесли и повисли.
— Отдохни! О том, что внизу осталось, Я позабочусь.
Радость большого покоя, словно солнце тучу, все тело насквозь пронизало.
Ведает Ловчий Небесный, когда и каких соколов выпускать, ведает и то, когда их, усталых, на покой отзывать.
Светел и радостен лик царя усопшего.
Тем, кого он на земле покинул, всей правды, какую он уже видит, еще не открыто. Мечутся люди, кто от тоски по усопшем, кто от измышлений над тем, что придумать, что предпринять. Пользуясь расстройством, нежданной смертью вызванным, стараются люди себя возвеличить.
Плачет и стонет вместе со дворцом Кремлевским вся Москва по царе любимом.
По всей Руси к воеводам, для оповещения народного, гонцы с горестной вестью посланы. По всем церквам бесчисленным поминания идут. По всем приказам дьячки деньги столбиками в бумагу заворачивают. Рубли, полтинники, полуполтинники отсчитав, на площади с подьячими для поручной раздачи милостыни погребальной высылают.
По монастырям, по богадельням деньги на помин души царя новопреставленного шлют. Из тюрем, ради преставленья государского, многих злодеев выпустили.
В царском одеянье, с короной на голове, в гробу деревянном, обитом внутри вишневым бархатом, а сверху червчатым, покоится тело государское. До выноса в собор простоит усопший в теремной церкви возле покоев, где жил.
Днюют и ночуют возле гроба попеременно бояре и окольничьи, все в черных одеждах печали великой. Денно и нощно церковные дьяки читают над усопшим Псалтирь с молитвами. По всем церквам и церковушкам дворцовым, по всем крестовым, не смолкая, раздается заунывное псалтирное чтение.
Софья печаль свою об отце любимом на дне души схоронила.
В утро страшное, под звон колокола печали великой, для царевны новая жизнь занялась. Заточенница на волю вырвалась, девица боярам советчицей стала. И какой советчицей! Без нее одолели бы Милославских Нарышкины.
Малого не хватило, чтобы вместо Федора-наследника на престол родительский малолетний Петр-царевич воссел. Вождем Милославских царевна выступила и сразила вождя Нарышкиных — Матвеева.
Знает царевна, что старый боярин обо всем, что у Федора в опочивальне было, осведомлен.
Никогда не любил Софьи Алексеевны Артамон Сергеевич: на царицу с детьми непрестанно царевна злобилась. Верный друг молодой семьи опасался козней умной и хитрой царевны. Еще сильнее и опаснее, чем он о ней думал, царевна ему представилась, когда проведал он о том, как она брата в Грановитую принести приказала.
— Берегись Софьи-царевны, государыня, — остерегает Матвеев свою воспитанницу.
Но скорбная царица ко всему, кроме горя своего, слепи и глуха.
Сняты с лавок в покоях ее вдовьих полавочники пестрые, убраны со столов скатерти, золотом расшитые, вынесены наоконники драгоценные, яркие занавеси шелковые — повсюду одно сукно цвета печального. Царица сама, с ног до головы, вся в черном.
Сидит неподвижная, словно застывшая, Наталья Кирилловна в кресле, наспех темным обитом. Широкими складками кругом нее вдовья одежда струится. Мать ее с боярынями слез удержать не могут, на нее, скорбную, глядя. В Крестовой, рядом с покоем, псаломщицы сменные, не смолкая, Псалтирь по усопшем читают.
— Петрушеньку от царевны оберегай, — шепчет Матвеев и подталкивает мальчика к царице.
— Матушка! — С громким плачем к матери царевич прильнул. — С батюшкой желанненьким, скажи, что содеялось?
Навзрыд царевич расплакался. Шею матери обхватил, заглядывает ей в глаза, даже к сыну любимому безучастные. Затихли оба, в тесном и крепком объятии замерли. Из Крестовой каждое слово псаломщицы яснее слышится. Чьи-то глаза испуганные и любопытные в раскрытую дверь опочивальни заглядывают.
— Софья недоброе замышляет, — склонившись к самому уху царицы, шепчет Матвеев. — Безвыходно у нового царя царевна сидит. С откровенною главою перед боярами в братниных покоях ходит, с ним совет держит…
— Ах, да не все ли равно, когда он не живой лежит!
Вздрогнула от крика отчаянного псаломщица крестовая. С перепуга громче, чем полагается, псалтирные слова выговорила.
Уронила голову, в уборе вдовьем, на стол Наталья Кирилловна, а Матвеев опять к ней Петрушеньку подтолкнул:
— Сыночка приласкай. Сиротинка он у тебя.
Обхватила царица обеими руками сына любимого. Заглушая чтение заунывное, на все покои раздался плач ее вдовий.
И в теремах у царевен плач и уныние великое. И у них, как и повсюду, поминальные лампады зажженные, Псалтирь, молитвы погребальные, а в подклетях кормы нищим и убогим на помин души родительской.
Ладан душистый дымкой нерассевающейся по церквам, покоям и сеням плавает.
Привычная жизнь оборвана.
Из одного покоя в другой, из одной сенной церкви в другую, все в черном, черными покрывалами завешанные, проходят царевны. Горе их, словно птиц грозой напуганных, ливнем вымоченных, в одну кучку сбило. Не расстаются сестрицы. Вместе молятся, плачут вместе, вместе вздрагивают, когда, вдруг позабывшись, испугаются заунывного чтения псалма или душу щемящего погребального звона.
— Софьюшка где пропадает? — передавая ложку с кутьей поминальной, спрашивает сестер Евдокея Алексеевна.
Все сестрицы у нее, как у старшей, в терему собрались. По обычаю, новопреставленного кутьей поминают. В серебряной мисе на столе перед царевнами вареное пшено, приправленное сытою и ягодами.
— Третий день с батюшкиной кончины пошел. Душеньку его ангел ноне Господу Богу приводит, — принимая ложку из сестрицыных рук, сказала Марьюшка.
— В подклетях дворцовых народу видимо-невидимо, сказывают. Нищим, убогим, калекам всяким для третьего дня на помин души кормы отпущены, — сказала Катеринушка.
— Помяни, Господи, новопреставленного, — осеняя себя крестом, молитвенно произнесла Марфинька и поднесла ко рту полную ложку кутьи.
— Софыошка-то наша где? — повторила царевна Евдокея, не дождавшись ответа на свой вопрос.
— Аль позабыла, что у братца Федора Софьюшка наша безотлучно находится? — с укором напомнила Марфинька старшей сестре. — Вместе с мамою его Анной Петровной от лиходеев денно и нощно они его стерегут, — прибавила она, верная Софьюшкиному наказу.
— Лиходеи? Да откуда же лиходеям-то взяться?
Всполошились сестрицы. Все на Марфиньку уставились. А она им:
— Про Матвеева нешто забыли? У Сергеича дума одна, как бы на престол государский Петра посадить. Помеха братец Федор ему да Нарышкиным. Смекаете?
С укором и недоверием уставились сестрицы на Марфиньку.
— Бога побойся! — у Евдокеюшки вырвалось. — Батюшка Артамона Сергеича иначе как «другом сердечным» не называл. Братца Федора боярин всегда крепко любил. Лиходеем ему он не станет.
— Свое человеку всегда чужого дороже, — не поддается Марфинька. — Федор Петру путь загораживает.
— Слушать тебя не могу! — с отчаянием неожиданно выкрикнула самая тихая из всех царевен Федосьюшка. — Помилосердствуй, сестрица! Слова какие… Батюшка что бы тебе на них сказал?..
Плачем оборвалась речь Федосьюшкина. Смолкли Алексеевны. Заунывно погребальная молитва звучит. Колокол скорби великой гудит протяжно и редко.
— Эх, смутила ты душу ребячью, — укорила сестру Евдокеюшка. Но прежде чем она договорила, Марфинька уже обнимала и целовала Федосьюшку.
— Ласточка моя! Не плачь, родимая.
Только поздно вечером, перед самым отходом ко сну, вернулась Софья в терема девичьи.
— Заждалась, пока Матвеев с царицыными братьями по домам разойдутся, — объяснила она. — Теперь возле братца только одни люди верные. Я и ушла.
Стоит перед сестрами Софья, новой жизнью овеянная. Боль от утраты отца любимого, с радостью свободы нежданной в ней сочетавшись, всю силу ее телесную и духовную подняла. Темно для нее пока будущее, но одно знает царевна наверное: от жизни, ее позвавшей, она, долгим пленом измученная, ни за что не отступится. Примет ее всю со всем счастьем и горем, но запереть себя в терему девичьем больше не даст.
— Сестрицы, из вас, хотя единая, мне на подмогу к братцу пришла бы… — попросила она.
Но испугались, съежились Алексеевны.
— Куда нам?.. Непривычны мы… Оробеем на людях.
Даже Марфинька, более других смелая, и та только молвила:
— Лучше я тебе, сестрица, здесь, чем только могу, порадею. А там, на людях чужих, как бы чего, непривычные, мы не напортили.
Давно спят Алексеевны. Одна Софья покоя не знает. В боковушке Ирины Михайловны, ночником озаренной, тихие тайные речи со старой царевной ведет. Не поддается тетка племяннице.
— Срамишь ты себя, Софьюшка, — укоряет молодую царевну старая. — Негоже тебе, девице, да и царской крови к тому же, с откровенною главою перед боярами ходить. Грех это большой.
— Грех на себя беру, — гордо и уверенно отвечает Софья. — Пускай перед Богом одна я за всех в ответе буду. Он, Праведный, все рассудит, поймет… и простит. Слово мое смелое, государыня тетка, не осуди. Ты ли, скажи мне, теремным пленом мало замучена? Вспомни, каково сладко жизнь твоя прошла, государыня?..
— Об отце тебе скорбеть надобно, — строго остановила ее тетка, — Обо мне говорить не время. Давай лучше вместе поплачем.
Плачут обе.
Плачет Ирина Михайловна о брате любимом, плачет о жизни своей загубленной. Благословенья своего на дело смелое, не девичье, Софье она не дает, но и не перечит ей более. Софье довольно пока и этого.
Старая тетка в деле задуманном царевне помехой не будет. Помощницу себе чует в ней Софья. Две другие тетки в счет не идут. Своих мыслей, своей воли у царевен и смолоду не было. За Ириной Михайловной с закрытыми глазами, не рассуждая, привыкли ходить.
В сестрах Софья уверена.
Молодых из кельи монашеской на волю давно тянет. Их только поманить.
Первый шаг труден.
Шаг этот Софья уже сделала. За теремные веками замкнутые запоры смелой и сильной рукою она ухватилась. Еще немного, и широко распахнутся двери тяжелые.
«Не за себя одну стою, за всех, от века неволей замученных».
Эта мысль новые силы царевне дает.
От тетки она проходит к Марфиньке.
— В тереме ты за меня оставайся, — наставляет она сестру. — Почаще сестрицам про то, что я тебе поведала, поминай. Ох и трудно мне с ними! Словно дети малые, несмышленые все они. Одна ты, Марфинька, у меня помощница.
Ночью глубокой, как старина велит, тело усопшего цари перенесли из дворцовой церкви в собор Архангельский, к месту вечного успокоения всех государей московских.
Бояре из всех родов стародавних, честных наичестнейшие, гроб, драгоценным покровом накрытый, на руках несли. За гробом шло духовенство, бояре, окольничьи — все и черных одеждах скорбных, со свечами зажженными. За боярами в санях, черным сукном обитых, с головой, черным покрывалом принакрытой, Наталью Кирилловну несли. Кругом нее, словно черные видения, боярыни двигались. За боярынями стрельцы, за стрельцами множество всенародное. Все, кого только ноги носили, из Москвы с ее деревнями и пригородами, в Кремль поспешили. Из городом ближних и дальних народ понаехал в последний раз царю любимому поклониться.
У окон Грановитой палаты Михайловны с Алексеевнами в эту скорбную ночь стояли.
По обычаю, все царевны, и сестры, и дочери царя, не следовали за гробом.
В тоске непереносной к оконницам приникали царевны, вглядывались во тьму, трепыхающим светом зажженных свечей потревоженную. Слюда, цветами расписанная, от горячих слез, от дыхания жаркого совсем затуманилась. Плохо глаза разбирали, что творилось на просторе, под небом звездным.
— Господи! За гробом бы пешей с народом пойти, — вырвалось у Катеринушки.
Стоном и воплями ей тетки с сестрицами ответили.
Под печальным возгласием гудевших колоколов, под стоны и плач всенародного множества и выкрики вопленниц сомкнулись тяжелые двери соборные, приняв завершителя жизни старинной.
Последней красотой одел эту жизнь Алексей Михайлович. До полного удивления и устроения довел ее. Как цветок, пышным цветом расцветший, завянуть должен, как плод дозревший с дерева валится, так и жизнь, до полного завершения доведенная, обрывается, чтобы другой, которая ей на смену идет, простор дать.
Новый царь Федор Алексеевич — это мостик, между двумя могучими жизнями перекинутый. К строительству нового сильнейший был предназначен.
23
Сорочины по царю справлены. Заупокойные обедни по всем церквам и монастырям отслужены. От кормов поминальных в подклетях столы подламывались, денег без счета на помин души роздано.
— Душенька государская в сороковой день к дому родному слетает. Радость ей великая, ежели увидит, что у родных новопреставленных в памяти, что моления о нем непрестанно идут.
Так между собою старые мамы с боярынями переговаривались.
А наутро после сорокового дня новая жизнь в силу вступила.
Проснулись царевны — из Крестовой Псалтири не слышно. Погребальный колокол не гудит. Одеваться стали — вместо платья скорбного — цветные шелка, парчу драгоценную, жемчуга подают.
— Без батюшки любимого нарядные ходить не хотим…
Но обычай, на мудрости вековой вырощенный, знает, сколько людям силы на скорбь отпущено. Поспорили царевны, горько поплакали, а без чтения заунывного и звони погребального в привычных одеждах им сразу легче на душе стало.
— Пялицы к окошку придвинь, мамушка. В церковь, где батюшка во гробу стоял, я нынче пелену к образу расшивать начну, — сказала маме Федосьюшка.
Все царевны, кто пелену, кто воздух вышивать собираются. Все, кроме Софьи. Не до того ей, чтобы за пялицами в терему низкосводчатом жемчуг низать. Утром, еще до того, пока бояре, по обычаю, к обедне во дворец соберутся, Софья уже возле постели Федора.
— Государь братец, великой Руси самодержец, с добрым утром тебя здравствую.
Голос у Софьи глуховатый, но громкий. Сама она от быстрого перехода по сеням чуть запыхалась. Непривычна еще царевна к ходьбе, да и грузновата малость. Проходя возле крылечка, что на боковой небольшой дворик выходит, и окошечки царевна заглянула: во дворе безлюдье, снег. Вздумалось ей воздухом освежиться. Спрашиваться стало не у кого. Что задумано, то и сделано. На крылечке Софья Алексеевна свежим морозным воздухом полной грудью дохнула. Недолго простояла, а снежный запах с собою к больному, в его покои, еще ночниками освещенные, донесла. Что-то непривычное сквозь духоту и ладанное куренье к царевичу пробралось. Запухшие глаза приоткрыл Федор Алексеевич, и в первый раз после смерти отца чуть-чуть словно просветлело у него лицо.
— Софьюшка!
— Утро, братец, ноне несказанно погожее над Москвой занялось. Глянь-ка в окошко!
Сказала и раздвинула шелковую, на хлопке стеганную занавеску над слюдяными оконцами. Заискрилась за ними белизна снега, солнцем озаренная. Между снегом и синим небом золотые церковные кресты встали.
Приподнятый на подушках сильными руками Софьи, повернул голову к окошкам Федор Алексеевич.
— Давно я солнышка не видал, — слабым голосом он промолвил. — Полегчало мне нынче, Софьюшка.
Улыбка, чуть приметная, скользнула по бледному лицу молодого царя и пропала. Удар большого соборного колокола напомнил ему утрату тяжкую. С плачем откинулся он на подушки.
А царевна ему:
— Вспомни, братец, что покойный батюшка не раз говаривал: «Нельзя человеку, чтобы не поскорбеть и не прослезиться, но в меру и скорбеть и плакать надобно, иначе слезы и скорбь твоя Бога прогневают. Сам Господь нашу радость и горе наше строит».
Молчит Федор Алексеевич. Глаза закрыл, но на лице уже прежнего бесчувствия нет. Вглядывается Софья в детское лицо на подушке, и жалостливая нежность затепливается в ее сердце.
«Шестнадцати лет еще нету, а уже царем поставлен, — мелькает у нее в голове. — Сам, что свечечка восковая, тоненькая, чуть теплится». И вдруг вся выпрямилась от новой мысли нежданной: «А я-то на что? У меня и здоровья и сил хоть отбавляй. С Феденькой поделиться есть чем».
И наклонившись опять к изголовью, заговорила убедительно и ласково:
— Первый же долг твой отныне, братец любезный, свое государское здоровье наипаче всего блюсти. Государи всей беспомощным, всем бедным — заступники. Велика ли будет помощь от тебя хворого да слабого народу, Господом Самим тебе препорученному?
Все внимательнее прислушивается молодой царь к словам сестры. Близким и верным путем к сердцу Федора, доброму, благородному и благочестивому, царевна идет.
— Я и то, Софьюшка, долг свой памятуя, с дохтурами более и не спорю. Глотаю, как велят, всю их стряпню горькую, противную…
И вдруг, не договорив, остановился. Испугался сразу насупившихся бровей Софьи, ее лица, нежданно потемневшего.
— От иных лекарств вместо пользы один только вред человеку бывает, — зловеще выговорила царевна, и жутко стало выздоравливающему. Понял он, что неспроста ему сестрица эти слова сказала.
— Нет лиходея опаснее ворога под личиной дружеской, — вздохнула за спиной царевича его пестунья верная — мамушка.
«О чем это они и обе разом?»
Уже привычная тоска к Федору Алексеевичу подкрадывается. С раннего детства тоска эта его слабым телом владеет. Душа, всякими оберегами, заговорами и наговорами запуганная, справиться с нею не может. Чует Федор, что живому ему с той тоской не быть, а молодые проснувшиеся силы — жизни хотят. Так весной, от ледяного покрова освобожденный, всякий, чуть глазу приметный ручеек свою песню спеть хочет. Тихо, слабо, недолго поет иной, а поет, пока голоса для песни хватит.
Слова зловещие для Федора, словно смерти покров ледяной. А жить хочется.
— Боязно мне, Софьюшка милая…
— В чаше родительской прием камня безуйного тебе растворю. Ограждение великое от зол всяких питие это человеку дает.
Обеими руками подняла царевна из камня нефритинуса, в золото оправленную отцовскую чашу. После смерти царя Алексея Михайловича чашу эту в хоромы Феодора Алексеевича перенесли. Царевна сама в нее подогретого вина налила, сама в вино растертого в порошок безуйного камня насыпала. Камень тот в далекой Индии на берегу морском добывали. Сказывали, что в сердце оленя либо у змея и желчи родится он и всякую болезнь и скорбь у человека изнутри отнимает.
Склонилась с чашею в руках царевна к брату и вздрогнула от голоса, нежданно у нее за спиной раздавшегося. Ни брат, ни сестра не услыхали, как Матвеев в покой вошел и к постели приблизился.
— Кланяюсь тебе, царь-государь! — приветствовал Артамон Сергеевич Федора, низко склоняя в его сторону седую голову. — Кланяюсь и тебе, государыня София Алексеевна. Дозволь напомнить тебе, государыня, что не приказывали дохтура до них ничем государя поить. Натощак они новое лекарство пробовать хотели.
Обернулась к боярину Софья, взглядом его с головы до ног смерила. Пользуясь правом, ему покойным царем дарованным, Матвеев без доклада, как и прежде, в царские покои входил. Не по душе это Софье было. Выпрямившись, чашу золотую она обеими руками высоко подняла.
— Родитель наш во здравие свое государское из этой чаши всю свою жизнь пил. Аль ты, боярин, про то запамятовал? Брата любимого чашей заветною от тайного лиха я ограждаю.
— Брата любимого чашей заветною от тайного лиха я ограждаю.
Уставились друг на друга два врага исконных. Не выдержало старое сердце, печалью еще обессиленное, страшной ненависти, что на него из мрачных глаз царевны глядела. Опоры ища, Матвеев на Федора оглянулся и увидал, как больной торопливо закрыл глаза. Понял боярин, что с этой стороны ему помоги не ждать. Как во сне тяжелом, то, что дальше в опочивальне царской случилось, Артамону Сергеевичу представилось. Доктор, грек Костериус, вошел, с ним другой доктор, тоже грек, Симон Стефан. За ними, как обычно, Спафарий, переводчик приказа посольского, стал.
Спафарий много лет валахскому господарю служил. Попавшись в измене, был приговорен к смерти, но бежал. Вырезанные ноздри и обрезанные уши о перенесенных изменником пытках страшным своим языком говорили. Ценил Матвеев грека ученого, но от жалостливого и пугливого Федора Алексеевича его всегда заслонить старался. А тут, после разговора с царевной, растерялся — недоглядел. Увидал молодой царь лицо изуродованного.
— Безносого убрать!
В миг единый не стало в покое грека. Еще больше от оплошности своей растерялся Матвеев. Туман у него пред глазами стоял, когда поднес он к своим губам скляницу с мутной жидкостью. После докторов он, по обычаю, как начальник аптекарского приказа, всякое государское лекарство отведывал. На себе пытал, нет ли какого вреда в зелье.
Дрогнула рука старая. Боярин скляницы не сдержал, осколки по полу со звоном рассыпались. Вскрикнул испуганный Федор Алексеевич. Громко ахнули все, кто в покое был. В опочивальню постельничий Языков и комнатный стольник Лихачев со страхом заглянули.
Симеон Полоцкий, только что «Гусли доброгласные» вирши на восшествие нового царя — сложивший, мимо всех, прямо к царевне прошел.
— Что, государыня, здесь содеялось?
— Осколки немедля уберите, — не отвечая на вопрос Полоцкого, распорядилась Софья. Непроницаемо даже для учителя мудрого было ее лицо побледневшее.
В тот же самый день, после вечерен, Иван Богданович Xитрово, возвращаясь от обедни вместе с другими боярами, приблизился к князю Долгорукому и незаметно шепнул ему:
— Через Грановитую как пойдешь, позадержись там, князь Юрий Алексеевич. Перемолвиться по важному делу, неотложному мне с тобой надобно.
В дальний угол отвел князя Хитрово, обождал, пока пихнули тяжелые шаги удалявшихся бояр, и тогда таинственным шепотом, пугливо по сторонам озираясь, сообщил ему:
— Нынче Матвеев в злодейском умысле уличен. Отравою царя боярин опоить хотел…
— Полно, Иван Богданович, — строго и с укором остановил его Долгорукий, — Матвеева я давно знаю. На злодейство он не пойдет.
— За царицу и царевича Петра, чтобы их возвеличить, на что хочешь пойдет, — с убеждением возразил, не смущаясь встреченным отпором, Хитрово. — Да вот сам рассуди: нынче утром боярин с дохтурами и греком Спафарием, по обычаю, в опочивальню лекарство принесли. Царевна Софья тут же, возле постели, стояла. Покажись ей, что лекарство не прежнее: и цвет другой, и мути много. Испугаюсь она за брата и молвила: «Лекарство нынче словно не то». Раскричался, расшумелся на нее за такие слова Артамон, да не сробела она. «Тогда выпей сам, что в склянице есть, — так боярину царевна сказала. — Приметила я, будто совсем мало ты государского лекарства испробовал». Увидал Матвеев, что плохо дело его. Выпить лекарство — на себя погибель, другому уготованную, обратить. Отшвырнул он от себя скляницу — лекарство и пролилось, а на том месте, куда зелье попало, пол словно выело. Вот каково лекарство лиходеи молодому царю состряпали!
— Господи, спаси! Сохрани, Милостивый! Не верится, а поверить надобно, ежели все, как ты сказываешь, было.
Осеняет себя крестом, когда-то недругам, как Божья гроза, страшный, а теперь уже одряхлевший от старости, Юрий Алексеевич. Сберегателем молодого царя, умирая, Алексей Михайлович его патриарху назвал. Свято волю покойного князь соблюсти хочет. А как соблюдёшь? Обережешь ли, когда лиходей, под личиной друга, к постели государской подходит?
— Злодейство, Матвеевым уготованное, еще кто, кроме тебя, видал ли? — прерывисто от сильного волнения допрашивает князь.
— Видела мама царева, Хитрово Анна Петровна.
— До конца «постнице» верить нельзя, — оборвал Хитрово Долгорукий.
— Языков, постельничий, здесь был, Лихачев-стольник, — поспешил прибавить боярин.
— Вот эти надежнее будут. Языков великой остроты человек. У Лихачева совесть добрая, разум большой… — точно проверяя про себя уже раньше сделанную им оценку людей, говорил, насупившись, старый князь. — Лихачева я еще воспитателем покойного наследника Алексея Алексеевича знавал… Таким людям поверить можно. — И вдруг вскипел. Забывши всякую осторожность, волю своему могучему голосу Долгорукий дал:
— А поверить, что предпринять-то? У Матвеева на руках вся аптека…
— Потише ты, княже, — испуганно остановил его Хитрово. — Дело тайности большой, а ты на весь дворец кричишь.
Совсем растерялся Юрий Алексеевич. Ширинкой вспотевшее лицо утирает. Ноги его, тяжелого, огромного, больше держать не хотят. На лавку опустился князь, а Хитрово, вытянув худую шею, такую длинную, что она из боярского высокого воротника вылезает, над князем, словно коршун над добычей, закружился.
— Ох, и сам я света невзвидел, когда про злодейство узнал. И у меня, как и у тебя, Юрий Алексеевич, дух захватило. Отдышись малость, а там и за дело, поразмыслим, примемся. Мешкать-то некогда. Что раз лиходею не удалось, в другой раз повторить можно. Зорка царевна София Алексеевна, да и она как бы не проглядела чего. Матвеева, не медля, от аптеки отставить надобно.
— Не медля, отставить, — послушно повторил Долгорукий и вдруг остановился, пораженный внезапной мыслью: Оберегателем великого приказа Посольского мы Артамона оставим, — немного помолчав, продолжал он. — Без него нам не справиться. Царь молод не в меру, а мы с тобою не в меру стары. Не по годам нам, Богдан Матвеевич, за большие дела хвататься. Сам знаешь, каковы Милославские! малограмотны, да и корыстники. Дальше, чем Матвеев, они меня с тобой от царя отодвинут.
— А Языкова с Лихачевым забыл, князь? — перебил Долгорукого Хитрово. — Ежели нам в большой милости у царя, старости нашей ради, все равно не удержаться — их пропустим, дабы чего самим из рук не выпустить. Оба боярина ума великого и ни с кем во дворце родством не запутаны. Твердо и постоянно их восхваляя, в милость к государю обоих введем. Нам они привержены за свое возвеличение станут… Смекаешь, как все теперь быть надлежит?
Опустив голову, только вздохнул тяжело старый князь.
— Супротивником государю моему покойному как бы не оказался я… Верил Матвееву он… Другом своим называл.
Все еще сильно колеблется Долгорукий. А Хитрово ему:
— Сам государь покойный с того света тебя, князь Юрий Алексеевич, благословит, ежели ты сына его, им же и цари поставленного, на престоле его родительском от измены оградишь. Оберегателем молодого царя тебя, никого другого, назначили.
Поднялся с лавки резной Юрий Алексеевич, широким крестом перекрестился на большой образ Спасителя, что позади государского престола в лампадах неугасимых светился, и сказал:
— Прости меня, Господи, ежели по недомыслию человеческому, ошибусь я, выполняя долг, царем мне завещанный. Раба своего, воле Твоей и государской покорного, не до конца осуди, Многомилостивый!
И уже деловито, к Хитрово обратившись, прибавил:
— С боярами, с кем надобно, переговори, Богдан Матвеевич. Анну Петровну оповести, чтобы до времени, пока дело решится, болящего царя дохтурскими лекарствами не поили.
— Так и царевна София Алексеевна уже наказывала, — прибавил Хитрово.
Гулко раздались в Грановитой шаги боярские. Тяжело за ушедшими бухнула дверь золоченая. Тихо в опустевшей палате. С потолка расписного Бог Саваоф с воинством ангельским над золотым престолом вознесся. Со стен лики мученические, апостольские и пророческие глядят. Здесь же и великие князья московские, и государи, сколько их было, псе до единого.
Все, кто здесь в палате, из мира ушли, истинную правду познали. А в жилых покоях низкосводчатых живые люди, друг друга улещая, оговаривая и обманывая, свою человеческую правду строят.
Много чада удушливого, едкого подымется, много слез прольется, не мало жизней будет загублено, прежде чем люди к правде настоящей придут.
24
Не верит Федосьюшка сестрице Софье, что все «к хорошему пошло».
— Малое время еще обождите, а там и всех вас я за собою из терема выведу… Не долго уже…
Так сестрицам Софья говорит, и все они, кроме Федосьюшки, радуются. Одну Федосьюшку не веселят сестрицыны слова.
Уже давно, с самых похорон батюшкиных, Алексеевны волю взяли. Не спрашиваясь, когда вздумается и куда вздумается, они теперь по теремам прохаживаются. Да если бы и захотели — спрашиваться не у кого. Царица у себя в покоях, запершись, сидит. Федосьюшку, свою любимицу, и ту не сразу до себя допустила. Боярыне, приход царевны оповестившей, сказать приказала, что ей, царице, недужится. Так и ушла бы к себе царевна, да дети, как услыхали, кто пришел, крик подняли.
— Сестрицу к нам! — царевич Петр закричал.
Натальюшка книгу потешную в ту пору держала, с книгой так к дверям и бросилась. Федорушка в ходильном стульце запрыгала.
— Федосьюшка! Федосьюшка!
Вернули Федосьюшку.
Хотела царевна, как бывало, к царице с лаской прильнуть, но глянула в очи ее скорбные, и опустились руки, к мачехе протянутые. Словно стену перед собой увидали царевна. Хорошо еще, что дети малые помогли: ухватили сестрицу за руки, каждый в свою сторону тащит. Петрушенька — к пушечкам, Натальюшка книжку показывает, Федорушка — кубарик расписной протягивает. Из пушечки с Петрушенькой постреляла, картинки с Наталыошкой поглядела, а как запустила кубарик для Федорушки, тут ее и царица к себе кликнула.
— Деток, мамушки, подальше унесите. С царевной на свободе перемолвиться хочу, — сказала Наталья Кирилловна.
Подхватили мамушки девочек. Те только рты успели раскрыть. Плакать им уже за дверями пришлось. Петрушенька, в чем дело, побыстрее смекнул. С нянюшками, с мамушками, словно с воинством вражеским, в бой вступил. Кого ногой, кого рукой — всех разметал. Не успели в себя пестуньи прийти, а царевич уже у матери на коленях, всклокоченной в бою головой к груди ее прижимается.
— Прикажи им, родная, меня не трогать, — шепотком просит.
Отказать сиротинке у царицы сил нету:
— Пускай у меня посидит сынок. А вы все уйдите.
Ушли боярыни.
— Страшные дела ноне у нас, Федосьюшка, во дворе творятся, — тяжело вздохнув, начала царица. — Сказывали мне, будто царя молодого Софья совсем обошла. Только не похоже, что к доброму его поведет. На Артамона Сергеича чего только не наплели… Батюшку моего с братьями в покои царские не допускают… Боязно мне, беззащитной…
— Матушка, а я у тебя на что? Я ли тебе не заступник? Только слово скажи! Да я тебя, матушка, не хуже Федора Тыринова, из какой хочешь беды на руках вынесу. Всем ворогам головы поснесу!
Вскочил мальчик с материнских колен, за саблю золоченую, к поясу привешенную, ухватился.
— Тише, сынок, — остановила его Наталья Кирилловна. — Петрушенька больше, чем по годам ему полагается, смыслит, — вставила она для Федосьюшки. — Вышел бы ты из горницы, сыночек, — прибавила, наклонившись к мальчику.
Нахмурился царевич, но нежданно лицо его сразу другим сделалось.
— Ухожу, велению твоему государскому покорный, — торжественно объявил он. Наклонил голову и пошел к дверям, довольный, что нежданным послушанием утешил мать и удивил Федосьюшку.
Улыбнулась вслед сыну скорбная царица. Засмеялась царевна. И стенки как не бывало. Опять, как и прежде, любовно заговорили между собою мачеха с падчерицей. Плакалась Наталья Кирилловна на судьбу свою горькую, ласковыми словами утешала ее Федосьюшка, сама вместе с мачехой плакала. Заговорились они, не сразу услыхали, что к ним в дверь стучат. Боярыня с докладом, что боярин Матвеев пожаловал, в покой вошла.
Задрожала царица, когда взглянула на друга своего верного. Тихонечко Федосьюшка вскрикнула. В сгорбленном, на ногах не твердом, дряхлом старике трудно было признать еще недавно величавого и бодрого, несмотря на его большие годы, боярина. А он, едва в покой ступил, едва поклон отвесил, тут же на скамью возле дверей так и рухнул.
— Прости, государыня, на ногах не стою. Сокрушен наветами вражескими. Отравителем ноне бояре меня прокричали, — глухо и скорбно заговорил Артамон Сергеевич. — Укоряли, будто я государя моего Федора Алексеевича извести лекарствами хотел. А я его Феденькой звал, младенчиком на руках пестовал…
Закрыв лицо руками, заплакал старый боярин.
— Неужто молодой государь ворогам моим веру даст? Неужто за слугу своего не заступится? — сквозь туман слезный глядя на Наталью Кирилловну, спрашивал Артамон Сергеевич.
Молчала, низко голову опустив, царица. Горько плакала, прижавшись к ней, Федосьюшка. И вдруг на царевну словно просветленье сошло. Слезы наскоро осушив, к дверям побежала Федосьюшка. Ни царица, ни Матвеев того, что она уходит, не разобрали. В печали великой не до того им было. А Федосьюшка сенями, сенцами, переходами ближними к себе, в терема девичьи заспешила.
«Поскорей обо всем сестрицам поведать надобно. У них да у государынь-теток заступы просить…»
Прямо к Марфиньке толкнулась Федосьюшка. «Софьюшка у братца все. Так к Марфиньке». А у Марфиньки уже все сестрицы в сборе. И все уже все про Матвеева знают.
Шумят, разговаривают, головами в золотых вешщц покачивают, руками всплескивают.
Федосьюшка только на порог встала, рта еще раскрыть не успела, а они все к ней так и метнулись.
— Чернокнижник Матвеев, оказывается…
— С нечистыми духами Артамон знается.
— Богоотступник он!
Глаза у сестриц испуганные, голоса обрываются. Из покоя рядом перепуганные боярыни с мамушками выглядывают. Из других дверей боярышни с девушками сенными. Опешила Федосьюшка. Слова ей сестрицы вымолвить не дали, такого насказали, что про свое царевна не сразу и вспомнила. Стояла после всех рассказов растерянная, ресницами, еще мокрыми от недавних слез, моргала. А сестрицы, друг друга перебивая, свое твердили:
— У Артамона лечебник чародейский нашли…
— Цифирью весь тот лечебник записан…
— Оттуда боярин про всякие зелья вычитывал…
— Он вычитывал, а дохтура зелье стряпали…
— Братцу Федору на погибель… Ох, жалко Феденьку!
— Погубят его лиходеи!
Евдокеюшка первая заголосила. Обнимаясь и прижимаясь друг к другу, заплакали все Алексеевны.
— Сестрицы-голубушки, — заливаясь, как и они, слезами, взмолилась Федосьюшка, — ничего я в толк не возьму…
Но ее тонкого голоса никто не расслышал.
— Марфинька, хоть ты расскажи мне, что случилось?
Пожалела Марфинька сестрицу меньшую. За плечи Федосьюшку обняв, рядом с собою на лавку ее усадила, все, что сама знала, ей поведала:
— Матвеев с дохтуром Симоном и греком Спафарием да с сыном своим родным, у себя в покое запершись, черную книгу вместе читали, зелья для повреждения государского здоровья по ней выискивали. По той книге Спафарий учил боярина с сыном, как духов нечистых вызывать… И налетело нечисти этой в палату видимо-невидимо…
Марфинька рассказывает, сестрицы вокруг охают, ахают, от страха друг к дружке, словно тростинки от ветра, приникают.
— Не верится мне, что Артамон Сергеич чернокнижником сделался, — непривычно громко и решительно проговорила Федосьюшка. — Оговорили боярина.
— Не веришь? Оговорили? — напустились на нее сестры. — Матвеев братца загубить хотел, а она: «Оговорили боярина!» Захарка-карл от побоев Артамона чуть живой лежит. Нечаянно в палате за печкой, где черную книгу читали, карла заснул. Он и чертей видал. Расхрапелся, а боярин его из-за печки за волосья вытащил. Уж Артамон карлу бил, бил… Ногами топтал… Два ребра ему поломал…
Съежилась Федосьюшка. Замолчала. Всех Алексеевн она моложе, всех ростом пониже, всех тоньше. И голос у нее слабый, да и не отговорная она. Растерялась царевна, и в это время как раз Софья в покой вошла.
— Софьюшка! — бросилась к старшей сестре Федосьюшка. — Скажи, что неправда все. Сергеич братцу лиходеем не будет.
Легонько отстранив от себя Федосьюшку и в то же время обеими руками придерживая ее за плечи, заглянула Софья в запухшие детские глаза.
— Правда, все правда, Федосьюшка. Благодарение Господу, даровавшему нам от лиходея спасение.
И голос Софьи не дрогнул. Во всю ширину раскрывшиеся глаза молитвенно образ искали.
А ночью глубокой, когда во дворце все уже давно спали, царевна, как обеспокоенная львица, по опочивальне до рассвета ходила. «Тяжко мне! За всех одна я. Назад повернуть — замки, запоры, тюрьма вечная. Не для меня одной… Впереди… Впереди жизнь вольная! Отдышатся сестры-затворницы. Спешить надобно: пропустишь время — и пропадет жизнь их, как у тёток, в неволе состарившихся, уже пропала. А я одна за все ответ дам. Брату недужному советчицей, подобно Пульхерии Византийской, стану. Советами добрыми все искуплю…»
Все дальше и выше залетает мыслями Софья. Видит себя с братом венчанным рядом. Корона на голове у нее. Ярче той, что в зеркале Васильевым вечером светилась, корона на царевне горит.
«Пульхерия!»
25
Не ждал Матвеев для себя доброго, знал, что опутали его завистники с ворогами, что притаились для удара последнего, но, себя пересиливая, больным не сказывался, Каждое утро, по положенью, во дворец являлся. К царю его не допускали, так он к царице заходил и от нее уже шел к обедне или к вечерне в одну из дворцовых церквей. Сторонились бояре опального. Не с кем было во дворце словом дружеским Артамону Сергеевичу перемолвиться. К царевне, Ирине Михайловне, над всеми набольшей, надумал Матвеем сходить, заступы у нее попросить хотел.
Царевна крестной Федору Алексеевичу была. Вместе с Софьей она племянника и крестника недужного навещала. Водой священной его поила. Крест с мощами, дедом патриархом Филаретом Никитичем ей самой много лет тому назад во здравие подаренный, своими руками с молитвой на шею молодому царю надела.
Сурово Ирина Михайловна боярина встретила. Скорбной одежды по брате так и не снимала царевна. Темное сукно все еще лежало на лавках, подоконниках и столах в ее покоях. Боярыни приближенные, в угоду царевне, тоже в черном ходят, вполголоса между собой разговаривают, и все больше про божественное. В покоях сильнее, чем прежде, пахнет ладаном. От поста и непрестанных молений еще похудела и пожелтела царевна.
Матвеев, войдя в покой, остановился на пороге и низко, до самой земли, поклонился старой царевне.
— Милости у тебя, государыня царевна Ирина Михайловна, пришел я просить, — смиренно сказал он. — За меня, убогого, у великого государя предстательствовать не откажи.
— Стыда у тебя, лиходея, нет! — сразу вскипев, крикнула Ирина Михайловна. — Глядеть мне на тебя тошнехонько. Разбойник, душегубец, чернокнижник, вор — вот ты кто.
— Вор! — тихо, словно про себя, повторил боярин.
Новая нежданная обида сердце, и так все израненное, полоснула. До предела боль дошла. И стало Артамону Сергеевичу вдруг сразу все равно: погубят его лиходеи или помилуют. Ни о чем ни у кого больше он молить не хотел и то, что дальше говорил, говорил уже не для Ирины Михайловны, а больше для себя самого.
— Вор! — громко повторил он. — Ведомо мне, что донесли на меня, будто я многие взятки брал, но из городов и уездов, которые я ведал, в приказах никто никогда на меня царю челом не бивал и впредь бить не будет. Никакого нарекания до последних сих дней я не слыхал на себя. В животах моих ни краденого, ни разбойного, ни воровского, ни изменного нет. Все, что имею, милостью Божиею и жалованьем великих государей за службы посольские, за дело ратное, за крови и за всякие великие работы в шестьдесят пять лет нажито. Сил не жалея, вам, государям, верой и правдой служил я. Будучи в приказе, прибыли всякие государству учинил, аптеку завел. Денежный двор пуст до меня стоял, я же завел делать на том дворе деньги, и от того дела непрестанная прибыль была в казну.
Вся долгая трудовая жизнь проходит в памяти боярина. Все, что сделал он, чтобы себя перед собой проверить, перебирает Артамон Сергеевич.
Много им сделано. Укора ни в чем себе не нашел боярин и высоко поднял он седую склоненную голову.
Молчит Ирина Михайловна. Все боярином содеянное на глазах у нее проходило.
А Матвеев продолжает:
— За все мои службишки пожалован я был великою государскою милостью: боярством, отчинами, поместьями… Ныне вором, разбойником, чернокнижником стал! И кому поверено? — с брезгливой горечью, укоряюще глядя на недвижную царевну, спросил Матвеев, но никакого ответа не получил. — Карлу Захарке, пьянице непутевому, поверили. Захарка сказал, что за печью спал, а у меня в той палатишке за печью и перемежка-то нет. Сказывал Захарка, что спал и храпел… Как спящему человеку, сама посуди, государыня, слышать возможно, кто и что говорил. Спафарий меня ничему не учил: не до ученья мне при ваших государских делах было. Сынишку моего учил он по-гречески и по-латыни. А книги я читал и в домишке моем собирал ради пользы душевной и которые не противны Богу…
— Бога бы ты, боярин, поминать постыдился, — с негодованием остановила боярина царевна. — Устала я речи твои лживые слушать.
Губы стиснул Артамон Сергеевич, чтобы на все покои криком не закричать. А царевна продолжала:
— Перед людьми за тебя, лиходея, я предстательствовать не берусь. От мирских дел я давно отошла. А за душу твою, ежели ты в злодействе своем покаешься, в память брата новопреставленного, я помолюсь.
— Прощенья прошу, государыня царевна, — решительно и как будто даже спокойно сказал ей в ответ Матвеем.
И, низко поклонившись Ирине Михайловне, он круто повернул к дверям.
А на другой день, когда он, по обычаю, утром приехал во дворец, боярин Стрешнев вышел к нему из покоя царского в переднюю и объявил:
— Указал великий государь быть тебе на службе в Верхотурье воеводою.
Кончилась пытка. На душе сразу легче стало, но не надолго.
«Хорошо еще, что Господь жену до горестного дня к себе прибрал, а то наплакалась бы, бедная», — утешал себя Матвеев. «Сына с собою возьму, он сам ехать не отказывается, да и со мной в Верхотурье для него надежнее будет, чем в Москве среди ворогов. А вот как с царицей расстаться? Ей, многокручинной, нужнее, чем когда-либо, советчик надежный. Кирилл Полуэктович — стар. За всем ему недоглядеть. Братья — молоды. Трудно ей придется. Да и сам я в старости без своих любимых как жизнь кончать стану?»
Но постановленного не переделаешь.
Опустел богатый матвеевский дом. Еще недавно так весело и привольно жилось в хоромах любимца царского. Сам Алексей Михайлович «друга Сергеича» у Николы на Столпах навещал. Жену любимую в этом доме государь себе высмотрел. А теперь — окна заколочены, на запоре ворота резные.
Потянулся боярский поезд из Москвы в далекий путь, в Верхотурье. Осталась Наталья Кирилловна с детками малыми без заступника верного.
Но и этого, видно, мало показалось ее врагам. От Матвеева отделавшись, Милославские с их приспешниками за братьев царицы принялись.
Беспечально жилось при Алексее Михайловиче братьям царицыным. В возраст оба они еще только входили, когда Наталья Кирилловна царицей стала. Были они оба красавцы собой, рослые, здоровые да веселые. Царь их стольниками у себя сделал, а Ивана Кирилловича, едва ему восемнадцать лет исполнилось, еще и в бояре пожаловал. В постоянном к себе приближении братьев жены своей любимой Алексей Михайлович держал. Всеми обласканные, во всех стародавних честных домах гости желанные, радовались братья жизни своей молодой, удачливой. Смерть Алексея Михайловича горем великим для них была. Новый царь с постели не подымался. Свыше всякой меры Софьей и мамушкой оберегаемый, ел только то, что ему своими руками Анна Петровна готовила. Она же ему и кушанья подавала. Сильно опасались Милославские, как бы Нарышкины царя, чуть живого, им неугодного, с пути Петра-царевича убрать не постарались.
Софья за Иванушкой в оба глядеть наказывала. Главою скорбный, полуслепой, едва ноги передвигавший, он все же царевичем постарше Петра был.
— Крупного зверя выслеживая, часто и мелкую добычу охотники по пути бьют, — так близких остерегала царевна.
Понимали братья Нарышкины, что не бывать им у нового царя в стольниках. Думали, только всего и будет, что станут их держать в отдалении. Но они братьями ненавистной мачехи были. Хотелось тем, кто считал себя ею униженным и обездоленным, злобу свою давнишнюю на близких ее сердцу сорвать.
Стали вороги приглядываться да прислушиваться, как бы им к чему прицепиться. За этим дело не стало. Благоразумной осторожности Нарышкины никогда не знали. Привыкли оба брата все, что думали, говорить открыто. Но и вины настоящей дожидаться недосуг было. Решили у власти стоявшие от братьев царицы, не медля, отделаться и такого на них наплели, что им самим и во сне не снилось: Ивашка Орел, держальник Ивана Кирилловича, с пьяных глаз лекарю Давыдке похвастал, что молодой боярин ему великую милость от Натальи Кирилловны посулил. А Давыдка-лекарь спал и видел, как бы сделаться ему у кого-либо из власть имеющих в приближении. Прямо к сберегателю молодого царя, князю Долгорукому, с доносом полетел. Князь боярину Хитрово все дело расследовать приказал. Не обрадовался лекарь Давыдка буче, им самим поднятой. Для начала, чтобы до корня всего добраться, пытан был лекарь в застенке приказа Разбойного. Потом и за Ивашку-Орла принялись. Иван Михайлович Милославский сам виновным допрос чинил, все, что нужно записать, сам до слова дьяку сказал. Тайно и скоро, без лишней огласки и волокиты, все дело велось.
Заметил Иван Кириллович, что Ивашка-держальник пропал. Думал, за пьянство либо за буйство холопа его непутевого куда забрали. Другого к коню держальника на место Ивашки, пока он не объявится, поставил. Сам, как обычно, половину дня у сестры-царицы проводил, другую половину в санях по Москве-реке катался, смотрел бои кулачные, в шашки да шахматы с приятелями забавлялся.
В погожее утро зимы, уже к концу приходившей, красоте и молодости своей радуясь, в радости все недавние горести позабыв, Иван Кириллович на коне белом, богато убранном, по московским улицам ко дворцу проезжал. Светло у него на сердце было. Душа его печали долго не задерживала. О царе боярин поплакал и утешился. Матвеева в Верхотурье провожал — сокрушался, а прошло малое время, и забыл Иван Кириллович старого боярина опального.
Светились на солнышке, уже весеннем, лужи на улицах, на боярском кафтане алмазные пуговицы поблескивали. Любовались прохожие красавцем боярином, с дороги его, молодецкой плетки опасаясь, сторонились. Народ зазевавшийся тулумбасить любил Иван Кириллович.
Любовались прохожие красавцем боярином.
К белой кремлевской стене подъезжая, за повод коня своего он придержал. Взглядом любовным пестроту и узорчатость тесно друг к дружке прилепившихся зданий окинул. В это утро погожее боярину все милым казалось, все до самого сердца доходило: и золотые маковицы церковные, и крыши чешуйчатые зеленые, и оконницы слюдяные с резьбой затейной. Жмурясь от солнца, в золотые купола и кресты кремлевских церквей ударившего, боярин назад обернулся. Там, за домами бревенчатыми, куполами и крестами перерезанными, даль полевая и лесная раскинулась.
К простору, на волю боярина потянуло. Ждать не долго ему показалось. Снег почернел уже. Голуби где-то по весеннему загуркали: весну почуяли. Для охоты любимой пора подходит.
От этой мысли еще веселее молодому боярину стало. Ловко на землю соскочив, слуге он коня под охрану сдал, сам, калитку в белой кремлевской стене привычной рукой отперев, по камнем вымощенной дороге двором к теремам пошел.
Все, как и всегда об эту пору, здесь было. Толпились на царском дворе бояре, окольничие, дьяки и подьячие. Чем ближе к государскому крыльцу, тем теснее народ стоял. Те, кто породовитее был, давно до передней пробрались, те, кто за выходными дверями остались, не уходили, хотя и знали, что в покои к недужному царю, кроме самих приближенных, никого не пускают.
Знали и все-таки ждали. Бывает так, что не чаешь, а позовут. Кому-нибудь из приближенных понадобится — и крикнут. На месте окажешься, вовремя поспеешь, услужишь — и второй раз позовут. А там, при случае, в передней задержишься. Что дальше, то больше постоишь. Так, мало-помалу и своим среди власть имеющих сделаешься. Много таких, что в приближенные к царю простым случаем попадали. Да и помимо того, во дворе царском всякому побывать лестно. Обо всем, что содеялось и чему содеяться надлежит, из первых рук здесь узнается. Вчера еще про новую измену слух прошел. Сказывают, на государскую жизнь опять замышляли.
Страшный слух шепотом, на ухо, пугливо по сторонам озираясь, бояре друг другу передавали. Кто-то намекнул, что из царицыных вдовьих покоев злой умысел вышел. От вестовщика все, словно от чумного, шарахнулись.
— Вот уж куда пошло! Как бы и самому в заварившуюся кашу не угодить.
С опаской поглядывали люди на царицыны окна. Поглядывали и на калитку, через которую обыкновенно Иван Кириллович входил. Дознались, что у сестры-царицы он еще не бывал. Накануне с друзьями-приятелями засиделся молодой боярин. Проспал и опоздал во дворец. А наутро, раньше бояр, целый стрелецкий полк, со знаменами распущенными, в кремлевский двор вошел.
Затихло все, грозу почуяв, и оттого, что знали, что гроза идет, а в кого гром ударит, не ведали, — еще страшнее всем делалось. А Ивану Кирилловичу хоть бы что.
Через двор молодецкой походкой красавец идет. Идет, улыбается думам своим веселым, весне, в глаза ему заглянувшей. Остановился, когда стрельцы, по знаку начальника, вперед ринулись и его кольцом окружили.
— Вы это, братцы, что? Очумели?
Даже сразу не понял, что на него, боярина, стрелецкие штыки наставлены. Так далеко все, что случилось, от его дум было. Разглядел лица злобные, и вся кровь ему в голову ударила.
— Дорогу мне, боярину!
Глаза кровью налились. Ничего перед собою не различая, грудью вперед ринулся он, словно конь необъезженный, с узды сорвавшийся. А через миг единый его под руки к Постельному крыльцу волокли. И туманилась голова молодецкая от слов, что ему дьяк с грамоты, царской печатью припечатанной, на весь двор выкрикивал:
— Говорил ты, Иван, держальнику своему Ивашке Орлу на Воробьеве и в иных местах про царское величество при лекаре Давыдке: «Ты-де Орел старый, а молодой-де Орел на заводи ходит, и ты его убей из пищали, а как ты убьешь, и ты увидишь к себе от государыни царицы Наталии Кирилловны великую милость и будешь взыскан от Бога тем, чего у тебя и на уме нет». И держальник твой Ивашка Орел так говорил: «Убил бы, да нельзя. Лес тонок, а забор высок». Давыдка в тех словах пытан и огнем и клещами жжен многажды; и перед государем, и перед патриархом, и перед бояре, и отцу своему духовному в исповеди сказывал прежние речи: как ты Ивашке Орлу говорил, чтобы благословенного царя убил. И великий государь указал и бояре приговорили за такие твои страшные вины тебя бить кнутом и огнем и клещами жечь и смертью казнить, а великий государь тебя жалует, вместо смерти велел тебе дать живот; и указал тебя в ссылку сослать на Рязань, в Ряжский город, и быть тебе за приставом до смерти живота твоего.
Не один раз негодующим криком Иван Кириллович дьяковы слова обрывал. Тогда, по знаку Долгорукого, что сам рядом с дьяком на крыльце стоял, стрелецкие руки боярину рот зажимали.
А на все это страшное дело из слюдяных оконцев, травами и цветами расписанных, глядели бесчисленные женские глаза, и глядели по-разному. Наталья Кирилловна сквозь слезы почти ничего разобрать не могла, только сердцем понимала, что недоброе над любимым творится. Руки заломив, от окошка она отшатнулась.
— Подальше Петрушеньку уберите, — сына жалея, голосом чуть слышным мамушкам она приказала.
— Стойте! Да как вы смеете? Вот я вас! — закричал царевич, кулаком в слюдяную оконницу размахиваясь.
Мамы с нянюшками к нему подкрались, ухватили мальчика за руки и к дверям потащили.
— К Феденьке хочу! Пускай братец слово свое царское молвит! — вопил царевич и вырывался из женских рук.
Вот вырвался. Побежал. Едва мамы огневого ребенка нагнали.
В ужасе, ребячьим умом не разбираясь, бросился на пол царевич. В злобе и тоске бессильной по земле катался, рыдал громко и отчаянно.
А боярыни, к окошку прильнувшие, на весь покой выкрикивали:
— Весь в лохмотьях кафтан на боярине…
— В крови лицо все…
— Потащили стрельцы горемычного…
И в девичьих теремах все царевны возле окошек. Софья с Марфинькой рядом стоят.
— Еще одним лиходеем убавилось, — говорит громко, так, чтобы все ее услыхали, Софья.
— На какое дело пошел! А с виду веселый, хороший такой, — недоумевает Евдокеюшка.
— Может, оболгали боярина! — нерешительно вставляет Катеринушка. — Кудри-то у него в грязи все! — вскрикивает она.
— Горюн горький! Стрельцы-то, стрельцы как возле него… С ног сшибли… — ужасается Марфинька.
Взвизгивают и сокрушенно вздыхают боярыни, мамушки, нянюшки.
— Забыли, никак, что над изменником суд правый творят? — дала строгий окрик Софья.
И все смолкло.
Выпустила Федосьюшка из рук край шелковой занавеси, за который, все время ухватившись, держалась.
— Ох, не могу больше! — только выговорила и, спотыкаясь, к дверям побежала. На пороге чуть теток, Анну Михайловну с Татьяной Михайловной, с ног не сшибла. Те тоже торопились. У сестрицы Ирины Михайловны из теремов они насилу выпросились.
— Никак, опоздали?..
Толстые, от бега задохнувшиеся, едва дух переводят царевны. Пробежала Федосьюшка мимо них мышкой, от страха все, кроме норки своей, позабывшей. Через все покои в темную боковушку перемахнула царевна. Там, в комочек вся съежившись, от рыданий билась, пока мамушка ее в темноте не нащупала.
— Федосьюшка, болезная!
Вцепилась царевна обеими руками в сундучок кованый, на котором сидела.
— Страшно, туда не пойду…
Долго ее уговаривала Дарья Силишна, холодные пальцы царевны осторожно от сундука отдирая.
— Дай я тебя в постелюшку уложу.
В перину, высоко взбитую, слабое, уставшее тело ушло. Каждая косточка ноет, болит.
— Мамушка, в пустыню богомольную мне уйти охота. Отпрошусь, когда братец поправится. За тех, кого здесь обидели, стану Богу молиться…
— Ты — Богу молиться, я — свечи перед образами для молитвы тебе затеплять.
— Орьку с собою возьмем. Она с бабушкой по монастырям хаживала, знает все, как у них там…
Сдается мамушке, что и без Орьки хорошо, но она не спорит.
— И Орьку возьмем, — повторяет.
Затихла Федосьюшка. Мама тихонечко наговорной водою по уголышкам возле постели побрызгала. Брызгая, приговаривала:
— Тридевять ангелов златоперых и златокрылых с неба спускаются, тридевять луков, тридевять стрел с собою спущают, сквозь семеро облаков теми стрелами стреляют, отстреливают от рабы Божьей Федосьи уроки, призоры всякие. Как с гоголя вода катится, так бы катилась беда с рабы Божьей Федосьи, с ясных очей, с бела тела, с ретива сердца и век по веку отныне и до века.
Отошла малость во сне Федосьюшка. День, мамой от людей отгороженная, прожила, а ночью без сна замаялась: Иван Кириллович, когда он у Постельного крыльца стоял, из глаз царевны уходить не хотел. Столько горя тяжкого, столько обиды нестерпимой никогда еще Федосьюшка на человечьем лице не видала. Разглядела царевна, как боярин, из стрелецких рук вырываясь, широко рот открывал, криком, ей неслышным, грудь надсаживая.
Из оконца высокого с рамой двойной царевна ничего как есть расслышать не могла, а те, что внизу стояли, слушать не захотели. Затолкали боярина, смяли. За стрельцами и совсем видно не стало Ивана Кирилловича. А потом, когда его с земли подняли…
Застонала Федосьюшка, когда вспомнила, что увидать пришлось. На стон ее тихий, жалостливый с войлока у постели Орька приподнялась.
— Думала, худой сон тебе привиделся, а ты и не спишь. Смотрят у тебя глаза. Не спится и мне. Нынче ночью в застенке опять пытают. — И Орька передернула словно сразу озябшими плечами.
— Кого? — Федосьюшку от подушек подбросило.
— Ох, уж и не рада, что проговорилась. Лицо-то у тебя, царевна, словно мукой посыпали. Правда то, знать, что мамушка мне наказывала.
Но царевна не слушала поздних Орькиных сокрушений.
— Пытают кого? Теперь за кого принялись? — добивалась она. Голос ее обрывался, и она нетерпеливо дергала Орьку за холщовый рукав.
— Холопов брата царицы, Афанасия Кирилловича, пытают.
— Их для чего мучают?
— Известно для чего. Чтобы на хозяина своего злое людишки показали. Изведут, значит, второго брата царицы, а там и за батюшку ее примутся. Сродичей дальних и тех, сказывают, к ответу притянут. Всех до единого Нарышкиных переберут. Царице и той несдобровать. Вместе с матерью в монастырь ее запрячут.
— Господи, да кто же на злодейства такие пойдет? Царица и так печалью свыше меры всякой сокрушена. Кто эти люди безжалостные, что на нее, кручинную, зло измышляют?
— От царевны Софьи идет все…
Словно два холодных железных кольца захватили Орькины руки. Не узнала она гневом и негодованием искаженого кроткого лица Федосьюшки.
— Молчи! Слово какое молвила! Лгунья девчонка! Гаденыш. Змеюка ты подколодная.
Но Орька не испугалась. Слишком нежданным и обидным был для нее окрик Федосьюшкин, Забыла она, что и царевна перед ней.
— Что-о? — Обеими руками Орька от себя подружку оттолкнула. От обиды и злости слова у нее сразу не выговариваются.
— Сама спрашиваешь… сама ругаешься… Да ну тебя! — И полезла с одеяла горностального на свой войлок под душегрею заячью.
Притихла Федосьюшка. На подушки откинулась. Лежит. Не шевелится и Орька на своем войлоке. У обеих глаза открыты. Лампада у образа теплится. Скорбен лик Пречистой. Жемчужинки на золотой ризе слезинками светятся. Храпит Дарья Силишна. Где-то близко совсем мышь скребется. Вот пискнула тоненько.
Вспомнилось царевне, как Орька у нее часто подолгу на одеяле посиживала, страхи отгоняя, ночи такие же с нею, бессонной, коротала. Вспомнилось, как вместе они в пустыню богомольную собирались. Софьюшкино лицо, каким оно часто в последнее время бывало, перед царевной встало.
— Оря! — тихонечко позвала она. — Орюшка! — погромче, ответа не получая, повторила и заглянула вниз на войлок.
— Тебе чего? — Подняла Орька голову всклокоченную, а сама не встает.
— Полезай ко мне на постель, Орюшка.
— Поздно уже. Спать хочу, — буркнула Орька.
— Слово, что неладно тебе сказала, ты забудь, — продолжала царевна. — Не сдержалась я, за сестрицу разгневалась… Постой, помолчи! О Софьюшке ты мне ни единого слова больше не скажешь, — остановила она уже раскрывшую рот девочку. — Не мне старшую над собою судить, не тебе, что люди про царевну-сестру болтают, мне сказывать. Лучше давай потолкуем, как в пустыню богомольную мы с тобою пойдем. Тяжко мне здесь…
— Ох, что и говорить, страшное ноне житье у вас во дворце пошло.
Орька уже поверх парчового одеяла сидит. Обида на Федосьюшку у нее сразу прошла.
— Может, и сама бы я так-то вскипела, скажи мне кто про сестру родную, да ежели бы она у меня, примерно, была, — говорит она Федосьюшке. — С подружками деревенскими то ли еще у нас бывало. Горяча я. Чуть что — долго не думала: прямо в волосья обидчице… Всех заступниц кого куда размечу. Оттаскаю кого надобно, а сама наутек, поминай как звали!
— А одна как останешься, заскучаешь, поди? — перебила Орьку Федосьюшка.
— Посижу-посижу, соскучиться не поспею — звать бегут, — с гордостью сказала Орька.
— Хвастунья ты, как погляжу, — подсмеялась царевна.
А Орька ей:
— Хвастунья? Хороводница, песенница я. Вот и зовут. — И, обхватив обеими руками колени, как всегда, когда собиралась рассказать что-нибудь уж очень занятное, Орька, словно на ковре-самолете, из царского терема в Гречули перемахнула.
— Там у нас, у красных девушек на возрасте, свои хороводы, а у девчонок свое все. Красные девушки на одном конце улицы соберутся, мы — на другом. Они на горушке, мы под горушкой. Старые люди красных девушек послушают — к нам придут, а по домам расходятся, так промежду себя говорят: «Хорошо девчонки песни поют. Красным девушкам их хороводница да песенница не уступит». А хороводница да песенница кто такая, смекаешь? Ну вот и зовут сиротинку Орьку. Даром, что я чурышки отрубышек, сиротинка горькая.
Смеется довольным смешком Орька, улыбается ей в ответ Федосьюшка.
— Недолго и до весны теперь. Где у вас тут красные девушки да ребятишки малые весну окликают? — спрашивает Орька.
Но про окликанье весеннее Федосьюшка ничего сказать не может. По сеням у них сенные девушки всякие песни по весне поют, перебирает их царевна, а Орька про всякую одно повторяет:
— Не та! На горушку, чтобы кругом все было видно, с окличкой весенней идут. Ребятишки на крыши взбираются. Ох и любо же тогда песни петь! Местами, словно облачки с небушка оброненные, снежные пласточки белеются. Холодком с низины тянет, а на горушке от солнышка тепло-тепло. Над головою птица заморская, с дальних морей принесенная…
26
После Орькиных ночных рассказов еще серее показался пасмурный день, наутро в терем заглянувший. Весна из далеких стран, из-за темных морей в путь на север тронулась. Почуяла зима, что несдобровать ей — понахмурилась.
В Кремлевском дворце, высокой белой стеной огороженном, людям, что печалились, от серого дня бессолнечного еще печальнее стало.
Тоскует Наталья Кирилловна в своем терему вдовьем.
— Все мое прошло, миновалось, — отвечает она на все уговоры.
Как кукушечка во темном бору, Как горюша во сыром бору, Так и я, многокручинная.Слезами зальется. Сквозь слезы печали свои перебирает.
— О детушках сиротных сердце мое ноет-болит. Остались они без заступников. Сергеич далеко. Братьев услали… За них, а особливо за Сергеича, опасаюсь. Старик ведь он. Старому телу всякое новоселье в тягость, а тут еще и путь долгий, тяжелый. Выдержит ли его Сергеич. А если и доедет, то каково ему в Верхотурье-то жить будет. Из дома, богатством изукрашенного, век доживать где привелось!..
— Вот погоди, государыня царица, недолго уже царю в постели лежать. С каждым днем все легче да легче ему становится… Вот поправится, тебя спроведать придет…
— Придет ли? — с опасливым недоверием спросила Наталья Кирилловна.
— Крестный ведь царевичу Петру царь-то. Крестника и братца родного как не повидать ему? Да и люб всегда новому царю сыночек твой был, — убеждает мать Наталью Кирилловну.
Смолкла царица. Утешенная ли матерью — сказать трудно, но больше не жалуется. Вся ее надежда теперь только на одного Федора Алексеевича. Надежда слабая чуть теплится в сердце печальном.
— Боярынь приезжих от себя не отваживай, — продолжает наставлять мать. — Нынче я как ко дворцу подъехала, много колымаг у ворот стояло, а приезжих что-то у тебя не видать.
— У царевен их много. Падчерицы в силу вошли. Да и Бог с ними, с приезжими. Мне бы только детушки мои сиротные целы были.
Тихо в покоях Натальи Кирилловны. Словно пустое русло от большой реки, вдруг куда-то ушедшей, терем ее вдовий. Место, по которому еще так недавно сильные воды катились, как и было стоит, а воды уже нет. Но река жизни воды своей не теряет. Из одного места уйдет — в другом скажется. У царевен-затворниц жизнь, словно воды ручейковые весенние, отовсюду пробирается. По всем ходам-переходам, сеням, сенцам, боковушкам — везде люди, словно мошкара, когда на нее теплом пахнет, так и толкутся.
— Ледников, погребов да кладовых хоть и не замыкай, — жалуется забегавшийся ключник. — Давно ли в терема всякой снеди отпущено — опять спрашивают.
— Меду жбан государыне царевне Анне Михайловне отпустите!
— Квасу ягодного государыне царевне Татьяне Михайловне!
— Калачиков пшеничных для государыни царевны Евдокии Алексеевны!
— Государыне Марфе Алексеевне пирогов пряженых! — выкликивает на все голоса челядь, столпившаяся на сытном дворе.
— Нету у меня пирогов пряженых! Подовые ноне ставлены, — с отчаянием кричит хлебник. — Что и печь ноне, не знаешь, чего спросят, не ведаешь. Ох, дом бесхозяйский, — уже тише прибавляет он.
— Постной снеди в терема государынь царевен бо́льших отпустите, — налетела на ключника запыхавшаяся посланная.
— А утром для кого ты же постного спрашивала?
— Тоже монахиням подавали. Других гостей государыня Ирина Михайловна не приваживает и сестрам принимать не велит. А из монастырей кто за чем — все с челобитными к царевнам большим так и едут, так и едут.
— Ноне в теремах и гостей! У всякой царевны свои гости. У царевен ме́ньших — все боярыни.
Дожидаться у погребов и кладовых иной раз подолгу приходится. Дожидаясь, челядь о чем громко, о чем шепотом — обо всем между собой пер молвится.
— Девичий терем ноне в силу большую вошел.
— Царевна Софья у брата в советчицах.
— Она, некто, как она, всем делам заводчица. Она и Матвеева в Верхотурье угнала, и братьев царицы в Рязань услала.
— Известно — Милославским с Нарышкиными не ужиться. Кто-нибудь в сторону да отойти должен.
— Должен-то должен, только не дело, что девица, хотя бы и царевна, всем верховодит…
— А ты, друже, помалкивай! За слова твои неладные как бы тебя батожьем не угостили.
— Да я что? Люди так говорили, а я слушал.
— Истопник намедни сказывал, будто он царевну с откровенною головою опять в сенях повстречал.
— Сказывают, и перед боярами, которые ежели к царю в опочивальню придут, государыня Софья Алексеевна не хоронится.
— Дела ноне пошли!
— А царевна Ирина Михайловна, из всех старшая, чего глядит?
— Так и послушалась ее Софья Алексеевна!
— А царицу ноне ни о чем, как есть, царевны не спрашивают.
— К царице ни одна ни ногой. Да ей что! Кроме горя своего, ничего она не видит.
— Одна, без советчика, без заступы, горькая, осталась…
— Поговори, поговори… Застенок-то под боком. Самому и ходить не надобно, под руки поведут.
— Эй вы! Боярыня-кравчая гневается. Кто тут от царевен бо́льших, кто от ме́ньших? — кричит на весь двор с крыльца стольник. — Чего разгалделись?
Смолкли все. Слышно только, как постукивают медные ковши да побрякивают ключи на связках. С озабоченными лицами торопливо пробегают мимо стольника челядинцы с полными блюдами. Проносят кувшины, жбаны.
Словно улей, весной пробужденный, гудит царский терем девичий. В сенях теремных кого только нет! Здесь и монахини, и боярыни приезжие, и свои, верховые, боярышни, девушки сенные, шутихи, арапки, карлихи позади всех. Стоят, у стенок прижатые. Пытали они смехотворные штуки выкидывать — никто и не глядит, не слушает никто. Не до потешников ноне.
— С челобитьем к которой царевне идти, ума не приложу, — волнуется одна из приезжих боярынь.
— Шестеро царевен ме́ньших да три бо́льших. Любую выбирай, — советует ей соседка.
— А ты к которой?
— К Марфе Алексеевне пойду. В силе она, с Софьей Алексеевной дружит царевна.
— И мне к ней не пойти ли?
— Придумала! К Марфе Алексеевне пробраться — по дороге накланяешься. К ней все бросились. У Евдокеи Алексеевны удачи попытай.
— А милостива ли царевна?
— Все они милостивы. На радостях, что сами в силу вошли — всем все обещают.
— Боярыня Троекурова, тебе государыня царевна Евдокея Алексеевна, к твоему молению снисходя, пред очи свои государские предстать повелела, — на все сени выкликнула верховая боярыня.
Сгибаясь под тяжестью большого наряда, челобитье перед собою выставив, заторопилась к уже распахнутым дверям Троекурова. Навстречу ей, из тех же дверей, отпущенная царевной, боярыня выплыла.
— На челобитье-то что тебе сказано?
— Сделают либо нет по прошению?
— Что царевна-то обещала?
Окружили боярыни со всех сторон челобитчицу. Кому и что отвечать, не знает она.
— Челобитье про что подавала?
Забыла оторопевшая от приема и оглушенная расспросами боярыня наказы мужнины: «Про то, что в челобитье сказано, до времени никому словечком не обмолвись».
Забыла и бухнула:
— За мужа просила. В Лаишев-город на воеводство больно охота ему.
— Что ты? Что ты? — не своим голосом закричала на нее все время молчавшая боярыня. — Да в Лаишеве у меня племянник родной на воеводстве сидит!
Перепугалась челобитчица. Видит, сболтнула лишнее. Поправиться захотела:
— Оговорилась я. В Калугу просила.
— В Калугу! Калуга вчера царевной Марфой Алексеевной мужу моему обещана!..
— Обещана? Ну уж нет, не поверю! — налетела на спорщиц еще боярыня. — В Калуге у меня брат родной крепко сидит.
— Придумала тоже! Ловко! — раздались кругом негодующие возгласы. — На живых людей садиться…
— У нас тоже заступа есть!
— Да я царевне такого про тебя наскажу…
— И я не поддамся! Ты свое — я свое. Чья еще возьмет-то!
Расходились боярыни. Расшумелись.
Верховые спорщиц унимать пытали, те их не послушали. Шум, гам поднялся, что дальше, то — больше.
— О чем это вы? Словно на торгу, в царском тереме раскричались!
Не заметил никто, как Софья-царевна в сени вошла. В чугунной решетке, что девичьи терема от проходов в покои царские отгораживала, она теперь дверь всегда, когда хотела, сама своим ключом отмыкала.
Сразу примолкли боярыни. А Софья им:
— Пускай мне которая-нибудь, что содеялось, скажет. — И указала на ту, что краснее всех от перебранки стояла. Объяснила, как сумела, боярыня, из-за чего у них спор и шум вышел. Молча ее царевна выслушала. Стояли все перед нею примолкшие, чего ожидать, не зная. Кончила боярыня, а царевна головой покачала, помолчала малость, а потом и говорит:
— Царя-батюшку недавно мы схоронили, царь-братец от болезни тяжкой еще не оправился. Государские дела в расстройстве. В такое время гоже ли подданным своими делами государские умы отягчать? Повремените малость. Вот разберемся, и каждый от царя, по заслугам его, взыскан будет. Так и мужей своих оповестите.
Кивнула головой и, спокойная, величавая, к себе в терем прошла.
А вечером явилась, нежданная, к Евдокеюшке и приказала всех сестриц поскорее собрать.
Когда же собрались царевны, увела их в опочивальню, двери плотно заперла и строго-настрого заказала им всем, кроме одной Марфиньки, челобитные принимать.
— Уменье с людьми надобно, а у вас его нет. Под замком уму-разуму мудрено научиться. Обождите, надобно к свободе еще попривыкнуть.
— Да мы и сами не рады. Замучили нас боярыни, надоели, — оправдывалась Катеринушка.
— Дозволь, сестрица, нам нынче твою бахарку сказки сказывать кликнуть. У тебя она без дела сидит, а для нас забава, — попросила Софью Марьюшка.
— Звала я сестриц к себе посидеть. Шутих да дурок своих отпустишь ли, Софьюшка? Потешниц что больше, то веселее. Сама не удосужишься ли с нами вечерок посидеть? — пригласила сестрицу Евдокеюшка.
— С государем братцем нынче я посидеть обещалась, — уклонилась от приглашенья Софья. — Симеон Полоцкий к нам придет. Заводить книгопечатню давно старец задумал, так вот об этом и поговорим втроем. Непрестанными исканиями старец мудрый исполнен. Он так думает, что учиться следует каждому: и монаху, и мирянину. Чтение полезно равно и мужчине, и женщине. Так он всегда говорит. И я так же, как и он, думаю. Благо от учения и чтения исходит. Школ да книг в Москве прибавить надобно…
Говорила все это Софья больше для себя самой. Слушала ее, да и то не очень внимательно, одна Марфинька.
— Забавляйтесь! А я пойду…
Но у дверей Софья остановилась и спросила:
— Федосьюшки что-то давно я не видала. Вот и теперь не пришла. В добром ли здоровье у нас сестрица меньшая?
Оказалось, что в последние дни Федосьюшку и все, почитай что, не видали.
— Сказывала мне ее мамушка, что сестрица у себя в покоях, забившись, сидит, никуда не ходит. Видно, неможется ей, — объяснила Евдокеюшка.
С этим и вышла Софья в сени.
«Зайду к сестрице, погляжу на нее», — решила она по пути и повернула к Федосьюшкиным покоям.
Застала она сестрицу врасплох. Тихонечко у себя в опочивальне сидела Федосьюшка. Стояли перед царевной пялицы с вышиваньем начатым, но не работалось царевне.
— Аль тебе недужится, сестрица моя любимая?
Голос у Софьи ласковым стал. Добро и внимательно вглядывается она в побледневшее личико. Но Федосьюшка на ее ласку ничем не ответила. Как вскочила впопыхах, когда перед собою старшую сестру увидала, так и осталась стоять, словно связанная.
Насторожилась Софья.
Почему это Федосьюшка, как всегда при встрече, к ней с приветом не бросилась? Кажется, давно не видались, а если и встречались, то больше мимоходом. Софье все недосуг. Братец Федор как без рук без нее. Она его и пестует, и успокаивает, и на дела наставляет. На Федосьюшку, сестрицу любимую, и на ту не хватает теперь у Софьи времени.
— А ну-ка, погляди на меня! — И быстрым движением, приподняв пальцами Федосьюшкин подбородок, Софья заглянула в опущенные глаза. Ее взгляд поднял все, что уже давно копилось в смятенной душе младшей сестры. Недоверие, страх и мучительный вопрос прочла царевна в растерянных детских глазах, но слов, чтобы успокоить Федосьюшку, у себя не нашла.
«Что ни скажу, все равно не поймет», — решила она. Опустила руку, в сторону глаза отвела.
«Не понимает и не поймет никогда», — подумала с горечью Софья, и вдруг горечи как не бывало.
«Пускай не понимает. У меня она, как и была, все такая же любимая». И с нежностью, которая неизменно тянула ее, сильную и смелую, к слабой и робкой Федосьюшке, Софья заговорила о том первом, что подвернулось ей на язык:
— Весна, сестрица, подходит. В теремах духоты за зиму накопилось. Сады комнатные пора в устроение приводить. Скоро станешь ты, Федосьюшка, по дощатым дорожкам между цветиков погуливать, тогда и румянца на твоем лице прибавится. А пока накажу я твоей мамушке, чтобы посытнее тебя кормила. Да поведай мне, цветики какие у тебя любимые? Назови ты их мне, сделай милость. Каких только душа твоя хочет, у тебя под окошком в саду разведем.
Остановилась Софья, ждет ответа, а сама про себя думает: «То, над чем я стараюсь, над чем, сил не жалея, работаю, не для нее». Грустно стало царевне.
Не для самой любимой думы ее заветные. Новой жизнью не зажить Федосьюшке.
Поближе подошла к сестрице Софья, обеими руками обхватила ее худые плечи, нащупала косточки торчащие, острые.
— Мамушка, Дарья Силишна! — крикнула она, обернув голову к соседнему покою, где толпились все теремные.
— За Федосьюшкой у меня в оба приглядывай, — наказала она прибежавшей со всех ног на ее зов боярыне. — Не забывай, что она у меня сестрица любимая. Покойная матушка-царица мне холить ее наказывала. Отказа Федосьюшке от меня ни в чем не было и не будет.
Сказала, не глядя ей в глаза, крепко поцеловала Федосьюшку и пошла, на ходу кивая головой всем, кто чуть-чуть не до земли ей кланялся.
В сенях быстрые шаги свои замедлила, к шуму, что из Евдокеюшкиных покоев доносился, прислушалась.
«Там еще что?» — подумала и вспомнила, что нынче все сестры вместе вечер коротать собирались.
Вспомнила и дальше заспешила.
Государские дела у братца царя Федора Алексеевича ее дожидались.
27
В толк не могла взять Дарья Силишна, о чем так горько ее хоженая после ухода старшей сестрицы расплакалась. Кажется, всем от Софьи-царевны Федосьюшка утешена. У же мама в уме, какие обновы просить, прикидывала, когда услыхала тихий плач из уголышка, где притаилась ее царевна, теперь, почитай что, всегда кручинная.
— Горе мне с тобой. Ума не приложу: кажись, и обласкана, и посулами всякими обрадована…
— Ничего мне, мамушка, не надобно. В чернички пойду.
Тут уж не стерпела Дарья Силишна. Обрадовалась мама, что вдвоем они с царевной, что никто их не слушает — волю себе дала.
— От этакой-то жизни да в чернички! Да нешто ты царевна опальная? Опальные по монастырям хоронятся, а тебе государыня Софья Алексеевна чего только не насулила. Аль ты не дослышала: «Отказа ни в чем сестрице не будет»? Вот как сказала царевна, а Софья Алексеевна ноне в большую силу входит. Слова ее что слово царя самого. Теперь нам с тобою от людей почет большой будет. Мне, маме твоей, и то прибыльно. И от такой-то жизни в монастырь да в пустыню! Я вот на летник новый тебе парчу выпрошу. Аксамитовые вошвы к нему пристегнем. Пойдешь ты, нарядишься — всем видно станет, в каком ты почете, в каком береженье. Боярыни челобитные к тебе понесут…
— Ой, не надо! — С перепугу у Федосьюшки даже сразу слезы остановились, — Боярынь пуще всего боюсь. Не отговорная я, а они шумливые… В пустынях чернички тихие, келейки приветные. Смолкой там пахнет…
Не хватило у мамушки больше и слов на уговоры. Только головой покачала Дарья Силишна и молча от царевны отошла. Погремела чем-то у поставца и в столовый покой прошла.
Звякнула цепочка у клетки с перепелками, трепыхнулись крылышки о прутики железные. Водопоечка стукнули.
— Девчонку нерадивую к черничкам бы! — донеслось до Федосьюшки. — Они бы ей показали! И куда это негодница запропала? Птички не поены… Орьку скорей кликните мне, девушки!
Хорошо, что не сразу Орьку сыскали. Сорвала бы на горячих порах свой гнев на девчонке нерадивой Дарья Силишна. А потом, как она нашлась, мамушка про вину ее и позабыла. Отходчива была Дарья Силишна. А Орька что дальше, то все чаще и дольше неведомо где пропадала. Не раз за ней Дарья Силишна во все концы сенных девушек гоняла:
— Девчонку непутевую мне мигом достать!
Кинутся со всех ног девушки, забегаются, а Орьки так и не сыщут. Только и увидает ее Дарья Силишна, когда она сама, неведомо откуда, словно рыбка из воды, вынырнет, Станет у оконца под клеткой, руки сложивши, глаза опустивши, стоит. Так стоит, словно век целый тут простояла, а медный крестик поверх рубахи холщовой так и прыгает.
Задохнулась Орька. Избегалась.
Налетит на нее Дарья Силишна, а она все молчит, а не то, скосив глаза в оконце, чуть приметно про себя улыбается.
Не стерпела как-то мамушка. Побила Орьку. А той хоть бы что. Даже не пискнула. Мамушка вся красная сделалась. Шагу ступить не может. На лавку, здесь же, возле оконца с птичками, так и шлепнулась. А Орька перед нею плечо, по которому ее только что хватили, потирает.
— Да я тебя, негодницу, из терема да на скотный двор сгоню…
— Что же… Во дворе оно и лучше, пожалуй, чем здесь-то. Ноне весна.
Поднялась было опять рука у Дарьи Силишны и опустилась. В дверях стояла Федосьюшка. Поглядела на Орьку царевна, с Орьки перевела глаза на маму. Слова не вымолвив, повернулась и к себе назад пошла. Только всего и было, но с той поры Дарья Силишна никогда уже Орьку пальцем не трогала. Махнула рукой на девчонку непутевую. Только бы с войлоком да душегреей, как спать соберутся, девчонка не запаздывала. Но в этом Орька исправна была: чуть повернется от кровати царевниной, Федосьюшку на ночь одеялом укрыв, Дарья Силишна, а Орька уже за спиной у нее. Войлок, подушка, душегрея — все на руках.
— Никак, время и мне уже стлаться? — только спросит.
Эту свою службу Орька всегда исправно несла. Подождут подружки, пока все позатихнет, а затихло — и Орька уже на одеяле горностаевом.
— Нынче куда бегала? — Федосьюшка спросит и торопливо вытаскивает из целой горы подушек у себя за спиной одну из них в красной тафтяной наволочке.
— Лови!
Подушка летит прямо в Орьку. Та ловко подхватывает и сует себе за спину.
— Ногам холодно!
Перегнулась с кровати. Ухватила с пола телогрею заячью.
На ногах телогрея, за спиной подушка.
— Мамушка заглянет, не сразу и разберет, где ты, а где я. Обе царевны.
Смеется Орька довольным лукавым смешком. Федосьюшка вторит ей.
— Сказывай теперь, где нынче была? — торопит царевна.
— Нынче я с мовницами на Москву-реку ездила. Брать меня не хотели, а я им и скажи: «Царевна Софья Алексеевна приказала, чтобы ни в чем отказа сестрице Федосье-царевне не было. Я госпожой моей на реку послана. Наказала мне государыня Федосья Алексеевна, пока вы белье полоскать станете, каков лед на реке поглядеть да поразведать: птиц заморских с теплых морей не видать ли. Не пропустите — прямехонько к Софье-царевне с жалобой на вас пойдем». Ну и пропустили!
Орька зажимает себе рот обеими руками, чтобы заглушить громкий раскатистый смех.
— Ловко ты это придумала! — смеется тихонечко царевна. — Ну, а каково там на реке-то?
— Лед синий-синий сделался. Вода под ним заходила. Скоро щуке просыпаться время придет. Хвостом она всегда первую трещину во льду пробивает. Хлынет туда вода — и готово дело. Лед в обе стороны так и расскочится.
— Не видала ли птицы заморской?
— Птица заморская еще только-только в путь тронулась.
— А тебе про то кто сказывал?
— Сама узнала, — с гордостью ответила Орька. — Перепелки в клетке нахохлились, перо терять стали, корм плоха клюют. Это у них от тоски.
— От какой такой тоски?
— Экая непонятная! Домашняя птица подневольна и всегда затоскует, когда вольную вдруг почует. Зимушку-то вольные где зимовали? У моря теплого, в лукоморьях зеленых. А наши — в клетках да за прутиками железными. Те прилетят, в деревах раз листавшихся, по кустарничкам да в полях гнезда вить станут… А тем в клетках-то каково?
Загорелись глаза у Федосьюшки.
— Орька, голубушка! — мысли своей нежданной радуясь, звонко заговорила она. — Как придет Благовещенье, из клеток мы птичек всех повыпустим. Пускай и они вольными станут.
— Пускай воли отведают! Осенью с птицами заморскими вместе в теплые края полетят, — задумчиво, подняв к потолку большие глаза, проговорила Орька и вдруг вся заволновалась — Ох, кабы крылья мне! И я бы полетела.
Грусть птицы подневольной, когда она свободную чует, на Орьку надвинулась. Как перепелка в клетке между прутиками железными вдруг забьется, так и она заметалась между столбиков у кровати точеных.
— По дорожкам, весной замуравленным, люблю я босыми ногами ступать… Первый дождичек не пропустить бы мне нынче! Умываться дождевою водою люблю…
И замолчала, голову опустив.
— Подушку свою бери, — уныло проговорила она. — Спать захотелось.
Сунула, на Федосьюшку не глядя, ей подушку красную, телогрею ухватила. Придержать ее царевна не успела, Орька уже на войлок соскочила. Легла, свернулась в комочек, душегреей с головой укрылась.
Пытала ее окликать царевна. Не отозвалась Орька.
28
Пост подошел. Как и пришел — не приметили. Масленицы словно и не было. Печаль по усопшем царе туманом нерассеянным дворец заволакивала. Неприметно и тихо, без веселья обычного, масленичные дни прошли.
Под великопостный заунывный благовест поднимаются в тереме царевны. Недавний звон печали великой невольно им вспоминается, больше обычного к молению тянет. То в той, то в другой сенной церковушке сестрицы обедни и вечерни простаивают.
Ирине Михайловне все недужится, так она слуховую трубу из своих покоев в ближнюю к ней церковь Екатерины Великомученицы провела. Сидит у себя, а все службы слушает.
По всем церквам по очереди царевны ходят, не заглядывают только в одну — Рождества Богородицы. Там Наталья Кирилловна молельщица постоянная.
Вторые сорочины вдова неутешная правит. Всякий день у нее обедня заупокойная. В покоях либо нищим кормы поминальные, либо своеручная милостыни раздача. Все в память усопшего. Все деньги свободные раздает не жалея Наталья Кирилловна. С падчерицами она не встречается. Теперь у них все отдельное, у каждой свое. Не хозяйка больше над теремами Наталья Кирилловна. Ирина Михайловна, как и во времена вдовства Алексея Михайловича, за старшую идет, но царевны чаще всего у Софьи или, вернее, ни у кого ни о чем не спрашиваются. Куда им вздумается, куда захочется — туда и идут. Сундуки, скрыни, ларцы сами открывать приказывают, роются в них, что положено — разглядывают, что приглянется — отбирают. На большее самовольство не идут пока. До времени, с непривычки, и этою волею много утешены.
Одна Федосьюшка у себя в тереме крепче прежнего засела. В последний раз в Прощеное воскресенье она выходила. Попрощалась с сестрицами, с ними вместе у теток да у Иванушки побывала. Хотели царевны к царице пройти. Недужной сказалась Наталья Кирилловна. Тогда Софья их всех к Федору Алексеевичу провела.
На государском своем месте, в кресле с орлами золочеными, молодой царь сестер принимал. Бледно и болезненно у него лицо было, но в глазах у выздоравливающего уже пробуждалась жизнь. Улыбаясь сестрицам улыбкою приветною, он трижды поцеловался с каждой.
Рядом с ним, на столе, накрытом браною скатертью, лежал на блюде серебряном нарезанный ломтями калач, а кругом стояли горшочки патоки с имбирем, горшочки мазули с шафраном и большие шишки кедровые.
— Захотелось, сестрицы, мне самому вас «укругами велик опостными» наделить, — сказал молодой царь и, принимая из рук мамушки сласти, стал раздавать их царевнам по очереди.
— Благодаря Господу и сестрицыным заботам непрестанным, полегчало мне нынче, — говорил он с легкой одышкой и ласково поглядывал на Софью. — Спасибо тебе, сестрица любимая! И вам всем спасибо за неоставление ваше. Спасибо, что пришли ко мне.
Софья, не спускавшая с брата внимательных и зорких глаз, подметила, что он порядком утомился, и незаметно шепнула Марфиньке, чтобы она с собою сестриц увела.
Пошли с укругами великопостными царевны, и в душе их радость с печалью спорили. Радостно было, что братец-государь поправляется и ласкою своею их не забывает. Оттого же, что батюшка вспомнился — вспомнилось, как ровно год тому назад он с ними в этот же день и так же, как братец, прощался, те же укруги им раздавал, — радость печалью заволакивало и туманились слезами глаза и дрожали в руках горшочки с патокой и мазулей, когда сенями и переходами возвращались царевны из покоев государских к себе в терема.
С этого-то дня Федосьюшка у себя в покоях безвыходно засела.
Тянутся дни поста предвесенние. Пасмурно. Снег большими мохнатыми хлопьями слюдяные оконца залепляет, а выглянет солнышко, и побегут повсюду ручейки говорливые.
У самого оконца Федосьюшка пялицы пристроила. Пелена к образу в церковь дворцовую, где царевны с батюшкой попрощались, у нее начата. К празднику светлому с даром обетным царевна поспешает. Поддевает жемчужинки иголкой, сама к бульканью и журчанью за оконцем прислушивается.
Вот из покоя столового песня послышалась. Удивилась Федосьюшка: поет кто-то. Тихонечко, про себя поет. Вот и слова слышатся:
Полно зимушке зимовать! Пора матушке-весне наступать!Испугалась царевна: Орькин голос разобрала. Пост Великий, а она песню завела. Мамушка-то что скажет!
Соскочила со стульца своего разгибного Федосьюшка, в столовый покой со всех ног бросилась. Унять бы ее, отчаянную, пока не услыхали!
— Ты что это надумала? — налетела Федосьюшка на девочку. — Постом песню завела?
— Да нешто я пела? — удивилась Орька. — Так ли поют-то! Весну про себя единый разочек я окликнула, только и всего. Разливная красная веснушка в оконце стучит. Слышишь, капель зазвенела? Голуби-то как разгуркались!
И царевна, и Орька обе под клеткой с перепелками стали. К тому, что за окошком творится, прислушиваются, на птичек за прутиками железными поглядывают.
В водопоечке, сверху воды, серое перышко плавает, другое — в кормушечку свалилось.
— Линяет птица, — говорит Орька.
— Долго еще ждать, пока запоют, — пожалела Федосьюшка.
А Орька ей в ответ по-перепелиному тюрлюлюкнула.
Быстро обернулась к ней царевна удивленная. Встрепенулись и насторожились серые птички за прутиками.
— Еще так-то, по-ихнему сделай, — запросила царевна.
Кивнула ей Оря, голову закинула и на все покои затюрлюлюкала.
Поле, куда на утренней зорьке в Гречулях родимых она скотину выгоняла, ей вспомнилось. Там, в лесу, возле закустья, перепелок она сторожила.
С жердочки на жердочку птицы всполошенные мечутся, головками серыми во все стороны вертят, глазами заблестевшими певунью выглядывают.
— Ва-ва, фить-пильвить! — закинув голову, выводит Орька. Да и не Орька. Нет больше Орьки. То птица вольная между небом и землею голос свой подает. Солнышком с неба пригретая, запахами зелеными душистыми обвеянная, радуется жизни своей легкокрылая.
— Ва-ва, фить-пильвить!
Теремные, кто откуда, — все к оконцу бегут.
— Никак, птицы запели?
Увидали Орьку со ртом раскрытым — на месте застыли. Постояли, словно онемелые, а потом разахались.
— Ну и ловко же у девчонки выходит! От живой птицы не отличить.
А Орька им:
— Перепелиный высвист — это просто совсем. Соловьем — куда мудренее.
Откинула голову, по-соловьиному засвистала, защелкала.
— Иволгой еще умею. От кукушки, когда куковать примусь, меня не отличить.
Забаве нежданной, да еще такой непривычной, все рады. Дарья Силишна и та возле оконца на лавку, к птичкам поближе, присела.
Бежала напомнить, что нынче пост Великий, что тишину блюсти надобно, а добежала до клетки — все окрики позабыла. Привольем лесным на мамушку вдруг пахнуло. Слова, какие заготовила, все из памяти повыскочили. Птичье пенье, да сразу после зимы долгой, и старому и молодому голову закружит. А Орька старается. На всякие птичьи голоса попеременно высвистывает. Малиновки, зяблики, кукушки, иволги словно в лесу голоса свои перемешали. Зазвенело в ушах от птичьего высвиста голосистого, а потом, мало-помалу, звонкость на убыль пошла. Не пенье, а щебетанье послышалось. Вот все тише, все реже птицы голоса подают. А вот и нет ничего. Все стихло. Замерло.
— Заснули! — объявила Орька.
А кругом все молчат. Сразу в себя прийти не могут.
Опомнилась Федосьюшка, к мамушке бросилась:
— Сестриц позовем. Пускай и они Орькины высвисты послушают.
Пытала Дарья Силишна про Великий пост поминать, а Федосьюшка ей:
— Не человечьи ведь эти песни, мамушка. Божьи птицы свои голоса подают. Грех ли пенье такое послушать?
Дала мама себя уговорить.
— Пускай по-твоему будет, — ответила. — Развеселишься, Бог даст, с сестрицами и ты, кручинная, у меня.
Дарья Силишна в боковушку для званья царевен принарядиться прошла. Федосьюшка за нею.
— Мамушка, еще слово сказать тебе надобно, — нерешительно начала она. — К Петрушеньке с малыми сестрицами хорошо бы Орю сводить.
Дарья Силишна как вдевала руку в рукав телогрейный, так с этим и осталась.
— Бога ты не боишься, — с укором и возмущением проговорила она. — Этакая вражда неукротимая поднялась, а ты в осиное гнездо с песнями сунешься. Да разве так-то делают? Царевна Софья Алексеевна что скажет? Государыни тетки какими глазами поглядят? Царица сама тебя примет ли? Намедни, мне сказывали, так она говорила: «Пока государь Федор Алексеевич сам у меня не побывает — никого из Милославских к себе на порог не пущу!» А ты с Орькой да с птичьими высвистами… Ох и неладная же ты у меня!
Опять мама сразу потухшее, унылое лицо своей хоженой увидала, но на этот раз не поддалась Федосьюшке. Наскоро телогрею на все пуговки застегнув, кику с подвесами жемчужными мама оправила и с ширинкой в руках, на ходу переваливаясь, из покоя пошла.
— Из теремов на двор сытный за всякими заедками пройду. Угощенье гостям припасти надобно. Орьку принарядить… И заботушки у меня, заботушки!
Птичьи высвисты все терема всполошили. Закружила головы забава небывалая. Орьку то сюда, то туда, из покоя в покой кличут. Анна Михайловна с Татьяной Михайловной, от старшей сестры крадучись, к Федосьюшке по нескольку раз в день забегают. Софья и та на девчонку подивилась, а Катеринушка с Марьюшкой сами птицами высвистывают. Далеко от Орьки царевнам. Утешаются, что летом в Измайловских садах доучатся.
— Птицы всякой там тьма-тьмущая, а окошки наши прямо в гущину садовую. Яблоки, вишенье…
— А малинник, что к речке спускается, помнишь?
— Что малинник! Малиновых кустов и в комнатных садах много. Речку бы мне повидать!
— Помнишь, как на богомолье к Троице-Сергию шли? Речек там по пути много…
— Еще как бродом ехали, вода к нам в окошки попала!.. Волосы мокрые-мокрые сделались.
— Мамушки в ту пору крик какой подняли!
— А цветики на полянках забыли?
Привольем пахнуло. Потянуло в поля, леса, на простор. А на дворе и по всей Москве грязь непролазная, хуже, чем осенью. По двору царскому и то с опаской бояре пробираются. По городу бабы иначе как в мужских больших сапогах, выше колен подобравшись, не ходят. Боярыни по домам засели. Грязь выше колымажных колес добирается.
Приездов к царевнам убавилось. Монахини из городских монастырей и те выезжать опасаются, о пригородных и говорить нечего. Сказывали: возле площади базарной мужик с телегой чуть не потонул. Мужика и коня вытащили, с телегой не справились. На месте ее оставили. Так там и простоит, пока не подсохнет.
— Вот Благовещенье подходит. После Благовещенья солнце грязь всю и просушит, — утешаются люди.
— С Благовещенья, известно, весна-матушка вовсю заработает. Она обогреет, она и высушит.
— Она из домов всех повыведет. На печи только тот, у кого ноги совсем не ходят, останется. Все на поля тронутся.
— Сказывали, ноне с теплом на турок с татарами рать посылать надумали.
Слушает Орька все, что люди между собою в подклетях да по царским дворам говорят.
Солнышко весеннее всех из теплых углов насиженных, за зиму прискучивших, выманивает. Словно мухи, от зимней спячки проснувшиеся, закопошились старухи-нищие с богомолками. В путь-дорогу собираются. От монастыря к монастырю, из села в село, по храмовым праздникам, с молитвою в душе, со святым стихом на устах так, пока тепло стоит, и проходят.
Орька возле богомолок вертится. Все, о чем они между собой говорят, ей знакомое. С бабушкой родной мало ли у нее исхожено! Вместе с теплом они вдвоем в путь трогались. Избенку, едким дымом за зиму прокопченную, с оконцем, воловьим пузырем затянутым, на замок припрут, перекрестятся и зашагают.
Идут, куда душа просится. Ходят, пока ноги несут.
Идут, куда душа просится. Ходят, пока ноги несут. Приустанут — в лесу либо в поле, приглядевши местечко, остановятся. Бабушка узелочек под голову — и заснула, а Орька, закинув голову, в небо глядит.
Широко раскинулось небо далекое. Под ним земля такая же, как и небо, широкое. На земле Орька маленькая-маленькая, словно шишечка еловая, что с нею рядышком валяется. Схватила шишечку Орька, далеко от себя отбросила. На руках смола осталась. Поглядела на свои пальцы девочка и вскочила. Ручейка — руки помыть — искать побежала. Зверюшкой по лесу весеннему рыскает Орька. В ручейке искупалась, ягод наелась.
Выспалась за это время бабушка, и опять они вдвоем идут.
Ночь в обители монастырской ночуют. Звон колокольный, предыконных свечей мерцание, душистого ладана запах, пение монашеское — все это у Орьки любимое.
С чужой бабушкой, когда родной не стало, целое лето она проходила. И теперь, как и прочие богомолки, в путь бы собиралась, кабы не пряники эти досадные.
И нужно же было тогда, на лесенке, толстой пряничнице под руку подвернуться! Не подвернись — и жила бы на своей вольной волюшке.
Закручинилась Орька. Голову повесила. А богомолки все про свое речи ведут:
— Ноне я в Киев проберусь. Чуть дороги обсохнут, в путь тронусь.
— Гляди, милая, путь-то не близкий.
— Никто, как Бог, Ненилушка.
— Попутчиков пока нету, да оно не беда. По дорогам к святым местам все друг дружке попутчики богоданные.
— А все же со своим человеком ежели, по старости-то, оно как-то способнее.
— Девчонку какую подыскать бы тебе…
Вздрогнула от этих слов Орька.
— Возьми меня, бабушка!
— Что ты! Что ты, девонька! — перепугалась старуха. — Да разве тебя отпустят? Сама от жизни довольной уйдешь ли?
Молчит Орька. Не подумавши, к богомолке она напросилась, а как сказала, чтобы взяли ее, так сразу и поняла, что не так-то просто из царских палат уйти.
Не отпустят — это еще ничего. С этим легко справиться. Убегом уйти всегда можно. А вот с Федосьюшкой как расстаться?
Царевна к месту вольную Орьку привязала. Только теперь, как подумала, что Федосьюшку покинет, поняла Орька, как жалеет она ее, тихую, всегда к ней приветную.
А богомолки:
— Такая, как Орька, клад сущий.
— Второй такой и не сыскать, поди.
— Близок локоть, да не укусишь. Не отпустят ее, да и сама не пойдет. Так, сболтнула девчонка.
А Орька, невольно к словам прислушиваясь, свою думу думала. Смутно было в ее душе, весной растревоженной.
29
Федосьюшка понять не могла, что это вдруг с любимицей ее сделалось. Словно птица, когда она перья теряет, хохлилась Орька. Есть-пить плохо стала. С лица и с тела приметно спадать начала. Пытала ее расспрашивать царевна, ничего ей Орька толком не объяснила.
— От весны, знать, со мною это. На человека часто весной такое находит… Сама не рада…
Говорит, а на царевну не глядит.
Еще недавно всех теремных Орька птичьими высвистами забавляла, соловьем, жаворонком на все покои разливалась, кукушкой куковала, коростелем трещала. Пристают к ней, чтобы по-птичьему спела, а она только бранится:
— Чтоб вас! Не до песен мне.
Ночью, с головой душегреей покрывшись, Орька без сна, не шевелясь, лежит. Слышит царевна ее вздохи тяжелые, а окликнет — не отзывается. Только под Благовещенье словно очнулась. Прибежала к Федосьюшке, когда та за пялицами сидела.
— День-то у нас завтра какой? Аль забыла? — спрашивает, а у самой голос звонкий, как в прежние дни, и глаза блестят, и щеки зарозовели. У Федосьюшки от удивления и радости набранные на иголку жемчужинки сорвались.
— Благовещенье завтра, Орюшка, — улыбнувшись, сказала царевна. — Я-то помню, какой день, а вот ты помнишь ли — не знала я. Как весна подошла, ты словно потеряшечку потеряла: о чем ни спросишь тебя, девонька, ты все позабыла. А я Благовещенье люблю. Завтра родителей поминать к усыпальницам монастыря Вознесенского мы, царевны, пойдем. В подклетях столы поминальные для нищей братии готовят. Милостыню поминальную мы, сестрицы, раздавать станем. По всем монастырям рыбы всякой послано. Колодников, которые за малые вины посажены, государь братец, на помин души родительской, из тюрем выпустить приказал…
Все, чтобы ничего не забыть, перебирает Федосьюшка. Кажется, довольно насказано, а Орьке все мало.
— Только и всего у вас? — спрашивает. — А когда птиц выпускать станем?
— И птиц, как всегда в Благовещенье, выпустим. После обедни, где-нибудь в сенцах, на крылечке…
— А у нас в Гречулях сиротинки, как мы с тобой, зарей птичек, на помин родительских душенек, выпускают. Солнышко выглянет, а поминальные птички первыми песню поют.
— Орюшка, милая, охота мне так-то родителей помянуть, — встрепенулась Федосьюшка. — Перепелок из клеток выпустим.
— Ну, перепелок оно еще рановато выпускать, — с раздумьем проговорила Оря.
— Тогда пускай мамушка кого на торг за птичками спосылает. В лукошках у нас прошлый год птичек приносили.
— Прикажи меня за птицами послать. Уж я наберу, каких надобно, — деловито предложила Орька.
На другой день утром все еще спали, когда Орька уже разбудила Федосьюшку:
— Вставай. Да поживее. Сама я чуть не проспала.
Тормошит Орька царевну сонную. Федосьюшка едва глаза открыла, а Орька ей на ноги тафтяные, белкой подбитые, чулки уже натянула.
— Авось так-то и не застудишься. Телогрею потеплее прихватим.
— Куда пойдем-то? — лениво выговаривая слова, спросила царевна.
— Известно куда: в башенку Смотрительную. У вас в теремах другого хода на волю и нет. Да и хорошо там! Только ты поскорей…
Еще сон в глазах у Федосьюшки стоял, когда она с Орей за руку, крадучись, из покоя выбралась.
Розовела слюда от занимавшегося за высокими окнами утра погожего. В сенях уже совсем посветлело. Херувимы в блеске золотых крыльев, мученицы в венцах вокруг ликов святых со стен расписных глядели.
— Скорей, скорей! — торопила Орька.
Ухватившись за руки, припустились они вдоль сеней к тому концу, где небольшая резная дверь вела на лесенку в башню.
— А птицы-то где? — задыхаясь от скорого бега, вспомнила Федосьюшка.
— Все припасла я. Скорее! Я и дверь на лесенку с вечера отомкнула. Там и птицы.
Два больших лукошка, в рогожу закутанные, под лесенкой дожидались. Одно Орька сама подхватила, другое царевне в руки сунула.
— Тащи наверх!
Трепыхалось, билось, попискивало в лукошках запрятанное, когда поминальщицы по лесенке частоуступчатой наверх побежали.
— Окошки-то на зиму заколочены! — вдруг испугалась Федосьюшка.
— Не стой! — прикрикнула на нее Орька. — Еще вчера я там кое-где войлок отодрала…
Башенка вся в оконницах стекольчатых. Стекла цветные в свинец оправлены. За ними, кроме бледного неба да церковных крестов, ничего не видать. Холодно в башенке, да не очень. На юг окошки. Весенним солнцем ее раньше покоев жилых обогрело.
Дрожит и постукивает рама под нетерпеливыми и сильными Орькиными руками. Не поддаются сразу медные затворы, барашками отлитые. Позаржавели, видно, за зиму, да и дерево разбухло. Но вот изо всей силы дернула Орька, и во всю ширину распахнулась оконница. Волной хлынул через нее воздух хрустальный.
И царевна, и Орька обе уже у окна. Высоко оно над всем дворцом поднялось. Коли высунуться хорошенько — далеко во все стороны из него видать. На пестрых крышах чешуйчатых, где на ночь позадержалась вода, ледок, словно стекол осколышки, там и сям раскиданные. На коньках и петушках, на башенках, на резьбе затейной — повсюду хрусталики капели застывшей. Золотые купола церковные снежной пылью посыпаны.
С башни и все, что за белой кремлевской стеною, как на ладони: Белый город, Китай-город, Москва-река, Замоскворечье. Черные бревенчатые дома среди черных, только что освобожденных от снега деревьев и за всем — даль, от близкого уже солнышка розовая. На Божий мир, давно ею не виданный, широко раскрыла глаза Федосьюшка. Грудь, к свежему воздуху непривычную, словно иголками, прокалывает.
— А про птиц-то забыла? Слышишь, голуби загуркали. Воробьи поднялись. Наши в лукошках, поди, позамучились. Под рогожку руку сунь! Хватай, на кого попадешь. Вот как я, погляди… Разом — ты из своей руки, я из своей, мы первых птичек и выпустим.
У Орьки уже давно птичка в руках зажата, а Федосьюшка все еще под рогожей пальцами водит. Лукошко от писка звенит. Шуркают кругом ее пальцев крылышки испуганные. Чей-то острый клювик царевне в руку толкнулся.
— Хватай которую-нибудь, — кричит Орька. — Да поскорее, — нетерпеливо прибавляет она.
Стиснула зубы Федосьюшка. Ухватила что-то теплое, трепещущее. Раньше Орькиной, словно комочек, в окошко с размаха кинутый, птичка ее полетела.
— Помяни, птица вольная, родителей моих: батюшку моего, матушку помяни! Так скажи, — учит царевну Орька.
И Федосьюшка повторила:
— Помяни!
Одну за другой выпускают они птиц в окно навстречу уже взошедшему солнцу. Наловчилась Федосьюшка. Как и Орька, в окошко высунувшись, прежде чем пальцы разжать, она высоко рукой взмахивает. Не ныряя, словно ветром подхваченные, сразу тогда птицы в вышину несутся.
Одну за другой выпускают они птиц в окно навстречу уже взошедшему солнцу.
— Ой, моя не полетела. На крышу свалилась, бедная, — отчаянно вскрикнула Федосьюшка.
— На воле отдышится, — утешила ее Орька. — Моя-то, погляди, как взвилась!
Птичьи писки, радостно-тревожные, с девичьими звонкими вскриками слились. Солнышко, разгораясь, все выше и выше на небе поднимается. Церковные кресты, золотом засверкавшие, к голубому небу тянутся. Зазмеилась крыш чешуя пестрая. Засветились от лучей, в них ударивших, цветные стекла на башенке высокой.
— Ой и любо же! — От радости и солнышка лицо у Федосьюшки все розовым сделалось. Орька с последней птицей так размахнулась, что и сама чуть за окошко не вывалилась.
— Хорошо, что за косяк ухватилась, а то полетела бы и я, — засмеялась она звонко.
У раскрытого окна они обе с царевной стоят. На полу пустые лукошки. Глядят девочки на птиц, по конькам и башенкам рассевшихся. В свободе уверившись, выглядывают бурые пичуги безымянные, в какую бы сторону им полететь. Вот одна, что всех побойчее, первая с места снялась, темными крылышками голубое небо прорезала и понеслась в сторону восхода солнечного. Следя за нею, и царевна, и Орька в окошко высунулись. Долго, не отрываясь, в небесную синеву глядели. Где-то близко с хрустальным звоном оборвалась подтаявшая сосулька, капель о жестяную чешую ударилась. Во дворе голоса же поднявшихся людей раздались. Могучим гулом, сразу заглушая все звуки, благовест к утрене с Успенского собора пролился.
Торопливо приперев окно на все защелочки и запорные крючки, царевна с Орькой по лесенке вниз побежали.
Дарья Силишна только в опочивальню, Федосьюшку будить идти собралась, а царевна в душегрее с Орькой на пороге стоит.
Обе румяные, веселые. У обеих глаза блестят.
— Рань этакую поднялась! — всплеснула руками мамушка. — И оделась уже! Да и в душегрее, никак? — все больше и больше удивлялась Дарья Силишна. — Да какая же ты нынче хорошая с постели поднялась!
Начала Федосьюшка про башенку рассказывать, но Дарья Силишна и слушать не стала. С первых царевниных слов мамушка волчком закружилась.
— С постели теплой да прямо в башенку нетопленную! Ох, уморила ты мне царевну, Орька ненавистная! Тебе бы ко мне прибежать, меня бы оповестить, что не дело задумано. Застудилась-то как, государыня! Руки что лед у тебя.
Ничего мамушка в переполохе не слышит, ничего, как есть, не разбирает. Суетится, Федосьюшку за руки хватает, сенным девушкам кричит, чтобы взварец погорячее да попроворней несли.
— В собор Вознесенский нынче вам, царевнам, родителей поминать идти надобно. Попей взварцу, государыни царевна, а там и за одеванье примемся.
Торопливо глотает горячий душистый взварец царевна. Крадучись от мамы, Орьке половину теплого калачика сует. Хлопоча над выходными царевниными окрутами, все еще поваркивает растревоженная Дарья Силишна.
— Сбегай, Орька, да разузнай, что там у государынь царевен делается. Может, и готовы они уже к выходу. Да ты чего облизываешься?
Не стала Орька никаких больше допросов дожидаться, мигом за дверью очутилась. Покачала ей вслед головою мамушка, покосилась на поднос с калачиками, но невероятной, даже для Орьки, по дерзости своей показалась ей промелькнувшая в голове мысль.
А Орька уже назад бежит.
— Государыни царевны в колымагу садиться пошли.
Федосьюшка, взварца не допив, на ноги вскочила.
Поднялось тут такое, что и про взварец и про калачики все позабыли.
Запыхавшись от хлопотни, мама свою принаряженную хоженую из терема повела, Орька взварец с калачиком доедать осталась.
В тяжелых шубках аксамитных, с бобровыми ожерельями вокруг шеи, в шапочках меховых корабликами вышли царевны на крыльцо дворцовое. До обедни в соборе Вознесенском, что здесь же в Кремле стоит, все царевны своих государских родителей панихидой помянуть собрались. Они в царицыной усыпальнице помолятся, государь — в усыпальнице всех царей — в соборе Архангельском. Царь к обедне с боярами туда пройдет, а царевнам до того, как людно в дворцовом дворе станет, в терема вернуться надобно. Потому они и торопятся.
Уговаривала сестриц Софья пешими к монастырю пойти. Монастырь с теремами чуть что не рядом. Да не согласились царевны. Ирины Михайловны побоялись. И Софья, когда ей про старшую тетку напомнили, спорить бросила.
— Нечего до времени ее сердить, — сказала. — Разгневается — главному делу помехой станет.
А Марфа-царевна на эти ее слова незаметно, нежно, как друг по договору тайному, сестрицыной руки коснулась. Знала она, про что Софьюшка говорит. На днях еще та ей сказывала, что государя братца она и в этом деле на свою сторону перетянула.
— Потерпите! — сестрам она повторяла. — На теремах ваших царевниных замки только для видимости висят. Скоро, скоро вовсю распахнутся для вас двери тяжелые.
Жутко и радостно становилось Алексеевнам от этих слов.
А пока все шло по-старому. Высоко с обеих сторон сенные девушки запоны бархата турского подняли. От людского злого глаза запонами и тафтой, на лицо спущенной, огражденные, как слепые, царевны ногами ступеньки ощупывают. На лесенку колымажную из раскрытых дверец их мамушки под руки подхватывают.
Крыльцо в теремах
Застучала по вымощенному камнем безлюдному двору колымага тяжелая. Все кремлевские ворота с ночи на запорах оставлены. Отопрут, когда царевны из Вознесенского собора в свои терема вернутся. Дворцовые с их пути кто куда позапрятались. Из колымажного оконца глядеть не на кого, да и на то, чтобы оконную занавеску раздвинуть, времени, почитай что, и нет. Громыхнула колесами золочеными расписная колымага и стала. Приехали.
Снова проход из запон бархата золотного.
Холод безлюдной церкви, еще молящимися не согретой. Лампады и свечи, мрака не осилившие. Склоняются перед царевнами до земли черные куколи. В два ряда выстроились монахини, пропуская царевен в их шубках парчовых.
Волны ладана душистого государские царевнины места под башенками с золочеными орлами окутывают.
Монастырь еще благочестивою княгинею Евдокиею, супругою Дмитрия Донского, основан. Она поставила на Москве рядом с палатами княжескими «церковь каменну, зело чудну и украсила ю сосуды золотыми и серебряными». Так о ней в летописи записано.
Из этой церкви, когда княгиня приняла пострижение, и возник монастырь. И сделался он всех княгинь, а потом всех цариц и царевен усыпальницей.
Каждый раз, когда Софья в монастырь попадает, от гробниц царевниных на нее печалью повеет.
Сколько их! Для чего и рождались?
В теремах замурованные, того дня, когда их на вечный покой здесь же, со дворцом рядом, в монастырь отнесут, ждали.
Федосьюшка плачет. Катеринушка с Марьюшкой ширинкой глаза вытирают. Все усердно молятся. Все, кроме Софьи. Ей молиться мысли мешают, в голове так и стучат.
С той поры как внезапная кончина отца и болезнь государя братца ее у власти поставила, вся она, словно орлица перед полетом, встрепенулась. Глядит Софья на молящихся сестер, а сама думает:
«Все дороги, по каким люди ходят, для царевен золотыми и чугунными решетками позаставлены, на дверях их замки железные. Только раз единый для выхода последнего растворяются для вас все двери, все решетки отодвигаются: на пострижение в монастырь, либо туда же, в гробницу. А теперь все по-другому станет. Многое сделать теперь я могу».
Склонила царевна голову перед кадилом дымящимся, подняла ее, но ладан душистый мыслей ее не развеял. Все те же они у нее.
«Я царевен из терема выведу. Пускай и они жизни порадуются. Запоры вековечные я сокрушу. Сокрушу, а силы еще у меня останется. Царю советчицей в его делах государских не хуже боярина думного буду».
Дороги золотые из окошек высоких солнце по церкви построило, позолотило туман из ладана.
Отошло моление панихидное. Колышет весенний ветер запоны бархатные, развевает тафту, на лицо спущенную. Звенит капель, ручейки под ногами поют. Талым снегом от земли пахнет.
— Небо-то, небо синее-синее! — заглушая и капель и ручейки, звонко вскрикивает Марьюшка.
Остановились сразу все царевны. Голову закинув, развевающуюся тафту у подбородка пальцами прихватили, на небо далекое, жмурясь от солнца, уставились. А мамушки им:
— Торопиться надобно. Давно пора боярам ворота отпирать. Государю в собор Архангельский время идти.
Загромыхали колеса. Повернула расписная колымага назад к теремному крыльцу.
Жемчужное ожерелье
Венец, телогрея
Царица шествует в церковь. На ней убрус с волосником, или ошивкой, ожерелье жемчужное, ожерелье бобровое, шубка золотная накладная, в руках жезл и ширинка. Сенная боярышня несет над царицей солнечник, или зонт
Ширинка
Женские одежды XVII века
— Так со двора и не ушла бы, — вздохнула Катеринушка.
— Солнышко-то какое!
— Весна красная прикатила.
— Поглядеть бы еще, — обернулась к выходным дверям Марьюшка и увидела, как они захлопнулись, тяжелые.
Солнышко, капель, ручейки, свежий воздух, талым снегом пропитанный, все за дверями осталось. Перед царевнами снова, как и всегда, лесенки частоуступчатые, давно ими исхоженные, сени надоевшие, сенцы, ходы-переходы узкие. Низкосводчатые покои с оконцами в рамах двойных. Слюда в них мутью позадернута. Воздух, за зиму застоявшийся, после свежего весеннего — еще тяжелее, чем есть, кажется.
— Скорей бы войлок с окошек убрать! Стеганые занавески снимите! Тепло пришло!
Девичьи голоса звонкой капелью в покоях рассыпались. Словно ручейки весенние, засуетились Катеринушка с Марьюшкой.
— К обедне собираться время вам, государыни царевны, — напоминают мамушки.
— До обедни мы еще в Грановитой побываем, — отвечают царевны. — Поглядим из окошек, как братец в собор пойдет. Первый государский у него это выход.
Горят на солнце кафтаны бояр золотные, сверкают каменья на оплечьях, на шапке Мономаховой молодого царя Федора Алексеевича. Под колокольный благовест медленно и торжественно идет он, опираясь на посох царский, отцу его послуживший. Бледно лицо его, не тверды шаги еще слабых ног. Хорошо, что бояре с двух сторон его крепко под руки держат. Одному бы ему, в тяжелом наряде государском, до собора не дойти.
Царь Федор Алексеевич
«Вот и поправился. Выходила я его, — думает Софья, провожая глазами удаляющегося брата, и вдруг вся холодеет от мысли, словно молния, внезапно сверкнувшей: — А что, если теперь его, телом окрепшего, а духом по-прежнему слабого, другие, а не я воле своей подчинят? Сказывали, после обедни царь к мачехе пройти собирался…»
Вся застыла Софья от ужаса.
Жить заточенницей она, волю почуявшая, уже больше не может. Нет такой силы, чтобы в терем ее опять запереть. Свободы, власти хочет она. На все пойдет, ни перед чем не остановится, если у нее то, чего она нежданно добилась, вдруг вырывать станут.
Мачеха?.. Да разве она не сильнее ее! Не только мачехи, всех во дворце Софья сильнее. Ровни ей нету.
А вдруг да поверит брат Наталье Кирилловне? На сторону ее станет? Тогда что?
Но Федор Алексеевич от обедни так утомился, что прямо из собора, как собирался, к мачехе не попал, а потом, позднее, с ним и Софья к Наталье Кирилловне прошла.
И сидел молодой царь между мачехой и сестрой, как связанный. Женщины одна на другую с затаенной ненавистью поглядывали. Наталья Кирилловна о том, что пасынку с глазу на глаз сказать собиралась, при зачинщице всего зла речь заводить не хотела, а про другое, постороннее, разговор плохо вязался. Царевич Петр тоже волчонком на сестру поглядывал.
Не засиделся молодой царь у мачехи. Ссылаясь на слабость после недавней болезни, поднялся с места, попрощался и вместе с Софьей к себе пошел.
— Злится мачеха, что Нарышкины нас, Милославских, не одолели, — говорила брату царевна. — Не ходи в терема царицыны без меня, братец любимый. Боюсь я за тебя.
И Федор Алексеевич с сестрой не спорил.
30
Страстная подходит.
Пасха поздняя на конец апреля в этом году выпала. Снег давно сошел, земля подсыхала.
Во дворце все зимние рамы к празднику выставили, слюду на окнах промыли. Стало светлее и веселее. Верховой сад под окошками царевен уже по-весеннему нарядили. Сено, рогожи, войлок с кустов и деревьев сняли. С мостов новой черной земли в грядки навезли, свежим тесом их вокруг обвели, жерди на столбах возле кустовых растений заново краской покрасили. На столбы клетки с птицами понавесили.
Ходит-гуляет в воскресенье Вербное по своему садочку, еще не зеленому, между грядок, пока пустых, царевна Федосьюшка.
Нынче она, как глаза открыла, саночки, красным бархатом обитые, с вербой, цветами бумажными и сластями убранной, возле постели у себя увидала.
Весело проснулась Федосьюшка. Перед обедом в Грановитую вместе с тетками и сестрицами на царский выход глядеть ходила. День красный, тихий да солнечный выдался. Пахнет в садочке сырой землей, свежим тесом пахнет, а больше всего краской от столбиков подновленных. Сзади царевны Орька, словно нехотя, переступает. К весне сильно выросла она, а похудела и того больше. Царевне она чем-то журавля из сада в Измайлове напоминает. Ручной он был, за людьми ходил, но все, словно нехотя, а летать совсем не мог, потому что ему постоянно крылья подрезали.
Любо Федосьюшке все, что кругом нее: и грядки, и кусточки еще голые, и лукошко с землею в уголышке припрятанное. В нем что-то посеяно. Зеленые, чуть заметные всходы, приглядевшись, царевна увидала.
— Орюшка, цветочки здесь какие посажены? Не ведаешь ли? Я разобрать не могу.
Наклонилась над лукошком царевна. Ответа заждавшись, назад обернулась:
— Цветики здесь какие, погляди!
Нехотя глаза от окошка отвела Орька, взглядом невидящим, куда ей царевна показывала, глянула.
— Не знаю какие, у нас таких нету, — едва разжимая губы, молвила.
Не любо Орьке все, что она кругом себя видит. Прежде, когда ей что-нибудь в ее новом житье не по душе приходилось, она охотно про хорошее, свое деревенское, вспоминала.
Федосьюшка любила послушать, как девочка ей про лесное да про полевое сказывала. Скучно царевне с той поры, как примолкла Орька.
— Неможется, что ли, тебе?
— Нет, ничего, Бог милует.
— Что же ты невеселая ходишь?
Молчит Орька. Насупилась. Тоскливо от лица ее унылого, недовольного.
— Хочешь, песню тебе, царевна, спою?
Обрадовалась Федосьюшка:
— Спой, Орюшка! Спой, милая! Да только потише пой. Неравно мамушка из покоя услышит. Постом она петь не велит, — опасливо косясь на оконце, прибавила царевна.
Прислонилась девочка спиной к стене, «ландшафтным письмом» расписанной, руки сложила и затянула слова, давно из сердца печального просившиеся:
Во саду все не по-старому, Во саду все не по-прежнему. Раздробленный мой зеленый сад Во кручинушке стоит, Во слезах стоят все кустики, От досадушки почернела бела лавочка, Припечалилася бела занавесочка.Замолчала Орька. Лицо еще тоскливее от песни печальной сделалось. Слезами глаза заволокло. Поплакать бы ей. Да, видно, одной песни не хватает, чтобы тоску, днями накопленную, слезами излить. Не спрашиваясь царевну, она другую завела:
Как станут цветики расцветать, Стану я кукушечку пеструю пытать, Ты скажи, кукушечка, Прокукуй весной, Где, в какой сторонушке Батюшка родной.— Где, в какой сторонушке батюшка родной? — повторила Федосьюшка и заплакала.
У Орьки слезы застоявшиеся из глаз покатились.
Шумливо-веселые Катеринушка с Марьюшкой, двери за собою с грохотом захлопнув, с другого конца в сад вбежали.
— Федосьюшка! Где схоронилась, сестрица?
Наскоро слезы рукавом вытирая, им навстречу заспешила царевна.
— Никак, плакала? О чем ты? Не такой ноне день, чтобы убиваться. Евдокеюшка всех к себе на вербное угощенье зовет. Да вот и сама она в сад идет. Да и не одна… с нею Марфинька…
Идут по дорожке дощатой, еще землей не покрытой, песком не посыпанной, царевны старшие. По лицам обеих видно, что с добрыми вестями поспешают. Еще до сестриц не дошли, а Евдокеюшка весело так кричит:
— Государь братец от всех сундуков, коробов, укладок, ларцов всяких ключи у казначеи-боярыни царицыниной отобрать приказал.
— Все, как есть, ноне Софьюшкиной казначее сдадут, а она нам, — подтвердила и Марфинька.
— Нам? Неужто правда? Все ключи на руки!
Обрадовались царевны. Евдокеюшку с Марфинькой обступили:
— Про ключи кто сказывал? Кого оповестили?
— Софьюшка сказывала, — Марфинька ответила. — И еще сестрица сказывала, что самой ей недосуг, что пускай мы, как хотим, так со всеми нашими, окрутами и управляемся.
— Уж мы управимся!
— Поскорее бы только ключи эти самые раздобыть.
— А за казной денежной, ежели в ней нужда окажется, ноне тоже к Софьюшке ходить надобно, — добавила Марфинька.
— Вот хорошо-то! У царицы нам боле не спрашиваться, — еще пуще обрадовались царевны.
— И при батюшке царица на денежные отпуски скуповата была.
Веселые, громкие голоса царевен по всему саду разносятся. Канарейки в клетках, по столбикам подвешенных, на голоса человечьи свои птичьи подали. Царевны кричат, смеются — канарейки заливаются.
Не все еще Марфинька сестрицам рассказала:
— Обещалась Софьюшка, будто этой же весною мы, царевны, когда сами захотим, и на богомолье, и в сады подгородные, без спрашиванья, ездить станем.
— Господи! Вот воля-то когда пришла!
— Неужто так-то и будет? Не верится…
— Не верить нельзя. Сама Софьюшка сказывала.
— Ну, ежели Софьюшка… У сестрицы слово верное.
— А Наталью Кирилловну ото всех дворцовых дел отставляют, — со злорадством сообщила Марфинька. — Не хозяйка больше она.
— В Измайлово с детками на житье отправляют ее.
— Довольно мачеха в теремах мудрила, довольно повластвовала. Полно ей над нами начальствовать.
— Назад бы ее, в Жолкеи родимые, вернуть.
— Сказывают, грибы там на базаре продавала…
— Там на торгу ее Артамон и увидал. Пожалел да с собою в Москву прихватил.
— С Артамона счастье ей занялось.
— С Артамона и закатилось.
— Теперь Нарышкиным место указано.
— Что у Милославских захвачено — все назад отдадут.
— Теперь мы госпожи!
Царица кушает во время своей свадьбы. На ней венец, убрус, царская шубка. Боярыня в шубке и телогрее
Боярыня кравчая (или крайчая). На ней убрус с волосником, бобровое ожерелье, летник с вошвами. Женщина с волосником, убрусом и бобровым ожерельем. На ней шубка и чеботы. Девица в сорочке с поясом.
Женские одежды XVII века
Одна Федосьюшка ничему не радуется. Молчит царевна, своего слова вставить не решается. Но вот осмелела:
— Петрушенька да Натальюшка с Федорушкой чем виноваты?
— Полно тебе, смиренница, за волчат заступаться, — в голос остановили ее сестрицы. — Петрушенька твой, того и гляди, кусаться начнет.
Смутилась Федосьюшка, примолкла. Всякие радости сестрицы друг дружке сулят, а у нее все печальнее на душе делается. Наталья Кирилловна, свыше всякой меры всеми обиженная, перед царевной стоит. Радость одних горем для других обернулась. Чужое горе сердце Федосьюшкино томит. Не верит она сестрам. Знает, что мачеха злодейкой им не была. Все обиды свои, годами накопленные, на царицу сестрицы валят. А разве она, царица, в неволе их долгой причинна?
— Сестры-голубушки, не за что вам царицу корить, — попыталась она вразумить царевен. — Нешто она волю от вас отнимала?
Но не дали сестры Федосьюшке договорить того, что ей надумалось, а думки у царевны, в терему выращенной, что облачка легкие, на небе чуть приметные. Ветер подул, и далеко развеялись.
— За Нарышкиных, видать, ты стоишь, — догадалась Катеринушка. — Знать, Нарышкины тебе своего рода-племени дороже. Забыла, как злодеи братца извести хотели? Артамон-чернокнижник на царя что замышлял?
Раскричались, друг друга перебивают царевны. Хочется Федосьюшке крикнуть, что неправда все, что говорят. Но она одна, сестриц пятеро, и голоса у них послышнее Федосьюшкиного.
Промолчать она порешила. Оглянулась Орьку с собой в покои позвать, а той уже и след простыл. Повернула царевна к дверям. Никто ее не удерживает, никто оставаться в саду не уговаривает. Сквозь туман слезный едва медную ручку на дверях она нащупала. А за спиной ее любимая Катеринушкина песенка раздалась:
Цвети, моя грушица, Цвети, моя зеленая, Зеленым-зеленехонько. Скоро тебя, моя грушица, Скоро тебя, моя зеленая, Станет поливати Катенька, Катенька Алексеевна Из своих рук из белых, Из чиста медна ковшичка. Уж она ли у батюшки Во саду во зеленом Всему хорошо выучена: Цветики сажать И яблочки поливать.Всю песню Федосьюшка, на медную львиную голову руку положив, прослушала. Сердцем ждала, что сестрицы, как допоет Катеринушка, о ней вспомнят, назад ее кликнут. Но забыли, видно, про нее царевны веселые. Шелестя одеждами шелковыми, по дощатым дорожкам высокими каблучками чеботков постукивая, между собою весело переговариваясь, на другой конец своего садика утешного Алексеевны тронулись. Не нужна им сестрица младшая показалась, да и разгневались они все на нее, с ними несогласную.
Когда же ночь пришла, Федосьюшка, с головою одеялом укутавшись, чтобы слышно ее другим не было, волю слезам дала. Насторожилась Орька, разобрала, что плачет ее царевна и, не долго раздумывая, ничего не спрашивая, с войлока на постель перемахнула.
Первый раз Федосьюшке тяжела на ноги ей навалившаяся Орька показалась.
— Плачешь о чем? Скажи, легче станет, — уговаривала ее Орька и отнимала меховое одеяло от царевниного лица.
Не хотелось Федосьюшке никому рассказывать о том, что днем между собою сестрицы в саду говорили, но не поделиться хотя долей своей печали с Орькой она не могла.
— Ох и тяжко мне, Орюшка. В чем правда, никак понять не могу. Сестриц жалко, мачеху жалко, жалко и детушек ее малых, а помочь им всем силушки нет. Вражда лютая стеной между нами поднялась. Стену эту мне не пробить, не осилить. Слова такого нет ли где, чтобы люди правду увидели, про вражду бы забыли?
Руки вдоль одеяла вытянув, глазами заплаканными Федосьюшка на Орьку глядит.
— Без правды жить тяжко. Где правду сыскать да людям показать, чтобы во тьме не ходили?
Не ушами, сердцем любящим Орька царевну слушает.
— Бедная ты!
По руке нежной пальцами ласково проводит.
— Вот и бабушка часто так-то мне говорила: «Без правды всего тяжелее. За правду и мученье в радость. Святые-то как терпели! Клещами тело их рвали, на огне жгли, в воде топили, а они радовались, что до правды дошли, и Бога славили».
— То святые, от Бога умудренные, а простому человеку где правду искать?
Задумалась Орька, и вдруг просветлело ее лицо:
— Царевна-голубушка, — задыхаясь от радости, что вспомнила, прошептала она, — а лампада хрустальчатая на что же в лесу-то затеплена?
— Лампада хрустальчатая? — вся засветившись, повторила Федосьюшка и замолчала.
И долго потом просидели они молча. Раскрывалась перед ними гущина лесная. Среди поляны зеленой, душистой вставала березка белоствольная, озаренная светом лампады, на золотых цепях с неба спущенной. Страхи, гады ползучие, звери рыскучие, нечисть всякая — все это неправда, что с пути человека сбивает. Когда все, что мешало ему, позади себя он оставит — перед ним свет лампадный звездочкой заблестит. Тишина святая сердца, правдой успокоенного, человеку тогда откроется.
— Тот, чьи глаза свет лампады небесной увидают, правду от неправды сам отделяет и людям до правды дойти поможет, — сказала, наконец, долгое молчанье прерывая, Федосьюшка.
А Орька ее руки своими обеими ухватила.
— Царевна, — она прошептала, к Федосьюшкиному лицу свое лицо побледневшее приблизив, — отпусти меня лампаду хрустальчатую в лесу поискать!
Замолчала. Ответа ждет. Наклонилась. В самую душу Федосьюшкину заглянуть хочет.
— С тобой и я пойду, — в ответ ей царевна шепчет.
Но качает головой Орька:
— Нельзя тебе. Ты — царевна.
Поникла русая голова у Федосьюшки.
— Нельзя мне. Царевна я, — тихо и грустно повторила она, и вдруг вспомнилось ей Благовещенья утро розовое. Знакомая радость, недавно пережитая, когда птиц она из башенки Смотрительной выпускала, к душе приблизилась.
— Мне нельзя, а тебя не держу, — зазвеневшим в ночной тишине голосом проговорила она. — Иди, разузнай про лампаду хрустальчатую. Разузнай и ко мне вернись. Когда мое время придет, вместе с тобою на поляну к березе белоствольчатой за правдой пойдем.
— Пойду. Разузнаю все. К дорогам лесным я привычная. Студенцы, ключи самородные, ухо к земле приклоняя, отыскивать знаю. По тому как птицы на закате поют, какая будет наутро погода, разбираю. Богомолка любая меня с собою взять рада. Одна перед другою с собою зовет. С ними я, когда время придет, из дворца и выберусь, с ними из Москвы на дорогу прямоезжую выйду, а там — широк Божий свет, много дорог в нем неезженых да нехоженых. Которая-нибудь, Бог даст, к лесу, где лампада хрустальчатая горит, меня приведет.
— Дорогу-то, как пойдешь, примечай.
— Разберусь, где назад пройти. Я приметливая.
— Поджидать тебя, как осень подойдет, стану, — сказала царевна.
Но на это ей Орька ничего не ответила. Свои мысли ее захватили.
— И соскучилась же я по волюшке вольной, — немного помолчав, проговорила она. — Надоели мне ваши хоромы.
Сказала это Орька и сама испугалась: не обидеть бы ей царевну.
… Широк Божий свет, много дорог в нем неезженых да нехоженых.
Федосьюшка в думку свою ушла и не расслышала Орькиных слов последних. А у Орьки давно глаза смыкались. Хотела она на войлок слезть, да не успела. Одолел ее сон, и она заснула здесь же, в ногах у Федосьюшки, поверх ее одеяла горностального.
Испугалась царевна, когда разобрала, что заснула девочка. Побьет ее мамушка, ежели на постели своей хоженой увидает. Но не успела царевна придумать, что ей с девочкой делать, как и ее саму сон сморил, а наутро, когда она глаза открыла и первым делом стала отыскивать Орьку, не нашла она ее ни на постели, ни на полу.
Так день целый и не попадалась девочка на глаза царевне. И то, о чем они между собою ночью говорили, сказкой недосказанной Федосьюшке вспоминалось. Во сне или наяву Орька лампаду хрустальчатую искать собиралась, она разобрать не могла. Ждала ночи, чтобы девочку обо всем расспросить. Скучен и долог день для царевны тянулся. Ночь подошла.
Уложила мама свою хоженую, со всех сторон крестом оградила, обернулась — Орьку за собой с душегреей и войлоком увидать ждала, а Орьки и нет.
— Одну службу свою и ту девчонка досадная, никак, забросила? И куда подевалась? День цельный я ее, непутевую, в глаза не видала, — разворчалась мама. — Девушки, Орьку мне мигом сюда приведите, — распорядилась она и присела возле постели, девочку дожидаясь.
Закрыв глаза, лежала Федосьюшка. Долго так им дожидаться пришлось. Орьку искавши, избегались девушки. Вернулись раскрасневшиеся. Запыхались.
— Нет девчонки нигде!
Мамушка только руками развела, не сразу, что и сказать, нашлась.
— Ох и поучу я ее! Только бы мне ее увидать! Забегалась! Будет меня помнить негодница! Ты засыпай, государыня. На войлок девушку сенную положим.
Но Федосьюшка ей:
— Одна я посплю, мамушка.
Укладываясь в соседнем покое на скамью постельную, громко бранила Дарья Силишна девчонку непутевую, а с нею заодно и всех сенных девушек.
— У кого-нибудь в боковушке девчонка уши развесила, а они, безглазые, высмотреть не могли. Схватится ужо, неладная, полетит в опочивальню, а у меня дверь-то на запоре. Сама я ей отомкну… — доносились до Федосьюшки мамушкины слова, но ее не тревожили.
Как только сказали, что нет нигде Орьки, сразу поняла царевна, что не сон ей ночью привиделся. Знала она, что подружку ее теперь никому не найти. Найдется, ежели сама назад придет. Страшно и радостно на душе у царевны сделалось.
31
Гул от радостного звона торжественного над Москвою стоит. Все колокола с колоколен кремлевских, городских и посадских каждый своим голосом об одном поет:
— Нет смерти! Христос воскрес!
— Христос воскрес! — раздается по улицам в рассвете дня, уже занимающегося. Обедня где уже отошла, где отходит. Народ по улицам с освещенными пасхами, куличами и яйцами расходится.
Идет и царь из собора Успенского по двору кремлевскому в палаты свои государские. В Золотой царицыной палате прихода его все домашние дожидаются. Царевич Иван, царица, царевны большие и меньшие — все собрались. Верховые боярыни, казначеи, кравчие, постельницы тут же.
При Алексее Михайловиче всегда так было, что царь из собора прямо на Верх христосоваться приходил, и новый царь старый обычай блюдет.
Опережая государя, церковный причт с пением радостным по сеням двигается.
Заутреню и царица, и царевны, и царевич Иван все вместе, как это при Алексее Михайловиче велось, в сенной церкви Рождества Богородицы отстояли.
Мыслями тревожными мучилась Федосьюшка, выходную шубку златотканую надевая. Представить себе не могла царевна, как это после всего, что было, у них с мачехой выйдет. «Праздник такой! Первый светлый праздник без батюшки встречать станем, а мы, его дети любимые, во вражде. И с кем? Сказать страшно: с теми, кого он, родимый, больше жизни любил». В церкви старалась Федосьюшка не глядеть на мачеху.
Для праздника великого в золото и каменья самоцветные убранная, несчастнее, чем в одежде черной, она казалась.
«Господи, сделай так, Милостивый, чтобы вражда, как лед под солнцем весенним, растаяла! Смягчи их сердца», — молилась Федосьюшка, опасливо поглядывая на вытянувшихся золотой стенкой теток с сестрицами.
Они все в ту сторону, откуда крестный ход должен был выйти, мимо мачехи глядели.
«Тяжко, Господи!»
Но распахнулись двери, и словно в колокол небесный «Христос воскрес!» по сердцам ударило.
— Христос воскрес! Воскрес! Воскрес!
Каждый новый возглас все, от чего сердце камнем сделалось, как молотом дробит. Радость в расщелины ручейками пробирается.
— Христос воскрес!
Ручейки в одну могучую волну сливаются. Слились. Последнее, что осталось в сердце темного, на дне потонуло.
— Христос воскрес!
Больше радости сердце вместить не в силах. Другому о ней сказать хочется.
— Христос воскрес!
Обнимает, целует Федосьюшка мачеху заплаканную. Видит, что и сама Наталья Кирилловна, и тетки, и сестрицы, — все друг с другом целуются.
«Господи! Неужто рухнула стена, неправдой воздвигнутая?»
— И ненавидящие нас простим вся воскресением, — поет клир.
«Простим, потому что Он воскрес. Нет больше смерти. И батюшка с небес на землю на тех, кого нежданно покинул, глядит. Господи! Радость-то какая ему, что все друг друга опять полюбили».
В Золотой палате собрались все светлые, умиленные.
«Подождать бы Орьке до праздника светлого. Поглядела бы она, как хорошо во дворце вдруг сделалось. Не лампада ли хрустальчатая нежданно среди царских палат загорелась?»
— Христос воскрес! Христос воскрес!
Царь в палату вошел. Слабы глаза у него, но сердцу видна радость, всех охватившая. На пороге уже почуял Федор Алексеевич, что нет того темного, что друг от друга их всех заслоняло.
— Христос воскрес!
Трижды, по очереди, целуется он со всеми. Наклонившись к мачехе, шепчет, что поклонился он от нее в соборе Архангельском батюшке. Крепче обычного он Софьюшку целует.
— Всегда бы так. Всем вместе в любви да согласии, — тихо говорит он сестре.
«Как хорошо! Хорошо-то как!» — выстукивает сердце Федосьюшки. Яичек красных без счета раздает она всем верховым. А последнее, в руке зажатое, так и осталось.
Всем царевна дала. Больше некому. С Орей бы ей яичком последним похристосоваться. Да где же теперь Оря-то?
Рассказывала она как-то Федосьюшке, что по деревням убогим есть церковушки бедные. На свечи к образам не всегда в них денег хватает. Священник в ризе заплатанной служит. В такой церковушке, быть может, Орька Светлую заутреню слушает. А может, и возле церкви под небом стоит. Народу много, в церковь не все попадают. Это тоже Орька рассказывала.
Хорошо под небом в светлую ночь Орьке стоять. Хорошо по дорогам, весной замуравленным, ей ходить будет. Дорог без конца, и во все они стороны…
Убежали из царских палат мысли Федосьюшкины далеко, далеко. По дорогам и тропинкам, по полям и лугам за Орькой следом бежит Федосьюшка.
Великим звоном праздника Светлого колокола звонят.
«Орюшка, где ты?»

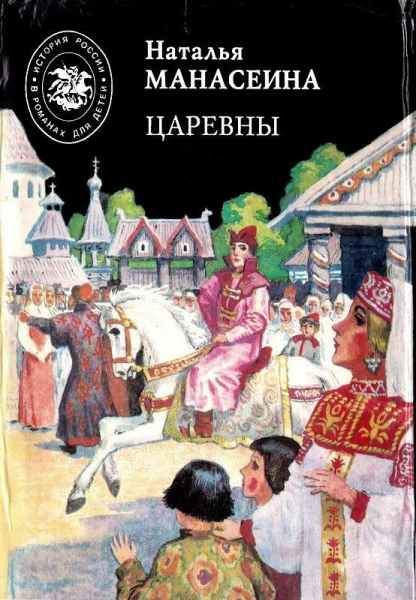


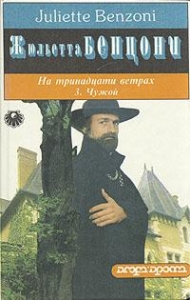
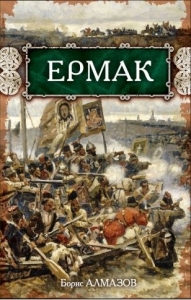

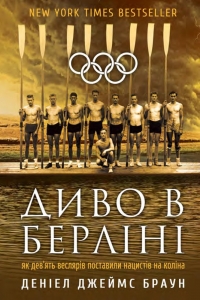
Комментарии к книге «Царевны», Наталья Ивановна Манасеина
Всего 0 комментариев