Грегор Самаров За скипетр и корону
Об авторе
Грегор Самаров (1828–1903)
Немецкий писатель Грегор Самаров (настоящее имя — Йоханн Фердинанд Мартин Оскар Мединг) родился 11 апреля 1828 (по другим данным 1829) г. в прусском Кёнигсберге (ныне — Калининград). Он изучал право и экономику в учебных заведениях родного города, а потом — в Гейдельберге и Берлине. В 1851 г. Оскар Мединг поступил на службу в королевские органы управления. Через несколько лет (1859) Мединг перебирается ко двору последнего ганноверского короля Георга V, где быстро завоевывает авторитет своими познаниями и становится советником монарха по внешнеэкономическим вопросам. В 1863 г. он получил должность правительственного советника, но три года спустя Георг был низложен. Мединг сопровождал в изгнание монарха, очень его ценившего. Более того, в 1867–1870 гг. Мединг был неофициальным посланником своего сюзерена в Париже. Позднее он вел с всемогущим канцлером Отто Бисмарком переговоры о судьбе распущенного Иностранного легиона.
С начала 70‑х гг. позапрошлого века Мединг поселился в Берлине и занялся литературой, взяв себе псевдоним Грегор Самаров. Европейскую известность ему принесла пятитомная эпопея «За скипетры и короны», которую составили романы: «За скипетр и корону» (1872), «Европейские мины и контрмины» (1873), «Две императорские короны» (1873), «Крест и меч» (1875), «Герой и император» (1876). Почти сразу же книги Г. Самарова были переведены на русский язык; так, два первых романа «пятикнижия» были выпущены в Москве в 1873 г. Уже в 1874 г. писатель выпустил несколько романов, названных им «современными», то есть отражающими события ближайшей истории: «Смертный привет легионов» (в русском переводе — «Последний привет легионов» и «Последнее прощание легионов») и трехтомный «Римский поход эпигонов» (русский перевод — «Накануне грозных событий»). «Современную» серию продолжили такие романы, как «Осада Меца и смерть Наполеона III», «Вокруг полумесяца», «Плевна» (даты выхода переводов на русский язык — 1877, 1882 и 1884 гг. соответственно). Даже из этого краткого упоминания переводов Г. Самарова на русский язык (а первые их издания выходили в последней четверти XIX в.) видно, что российские издатели не слишком аккуратно относились к авторским названиям, а потому один и тот же роман немецкого автора можно встретить не только в разных переводах, но, к сожалению, и под разными названиями.
В 1879 г. Мединг переезжает в Шарлоттенбург (ныне — это территория Берлина), где остается до конца жизни. Он пишет преимущественно исторические романы: трилогия «Наследие императора» («Желтая опасность», «Победа в Китае», «Возвращение»), «Корона Ягеллонов», «Коронованная мученица», «Ганноверский кирасир», «Медичи», «На берегах Ганга» с продолжением «Раху», «Саксоборуссы», «Полк кронпринца». Безусловно, к числу лучших произведений Г. Самарова относятся его «русские» романы, точнее — произведения о властителях немецкой крови на российском престоле: «Петр III» (он же — «На троне Великого деда»), «Елизавета, царица России» (в переводе — «При дворе императрицы Елизаветы»), екатерининские романы «На пороге трона» и «Григорий Орлов» («Адъютант императрицы»). Очень незначительными на этом обширном историческом поприще выглядят попытки Самарова создать современный «социальный» роман: «Высоты и бездны» (1879–1880), «Берлинские скандалы». Грегор Самаров известен и как мемуарист. Еще в 1881–1884 гг. он выпустил трехчастные «Воспоминания из современной истории». В дальнейшем в Париже вышла книга «От Садовой к Седану», имевшая подзаголовок «Воспоминания секретного посланника при Тюильри». Две книги воспоминаний писатель издает в 1896 г.: «Из дней минувших» и «Воспоминания времен брожения и отстоя». Наконец, надо упомянуть и еще об одной стороне творчества Г. Самарова: он был историографом кайзера Вильгельма I. В 1885 г. писатель выпускает книгу «88 лет в вере, борьбе и победе. Человеческий и героический портрет нашего немецкого императора», а в 1903 г. вышла трехтомная биография Вильгельма. Умер Оскар Мединг 11 (по другим данным, 12‑го) июля 1903 г.
В 1904–1909 гг. в Санкт‑Петербурге бесплатным приложением к журналу «Север» вышло 20‑томное собрание сочинений писателя. В советское время путь Г. Самарова к российскому читателю был закрыт. Наше знакомство возобновилось в девяностые годы прошлого века. А в 1997–1998 гг. даже был издан семитомник немецкого писателя, в котором собраны исторические романы в основном на русскую тему.
Анатолий Москвин
Избранная библиография Грегора Самарова:
«За скипетр и корону» (Um Szepter und Kronen, 1872)
«Кавалер или дама» (Ritter oder Dame, 1878–1880)
«Императрица Елизавета» (Kaiserin Elisabeth, 1881)
«Великая княгиня» (Die Grossfürstin, 1882)
«Вокруг полумесяца» (Unter der Halbmond, 1883)
«Григорий Орлов» («Адъютант императрицы») (Der Adjutant der Kaiserin, 1885)
«Под белым орлом» (Unter dem weissen Adler, 1892)
«Корона Ягеллонов» (Die Kronen die Jagellonen, 1896)
Часть первая
Глава первая
Темный апрельский вечер 1866 года. На часах девять. Берлинские дрожки[1], въехавшие на Вильгельмштрасе, остановились перед освещенным двумя газовыми рожками подъездом дома № 76, где размещалось министерство иностранных дел. Нижние окна этого длинного двухэтажного дома тоже светятся. Если заглянуть за зеленые шторы, то можно увидеть ряд комнат, заполненных, несмотря на поздний час, ревностно работающими чиновниками. В окнах верхнего этажа тоже мерцает огонек.
Из экипажа вышел человек среднего роста, в темном пальто и черной шляпе. Он подошел к газовому рожку, вынул из портмоне деньги для уплаты извозчику и, покончив счеты с нумерованным автомедоном[2], громко позвонил в дверной колокольчик. Почти в тот же миг дверь отворилась, и приехавший вступил в просторный холл с лестницей, ведущей на верх. Из двери швейцарской выглянула голова, с тем равнодушным выражением на лице, которое характеризует привратников больших домов.
Вошедший мимоходом бросил взгляд на голову в проеме и спокойным, ровным шагом проследовал к лестнице.
В ярком освещении холла обнаружились черты человека лет шестидесяти, с лицом несколько желтоватого оттенка. Живые темные глаза проницательно, но в то же время спокойно и приветливо светились сквозь стекла изящных золотых очков. Резко очерченный тонкий нос выделялся над небольшим, крепко сжатым ртом без усов и бороды; волевой округлый подбородок заканчивал это довольно выразительное лицо, которое, раз увидав, трудно было забыть.
Как только один из ярких лучей от золотого ободка очков коснулся двери швейцарской, физиономия в проеме как по волшебству переменилась.
Равнодушное, надменно‑снисходительное выражение мгновенно испарилось, преобразовалось в раболепную мину, и обладатель оной, выскочив из своей каморки, вытянул руки по швам, обнаружив сноровку старого военного служаки. Приезжий, меж тем медленно подвигавшийся к широким ступеням лестницы, приостановился.
— Министр‑президент дома? — спросил он тихо, с той изящной простотой и приветливостью, которая, будучи равно далека от заискивающей любезности просителя и от натянутой небрежности выскочки, характеризует человека, привыкшего уверенно и свободно вращаться на высотах жизни.
— К услугам вашего сиятельства, — отвечал подобострастно швейцар. — Только что уехал французский посланник, и никого больше нет. Господин министр‑президент изволят быть одни.
— Ну, а как ты поживаешь? Все еще бодро и ревностно служишь? — спросил приехавший приветливо.
— Покорнейше благодарю, ваше сиятельство, за милостивое внимание. Живу понемножку, хотя, конечно, становлюсь все слабее — не всем даны такие силы, как вашему сиятельству.
— Ну‑ну, все мы стараемся и к смерти близимся, не унывай — Господь с тобой! — С этими ласковыми и душевными словами серьезный человек в золотых очках поднялся по широкой лестнице на второй этаж, а старый швейцар, почтительно и радостно проводив его глазами, скрылся в своей каморке.
Вошедший нашел в верхней прихожей камердинера графа Бисмарка‑Шенгаузена и был им тотчас же введен через большую, слабо освещенную аванзалу в кабинет министра‑президента, дверь которого камердинер отворил, доложив своему господину:
— Его сиятельство граф фон Мантейфель!
Граф Бисмарк[3] сидел посреди комнаты за большим столом, заваленным папками и бумагами и освещенным высокой лампой под темным абажуром. По другую сторону стола стояло кресло, на которое министр сажал посещающих его особ.
При докладе камердинера Бисмарк встал и пошел навстречу гостю, тогда как Мантейфель, одним взглядом своих проницательных глаз окинув комнату, с чуть заметной горькой усмешкой взял протянутую руку министра‑президента.
То был момент огромного значения. В этих стоявших друг против друга людях соприкасалось прошедшее с будущим, старая Пруссия с новой.
Оба эти человека как бы сами почувствовали важность этого момента: они несколько мгновений молча стояли друг перед другом.
Мы описали Мантейфеля при его входе в дом министерства иностранных дел, остается добавить, что под снятой шляпой обнаружились слегка поседевшие, редкие и коротко остриженные волосы. Он стоял, держа в правой руке руку Бисмарка, а тонкими белыми пальцами левой сжимая шляпу. Черты его сохраняли олимпийское спокойствие, губы слегка поджаты, а вся фигура гостя дышала холодной сдержанностью.
Бисмарк возвышался над ним почти на целую голову. В его могучей стати угадывалась привычка к военному мундиру: резко очерченное лицо с крупными, глубокими чертами говорило о мощной, страстной натуре. Светло‑серые зоркие глаза смотрели на собеседника пристально и прямо, и под высоким и широким лбом с глубокими залысинами угадывалась энергичная работа мысли, упорядоченная железной волей.
— Благодарю вас за любезный визит, — начал Бисмарк спустя несколько секунд. — Вам угодно было пожаловать сюда, вместо того чтобы принять меня у себя, как я просил.
— Так лучше, — отвечал Мантейфель. — В моем отеле ваше посещение привлекло бы внимание, а так как я предполагаю, что наше свидание вызвано серьезной причиной…
— Да, к сожалению, очень серьезное и важное обстоятельство доставляет мне радость выслушать высокочтимый совет моего старого начальника. Вы знаете, как часто я стремлюсь к этому совету, и несмотря на это, вы постоянно избегаете всякого обмена мыслей, — сказал Бисмарк тоном грустного упрека.
— А какой в этом прок? — отвечал Мантейфель вежливым, но холодным тоном. — Самому действовать и самому отвечать было моим основным правилом, когда я находился на месте, которое теперь занимаете вы. Когда высокопоставленный государственный чиновник начинает выслушивать советы справа и слева, он теряет силу твердо и энергично идти по тому пути, который ему предписывают разум и совесть.
— Ну, у меня не в обычае прислушиваться к толкам с разных сторон и, кажется, нет недостатка в решимости идти вперед своим путем, — живо возразил Бисмарк и затем продолжал с легкой усмешкой: — Мои друзья в палате чуть не всякий день меня попрекают, что я недостаточно обращаюсь к их добрым советам, но вы, однако, согласитесь со мной, что бывают моменты, в которые самый твердый ум жаждет помощи и совета руководителя, подобного вам, мой высокочтимый друг.
— И такой момент теперь наступил? — спросил спокойно Мантейфель, остановив на мгновение свой проницательный взгляд на взволнованном лице Бисмарка, не проявив никаких признаков того, что высказанный тоном искреннейшего убеждения комплимент произвел на него впечатление.
— Да, именно настоящая минута принадлежит к числу тех, когда самый твердый ум поддается сомнению сильнее обыкновенного. Вы знаете положение Германии и Европы, вы знаете, что близок страшный кризис, от которого могут зависеть судьбы грядущих столетий, — сказал Бисмарк.
— Я знаю, что ему суждено когда‑нибудь наступить, — но когда именно? Однако, — прибавил Мантейфель после непродолжительного молчания, — наш разговор касается предметов высшей важности, а вы знаете мое глубокое отвращение к непрошеному вмешательству в дела, меня не касающиеся. Поэтому позвольте спросить: знает ли король, что мы с вами будем беседовать и о чем именно?
— Его Величество желает, чтобы я попросил у вас совета.
— В таком случае мой долг высказать беспристрастное мнение, насколько я могу таковое составить, — сказал спокойно Мантейфель, опускаясь в кресло возле письменного стола, тогда как Бисмарк уселся на своем рабочем стуле. — Однако прежде чем высказаться о положении дел, я должен знать, каковы ваши воззрения, где лежит цель вашей политики и какими средствами вы надеетесь ее достигнуть. Позвольте, — продолжал он, легким, вежливым движением руки отклонив возражение Бисмарка, — позвольте мне прежде высказать мои личные беспристрастные наблюдения, мое мнение о ваших взглядах, и вы тогда скажете откровенно, прав я или ошибаюсь.
Бисмарк молча поклонился и устремил на Мантейфеля свои светлые глаза с выражением напряженного внимания.
— Вы хотите, — продолжал гость невозмутимо, — разрешить великий германский вопрос[4], или, точнее, покончить с ним. Вы хотите поставить Пруссию во главе экономических и военных сил Германии и во что бы ни стало зажать рот тем, кто воспротивился бы этому. Вы хотите, одним словом, продолжительную хроническую болезнь, которую называют немецким вопросом, довести до острого кризиса и, — прибавил он с легкой усмешкой, — раз навсегда вылечить ее посредством кровавой операции.
— Да, хочу, — отвечал Бисмарк, не повысив тона, не сделав ни малейшего движения, но голос его прозвучал так странно, что эти два слова отдались по комнате каким‑то металлическим эхом, точно лязгнуло оружие, а в глазах его, неуклонно устремленных на Мантейфеля, вспыхнул электрический свет.
Так же, когда меч Лаокоона коснулся Троянского коня, из его недр забряцало греческое оружие — первые звуки того страшного аккорда, от которого пали стены Пергама и который, срываясь со струн Гомеровой лиры, уже две тысячи лет волнует человеческие сердца[5].
— Вам, конечно, небезызвестно, — продолжал Мантейфель, — что вас ожидает самое решительное противодействие, что вам придется вступить в борьбу, и очень скоро, так как противная сторона также горячо желает окончательного решения.
— Я это знаю, — отвечал Бисмарк.
— Итак, — продолжал Мантейфель, — теперь вопрос в средствах. У вас есть, во‑первых, прусская армия — весьма существенное, тяжеловесное средство, у этой армии есть преимущества, которых я не понимаю, но которые весьма важны по отзывам военных: игольчатые ружья, артиллерия, генеральный штаб. Но нужно принять в соображение и другие факторы: союзы и общественное мнение. Союзы кажутся мне весьма сомнительными. Франция? Вы лучше меня знаете, в каких мы отношениях с Молчаливым. Англия будет ждать развязки, Россия надежна. Общественное мнение…
— Разве у нас есть общественное мнение? — прервал Бисмарк.
Мантейфель тонко улыбнулся и продолжал:
— Общественное мнение при обыкновенных условиях есть эффектная декорация, которая неминуемо производит живое впечатление на массу публики, изображая то бурное море Фиески, то светлое облачко в Эгмонтовой темнице[6]. Для машинистов же за кулисами это не что иное, как механизм, который, повинуясь дернутой веревке, появляется в надлежащее время и в надлежащем месте. Я думаю, нам обоим знакомы и кулисы и механизм. Но есть другое общественное мнение, которое приходит и существует как ветер, неосязаемое и неудержимое, и такое же ужасное, когда он превращается в бурю. Борьба, предстоящая в близком будущем, будет борьбой немца против немца, и в такой борьбе общественное мнение неизбежно предъявит свои права. Оно явится или могущественным союзником, или грозным врагом — грозным особенно для побежденных, которым беспощадно прокричит vae victis![7] Германия в целом настроена против войны еще сильнее, чем Пруссия, и это необходимо иметь в виду в соображениях о прусской армии.
Бисмарк живо возразил:
— Неужели вы полагаете, что…
— Прусская армия забудет свой долг и откажется идти? — закончил Мантейфель. — Нет, отнюдь нет: могут случиться частные уклонения в ландвере[8], но то будут единичные явления, и армия исполнит свою обязанность — она воплощение долга. Но неужели вы станете отрицать громадную разницу между долгом, исполненным с радостью и вдохновением, и долгом, исполненным неохотно и с отвращением?
— Радость и вдохновение придут за успехом.
— А до того?
— До того будет исполнен долг.
— Хорошо, — сказал Мантейфель. — Не сомневаюсь, что так будет, я хотел только поставить вам на вид, что могущественный и значительный фактор в этом деле будет не за, а против вас.
— Я в этом отношении согласен с вами, — сказал Бисмарк, помолчав немного. — В настоящую минуту против меня то общественное мнение, которое вы так удачно сравнили с ветром. Только оно переменится так же быстро, как ветер. Но я не могу целиком с вами согласиться. Конечно, поверхностно образованное общество, дешевый либерализм гостиных и пивных говорит о той Германии, которая для них сделалась постоянной мечтой, не приемлет «гражданской» и «братской» войны против Австрии, — но поверьте мне, в прусском народе этого нет, стало быть, нет и в армии, вышедшей из этого народа. Народ видит в государстве Марии‑Терезии врага на своей границе, врага того прусского духа, который вдохнул в монархию старый Фриц. А те болтуны и фразеологи? О, их и их общественного мнения я не боюсь — они, как флюгер под ветром, повернутся к успеху.
— Я согласен с вами отчасти, но не вполне. Успех? Но подготовлен ли он? Мы коснулись двух фактов, теперь перейдем к третьему, может быть, важнейшему — к союзам. В каких вы отношениях с Францией, с Наполеоном Третьим?
При этом прямом вопросе, резкость которого выражалась как в остром, как сталь, взгляде, так и в тоне голоса, губы Бисмарка чуть‑чуть дрогнули, и по лицу его проскользнуло нечто вроде неуверенности, сомнения или недоверия, или всего этого одновременно. Оно, однако, так же быстро исчезло, и он отвечал спокойно и невозмутимо, как прежде:
— В хороших, в таких хороших, в каких можно быть с этим загадочным сфинксом.
— У вас есть обещание, удостоверение или, лучше того, личное слово Наполеона? — спросил Мантейфель.
— Вы допрашиваете строго, — отвечал Бисмарк, — но ведь я стою перед моим учителем, так выслушайте же, что в этом отношении сделано и как обстоит ситуация. Уже два года тому назад, в ноябре тысяча восемьсот шестьдесят четвертого, я говорил с императором по поводу датского вопроса — он живо желал присоединения Северного Шлезвига к Дании, — о затруднительном положении прусской монархии, расколотой на две части. Я указывал ему на то, как нерационально было бы учреждение нового маленького государства на севере и что гораздо лучше было бы для Дании иметь соседом большое, могущественное государство, нежели двор князька на своей границе, претендующего на датский престол. Император выслушал все, несколькими словами, казалось, одобрил мой взгляд на необходимость исправления прусской границы, но, по обыкновению его, не высказался прямо и определительно. Однако в нем было заметно серьезное нерасположение к Австрии, и он жаловался на ненадежность венского двора.
— И вы обещали ему Северный Шлезвиг, если он согласится с вашей идеей? — спросил Мантейфель.
— Наполеон мог так подумать, — отвечал Бисмарк с легкой усмешкой. — Однако так как он только слушал и кивал, то я не счел нужным в своих замечаниях выходить из пределов общего, объективного рассуждения.
Мантейфель тоже только кивнул головой. Бисмарк продолжал:
— Гаштейнское свидание представило случай к некоторому обмену мыслями, но мне не удалось прийти к решительному объяснению, и в ноябре тысяча восемьсот шестьдесят пятого я поехал в Биарриц, но и там не получилось вывести Молчаливого из его абсолютной сдержанности. Я знал, что тогда шли очень серьезные переговоры с Австрией, чтобы добиться разрешения итальянского вопроса, может быть, в этом лежала причина холодной замкнутости относительно меня, может быть, также… Вы знаете графа Гольца?
— Я его знаю, — сказал Мантейфель с тонкой усмешкой.
— Вы, стало быть, знаете также, что тогда в определенных кругах был пущен слух, что граф Гольц меня заменит. Я не понимал ясно, что тогда происходило в Париже, но что‑то происходило, или, вернее сказать, — происходило не то, что мне хотелось, и не так, как мне было нужно. Я стал сам действовать. На обратном пути из Биаррица я говорил с принцем Наполеоном.
— Серьезно? — спросил Мантейфель.
— Как нельзя более серьезно, — отвечал Бисмарк, и легкая улыбка заиграла на его губах. — И увидел, что Италия является слабым пунктом императорской политики. Добрый принц Наполеон обнаружил необыкновенную горячность. Я приказал действовать во Флоренции, и в скором времени установились твердые негоциации, результат которых я могу вам сегодня представить.
Жест Мантейфеля выдал его крайнюю заинтересованность…
Бисмарк взял небольшую пачку бумаг, лежавшую у него под рукой на письменном столе, и продолжал:
— Вот трактат с Италией, который заключен генералом Говоне и который гарантирует нам нападение на Австрию всеми итальянскими сухопутными и морскими силами.
— А Франция? — спросил Мантейфель.
— Император допускает, — отвечал Бисмарк, — приобретение Шлезвига и Гольштейна без северного шлезвигского округа; признает необходимость соединить обе половины прусской монархии, для чего нужно будет приобрести часть Ганновера и Кур‑Гессена, и не намерен противиться тому, чтобы под прусским начальством состояли десять союзных армейских корпусов.
— А чего он требует взамен? — спросил Мантейфель.
— Венеции для Италии.
— А для себя, для Франции?
— Для себя, — отвечал Бисмарк, — ничего.
— Ничего? — спросил Мантейфель. — Не имеете ли вы оснований предполагать, что здесь остались недосказанные мысли? Сколько мне помнится, перед итальянской войной он также ничего не требовал, а потом взял Савойю и Ниццу.
— Что касается до его мыслей, — сказал Бисмарк, — то я имею основание предполагать, что ему в высшей степени желательно приобретение Люксембурга и что, может быть, в дальнейшей перспективе в его комбинациях фигурирует присоединение Бельгии к Франции. Вы знаете, что в Брюсселе отчасти веет орлеанистский ветер.
— А что может думать Наполеон о вашем отношении к этим его мыслям? — продолжал спрашивать Мантейфель.
— Что хочет, — отвечал Бисмарк довольно небрежно. — Так как он ничего не требовал, я не имел основания что‑либо ему обещать, а доказывать нелепость и невыполнимость его желаний не входило в мою задачу.
— Понимаю, — кивнул Мантейфель.
— Ганновер нужно будет за уступки вознаградить в Лауэнбурге и Гольштейне.
— Этого требовал император Наполеон? — спросил несколько удивленно Мантейфель.
— Отнюдь нет, — отвечал Бисмарк. — По традициям своего семейства он не любит Вельфов, а вы видите, что базис всего переустройства — прусское преобладание в Северной Германии. Стало быть, ему все равно, что там происходит, но наш всемилостивейший государь придает большое значение тому, чтобы Ганновер в предстоящей борьбе стоял на нашей стороне и старинные семейные связи, существующие между двумя домами, сохранились в будущем.
— А вы сами, — допрашивал Мантейфель, — что думаете о ганноверском вопросе?
— Становясь на чисто объективную политическую точку зрения, — отвечал откровенно Бисмарк, — я должен желать, чтобы Ганновера вовсе не существовало, и должен выразить сожаление, что нашим дипломатам на Венском конгрессе[9] не удалось убедить английский дом к уступке этого secundo genitur[10] — что, может быть, могло бы удаться. Ганновер — гвоздь в нашем теле, и при самых лучших обстоятельствах причиняет боль, а если там подчиняются враждебному настроению, — как видно уже давно, — то он становится для нас опасным. Если б я был таким макиавеллистом, каким меня считают, то должен был бы устремить все свое внимание на приобретение Ганновера и, возможно, это не так трудно, как кажется, — продолжал Бисмарк, как бы невольно следуя цепи размышлений. — Ни английская нация, ни английский королевский дом не могут слишком близко принимать к сердцу его судьбу, и… но вы знаете, наш всемилостивейший государь очень консервативен и глубоко чтит ганноверско‑прусские традиции, воплощаемые в Софии‑Шарлоте и королеве Луизе, а я консервативен не менее — для меня те традиции тоже святы, и я всем сердцем присоединяюсь к желаниям короля хранить их в будущем и обеспечить прочное существование Ганновера. Но дело не может оставаться в теперешнем положении. Нам необходимы гарантии, и чем более жизнь государства в своей самобытности определяется и концентрируется, чем более международные сношения служат проводниками политики и преобразуются в ее плоть и кровь, тем менее Пруссия может терпеть, чтобы в ее теле, так близко к сердцу, существовал чуждый элемент, способный сделаться враждебным при любом кризисе. Поэтому могу вам ответить совершенно серьезно: я честно и откровенно стремлюсь к приобретению Ганновера, и если он, со своей стороны, чтит древние традиции и искренно нам предан, то я ему доставлю надежное и почетное, даже блестящее положение в Северной Германии. Но, конечно, ганноверцы должны перестать давать нам чувствовать, что могут быть препятствием для нас.
— И вы надеетесь добиться соглашения с Ганновером? Серьезного, прочного союза? — спросил Мантейфель.
— Надеюсь, — отвечал Бисмарк после короткой паузы. — Граф Платен был здесь. Вы с ним знакомы?
Мантейфель улыбнулся.
— Ну, — продолжал Бисмарк, — мы ничего не жалели: его осыпали всевозможными любезностями, дали большой крест Красного орла.
— Не Черного? — спросил Мантейфель.
— Ба! Надо же было оставить пороху про запас. Он и так был вне себя от счастья, и кроме того, я предложил ему семейный союз, которого Его Величество сам горячо желает и которым весь вопрос может быть решен сразу и самым дружелюбным образом.
— Я слышал об этом случайно, — вставил Мантейфель. — Вы думаете, что этот проект может удаться?
— В самом Ганновере к нему отнеслись благосклонно, — отвечал Бисмарк. — И в Нордернее так же, как в Мариенбурге, но время покажет, что из этого выйдет, для меня же важнее всего политика.
— А что обещал граф Платен в этом отношении?
— Нейтралитет — то же, что он уже сделал относительно принца Изенбургского.
— И союз, стало быть, заключен?
— Граф Платен, конечно, не мог сделать этого один; кроме того, ему хотелось, чтобы дело оставалось в тайне, дабы до времени не возбудить опасения во Франкфурте и Вене. Между тем он дал мне твердые заверения, и одновременно так едко высказывался о Бейсте и венской государственной канцелярии, что я не могу ему не верить.
— Извините, — вставил Мантейфель, — но, придавая некоторое значение этому ганноверскому вопросу, я отношусь к нему скептически. Насколько мне кажется, он ограничивается разговорами без положительного результата — уверениями и обещаниями графа Платена. Не лучше ли было в самом Ганновере сделать серьезные шаги? Георг Пятый — не Людовик Тринадцатый, а граф Платен — не Ришелье.
— Я сам об этом думал, — заметил Бисмарк. — Вы знаете, что аккредитованный здесь от Ганновера Штокгаузен состоит в родстве с Бодиссинами? Один Бодиссин, писатель, фельетонист, которого вам, может быть, называли, свел молодого Штокгаузена, служащего секретарем у своего отца, с Кейделем. Может быть, этим путем удастся добиться непосредственного влияния в Ганновере. Во всяком случае, повторяю, что серьезно желаю прочной и окончательной дружбы с Ганновером и сохранения ганноверского престола, и употреблю все от меня зависящее, чтобы прийти к этому результату, вопреки известному вам предубеждению многих пруссаков. С Ганновером тесно связан Кур‑Гессен. Курфюрст, кажется, хочет идти по стопам ганноверского короля. Впрочем, этот вопрос меня мало заботит, он не династический.
— Ну, — продолжал спрашивать Мантейфель, — а считаете ли вы возможным в случае войны с Австрией добиться нейтралитета Баварии и Вюртемберга?
— Нет, — отвечал Бисмарк. — Австрийская партия всемогуща в Мюнхене, и принц Рейс пишет мне, что, с тех пор как там прослышали про Итальянский союз, баварский нейтралитет стал безусловно немыслимым. Единственное, на что можно надеяться, это на вялость столкновения, так как самый серьезный пункт будет в Богемии. Вот вам в существенных чертах положение дела. Если вам угодно разъяснить какой‑нибудь отдельный пункт, спрашивайте меня, а теперь прошу вашего мнения en connaissance de cause[11].
Мантейфель несколько минут молча смотрел в пол, затем поднял взгляд на лицо собеседника, в высшей степени напряженное, и начал тем мягким, спокойным голосом и тем легко льющимся внушительным тоном, который — хотя он никогда не был публичным оратором — в личном общении придавал ему такое своеобразно‑убедительное красноречие:
— Во всяком случае, я вижу, что вы продумали все моменты, подлежащие обсуждению перед началом серьезной борьбы, и что многое сделано, чтобы обеспечить успех своей стороне, однако только в одном пункте я вижу нечто в самом деле готовое, законченное и надежное. Этот пункт — прусская армия. Все остальное здание непрочно и шатко. Положение Франции далеко нельзя считать ясным и твердым, Германия кажется мне враждебной, затем — говоря откровенно — я не доверяю Ганноверу: политика верности и предусмотрительности не в характере короля, и, повторяю, Ганновер может быть очень опасен. Подумайте, что бригада Калика еще в Гольштейне, подумайте, что Ганновер и Гессен могут выставить довольно значительные силы, а у вас не много остается, чтобы действовать там. Италия? Вы говорите, что союз с ней надежен. Хорошо, допустим, она сдержит слово, но уверены ли вы, что итальянская армия может рассчитывать на успех? Я не думаю. Какими слабыми не были бы силы Австрии на итальянском театре войны, в пределах четырехугольника крепостей Австрия всегда будет бить итальянцев. Этот театр австрийский генеральный штаб знает как шахматную доску, его воспитывают — если хотите — дрессируют одерживать там победы, так что я не предвижу ничего, кроме поражения для Италии.
— Но, — вставил живо Бисмарк, — уже то обстоятельство, что Австрия будет вынуждена действовать на двух театрах войны, довольно значимо. Сколько войск могут нам противопоставить? Австрия уверяет различные немецкие дворы, как мне доносили, что у нее восемьсот тысяч солдат, — а я знаю точно, что у нее нет и половины этого числа.
— Ну, допустим даже, что есть — главное все‑таки не количество, а качество армии. Теперь второй, более серьезный вопрос: нужна ли война? Таково ли положение, чтобы было обрекать себя на все несчастья, на все страшные опасности такой тяжелой борьбы? Вы знаете, что я тоже желаю видеть Пруссию во главе Германии — желаю этого как пруссак, как немец, и работал в этом русле как министр, пока был в силах. Но я руководствовался тем, что такие вопросы должны решаться временем и созревать путем органического развития, и всегда находил величайшего врага прусского преобладания в Германии в недоверии немцев. Это недоверие, страх государей за их престолы и за будущее своих династий, страх населения областей за свою автономию, всегда служили отличным орудием в руках Австрии, так как она сама, благодаря слишком большому и сложному своему составу, избавлена от подобных опасений. Я считал задачей Пруссии — и со своей стороны стремился к тому, — приобрести доверие государей и народов Германии. Как только это удастся — первенство за нами и роль Австрии кончена, потому что, не будь этого недоверия, и немецкий дух, дух развития и просвещения, дух идущей вперед народной жизни, — за нас. Кроме того, я имею свои личные воззрения на прусскую войну. Наше могущество велико, но исключительно и своеобразно, потому что в полном своем развитии ставит всю страну на поле битвы, и при неблагоприятном обороте мы окажемся ближе к крайней катастрофе, чем какое‑либо другое государство. Пока наше могущество впечатляет, оно очень велико, но умаляется по мере действительного вступления в дело. Пока мы стоим с ружьем у ноги, с нами приходится неизбежно считаться и, — прибавил Мантейфель с выражением спокойного удовольствия, — Парижский мир говорит отчасти в пользу моего утверждения. Зачем же окончательно подрывать доверие, уже отчасти потрясенное новой эрой, в чем необходимость серьезно рисковать могущественным резервным положением Пруссии ради азартной игры в войну? Вы сочтете меня, может быть, — прибавил он с печальной улыбкой, — за малодушного, но так как вы спрашивали моего мнения, спрашивали настойчиво, то я со своей стороны считаю себя вправе адресовать вам эти вопросы.
Пока Мантейфель говорил, на лице Бисмарка отражалось волнение. По нему ходили желваки. Но он, однако, не позволял себе прерывать речь собеседника ни движением, ни словом.
Когда Мантейфель кончил, министр‑президент стремительно встал, подошел к своему гостю и, порывисто взяв его за руку, проговорил:
— О, мой высокочтимый друг! Я знаю эти ваши воззрения, я знаю благородные побуждения, двигавшие и руководившие вами, пока вы держали кормило Прусского государства, я знаю вашу добросовестность и предусмотрительность. Поверьте мне, я тоже далек от того, чтобы легкомысленно играть судьбами прусского государства, этого искусного результата вековой заботливости! Поверьте мне, не я вызывал эту войну — я в положении обороняющегося, и если не с такой благоговейной опаской, как король, отступаю перед неизбежностью встать к барьеру с коварной Австрией, то мне все‑таки ни в каком случае не хотелось бы доводить до крайности. Но я знаю, что в Вене хотят войны, что там не желают признавать даже положения, принадлежащего нам по праву. Мало того, нас хотят придавить и придушить в механизме союзов, который вам известен и который вам тоже доставлял столько забот и тревог. Саксонец Бейст и его друзья в Вене, сангвиник Мейзенбук, честолюбивый педант Бигелебен и синий Макс Гагрен мечтают о новом немецком государстве, в котором созданный ими парламент возвел бы императора Франца‑Иосифа на германский престол, и сам император живет и грезит этими мечтами. Они ему положительно вскружили голову комедией Франкфуртского княжеского сейма[12]. Эти глупцы не понимают, — вскричал он, сделав несколько размашистых шагов по комнате, — что во Франкфурте не тот был император, кто под ликованье уличной толпы сервировал boeuf historique[13] и поднимал бедных немецких государей, — прибавил министр с горькой усмешкой, — из постели на рассвете для matinee politique[14], причем мне предоставлялось наслаждаться подогретой водицей бейстовской премудрости! Нет, конечно, императором был не он, а тот, от чьего холодного «нет», от чьего простого отрицания вся затея разлеталась в прах. И неужели я должен спокойно выжидать, пока представится более благоприятный момент для приведения этих планов в исполнение? И затем, мой высокочтимый друг, — продолжал Бисмарк, снова подходя к Мантейфелю, слушавшему его с невозмутимым спокойствием, — и затем, разве не бывают минуты, в которые необходимы смелая решимость и быстрое исполнение, чтобы достичь великого и устранить грозные опасности? И разве в истории нашей Пруссии такие минуты случались не чаще, нежели в иных странах? Что было бы с Пруссией, если б Фридрих Великий стал выжидать, пока те, совершенно сходные с нынешними, планы Австрии и Саксонии достигли зрелости? Если бы он быстрым, сильным мановением своей смелой руки не разорвал сетей зависти и злобы? Что было бы с Пруссией без смелого шага Йорка? О, мой уважаемый друг! — вскричал с одушевлением Бисмарк, причем его фигура как бы выросла и стала шире. — Чувство говорит мне и разум не противоречит, что дух Фридриха Великого и дух тысяча восемьсот тринадцатого года есть жизненный дух, веющий по всей прусской истории, и что на великих мировых часах показывается час, когда Пруссия должна идти вперед! А не идти вперед в этом случае значит отступать назад на неопределенное расстояние. Неужели я с таким убеждением в сердце должен сидеть неподвижно и позволить прийти беде, выжидать, — прибавил он тише, — пока, быть может, рука менее твердая, чем моя, душа менее мужественная, чем та, которую я в себе чувствую, будут призваны встретить опасность лицом к лицу?
До сих пор Мантейфель, опираясь слегка рукой на письменный стол и опустив взгляд, оставался неподвижен. Теперь он приподнялся и посмотрел прямо в глаза министру‑президенту, который в сильном волнении, с каким‑то боязливым напряжением ждал его ответа.
— Граф, — сказал он спокойным голосом, в котором, однако, слегка угадывался более теплый оттенок, — вы касаетесь струны, которая, как вы знаете, звучит в каждом пруссаке и тон которой проходит и через мою жизнь. Кто станет отрицать, что есть моменты, в которые спасает только смелое действие, кто станет отрицать, что Пруссия, энергично пользуясь такими моментами, стала тем, что она теперь! Но стоим перед таким моментом сейчас — этого никто из смертных безошибочно решить не может, и я не стану с вами препираться: судить об этом по долгу и совести и действовать сообразно полученным заключениям — дело того, кто в такие моменты стоит у ступеней престола. Вы находитесь на таком месте, и вам, что бы ни случилось, придется отвечать перед историей, отечеством и королем. Вам и решать, что нужно делать, и я ни в коем случае не хотел бы ставить под сомнение ваше решение. Но есть еще вопрос — не пугайтесь, он будет последний, хотя, может быть, самый существенный.
Мантейфель сделал шаг к Бисмарку и спросил, понизив голос на один тон и придав ему этим еще большую выразительность:
— Если в этой азартной игре карта выпадет против вас, если расчет шансов окажется ошибочным — мы все можем ошибаться, — если тогда победоносный противник захватит власть и к давно подготовленным замыслам прибавит высокомерие победы, а на нашей стороне останется горечь неудачи, то какие у вас составлены планы, какие сделаны приготовления, чтобы предохранить тогда Пруссию от крайней опасности, быть может, от совершенной погибели? Вы знаете, я всегда придерживался правила, что хороший генерал прежде всего должен думать об отступлении и обеспечить его, поэтому вы найдете мой вопрос естественным и поймете, какое значение я ему придаю.
Оживленно‑напряженное и взволнованное лицо Бисмарка подернулось надменным и холодным спокойствием, губы его нервно дрогнули, глаза сверкнули точно острие меча. Он заговорил тем металлически вибрирующим тоном, который в известные моменты способен принимать его голос:
— Если б я считал возможным, если б я думал, что прусскую армию способна разбить Австрия, я не был бы прусским министром!
При этих словах, высказанных тоном глубочайшего убеждения, Мантейфель отступил шаг назад и взглянул с выражением удивления и непонимания в просветлевшее и самоуверенное лицо министра‑президента. Затем он медленно отошел в сторону, взялся за шляпу и, со спокойной вежливостью поклонясь Бисмарку, тоном обыкновенного салонного разговора промолвил:
— Кажется, цель нашей беседы достигнута, и я не смею дольше посягать на ваше время, принадлежащее многосложным обязанностям.
Оживление Бисмарка перешло в выражение болезненной скорби, и он отвечал печально:
— Цель не достигнута. Скажите лучше, что не хотите больше высказываться, так как мы стоим на крайних точках, между которыми нет ничего общего.
— Если это так, то не будет ни смысла, ни пользы, если мы продолжим вращаться долее в таких отдаленных сферах. Но я думаю, — прибавил он, слегка улыбаясь, — в одном отношении мы с вами сойдемся: в том, что время слишком дорого, чтобы тратить его на бесполезные слова.
— Так будьте здоровы, — сказал Бисмарк, крепко пожимая Мантейфелю руку, — вы оставляете меня беднее одной надеждой, слабее одной поддержкой.
— Вы не нуждаетесь в посторонней поддержке, — отвечал Мантейфель. — Но что бы ни случилось, будьте убеждены, что мои искренние чаяния устремлены на целость, величие и славу Пруссии.
И с легким поклоном он пошел к двери.
Бисмарк проводил его молча до аванзалы, затем вернулся к письменному столу, за которым просидел несколько минут в глубоком раздумье.
— Все, все! — крикнул он вдруг, вскочив и быстро зашагав по комнате. — Все поют ту же песню, говорят об ответственности, об опасностях, об ужасах войны! Но разве я не сознаю ответственности, не вижу опасностей, остаюсь холоден при мысли о бедствиях войны? Но именно потому, что я вижу опасность, я не могу отступать перед этими ужасами, не могу слагать с себя ответственности. Я знаю, почему большинство старается удержать меня от смелого шага: либеральные парламентаристы боятся пушечного грома, они боятся даже победы, и все слабоумные, которые хотели бы в трусливой косности ухватиться за Сегодня, чтобы не встретить лицом к лицу Завтра, ведь они никогда не хотят ничего честного и твердого, остаются теми же во все времена истории. Но Мантефель — человек дела и мужества, знает опасность и не боится ее, но и он тут отступает. Это серьезнее — одно слово этого человека могло бы поднять на воздух, как перышко, целый мир парламентских говорунов, дипломатов и бюрократов… Он хочет приготовить отступление!
Бисмарк простоял с минуту молча и в раздумье.
— И разве он не прав? — опять заговорил министр‑президент глухо и мрачно. — Если последует неудача, враги восторжествуют, Пруссия погнется — сломится, что тогда? Отступить, как легкомысленный игрок, осужденный всеми, всей последующей историей, став посмешищем презренной толпы? Но, с другой стороны, отстраниться с сознанием победы в сердце, упустить момент и вместе с ним то великое, могучее будущее Пруссии, которое я вижу перед собой так ясно…
Минутной утраты Не вернет никакая вечность…И он опять постоял молча, глядя задумчиво на пол.
— О, кто покажет мне свет в этой тьме! — произнес Бисмарк тоскливо. — Я хочу видеть небо, мне нужны воздух и простор… — Схватив легкую шляпу, он быстро спустился по лестнице и, пройдя двор, углубился в темные аллеи большого сада, примыкавшего к дому министерства иностранных дел.
В то же самое время в нарядной и ярко освещенной гостиной того же здания сидели пожилая дама и молодая девушка, занятые легким женским рукодельем. В стороне стоял чайный стол, и веселое пламя заставляло воду в чайнике напевать ту своеобразную песенку, которая для англичан, вкупе с чириканьем сверчка, составляет музыку домашнего очага, мелодичный привет родины.
Дамы были: госпожа Бисмарк, супруга министра‑президента, и ее дочь. Возле них сидел советник посольства фон Кейделль, ближайшее доверенное лицо своего начальника.
Говорили о берлинских новостях дня, о театрах и обо всем прочем, способном интересовать общество. Госпожа Бисмарк часто с тревогой и озабоченностью поглядывала на дверь.
— Не знаете ли, кто у моего мужа? — обратилась она к советнику посольства. — Я боюсь, что такой чрезмерный труд серьезно повредит его здоровью, и мне в самом деле досадно каждое посещение, сокращающее немногие минуты отдыха, которые он проводит вечером у нас и которые хоть отчасти успокаивают напряжение нервов.
— Насколько мне известно, — отвечал Кейделль, — у него нет больше никого и он, вероятно, заканчивает какие‑нибудь спешные дела.
Дверь отворилась, и вошел Бисмарк. Он нежно приветствовал жену и дочь, подал Кейделлю руку и подсел к маленькому кружку.
Фрейлейн фон Бисмарк готовила чай, а слуга тем временем подал министру‑президенту большой граненый стакан пенящегося баварского пива, которое тот с видимым удовольствием сразу отпил до половины.
— У меня был фельдмаршал Врангель, — сказала госпожа Бисмарк, — очень желал тебя видеть, но я его не пустила и сказала, что ты очень занят.
— Благодарю тебя, — отвечал ей Бисмарк. — Я в самом деле не мог его сегодня принять. Дела запутываются все больше и больше, и необходимо величайшее спокойствие, чтобы собраться с мыслями и сосредоточить волю, — прибавил он задумчиво, причем озабоченное выражение, очевидное в нем уже при входе в гостиную, проступило еще резче.
— Фельдмаршал принес мне прелестную вещицу, — продолжала женщина, взяв со стола конверт, — и заставил от души посмеяться.
Она вынула из конверта фотографическую карточку и подала ее мужу.
Бисмарк взглянул на карточку, и тревожное, озабоченное выражение в лице его сменилось веселой улыбкой.
— Ага, — сказал он, — мой портрет с маленькой Луккой уже в продаже? Ну что ж, я не имею ничего против — мы оба оказываемся в весьма приличном обществе. — Он, смеясь, разглядывал карточку и продолжал: — Я встретился с ней на днях на Унтер‑дер‑Линден, проводил ее недалеко, и она горько жаловалась на скуку. «Не могу ничего придумать, разве пойти и сфотографироваться?» — капризничала она. Я предложил разделить с ней это оригинальное развлечение, и таким образом возникла эта маленькая, но тем не менее высококомичная картинка, о которой, конечно, будут много болтать. Tant mieux[15] — собака Алкивиада!
Передав карточку жене, Бисмарк снова погрузился в мрачное раздумье.
Через несколько минут, когда водворилось молчание, он поднял голову, обратился к Кейделлю и сказал:
— Не сыграете ли вы нам что‑нибудь, любезный Кейделль?
Кейделль встал и направился к открытому роялю на другом конце комнаты.
Он взял несколько аккордов и затем начал мастерски, поразительно отчетливо и сильно исполнять род прелюдии, которая, развиваясь порывистыми переходами, созидая и разрешая диссонансы, попадала, казалось, в тон настроению министра.
Бисмарк встал и начал ходить медленными, большими шагами по комнате, тихо выступая, чтобы не прерывать музыки и ничего не утратить из впечатления, которое она, очевидно, на него производила.
Кейделль продолжал играть, все глубже и дальше погружаясь в мир звуков. Постепенно борющиеся между собой аккорды становились яснее, диссонансы реже и мягче, и после простого перехода тихими тонами он начал Двенадцатую сонату Бетховена.
Как только прозвучали простые и вместе с тем так глубоко трогательные тоны темы, Бисмарк приостановился, зрачки его расширились и легкая улыбка, заигравшая на губах, доказала, что Кейделль угадал способ благотворно подействовать на начальника.
Министр‑президент продолжал ходить по комнате, и пока превосходные вариации, гигантской творческой силой звукового поэта вызванные и развитые из простой первоначальной темы, завершали величественную звуковую картину, на лице государственного деятеля отражалась сильная внутренняя борьба. Он то нерешительно приостанавливался, произносил вполголоса отрывистые слова, то снова стремительно и порывисто шагал по комнате, теряясь взглядом в каких‑то широких пространствах за пределами окружавшей его обстановки.
Госпожа Бисмарк следила глазами за мужем, озабоченно вглядываясь в его оживленное, неспокойное лицо, но ни словом не прерывала молчания.
Кейделль между тем дошел до той поразительно прекрасной фразы сонаты, которую Бетховен обозначил надписью: «Marcia funebre sulla morte d’un Eroe»[16], — и глубоко потрясающие аккорды этого марша раздались в гостиной.
Бисмарк остановился. Сильная рука его оперлась на спинку кресла, глаза устремились вперед, и он вслушивался в потрясающие звуки с таким выражением, как будто на него снизошло вдохновение.
Искусное звукоподражание гремело отдаленным барабанным боем, прерываемым вздохами труб. Кейделль, увлеченный красотами композиции, превзошел сам себя в исполнении.
Госпожа Бисмарк отложила работу и задумчиво слушала.
Министр‑президент стоял неподвижно. Шире вздымалась его грудь, сильнее напрягались мощные мускулы руки, ярче вспыхивали молнии в глазах, будто искавших сквозь потолок гостиной темного ночного неба с его звездами.
Еще раз глубоко вздохнули трубы, в ответ им раздались звонкие залпы звуков, и после короткой паузы Кейделль перешел к финалу сонаты.
Бисмарк оглянулся, точно пробудясь от сна. Он простоял с минуту неподвижно и как бы в забытьи прошептал:
— И если мне суждено погибнуть, пускай такими звуками вознесется моя душа. Мог ли поэт над гробом героя почувствовать то, что звучит в этих аккордах, если б не было людей, способных встать выше сомнений и колебаний? Jacta est alea![17]
И, не обратив внимания на окружающих, он бесшумно оставил гостиную.
Кейделль доиграл сонату до конца.
Госпожа Бисмарк тревожно проводила мужа глазами.
Когда советник посольства встал и снова подошел к дамам, она сказала:
— Я уверена, что мой бедный муж болен, постарайтесь убедить его побольше думать о своем здоровье!
— Я делаю все, что могу, — отвечал Кейделль, — только вы сами знаете, как трудно его переубедить в этом отношении. Впрочем, — прибавил он, — я не думаю, что он болен — к нему часто приходят разные мысли во время музыки, и теперь тоже что‑нибудь особенное пришло ему в голову, и он поспешил уйти, чтобы записать идею.
Бисмарк между тем скорым шагом вернулся в кабинет и присел к письменному столу. На лице его не было ни тени нерешительности или волнения, на холодном спокойствии черт лежало мягким отблеском выражение твердой, непреклонной воли.
Он взялся за перо и набросал, не колеблясь и не задумываясь, целый ряд заметок на листе чистой бумаги.
Это заняло около получаса, после чего министр позвонил в стоявший рядом колокольчик.
В дверях показался камердинер.
— Господин фон Кейделль еще здесь?
— К услугам вашего сиятельства.
— Прошу его сюда на минуту.
Через несколько минут вошел советник посольства.
— Любезный Кейделль, — сказал Бисмарк, — вот заметки для циркуляра послам в Вене, Франкфурте и Париже, позаботьтесь о немедленной их доставке. Абекен изложит их со свойственным ему уменьем, совершенно в моем духе и стиле. Узедом должен получить ту же инструкцию, но только с прибавлением того, что я отметил на полях.
— Я исполню все безотлагательно, — сказал Кейделль с поклоном, — завтра же почта будет отправлена.
Он между тем взглянул на лист, который взял в руки.
— Ваше сиятельство, — сказал он с испугом, — это война!
— Да, война, — сказал Бисмарк, — а теперь спокойной ночи, любезный Кейделль. — До завтра, надо спать — я, право, очень устал, и нервы мои требуют покоя.
Кейделль удалился.
Через полчаса отель иностранного министерства погрузился в глубокое безмолвие под покровом ночной тьмы. Так рука Провидения задергивает густым покрывалом судьбы грядущих дней.
Глава вторая
В окрестностях ганноверского города Люхова лежит та богатая и своеобразная местность, которую — вне официальных сфер — называют Вендландией. Это одна из областей Германии, где древнее вендское племя, со свойственной ему цепкостью и устойчивостью, сохранилось во всей чистоте и продолжает жить на свой особый лад и обычай.
Вендландия — страна богатая, красивая, цветущая. Красивая не в смысле живописного пейзажа, представляющего глазу поражающие чередования высот с низменностями, но привлекающая спокойствием, которым дышат ее обширные равнины. Только высокие и стройные группы деревьев разнообразят монотонность полей и лугов. Среди этих древесных групп редкой красоты и буйства зелени то поблескивает в золотистых солнечных лучах скромная церковь тихой деревушки, то крыша старого дворянского гнезда, дальше виден абрис маленького городка, даже с такого расстояния вселяющего мысль о том, как мирно там живется вдали от шума света, бурные волны которого разве только неспешным отливом затрагивают мирных жителей этих спокойных закоулков. В промежутках ширятся большие песчаные пространства, поросшие хвойным лесом — однообразные и величественные, отчасти напоминающие красоты моря. Дальше тянется песчаная, уединенная дорога, — дичь бесстрашно подходит к ее окраинам, сильные лошади идут медленным, но твердым шагом, ничего не видно, кроме неба, сосен и песка. При встрече с проезжими, путники кланяются им еще издали, обмениваются парой слов и радуются встрече. Выехав из хвойного леса и нырнув с головой, измученной зноем, под тень роскошных лиственных рощ, обличающих близость жилья, весело выпрямляешься, глубже вдыхаешь грудью мягкий воздух, лошади трясут головами, ускоряют рысь, а кучер веселым и искусным щелканьем бича выманивает деревенских собак из подворотен.
Короче говоря, в этих краях путешествие сохранило еще привлекательность древних приключений, утомление и обветшавшую поэтичность. Города здесь блюдут исконные обычаи, дворянские гнезда по завету древнего гостеприимства отворяют настежь ворота и двери при приближении странников — те ведь вносят струю свежей жизни из того большого света, от которого здесь так далеко и перипетии которого только в виде слухов тревожат спокойное течение мирной домашней жизни.
Такова старая, прекрасная и верная преданиям Вендландия. Жители ее похожи на свою родину. Здоровые и крепкие, как природа, посреди которой живут, они бесхитростны, богаты, потому что у них есть все, что им нужно, и нет потребностей, которых нельзя удовлетворить, сильны в своих простых чувствах, ясны в простых мыслях, воодушевлены естественной, бессознательной поэзией в сердцах, полных горячей, чистой крови.
Одним из далеко вытянувшихся хвойных перелесков поздним вечером апреля 1866 года ехал песчаной дорогой молодой офицер Кембриджского драгунского полка армии Ганновера. Красивая, статная лошадь шла медленным шагом, всадник сидел небрежно и задумчиво, не обращая внимания на дорогу, которую лошадь, казалось, хорошо знала. Небольшие белокурые усы покрывали верхнюю губу молодого человека, голубые глаза мечтательно смотрели вдаль, как будто отыскивая в ярко‑золотых вечерних облаках, окружавших заходящее солнце, образы, наполнявшие и поглощавшие его мысли. Коротко остриженные, слегка вьющиеся волосы не без кокетства выбивались из‑под легкой форменной фуражки, а немного бледное лицо обнаруживало, при силе юношеского здоровья, ту своеобразную нежность, которую молодые люди, очень быстро вытянувшиеся в рост, сохраняют еще несколько лет по достижении полной возмужалости.
Около четверти часа молодой офицер медленно и задумчиво ехал лесной дорогой. Тень от лошади становилась все длиннее и длиннее, его провожали голоса птиц, спешивших к своим гнездам.
Дорога свернула в сторону, лес раздался вширь, и на некотором отдалении показался старый замок, обрамленный высокими деревьями, в больших окнах которого ярко отражались последние лучи солнца.
В конце леса начинались дома деревни, уходившей в сторону от высокого, старого здания полукругом, как вообще все вендские деревни.
Залаяли собаки. Молодой офицер очнулся от продолжительной задумчивости и выпрямился в седле. Лошадь почувствовала это движение и без дальнейшего побуждения ускорила ход, навострив уши.
В этот прекрасный, теплый весенний вечер двери домов стояли отворенными настежь. На крышах виднелись характерные лошадиные головы, играющие роль во всех нижнесаксонских местностях, составляющие предмет культа, особенно чтимого вендами.
Старые и молодые крестьяне сидели перед порогом за легкими домашними работами, в открытые двери домов виднелись женщины, спешившие окончить дневную работу за прялками, причем они напевали те своеобразные, грустно‑однообразные народные песни, которые повсюду остались особенностью вендского племени.
Молодого офицера радостно приветствовали у всех домов. Он отвечал всем также радушными поклонами, причем называл некоторых крестьян по именам тоном, из которого видно было, что его здесь все знали и любили.
На одном конце полукружия, образованного деревней, неподалеку от дороги, тянувшейся к замку, стояла простенькая старинная церковь, а рядом с ней, посреди тщательно ухоженного садика, располагался красивый домик священника.
Тропинка вела из священнического сада к большой дороге, и по этой тропинке шли теперь двое.
Один из них был пожилой мужчина, лет под шестьдесят. Черное, доверху застегнутое рядом пуговиц платье, ослепительно белый галстук из тонкого батиста, так же как та своеобразная, высокая, четырехугольная шляпа из черного бархата, которую по образцу дошедших до нас изображений Лютера и Меланхтона носят лютеранские пасторы в Ганновере, с первого взгляда изобличали духовное лицо.
Резко очерченное, полное лицо красноватого, здорового оттенка носило, вместе с приветливой, добродушной веселостью, которой оно дышало, выражение сильной воли, твердой, сосредоточенной самоуверенности, которая, отрешась от широкого потока жизни, способна в своем тихом самостоятельном развитии создать целый отдельный мир и находить в нем покой и удовлетворение.
Это был местный пастор Бергер, более двадцати лет заведовавший приходом.
Рядом с ним шла его единственная дочь. После смерти матери, последовавшей лет десять тому назад, девушка делила тихую жизнь отца, он же со своей стороны сосредоточил всю заботливость любящего и серьезного воспитания с целью заменять ей высшими наслаждениями ума и чувства тот широкий мир, от которого она была так далека, и приготовить ее к тому спокойному и безмятежному счастью, которым был полон сам.
Молодая особа нарядилась в темного цвета платье, обнаруживавшее при всей своей сельской простоте некоторое изящество. Невысокая ее фигура была стройна и гибка, каштановые, блестящие волосы, прикрытые черной бархатной шляпкой, обрамляли тонкое, овальное лицо с улыбающимся свежим ротиком, радостно вдыхавшим живительный воздух, между тем как умные глаза позволяли подозревать замечательную душевную глубину, из которой при случае могли хлынуть на свет Божий богатые родники полной жизни поэзии.
Молодой офицер увидел шедших по тропинке, приостановил лошадь и крикнул, вскинув по‑военному руку к фуражке:
— Здравствуйте, господин пастор! Добрый вечер, фрейлейн Елена!
Пастор отвечал веселым и громким приветом, дочь его слегка наклонила голову, но улыбка, дрогнувшая на ее губах, взгляд, сверкнувший из самой глубины ее глаз, доказывали, что для нее эта встреча радостна не менее, чем для ее отца.
Оба ускорили шаг и скоро оказались возле молодого человека, поджидавшего их на большой дороге.
Подъехав к пастору и его дочери, молодой офицер спрыгнул с лошади и подал им руку.
— Вас вчера ждали, — проговорил пастор. — Ваш брат приехал еще позавчера, и ваш батюшка уже начинал бояться, что вам не дадут отпуска.
— Я не мог приехать раньше — еще вчера был дежурным, — отвечал молодой офицер, — зато я могу остаться двумя днями дольше и опять немножко обогатиться познаниями в естественной истории у моего маленького профессора, — прибавил он с улыбкой, обращаясь к молодой девушке, которая между тем гладила шею и голову лошади.
— Если вы не будете внимательнее и прилежнее, чем в прошлый раз, то не много преуспеете, — отвечала дочь пастора. — А теперь дайте мне поводья Ролана, который гораздо больше и лучше слушается меня, и пойдемте поскорее в замок: мы шли туда же и будем приняты еще более радушно, если приведем вас с собой.
И, взяв лошадь за поводья, она повела ее, ободряя время от времени ласковыми словами и следуя за отцом и гостем.
У входа в старый замок высились большие каменные ворота, за которыми начинался мощеный двор, обнесенный невысокой стеной, несомненно занявшей место древних разрушившихся укреплений. На середине просторного двора стояла одна старая липа, справа и слева тянулись конюшни и хозяйственные пристройки, тоже, видимо, новейшего времени. В глубине двора стоял настоящий жилой дом, остаток того замка, который, несомненно, занимал когда‑то гораздо большее пространство. Без всяких архитектурных прикрас, без всякого определенного стиля, этот дом тем не менее производил то впечатление, которое всегда производят старинные каменные здания крупных, величественных размеров, раскинувшиеся на большом просторе и обставленные большими деревьями.
Широкая дубовая дверь была открыта настежь и вела в просторный холл, выложенный плитняком и освещенный двумя большими окнами, по правую и левую сторону от двери.
По стенам этого холла располагались рядами те старинные шкафы из почерневшего от времени дуба, в которых наши предки поколениями хранили домашние сокровища: белье, серебро, фамильные бумаги и все, что у них было ценного и дорогого.
Эти шкафы красноречивы, как древние семейные хроники, почти как предания, и встречаются как редкость в новейшие времена — им нет места в наших модных, загроможденных салонах и наполненных всяким модным вздором будуарах современных дам. Да в них и не нуждаются: кому придет теперь в голову копить на приданое дочери богатые залежи белья и материи с самого дня ее рождения, когда все можно купить так легко, удобно и, главное, по самой последней моде в магазинах? Кому еще нужны такие глубокие и широкие шкафы для домашнего серебра, когда есть изящный Кристофль[18], который так удобно применять сообразно с требованиями моды! Между этими почтенными древними шкафами, красовавшимися тут в самобытном своем достоинстве и как бы игнорировавшими поколения животрепещущих консолей и этажерок, висели такие же старые картины с охотничьими сценами, на которых чопорные господа на чопорных лошадях преследовали оленей, спешащих по пестрым, цветущим лугам в лесные убежища, сильно напоминавшие прямолинейные аллеи Версальского парка, или родовые портреты стариков в высоких париках и бархатных камзолах, в давно забытых мундирах, приветливо взирающих дам в больших брыжах, фонтанжах и фижмах. И все это старое время дышало и жило так естественно и спокойно, как будто сегодня здесь то же, что и вчера, и завтра будет то же, что сегодня.
Вправо и влево из этого просторного, величавого холла в различные жилые покои дома вело несколько старинных дубовых дверей. Средние, прямо против входных, открывались в большую комнату, которую теперь в городских квартирах назвали бы залой и которая своими величавыми размерами и изящной простотой убранства соответствовала остальному дому. Единственный модный предмет в этой комнате был великолепный рояль, и разбросанные на нем ноты доказывали, что на инструменте еще недавно играли.
Широкий диван с высокой спинкой стоял у стены, перед ним располагался громадный, опирающийся на тяжелые ножки стол из темно‑красного дерева; зажженная лампа под большим колпаком матового стекла на изящной, зеленой лакированной подножке пыталась разогнать своим мягким светом сумерки, проникавшие через два больших окна и широко раскрытую стеклянную дверь. Через эту дверь можно было выйти на широкую просторную террасу, которая тянулась вдоль всего дома со стороны сада, и в правом его углу образовала крутую платформу, покоившуюся на каменном фундаменте и несомненно указывавшую место, на котором некогда возвышалась величественная крутая башня.
Высокие деревья обступали эту террасу на достаточном расстоянии, чтобы дать проникать свету в окна, и открывался прекрасный обзор во всех направлениях. Однообразие песчаных дорожек и древесных групп приятно нарушалось пестрыми клумбами.
Таково было старое амтманство[19] Блехов, которым уже восемнадцать лет управлял достойный обер‑амтман Венденштейн, руководствуясь тем старым патриархальным обычаем ганноверской администрации, по которому, бывало, главный амтман был в то же время и арендатором больших государственных имений, и златое древо жизни ценил выше серых теорий административной формы.
Однако таких больших имений, как у предшественников, у Венденштейна, уже не имелось, — их заменил усиленный оклад, и многое в управлении краем стало иначе, суше, бюрократичнее. Но за ним осталось, тем не менее, старое амтманство Блехов, а довольно значительное личное состояние давало ему возможность жить на широкую ногу по образу и подобию старинных ганноверских амтманов, и тем самым он, отвечая познаниями и светлым умом новым требованиям свыше, в ближайшей своей сфере оставался по возможности верен себе, и собственное достоинство, доверие, внушаемое им к своей персоне, усиливали присущий его должности авторитет.
На большом диване, перед большим столом, все ярче и ярче выступавшем из сгущавшихся сумерек, под белым отблеском ярко светившейся лампы сидела хозяйка, старая фрау фон Венденштейн, достойная правительница этого старинного, обширного дома с величественными дверями, громадными шкафами и старинными картинами.
Простенький белый чепчик из снежно‑белого тюля, с тщательно сплоенной рюшем и серебристо‑серыми лентами, обрамлял тонкое и немного бледное лицо старушки, сохранявшее в тонко очерченном рте и больших, миндалевидных голубых глазах следы замечательной красоты, хотя фрау фон Венденштейн была только немногими годами моложе своего мужа. Почти совсем седые, но густые волосы распадались по обеим сторонам чепчика в несколько тщательно завитых серых локонов, которые женщина часто слегка отодвигала тонкой, белой рукой, заправляя под рюш чепчика. Черты этого лица выражали безграничную кротость и нежность, но при этом такое глубокое спокойствие, такую неизменную уверенность во взгляде и движениях, что, глядя на эту даму в простом, вышедшим из моды черном шелковом платье с маленьким снежно‑белым воротничком и в таких же снежно‑белых, накрахмаленных манжетах, сидящую за столом с легким рукоделием в руках, каждый посетитель видел олицетворение домовитости, порядка, кротости и сердечного гостеприимства. В ее доме немыслимы были неряшливые пятна, дурно изготовленные кушанья, отступления от установленного порядка и времени. Никакое горе не могло коснуться кого‑либо из членов семьи, чтобы этого не подметил зоркий, нежный взгляд жены и матери и чтобы та не рассеяла его или не облегчила добрым, ласковым словом.
Такова была хозяйка Блехова. Возле нее сидели две молодые девушки, ее дочери: свежие, цветущие создания восемнадцати и пятнадцати лет — одна в развитой красоте взрослой девицы, другая в переходном возрасте, обе одинаково просто одетые в домашние платья, которым тонкое, белое и с большим тщанием вышитое белье, так же как прекрасные и со вкусом причесанные волосы, придавали изящную прелесть.
У дам сидел асессор Бергфельд, состоявший помощником амтмана и по старому обычаю находивший радушный прием в его семействе.
По террасе ходил взад и вперед старый Венденштейн со своим старшим сыном, который служил асессором‑референтом в ганноверском министерстве внутренних дел и приехал в Блехов провести в кругу семьи день рождения отца, приходившийся на завтра.
Обер‑амтман Венденштейн был старик величественной и привлекательной наружности. Коротко остриженные, седые, но густые волосы обрамляли широкий и сильно выпуклый лоб, из‑под которого темные, серые глаза смотрели так умно, проницательно и строго, но вместе с тем так оживленно и весело, что старику, судя по глазам, можно было дать годами двадцатью меньше его настоящих лет. Выразительный большой рот с полными, красными губами и удивительно сохранившимися зубами, свежий цвет лица соединялись в наглядное изображение силы воли, ума, здоровья и радостного наслаждения жизнью, с первого взгляда внушавшие уважение и симпатию.
По старому обычаю амтман не носил бороды — скромный наряд из серой материи дополняла легонькая домашняя шапочка. Сильная правая рука опиралась на толстую палку с большим крючком, чтобы поддерживать поступь, немного отягченную подагрой, — единственный признак слабости в здоровом и полном жизни мужчине.
Рядом с ним шел его старший сын, поразительно похожий на отца чертами лица, но совершенно несходный во всем остальном.
Он щеголял, до круглой шляпы включительно, в безукоризненном городском костюме, лицо его, несколько более бледное, чем у отца, неизменно выражало вежливую приветливость и сдержанную самоуверенность. Волосы его были коротко подстрижены и гладко причесаны, похожие на котлеты бакенбарды безукоризненны, движения всегда спокойны, предусмотрительны, расчетливы.
Отец в молодости не был таким, это видно бросалось в глаза сразу, но и время, когда рос отец, было другое, совсем непохожее на то, когда воспитывался сын. Отец представлял собой личность, сын — тип.
— Говори что хочешь! — заявлял оживленно старик Венденштейн, приостанавливаясь и опираясь на палку. — Это новая система управления, все глубже и глубже врывающаяся в нашу жизнь, никуда не годится и не приведет ни к чему хорошему. Эти вечные запросы требуют от нас отчетов, отнимающих бесконечное время и все‑таки редко дающих ясное понятие о деле, эти проходящие через все инстанции предписания, часто очень сильно бьющие мимо шляпки гвоздя, отнимают у ближайшей администрации края всякую самостоятельность, всякую личную ответственность и превращают организм в машину. Народ и страна, однако, остаются живой плотью и кровью и не подчиняются машине, и таким образом правительство отчуждается от управляемых, и чиновники становятся простыми писцами, которые должны раболепно отучиться от свободной воли и свободных решений и стоять беспомощно, когда наступят затруднительные обстоятельства, с которыми можно было бы справиться только при помощи воли и решимости. Пока высшее распоряжение спустится с зеленого стола вниз, а покорнейший ответ поднимется кверху через все инстанции, дела вечно живые и не укладывающиеся в канцелярские шкафы, идут своим чередом, и, — прибавил он с веселой усмешкой, — это еще не самое худшее, так как благодаря этому они зачастую идут лучше. Доброе старое время — ну, конечно, у него тоже имелось много недостатков, но в этом отношении оно все‑таки было лучше. Чиновники знали народ и жили с ним одной жизнью, делали, что требовалось, поступая по законам и совести, и им предоставлялась свобода действий. Министры объезжали страну не меньше раза в год и, конечно, знали лучше, что там делалось и на кого можно было положиться, чем представляют теперь из самых пространных отчетов. Я, по правде сказать, и с этим справился, — прибавил он, улыбаясь. — Хотят отчетов — так на то даны мне аудиторы, которые их пишут, а предписания я принимаю с подобающим уважением, но управляю по‑старому, и тем, до кого мое управление касается, от этого не хуже — я надеюсь, что в моем округе всегда все найдут в должном порядке. В лучшем порядке, чем во многих других, где водворилась модная система.
Сын почтительно слушал отца, хотя время от времени не мог удержаться то от нетерпеливого жеста, то от сострадательной усмешки. Когда отец кончил, он отвечал спокойным тоном, тем ровным полупатетичным, полумонотонным голосом, который слышится при докладах у зеленых столов заседаний по всему миру, где есть зеленые столы, референты и акты:
— Я нахожу весьма естественным, любезный отец, что ты старое время любишь и защищаешь, — но ты, надеюсь, согласишься с тем, что течение времени ставит управлению другие требования. Старое натуральное хозяйство, которое послужило основанием национальной экономии прежних поколений, автономизировало страну и людей и делило их на различные группы: личности и общины составляли отдельные хозяйственные элементы, которые жили своею особой жизнью. Тогда, конечно, было естественно, что управление примыкало к жизни и в одинаковой с ней мере индивидуализировалось. Теперь национально‑экономическая деятельность стремится к концентрации, могущественные средства сообщения нашего времени, в быстрой прогрессии ежедневно увеличивающиеся, стирают границы пространства и времени, разделявшие прежде частные элементы экономической народной жизни. Эти элементы сливаются как части во всеобъемлющем целом, поэтому и правительство должно следовать этой тенденции устанавливать более быстрый обмен, более выраженную централизацию. Необходимо вводить в управление твердый принцип и строго последовательную систему, если не хочешь затормозить все движение. Поверь, любезный отец, не правительство хочет вкладывать жизнь в новые формы, а сама жизнь в своем неудержимом развитии вынуждает прибегать к более утонченной и подвижной системе. Впрочем, — прибавил он, — я не верю, чтобы наши воззрения так разнились: при всем твоем пристрастии к старому времени ты как нельзя лучше справляешься с новыми требованиями, и министр еще недавно говорил мне, что удивляется точности, порядку и исполнительности в делах твоего округа.
Старик был, видимо, польщен комплиментом сына и сказал добродушно:
— Ну, конечно, я попривык к новым порядкам, но все‑таки, по мне, старое лучше и все, что ты говоришь, можно было бы сделать с гораздо меньшим количеством системы, бумаги и чернил. Но что об этом спорить! — прибавил он, ласково кладя руку на плечо сыну. — Я сын своего поколения, ты живешь в своем, каждое время кладет на человека свой отпечаток, хочет он этого или нет, жаль только, что настоящее время облегчает себе работу и выкраивает всех своих детей по шаблону — на всех вас фабричный штемпель. А теперь пойдем домой — вон мама в дверях зовет меня, и в самом деле пора, не то старый враг, — он указал палкой на ногу, — заодно с вечерней сыростью сделает новые нападения на мои старые кости.
И он медленно направился к большим дверям залы, в рамке которых только что показалась его жена и озабоченно на него смотрела.
Только что старик вошел в комнату, как раздался лай со двора и в холле послышались громкие голоса.
Старый слуга в чистенькой, скромной, серой ливрее отворил дверь, и пастор Бергер с дочерью вступили в семейный круг. Обер‑амтман пошел почтительно и дружески навстречу пастору и крепко пожал ему руку, после чего тот раскланялся с хозяйкой дома, пока его дочь здоровалась с молодыми девушками.
— Мы пришли, многоуважаемый друг, — начал пастор, — проводить завершенный вами год жизни, поблагодарить за все доброе, в нем совершенное, и привели с собой лейтенанта, которого встретили на дороге. Только этот офицер, как хороший кавалерист, отправился сперва на конюшню отвести и устроить свою лошадь.
— Так он приехал?! — сказала радостно фрау фон Венденштейн. — А я боялась, что его не отпустят.
Дверь живо распахнулась, и лейтенант фон Венденштейн поспешил к матери, звеня шпорами, поцеловал ей руку, она же нежно его обняла. Затем подошел к отцу, который поцеловал его в обе щеки и с видимым удовольствием полюбовался на цветущего молодого человека, стоявшего перед ним в молодцеватой военной позе.
— Я запоздал, — проговорил лейтенант, — потому что у нас еще много было дела. Товарищи кланяются, будут завтра сами тебя поздравлять, милый отец, если, конечно, их отпустят — у нас теперь полон рот забот: маневры в нынешнем году начнутся раньше. Только что получен приказ, и ты можешь себе представить, как все всполошились.
Лейтенант, пожав приветливо брату руку, подошел к сестрам и пасторской дочери, и вскоре вместе с ними и с аудитором Бергфельдом погрузился в веселую, часто прерываемую громким смехом болтовню. Пастор с обер‑амтманом и его старшим сыном подсели к хозяйке дома на диван, возле большого стола.
— Странная вещь! Вот сын говорит, да я и в газетах прочел — это изменение срока маневров, — сказал обер‑амтман. — Внешняя политика не моя специальность, и я никогда ею много не занимался, но к чему эта мера в момент нынешнего серьезного кризиса, я не понимаю.
— Это средство разрешить многие затруднения, — заговорил асессор с миной человека посвященного. — Отношения между Австрией и Пруссией с каждым днем становятся более натянутыми, и германские правительства хотят мобилизовать союзные контингенты. Пруссия требует с другой стороны строжайшего нейтралитета. И вот почему избрали эту меру, чтобы избегнуть мобилизации и все‑таки иметь войска под рукой готовыми к походу, если столкновению суждено состояться.
— При всем моем уважении к твоей министерской проницательности, — сказал шутливо обер‑амтман, — я не могу понять, к чему это должно привести? Если Пруссия требует нейтралитета, то ведь такой несомненно вызывающей мерой она точно так же может встревожиться и оскорбиться, как и мобилизацией. Собственно же боевая готовность этим вовсе не достигается, и Австрия со своими союзниками непременно увидит в этом враждебный шаг. По‑моему, теперь следовало бы решиться на что‑нибудь определенное. Не состоится война — на что я надеюсь, — мы ничего не потеряем, а если ее не миновать, тогда, по крайней мере, она не застанет нас врасплох.
— Что касается меня, — прибавил он задумчиво и серьезно, — я не люблю пруссаков. Мы, ганноверцы старой чеканки, не симпатизируем прусскому духу. Мне жаль, что у нашей армии отняли старинный ганноверский мундир и взамен ввели много прусского. Еще больше я сожалею о том, что теперь Бенингсен нас окончательно хочет подвести под прусское начало. Я, конечно, с одной стороны, не хотел бы ссориться с сильным и опасным соседом, но с другой — не хотел бы вступать в рискованные препирательства и с Австрией, к которой не питаю никакого доверия и от которой ни нам, ни Германии никогда не доставалось ничего хорошего. Главное, мне бы не хотелось, чтобы мы в нашем опасном, рискованном положении сели между двух стульев, и… Впрочем, — прервал он сам себя, — это дело сидящих там, наверху. Нашего министра иностранных дел, графа Платена, я не знаю — видел раз в Ганновере, и он тогда показался мне вежливым, приятным человеком, — но Бакмейстера я знаю и высоко чту за его ум и правила, — что же он говорит о новой мере?
Асессор приосанился и отвечал:
— Этот вопрос по своему политическому значению касается министерства внутренних дел, а по практическому выполнению — военного министерства, но не знаю, состоялся ли совет министров по этому вопросу. Как бы то ни было, но я от своего начальника не слыхал никакого мнения по этому поводу — так как он вообще очень осторожен в заявлениях. Вообще же в Ганновере не предполагают возможности военного столкновения.
— И дай Боже, чтобы его не было! — воскликнул пастор Бергер с глубоким вздохом. — Германская война была бы страшным бедствием — и я, право, не знал бы, куда направить свои симпатии, потому что, как бы ни повернулась война, один из могущественных немецких соперников возьмет верх в Германии. Я не могу этого желать папистской Австрии с ее кроатами, пандурами, славянами — мои невольные личные симпатии влекут меня к нашим северным братьям, с которыми у меня столько общего, но я также не могу желать, чтобы прусское влияние усилилось в Германии без противовеса: ведь к нам из Берлина перешел рационализм и угрожает всей протестантской церкви опаснейшим индифферентизмом. Сохрани, Боже, то, что у нас есть, и просвети нашего короля избрать надлежащий путь для того, чтобы обеспечить чистой лютеранской церкви надежное положение в нашей дорогой ганноверской земле!
— Да сохранит нам Господь мир! Я молю Его об этом ежедневно, — сказала фрау фон Венденштейн, озабоченно взглянув на младшего сына, веселый смех которого только что раздался из группы молодежи, устроившейся у окна. — Сколько страха, сколько горя вносит война во все семьи, и что оказывается в результате? Больше или меньше тяжести на политической чаше весов той или другой державы. Мне кажется, если бы каждый побольше думал о том, как бы водворить счастье в своем собственном доме и делать довольными стоящих близ него, мир был бы лучше, чем теперь, когда спорят и дерутся из‑за вопросов, бесконечно далеко стоящих от истинного человеческого счастья.
— Вот каковы наши милые хозяюшки! — засмеялся обер‑амтман. — Все, что не касается их кухни и погреба — бесполезно и вредно, и если им дать волю, государственная жизнь превратилась бы в управление большим домашним хозяйством и огромной семьей, а политику заперли бы в запасную кладовую.
— А разве мой достойный друг не прав? — сказал пастор, приветливо улыбаясь фрау фон Венденштейн. — Разве не задача женщин способствовать водворению мира и семена, которые мы сеем во храме Господнем, взлелеивать по домам и взращивать в цветы и плоды? Господь вложил в руку сильных земли право носить меч. Они должны делать то, что им предписывает долг. Но я, право, думаю, что Всемогущий более радуется спокойному счастью согласной семьи, чем искусным хитросплетениям политики и кровавым лаврам поля битвы.
— Ну, — заметил обер‑амтман, — ведь нам с вами не изменить порядка вещей, так лучше оставим спор и подумаем о том, как бы напитать наши бренные тела, что будет всякому из нас на благо.
В боковых дверях залы появился старый слуга и отворил обе их половинки так, что можно было видеть соседнюю столовую, в которой красовался огромный, изящно сервированный стол, освещенный тяжелыми серебряными канделябрами. Приятный аромат хорошей кухни дошел до гостей и был так заманчив, что все невольно обратили взоры в ту сторону.
Обер‑амтман встал. Пастор подал руку хозяйке и ввел ее в столовую, за ними последовали хозяин и остальное общество, и скоро все сидели в простой, украшенной оленьими рогами комнате, вокруг большого стола и воздавали заслуженную справедливость превосходной кухне амтманского дома и замечательным образцам его погреба под течение веселой задушевной беседы, в которой на этот раз политика не участвовала.
Пока общество сидело за столом, в одном из крупнейших и значительнейших крестьянских домов деревенского полукружия, вопреки обычному затишью этого края, было оживленно и шумно. Большая комната была освещена, и в ней виднелись различные группы молодых парней и девушек в изящных праздничных нарядах: коренастые молодые крестьянские сынки в куртках и шапках с меховой опушкой, девушки в коротеньких узеньких юбочках, белых платочках с множеством пестрых лент в толстых косах.
Из деревни прибывало все больше молодежи, присоединяясь к собравшейся ранее, между тем как другие деревенские жители, пожилые крестьяне, женщины и дети, прохаживались перед домом и посматривали на кипевшую в нем деятельность.
Староста Дейк, один из первых богачей Блехова, давно овдовевший и живший в большом доме вдвоем с единственным своим сыном Фрицем, переходил от одной группы к другой с приветливым достоинством, и его старое выразительное лицо с лукавыми, быстрыми, темными глазами под нависшими бровями говорило о чрезвычайной способности принимать самые разнообразные выражения. Оно то светилось веселой приветливостью, когда он пожимал руку сыну богатого деревенского туза и шептал ему на ухо топорную скабрезную шутку — к этому бодрый старик сохранил еще от молодых лет охоту и уменье, — то выражало надменно‑доброжелательную благосклонность, когда он обращался мимоходом к низшим с приветливо ободряющим словом, то подергивалось холодной и гордой сдержанностью, когда он здоровался с крестьянином из дома, не пользовавшегося доброй славой.
С менее дипломатическим достоинством двигался между группами его сын Фриц — стройный юноша с добрыми, честными голубыми глазами и по‑военному коротко подстриженными волосами. Он шутил с девушками, должно быть, очень смешно, потому что те, наклоняясь друг к дружке, перешептывались и хихикали до яркой краски в лице еще долго после того, как хозяйский сын отходил к другой группе. Когда Фриц подходил к товарищам и, подхватив пару из них под руки, подводил к длинному столу, покрытому белой скатертью, бутылками пива, окороками, хлебом и холодной телятиной в большом изобилии, то на всех лицах виднелось искреннее сочувствие и чистосердечное расположение к сыну гостеприимного дома.
И в самом деле, славный малый, любимый старым и малым, этот единственный сын старого богача Дейка был наследником лучшего деревенского надела. И все до одной цветущие красотки из лучших крестьянских семей с биением сердца и безмолвной надеждой поглядывали ему вслед, точно так же, как не было ни одного отца, ни одной матери в деревне, которые не были бы расположены принять его с радостью в зятья.
Но юный наследник расхаживал целым и невредимым по этому цветнику деревенских красавиц, шутил и смеялся со всеми, плясал одинаково охотно с каждой, дарил направо и налево пестрые букеты из тщательно содержимого сада отца, не подходя ни к кому исключительно близко и часто как бы не замечая приветливых взоров девушек и ободряющих замечаний отцов и матерей. Вот почему ни один из товарищей ему не завидовал, ни у кого он не стоял на дороге, со всяким охотно бражничал в свободное время и платил талеры, на которые отец не скупился, одинаково радушно на удовольствия других, как и на свои личные прихоти.
Когда в дом вошел местный школьный учитель, скромный старичок в черном сюртуке и широкополой черной шляпе, группы молодых людей раздвинулись и оставили пустое посредине пространство.
Дейк поздоровался с учителем как человек, уважающий звание и личность своего гостя, но тем не менее сознающий себя гораздо его выше и влиятельнее; сын богача кинулся навстречу учителю и, усердно тряся ему руку, проговорил:
— Мы все готовы, господин Нимейер, и пора отправляться в замок, обер‑амтман уже с полчаса как сел за стол, и, пока мы дойдем и расположимся, пройдет еще с полчаса. Итак, в путь, вперед!
Он принялся расставлять молодежь по парам, дал каждому из парней по факелу, которых была припасена целая куча в одном из углов дома, и, подсобив всем их зажечь, схватил учителя под руку и встал с ним и с отцом во главе шествия, молча направившегося к замку, между тем как остальные любопытствующие деревенские жители, тихо перешептываясь, потянулись за ними следом.
Между тем веселый пир в столовой обер‑амтмана подходил к концу. Старый слуга открыл крышку старинной, массивной чаши из мейсснерского фарфора, из которой разнесся по комнате приятный запах шваргофбергерского мозельского вина, смешанного с ароматом обильно нарезанного ананаса. Он откупорил несколько бутылок шампанского, влил их в чашу и поставил сосуд с драгоценной влагой перед обер‑амтманом, который наполнит ею хрустальные стаканы своих гостей, предварительно попробовав смесь и самодовольной улыбкой одобрив ее качество.
Пастор поднял стакан, потянул не торопясь и с некоторым уважением пряный запах, задумчиво поглядел с минуту на золотисто‑желтую жидкость и заговорил голосом, средним между торжественным тоном духовного лица и приветливой беседы в дружеском кругу:
— Любезные друзья! Наш почтенный обер‑амтман, за гостеприимным столом которого мы сегодня, как и не раз прежде дружески восседаем, вступит завтра в новый год своей деятельной и честной жизни. Завтра мы встретим новый год, а сегодня позвольте проститься с годом минувшим. Заботы и труды, принесенные им нашему другу, остались позади и привели к доброму концу, радости и светлые минуты, которых так много в нем было, будут жить в дружеском воспоминании и служить опорой и надеждой в черные дни, которых ему не избыть, как каждому из живущих на этой земле, где свет и тень борются друг с другом! Так пребывай же память о прошлом годе в мире, и будь для всех нас заветом твердо стоять друг за друга в любви и дружбе! Поднимем эти стаканы в честь канувшего в вечность года нашего любезного обер‑амтмана!
И он залпом осушил бокал.
Все последовали его примеру, не исключая фрау фон Венденштейн и молодых девушек: живя здоровой, естественной жизнью, эти дамы не чурались изредка стакана благородного вина, не в пример болезненным, изнеженным представительницам прекрасного пола в городском обществе.
— Дай нам Боже, друзья, так же радостно и спокойно сойтись в этот день в конце наступающего года, занимающегося в темных тучах, — сказал обер‑амтман, и на лице его отразилось глубокое волнение, а голос дрогнул. — Но, однако, — промолвил он весело, сознавая, что сказанное не может способствовать продолжению прерванной веселой беседы, — пора нам встать и закурить сигары мира и дружбы. Иоганн, возьми с собой чашу, мы с ней еще посерьезнее побеседуем.
Общество поднялось и перешло в большую гостиную.
Там двери в ярко освещенные сени были отворены настежь, так же как массивные входные двери, так что из гостиной можно было видеть двор со старой липой посередине.
Двор горел темно‑красными огнями, и между волнами света, местами прерываемыми дымом, виднелись группы людей, которым отражения пламени придавали фантастический вид. До гостей в доме донесся сдержанный говор множества голосов.
Обер‑амтман удивился, даже испугался, потому что первой его невольной мыслью было, что на дворе пожар, но старый слуга подошел к нему и сказал вполголоса:
— Это молодежь из деревни пришла с музыкой встречать день рождения господина обер‑амтмана.
Обер‑амтман, уже двинувшийся было с места, чтобы бежать на двор, приостановился, и радостное волнение засветилось в его глазах. Пастор, отчасти знавший об этом сюрпризе, приветливо улыбнулся на вопросительный взгляд хозяйки дома, а молодые люди с любопытством подвинулись к дверям.
Как только увидели, что обер‑амтман перешел в гостиную, на дворе на секунду воцарилось глубокое безмолвие. Непосредственно вслед за этим раздались простые, берущие за душу слова гимна:
Кто нашего Господа чтит… —и через широкий старинный холл вместе с колеблющимся светом факелов донеслись до гостиной сильные и чистые звуки хорала, а через большие окна садовой террасы с темного ночного неба светил полный месяц и, несмотря на яркое освещение лампы, стлал по полу светлые полосы.
Обер‑амтману, окруженному своими, думалось: «Уж не картина ли грядущих лет — этот непостоянный, кроваво‑красный свет, наполняющий двор? Но из этого переливчатого света звучит ободрительно старинная благочестивая песнь, уже столько человеческих сердец укреплявшая и утешавшая. Будь что будет! Если грядущее принесет горе и борьбу, то не будет недостатка и в утешении, и в сильной поддержке».
Жена его невольно сложила руки как на молитву и склонила почтенную голову.
«Того Он дивно сохранит в нужде, печали и беде!..» — звучало со двора.
Старая дама взглянула на сына‑офицера, сияющими глазами смотревшего на чудесную и своеобразную картину групп, освещенных факелами. Тверже складывались ее ладони, губы шевелились в безгласном молении, и по щеке медленно скатывалась слеза. Она наклонила голову еще ниже и набожно прослушала хорал до конца.
Как только смолкли торжественные звуки, в гостиную вступили старый Дейк и школьный учитель. Старый крестьянин приблизился с почтительно‑достойной осанкой к своему обер‑амтману и заговорил, а стоявший позади школьный учитель низко кланялся.
— Молодые люди желали поздравить обер‑амтмана ночной музыкой с наступлением дня его рождения, школьный учитель обучал их… — тут школьный учитель снова низко поклонился и сделал тщетную попытку принять вид человека, не знающего, что на него устремлены все взгляды, — и вот они пришли и спрашивали, можно ли будет, — и я ничего не сказал против, потому что ведь господину обер‑амтману известно, что вся деревня принимает участие в его семейном празднике. Ну, и мы ведь знаем, что вы рады, когда мы вам показываем, как любим вас и всю вашу семью, и потому не беда, если мы немножко пошумим перед домом и если, — он обратился к фрау фон Венденштейн, — фрау обер‑амтманша немножко испугается. Школьный учитель сказывал, что это должно быть сюрпризом, иначе не будет настоящего смысла.
— Благодарю вас, благодарю вас от всего сердца, мой добрый, старый Дейк! — горячо проговорил обер‑амтман, пожимая руку крестьянину. — Вы доставили мне искреннее удовольствие, а с таким испугом жена моя, конечно, справится.
— Разумеется, — подтвердила фрау фон Венденштейн, из глаз которой снова заструилась обычная спокойная и кроткая веселость, и тоже протянула старому крестьянину тонкую, белую руку, которую тот принял с особенной осторожностью. — Всей душой радуюсь проявлениям вашей любви к моему мужу.
— Но где же Фриц? — спросил лейтенант. — Меня очень удивило бы, если бы его здесь не было! Где же мой старый школьный товарищ?
— Здесь, господин лейтенант! — отозвался веселый голос молодого Дейка, и из темного заднего плана двора выступила на свет и на порог гостиной мощная фигура красивого крестьянского парня. — И я рад, что господин лейтенант к нам пожаловали и меня не забыли.
Пока лейтенант подходил к молодому крестьянину и сердечно его приветствовал, к старому крестьянину с чопорной отчасти приветливостью приблизился асессор и обменялся с ним ласковыми словами, а обер‑амтман крикнул:
— Ну, а теперь для всех есть и пить на дворе, и пускай молодежь повеселится, чтобы не говорили, что друзья, доставившие мне такую радость, ушли с моего двора натощак.
Фрау фон Венденштейн подала знак старшей дочери, та поспешила уйти, и через несколько минут на дворе показались служанки, суетливо устанавливавшие столы, застилавшие их белыми скатертями и наполнявшие тарелками, кружками и бутылками.
Школьный учитель шепнул что‑то на ухо старому Дейку, и тот сказал:
— С позволения обер‑амтмана, учитель просит подождать с угощеньем, пока не пропоют остальных песен, иначе он не ручается, что все будет исполнено как следует!
— Так вы еще хотите петь? — спросил с удовольствием обер‑амтман. — В таком случае прошу начинать, господин Нимейер. Присядьте к нам, любезный Дейк, и выпьем по стаканчику за доброе старое время!
И, пододвинув несколько кресел к дверям, он усадил рядом с собой пастора и Дейка. Лейтенант подал сигары, а асессор наполнил стаканы. Старый крестьянин повертел сигару между губами, далеко выпятив, осторожно зажег ее, чокнулся с обер‑амтманом и пастором, выпил свой стакан до половины, одобрив его содержание многозначительным кивком головы, и выпрямился в кресле с миной и осанкой, выражавшими, что он умеет ценить высокую честь сидеть рядом с обер‑амтманом и пастором, но вместе с тем он сознает себя вполне достойным этой чести.
Школьный учитель и молодой Дейк смешались с толпой на дворе, и скоро в гостиную донеслись стройные и сильные звуки прелестных народных песен, исполненных многоголосным хором весьма слаженно и со вкусом.
Старики сидели и задумчиво слушали, младшая дочь ушла помогать сестре по хозяйству, асессор удалился с аудитором Бергфельдом в оконную нишу, а лейтенант расхаживал взад и вперед по комнате.
Дочь пастора, оставленная своими молодыми приятельницами, вышла на террасу. Она оперлась на перила и смотрела на луну, заливавшую ее красивое, задумчивое лицо серебряным светом, в котором ее ясные глаза как‑то особенно блестели.
Походив по комнате, лейтенант тоже вышел на террасу и полной грудью вдохнул свежий чистый воздух весеннего вечера, тогда как глаза его устремились на простиравшуюся перед ним хорошо знакомую равнину, освещенную теперь ярким лунным светом.
Он вдруг заметил у перил фигуру молодой девушки и поспешил к ней.
— Вы мечтаете при лунном свете, фрейлейн Елена, — сказал он весело, — позвольте присоединиться к вам, или вы предпочитаете уединение?
— Я пришла сюда, — сказала пасторская дочь, — потому что луна всегда меня невольно притягивает и, кроме того, мне приятнее слушать пение издали. И наконец, я в самом деле немножко мечтала, — прибавила она, улыбаясь и приподнимаясь с перил, на которые облокачивалась, — мысли мои витали далеко отсюда, там, в облаках.
И она указала рукой на большую тучу, грозно поднимавшуюся с горизонта и одним краем пододвинувшуюся к луне, которая озарила ее своим светом, так что она стала похожа на черный плащ с блестящей каймой.
— Я знаю, — сказал лейтенант, — что ваша мысль любит улетать далеко и высоко, и я обожаю слушать ваши мечты, они переносят меня в особый мир, который мне по душе, но куда я один не знаю дороги. Мне кажется, точно это детская сказка, в которой можно попасть в волшебный сад, только произнеся условное слово, перед которым распахиваются двери в скале. Вы это слово знаете, и знаете вместе с тем, что я еще ребенком больше всего любил слушать вас — ваши рассказы переносили меня далеко за пределы будничной обстановки, — расскажите же и теперь о том, что хорошего узрели вы там, в облаках?
— Видите, — сказала молодая девушка, поднимая взор и как будто следя за рядом картин, возникающих перед ее внутренним оком, — видите черную тучу, тихо и спокойно лежащую в приветливом лунном свете, точно образ вечного мира. А между тем скоро она от нас умчится. И принесет ли она благословение и плодородие или порывом бури разрушит надежды земледельцев? Никто этого не знает. Мы знаем только, что туча уйдет из‑под этих мирных, светлых лучей, так красиво ее озаряющих, — уйдет, а лучи еще долго будут светить по‑прежнему. Такова и жизнь, и судьба людей, — прибавила она печально, — сегодня — в приветливых лучах, завтра — под грозными бурями.
— Всегда печальные мысли, — сказал лейтенант, слегка улыбаясь, — всегда серьезны и всегда прекрасны, — прибавил он тише. — Хотелось бы знать, откуда у вас такие странные мысли?
— Как же им не быть теперь, — отвечала она, — когда кругом так много говорят о войне и об угрожающем будущем, когда, может быть, скоро за черной тучей исчезнет много светлых лучей.
Молодой офицер призадумался и, помолчав немного, сказал:
— Странно, война мое ремесло, и я всегда мечтал о том, как было бы славно променять скучную гарнизонную жизнь на веселые, разнообразные боевые действия. Но то, что вы говорите, нагоняет на меня печаль. Разве мы, солдаты, не черная туча, убегающая из‑под ласковых лучей распространять несчастье и разорение и разрушать надежды? И, может быть, нас самих поразит одна из молний, покоящихся в недрах тучи!
— О, если б женской власти было дано, — живо проговорила дочь пастора, — вывести судьбу людей на свет и мир. Но, — прибавила она, помолчав, — как серебряный месяц льет свет на черную тучу, так и мы можем сопровождать нашими пожеланиями и молитвами тех, кого буря судьбы увлекает в неизвестную даль, и это единственное утешение остающихся.
Лейтенант молчал. Глаза его устремились с задумчивым удивлением на поразительно оживленные черты молодой девушки, стоявшей перед ним в белых лучах, точно видение свыше. Он тихо шагнул ближе к ней. Пение смолкло, со двора раздались громкие голоса и звон стаканов, и дочери обер‑амтмана вышли на террасу. Лейтенант быстро обернулся и пошел к ним навстречу.
Между тем обер‑амтман вышел на двор и еще раз сердечно благодарил всех певцов за доставленное удовольствие, приглашая промочить горло после пения. Остальное общество тоже смешалось с группами крестьян, и громкий, веселый говор, дружный смех и звон стаканов разнеслись по широкому двору.
Лейтенант медленно вошел в гостиную и постоял там довольно долго серьезно и задумчиво, между тем как его сестра с дочерью пастора подошли к деревенским девушкам и принялись обмениваться с ними дружескими приветствиями.
Асессор тоже примкнул к молодежи и сумел искусно попасть в тон ее разговора, — недаром он провел среди этих людей свои юные годы, — и они ему отвечали приветливо, но то был какой‑то торжественный, церемонный разговор, молодой чиновник вел его особенным, спокойным тоном и медленно и размеренно переходил от одной группы к другой.
Но когда на дворе показался лейтенант и в сопровождении старого приятеля Дейка стал обходить группы крестьян, его встретило громкое ликование, хотя в то же время все вытягивались перед ним в струнку, по указанию тут же случившихся старых служак. Мало‑помалу за лейтенантом образовалась целая свита и окружила его со всех сторон, из нее выступило вперед двое уполномоченных с просьбой. Лейтенант усмехнулся, изъявил полное согласие и подошел к отцу:
— Наша молодежь хотела бы пропеть ганноверскую песню, папа, но они просят твоего позволения, так как некоторые из них не знают, будет ли это прилично, как они выражаются.
— Конечно да. Наша родная песня всегда прилична и кстати! — вскричал весело обер‑амтман.
Фриц Дейк, шедший следом за лейтенантом, поспешил к другим группам, молодые люди выстроились полукругом перед главной дверью, и скоро раздался тот своеобразный напев, текст которого непосвященному почти непонятен и часто изменяется ad libitum[20], но непременно сопровождает всякую веселую или торжественную оказию у ганноверских крестьян и солдат.
Обер‑амтман искренно утешался веселой песней, которую расходившаяся молодежь распевала, не щадя легких, он даже вместе с лейтенантом подтягивал припевы.
Вдруг видим, издалека Король наш выезжает, Кричит своим бригадам: «Ура! Родной Ганновер!» –гремело и разносилось в ночном воздухе от старого амтманского дома до самого Блехова.
Затем толпа певцов и любопытных двинулась медленно и с шумным говором по направлению к деревне. Пастор и его дочь тоже простились, чтобы вернуться в тихий пасторат, и скоро замок погрузился в глубокую тьму и безмолвие.
Фрау фон Венденштейн крепко поцеловала младшего сына в лоб, прощаясь с ним на ночь, и уста ее тихо шептали, когда она шла в свою комнату:
Кто Господа нашего чтит, Всегда на Него уповая, Того Он чудесно хранит В нужде и сердечной печали.Лейтенант долго молча и задумчиво сидел в кресле в своей спальне, и, когда наконец лег в постель и заснул, ему снилось, что черная туча уносит его все вперед и вперед, гонимая бурей, кругом сверкают молнии, гром, и все дальше и дальше уходит от его глаз светлый облик луны, посылавший ему вослед свои мягкие лучи.
Глава третья
Множество экипажей проносились по улицам Вены и один за другим останавливались перед ярко освещенным порталом дома государственной канцелярии. Величественно катились массивные кареты с кучерами и лакеями в разнообразнейших ливреях. Швейцар в длинном светло‑голубом, шитом золотом кафтане, с огромной булавой, встречал в дверях дам в роскошных нарядах, выходивших из повозок и спешивших через широкие прихожие по величественной лестнице на верхний этаж большого дома, в котором Кауниц и Меттерних стремились осуществить Austria est imperatura orbi universe[21] и в котором теперь жил фельдмаршал граф Менсдорф‑Пульи в качестве министра императорского двора и иностранных дел.
Подъезжали и скромные дрожки, в которых не брезгует ездить венская молодежь высших сфер. Швейцар спешил им навстречу так же поспешно, как и к элегантным экипажам.
Из одних подобных дрожек вышел молодой офицер в нарядной, пестревшей сочетаниями зеленого, красного и золотого цветов уланской форме. Он сбросил с плеч на спинку дрожек большой белый плащ и приказал извозчику ждать на городской площади.
Затем, окинув последним взглядом свой безупречный костюм и подкрутив еще едва пробивающиеся усы, он взбежал по лестнице весело и победоносно, как подобает молодому улану всегда и повсюду — на паркете так же, как на лошади, и как подобало этому офицеру куда более многих иных, по различным, совершенно особым причинам.
Лейтенант фон Штилов, мекленбуржец, несколько лет тому назад, подобно многим из своих северогерманских сверстников, вступивший в ряды австрийской гвардии, год тому назад наследовал от умершего бездетным дяди такой значительный майорат, что цифра его ежегодных доходов заставила ахнуть даже австрийскую аристократию, привыкшую к крупным состояниям. Вследствие этого круги, обыкновенно относящиеся с холодной вежливостью к приезжим, к этому красивому и любезному человеку, своей утонченной северогерманской образованностью весьма выгодно выделявшемуся из толпы австрийских сверстников и товарищей по полку и по обществу, встретили Штилова с доверчивой интимностью и обеспечили ему свободный и радушный доступ в те дома венской высшей аристократии, в которых обретались жаждавшие пристроиться девушки.
Весьма естественно, что молодой человек, перед которым жизнь открывалась так заманчиво, весело и уверенно, поднимался по широкой лестнице государственной канцелярии, чтобы принять участие в одном из тех небольших вечеров, на которые графиня Менсдорф приглашала только тесный кружок избранных. Хотя вечера эти носили частный характер, но их посещали все, принадлежавшие к миру политики, так как надеялись здесь приподнять хоть краешек завесы, под которой таили друг от друга свою деятельность в эти дни напряженного ожидания различные дипломатические лагери, делая вид, будто на свете не произошло ничего особенного, способного нарушить приветливое спокойствие международных сношений.
Лакеи в простой, безупречно изящной ливрее менсдорфовского дома отворили перед ним двери в приемные покои графини, и лейтенант фон Штилов вступил в ярко освещенную залу, наполненную пестрыми и свежими дамскими туалетами, блестящими мундирами и черными фраками.
Во второй гостиной, примыкавшей к первой большой зале и украшенной всеми бесчисленными мелочами комфорта, составляющими непременную принадлежность приемной знатной дамы, сидела на небольшом, низеньком диване супруга министра, урожденная княжна Дидрихштейн — дама в высшей степени аристократичной наружности. Она принимала гостей с той естественной и приветливой грацией, которая свойственна высшему венскому обществу.
Рядом с графиней Менсдорф сидела полная, роскошная дама в богатом черном туалете, у которого, однако, пестрый убор из драгоценных камней царственной роскоши отнимал всякое подобие траура.
Бледное лицо ее, обрамленное густыми черными локонами, было поразительно красиво, но глубоко серьезно, и большие черные глаза, полные огня и чувства, не были обращены к жизни, полной радостей и наслаждений, а, напротив, устремлялись вперед с тем задумчивым, мечтательным выражением, которое часто встречается на старинных портретах аббатис духовных орденов.
То была княгиня Обренович, супруга князя Михаила Сербского, после развода поселившаяся с сыном в Вене. Урожденная графиня Гуниади, полная кипучей венгерской крови и принятая во всех кругах лучшего венского общества с распростертыми объятиями, при каждом удобном случае осыпаемая, несмотря на развод с мужем, доказательствами глубокого уважения, — эта умная и полная жизни прекрасная женщина, не отказываясь совершенно от света, тем не менее замкнулась в строго домашнюю, уединенную жизнь, в которой все ее внимание и все заботы посвящались воспитанию сына, будущего наследника Сербского княжества. Поэтому‑то появление скромной и гордой красавицы княгини в салонах венской аристократии всегда представляло événement[22].
Перед дамами стоял небольшого роста господин лет шестидесяти. Он был в сером, плотно облегавшем фигуру мундире австрийского фельдмаршала, на котором, рядом с орденом Леопольда и Мальтийским крестом, блестел скромный крест Марии‑Терезии. Красное круглое лицо над поразительно короткой шеей выражало необоримую жизнерадостность, темные, блестящие глаза светились энергией и весельем, короткие усы и густые волосы были белы как снег, и так коротко острижены, что щетиноподобный седой ежик при круглой красной физиономии дали повод к меткому и распространенному по всему венскому обществу сравнению фельдмаршала Рейшаха с земляникой, посыпанной сахаром.
Фельдмаршал барон Рейшах, один из храбрейших представителей австрийской армии, неспособный к действительной службе по множеству ран, которыми было усеяно все его тело и от которых он часто страдал, вращался в венском обществе как всеми любимый и дорогой друг дома, успевавший везде бывать, знать все, что только заслуживало внимания, и обладавший способностью рассеивать любую хандру веселыми шутками.
Нанося предобеденные визиты, можно было не один раз встретиться с бароном Рейшахом, который считал своею обязанностью ежедневно осведомляться о здоровье своих старых приятельниц, сообщать им городские новости и оказывать маленькие знаки внимания. Вечером его можно было видеть в городском театре — он показывался в антрактах в ложах старших дам венской аристократии, причем находил время бросать взгляд на сцену и выразить той или другой из лучших актрис комплимент насчет ее туалета или игры. А после театра он появлялся в салонах, то прохаживаясь на большом рауте, здесь бросая остроту, там поднимая пикантную новость, то оставаясь с четверть часа у чайного стола маленького кружка и высыпая рог изобилия своих неистощимых анекдотов. Еще позже можно было его найти в уютном уголке столовой франкфуртского отеля за стаканом старого венгерского, где он составлял душу веселого вечернего общества, ядро которого сформировалось из графов Валлиса, Фукса и Врбна.
Таков был фельдмаршал Рейшах, стоявший перед дамами, опершись рукой на саблю.
Он, должно быть, рассказывал им что‑нибудь очень забавное, потому что графиня Менсдорф громко смеялась, и даже на лице серьезной княгини Обренович засветилась легкая улыбка.
— Ну, расскажите нам теперь, барон, — сказала графиня Менсдорф, — какие наблюдения сделали вы сегодня в театре. Не о том, как играла Вольтер, — мы уже знаем, что вы находите ее очаровательной, несравненной, — нет, скажите нам, что вы вообще заметили хорошего на сцене и в ложах? Видите, княгиня улыбается, заставьте же ее рассмеяться.
Фельдмаршал отвечал с легким поклоном:
— Не знаю, станет ли княгиня долго слушать такого пустозвона, как я. Впрочем, не было ничего особенного. Наш юный мекленбургский улан был очень долго в ложе графини Франкенштейн и очень оживленно разговаривал с графиней Кларой, что очень злило известную вам особу. Я видел…
Тут дальнейшие сообщения фельдмаршала были прерваны предметом его наблюдений, молодым уланским офицером фон Штиловом, который подошел на поклон к графине Менсдорф.
Графиня улыбнулась.
— Мы только что говорили о вас, барон. Вас видели таким озабоченным в городском театре сегодня, что вы не обратили должного внимания на Вольтер, за что барон Рейшах в большой на вас претензии.
Молодой офицер слегка покраснел, но с военной ловкостью раскланялся с фельдмаршалом и сказал:
— Его превосходительство очень зоркий наблюдатель, если сделал мне честь меня заметить — я был в театре недолго и только навестил некоторых своих знакомых в их ложах.
Острый ответ, вертевшийся у барона Рейшаха на языке, не был произнесен, потому что его внимание привлекло появление в гостиной высокого господина в генеральском мундире и изящной, стройной дамы, которые подошли поздороваться с хозяйкой дома и доставили Штилову возможность удалиться и избавиться от продолжения начатого разговора.
То был граф Клам‑Галлас со своей женой, младшей сестрой графини Менсдорф. Граф, высокий стан которого отличался изящной стройностью, обладал чертами лица почти габсбургского типа. Он приветливо протянул руку своей невестке, между тем как жена его, дама уже не первой молодости, но замечательно сохранившейся красоты, опустилась на кресло возле княгини Обренович.
— Где же Менсдорф? — спросил граф Клам‑Галлас. — Его не видно. Неужели опять болен?
— Он у императора, — отвечала графиня, — а когда вернется, вероятно, будет занят дома. Я уже извинилась за него. Надеюсь, впрочем, что мы все‑таки его увидим.
— Я слышал чудеса о вашем празднике в Праге, графиня, — обратился Рейшах к графине Клам, — у нас здесь не перестают о нем говорить: графиня Вальдштейн, которую я сегодня встретил у княгини Лоры Шварценберг, еще до сих пор в полном восторге от него.
— Да, он очень удался, — подтвердила графиня Клам, — и изрядно всех нас повеселил. Нам хотелось поставить в Праге на сцене «Лагерь Валленштейна», — прибавила она, обращаясь к княгине Обренович, — то есть на сцене в моем отеле, разумеется. В этом еще нет ничего особенного, но любопытно то, что роли представителей армии Валленштейна, которых Шиллер выводит так поразительно живо в духе тех времен, были сыграны потомками полководцев Тридцатилетней войны. Пьеса приобрела от этого совершенно особое значение. Уверяю вас, на всех нас повеяло прошедшим, и как исполнители, так и слушатели были особенно торжественно настроены. Перед нами воскрес дух древней, сильной Австрии, бряцающей оружием, а когда зазвучали шведские рожки, все общество готово было броситься к коням, чтобы выехать на бой, подобно предкам.
— Да, — сказал граф Клам, — впечатление было поражающее, — и если Богу будет угодно, наступит время, когда нам придется еще раз обнажить австрийский меч, чтобы снова возвести Его Императорское Величество на подобающую ему высоту. Мне кажется, что в воздухе чувствуется буря и пора седлать лошадей.
Все на минуту примолкли. Рейшах обвел всех серьезным взором и замолчал, что всегда делал, когда речь заходила о политике и военных действиях. Старому солдатскому сердцу было больно сознавать себя неспособным, никуда не годным со своим простреленным, изрубленным телом.
Графиня Менсдорф, со свойственным ей тактом, не хотела давать места политическим излияниям в своем салоне и прервала паузу, с улыбкой обратившись к фельдмаршалу Рейшаху:
— Жаль, что вас там не было, барон, вы бы отлично передали роль капуцина, проповедующего мораль грешному миру.
— Без сомнения, — сказал фельдмаршал и прибавил с комическим пафосом: — Contend estote, довольствуйтесь хлебом и солью!
— Да, когда рядом лежат паштет из гуся, а под рукой стоит старое венгерское! — засмеялся граф Клам.
— Nullum vinum, — продолжал пародировать Рейшах, тряся головой и отмахиваясь руками, — nisi hungaricum![23] — прибавил он тише, склоняясь к графине Обренович, которая легкой улыбкой поблагодарила за комплимент ее родным лозам.
Подошли другие гости, дамский кружок расширился, и граф Клам перешел с бароном Рейшахом в первую залу.
Тут оказалось несколько мужских и дамских групп, занятых оживленной беседой; молодежь поглощали свои личные интересы, старые дамы наблюдали за молодыми, а мужчины поглядывали на членов дипломатического корпуса, то обменивавшихся мимолетными, отрывочными репликами, то втягивавшихся в более продолжительный разговор.
Посреди салона, под ярко пылавшей хрустальной люстрой, стоял французский посол герцог Граммон — высокая фигура безупречной, почти военной осанки, с белой звездой Почетного легиона на черном фраке и широкой, темно‑красной лентой через плечо. Подстриженные черные бакенбарды обрамляли продолговатое, тонко очерченное типичное лицо древне‑французской аристократии — смесь приветливой любезности с сановитым достоинством. Его очень маленький красивый рот слегка оттенялся тонкими, закрученными кверху усами, лоб был высок и открыт, но скорее мягко округлен, чем смело выпукл, из темных глаз светилась флегматическая беспечность, тоже составляющая наследие древнего французского дворянства и во многих фазах истории доводившая его до такого легкомысленного отношения к важнейшим и серьезнейшим вопросам, которого часто ничем нельзя было объяснить. Его еще вполне черные волосы были собраны в тщательно причесанный небольшой тупей, еще более придававший всей его внешности сходство со старинными французскими Grand‑seigneurs[24], которые умели вести такую легкую и беззаботную жизнь в своих огромных и роскошных покоях и прямо прорезанных, чопорных аллеях парков.
Герцог постоял несколько мгновений один, разглядывая общество, когда, покончив разговор с несколькими дамами, к нему подошел господин средних лет, выразительное, худощавое лицо которого беспрестанно изменяло выражение. Он носил бакенбарды, и темно‑русые его волосы были подстрижены и причесаны по моде северогерманских гвардейцев. Он был пониже герцога, движения его были оживлены и ловки, туалет безупречной простоты, и через грудь тянулась широкая белая с оранжевым лента Красного орла.
Прусский посол фон Вертер раскланялся с герцогом с безукоризненной вежливостью, но без той задушевности, которая указывала бы на близкие личные отношения.
— Наконец я нахожу случай, герцог, — начал фон Вертер по‑французски, — пожелать вам доброго вечера. Как здоровье герцогини, я ее не вижу…
— Она немножко простудилась, — отвечал посол, — а фрау фон Вертер, кажется, тоже не выезжает?
— Она действительно нездорова, да и я сам охотно остался дома, — прибавил, улыбаясь, Вертер, — если бы не наша обязанность постоянно собирать новости.
— И вы достигли цели? — спросил герцог.
— Еще нет. Граф Менсдорф у императора, как мне сообщила графиня, и я до сих пор ничего не слыхал, кроме различных сплетен из общества. Хотя, — прибавил он немного серьезнее и не так громко, — атмосфера кажется мне полной важных событий: вы заметили, какое все более и более невыносимое настроение начинает нас окружать?
— Весьма жаль, если это справедливо, — сказал герцог Граммон, — резкое столкновение противоположных воззрений может повести к войне, которая лично меня вовсе не радует.
— Вам известно, — отвечал Вертер, — что мы, разумеется, не ищем войны, но неужели нам придется избегать ее ценой нашего значения и достоинства? Неужели бы вы стали нам это советовать?
— Мы стоим далеко от событий и относимся к ним в качестве наблюдателей, — сказал герцог сдержанно, — и потому можем выражать только добрые пожелания. Советов давать нам не пристало, если нас не приглашают в посредники. Однако посмотрите, — прибавил он с любезной улыбкой, — за нами наблюдают. Мы стоим здесь особняком, и из нашей безобидной беседы могут, пожалуй, вывести заключения.
— Вы правы, — отвечал Вертер, — удалимся от любопытных взглядов.
И с легким поклоном немец отвернулся, причем шепнув про себя: «Он ничего не знает», — к высокому, толстому, старому господину с лысым лбом, резкими чертами и оживленными темными глазами, стоявшему в нескольких шагах от него. Этот господин был в генеральском ганноверском мундире.
— Здравствуйте, генерал Кнезебек, — сказал он ему с поклоном, — какие новости из Ганновера?
— С некоторых пор никаких, — отвечал генерал медленно и сдержанно, — мой брат живет уединенно в деревне и пишет мне редко, да и мало интересуется тем, что у нас делается в Ганновере.
— Сердечно радуюсь, — продолжал фон Вертер, — что граф Платен в Берлине, и как я оттуда слышу, визит имел весьма дружественный характер. Дай бог, чтобы это способствовало устранению разных мелких недоразумений, время от времени возникающих между Пруссией и Ганновером, между тем как в сущности оба государства предназначены к тому, чтобы идти вперед дружно, как мы видим из истории и преданий Семилетней войны.
— Всем сердцем скорблю о недоразумениях, возникших с той и другой стороны, — отвечал Кнезебек. — Мы в Ганновере, конечно, должны заботиться о согласии с нашим соседом — прежде всего, насколько от нас зависит, всегда стараться сохранить единство между всеми германскими государствами. Наше благоденствие извне и внутри зависит главным образом от дружбы обеих великих немецких держав и в некоторой степени от Германского союза[25]. Да сохранит его Господь!
Дальнейшие размышления фон Вертера были прерваны появлением английского посла лорда Блумфильда, человека с крупным характерным лицом английского аристократа и с зеленой лентой ирландского ордена. Он поздоровался с обоими собеседниками и перевел разговор на легкие события дня венского общества.
Пока в комнатах графини Менсдорф шел обычной чередой вечерний прием и на поверхности элегантного, улыбающегося общества не обнаруживалось и тени тревожного напряжения, которое царило в душе многих присутствующих, в другом конце дома государственной канцелярии, в расположенной перед кабинетом министра большой приемной с обитой синим шелком мебелью и такими же драпировками у окон, возле большого круглого стола сидели в удобных креслах два человека. Небольшой огонек пылал в угловом камине, и громадная лампа под молочным белым абажуром, стоявшая на столе, оставляла большую часть комнаты в полутьме, ярко освещая лица обоих сидевших и слабо отражаясь на отличавшемся поразительным сходством портрете Франца‑Иосифа в роскошной золотой раме, покрывавшем середину стены и на котором император красовался в парадной генеральской форме, во всей юношеской красе первых лет своего вступления на престол.
Один из сидевших небрежно развалился на сиденье. Ему могло быть лет пятьдесят пять. Лицо его носило печать умного, бывалого человека, с некоторой примесью католической мечтательности — общее выражение, иногда встречающееся на старинных портретах кардиналов и прелатов. Изящная развязность, тонкие белые руки, изысканный туалет дополняли это сходство с изображениями духовных особ итальянской школы.
Это был помощник статс‑секретаря, тайный советник фон Мейзенбуг, а рядом с ним сидел министерский советник фон Бигелебен — мужчина высокий. Сухопарый и чопорный, с цветом лица, обличавшим болезнь печени, и бюрократически‑сдержанным выражением. Его внешность представляла нечто среднее между профессором и правителем канцелярии. Он сидел прямо, держа в руке шляпу.
— Граф долго не едет, — проговорил нетерпеливо Мейзенбуг, барабаня тонкими пальцами по столу. Меня очень тревожит мысль, что он с собой привезет. Боюсь, снова сыграет с нами шутку и подобьет Его Величество к уступке.
— Не думаю, — отвечал Бигелебен спокойно и медленно, — Его Величество слишком проникся идеей восстановления прежнего значения Габсбургов в Германии, чтобы думать о потворстве берлинским претензиям. Он видел во Франкфурте вновь ожившие славные воспоминания империи и вместе с тем горько и глубоко почувствовал échec[26], подготовленный ему прусским противодействием, — он постоит на своем.
— Но граф Менсдорф выйдет в отставку, потому как не хочет брать на себя ответственности за последствия разрыва, — сказал Мейзенбуг.
— Но если он это сделает, — заметил Бигелебен с натянутой улыбкой, — то, может быть, король начнет действовать быстрее и решительнее?
— Возможно, — отвечал Мейзенбуг, — но граф Менсдорф все‑таки натура податливая и нуждается в совете. Когда он найдет себе преемника, будут ли у нас нити в руках, так же как теперь?
— Я не думаю, чтобы мы стали лишними, — сказал Бигелебен. — Вы, ваше превосходительство, слишком твердо стоите на римском фундаменте, и вас трудно будет удалить, что же касается моей ничтожной личности — то есть ли у нас кто‑нибудь, кто так знал и умел обделывать немецкие дела? Гагерн?
Мейзенбуг пожал плечами и пренебрежительно взмахнул рукой.
В эту минуту отворились внешние двери приемной и вошел граф Менсдорф.
Внешность этого министра, предназначенного судьбой повести Австрию к такой тяжелой катастрофе, не представляла собой ничего особенного.
То был мужчина среднего роста, с тонким, изящным лицом французского типа, болезненного цвета, с короткими черными волосами и маленькими черными усами. Граф ходил в фельдмаршальском мундире со звездою ордена Леопольда. Походка его вследствие хронической болезни была неуверенной и нетвердой, и он старался всегда избегать продолжительного разговора стоя.
Оба сидевшие встали.
Граф Менсдорф раскланялся с ними и сказал:
— Сожалею, что заставил вас ждать, господа, — меня задержали дольше, чем я думал.
Затем он прошел через длинную приемную в свой кабинет, пригласив за собой Мейзенбуга и Бигелебена.
Все трое вступили в кабинет министра, в большую комнату, освещенную тоже только одной огромной лампой на письменном столе. Граф Менсдорф устало опустился на кресло, стоявшее возле письменного стола, удобно расположившись в нем, вздохнул с облегчением, и движением руки пригласил обоих присутствующих занять места рядом.
Все трое посидели с минуту молча. На лицах обоих советников читалось напряженное любопытство, граф Менсдорф понурил утомленный взор.
— Ну, господа, — заговорил он наконец, — кажется, ваши желания осуществятся. Его Величество император не намерен делать ни шагу назад, он ни за что на свете не хочет согласиться на предложение Пруссии относительно союзной реформы в Северной Германии, — одним словом, решился во всех направлениях энергично идти вперед и разрешить великий германский вопрос, хотя бы это повело к разрыву и даже войне, — прибавил граф тихо, со сдержанным вздохом.
Мейзенбуг и Бигелебен переглянулись с явным удовольствием и напряженно ждали дальнейших сообщений.
— Я, впрочем, не упустил ничего, — продолжал граф, — что могло бы отклонить Его Величество от такого решительного шага и такой ответственной политики. Вы знаете, я не так уж разбираюсь в политике, — и в этом отношении должен полагаться на вас и на ваши умения, но я солдат, и хотя не считаю себя за великого полководца, но все‑таки понимаю, что нужно для готовности армии к войне. Ну, господа, политика, к которой мы теперь приступаем, поведет к войне, потому что Бисмарк не такой человек, чтобы что‑нибудь уступить. Для войны же необходима хорошо подготовленная армия, стоящая на одном уровне с соперником, а по моему военному убеждению, ее у нас нет, вовсе нет. К чему же это может нас повести?
— Зачем, ваше превосходительство, вы изволите смотреть на вещи с такой темной стороны? — заметил Мейзенбуг. — Ведь военное министерство утверждает, что у нас восемьсот тысяч штыков.
— Военное министерство, — живо перебил Менсдорф, — может утверждать, что хочет. Я солдат‑практик, и не справляясь с документами военного министерства, знаю очень хорошо, в каком положении наша армия. И если мы сможем поставить на ноги половину наших восьмисот тысяч, то я буду очень рад. И притом нам придется действовать на двух театрах войны, — прибавил он, — потому как вы увидите, что при первом пушечном выстреле поднимется Италия. Я даже убежден, что между нею и Пруссией заключен союз.
Бигелебен улыбнулся как профессионал перед дилетантом и заметил почтительно‑деловым тоном:
— Осмелюсь напомнить вашему превосходительству, что по твердым удостоверениям наших посольств в Берлине и Флоренции, о прусско‑итальянском союзе нет речи, и даже продолжает существовать легкое напряжение вследствие затруднений, которые встречались со стороны Пруссии относительно Италии. Кроме того, если бы Италия вступила в прусский союз или имела это в виду, — она не стала бы так горячо добиваться французского посредничества касательно уступки Венеции за надлежащее вознаграждение, о чем мне сегодня говорил герцог Граммон.
— Да‑да, — произнес задумчиво граф Менсдорф, — посольства утверждают, что никакого прусско‑итальянского союза нет, мне это известно. И все‑таки я убежден в противном, и убежден также, что главные нити этого союза сходятся в Париже — я это чувствую, хотя не нахожу в официальных отчетах.
— Но, — вставил Мейзенбуг, — герцог Граммон не стал бы…
— Граммон! — прервал граф Менсдорф живее прежнего. — Неужели вы думаете, что Граммон знает, что делается в Париже? Неужели вы думаете, что император Наполеон явит последнее слово своей хитросплетенной политики в официальном предписании Граммону? Граммон знает только то, что ему велено говорить и, — прибавил граф тише и медленнее, — ему, конечно, не приказано говорить ничего такого, что могло задержать войну, потому что эта война слишком совпадает с французскими интересами: прусско‑австрийский бранный брудершафт в Гольштейне возбудил в Париже сильные опасения, и потому‑то Германии не миновать кровавой распри — кто в этой войне будет побит, в том будет побеждена Германия, а кто победит — тот победит для Франции!
— Ваше превосходительство в самом деле видит все в черном свете, — сказал Мейзенбуг с легкой усмешкой, — я, напротив, надеюсь, что победа австрийского оружия снова восстановит германское единство под императорским знаменем, а если Италия поднимется, мы положим быстрый конец этому нелепому королевству, угрожающему Церкви и государственному порядку.
— Душевно желал бы разделять ваши упования, — сказал печально граф Менсдорф, — но я не верю в возможность победы австрийского оружия, и когда Бенедек узнает армию и ситуацию в ней так же, как их знаю я, он скажет то же самое. Я заявил все это императору, — прибавил он еще тише, — и умолял его сложить с меня должность, возлагающую ответственность за политику, могущую повести к тяжелым катастрофам.
— Но, ваше превосходительство! — испуганно вскричали Мейзенбуг и Бигелебен.
— Нет‑нет, — сказал граф Менсдорф со слабой улыбкой, — я еще не ухожу — Его Величество приказал мне оставаться на посту, и как солдат, я остаюсь. Как солдат, — повторил он с нажимом, — потому что, будь я политическим министром современной школы, я бы не остался. А теперь приказание отдано, значит, нужно идти вперед во что бы то ни стало. Как бы нам сделать, чтобы вопрос разрешился как можно скорее так или иначе? Если уже нет выбора, я стою за быстроту действий, потому что каждый день играет на руку нашему противнику.
— Средство простое, — сказал Бигебелен, еще больше выпрямившись на своем кресле и вскинув правую руку. — Голштинские чины настойчиво желают быть созванными, чтобы переговорить насчет положения края и дальнейшей его судьбы. Если мы их созовем, это будет наперекор всем видам Пруссии и побудит берлинских господ показать цвета, а вместе с тем мы получим этим путем сильную поддержку в симпатии герцогств и великонемецкой партии в Германии.
— Но ведь мы в герцогствах только condominus[27], — вставил граф Менсдорф. — По Гаштейнскому трактату мы пользуемся там верховной властью только совместно с Пруссией.
— Позвольте, ваше превосходительство, — прервал Бигелебен, — именно этот пункт и приведет к столкновению, и если оно состоится, то мы окажемся в благоприятных условиях поборников народных интересов.
— Ну, мне это не особенно по душе, — сказал граф Менсдорф. — Я придаю очень мало значения симпатиям ораторов пивных и разных зенгер- и турнферейнов; по‑моему, лучше бы у нас была такая армия, как у пруссаков. Но будьте так добры, приготовьте мне об этом небольшой меморандум с инструкцией Габленцу, чтобы я мог предложить их Его Величеству.
Бигелебен склонился почти перпендикулярно, а по лицу Мейзенбуга скользнула легкая самодовольная улыбка.
— Что в Германии? — спросил граф Менсдорф. — В Саксонии? Готовы ли там?
— Как нельзя лучше, — отвечал Бигелебен. — Господин фон Бейст горит нетерпением и прислал записку, в которой излагает необходимость быстрых действий. Он тоже считает созыв голштинских чинов лучшим средством разъяснить положение. Настроение населения в Саксонии превосходно. Не угодно ли вашему превосходительству взглянуть на записку фон Бейста?
Он открыл портфель, лежавший перед ним на столе. Менсдорф отодвинул и сказал со слабой улыбкой и легким вздохом:
— Откуда этот Бейст берет время столько писать! Что в Ганновере? — прибавил он. — Есть ли там надежда?
— Только что прибыл курьер с донесением графа Ингельгейма, — отвечал Бигелебен, вынимая из своего портфеля депешу и просматривая ее, — он доволен. Граф Платен вернулся из Берлина и уверяет, что все предпринятые там старания задобрить его и перетянуть ганноверскую политику на прусскую сторону остались тщетными. Он ничего не обещал и выразил графу Ингельгейму надежду, что в Вене оценят его образ действий.
— Да, я знаю ему цену, — сказал Менсдорф почти про себя, слегка пожав плечами. — А король Георг? — спросил он снова.
— Король, — отвечал Бигелебен, — слышать не хочет о войне и не перестает твердить, что спасение Германии в дружеском согласии Пруссии с Австрией. Но несмотря на это, если дело дойдет до разрыва, то король, конечно, будет на нашей стороне.
— Сомневаюсь, — протянул граф. — Король Георг, насколько я его знаю, немец и вельф, но не австриец. И наконец, в нем живы традиции Семилетней войны.
— Совершенно справедливо, — заговорил теперь Мейзенбуг, — что ганноверский король не австриец в душе, но я все‑таки думаю, что он нам предан, несмотря на сильные прусские влияния. Нужно сперва попробовать предложить что‑нибудь, отвечающее его идеям, — король грезит о величии Генриха Льва — граф Ингельгейм проведал через доктора Клоппа, что король сильно интересуется историей своих несчастных предков.
— Доктор Клопп? Кто он? — спросил граф Менсдорф с легким нервным зевком.
— Бывший учитель, который в тысяча восемьсот сорок восьмом году сильно скомпрометировал себя как демократ и защитник конституции, но теперь обратился.
— В нашу веру? — спросил Менсдорф.
— Нет, но к нашим воззрениям и интересам. Он обнаруживает большое искусство в исторических изложениях, соответствующих нашим интересам, и приобрел этим некоторую известность, так что ему поручили издание энциклопедии «Лейбнициана». Он часто видится с графом Платеном и очень нам полезен.
— Так‑так, — сказал, усмехаясь, граф. — Это уже по вашей части, любезный Мейзенбуг?
— Я весьма интересуюсь этим талантливым писателем, — отвечал спокойно тот, — и кроме того, ему в Ганновере сильно протежирует граф Ингельгейм.
— Ну, а что мы предложим королю Георгу? — спросил Менсдорф.
— По‑моему, — сказал Мейзенбуг, — за ганноверский союз следует предложить прусскую Вестфалию и Гольштейн, при благоприятном исходе войны. Мы приобретем этим путем сильную позицию на севере, и таким образом увеличенный Ганновер никогда не смог бы установить дружеские отношения с Пруссией и совершенно перешел бы на нашу сторону.
— Раздел медвежьей шкуры, обладатель которой еще ходит по лесу, — сказал Менсдорф. — Ну, составьте заодно и об этом записку, я покажу ее государю, хотя и сомневаюсь, чтобы ганноверский король стал подвергать свою страну такой опасности из‑за таких перспектив.
— Мы должны дать ему средства встретить опасность лицом к лицу. У нас на севере есть бригада Калика, мы можем предоставить ее в его распоряжение и фельдмаршала Габленца в придачу.
— Наших лучших солдат, — вставил граф Менсдорф. — Впрочем, ведь он стоит на очень важном посту. Ну, а если король Георг ничего этого не примет?
— Тогда, — сказал Мейзенбуг, — обстоятельства заговорят сами за себя. Колебание графа Платена, если тот не захочет сделать решительного шага ни в ту, ни в другую сторону, вызовет недоразумение и недоверие, и приведет наконец к такому положению, которое вынудит Пруссию резко обойтись с Ганновером. Подобный шаг заденет гордость короля и свяжет на севере значительные прусские силы, между тем как мы будем оставаться свободными от всяких обязательств относительно Ганновера, — прибавил Мейзенбуг, усмехаясь. — Однако в Берлине очень сильно ухаживают за Ганновером, — продолжал он, — и когда там был граф Платен, заходила даже речь о семейном союзе.
— Да? — спросил, оживляясь, Менсдорф. — Каком именно?
Мейзенбуг вынул из портфеля письмо и подал его министру, отметив предварительно ногтем одно место.
— Граф Платен пояснил графу Ингельгейму, что он может быть уверен — из этого ничего не выйдет, — сказал Мейзенбуг, потирая руки, пока министр читал, — а в Берлине у нас есть совершенно нам преданный Штокгаузен, который сумеет помешать всякому соглашению.
— Итак, господа, — сказал граф Менсдорф, вставая и возвращая письмо Мейзенбугу, — вы теперь знаете намерения Его Величества; принимайтесь же скорее за работу. Мы с вами еще увидимся у графини?
Оба советника низко поклонились и вышли из комнаты.
Граф Менсдорф с минуту посидел в своем кресле в глубоком раздумье. На черты его легла мрачная серьезность, а взгляд, оторвавшись от ближайшей обстановки, потерялся, казалось, в далеких пространствах.
Затем он медленно поднял голову, окинул взглядом большой полутемный кабинет и проговорил медленно:
— О вы, великие люди, которые здесь, под этими сводами, стояли на страже величия Австрии! Если б вы могли быть на моем месте! Я охотно готов обнажить меч за свое отечество, но править кормилом государства в этом море подводных камней мне не под силу — я вижу перед собой бездну, на краю которой стоит моя милая Австрия, но не могу ее удержать, не могу и оставить места, возлагающего на меня всю ответственность. Я вынужден выжидать на своем посту, потому что я солдат, хотя и не могу действовать как солдат…
Он снова погрузился в глубокую думу.
Вдруг раздался легкий стук у внутренней двери кабинета, и почти непосредственно вслед за этим вошли два мальчика, лет восьми и пяти, сперва осторожно и застенчиво, но, увидев, что граф один, они радостно бросились к нему и обступили его кресло.
Граф Менсдорф вышел из забытья, лицо его прояснилось, и он, улыбаясь, обнял обоих мальчиков.
— Ведь мы еще тебя сегодня не видели, папа! — сказал младший. — И все ждали, когда можно будет проститься с тобой! Покойной ночи, милый папа, — мы должны сейчас идти спать, мы очень устали!
Граф Менсдорф нежно погладил детей по волосам и, притянув к себе поближе, поцеловал обоих в чистые белые лобики.
— Спокойной ночи, дети мои, — произнес он нежно, — благодарю, что дождались меня, — надеюсь, вы весь день были умны и прилежны?
— О да, папа! — отвечали оба мальчика с гордой уверенностью. — Нам иначе не позволили бы посидеть подольше и прийти к тебе!
Глаза министра засветились весело и ласково, и кто бы увидел его сидящим теперь в кресле, обнявшим руками мальчиков и глядевшим на них смеющимися глазами и с кроткой нежностью в лице, тот не поверил бы, что это тот самый человек, который избран судьбой вести великую державу к решительному кризису и приготовить Германии страшную, кровавую катастрофу.
— Спите спокойно, детки, — сказал граф Менсдорф, — да благословит вас Бог! — Он еще раз поцеловал их и, перекрестив, нежно проводил глазами до дверей, но когда они вышли, лицо его снова подернулось тенью.
— Они счастливы, — прошептал министр, — забота не лишает их сна!
Он встал и позвонил.
Вошел камердинер.
— Много гостей у графини?
— Сегодня малый прием, — отвечал камердинер, — но съехалось очень много.
Граф Менсдорф вздохнул, бросил беглый взгляд в зеркало и вышел из кабинета, чтобы показаться в гостиной у жены.
Там между тем общество стало еще многочисленнее и перемещалось взад и вперед по комнатам с большим оживлением. Дипломаты обменялись новостями или заверили друг друга, что ничего нового нет, и примкнули к различным группам, чтобы убить время в легкой болтовне до появления министра. Юноши кружились около молодых дам, и между прочими можно было заметить лейтенанта Штилова в оживленной беседе с молодой особой поразительной, чрезвычайно изящной красоты.
Эта молодая особа, единственная дочь вдовствующей графини Франкенштейн, была та самая, на которую указывал фельдмаршал Рейшах как на предмет внимания Штилова в городском театре. И в самом деле, офицер с особенным увлечением поддерживал, по‑видимому, легкую, салонную беседу, причем с необычайным участием смотрел на молодую девушку, которая, подняв на него взор своих больших, темных глаз, вертела в руках веер из белых перьев, гармонировавший изящной простотой с ее совершенно белым платьем, украшенным маленькими букетами фиалок.
— Итак, графиня, — говорил Штилов, — когда вы с вашей фрау маман поедете в Швейцарию, то возьмете меня с собой? Я знаю все лучшие места и буду превосходным проводником.
— Не мне решать вопрос о наших проводниках, но я не сомневаюсь, что моей матери будет весьма приятно встретиться с вами в Швейцарии и воспользоваться вашими любезными услугами.
— Какой бесконечно вежливый ответ, графиня! — сказал лейтенант, хмуря брови. — Слишком вежливый, по‑моему. Я, разумеется, знаю, что графиня от меня не отвернется, если встретит, и не откажет в позволении поехать с вами в горы, но…
— Стало быть, наш план готов и все в порядке, — прервала его графиня, тонко и лукаво улыбаясь, — или вам, может быть, хотелось невежливого ответа? Этого вы от меня не дождетесь!
— Вы не добрая, графиня, — отвечал Штилов, кусая губы и тщетно стараясь поймать зубами маленькие усы, — вы очень хорошо знаете, что я имел в виду не обмен пустыми вежливостями, а серьезный вопрос. Я ни в каком случае не желаю быть лишним и обязанным только вежливости вашей матери тем, что меня не прогонят. Вы знаете, — продолжал он через минуту свободнее и горячее, — сколько радостей я ждал от этой поездки… Мне нравится простор природы и чистый воздух гор и я думаю, что и вы также будете восхищаться прелестными долинами и величественными горами, что вы способны понимать природу и вам там будет лучше, чем здесь.
Молодая девушка слушала его, и взгляд ее светился все горячее и задушевнее, потом она вдруг опустила глаза и прервала его с иронией, впрочем, смягченной кроткой улыбкой, игравшей на ее губах:
— Почем вы знаете, что я здесь не чувствую себя в своей стихии?
— Знаю, графиня, — сказал с живостью молодой офицер, — и, зная это, желаю вам сопутствовать и прочесть вместе с вами великую поэму прекрасной природы, но только если вы сами серьезно этого хотите и меня в самом деле охотно возьмете…
— Мы строим планы на лето, — опять прервала она, — а кругом говорят о войне. Кто знает, — продолжала она, и на ее лицо легла тень, — может быть, все наши планы разлетятся как дым или сгорят в огне!
— Боже мой! — вскричал Штилов. — Конечно, если будет война, все будет иначе, но это нам не мешает строить планы на тот случай, если войны не будет. Итак…
— Вот граф Менсдорф, — сказала молодая девушка, вставая, — может быть, мы сейчас услышим что‑нибудь новое, и мама мне кивает. Извините, я вас оставлю — мы ведь увидимся на днях, тогда вы мне расскажете, что узнаете насчет войны или мира и имеют ли шансы наши идиллические планы или нет.
— Стало быть, вы хотите меня взять? — спросил он с живостью. — Но я прошу не просто вежливого, а дружеского, откровенного ответа.
Она посмотрела на него с минуту пристально и твердо, причем легкая краска оттенила нежный колорит ее лица.
— Да, если эта тихая поездка способна вас удовлетворить и если вы сможете забыть Вену.
И легким, упругим шагом она упорхнула по паркету на другой конец салона, где стояла ее мать в кругу нескольких дам.
Штилов посмотрел ей вслед с недоумением и затем смешался с толпой.
В гостиной показался граф Менсдорф и сначала довольно долго стоял в кружке, образовавшемся вокруг его жены.
Дипломаты всполошились и принялись с более или менее вежливо замаскированной невнимательностью открещиваться от равнодушных разговоров, в которых до сих пор принимали участие.
Наконец министр перешел во второй салон. Навстречу ему своею легкой, развязной походкой выступил герцог Граммон и радушно приветствовал министра.
Обе эти личности сделались предметом всеобщего внимания. Но никто не решался прервать их оживленного разговора, продолжавшегося около десяти минут.
Наконец граф Менсдорф отошел от герцога и очутился лицом к лицу с фон Вертером.
Он приветствовал его с безукоризненной вежливостью, и снова всеобщее внимание направилось на эту группу.
Она, однако, распалась через две минуты. Граф Менсдорф расстался с прусским послом с низким поклоном и быстро прошел через залу к генералу Кнезебеку, взял его под руку и отвел в сторону, чтобы вступить в оживленный и дружеский разговор.
Герцог Граммон снова смешался с толпой. Появились Мейзенбуг и Бигелебен, и были окружены дипломатами второго разряда.
Через четверть часа все почувствовали, что барона Вертера окружила атмосфера, полная ледяного холода: нити всякого разговора, какой бы он ни начал здесь или там, порывались после нескольких вежливых фраз, и только благодаря недюжинной ловкости и удивительному такту пруссаку удавалось не показывать вида, что он замечает свою изоляцию, пока не наступила пора удалиться.
Салоны мало‑помалу опустели. Лейтенант Штилов спустился с широкой лестницы и нашел свои дрожки на условленном месте на городской площади.
Штилов назвал извозчику адрес, сел и закутался в белый плащ.
— Что она хотела сказать замечанием о забвении Вены? Неужели она знает? Конечно, ведь вся Вена знает, что я делаю, и я не прячу своей жизни. Захоти графиня, я бы весь этот вздор бросил, но хочет ли она?
Он задумался.
— Захочет, — сказал лейтенант немного погодя, — и тогда мой жизненный путь озарится чистой звездой, и прочь все сбивающие с дороги огни, которые, однако, очаровательны! — прибавил он шепотом.
Экипаж остановился перед большим домом.
Штилов отпустил извозчика, кивнул швейцару как старому знакомому и поднялся во второй этаж. На его звонок отворила дверь хорошенькая горничная.
Молодой человек сбросил плащ и вошел в очень элегантный, темно‑синий салон, где перед камином стоял изящно сервированный чайный столик, освещенный огромной карсельской лампой.
В шезлонге возле камина возлежала стройная, молодая женщина в белом неглиже.
Бледное лицо ее, образец женской красоты, было освещено частью мягким светом лампы, частью красным пламенем камина, и глаза ее, черный цвет которых был еще чернее ее блестящих, туго заплетенных волос, то угасали в нежной задумчивости, то вспыхивали резкими, сверкающими лучами.
Белые, скорее худые, чем полные руки, полуприкрытые широкими рукавами, покоились на груди, а тонкие пальцы играли кистью пояса.
Вся ее внешность поражала красотой, демоническое впечатление от которой усиливалось изменчивыми бликами света, игравшими на лице и всей ее фигуре.
При входе молодого человека она вскочила и из глаз ее сверкнула молния, про которую мудрено было бы сказать, был ли это проблеск любви, гордости или торжества?
Так должна была смотреть Клеопатра, когда к ней приходил Антоний.
Она бросилась навстречу офицеру, обняла его, погружаясь взглядом в его глаза.
— Наконец ты приехал, милый друг! — шепнула она. — Как ты долго заставил себя ждать!
На лице молодого человека при входе в комнату виднелась холодность, и в движении, с каким он положил руку на ее плечо, угадывалось, может быть, больше вежливости, нежели нежности.
Почувствовала ли это молодая женщина?
Взгляд ее стал еще глубже и горячее, руки крепче охватили шею офицера, а стройное тело дрогнуло.
Магнетический ток ее перекинулся на возлюбленного. Он нежно подвел ее к шезлонгу, опустился перед ней на колени и поцеловал ее левую, свешенную руку, между тем как правой она расправляла волосы у него на лбу.
Звезда подернулась тучами, блудящий огонек засверкал переливчатым пламенем.
Глава четвертая
К шумной человеческой волне, катившейся по набережной Вольтера в Париже, вдоль берегов Сены, и представлявшей, подобно калейдоскопу, вечно изменяющиеся, пестрые картины, ясным утром, часу в десятом присоединился человек, скорым шагом вышедший из улицы Бонапарт и направившийся через мост к Тюильри.
Как ни была проста внешность этого худощавого невысокого человека, она, тем не менее, обращала на себя внимание многих прохожих — конечно, не более как на мгновение, потому что дольше чем на мгновение парижанин редко останавливает свое внимание на чем бы то ни было. С одной стороны, любопытство прохожих возбуждала своеобразная нервная озабоченность и торопливость походки этого человека, а с другой — сосредоточенная задумчивость, с которою он, не глядя ни направо, ни налево, спешил сквозь толпу с той сноровкой избегать столкновений и экипажей, не умеряя шага, в которой сказывался человек, много лет проживший в большой всемирной столице.
Мужчина, так настойчиво спешивший к громадному зданию королевского и императорского дворца, был одет более чем скромно. По одежде и сутуловатой спине его можно было бы принять за учителя начальной школы или письмоводителя, адвоката, да только острое, оживленное выражение резких черт, при розово‑белом цвете лица северянина, и проницательный взгляд светло‑серых глаз налагали на всю внешность печать, которая заставляла отбросить первое, мимолетное впечатление и предположить под невзрачной фигурой больше, чем показывала непритязательная внешность.
Человек дошел до противоположного берега Сены и вступил под портик, ведший во внутренний двор Тюильри.
Он показал часовому, вышедшему ему навстречу, бумагу, при взгляде на которую гвардеец, стоявший на часах, отступил и, ответив пришедшему: «Хорошо, сударь», — впустил его во внутренний двор императорской резиденции, куда не имел доступа никто из неуполномоченных и куда имели право въезжать только экипажи придворных и сановников империи.
Не умеряя шага, коротышка поспешил через двор мимо большого императорского подъезда, под палаткообразным навесом которого, поддерживаемого позолоченными копьями, перешептывалась группа дежурных лакеев, — к маленькому крыльцу, на которое он вошел с уверенностью знающего местность. Мужчина поднялся на лестницу и вступил в переднюю, где придворный лакей, сидя в большом кресле, спокойно и с достоинством исполнял свои несложные обязанности.
Вошедший спросил коротко:
— Господин Пьетри?
— В своем кабинете, — отвечал дежурный, полувставая с кресла.
— Спросите, может ли он принять Хансена, — он назначил мне аудиенцию на этот час.
Дежурный поднялся без дальнейших расспросов и вошел в кабинет императорского частного секретаря, дверь которого он через несколько минут отворил, сказав негромко:
— Пожалуйте!
Кандидат прав, датчанин Хансен, неутомимый агитатор в пользу Дании, вступил в кабинет секретаря Наполеона III.
Этот кабинет был большой, светлой комнатой, полной столов и папок с бумагами, актами и планами земельных участков. На заднем плане виднелась витая лестница на верхний этаж, дверь которого была задернута портьеркой из темного дама.
За большим письменным столом сидел Пьетри, еще молодой человек, стройный, с продолговатым лицом, отличавшимся тем ясным, спокойным, умно‑оживленным выражением, которое придает правильная, логично распределяемая интеллигентная деятельность.
Он слегка поклонился Хансену, отодвинул пакет с письмами, пересмотром которых только что занимался, и любезно указал на кресло, стоявшее неподалеку от стола.
— Ну‑с, — начал Пьетри, причем его ясные глаза внимательно устремились на сидевшего против него собеседника, — вы только что из Германии. Что же вы видели и слышали? Созрело ли дело? Каково настроение масс? Расскажите мне все, мы должны хорошо знать, что там делается, чтобы занять именно такое положение, какое следует.
— Позвольте начать с самого главного, — отвечал Хансен. — Я был, прежде всего, в Берлине и не упустил там ни единой возможности, чтобы разузнать о настроении государственных людей и всего населения, и думаю, что результат моих наблюдений верен.
В эту минуту на верху лестницы на заднем плане кабинета послышался шорох, широкая, падавшая складками портьера медленно поднялась, из‑за нее выступил человек и поставил ногу на верхнюю ступень лестницы.
То был Наполеон III, спускавшийся таким путем из своего кабинета к своему частному секретарю.
Заслышав шорох отворявшейся двери, Пьетри встал.
Хансен последовал его примеру.
Император медленно спустился с лестницы.
Это уже не был тот статный мужчина, которого видели на портретах в натуральную величину над занавешенными тронными креслами императорских послов, повелительно державшим руку над короной и скипетром Франции и так гордо стоящим в ниспадающей императорской мантии, с высоко поднятой изящной, выразительной головой.
Это был старик. Полнота исказила стройность стана, болезнь сделала походку нетвердой, поседевшие волосы не ложились изящными прядями вокруг лба, но плоско ниспадали у висков, и почти всегда тусклые, только изредка вспыхивавшие мимолетными зарницами глаза смотрели безжизненно, утомленно, печально.
В простом, черном утреннем сюртуке, с сигарой во рту, сильный и тонкий аромат которой клубился вокруг него легкими голубоватыми струйками, император осторожно спустился с лестницы и вошел в кабинет.
Он ступал медленно, усвоенной им в последние годы жизни тяжелой и слегка раскачивающейся походкой.
Остановясь перед секретарем, он бросил из‑под полуопущенных век пристальный взгляд на низко кланявшегося Хансена. Он, казалось, с первого взгляда составил себе о нем предварительное понятие, но не удовлетворяясь этим, обратил на Пьетри вопросительный взгляд.
— Государь, — сказал тогда секретарь, — это Хансен, датчанин, бескорыстно преданный своему отечеству и оказавший нам много услуг, так как он в качестве датчанина любит Францию. Хансен только что из Германии, многих там видел и как раз намеревался сообщить мне результата своих наблюдений.
Император слегка поклонился. Поразительно зоркий, глубоко проницающий взгляд устремился из‑под полуопущенных век на датского агитатора, лицо которого не выражало ничего, кроме глубочайшего почтения.
— Любезный Пьетри, — обратился Наполеон III к своему секретарю, — я пришел просмотреть поступившую корреспонденцию. Вы привели ее в порядок?
— Вот она, государь, — отвечал Пьетри, взяв со стола пачку бумаг и подавая императору.
Наполеон взял ее и, с остатком юношеской ловкости пододвинув кресло к окну, опустился в него, потом вынул новую сигару из портсигара и раскурил от окурка прежней.
— Я не буду мешать вашей беседе, — сказал он с любезной улыбкой, — объясняйтесь, как будто бы здесь никого не было, я буду потихоньку читать письма.
Пьетри снова уселся за свой письменный стол и кивнул Хансену тоже занять место.
Император пристально смотрел на первую из бумаг, которую взял в руки и на которой виднелись синие знаки, отличавшие то, что заслуживало наибольшего внимания.
— Вы, стало быть, были сперва в Берлине? — спросил Пьетри, вопросительно устремив свой ясный взгляд на Хансена.
— Да, — отвечал тот, — и вывез оттуда убеждение, что великий немецкий конфликт неизбежен.
— Разве там его непременно хотят?
— Конфликта не хотят, — но хотят того, что без него недостижимо.
— Чего же именно?
— Полнейшей реформы Германского союза, военной гегемонии Пруссии до Майна, полнейшего устранения традиций меттерниховской Германии. Граф Бисмарк решил во что бы то ни стало достичь этой цели, и я думаю тоже, он убежден в недостижимости ее без борьбы.
Пьетри помолчал несколько секунд, затем приподнял взгляд, скользнувший по императору, вполне погруженному в чтение, прямо на Хансена и спросил:
— И разве они не удовлетворились только обладанием Гольштейном и Шлезвигом? Мне кажется, что пруссаки за уступку австрийского кондомината в герцогствах были склонны даже допустить исправление границ в Силезии.
Лицо Хансена слегка вспыхнуло, но он отвечал, не выдав ни малейшего волнения:
— Нет, такие условия не могут устранить столкновения. Я думаю даже, что они были склонны сделать большие уступки, для того чтобы добиться от Австрии полного обладания герцогствами, и если бы Франция серьезно потребовала, то датские округи Северного Шлезвига были бы возвращены. Но конфликт не устранить паллиативными[28] мерами. Поверьте мне, — продолжал он с живостью, — этот конфликт — не спор из‑за немецких герцогств. В Берлине прекрасно осознают, что те в конце концов должны подпасть под власть Пруссии, и не боятся резолюций герцога Аугустенбургского. Начало конфликта лежит в историческом развитии Германии и Пруссии. Пруссия в действительности не второе германское государство, а первое, а Германский союз ставит ее на второе место и подавляет естественное развитие ее могущества механизмом, пружины которого приводятся в движение из Вены. Вот истинный конфликт. Пруссия хочет добиться места, в силу вещей принадлежащего ей в Германии и от которого Австрия ее отстраняет. Он длится годами и, может быть, продолжал бы существовать еще долго в скрытой форме, доставляя пищу европейской дипломатии, если бы к управлению судьбами прусского государства не был призван Бисмарк. Этот государственный человек — воплощение прусского духа, подкрепленное редкой и самобытной гениальностью. Он направил мощные и разнообразные силы страны к высшей цели и твердо вознамерился положить конец теперешнему состоянию дел! Он никогда не пойдет в Ольмюц на поклон, он завоюет Пруссии надлежащее место в Германии, или погибнет.
Император медленно опустил на колени руку с письмами, и его глаза, широко вдруг раскрывшиеся и засветившиеся темным пламенем, задумчиво устремились на лицо Хансена.
Внимание государя не ускользнуло от внимания Пьетри, и он сказал, слегка улыбаясь:
— Странно, право, слышать от датчанина, высказывающегося здесь, в Париже, такие восторженные выражения об этом прусском министре.
— Почему же нет? — сказал спокойно Хансен. — Человек, который знает, чего хочет, и употребляет все силы, чтобы осуществить свои желания, который любит свое отечество и старается возвести его на подобающую высоту, на возможную степень могущества, производит на меня глубокое впечатление и, конечно, имеет право на уважение за свои стремления. И на восхищение, если он достигнет успеха. Между мной и Бисмарком стоит мое отечество — Дания. Мы не хотим и не можем пользоваться тем, что есть немецкого в герцогствах. Нам нужно только то, что есть в них датского и что необходимо для Дании, чтобы обеспечить свои границы. Если нам это дадут, у нас не будет никакого основания быть врагами Пруссии или Германии. Если же нас этого лишат, то Пруссия всегда и везде будет встречать маленькую Данию на стороне своих врагов, и именно в силу тех же принципов, которые руководят действиями Бисмарка.
Наполеон III внимательно слушал.
Пьетри спросил:
— Стало быть, вы вынесли такое впечатление, что можно рассчитывать на согласие Пруссии относительно осуществления датских желаний?
— Я не считаю это невозможным, — отвечал с уверенностью Хансен, — особенно если, — подчеркнул он, — Пруссия в своем, во всяком случае затруднительном положении, такой комбинацией сумела бы снискать расположение какой‑нибудь сильной державы. Тогда речь шла бы только о том, чтобы разграничить немецкие и датские интересы.
При этих словах он медленно перевел взгляд на императора. Наполеон приподнял письмо, которое держал в руке, и его тусклые глаза уставились без выражения на бумагу.
Пьетри продолжал спрашивать:
— Если, по вашим наблюдениям и впечатлениям, Бисмарк желает столкновения или хочет достичь цели, которая без столкновения недостижима, — пойдет ли король на крайности или, может быть, пожертвует своим министром? Я могу говорить с вами откровенно, — прибавил он с искренним, по‑видимому, чистосердечием, — вы живете в политическом мире и знаете так же, как я, что говорят в кругах, близких к прусскому посольству. Не вынесли вы из Берлина впечатления, что возможна замена Бисмарка графом Гольцем?
— Нет, — отвечал Хансен с уверенностью, — прусский король в высшей степени не расположен к войне — то есть не к войне вообще, а к войне с Австрией, Германией. Король смотрит на подобную войну весьма серьезно и настойчиво желает ее избежать. Если бы со стороны Вены сделан был шаг навстречу в принципе, то в частностях он, может быть, пошел бы на многие уступки, которые пришлись бы весьма не по сердцу Бисмарку. Но и король не сделает уступки в главном, если вопрос будет поставлен ребром. Вильгельм преобразовал армию, которая теперь, по отзыву всех компетентных людей, представляется образцовой, проведя это преобразование вопреки оппозиции парламента, и не преминет при первой представившейся возможности отстоять и упрочить могущество Пруссии в Германии. Король пойдет в бой с горечью в сердце, но все‑таки пойдет, а с первым пушечным выстрелом забудет обо всем, кроме того, что он полководец. Я, разумеется, Его Величества короля Вильгельма не видел, — прибавил Хансен, — однако все, что я высказал, представляет резюме моих разговоров с людьми, хорошо знающими ситуацию и людей. Что касается положения графа Бисмарка, то оно как нельзя более прочно. Графа Бисмарка ничто не поколеблет в доверии короля.
— Почему так? — вставил с живостью Пьетри.
— Потому что он солдат.
— То есть потому, что он носит мундир ландвера?
— Это только наружность, которую я не принимал в расчет. Бисмарк солдат в душе — он человек дела, его дипломатическое перо не дрогнет при громе пушек, и он так же спокойно проедется по полю битвы, как спокойно сидит за зеленым столом. Король это чувствует, потому что сам солдат, и потому‑то он так ему доверяет. Я знаю, что у графа Гольца много друзей, но у этих друзей много иллюзий, и я смею уверить, что если о нем говорят в Париже, то в Берлине не вспоминают ни словом.
Наступило короткое молчание.
Пьетри, взглянув на императора, продолжал спрашивать:
— Но что говорит население? Судя по голосам прессы, война непопулярна.
— И это действительно так, — заметил Хансен. — Боятся поражения. — И парламентская оппозиция в своей близорукости думает, что Бисмарк хочет войны только для того, чтобы устроить себе лазейку из западни, в которую якобы угодил. Как эти господа плохо знают человека, с которым имеют дело!
— Но, — продолжал Пьетри, — разве не риск для прусского правительства начать войну против Австрии и Германии, в то время как внутри страны возникает оппозиция, осуждающая эту войну?
— Я полагаю, что все эти затруднения чисто мнимые. Армия, — а главное дело в ней, — несмотря ни на какую оппозицию, сознает свою силу, и все, кто сегодня говорят и пишут против войны, после первого успеха будут лежать у ног Бисмарка, внутреннее разномыслие исчезнет после первого выигранного сражения. Любое приращение Пруссии, каждый шаг к объединению Германии будут делать войну, ведущую к этому, все более и более популярной.
— Но вопрос в том, — вставил Пьетри, — будет ли успех?
— Я думаю, что будет, — сказал спокойно Хансен. — Австрия заблуждается насчет своих сил и сил Германии, ставя их выше прусских. Прусские войска многочисленны, сильны духом и крепко стоят на родной почве. Австрийская армия слаба, без прочных связей, без талантливых предводителей. Южногерманские офицеры, которые знают положение Австрии и с которыми я говорил, не сомневаются в прусской победе. Поэтому со стороны Южной Германии война будет вестись очень вяло, хотя бы потому, что там не справятся даже с первыми приготовлениями к военным действиям. Ганновер и Гессен хотят оставаться нейтральными, но не заключили никаких трактатов, и поэтому не обеспечены от внезапного нападения. Единственную энергичную поддержку Австрия найдет в Саксонии, где Бейсту — душе всего антипрусского движения — действительно удалось поставить армию на военную ногу.
— И вы, стало быть, серьезно думаете о победе Пруссии? — спросил Пьетри тоном, который доказывал, что он не расположен безусловно разделить это убеждение.
— Да, — отвечал Хансен, — и полагаю, что умная и осторожная политика должна иметь в виду этот шанс.
— Вы только что говорили о приращении Пруссии. Что же, по вашему мнению, Пруссия потребует или возьмет, если победа окажется на ее стороне?
— Все, что ей нужно и что может удержать за собой.
— Что это значит, выраженное в названиях и цифрах?
— Весь север Германии, безусловно.
Пьетри недоверчиво всплеснул руками.
— Будьте уверены, что я не заблуждаюсь, — сказал Хансен. — Как только прольется прусская кровь, народ сам потребует завоеваний. То, что можно выторговать у Пруссии, нужно выторговать до войны — после победы в Берлине не пойдут ни на какие сделки.
Император встал. Пьетри и Хансен последовали его примеру.
Наполеон положил пакет с бумагами, переданный ему секретарем, снова на его стол. Он слегка склонил голову к Хансену и сказал:
— Мне было весьма приятно познакомиться с вами, и я всегда рад быть полезным нации, которая умеет внушить своим гражданам такой сильный патриотизм.
Хансен низко поклонился и вышел из комнаты.
Как только дверь за ним затворилась, император быстро выпрямился, глаза его оживились, и, подойдя быстрыми шагами к Пьетри, он спросил:
— Думаете ли вы, Пьетри, что наблюдения этого человека верны, а сведения точны?
— Мне он известен как очень меткий наблюдатель. Что касается его сведений, то я знаю, что Бисмарк его принимал, что он сносился с различными политическими деятелями в Германии и что, кроме того, одарен способностью угадывать направление общественного мнения. Несмотря на то, я думаю, что Хансен преувеличивает мощь Пруссии. Подавляющее впечатление, произведенное на него Бисмарком, отражается в его реферате. Мы уже видели нечто подобное. Этот прусский министр умеет, когда хочет, забирать людей в руки и перетягивать на свою сторону.
Император задумался.
— Мне иногда кажется, — начал он негромко, — что он прав и что мы стоим перед великой исторической задачей. Можно ли поддерживать Австрию, не оскорбляя Италии, которая уже настолько сильна, чтобы не оставить этого без внимания? Можно ли позволить Пруссии подчинить себе Германию, с опасностью для положения Франции, даже наших границ — Эльзаса и Лотарингии — этих древних германских земель?
Пьетри усмехнулся.
— Вашему Величеству угодно шутить!
— Пьетри, Пьетри! — сказал император, кладя руку на плечо своего секретаря, отчасти для усиления своих слов, отчасти для опоры. — Вы не знаете немцев — я их знаю и понимаю. Потому что я жил среди них. Немецкий народ — лев, который не сознает своих сил, ребенок может связать его цветочной гирляндой, но в нем таятся силы, способные превратить в развалины весь одряхлевший европейский мир, когда в нем пробудится сознание и он почует кровь. А крови ему придется понюхать в этой войне — старая шутка l’appetit vient en mangeant[29] может приобрести буквальное значение. Возможно, этот германский лев проглотит и своего прусского укротителя, но успеет стать для нас грозным соседом.
На лице Пьетри играла спокойная улыбка.
— Для мыслей Вашего Величества наступила черная минута, — произнес он тем холодным, спокойным тоном, которым говорят с возбужденным больным. — Я думаю, что жизненный элемент этого немецкого льва есть сон, если же он когда‑нибудь проснется и проявит такие опасные побуждения, какие Ваше Величество ему приписывает, то ведь на нашей границе стоит большая армия и императорские орлы сумеют поставить дерзкого льва на место.
Император, рука которого все тяжелее налегала на плечо секретаря, опустил голову, согнулся; глаза его устремились вдаль, дыхание с легким шумом вылетало из полуоткрытого рта. Этот шум постепенно складывался в слова и чуть слышно, но все‑таки наполнил безмолвную комнату каким‑то трепетным звуком:
— Я — не мой дядя!
Тон этих слов был так глубоко печален, так полон скорби, что спокойный, улыбающийся секретарь побледнел, как под порывом холодного ветра. Он хотел что‑то ответить, как вдруг на верху лестницы послышался шорох, приподнялась портьера, на первой ступени показался камердинер императора и доложил:
— Господин Друэн де Люис просит у Вашего Величества аудиенции.
Уже при первом шорохе император снял руку с плеча Пьетри, лицо его приняло обычное спокойное, холодное выражение. Как всегда, с полнейшим самообладанием он выслушал доклад и ответил:
— Хорошо, я иду.
Камердинер удалился.
— Я знаю, чего он хочет, — сказал Наполеон, — убедить меня ухватиться за катящееся колесо, устранить столкновение. — Иногда мне самому хотелось бы, но возможно ли это? Произнести решающее слово теперь? Если я ошибусь в расчете и мое слово не встретит сочувствия — вспыхнет мировой пожар, и мое личное существование и существование Франции повиснут на волоске. Если же предоставить вещи естественному течению, то, прежде всего, будет выиграно время, время же приносит благоприятные шансы, и таким образом, появится возможность укрепить без борьбы могущество и влияние Франции. Так или иначе, выслушаем, что он скажет.
Государь медленно направился к лестнице.
На нижней ступени он остановился.
— Пьетри, — сказал он негромко, — что вы думаете о Друэне де Люисе?
— Государь, я удивляюсь его глубоким и основательным познаниям и высоко чту его нравственные правила.
Император помолчал.
— Он стоял очень близко к орлеанскому дому, — промолвил он нерешительно.
— Государь, — отвечал Пьетри подчеркнуто твердо, — он присягнул Вашему Величеству на верность, а насколько я знаю Друэна де Люиса — клятва для него священна.
Император снова помолчал несколько секунд, потом, кивнув Пьетри, медленно поднялся по лестнице в свои покои.
Пьетри вернулся к своему письменному столу и пересмотрел корреспонденцию.
Войдя в свой скромно убранный рабочий кабинет, Наполеон III подошел к небольшому письменному столу и позвонил в колокольчик, на резкий звук которого явился камердинер.
— Друэн де Люис! — сказал император.
Через несколько минут в кабинет вошел министр иностранных дел.
Это был человек лет шестидесяти, высокий и полный. Скудные седые волосы и совершенно седые, по‑английски подстриженные бакенбарды обрамляли лицо, здоровый, румяный цвет которого и спокойные черты освещались вежливой приветливостью. Всей внешностью своей этот человек скорее походил на крупного британского землевладельца, чем на искусного государственного мужа, уже трижды избранного в министры иностранных дел при трудных и запутанных обстоятельствах. Только одни глаза, ясные, зоркие и наблюдательные, глядевшие из‑под широкого лба, изобличали навык этого твердого, осанистого, преисполненного достоинства дипломата распутывать с высоты положения запутанные нити европейской политики и управлять ими.
Министр был в черном утреннем сюртуке, с большой розеткой ордена Почетного легиона в петлице.
Император пошел к нему навстречу и подал руку.
— Рад вас видеть, любезный Друэн, — сказал он с приветливой улыбкой. — Что вы мне скажете? Что делается в Европе?
— Государь, — начал Друэн со свойственной ему медленной и немного педантично звучащей, чеканной манерой выражаться, — Европа больна и окажется скоро в опасном пароксизме, если Ваше Величество не применит успокоительных мер.
— Вы приписываете мне слишком много значения, — заявил, улыбаясь, император, — если думаете, что это в моих силах. Однако, — прибавил он серьезно, — говоря без метафор, вы хотите сказать, что германское столкновение неизбежно? — И, опускаясь в кресло, жестом предложил министру сесть.
— Да, государь, — ответил Друэн де Люис, усевшись и открыв портфель, из которого он извлек несколько документов. — Вот отчет из Вены, который подтверждает, что там — в непостижимом ослеплении — решили принять столкновение и довести его до крайности. В герцогствах созовут сословия, не спрашиваясь Пруссии, и Менсдорф отправил в Берлин депешу, в которой заключается почти приказ приостановить дальнейшие военные приготовления.
Министр передал императору бумагу, которую тот пробежал глазами и положил на стол.
— Вот, — продолжал Друэн де Люис, — отчет Бенедетти, который самым определенным образом подтверждает, что Бисмарк готов сделать решительный шаг с целью доставить Пруссии небывалое главенствующее положение в Германии. Реформа, предложенная им Германскому союзу во Франкфурте, не что иное, как нравственное объявление войны нынешнему преобладанию Австрии. Депеша Менсдорфа, о которой я только что имел честь доложить Вашему Величеству, прибыла в Берлин и была передана графом Кароли. Она глубоко оскорбительна, — Бенедетти характеризует ее как образчик тех посланий, с которыми некогда германский император мог бы обращаться к бранденбургским маркграфам, — и она, вероятно, покончит с тем отвращением к войне, которое до сих пор обнаруживал прусский король. Обстоятельства с обоих сторон ведут к войне с поражающей быстротой, и может быть уже через несколько недель армии встретятся, чтобы поставить на карту положение всей Европы, если Ваше Величество не воспрепятствуете этому.
Министр приостановился и посмотрел вопросительно на императора.
Наполеон, помолчав немного, устремил взгляд на светлое и спокойное лицо Друэна де Люиса и спросил:
— Что вы мне посоветуете?
— Вашему Величеству известно мое мнение по этому пункту. В интересах Франции и в интересах спокойствия всей Европы германской войны не следует допускать. Я убежден, что Пруссия выйдет из этой войны могущественнее и грознее. Я не верю в военный успех бессильной и внутренне разлагающейся Австрии, что же касается до остальной Германии, то о ней и говорить не стоит — это мелкие армии без всякой политической связи. Но дать усилиться Пруссии, предоставить ей главенство в Германии будет совершенно противно интересам Франции. Позвольте заметить Вашему Величеству, что, по моему мнению, современная Франция — наполеоновская Франция, — прибавил он, слегка поклонившись, — должна действовать относительно Пруссии и дома Гогенцоллернов так же, как бурбонская Франция действовала относительно Австрии и дома Габсбургов. Как тогда Австрия преследовала мысль объединить германскую нацию в военном и политическом отношении, как тогда Франция, куда бы ни приложила руку, всюду встречала противодействие Габсбургов, так теперь Пруссия повсюду идет наперекор нашему законному честолюбию, и если ей путем этой войны действительно удастся соединить военные силы Германии, она пересечет нам все пути, ограничит наше влияние на остальную Европу.
— Но если Пруссия будет побеждена? — вставил император.
— Я не считаю это возможным, — отвечал Друэн де Люис, — но если бы даже это случилось, что тогда? Австрия встала бы во главе Германии, и старые традиции Габсбургов, усиленные злобой за итальянскую войну, всплыли бы вновь на нашу пагубу. Для Франции одна политика правильная: сохранять настоящее положение Германии, питать, поддерживать антагонизм между Пруссией и Австрией, но не допускать их до конфликта и пользоваться страхом, внушаемым обоими могущественными членами союза, для того чтобы упрочить наше влияние на мелкие германские дворы. Таким образом мы легко и незаметно достигнем того, чего император Наполеон Первый добился насильственно сплоченным Рейнским союзом — располагать для наших целей действительной федеративной Германией против обеих великих держав. Я думаю, что иная политика относительно этой страны немыслима.
— Вы, стало быть, полагаете? — снова спросил император.
— Что Вашему Величеству со всей своей энергией следует воспротивиться взрыву немецкой войны.
Наполеон несколько минут барабанил пальцами по столу. Потом сказал:
— И вы думаете, что я в состоянии заставить вложить в ножны уже полуобнаженные мечи? Да, если бы был жив Палмерстон[30], с ним это было бы возможно, но с теперешней Англией, способной только на громкие слова и сторонящейся от всякого дела? Вы думаете, что один мой голос может что‑нибудь значить? А что, если повторится в обратном смысле история Язона и оба противника, готовые броситься друг на друга и разорвать один другого, быстро соединятся против того, кто рискнет стать между ними? Бисмарк способен на такую штуку. Ах! Зачем я дал так усилиться этому человеку!
Друэн де Люис отвечал спокойно:
— Я не разделяю соображений и опасений, которые Вашему Величеству угодно было разъяснить мне. Одного вашего слова достаточно, чтобы воспрепятствовать войне. Позволю себе сообщить Вашему Величеству разговор, который я имел с господином фон Бисмарком в последнее наше свидание. Граф с величайшей беззастенчивостью и полным чистосердечием высказал мне, какого положения для Пруссии в Германии он хочет и считает себя обязанным достигнуть. Так как Австрия никогда добровольно не признает за Пруссией приличествующего ей места, то войну с Австрией он считает необходимостью, глубоко коренящейся в историческом развитии Германии. «Если эта война необходима, — говорил мне Бисмарк, — и если я или вообще прусское правительство обязаны видеть в ней логический исход событий, то момент, когда должна начаться эта борьба, определится высшими государственными соображениями и волей правителей. Я не так безумен, чтобы начинать одновременно войну против Австрии и Франции. Если вы, стало быть, серьезно не хотите теперь взрыва хронического германского конфликта, выскажетесь ясно и прямо, — я могу подождать». Поэтому я прошу Ваше Величество, — продолжал Друэн де Люис, — уполномочить меня дать им самим подсказанный ответ, что Франция не хочет войны с Германией и что если бы все‑таки дошло до нее, то она двинет свои армии к границам.
Министр пристально посмотрел на императора, который, опустив глаза, погрузился в глубокое раздумье.
Через несколько минут Наполеон заговорил:
— Я не могу вполне с вами согласиться. Я вижу, как и вы, опасности, могущие произойти для Франции из германской войны, и совершенно солидарен с вами, что древнегерманское союзное устройство как нельзя лучше содействует усилению нашего влияния в Германии. Но может ли подобное устройство существовать и далее? В мире идет веяние, побуждающее национальности объединяться для совместной деятельности, и мне кажется весьма опасным становиться поперек этого веяния. Я знаю, вы не сочувствуете тому, что я сделал и делаю в Италии, между тем я считаю себя в этом отношении совершенно правым. Современная жизнь пульсирует слишком сильно, чтобы можно было в настоящее время поддерживать мировое равновесие теми мелкими гирьками, которыми располагала старая политика, клавшая их то в одну, то в другую чашку весов. Национальные агломерации[31] должны иметь место, и наша задача состоит только в том, чтобы в нашу чашку положить необходимое количество веса, которое не допустило бы вскинуть нас кверху. Да, наконец, Германия для нас вовсе не так страшна, как вам кажется. Во‑первых, в германских расах нет стремления к централизации, они не воинственны и скорее стремятся к федеративному строю. Кроме того, я на исход войны смотрю иначе, чем вы. Я не думаю, чтобы один из соперников безусловно восторжествовал над другим — оба обессилят друг друга, и в результате окажется, что Германия распадется на три части — Пруссию, Австрию и Южную Германию. И тогда, — прибавил он, улыбаясь, — представится прекрасный случай применить ваш принцип divide et impera[32], и вам не придется так много работать над деталями, как теперь.
— Так Вашему Величеству не угодно воспрепятствовать германской войне? — спросил Друэн де Люис.
— Я думаю, что я не должен этого делать, да, наконец, и не могу, — Италия вынуждает меня сдержать мое слово и дать ей свободу до Адриатики.
— Слово, которого Вашему Величеству не следовало бы давать, — сказал с твердостью Друэн де Люис.
— Может быть, — согласился Наполеон, — тем не менее оно дано, и я не могу обмануть всеобщих ожиданий — уж и без того Мексика лежит на мне тяжелым гнетом.
Наполеон глубоко вздохнул. После недолгой паузы он продолжал:
— Я все‑таки хочу попытаться примирить ваши воззрения с моими. Спросите в Вене, не согласятся ли там уступить мне Венецию для передачи ее Италии. Это послужило бы основанием союза с Австрией, который дал бы нам действительный вес и значение в разрешении сложных германских дел.
— Я думаю, что этот шаг ни к чему не поведет, — сказал Друэн де Люис. — Габсбургский дом слишком дорожит Венецией. Впрочем, так как Вашему Величеству угодно, я не замедлю это исполнить.
Император взял письмо со своего стола и, пробежав его глазами, сообщил:
— Саксония настойчиво просит меня не послаблять прусским стремлениям. Я бы не хотел высказываться определенно. Сообщите дрезденскому послу конфиденциально, чтобы он как можно осторожнее намекнул, что от венского кабинета зависит исполнение желания, выраженного саксонским правительством. Желания, которому я вполне сочувствую.
Друэн де Люис поклонился.
— Кроме того, — продолжал император, — необходимо и в Берлине повести конфиденциально речь о гарантиях, которые намерен нам представить Бисмарк, в случае если его планы в Германии осуществятся. Вы знаете, как в Берлине всегда уклончиво относились к этому пункту. От меня хотят заявления требований, которых я не могу и не хочу поставить прямо.
Друэн де Люис снова молча поклонился.
Император встал, и министр последовал его примеру. Наполеон подошел ближе, на лице императора выразилось самое искреннее благоволение:
— Вы недовольны, мой милый Друэн, но поверьте, это самая лучшая политика. Она позволит нам выиграть время, а время — такой фактор в политической жизни, который дает все тому, кто умеет им пользоваться.
— Я знаю цену времени, — отвечал министр, — но, может быть, выигрывая время, мы теряем момент.
Император выпрямился и приосанился.
— В таком случае, — сказал он, — положитесь на мою звезду и на звезду Франции.
— Эти звезды слишком могущественны и слишком лучезарно светят, чтобы не внушать доверия, — сказал министр, кланяясь, но нахмуренное лицо его не озарилось ни одним лучом этих фаталистических звезд. Он взял портфель и спросил: — Вашему Величеству не угодно больше ничего приказать?
— Я не смею удерживать вас дольше, — сказал Наполеон, горячо пожав руку министру.
Когда тот вышел, император долго молчал и думал.
«Я не могу прямо вмешаться, — размышлял он, — надо предоставить события их естественному ходу. Если мое veto пропустят мимо ушей, мне придется вступить в страшную борьбу, и тогда! Надо постараться искусным и осторожным вмешательством обратить шансы в мою пользу».
Он подошел к мраморному бюсту Цезаря, стоявшему на черном пьедестале в углу кабинета, и долго всматривался в изящное изваяние римского властителя. Мало‑помалу глаза его загорелись электрическим пламенем, и он прошептал:
— Великий образец моего дома! Мне еще раз приходится произнести подобно тебе: Jacta est alea! Но, — прибавил он печально, — ты сам бросил кость и мощной рукой заставил ее упасть туда, куда хотел. Мою же кость бросает неумолимая рука судьбы, и я должен брать ее такою, какой она выпадет!
Вошел камердинер и доложил:
— Завтрак императора подан.
Наполеон оставил свой кабинет.
Глава пятая
По великолепной аллее, только что опушившейся первой светлой зеленью и ведущей из Ганновера к королевской резиденции Гернгаузен, ехал свежим и прекрасным утром экипаж, быстро приближаясь к золоченой решетке с воротами, ведущими на главный двор королевского дворца.
Когда экипаж остановился у ворот, из него вышел стройный невысокий человек лет тридцати шести, очень белокурый, с длинными, немного подкрученными усами, в черном фраке и сером пальто.
Этот человек вошел в боковой подъезд старого курфюрстского и королевского дворца, миниатюрного подражания Версалю, созданного творчеством знаменитого Ленотра, и вступил в длинный коридор, который вел прямо к кабинету короля Георга V. Перед этим кабинетом, имевшим непосредственный выход в сад, сидел дежурный камердинер. Направо находилась приемная комната для господ, ожидавших аудиенции у короля, по странной игре случайности сплошь увешанная изображениями прусских великих людей. Рядом с портретами во весь рост Блюхера и Цитена раскинулся на всю стену драматический эпизод заальфельденского поражения и на первом плане — прусский принц Людовик‑Фердинанд.
— Король один? — спросил вошедший.
Камердинер встал и, сняв с него пальто, отвечал на ломаном немецком языке, с сильным английским акцентом:
— У Его Величества тайный советник Лекс.
— Доложите обо мне.
Камердинер громко стукнул в дверь короля. Чистый, приятный голос Георга V отозвался: «Come in!»[33]
Камердинер вошел и через несколько минут вернулся.
— Король просит господина Мединга подождать минуту. — И он отворил дверь в приемную, куда и вошел господин Мединг, член правительственного совета и государственный секретарь.
Приемная была пуста, и вошедший сел на широкий диван.
Через пять минут дверь снова отворилась, и появился пожилой, немного сутуловатый человек, со снежно‑белыми волосами и усами, в ганноверском генеральском мундире с золотыми аксельбантами. Это был генерал‑адъютант Чиршниц, правая рука короля в военном деле. Мединг приподнялся со словами:
— С добрым утром, ваше превосходительство.
— Здравствуйте, здравствуйте! — отвечал генерал, кладя на стол большую сложенную карту. — И вы так спозаранку? Придется долго ждать? Надеюсь, вы не надолго.
— У короля тайный советник Лекс, и он, вероятно, пишет письма. Как долго это продолжится, неизвестно. Что же касается меня, то я не отниму у короля много времени.
Генерал плюхнулся в кресло и глубоко вздохнул.
— Знаете, любезный Мединг, сколько мне приходилось ждать в моей жизни? — И он вопросительно посмотрел на своего собеседника.
Мединг только пожал плечами в знак недоумения.
— Восемь лет, семь месяцев, три недели и четыре дня! — отчеканил громко генерал.
Мединг не мог удержаться от улыбки.
— Прекрасная школа терпения, ваше превосходительство.
— У меня есть книжечка, — продолжал генерал, и в тоне его звучали не то юмор, не то горечь, — в которую я вписывал каждый день, сколько времени мне приходилось проводить в приемной. До сегодняшнего дня итог составляет восемь лет, семь месяцев, три недели и четыре дня. Что вы на это скажете? Говорят, мне шестьдесят восемь лет, но это неправда — я прожил только пятьдесят девять лет пять месяцев одну неделю и три дня, остальное время я ждал.
И генерал с выражением покорности судьбе поудобнее устроился в кресле.
— Я должен признаться, — отвечал Мединг, — что мне подобная идея никогда еще не приходила в голову. Я предпочитал оставаться в неведении и без оглядки топить в Лете темные моменты, которые приходится проводить в этой salle des pas perdus[34].
— Вы еще молоды и не предаете значения времени, — отвечал генерал, — но я…
В эту минуту раздался громкий звонок. В дверях появился камердинер и пригласил Мединга к королю.
Мединг, почтительно раскланявшись с генералом, отправился в комнаты короля.
В кабинете, окна которого были широко раскрыты в сад, а все углы заполонены группами цветущих растений, за четырехугольным письменным столом сидел король. Георгу V было тогда сорок шесть лет, это был красивый мужчина в расцвете сил. Классически правильные черты его лица сияли веселостью и добродушием, нисколько не умаляя королевского величия, которым он был преисполнен. Слегка приподнятые белокурые усы покрывали верхнюю губу, и никто с первого взгляда не мог бы догадаться, что этому оживленному и подвижному лицу недостает зрения. Возле короля у стола стоял тайный советник Лекс, маленький худенький человечек, с густыми седыми волосами, умным лицом и скромной, почти застенчивой манерой. Он торопливо прибирал бумаги. У ног короля лежал маленький черный кинг‑чарлз.
— Здравствуйте, любезный Мединг, — заговорил король своим громким чистым голосом, — рад вас видеть. Садитесь и скажите, что нового. Что говорит общественное мнение в моем королевстве?
Мединг низко поклонился и сел на кресло против короля. Лекс между тем успел собрать свои бумаги и ушел.
— Общественное мнение, — начал Мединг, — очень взволновано, ему сильно хочется задержать войну и, главное, побудить Ваше Величество примкнуть к Австрии и открыто восстать против Пруссии.
— Отчего же так? — спросил король. — Давно ли наша разлюбезная оппозиция так восхищалась мечтой о прусском преобладании?
— Мудрено решить, Ваше Величество, отчего — тут в ходу так много разных влияний, но суть в том, что общественное мнение Ганноверского королевства желает союза с Австрией.
— Странно, — промолвил Георг V, — то же самое говорил мне вчера граф Декен. Он мне показался ярым австрийцем.
— Граф Декен, — отвечал Мединг, — говорит в духе великогерманского союза, который основал, — он большой поклонник Бейста.
— Знаю, знаю, — сказал король, — так, стало быть, он был прав, уверяя меня, что все хотят войны с Пруссией и в особенности армия, то есть молодые офицеры?
— Он прав, Ваше Величество.
Король задумался.
— Что же вы делаете против этого течения? — спросил он.
— Стараюсь успокаивать, разъяснять, насколько хватает моего влияния в прессе, потому что считаю это течение опасным: оно вовлечет нас в войну, а война поставит Ганновер в чрезвычайно рискованное положение.
— Совершенно справедливо, — живо заметил король, — надо предпринять все меры, чтобы успокоить это воинственное антипрусское настроение. Я глубоко проникнут убеждением, что в добром согласии обеих великих держав Германского союза заключается единственная надежная основа благосостояния Германии, и вы знаете, как я лично заинтересован в том, чтобы оно не нарушалось. Вам известна также цена, которую я придаю прусскому союзу — меня называют врагом Пруссии, но в сущности, это неправда. Я только стою за свою полную самостоятельность, но никто сильнее меня не проникнут желанием жить с Пруссией в дружбе и мире. Те, кто желает нарушить эту дружбу, не понимают истинных интересов обоих государств. В Берлине много толкуют о политике Фридриха Великого, но вовсе ее не понимают! Какое высокое значение придавал Фридрих Второй союзу с Ганновером, видно уже из того, что он уступил ганноверскому правительству лучшего своего полководца, герцога Брауншвейгского. И какие прекрасные последствия имел этот союз, хотя и был направлен против Австрии! Ах, если бы в моей власти было сохранить добрые отношения между Австрией и Пруссией! Но уж если, Боже сохрани, дело дойдет до разрыва, я не намерен примыкать ни к той, ни к другой стороне.
Король высказал это с той определенностью и ясностью, с какою всегда высказывался перед своими исполнителями во избежание всяких недоразумений.
— Весьма счастлив, — отвечал Мединг, — что сумел действовать согласно видам Вашего Величества, тем более что мое положение в этом кризисе, как прусского уроженца, в высшей степени тягостно.
— Не предавайтесь пустым опасениям, — сказал король со свойственной ему приветливой улыбкой, — я знаю, что вы искренно преданы мне и ганноверским интересам. Вам известно, что я считаю общественное мнение шестой великой державой Европы — пожалуй, первой из них, — и потому дорожу дружбой прессы, органом этой державы. Я желаю слышать, что думает и говорит народ, а в правительственных газетах хочу доводить до его сведения мои собственные соображения и намерения — только таким путем может быть достигнута ясность отношений между мной и моими подданными и целиком обеспечено благосостояние как престола, так и страны. Вы так отлично меня понимаете и действуете как нельзя более в моих интересах. Спасибо вам. — И король ласково протянул Медингу руку.
Мединг встал и почтительно поцеловал ее.
— Ваше Величество всегда позволяли мне, — заговорил снова Мединг, — высказывать во всех вопросах внешней и внутренней политики мое мнение прямо и откровенно. Это милостивое позволение крайне необходимо для выполнения трудной задачи, возложенной на меня Вашим Величеством. Я должен всеподданнейше просить вас и в этот, по моему мнению, в высшей степени серьезнейший момент, позволить мне прямо и откровенно высказать мое непоколебимое убеждение.
— Говорите, говорите, я вас слушаю с величайшим вниманием, — сказал король, откидываясь на спинку кресла и слегка подперев голову рукой.
— Вашему Величеству известно, — сказал Мединг, — что в настоящее время mot d’ordre[35] немецкой и почти всей европейской дипломатии — не верить в возможность войны между Пруссией и Австрией. Это отчасти напоминает страуса, прячущего голову, чтобы не видеть опасности.
— Вы, стало быть, верите в войну? — спросил король.
— Я вижу, Ваше Величество, что вопрос зашел слишком далеко и возврат уже немыслим. Помимо слухов, доходящих из Вены и Берлина, я убеждаюсь в неизбежности войны из положения, принятого официальной и официозной прессой Пруссии и Австрии.
— Она, говорят, высказывается в самом миролюбивом тоне, — вставил король.
— Именно поэтому‑то я и думаю, что в обоих лагерях готовы на всякую крайность. Если б вопрос шел только об угрозах и имелся в виду лишь один дипломатический компромисс, то правительственные газеты метали бы громы и молнии. Но меня тревожат именно эти мирные заявления. Каждый ищет лучшего casus belli[36] и хочет свалить вину разрыва на своего соперника. Я убежден, что война будет объявлена в самом скором времени, если не совершится какое‑нибудь чудо. Граф Платен, однако, не хочет этому верить.
— Страус! — сказал король.
Мединг улыбнулся и продолжал:
— Но для Вашего Величества и для Ганновера это положение дел опаснее, чем для кого бы то ни было. Пруссия, доведенная до крайности, не остановится ни перед какими соображениями.
— Но ведь я уже сказал, что желаю оставаться нейтральным во что бы то ни стало?
— Это так, Ваше Величество, однако у нас нет никакого трактата. Граф Платен говорил князю Изенбургу в общих словах о намерениях Вашего Величества оставаться нейтральным, но, боясь возбудить толки во Франкфурте и Вене, не заключил никакого формального условия.
— А вы считаете формальное условие необходимым?
— Совершенно. Пруссия теперь еще не откажется его подписать, а раз подписав, не изменит слову. В момент действия могут потребовать больше, а после победы, я думаю, формальный трактат о нейтралитете послужил бы гарантией самостоятельности, даже дальнейшего существования Ганновера.
Король вздрогнул.
— Неужели вы полагаете, — спросил он, — что в Берлине могут посягнуть на существование Ганновера?
— Полагаю. Предстоящая борьба будет борьбой за существование, древняя Германия распадется в прах. При таких условиях не станут стесняться особыми соображениями.
— Но позвольте, — прервал король, — мне со всех сторон говорят, что союз с Пруссией может погубить Ганновер в случае победы Австрии.
— Слышал я эти рассуждения, но признаюсь, не понимаю их. Если бы даже Австрия победила, неужели она уступит Ганновер Пруссии? Кроме того, Вашему Величеству известно, что я не верю в австрийскую победу.
Король помолчал.
— Трудное положение, — сказал он потом. — Еще вчера был здесь сэр Чарлз Уэйк и убеждал меня твердо держаться союза и Австрии. Он привез письмо от лорда Кларендона в том же смысле.
Король отворил маленьким ключом шкатулку, стоявшую у него под рукой на столе, пошарил в ней несколько секунд и подал Медингу через стол письмо.
— Прочтите.
Мединг пробежал глазами.
— Я очень хорошо понимаю английскую политику, Ваше Величество, — сказал он. — В Лондоне хотят во что бы то ни стало мира, но вместе с тем желали бы преподать Пруссии урок за датский вопрос, и надеются, что когда Ваше Величество решительно встанет на сторону Австрии и саксонской фракции во Франкфурте, то Пруссия побоится войны и пойдет на сделку, которую не замедлит предложить английский кабинет — отличный способ сделать что‑нибудь для Дании по‑дешевке. Но мне кажется, британцы ошибаются в своих расчетах. Как бы то ни было, Вашему Величеству предстоит вершить ганноверскую, а не английскую политику. Чтобы меня успокоить, за этим письмом лорда Кларендона должен был бы виднеться английский флот, а если бы Ваше Величество, вследствие столь настойчиво навязываемой дипломатии, попали в опасное и тяжелое положение, то поверьте, к вам на помощь не явилось бы ни одной английской канонерской лодки. Альбион разыгрывает в этом случае роль того злого духа, который, явясь Гектору в образе брата, подстрекал его к состязанию с Ахиллесом — и исчез, когда троянский герой оглянулся за свежим копьем. Я бы желал высказать Вашему Величеству мысль, которая может рассеять все соображения против трактата о нейтралитете.
Король выпрямился, глаза его так напряженно устремились на говорящего, что могло показаться, будто они видят.
— Ваше Величество изволит помнить, — продолжал Мединг, — что уже всю последнюю фазу политики постоянная и прочная связь правительства Вашего Величества с правительством кур‑гессенским имела очень сильное и благотворное влияние на ход событий, что единственно благодаря ей стала невозможной неслыханная аугустенбургская политика Бейста и был предотвращен распад союза. По моему убеждению, и в этом тяжелом кризисе Вашему Величеству следовало бы действовать заодно с курфюрстом и убедить примкнуть к вам великого герцога Ольденбургского. Ваше Величество оказалось бы тогда в главе группы, авторитет которой обеспечил будущность Ганновера, оказал Пруссии услугу и разложил недовольство Австрии на несколько плеч. Я даже полагаю, что Вашему Величеству следовало вместе с курфюрстом Гессенским заключить трактат с Пруссией касательно нейтралитета. Если бы впоследствии этот трактат не был уважен, чего я, повторяю, не считаю возможным, то у вас появились бы двойные силы отстоять его. Я думаю, что таким твердым и энергичным шагом в этом направлении войны можно избежать успешнее, чем безусловным присоединением к Австрии, как советовал лорд Кларендон.
Мединг замолчал.
Король, слушавший с величайшим вниманием, быстро барабанил двумя пальцами правой руки по столу.
— Вы правы, — сказал он громко, — совершенно правы. — И нажал левой рукой пуговку звонка.
Вошел камердинер.
— Попросить ко мне тайного советника Лекса!
Когда камердинер вышел, король продолжал:
— И вы думаете, что курфюрст не прочь сделать этот шаг мне навстречу?
— Я знаю, что министр Абе думает именно так, — отвечал Мединг, — и знаю также, что его высочество курфюрст придает чрезвычайное значение тому, чтоб действовать заодно с Вашим Величеством.
— Я попрошу вас, любезный Мединг, — сказал король, — тотчас съездить к курфюрсту и передать ему мои предложения.
Вошедший камердинер доложил о господине Лексе.
— Любезный Лекс, — обратился к нему король, — Мединг только что высказал мысль, которую я хочу немедленно привести в исполнение. Он того мнения, что я и курфюрст Гессенский вместе и солидарно должны заключить трактат о нейтралитете с Пруссией, и я тотчас отправляю его самого в Кассель, так как, конечно, он лучше всех способен исполнить это поручение.
Мединг поклонился королю и сказал:
— Осмелюсь заметить, что граф Платен совершенно одобряет этот шаг и уполномочил меня сказать это Вашему Величеству.
— Tant mieux, tant mieux[37], — повторил король. — Что вы на это скажете, любезный Лекс?
— Я совершенно с этим согласен, — отвечал тайный советник тонким, немного резким голосом. — Я вообще стою за нейтралитет, и в особенности за нейтралитет вместе с Гессеном.
— Так потрудитесь же, — продолжал король Лексу, — изготовить и вручить господину Медингу проект трактата, который он отвезет от меня курфюрсту и который я сейчас же подпишу.
— Слушаю, Ваше Величество, — отвечал Лекс.
— В каком положении наша промышленная реформа? — спросил король Мединга.
— Ваше Величество, — отвечал тот, — цехи в большом волнении и предвидят свою погибель в упразднении обязательности своих корпораций. Я делаю все, чтобы разъяснять вопрос в этом направлении, и в прессе настойчиво указываю на пример Англии, где гильдии без всякой искусственной поддержки, одной силой корпоративного принципа, имеют такое громадное влияние и значение. Я надеюсь, что отвращение к новизне и в этом случае развеется благодаря спокойному и твердому разъяснению. Министр Бакмейстер взялся за этот вопрос такой осторожной и искусной рукой, что я не сомневаюсь в успехе.
— Мне жаль, — воскликнул король, — что бедные ремесленники встревожены уничтожением цехов! Но они скоро убедятся, до какой степени это будет им полезно. Цехи из ненавистного, коснеющего учреждения превратятся в сильный и жизненный организм. В народном хозяйстве более, чем где‑либо, необходимо свободное движение. Как я рад, что нашел в министре Бакмейстере такое тонкое и умное понимание моих идей и такую искусную руку для их выполнения.
— В самом деле, Ваше Величество, — согласился Мединг, — Бакмейстер замечательно умный и вместе с тем необыкновенно приятный и общительный человек. Личные его качества имеют громадное влияние на оппозицию, и он вечера напролет проводит в своего рода парламентском клубе, который основал вместе с Миккелем и Альбрехтом. Там в дружеской беседе разъясняется много такого, что в палатских прениях повело бы к жестоким спорам и желчным выходкам.
— Вот этого‑то именно нам и недоставало, — прервал с живостью король. — В Германии много толкуют об общественной жизни и ничего в ней не смыслят, потому что с политическими противниками не умеют быть джентльменами на нейтральной почве. Вы были вчера в опере?
— Нет, но Шладебах говорил мне, что остался очень недоволен и напишет резкий критический отзыв.
— Очень буду рад прочесть его статью, — сказал король. — Шладебах одарен тонким пониманием искусства и высказывает свои суждения очень метко и с большим тактом. Если б я мог найти такого же критика для драматических представлений!
— Я употребляю все меры, Ваше Величество, — сказал Мединг, — для приискания хорошего критика и прошу Ваше Величество еще немного подождать. Таланты не так легко и скоро развиваются и отыскиваются.
— Конечно, конечно, — chi va piano va sano[38]. Но, однако, прощайте, любезный Мединг, поезжайте с богом и передайте сердечный привет его королевскому высочеству курфюрсту.
— Да благословит вас Бог, Ваше Величество!
Мединг и Лекс вышли из кабинета. Георг V остался один.
Он долго сидел тихо, опустив взгляд на стол.
— Правда, правда, — проговорил он вполголоса, — великая катастрофа близится, благотворное учреждение Германского союза, пятьдесят лет поддерживавшее в Германии спокойствие и мир в Европе, колеблется в своих основаниях и готовится рухнуть. Единственная рука, которая могла бы предотвратить эту катастрофу, покоится в гробу. Нет больше императора Николая, чтобы могучей рукой задержать катящееся колесо событий. И на меня со всех сторон, куда я ни оглянусь, надвигаются препятствия в исполнении моего долга, состоящего в том, чтобы спасти прекрасную, вверенную мне Богом страну, с которой мой дом в течение целого тысячелетия был связан в радостях и горестях.
Король помолчал немного, потом поднялся, опершись рукою на спинку кресла, повернулся к стене, на которой висели портреты во весь рост короля Эрнста‑Августа и королевы Фридерики, и медленно опустился на колени.
— О, всемогущий Боже! — заговорил он тихим голосом, задушевные звуки которого мелодично огласили комнату. — Ты видишь мое сердце, Ты знаешь, как я пламенно молился тебе в тяжелые часы моей жизни! Ты влил в мою душу силу переносить горькую невозможность видеть лица моих жены и детей, Ты меня просветил и укрепил, когда я принял управление в трудное время, — благослови же меня и теперь, дай узреть правый путь в этот серьезный момент, укажи, что может спасти мое отечество и мой дом, и выведи меня целым из бурь этого времени! Но да будет не моя воля, а твоя, и если мне суждено испытать горчайшее из несчастий, дай силы вынести его!
Молитвенные слова короля смолкли, глубокая тишина воцарилась в комнате. Вдруг ветром двинуло одну из половинок открытого окна, что‑то тяжелое упало на землю, и послышался звон разбитой посуды.
Маленький кинг‑чарлз залаял. Король вздрогнул, быстро приподнялся и нажал пуговку электрического звонка. Вошел камердинер.
— Что такое упало с окна? — спросил король.
Камердинер подбежал к окну.
— Это розовый куст, который Ее Величество королева изволила вчера сюда поставить.
— В нем была одна роза в цвету — цела ли она?
— Сломана, — отвечал камердинер, подбирая черепки.
Георг V слегка вздрогнул.
— Разбилось и сломилось, — прошептал он, подняв голову и вопросительно обратив глаза к небу.
Затем снова опустился в кресло.
— Кто в приемной? — спросил он.
— Генерал Чиршниц, граф Платен, генерал Брандис, министр Бакмейстер.
Камердинер поставил четыре стула вокруг стола и вышел.
Через несколько секунд эти четыре особы вошли в кабинет.
— Здравствуйте, господа, — поприветствовал их король, — садитесь.
Министр иностранных дел граф Платен‑Галлермунд, потомок той знаменитой графини Платен, которая так часто упоминается в кенигсмаркских мистериях, устроился рядом с королем. Это был мужчина лет пятидесяти, с резко очерченным изящным лицом. Блестящие и черные, густые, тщательно причесанные волосы и усы не вполне гармонировали с его возрастом, но чрезвычайно шли к моложавой и статной фигуре.
По другую сторону короля сел министр внутренних дел Бакмейстер, почти ровесник графа Платена, но выглядевший гораздо старше него. Его редкие светлые волосы были с проседью, безбородое лицо носило следы утомления и напряжения вследствие умственного труда, болезненности и телесных страданий. Только когда он внимательно слушал, черты его оживлялись, глаза загорались лучами умственного развития и тонкая ирония играла на губах. Когда Бакмейстер говорил, его речь сопровождала такая оживленная и яркая игра физиономии, что сквозь слова мерцало множество невысказанных мыслей. Эти меткие, ясные, прекрасно подобранные и точно передающие смысл слова, в связи с этой мимикой, слагались в такое увлекающее красноречие, что даже самые рьяные его противники подпадали под могучее влияние этой сначала не бросающейся в глаза личности и оставались совершенно sous le charme[39] этого впечатления.
Оба министра щеголяли в синих вицмундирах с черными бархатными воротниками.
Военный министр, генерал от инфантерии Брандис, был человек лет семидесяти, старый соратник железного герцога Веллингтона, служил в Испании и участник походов 1813 и 1815 годов. Ясная веселость светилась на его лице, свежем для своих лет, и обрамленном черным париком. Он вместе с генералом Чиршницем расположился напротив короля.
— Я пригласил вас всех вместе, господа, — сказал король, — потому что желаю в эти серьезные минуты еще раз выслушать ваше мнение и выразить вам свое желание. Вы помните, господа, что несколько времени тому назад на большом совете, в котором вы принимали участие, был поставлен важный вопрос относительно положения Ганновера в столкновении между двумя главными германскими державами, все более и более угрожающим и неизбежном. Господа военные, в особенности не присутствующий сегодня генерал Якоби, единогласно объявили, что армия не готова к серьезному участию в предстоящей борьбе, от которой да сохранит нас Господь: мобилизация и серьезные военные приготовления неудобны по политическим соображениям. Но с другой стороны, необходимо было принимать меры, чтобы не быть застигнутыми совершенно врасплох военными событиями. Чтобы остановиться на средней черте между этими двумя мнениями, я приказал продолжить прежние сроки экзерциционного[40] времени, чем, с одной стороны, достигалась на всякий случай большая подручность войск, а с другой стороны, для населения оставалось то удобство, что экзерциционный период не совпадал с летним рабочим временем. События между тем идут вперед, и конфликт кажется неизбежным. Выступает вперед серьезный вопрос: примкнуть ли Ганноверу к той или другой стороне, или же ограничиться строгим нейтралитетом? Первым прошу высказаться графа Платена.
— Я не могу не признать серьезности положения, Ваше Величество, — начал Платен, — хотя и не думаю, чтобы дошло до войны. Мы уже не раз переживали подобные бури в политике, завершавшиеся в конце концов ничем. Поэтому я всеподданнейше осмеливаюсь предполагать, что момент для окончательного решения еще не наступил.
Легкая, почти незаметная усмешка мелькнула на лице короля. Генерал Чиршниц тряхнул головой.
— Если необходимо высказаться положительно и окончательно, то я бы не предлагал становиться определенно на ту или другую сторону. Мы имеем основание менажировать обе стороны. Кроме того, еще неизвестно, какая из них победит. Нейтралитет кажется мне в этом случае выгоднее всего.
— Вы, стало быть, советуете заключить трактат о нейтралитете? — спросил король.
— Трактат, Ваше Величество? — отвечал граф Платен, причем его высокая фигура как‑то съежилась. — Трактат — последний шаг, он произвел бы весьма тяжелое впечатление в Вене, и если дело не дойдет до войны, нам этого трактата долго не простят.
— Но ведь нейтралитет немыслим без трактата? — заметил король.
— Мы его всегда успеем заключить, — сказал граф Платен, — в Берлине всегда будут очень рады не иметь нас против себя.
— Как бы вы поступили? — спросил король.
— Выиграл бы время, Ваше Величество. Теперь в нас заискивают обе стороны, и мы потеряли бы наше выгодное положение, если решительно примкнули к той или другой. Чем дольше мы выжидаем, тем больше получим выгод.
Король закрыл лицо рукой и помолчал немного. Потом повернулся в другую сторону и спросил:
— А что вы думаете, министр Бакмейстер?
Тот заговорил тихо, но все обратились в слух:
— Мое правило — всегда уяснять себе все дальнейшие последствия каждого действия. Решение, которое Ваше Величество теперь намерено принять, будет иметь далекоидущие результаты. Ваше Величество может примкнуть или к Австрии, или к Пруссии. Если примкнете к Австрии, то, когда Пруссия будет побеждена, как в Вене надеются и чего я не считаю возможным, вам предстоит значительная власть и влияние в Германии. В противном же случае вы рискуете своей короной. Такая политика может быть смелой и величественной, но она все ставит на карту. Если Ваше Величество ее имеет в виду, то вы должны сами решить вопрос, министру тут нечего советовать, потому что ему не пристало рисковать венцом своего государя. Примкнув к Пруссии, Ваше Величество последует естественному тяготению Ганновера, и если в случае победы вы не займете такого блестящего положения, то в случае поражения ничем не рискуете, так как победоносная Австрия не сможет ослабить Ганновера. Но при помощи нейтралитета, который в Берлине пока еще примут и подпишут, Вашему Величеству представится великолепный шанс сохранить целостность страны и короны и, быть может, без борьбы и жертв участвовать в выгодах победы. По моему мнению, преимущества бесспорны, и поэтому я положительно высказываюсь за безусловный нейтралитет. Но, Ваше Величество, вместе с тем я считаю необходимым скрепить этот нейтралитет как можно скорее самым надежным трактатом — чем далее развиваются события, тем более заботит меня риск наступления момента, когда Пруссия уже не удовлетворится нейтралитетом и предъявит Вашему Величеству требования, которых вы не захотите и не будете в силах исполнить. Колебанием и выжиданием мы достигнем только недоверия с обеих сторон и окончательной изоляции Ганновера в борьбе, для самостоятельного участия в которой мы недостаточно сильны.
— Генерал Брандис? — спросил король.
Генерал отвечал, не утратив приветливой усмешки:
— Вашему Величеству известно, что я ненавижу Пруссию. Я ребенком жил под впечатлениями захвата тысяча восемьсот третьего года и никогда не забуду этих впечатлений. Говоря откровенно, по личному своему чувству, я бы с удовольствием обнажил свой старый меч против Пруссии. Но я признаю все доводы министра внутренних дел основательными, поэтому совершенно с ним соглашаюсь.
— А вы, генерал Чиршниц? — продолжал спрашивать король.
— Ваше Величество, — отвечал Чиршниц грубым голосом служаки, — сегодня мне приходится еще раз протестовать против того, будто наша армия не в состоянии принять деятельного участия в решении вопроса. По моему убеждению, армия не посрамит Ганновера и его истории. Я высказываю это мнение с полной уверенностью и ни за что не переменю его. Стало быть, слабость армии не стоит принимать в расчет. Что касается политических соображений и резонов, то я бы желал, чтобы Ваше Величество меня об этом не спрашивали. Я в них совершенно не разбираюсь, и вынужден примкнуть к мнению министра внутренних дел, но как солдата меня возмущает нейтралитет. Если он неизбежен, надо поскорее сделать его как можно тверже и неизменнее, потому что я терпеть не могу полумер и невыясненных положений, и всю свою жизнь ни разу не видывал, чтобы они привели к чему‑нибудь путному.
Король выпрямился и сказал:
— Итак, господа, вы все советуете Ганноверу нейтралитет в борьбе между Пруссией и Австрией, борьбе глубоко прискорбной, но приближающейся неотвратимо. Разница только в том, что граф Платен советует выждать, тогда как министр Бакмейстер и господа генералы настаивают на немедленном заключении трактата, чтобы не упустить благоприятного момента. Я, с своей стороны, присоединяюсь к мнению министра внутренних дел на основании приведенных им доводов. Я попрошу вас, любезный граф, — продолжал он, обращаясь к графу Платену, — действовать в этом смысле и безотлагательно вступить в необходимые переговоры с князем Изенбургом.
Граф Платен был, видимо, недоволен.
— Позвольте просить Ваше Величество, — сказал он с поклоном, — выждать еще хоть несколько дней, чтобы положение выяснилось немного более и пока мы не узнаем точнее, что происходит в Австрии и чего там хотят. Граф Ингельгейм сообщил мне сегодня утром, что князь Карл Сольмс едет сюда с особенным поручением императора к Вашему Величеству.
Король вскинул голову с выражением крайнего изумления.
— Мой брат Карл? — переспросил он. — Зачем он едет?
— Не знаю, Ваше Величество, — сказал граф Платен. — Граф Ингельгейм тоже не сумел мне ничего сказать или, может быть, не захотел. Во всяком случае, следует дождаться этого посла, прежде чем делать решительный шаг относительно Пруссии.
Король задумался. Бакмейстер молча покачал головой. На пороге показался камердинер и доложил о приходе тайного советника Лекса. Лекс торопливо вошел в кабинет и сказал:
— Его светлость князь Карл Сольмс только что приехал и просит у Вашего Величества аудиенции.
Король встал.
— Где князь?
— У Ее Величества королевы и ждет распоряжений Вашего Величества.
— Просите князя пожаловать сюда, — сказал он камердинеру. — Вас же, господа, я попрошу остаться здесь в приемной и позавтракать. Лекс будет за хозяина. А вот вас, генерал, я не стану дольше задерживать. Всю нашу ежедневную работу придется на сегодня отложить, прошу вас пожаловать завтра.
Все четверо удалились. Тайный советник подошел к письменному столу.
— Письмо к курфюрсту, Ваше Величество, — короткое заявление о том, что Ваше Величество во всяком случае желает остаться нейтральным, а в остальном полагается на личное разъяснение члена правительственного совета Мединга.
— Хорошо, дайте сюда, — сказал король.
Тайный советник положил письмо на стол, макнул в чернила толстое перо и подал его королю, затем положил его руку на то место бумаги, где должна была быть подпись, и король вывел твердой рукой и большими, крупными буквами: Georg Rex.
— Хорошо? — спросил он.
— Как нельзя лучше, — отвечал тайный советник, взял бумагу и ушел.
Как только он вышел из кабинета, камердинер отворил дверь со словами:
— Его светлость князь Сольмс.
Князь вошел. Сводный брат короля, от брака покойной королевы Фридерики с князем Сольмсом Браунфельским, был человеком лет пятидесяти, высокий, статный, с коротко остриженными седыми волосами. Лицо его походило на лицо венценосного брата, но было грубее и отличалось здоровым цветом, но вместе с тем обнаруживало несомненные признаки болезненности.
Князь был в мундире австрийского генерал‑майора, в одной руке его была каска с развевающимся зеленым султаном, в другой — запечатанное письмо, на груди сияла большая звезда ганноверского ордена Вельфов, на шее — австрийский орден Леопольда. Он быстро подошел к королю, который радушнейшим образом его обнял.
— Что доставляет мне неожиданную радость видеть тебя здесь, любезный Карл? — сказал Георг V. — Скажи, прежде всего, как поживают твои?
— Благодарю тебя за милостивый вопрос, — отвечал князь, — у меня дома все обстоит благополучно, и жена совсем выздоровела.
— А герцогиня д’Оссуно?
— Я имею самые лучшие известия.
— А ты сам как поживаешь?
— Страдаю иногда нервами, но в остальном здоров.
— Так, — сказал король, — ну, теперь садись и рассказывай, зачем приехал.
Князь сел рядом с королем и отвечал:
— Я хотел бы прибыть сюда в менее серьезное время и с менее серьезным поручением, — сказал Сольмс, вздыхая. — Меня послал к тебе император, вот его письмо.
Георг взял письмо, провел слегка пальцем по печати и положил перед собой на стол.
— Ты знаешь, что в нем? — спросил он.
— Ничего особенного, это только верительная грамота, а собственно поручение — словесное.
— Так говори же, я желаю слышать.
Князь начал:
— Император решил принять борьбу за будущий строй и новую организацию Германии, так как убежден, что только этой борьбой и решительной победой Австрии могут быть обеспечены прочный мир и прочная самостоятельность германских государей.
— Итак, я, стало быть, не ошибся, — сказал король, — война предрешена?
— Да, — отвечал князь, — и император придает величайшее значение тому, чтобы в этой борьбе вокруг него сплотились германские государи, как это уже было на Франкфуртском съезде.
— Где меня собирались медиатизировать[41], — вставил вполголоса король. — Что же дальше?
— Император придает величайшее значение тесному союзу с Ганновером. Он поручил мне передать тебе, что считает интересы домов габсбургского и вельфского тождественными в Германии.
— Вельфский дом постоянно боролся против цезаризма, — заметил король.
— Император, — продолжал князь, — надеется, что древняя тесная связь между Ганновером и Австрией сохранится и в этом кризисе. Он видит, что на Венском конгрессе Ганновер был поставлен в несообразное положение в Германии, особенно в Северной; настоящее его призвание — образовать в Северной Германии могущественный и самостоятельный противовес прусским гегемоническим устремлениям, между тем как дипломатия Венского конгресса слишком его ослабила.
— Потому что никто не содействовал видам графа Меттерниха, — заметил король.
— Император признает необходимость, — продолжал князь, — исправить эту ошибку Венского конгресса новым строем и организацией Германии, и потому предлагает тебе твердый оборонительный и наступательный союз.
— На каких основаниях? — спросил король.
— Существеннейшие пункты предположенного императором союза следующие: Ганновер тотчас же ставит всю свою армию на военную ногу и обязывается одновременно с Австрией объявить войну. Император со своей стороны предоставляет в твое распоряжение находящуюся в Гольштейне бригаду Калика и уступает тебе на все время похода генерала Габленца. Во всяком случае, он гарантирует целость Ганновера, а в случае победы обещает присоединить к твоему королевству Гольштейн и прусскую Вестфалию.
— В случае победы? — повторил король. — А ты веришь в победу?
Князь помолчал с минуту.
— Я австрийский генерал, — сказал он.
— Забудь, пожалуйста, на несколько минут про австрийского генерала и отвечай мне как брат.
— Если наши силы получат толковое командование и будут деятельно употреблены, — отвечал князь после некоторого колебания, — если Германия постоит за нас решительно и энергично, успех несомненен. Наша артиллерия превосходна, а кавалерия несравненно выше прусской.
— Гм… мы, впрочем, оставим эти подробности, — сказал король. — Ты можешь, пожалуй, подумать, что я в своих решениях основываюсь только на соображениях выгоды, но, в сущности, это не так — во всем этом кризисе я ставлю принцип выше успеха или пользы, и на основании только этого принципа я буду действовать.
— Убедительнейше прошу тебя, — возразил князь, — подумать о будущности и величии твоего дома и не забывать, что Пруссия в своем теперешнем могуществе и с теперешними тенденциями своей политики — постоянная угроза и опасность для Ганновера.
Король несколько минут помолчал в раздумье.
— Любезный Карл, — сказал он наконец, — ты можешь быть уверен, что все, исходящее от императора, встретит во мне серьезнейшее участие и высшее уважение и что он, доставив мне удовольствие увидеть тебя, избрал посла, особенно способного к тому, чтобы еще более упрочить это уважение. Я во всякое время готов доказать мою дружбу к дому Габсбургов и к Австрии, дружбу, основанную на симпатии и убеждении. Но здесь — заявляю тебе об этом прежде всего — вступают в дело принципы, которые я, как правитель моего государства и член Германского союза, ставлю превыше всего. Я в настоящую минуту не дам тебе положительного ответа, — ты ведь можешь побыть здесь несколько дней?
— Несколько дней — конечно, — отвечал князь, — но император с нетерпением ждет ответа, и я не хотел бы долго…
— Я тебя сильно не задержу, и немедленно сообщу твои предложения моим министрам.
Король позвонил и сказал вошедшему камердинеру:
— Когда господа министры откушают, я прошу их к себе.
Немного погодя в кабинет вошли граф Платен, генерал Брандис и министр Бакмейстер.
Князь Карл поздоровался с ними очень приветливо, и все уселись вокруг письменного стола.
Георг V начал:
— Положение, о котором мы только что говорили, несколько изменилось — брат мой Карл привез от австрийского императора предложение тесного союзного договора, с точно определенными условиями. Я попрошу тебя, любезный Карл, еще раз изложить эти условия.
Князь повторил пункты, которые прежде сообщил королю.
Граф Платен весело потер руки.
— Изволите видеть, Ваше Величество, — обратился он вполголоса к королю, — как за нами ухаживают и какое выгодное положение доставила нам наша политика.
Бакмейстер медленно качал головой и вертел большими пальцами сложенных рук, тонкая ироничная усмешка играла на его губах.
— Ваша светлость, — заметил он, — изволит говорить о значительных приобретениях Ганновера в случае победы, но что будет, если — ведь надо же все шансы взвесить — если Пруссия победит?
— Император во всяком случае гарантирует целость Ганновера, — сказал князь.
— Однако если Австрия будет побеждена, какими мерами думает Его Императорское Величество поддержать и осуществить эти гарантии? — спросил Бакмейстер.
— Я попрошу вас, любезный Бакмейстер, — прервал его король, — в настоящую минуту споров не затевать. Вы выслушали предложение, господа, — продолжал он. — На этот раз, вопреки моему всегдашнему обычаю, начну с изложения собственного своего мнения. Я со своей стороны неизменно стою на той точке зрения, что война между двумя членами Германского союза немыслима по закону и духу союза. Если даже такая война состоится, как грозное явление природы, как бич Божий, — обсуждать ее заранее, с тем чтобы заключать в предвидении ее союзы, я считаю несовместным с моими обязанностями как германского государя: подобным трактатом я присоединился бы к нарушению Германского союза, этого высокого учреждения, чтимого всей Германией и Европой. С моего согласия и с предвзятым намерением ганноверские войска никогда не будут драться против немцев. Это может случиться только при крайней необходимости. И это еще не единственная причина, по которой я считаю невозможным принятие предложенного трактата. Я, кроме того, никогда не соглашусь на потенциальное увеличение Ганновера. Я не могу подписать трактата, в котором протягиваю руку к чужому добру. Я горжусь и радуюсь, что во всех моих владениях нет ни пяди земли, которая не относилась бы к моему дому как законная наследственная собственность. Вестфалия принадлежала прусскому королю, Гольштейн принадлежит Ольденбургу, Аугустенбург — Пруссии. Я не берусь разрешать запутанного вопроса о праве наследства, — во всяком случае не я. И, господа, — тут король сильно стукнул двумя пальцами правой руки по столу, — я никогда не позарюсь на чужое и, по крайнему своему убеждению, считаю невозможным принятие предлагаемого трактата. Но тем не менее, предложения австрийского императора имеют несомненное право на наше серьезное и внимательное обсуждение. Поэтому я попрошу каждого из вас тщательно взвесить этот вопрос и представить возражения, которые можно было бы сделать против только что высказанных мной воззрений. Завтра я вас попрошу вместе с отсутствующими теперь товарищами на совет под моим председательством, для того чтобы обсудить и постановить окончательный ответ. На сегодня я вас благодарю. О назначенном часе вам будет сообщено.
И король встал.
Министры серьезно и молча вышли из кабинета.
Князь Сольмс сидел пригорюнившись.
— Прав ли я? — спросил у него король.
Князь взглянул на своего коронованного брата с выражением глубокого почтения.
— Да, — сказал он тихо, — но тебя ждут, быть может, тяжелые испытания.
— Ну, увидим, любезный Карл, — сказал король. — А теперь пойдем со мной, прогуляемся.
Он нажал вторую кнопку по правую сторону от письменного стола. В дверях из кабинета в спальню показался камердинер.
— Я ухожу, — сказал король, застегивая сюртук.
Камердинер подал ему кепи гвардейских егерей и перчатки.
— Угодно Вашему Величеству сигару?
— Нет. Передайте дежурному флигель‑адъютанту, что он мне не нужен. Со мной пойдет князь.
Король взял князя под руку и пошел через коридор, мимо низко кланявшихся лакеев в ярко‑красных ливреях, к большому выходу из дворца. Из передней доносился громкий разговор.
— Кто там? — спросил король.
— Граф Альфред Ведель и Девриен.
Эти две личности в самом деле, стоя в холле, увлеклись такой живой беседой, что не заметили приближения короля.
Граф Ведель, гофмаршал короля и комендант дворца, высокий и статный человек лет тридцати, со свежим цветом лица, красивыми, но грубоватыми чертами, в придворной полуформе: синем фраке с красным отложным воротником, стоял перед знаменитым ганноверским актером Девриеном, рослым стариком шестидесяти лет, сражавшимся за германскую независимость, но который еще так мало ощущал тягость своих лет, что до сих пор играл с величайшим успехом Гамлета.
— Здравствуйте, Девриен, — сказал король, останавливаясь.
Собеседники замолчали, и Девриен бросился к королю.
— Как вы поживаете? — поинтересовался Георг V. — Бодры и свежи, как всегда? Девриен образец для всех нас, — обратился король к князю Сольмсу, — он нашел секрет вечной юности.
— Ваше Величество, — отвечал Девриен, — у этой вечной юности, которую вы мне всемилостивейше приписываете, тоже есть свои кулисы, и я, к сожалению, не всегда стою перед рампой — подагра часто суфлирует мне фальшиво! Я пришел просить приказаний Вашего Величества насчет следующего чтения, но, кажется, не вовремя?
— Я сегодня занят, любезный Девриен, — сказал король, — завтра тоже. Зайдите послезавтра.
— Слушаю, Ваше Величество.
И, приветливо кивнув головой, король вышел из дворца.
— Куда мы пойдем? — спросил князь Карл.
— К мавзолею, — отвечал король.
Об руку с братом он твердым и быстрым шагом прошел через дворцовый двор.
Девриен проводил короля глазами, затем снова обратился к графу Веделю.
— Не нравится мне, — сказал он, хмуря брови, — что наш государь идет об руку с этим австрияком. Избави бог, чтоб это было дурное предзнаменование!
— Вы неисправимы, — улыбнулся граф Ведель, — опять политика, опять вы даете волю своей ненависти к Австрии? Вся Германия становится на сторону императора — неужели король должен жертвовать собой ради Пруссии?
— Не нравится мне этот австрийский мундир, — проворчал Девриен.
— А мне бы хотелось, чтоб у нас было тридцать тысяч таких мундиров, — сказал граф Ведель. — Я напомню вам сегодняшний день, Девриен, когда великая победа будет одержана и благодарная Австрия…
— Благодарная Австрия?! — прервал Девриен циничным тоном, сделав театральный жест, нахлобучил шляпу и, не прибавив больше ни слова, зашагал по большой аллее, ведущей из Гернгаузена в город.
Ведель, смеясь и покачивая головой, вступил на дворцовую лестницу.
В гернгаузенском саду, в глубокой лесной тишине, стоит надгробный памятник короля Эрнста‑Августа и королевы Фридерики, совершенно подобный мавзолею в Шарлотенбурге, где покоятся прусский король Фридрих‑Вильгельм III и королева Луиза.
Король и королева, изваянные мастерскою рукою Рауха, возлежат на саркофаге в маленьком храме, где свет весьма эффектно падает на превосходные, точно живые скульптуры. Мраморный храм в этой глубокой тишине, в своей простоте и несравненном изяществе охватывает приближающегося всем величием смерти, заставляя содрогаться и вместе с тем глубоко почувствовать отраду вечного покоя.
У входа стоял часовой.
Четыре человека вышли из храма, молча и, видимо, под сильным впечатлением. Трое из них — наши знакомые из старого Блеховского амтманства: пастор Бергер, его дочь Елена и асессор Венденштейн. С ними был молодой человек лет двадцати восьми, в длинном черном сюртуке и в белом галстуке, обличавшем духовное звание. Гладко причесанные белокурые волосы плоско лежали на висках и обрамляли круглое лицо, ничем особенно не выделявшееся. Маленькие серые глаза смотрели зорко и зачастую злобно из‑под опущенных ресниц, а вокруг плотно сжатых тонких губ лежала складка самодовольства и аскетической гордости, составлявших абсолютный контраст с полным жизни, спокойно‑веселым выражением лица старого пастора Бергера, который здесь не изменил своему обычному костюму — наглухо застегнутому черному сюртуку и четырехугольному берету лютеранских пасторов.
Все четверо шли медленно по большой аллее, которая вела от мавзолея к парку. Они не успели еще сделать нескольких шагов, как часовой взял на караул, а шедший за ними кастелян сказал вполголоса:
— Его Величество король.
По боковой аллее шел Георг V под руку с князем Сольмсом. Мужчины сняли шляпы и почтительно остановились.
— Тебе кланяются, — шепнул князь.
Король приложил руку к фуражке.
— Кто это? — спросил он.
— Лютеранский пастор, судя по костюму, — отвечал князь.
Король остановился и сказал:
— Господин пастор!
Пастор Бергер подошел к нему и произнес громким и твердым голосом:
— Благоговейно приветствую моего государя и епископа!
Короля поразил звук этого голоса.
— Где я вас встречал?
— В прошлом году в Вендландии. Я пастор Бергер из Блехова.
— Так, так! — обрадовался король. — Я с большим удовольствием припоминаю прием, оказанный мне в Блехове, и обо всем хорошем, что вы сообщали о вашем приходе. Как я рад вас здесь встретить! Что вас привело в Ганновер?
— Ваше Величество, силы начинают мне изменять, я должен думать о своевременном приискании помощи, чтобы приход не пострадал от моей старости и слабости. Я искренно желал бы получить в помощники сына моей сестры, кандидата Бермана, и заблаговременно приготовить в нем приемника себе. Я приехал хлопотать об этом в консистории.
— Не хлопочите, любезный пастор, — я разрешаю вам взять племянника в помощники. Как я рад возможности исполнить ваше желание именно сегодня и именно здесь.
Удивленный и взволнованный, пастор мог только ответить:
— Всем сердцем благодарю Ваше Величество!
— А теперь, любезный пастор, я позабочусь о том, чтобы вам было показано все то, что стоит осмотреть в Ганновере. Во‑первых, вы будете жить у меня во дворце. Завтра я вас ожидаю к обеду, только придите часом раньше и порасскажите мне о моей верной, милой Вендландии. Вы видели парк и оранжереи?
— Как раз туда идем, Ваше Величество! Мы только что от мавзолея и глубоко потрясены величественным впечатлением. Я вознес там свою душу к Господу Богу и искренно помолился, чтобы он охранял Ваше Величество в это тяжелое и тревожное время.
— Да, — промолвил король серьезно и грустно, — мы живем в тяжелые и мрачные дни и нуждаемся в Божьей помощи. Я сделаю то же, что вы, — помолюсь над могилой моих родителей о ниспослании мне силы и света. Прощайте, до свидания завтра!
И поклонившись, государь быстро направился к мавзолею.
Глубоко взволнованный, пастор Бергер посмотрел ему вслед. Движимый невольным порывом, он поднял руку и заговорил громким голосом, удивительно захватывавшим душу посреди этой лесной тишины:
— Господь да благословит тебя, да сохранит тебя! Да обратит Господь свой лик к тебе и да будет к тебе милостив! Господь да дарует тебе свет и мир! Аминь!
При первых словах этого благословения Георг V остановился, обернулся к говорившему и снял кепи. Выражение глубокого благоговения лежало на его чертах.
Когда пастор кончил, он надел кепи, молча помахал рукой и медленно вступил в скромный, величественный храм, осенявший последний покой его родителей.
Глава шестая
В том же будуаре в Вене, где мы видели Штилова после раута графини Менсдорф, на той же кушетке лежала та же поразительно красивая женщина, которая тогда так обольстительно пылко обняла молодого офицера.
На ней был светло‑серый утренний костюм со светло‑розовыми бантами, кружевная косынка обрамляла овальное лицо и почти совсем закрывала блестящие, гладко уложенные волосы.
Утреннее солнце бросало украдкой лучи сквозь опущенные занавеси изящно меблированной комнаты. Эти лучи, при каждом движении молодой женщины пробегавшие по ее лицу, придавали ее красоте своеобразную прелесть, и казалось, она это сознавала, потому что бросала время от времени взгляд в круглое зеркало, повешенное на противоположной стене таким образом, что в нем отражалась почти вся ее фигура, и заботилась о том, чтобы голова, покоившаяся на ярко‑красной подушке, была не слишком удалена от места падения солнечных лучей.
Черты ее сегодня не имели, однако, того нежного, чарующе‑мечтательного выражения, с которым она в тот вечер принимала лейтенанта Штилова. В лице ее скорее отражалась ледяная холодность, а прекрасные губки дрожали презрением.
Перед ней стоял человек лет тридцати, франтоватый, но одетый с тем раболепием перед модой, которое чуждо вполне порядочным людям. Черты его были не дурны, но довольно пошлы и носили печать разврата.
Он держал руки в карманах и покачивался на каблуках.
Вся внешность его вовсе не шла к изящной обстановке будуара и еще менее к грациозной фигуре молодой хозяйки. Однако это был ее муж, вексельный агент Бальцер.
Супружеский тет‑а‑тет был, видимо, не из приятнейших, так как и на лице мужа читались живейшее возбуждение и едкая ирония.
— Ты меня знаешь, — говорил он сиплым голосом, свидетельствовавшим о злоупотреблении спиртными напитками и постоянных бессонных ночах, и с тою отвратительною грубостью интонации, которая так часто встречается в людях без умственного развития и хорошего воспитания, — ты знаешь, что я умею постоять на своем. Мне нужны тысяча двести гульденов, и непременно к завтрашнему дню! — прикрикнул он и топнул ногою.
Молодая женщина повертела между пальцами один из бантов своего костюма, розовый, цвет которого был не нежнее и не деликатнее ее тонких пальчиков, и отвечала, не изменяя положения и не поднимая глаз на мужа, тихим, но резким и почти шипящим голосом:
— Так играй счастливо или надуй кого‑нибудь из своих клиентов, дела которых ты обделываешь на бирже.
— Твои колкости меня не задевают, — отвечал он с напускным хладнокровием, — я думаю, мы можем взаимно избавить себя от труда корить друг друга профессиями. Я практик и прежде всего человек дела. Ты помнишь наш договор и знаешь, на каких условиях я закрываю глаза на некоторые вещи, на которые имел бы право претендовать, если бы мне вздумалось, так как все‑таки я твой законный муж и властелин.
Она не двинула ни одним мускулом, только легкая краска, выступившая на снежно‑белом лбу, изобличила внутреннее волнение.
Не изменив нисколько тона, она холодно проговорила:
— Тебе тоже известно, что мне не составит труда избавиться от цепи, которой ты похваляешься, и меня достаточно знаешь, чтобы быть убежденным, что переход в протестантство с целью получить развод не стоил бы мне ни минуты раздумья.
— Я не думаю, чтобы религиозные соображения тебя когда‑нибудь сильно заботили, — зло засмеялся он.
— И если я выношу эту несносную, но далеко не неразрывную цепь, — продолжала женщина спокойно и не поднимая глаз, — то единственно потому, что терпеть не могу скандала и не хочу, чтобы существо, — она произнесла это слово с невыразимым презрением, — от имени которого я не могу избавиться, пало до глубочайших бездн подлости и преступности. Поэтому только я тебя терплю и даже помогаю тебе — иной причины нет. Берегись, стало быть, чтобы цепь не стала чересчур несносной. Что же касается твоих так называемых условий, то они пунктуально исполняются. Или ты не получал того, что я тебе назначила?
— Не в том дело, — отвечал грубо Бальцер, — дело в том, что мне для покрытия безотлагательных обязательств необходимы тысяча двести гульденов, и ты должна мне их дать, — это для тебя сущие пустяки. Твой улан — неистощимая золотая россыпь, — прибавил грубиян с пошлым хохотом.
— Сдается мне, — возразила она холодно, — что тебе придется искать другой россыпи.
— Ты боишься скандала, как ты мне сейчас говорила. Eh bien[42], если на то пошло, то как только он в двери, я тебя угощу чудесным скандальчиком.
— Этот скандальчик, — сказала она с усмешкой, — кончится тем, что ты слетишь с лестницы головой вниз и никогда больше не получишь от меня ни крейцера.
Он замолчал на минуту. Ее простая логика произвела, видимо, на него впечатление.
Через несколько секунд, однако, он подошел ближе, безобразная улыбка заиграла на его губах, и выражение злобной радости блеснуло в глазах.
— Ты права, — сказал он, — такой скандал был бы бессмыслен. Но так как твой любезный друг Штилов так мало податлив, то я должен позаботиться о том, чтобы избавить тебя от этой бесплодной связи и ввести снова в тот круг, где бы ты могла собирать более ценные плоды. Я позабочусь о том, чтобы освободить Штилова от сладких цепей, которыми ты его опутала. Мне жаль тебя огорчать, потому что мне кажется, что этому уланчику удалось воспламенить ледяное сердечко моей супруги. Но что поделаешь — прежде всего деловой расчет, а уж затем удовольствие.
Тонкие пальцы, сжимавшие изящные банты, слегка задрожали, и в первый раз в течение всего разговора она подняла темные глаза.
Проницательный взгляд ее молнией метнулся на мужа.
Он его поймал на лету и ответил торжествующей улыбкой.
Женщина снова опустила веки и проговорила слегка дрожащим голосом:
— Можешь делать, что хочешь!
— Конечно, — отвечал он, — и буду действовать как нельзя более деликатно, без всякого скандала. Штилову, конечно, было бы весьма любопытно сравнить получаемые им упражнения в слоге, на которые, без сомнения, дама его сердца не скупится, — сравнить с теми, которые она в то же время посылает прежним и отсутствующим друзьям.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она живо. Голова ее приподнялась с пурпуровой подушки, и глаза уставились на мужа с поражающей выразительностью.
— Я хочу этим сказать, — проговорил он грубо, — что отправлю к Штилову твое письмо к графу Риверо и его ответ.
Она вонзила розовые ногти в нежные руки и на минуту задумалась.
— Где письма, о которых ты говорил? — спросила она холодно.
— Хорошо припрятаны, — отвечал он лаконично.
— Я тебе не верю. Откуда ты мог взять мое письмо к графу?
— Ты готовилась ему отвечать. Его письмо и твое лежали на твоем столе, — когда ты, вероятно неожиданно, должна была принять Штилова и набросила на них шаль. Они так и остались бы там позабытыми, если бы я не позаботился уберечь их от посторонних глаз, — сказал он с наглым смехом.
— Стало быть, ты их украл? — вымолвила она с беспредельным презрением.
— Ты знай себе свою седьмую заповедь, а остальные предоставь другим! — отвечал он грубо.
— Приходится заплатить за неосторожность, — прошептала она чуть слышно. Потом, подняв на него полный ледяной холодности взгляд, сказала: — Ты получишь завтра утром тысячу двести гульденов в обмен на украденные письма.
— Я аккуратно в этот же час буду завтра здесь, — отвечал он самодовольно. — Не угодно ли моей чарующей супруге приказать мне еще что‑нибудь?
Не трогаясь с места, она указала ему пальцем на дверь.
Со двора послышался громкий звонок.
— Господин фон Штилов! — доложила вошедшая девушка. И тотчас же в прихожей послышалось бряцание сабли.
— Желаю вам много успеха и удовольствия! — крикнул Бальцер и ушел боковой дверью.
Только что он вышел из комнаты, как черты молодой женщины изменились как по волшебству. Суровые, резкие линии, придававшие во время разговора с мужем лицу ее сходство с восковой маской, сгладились, стиснутые зубы разжались, глаза заискрились магнетическим блеском.
Она приподнялась и протянула руки навстречу гостю.
Штилов, свежий и изящный как всегда, поспешил к ней и остановился на миг, точно ослепленный ее красотой, затем нагнулся и припал губами к ее ротику.
Она обвила его руками и скорее выдохнула, чем сказала:
— Милый друг!
После продолжительного объятия он пододвинул низенький табурет к кушетке, на которой она лежала, и сел таким образом, что головы их оказались на одном уровне. Она легким, грациозным движением изменила позу и прильнула головой к его плечу, сжимая обеими ладонями его правую руку, закрыла глаза и прошептала:
— О, как я счастлива!
Прелестную картину составляли эти две изящные, молодые фигуры. То была картина настоящего, счастливого, мимолетного мгновения, которым наслаждаются, не спрашивая, что было прежде и что будет потом.
Глубокий вздох вырвался из груди молодой женщины и отозвался дрожью в ее теле, приникшем к возлюбленному.
— О чем вздыхает моя дорогая Тони? — спросил Штилов. — Чего тебе недостает, — тебе, созданной для того, чтобы сеять счастье?
— О, мой возлюбленный! — отвечала женщина, снова вздыхая. — Я не всегда так счастлива, как теперь, на твоей груди, и вот только что… — Она запнулась.
— Что было только что? — переспросил он. — Что могло заставить тебя два раза так тяжело вздохнуть? Тебя, которой подобает только улыбаться и — целовать!
И, подняв голову молодой женщины, он нежно ее поцеловал.
— Мой муж был здесь, — сказала она, вздыхая в третий раз.
— Ага! И что было нужно этому несчастному, который называет своим такой цветок и не умеет наслаждаться его ароматом?
— И для которого он никогда не благоухает, — вставила она живо. — Он изводил меня упреками, ревностью…
Тони запнулась, потом приподняла прекрасную голову, немного отодвинулась и снова опустилась на красную подушку, не выпуская его руки из своих.
— Видишь ли, — сказала она, — прежде, когда он упрекал меня и разыгрывал Отелло, если кто‑нибудь за мной ухаживал, мне было все равно — я смотрела на него с высоты величия и отвечала ему смело и уверенно. Теперь же, — продолжала она, не сводя с него глаз, пылавших страстью, причем розовые бантики на ее груди поднимались и опускались с удвоенной быстротой, — теперь я дрожу, мое сердце бьется и гонит кровь по жилам, потому что…
Она снова бросилась к нему, спрятала лицо на его груди и прошептала:
— Потому что я теперь сознаю себя виновной.
Штилов нагнулся и прижал ее к себе.
— И ты об этом сожалеешь?
— Нет, — отвечала она чистосердечно, — но мне обидно думать, что он мой муж, что я от него завишу, завишу, — прибавила дама тише и запинаясь, — во всех материальных вопросах. И когда супруг дает чувствовать эту зависимость, тяжело дает чувствовать…
— Зачем же тебе от него зависеть, — прервал он ее, — когда у тебя есть друг, слуга, которого ты осчастливишь, если скажешь, что тебе надо, чего ты желаешь?
— О, мне так мало нужно! — сказала она. — Но он отказывает мне во всем!
— Бедная Тони! Может ли быть, чтобы эти губки когда‑нибудь высказывали желание напрасно?
Он прижал ее руку к своим устам.
— Так в чем именно он тебе отказал?
— Ах, нет! — сказала она тоскливо. — Я не хочу портить такими дрязгами сладких минут свидания с тобой! Брось это — я уже забыла! — И красавица опять вздрогнула.
— А я не забуду, пока не скажешь, в чем было дело. Прошу тебя, если ты меня любишь, скажи, что у тебя на душе? Чтобы разом с этим покончить!
— Он разбранил меня, — ответила Тони, не поднимая глаз, — за счет портнихи и отказался его оплатить… и… — продолжала она с живостью, — эти заботы так меня терзают, что я не знаю ни минуты покоя, когда тебя нет со мной.
— Ну, еще слово, — сказал он весело, — назови итог гнусного счета, дерзающего оспаривать мое место в твоей прелестной головке?
— Тысяча двести гульденов, — шепнула она.
— Только‑то! Как мало нуждается такая красавица в изощрениях портнихи! Униженно прошу позволения прогнать эту тучку с моей возлюбленной.
И он поцеловал ее оба глаза.
Она быстрым движением чмокнула ему руку.
— Получать и вечно получать! — сказала она с горечью. — О, если бы я была королевой, а ты — бедным офицером! И если бы я могла изливать на тебя лучи блеска и счастья, избрать тебя из тысячи и возвести на золотые ступени моего престола!
Дама поднялась и стала перед возлюбленным с истинно царственным величием. Глаза ее горели, и когда она подняла руку, можно было подумать, что по мановению этой прекрасной длани двинутся армии и тысячи придворных падут ниц.
Мало‑помалу глаза ее полузакрылись веками, и она промолвила нежным, тающим голосом:
— Но теперь я не могу дать ничего, кроме моей любви!
— И мне больше ничего не нужно! — сказал он, скользнув с табурета на пол, к ее ногам, и глядя на нее пылающими глазами.
В эту самую минуту громкий звонок раздался по комнате.
В дверях послышался шум.
Вбежала горничная и испуганным голосом доложила:
— Граф Риверо!
Молодая женщина вздрогнула.
Почти грубым, порывистым движением она толкнула Штилова к табурету, а сама бросилась на другой конец кушетки.
Лицо ее страшно побледнело. Штилов посмотрел на нее с удивлением.
— Откажи ему, — шепнул он.
— Это старый знакомый, которого я давно не видела, — сказала она глухо, — это…
Она еще не успела кончить, как распахнулась портьерка прихожей и с элегантной, светской развязностью вошел высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Он был одет в темные цвета, лицо его, благородного выразительного типа, отличалось матово‑бледным колоритом южанина, большие, темные глаза казались еще темнее от коротко остриженных черных как смоль волос и маленьких усов.
Когда граф Риверо спокойным шагом приблизился к молодой женщине, она протянула ему руку, которую он поднес к губам и задержал дольше, чем допускает простая вежливость.
Штилов это заметил, и к удивлению, которое отразилось на его лице при первом появлении вошедшего с такой уверенностью и так неожиданно, начало примешиваться положительное неудовольствие.
— Нежданно‑негаданно дела заставили меня вернуться гораздо скорее, чем я предполагал, и я беспредельно радуюсь возможности встретить вновь моих венских друзей. Первый мой привет, разумеется, прелестнейшей и очаровательнейшей женщине, которая составляет лучший цветок в венке моих воспоминаний о Вене.
Он снова прижал к губам нежную ручку, которую до сих пор держал в руках, сел в кресло, слегка поклонившись Штилову, и вопросительно посмотрел на хозяйку дома.
Тони совершенно оправилась от тревоги и смущения, в которые ее повергло внезапное появление графа. Взгляд ее стал твердым, губы усмехались, и нежный румянец заиграл на ее щеках. Она сказала веселым и развязным тоном:
— Вы не знакомы? Фон Штилов — дальнейшее поясняет мундир, деятельный представитель нашей jeunesse doree[43]. Только что собирался сообщить мне новости нашего элегантного общества. Граф Риверо — путешественник, ученый, дипломат, судя по расположению духа, приехал из Рима и расскажет нам о карнавале или, может быть, о катакомбах, смотря по тому, куда его влекло сердце.
Мужчины поклонились друг другу: граф Риверо с холодной учтивостью светского человека, Штилов с довольно плохо скрытым неудовольствием.
— Мое сердце, — сказал граф, улыбаясь молодой женщине, — не настолько юно, чтобы увлекаться бешеным разгулом карнавала, и не настолько старо, чтобы искать успокоения в катакомбах, но моему прелестному другу угодно приписывать мне всякие крайности.
— Вы давно не были в Вене? — спросил холодно Штилов.
— Дела удержали меня в Риме ровно год, — отвечал граф, — я даже рассчитывал остаться дольше, но был вынужден вернуться по одному крайне для меня серьезному делу. И радуюсь этой необходимости, — прибавил он, обращаясь к даме, — потому что она возвращает меня опять к моим друзьям, в прелестную, веселую Вену.
Молодая женщина быстро взглянула на Штилова, кусавшего нетерпеливо усы, и губы ее слегка задрожали.
Однако она продолжала, улыбаясь:
— О чем же вы нам расскажете, граф, если не хотите говорить ни о катакомбах, ни о карнавале?
— Я вам расскажу о прекрасных антиках, — отвечал он, — о тех тысячелетних мраморных изваяниях, с которыми здесь соперничает молодежь.
— Вы ошибаетесь, Вена не охотница до античности, — сказал Штилов тоном, который заставил графа посмотреть на него с удивлением, — здесь не любят прошедшего и держатся настоящего.
— Напрасно, — граф холодно поднял голову и надменно усмехнулся, — в прошедшем глубина, настоящее же поверхностно.
Штилов нахмурился.
Молодая женщина бросила на него умоляющий взгляд, которого лейтенант не заметил.
— Прошедшее часто скучно, — сказал молодой офицер довольно резко.
Графа заметно передернуло.
— А настоящее часто очень пошло, — резко ответил он.
Глаза Штилова вспыхнули.
Граф встал.
— Прелестный друг, — сказал Риверо, — очень рад видеть вас такой цветущей и неизменившейся. Я повидаюсь с вами еще раз и надеюсь выбрать время, когда можно будет поболтать с вами свободно и порассказать о Риме и о прошедшем, не боясь никому наскучить.
Он поцеловал руку, небрежно поклонился Штилову и вышел из комнаты.
Офицер вскочил, взял фуражку и бросился вслед за ним.
Молодая женщина посмотрела на возлюбленного широко раскрытыми глазами и протянула руки.
Она хотела удержать его, но осталась на месте, руки ее беспомощно повисли, голова упала на грудь.
Штилов между тем догнал графа, спускавшегося с лестницы.
— Я не отвечал на ваше последнее замечание, граф, — сказал он, — потому что в присутствии дамы ответ был бы неуместен. Вы, кажется, желали преподать мне урок, но мое имя, так же как мундир, который я ношу, должны были вам дать понять, что я подобных уроков ни от кого не приучен выслушивать, тем менее от незнакомых.
Граф остановился.
— Мне кажется, — сказал он спокойно, — что вы хотите со мной поссориться?
— А если бы и так? — спросил запальчиво молодой офицер.
— Напрасно!
— Учить дерзких никогда не напрасно! — почти крикнул Штилов, все более и более возмущаясь спокойствием графа.
— Позвольте, милостивый государь, — ответил граф, — мне кажется, пора этому разговору положить конец и продолжение его предоставить нашим секундантам.
— Я люблю в подобных вещах точность и быстроту, — сказал Штилов.
Он передал графу свою карточку.
— Я буду ждать ваших секундантов у себя на квартире.
— И мне тоже ничто не мешает покончить это дело безотлагательно.
И, холодно кивнув друг другу, они расстались.
Глава седьмая
Часом позже секунданты порешили все необходимые вопросы.
Утренняя заря следующего дня застала два экипажа, направлявшихся к самому отдаленному концу Пратера.
Граф Риверо и Штилов со свидетелями и доктором сошлись на открытой росистой полянке.
Приготовления были скоро окончены.
Две перекрещенные шпаги обозначали место барьера. Пистолеты были заряжены, и оба противника отошли на десять шагов от барьера. Лейтенант Штилов был очень бледен. Лицо его носило следы бессонной ночи. Темные круги обрамляли глаза. Но, несмотря на то, оно было спокойно, почти весело.
Секундант его, однополчанин, подошел и подал пистолет.
— Еще есть время, — заметил он, — сказать слова извинения, и все будет кончено миром.
— Ты знаешь, что я всегда отвечаю за свои слова и поступки, — отвечал Штилов. — Отступить теперь значило бы уронить себя и прослыть трусом. Впрочем, не беспокойся, я ручаюсь, что из‑за меня несчастья не будет.
Он взял пистолет. Секундант отошел.
Противники отсалютовали друг другу оружием.
Граф был свеж, бодр и без всякого следа волнения.
Ему принадлежали первый выстрел и право подойти к барьеру.
Он не сделал ни шагу, поднял пистолет, прицелился и выстрелил.
С головы лейтенанта Штилова слетело кепи — пуля коснулась его верхнего края.
Лейтенант поднял пистолет, прицелился, но слишком высоко, как заметили секунданты. Выстрел раздался, и пуля пролетела на два фута над головой противника.
— Граф, — сказал лейтенант со спокойной вежливостью, — долг чести и обычая исполнен, прошу вас извинить слова, высказанные мною вчера.
Граф быстро подошел, и из глаз его сверкнул луч живого удовольствия. Он в эту минуту походил на учителя, довольного поступком ученика.
Он подал Штилову руку.
— Ни слова больше об этом, — сказал он задушевно.
— Однако, граф, я попросил бы у вас еще пару слов, и наедине.
Граф поклонился, и оба отошли в сторону.
— Граф, — начал лейтенант с легкой дрожью в голосе, — то, что я вам скажу, о чем я вас буду просить, может показаться вам странным. Тем не менее я надеюсь, что вы отнесетесь к моему вопросу именно так, как бы мне хотелось. До обмена пулями он был бы новым оскорблением, теперь я могу его поставить как честный человек честному человеку.
Граф внимательно посмотрел на него.
— Какие у вас отношения с этой дамой? — спросил Штилов. — Вы в праве вовсе мне не отвечать, но если ответите, то окажете мне большое одолжение, которого я никогда не забуду, — прибавил он с жаром.
Граф подумал с минуту, пристально глядя прямо в глаза молодому офицеру.
— Я вам отвечу, — сказал он немного погодя, вынул изящный портфель из кармана сюртука, достал из него письмо и передал Штилову.
Тот пробежал его глазами, полусострадательная, полупрезрительная усмешка заиграла на его губах. Темные глаза графа смотрели на него с участием.
— Еще просьба, — прибавил Штилов, — оправдываемая только совершенно исключительным положением, в котором я нахожусь.
Граф поклонился.
— Дайте мне это письмо. Честное слово, оно останется у меня в руках не дольше часа и что никто его не увидит, кроме той женщины! — сказал Штилов.
— Хорошо, пусть это послужит доказательством моего безусловного к вам доверия.
— Благодарю вас от всего сердца!
— А теперь, — сказал граф глубоким металлическим голосом, — позвольте мне просить вашей дружбы. Я старше вас, и многое в жизни, вам еще чуждое, лежит передо мной открытой книгой, и, — прибавил он с жаром, — Книга жизни не читается без горя и борьбы. Рука друга опытного, друга старшего — часто большое сокровище, если вы почувствуете надобность в ее поддержке, она всегда будет к вашим услугам.
И решительным, благородным жестом он протянул молодому офицеру свою тонкую, белую ладонь.
Тот молча и крепко сжал ее.
— Я был перед вами кругом виноват, — заговорил улан взволнованно и чистосердечно, — как малое, глупое дитя, и я вам очень благодарен — вы можете стать причиной счастливого поворота в моей жизни.
Оба вернулись назад к секундантам и отправились в город.
Штилов поехал прямо к себе на квартиру, сел к столу, вложил в большой конверт три банковских билета по тысяче гульденов и вместе с ними письмо, которое ему дал Риверо, запечатал, надписал адрес и позвонил.
— Отдать это сейчас же лично фрау Бальцер, — приказал он вошедшему слуге.
Затем он вытянул обе руки с глубоким вздохом и бросился в кресло.
— Сбивающий с пути огонек угас, — сказал он, — теперь привет тебе, прелестная звездочка, ясный свет которой улыбается мне так кротко и мирно!
И он закрыл глаза.
Природа предъявила свои права после бессонной ночи и треволнений утра…
В большом, изящном салоне старинного дома на улице Херренгассе в Вене поздним утром того же дня собралась часть того же общества, которое мы недавно наблюдали в гостиной графини Менсдорф.
В большом мраморном камине пылал огонь, отражения которого дрожали на блестящих квадратах паркета. Простенькая люстра с тремя карсельскими лампами приятно освещала гостиную и клала отдельные светлые блики на большие золотые рамы фамильных портретов на стенах, напротив камина стоял большой стол, и на нем лампа из красивой бронзы под синим стеклянным абажуром освещала стоявшие вокруг стола кресла и диван, обитые темно‑синей шелковой материей.
На диване сидела хозяйка дома, графиня Франкенштейн, пожилая дама того типа старинной австрийской аристократии, который так сильно напоминает древнюю французскую nobless de l’ancien regime[44], не исключая при этом австрийской приветливости и доступности — смесь, делающая высшее венское общество столь привлекательным.
Седые волосы хозяйки были тщательно завиты, высокое платье из темной тяжелой шелковой материи окружало фигуру роскошными складками, изящно ограненные старинные бриллианты блестели в ее броши, серьгах и браслете.
Рядом с ней сидела графиня Клам‑Галлас.
На кресле рядом с матерью сидела молодая графиня в богатом туалете, который заставлял предполагать, что ей предстоит поздним вечером выезд.
Возле нее стоял граф Клам‑Галлас.
Говорили о событиях дня, и все общество взволнованно обменивалось все чаще и громче возникавшими слухами о предстоящей войне.
— Я был сегодня утром у Менсдорфа, — говорил граф Клам, — он высказал, что взрыва ожидают на днях. После того как мы совершенно справедливо потребовали от союза решения судьбы герцогств, генерал Мантейфель вступил в Гольштейн.
— Но ведь это война? — воскликнула графиня Франкенштейн. — И что же было затем? Что предпринял Габленц?
— Габленц уже здесь, — отвечал граф, — а войска его возвращаются — нас там было слишком мало, чтобы сделать что‑нибудь. Мы каждый день ждем приказа двинуть войска в Богемию. Граф Кароли отозван из Берлина, и Франкфурту сделан запрос о мобилизации всей союзной армии.
Графиня Клам живо вставила:
— Наконец‑то самонадеянная Пруссия получит заслуженный урок и отмщение за все зло, сделанное этими Гогенцоллернами нашему высокому императорскому дому!
— Но разве не следовало Габленцу с его войском прийти на помощь бедным ганноверцам? — спросила графиня Франкенштейн.
— Там еще не пришли ни к какому решению, — вставил граф.
— Невероятно! — вырвалось у графини Франкенштейн, а графиня Клам прибавила:
— Неужели граф Платен забыл о своих дружеских чувствах к Австрии?
Молодая графиня вздохнула.
— Что вы, графиня? — спросил граф Клам. — Нашим дамам не следует вздыхать, когда мы готовимся сесть на коней и обнажить мечи за честь и славу Австрии.
— Я думаю о тех несчастных, — сказала молодая графиня, — чья кровь прольется, — и глаза ее устремились вверх, как бы преследуя какой‑то определенный образ.
Лакей отворил двери и доложил:
— Фельдмаршал барон Рейшах!
Барон вошел, улыбающийся и веселый как всегда. Он приветствовал дам в своей галантной манере и с задушевностью старого знакомого.
— Вы выросли, графиня Клара, — сказал он шутливо молодой графине, — эти дети перерастают нас целой головой.
Он сел и протянул руку графу Кламу.
— Ну, — сказал он, — счастливцы! Вам предстоит поход!
— Я с часу на час ожидаю приказания выступать.
— А мы, старые калеки, должны оставаться дома, — сказал глухо Рейшах, и тень горькой печали легла на веселое лицо, но скоро опять развеялась. — Я виделся с Бенедеком веред самым его выступлением в Богемию, — сказал он немного погодя.
— Разве он уже отправился? — спросила графиня Клам.
— Он теперь на пути в Капитолий или на Тарпейскую скалу, — ответил фельдмаршал. — Бенедек, конечно, высказал это иначе, по‑своему, но не менее образно.
— Пожалуйста, скажите нам, как именно генерал выразился! — потребовала графиня Клам. — Вероятно, опять одна из тех выходок, на которые только он один способен!
— Через шесть недель, сказал Бенедек как нельзя более серьезно, — отвечал барон Рейшах, — я буду или на тумбочке, или на меня ни одна собака не залает.
Все громко засмеялись.
— Превосходно! — воскликнула графиня Клам. — А он верит в «тумбочку»?
— Не особенно, — сказал Райшах. — Он, кажется, не доволен духом армии и обнаружил в ней много беспорядков — и может быть, отчасти, не доверяет и самому себе.
— О самом себе генерал может думать что ему угодно, — проговорил оживленно граф Клам‑Галлас, — но что касается армии, то он не вправе ей не доверять. Армия превосходна и в образцовом порядке, а впрочем, если Бенедек будет продолжать относиться к офицерам, особенно из аристократии, так, как начал, и всегда и везде отдавать преимущество простому солдату и унтер‑офицерам, то порядок недолго сохранится.
И граф, резко отодвинув стул, на котором сидел, заходил взад и вперед по комнате.
— Не мое дело, конечно, — заговорил он немного спокойнее через несколько минут, — давать императору советы, кого выбрать в главнокомандующие, но я не питаю большого доверия к этому Бенедеку. Он понятия не имеет о том, что живет в сердцах древнеавстрийского дворянства, и его так называемые либеральные принципы подрывают дисциплину. Это, может быть, хорошо для Пруссии, где каждый — солдат, — в этом я не берусь быть судьей, — но для нас это никуда не годится, и тем менее подобает начинать подобные нововведения в момент начала большой войны и почти в день сражения возбуждать во всей армии оппозицию против офицеров.
Граф высказался очень взволнованно.
Никто не отвечал, и наступило молчание.
Фельдмаршал Рейшах прервал его, сказав:
— Но знаете ли, сударыни, самую животрепещущую новость?
— Нет, — ответила графиня Клам, — в чем дело? Какая‑нибудь выходка вашей Вольтер или Галльмейер?
— Гораздо лучше, — улыбнулся Рейшах, — очень пикантная дуэль.
— Дуэль? И между кем? Знакомые из общества? — Хозяйка дома забросала фельдмаршала вопросами.
— Улан Штилов, — сообщил Рейшах, — и итальянский граф Риверо, которого вы видели здесь в прошлом году, — он был представлен нунцием.
— Это удивительно! Когда же Риверо успел вернуться?
— Вчера, — отвечал Рейшах.
— И в первые же двадцать четыре часа дрался на дуэли? — удивилась графиня Клам.
— Кажется, дело вышло из‑за какой‑то дамы. Вы не слыхали ли о красавице Бальцер?
Молодая графиня встала и отошла в неосвещенную часть гостиной, к корзинке с цветами. Она нагнулась над цветами.
— Я слышала это имя в связи с именем Штилова, — ответила графиня Клам.
— Кажется, что старейшие и новейшие права пришли в столкновение, — заметил фельдмаршал.
— И случилось что‑нибудь серьезное? — допытывался граф.
— Этого я не мог добиться, — отвечал Рейшах, — но я боюсь за Штилова: Риверо известен как превосходнейший стрелок. Где же, однако, маленькая графиня? — спохватился барон, повернув голову и глядя в глубь салона.
Молодая графиня все еще стояла, склоняясь над цветами.
Мать бросила на нее быстрый, озабоченный взгляд.
Молодая графиня медленно вышла на свет. У она держала свежесорванную розу, лицо ее было бледно, губы крепко сжаты.
— Я сорвала розу, — произнесла она слегка дрожавшим голосом, — чтобы закончить мой туалет.
Девушка приколола цветок к груди и почти механически вернулась на старое место.
— Ах, я и забыла о вечере графини Вильчек! — Графиня Клам встала. — И вам надо приготовиться, и мне заехать домой.
— Позвольте вас проводить, — сказал Рейшах, и все уехали вместе.
Мать и дочь остались одни. Наступило молчание.
— Мама, — сказала молодая графиня, — я нехорошо себя чувствую, мне бы хотелось остаться дома.
Мать поглядела на дочь с участием и озабоченностью.
— Дитя мое, — с нежностью произнесла она, — прошу тебя, подумай, что могут сказать и что скажут, если ты сегодня не появишься в обществе, после того как тебя сейчас здесь видели?
Девушка закрыла лицо руками, легкое рыдание нарушило безмолвие гостиной, и стройная фигурка дрогнула. Слезы закапали на свежую розу на ее груди.
Лакей отворил дверь.
— Барон Штилов!
Глубокое изумление отразилось на лице графини Франкенштейн, тогда как дочь ее порывисто встала: яркая краска подернула ее лицо, и она почти тотчас же беспомощно опустилась в кресло, устремив полные слез глаза на дверь.
Лакей принял молчание графини за знак согласия и исчез.
Вошел Штилов.
Он, как всегда, был свеж, на лице его не осталось ни следа утренних тревог, только прежняя беспечная и легкомысленная веселость сменилась торжественной серьезностью, придававшею его красоте особую прелесть.
Он подошел к дамам.
Молодая графиня опустила глаза и завертела носовой платок в руках.
Мать приняла молодого человека с совершенным спокойствием.
— Мы вас давно не видели, — мягко сказала она, — где вы пропадали?
— Служба отнимает очень много времени, графиня. Вопрос о войне, кажется, решен, — надо приучаться к военному положению.
— Нам только что говорил о вас барон Рейшах, — продолжала графиня.
— И, верно, что‑нибудь злое? — заметил живо Штилов и пристально посмотрел на молодую девушку, которая не поднимала глаз и не шевелилась.
— Он нас испугал было, но, кажется, неосновательно, — добавила графиня, осмотрев его быстрым взглядом с головы до ног.
Штилов улыбнулся.
— Барон, по‑видимому, принимает во мне слишком большое участие, — сказал он, — но его заботливость совершенно лишена веских причин.
Графиня быстро взглянула на дочь.
— Вы едете сегодня к графине Вильчек? — спросила она.
— Я не знаком с ней, — отвечал Штилов тоном, в котором слышалось сожаление.
— Но, по крайней мере, проводите нас туда? — Графиня встала. — Мне надо еще привести в порядок мой туалет — дочь моя готова и пока посидит с вами.
Глаза Штилова сверкнули счастьем.
— Я совершенно к вашим услугам, графиня, — поклонился он.
Графиня вышла из комнаты, не обратив внимания на негодующий взгляд, который бросила на нее дочь.
Молодые люди остались одни. Наступила небольшая пауза. Штилов подошел к креслу молодой девушки.
— Графиня! — произнес он тихо.
Графиня подняла глаза и посмотрела на него с удивлением, тогда как губы ее сложились в горькую усмешку.
Свет упал ей на лицо и обличил, когда она подняла голову, ее слегка покрасневшие веки.
— Господи! — вскрикнул Штилов. — Вы плакали!
— Нет, — сказала Клара твердо и сухо, — у меня болит голова, и я просила у мамы позволения остаться дома.
— Графиня, — продолжал Штилов взволнованным голосом, — я должен еще ответить вам на один вопрос — на один намек, сделанный вами на вечере у графини Менсдорф. С тех пор мы с вами не имели случая видеться без свидетелей.
Графиня прервала его.
— Я думаю, что теперь не время давать ответы на вопросы, — произнесла она с полупечальной, полунасмешливой улыбкой, — про которые я даже позабыла.
— Но я не забыл! — сказал серьезно Штилов. — И хочу ответить на ваш намек. Поверите вы моему честному слову?
Она подняла на него глаза и ответила просто:
— Да!
— Благодарю вас за доверие, графиня, — сказал он, — и позвольте дать вам слово в том, что я свободен как воздух и как свет.
Выражение радостного изумления сказалось в ее чертах.
— Я вас не понимаю, — сказала она тихо.
— Нет, вы меня понимаете, графиня, — проговорил он с живостью, — но я еще не все высказал. — Я свободен от всяких уз, меня недостойных, но ищу цепь, которая бы навсегда приковала меня к моему счастью и которую я мог бы носить, не краснея.
Девушка страшно смутилась. Он уловил ее быстрый взгляд тут же опустившихся опять глаз, и в этом взгляде прочел, должно быть все, что ему было нужно, потому что весь просиял и со счастливой улыбкой подошел к ней ближе.
— Я вас все‑таки не понимаю, — молвила она чуть слышно.
— Объяснять и рассказывать все, что было, — прервал он ее, — я не могу посторонней даме. — Я мог бы только признаться во всем перед той, которая дала бы мне право посвятить ей мою жизнь и не иметь от нее никаких тайн.
— Господи! — проговорила она в величайшем смятении. — Прошу вас… объяснитесь…
— Стало быть, вы мне даете право объяснить вам?
— Я этого не говорила, — спохватилась она и, встав, сделала шаг к той двери, в которую вышла ее мать.
Он подошел к ней и взял ее за руку.
— Ответьте мне, Клара! — настаивал он.
Она остановилась и опустила голову.
— Клара, — продолжал он снова тихим и задушевным голосом, — у вас на груди свежая роза. — В рыцарские времена дама давала тому, чьи услуги, чью любовь и преданность она принимала навсегда, какой‑нибудь знак, который как священный талисман сопутствовал ему на войне и до самой смерти. И мы накануне кровавой катастрофы. Клара, дайте мне эту розу!
— Роза — символ чистоты и правды, — заметила она серьезно.
— Стало быть, символ того, что в моем сердце живет и вечно будет жить для вас, — сказал он и умоляющим знаком прибавил: — Клара! Я достоин розы!
Графиня медленно подняла на него глаза, столь же медленно освободила розу и робко, сильно покраснев, протянула ему цветок.
Он порывисто двинулся к ней, схватил розу и покрыл ее руку поцелуями.
— Клара! — произнес лейтенант твердо и серьезно. — Роза завянет, но счастье, которое вы мне передали вместе с ней, будет цвести в моем сердце, пока оно не перестанет биться! Благодарю тебя, милосердное Небо, — прошептал он, — я нашел свою звезду!
И он нежно притянул девушку к себе.
Не произнося ни слова, она прислонила красивую голову к его груди и тихо заплакала.
Вошла графиня Франкенштейн.
При шорохе ее платья дочь живо подбежала к ней и обняла ее.
Штилов тоже подошел к старой даме.
— Дорогая графиня, — сказал он, — я могу только повторить то, что сейчас высказал вашей дочери в первом порыве высшего счастья: я нашел свою звезду! Могу ли я надеяться, что она будет освещать небо всей моей жизни?
Графиня обнаружила изумление, в котором, несомненно, сказывалось удовольствие.
— Я предоставляю ответить моей дочери, — сказала она, — и приму ее решение.
— А что скажете вы, графиня Клара? — спросил Штилов.
Девушка протянула ему руку.
— Пусть же благословит вас Бог! — Графиня нежно отстранила от себя дочь и в свою очередь протянула руку молодому человеку, которую он почтительно поцеловал.
— Однако, — продолжала графиня, — нам надо ехать. Завтра мы ждем вас — сегодня же вы только проводите нас до графини Вильчек.
— О мама! — взмолилась графиня Клара. — Нельзя ли нам остаться сегодня дома?
— Нет, дитя мое, ты знаешь, я не люблю отступлений: только в соблюдении форм основа истинного и прочного счастья. И, наконец, это подало бы повод к толкам.
— Так до завтра! — сказал Штилов. — А пока мне будет светить моя новая звездочка!
Невеста смотрела на него, улыбаясь. В ее взгляде угадывался полуозабоченный, полушаловливый вопрос.
Он поднес к губам розу, которую не выпускал из рук, а затем спрятал ее на груди под мундиром.
Графиня позвонила. Лакей подал дамам плащи.
Штилов сел вместе с ними в карету и доехал до Валлькерштрассе, где стоит дом графини Вильчек.
Простившись с ними, улан задумчиво побрел по улице.
Из ярко освещенных окон ресторана Дауна раздавались громкие веселые голоса. Офицеры всех оружий праздновали объявление войны, и много ликующих голосов, раздававшихся тут темной ночью, очень скоро смолкнут навсегда.
Штилов остановился в нерешимости перед входом в ресторан.
Но его настроение не подходило к беззаветной веселости товарищей.
Он пошел дальше, раздумывая обо всем, что пережил сегодня, глубоко счастливый решением, к которому привел его политический разлад.
Погруженный в сладкое раздумье, он шел вдоль берегов Дуная и бессознательно дошел до Аспернского моста.
К нему подошел человек в темном плаще.
— Эге, да это вы, Штилов! — воскликнул он, признав молодого офицера и приветливо ему кланяясь. — Вы идете точно философ, отыскивающий философский камень!
— Здравствуйте, любезный Кнаак! — отвечал лейтенант и подал руку известному и любимому комику из Карлтеатера. — Что вас сюда привело — спектакль уже, должно быть, кончился?
— Я сегодня не играл, — отвечал Кнаак, — и только что собирался зайти в отель «Европа», где сходятся все наши. Пойдемте со мной — посмеемся вместе!
Штилов подумал немного. Домой ему не хотелось — для серьезной беседы он был слишком взволнован. Где же лучше провести остальные вечерние часы, как не посреди веселого кружка, который среди серьезной жизни умеет создавать особый, вечно юный мирок.
Он положил руку на плечо актера и сказал:
— Хорошо, Кнаак, я пойду с вами и посмотрю, как ладит юмор Карлтеатера с военным положением.
— Нашего юмора не разрушить никаким крупповским пушкам, то есть когда мы все in corpore[45], — прибавил он. — Я же лично часто сильно хандрю, потому что родом северный германец и мои юношеские воспоминания принадлежат северу, а теперь, хотя душой я австриец, предстоящая война камнем лежит у меня на душе.
— Многим будет тяжело, — отвечал Штилов, — и моя родина на севере. Печальная будет эта война, хотя, как сдается, я должен был бы радоваться, что сабля, так долго гранившая только столичную мостовую, наконец найдет себе настоящую работу.
Легкий вздох не совсем гармонировал с этой солдатской радостью боя. Может быть, он думал о только что проглянувшей ему звездочке и о том, как скоро она может подернуться кровавым облаком.
Они подошли между тем к отелю «Европа», который вместе с отелем «Кронпринц» занимает всю длину Аспернгассе.
Широкий подъезд вел в просторную аванзалу ресторана, молодые люди миновали ее и подошли к запертым дверям, из‑за которых доносились громкие голоса и веселый смех.
Кнаак отворил дверь и вошел вместе с Штиловом в большую прямоугольную комнату, украшенную оленьими рогами и охотничьими сценами, в которой сидело за столом пестрое общество, занимаясь уничтожением холодного ужина.
Посреди стола возвышалась чаша с ароматным пуншем, несколько серебряных холодильников, наполненных льдом, показывали белые головки стоявших в них бутылок шампанского.
На главном месте восседала королева Карлтеатера, избалованная любимица венской публики, Жозефина Галльмейер.
Рядом с нею сидел старый Гройс, большой ее друг и приятель, последний представитель нестройской плеяды, — довольно толстый человек с грубыми чертами, которым он, однако, умел придавать тончайшие оттенки выражения, и с голосом, способным на бесконечно комичные модуляции.
На другом конце стола сидел задумчиво и одиноко молодой комик Матрас — мужчина с тонким, умным лицом, представитель старинного, настоящего венского юмора. Возле него молодая черноглазая певица Шредер горячо спорила с редактором и критиком Герцелем, невысоким человеком с ироничной физиономией.
Появление Кнаака и Штилова было встречено громким возгласом фрейлейн Галльмейер. Она схватила шампанскую пробку, бросила навстречу вошедшим и закричала:
— Слава богу, пришли два умных человека! Иди сюда, Кнаак, садись ко мне! А вы, Штилов, устраивайтесь напротив, чтобы я могла видеть ваш мундир, он мне ужасно нравится. Я просто с ума сходила от скуки: Матрас сидит и молчит, Шредер с доктором уселись рядышком, точно пара свернутых перчаток, а Гройсу вздумалось читать мне мораль — можете себе представить, как это весело!
Она налила Кнааку полный бокал шампанского.
— На, выпей! — приказала кокетливо и весело. — Будешь веселей! Боже! — прервала она себя, глядя на Штилова. — Как вы сегодня хороши! С вами, наверно, случилось что‑нибудь особенное — вы просто сияете!
— Берегитесь, Штилов, — предупредил Кнаак, — Пепи влюбится в вас, и тогда вам придется испытать на себе, что такое женский деспотизм, потому что она придерживается такой теории: «Приглянувшийся мужчина от меня не отвертится!»
Галльмейер зажала Кнааку рот и сказала:
— Такие мечтатели, как Штилов, нам не в масть: головой ручаюсь, что у него в сердце нет свободного места. Впрочем, — продолжала актриса очень серьезно, — я теперь уже не просто так легко влюбляюсь, но сперва справляюсь с метрикой моего предмета!
— Это зачем? — спросил Штилов.
— Она хочет сперва узнать, совершеннолетен ли он и может свободно распоряжаться своими деньгами, — сказал Матрас.
— Матрас только и думает о деньгах, именно потому что у него никогда их нет, — парировала она, — в сущности же, все не так. А вот что я взяла за правило — чтобы наш возраст, мой и моего предмета, в сумме составлял не более пятидесяти лет. И потому чем старше становлюсь я, тем моложе должна выбирать возлюбленного. Вот по каким резонам я справляюсь предварительно — не больше ли ему лет, чем должно приходиться на его долю при дележе.
Все засмеялись.
— Ну, так тебе придется вскоре ограничиться грудными детьми, — заметил сухо старик Гройс.
— Папа Гройс, — обратилась к нему Галльмейер, — сделай одолжение, не остри так глупо.
— Однако где Гробеккер? — поинтересовался Кнаак.
— Грызется со своим герцогом, — сообщил Герцель.
— Что так?
— Она вообразила, что он ухаживает за маленькой Эгерпепи, и это ее из себя выводит!
— Удивительно! — сказала Галльмейер. — Право, скоро у нас на сцене будут играть все только княгини да герцогини. Ну, что до меня, то я навеки останусь Пепи Галльмейер.
И она запела:
Моя мамаша — прачка, И хоть певица я, Люблю ее ужасно За стирку для меня.— Да, правда, — согласился Гройс, — ты не годишься в герцогини. Знаете, что она на днях выкинула? — спросил он. — Герцог делла Ротонда дал нам всем большой вечер с ужином в своем отеле. Все было по‑княжески, лакеи в шелковых чулках сервировали нам тончайшие деликатесы. Пепи зевнула раза два и спрашивает: «Герцог, где у вас швеммэ: я здесь не могу дольше оставаться, слишком для меня парадно!»
— Что это такое швеммэ? — спросил Штилов.
— Это венский термин, — пояснил Кнаак. — Так называют здесь второстепенные рестораны, находящиеся при каждом большом отеле, в которые обыкновенно ходит прислуга путешественников.
— И где в тысячу раз веселее, чем у старого, скучного герцога с его серебряными канделябрами и долговязыми лакеями! — заявила со смехом Галльмейер.
Дверь с шумом распахнулась.
Вошла молодая красивая женщина с газетой в руках.
То была певица оперного театра Фридрих‑Матерна.
— Вы знаете, — заговорила она живо, — война объявлена. Вот вечерний номер. Наш посланник отозван из Берлина, и армия двинулась в Богемию.
— Вот тебе и веселая Вена! — сказала Галльмейер. — И сколько прекрасной молодежи будет перестреляно! — прибавила она, сострадательно взглянув на Штилова.
Старый Гройс поднял голову.
— Надо бы нам дать на сцене что‑нибудь патетичное — по старому венскому обычаю — одни шутки да прибаутки не годятся, когда там, за нашими стенами, готовится кровавая трагедия.
Герцель встал.
— Мне надо в редакцию, — заявил он с напускной важностью, взявшись за шляпу.
Вошел кельнер.
— Барон Штилов здесь? — спросил он.
— Что надо? — сказал молодой офицер.
— Ваш слуга здесь с письмом, говорит, что долго искал вас повсюду.
— Ага, на службу! — догадался Штилов, вставая. — Ну, прощайте, господа! Будьте здоровы, Пепи!
Он допил свой стакан и вышел из комнаты.
Ординарец в кирасирской форме передал ему большой казенный конверт.
Молодой офицер распечатал его. Радостная гордость сверкнула в его глазах.
— Назначен состоять при главнокомандующем! — сказал он весело. — Где генерал?
— В отеле «Город Франкфурт»!
— Хорошо, я сейчас буду!
И он быстро пошел снова берегом Дуная к центру города, уже не мечтая, как на пути сюда, но гордо вскинув голову, сияя взором, улыбаясь и звонко бренча саблей по мостовой.
Вдруг он умерил шаг. Лицо его подернулось облаком.
— Итак, война! И война под знаменем генерала, которым справедливо гордится австрийская гвардия, но, несмотря на это, как грустно! Я оставляю здесь только что расцветшее счастье — найду ли его по возвращении?
Он остановился и задумчиво посмотрел на волны Дуная, в которых, мерцая, отражались яркие фонари мостов.
— Здесь, наверху, свет и тепло, — прошептал он, — там, внизу, — холод, мрак, смерть!
Он вздрогнул и махнул рукой, как бы прогоняя призраки фантазии.
— Чем же была бы любовь, — проговорил он, — если бы она делала нас унылыми и робкими? Нет, моя дорогая возлюбленная! Твой рыцарь должен быть горд и мужествен, и твой талисман принесет ему удачу!
И он вынул розу из‑под мундира и прижал к губам. Потом пошел вперед быстрым и бодрым шагом, напевая про себя:
И если б не ставить нам жизни на карту – Ее никогда бы не выиграть нам.Часть вторая
Глава восьмая
В венском дворце шла кипучая деятельность. Адъютанты и курьеры приезжали и уезжали. Несмотря на ранний час, часов с восьми утра группы любопытных толпились у входа на главном дворе и смотрели на каждого приезжавшего и уезжавшего офицера с напряженным интересом, как будто те везли самые положительные известия.
Общественное мнение было возбуждено до последней крайности. Каждый чувствовал, что грозные события повисли тучей в воздухе и что каждую минуту может сверкнуть молния и страшный удар грома рассеет гнетущий туман.
Добрые обитатели Вены были настроены воинственно. Пресса уже давно разжигала негодование против Пруссии, и в различных кругах звучали самые резкие отзывы против северной державы вместе с самыми твердыми надеждами на победу австрийского оружия.
Недаром главнокомандующим великой северной армии был назначен фельдцейхмейстер Бенедек, душа солдат и народа, не жаловавший аристократического офицерства и поставивший себе задачей доказать, на что способна австрийская армия, когда перейдет от неженок‑юнкеров в железные руки настоящего закаленного воина.
Но как громко и живо ни высказывались эти надежды, среди людей не замечалось настоящего радостного и твердого упования. Говорили скорее уста, чем сердце, и если бы кто мог заглянуть поглубже в душу этим оживленно болтавшим и жестикулировавшим горожанам, тот нашел бы там много затаенных сомнений, противоречивших тому, что срывалось с языка. Враг, на которого шли, был нов, неизвестен с Семилетней войны, с тех пор, по преданию, ставший грозным, о военной организации которого так много писали и рассказывали.
Вдруг в группах смолкли разговоры и все глаза устремились на главные ворота. В них показался фельдмаршал Габленц — генерал, блестящая храбрость и рыцарские достоинства которого сделали его любимцем Вены.
Гордо и самоуверенно вошел он во двор, в сером, плотно сидевшем генеральском мундире, грудь увешана многочисленными орденами, в каске с развевающимися перьями на красивой голове, с густой темной бородой и тонкими выразительными чертами.
За ним шли начальник штаба полковник Бургиньон, два адъютанта и лейтенант Штилов в пестрой, нарядной уланской форме, ужасно счастливый возможностью находиться в свите такого генерала.
Толпа громко приветствовала фельдмаршала, которому, как тогда полагали, предстояло осуществить высказываемые вслух надежды и развеять молчаливое сомнение.
Генерал отвечал на приветствие легким военным поклоном, приветливо, но с сановитым достоинством — он сознавал свою популярность, но не искал ее, а принимал как нечто само собой разумеющееся, принадлежащее ему по праву. Он прешел со своими спутниками через двор, вступил в большой подъезд и поднялся по лестнице на половину императора.
Дежурный лакей с низким поклоном отворил перед ним дверь.
Глубокая тишина царила в больших, просторных комнатах с темными обоями, массивной шелковой мебелью и тяжелыми занавесками на громадных окнах. У дверей в рабочую комнату императора стоял лейб‑гвардеец в полной форме. Дежурный флигель‑адъютант, облокотившись на окно, смотрел на двор. При входе фельдмаршала флигель‑адъютант, молодой красивый человек с короткими черными волосами и усами, в скромном зеленом мундире императорских адъютантов с майорскими знаками различия, пошел навстречу и отдал ему честь по‑военному. Фельдмаршал ответил на поклон и подал молодому человеку руку.
— Как вы поживаете, любезный князь Лихтенштейн? Что поделывали здесь, в Вене, с тех пор как мы не виделись?
— Нас затопила служебная рутина, — отвечал юный князь, — мы не так счастливы, как ваше превосходительство, не сходим с места и должны довольствоваться отчетами о ваших геройских подвигах. Вы отправляетесь пожинать новые лавры…
— Позвольте, любезный князь, — прервал его генерал, — о лаврах можно говорить только тогда, когда они сорваны. Однако, — продолжал он, — Его Императорское Величество не занят? Я попрошу доложить обо мне — пора отправляться в армию.
— Только что вошел граф Менсдорф, — отвечал князь, — но он, вероятно, долго не задержится, и я сейчас же доложу о вас.
Фельдмаршал отошел с полковником Бургиньоном в оконную нишу, а князь Лихтенштейн продолжал разговаривать с адъютантами генерала и со Штиловом.
Пока это происходило в приемной, император Франц‑Иосиф, одетый по австрийскому военному обычаю в просторный серый сюртук, стоял в своем светлом, но скромном кабинете, перед широким письменным столом, заваленным бумагами, книгами и картами.
Глубокое раздумье отражалось на лице государя, пока он внимательно слушал доклад графа Менсдорфа, державшего в руке несколько депеш и писем.
— Весьма неприятно, — произнес император, — что принц Сольмс в Ганновере не сумел заключить никакого трактата с королем Георгом. Вследствие этого с той стороны прусские силы не будут заняты, и мы должны употребить все усилия, чтобы вступить в великое, решающее состязание в Богемии или, пожалуй, в Саксонии. Считаете ли вы возможным опасаться прусско‑ганноверского союза?
— Конечно нет, Ваше Величество, — отвечал граф Менсдорф. — Король точно так же уклонится от иного союза, как уклонился от нашего. Его Ганноверское Величество не хочет примыкать ни к какой стороне. Я боюсь, что король поставит себя этим в рискованную изоляцию, которая в его положении, а он окружен со всех сторон прусской властью, в высшей степени опасна не только для его личности, но и для короны.
— Для его короны? — повторил король с удивлением, поднимая голову.
— Ваше Величество, — пояснил граф Менсдорф, — когда раздастся первый пушечный выстрел, Пруссия станет на почву самых беззастенчивых государственных резонов, как они их там называют. А ведь Ганновер — давняя цель прусских желаний.
— Пока австрийский меч цел в моих руках, — произнес надменно император, — ни один из германских государей не потеряет своей короны.
Граф Менсдорф промолчал.
Император сделал несколько быстрых шагов по комнате и снова остановился перед министром.
— Вы все еще не верите в успех? — спросил он, пристально глядя на графа.
— Ваше Величество, — отвечал тот, — я ношу мундир австрийского генерала и стою перед моим императором накануне войны, в которой разовьются все императорские знамена. Прилично ли мне сомневаться в успехе австрийского оружия?
Император слегка топнул ногой.
— Это не ответ, — сказал он. — Я спрашиваю не генерала, а министра.
— Мне бы хотелось, — отвечал граф Менсдорф, — стоять генералом перед Вашим Императорским Величеством или перед врагами Вашего Величества, тогда на сердце у меня было бы легче. И тогда, — прибавил он печально, — я, может быть, более надеялся бы на победу, по крайней мере, мог отдать за нее жизнь. Как министр, — продолжал он после небольшого молчания, — я уже высказал Вашему Величеству мои воззрения и могу только повторить искреннее мое желание, чтобы вам благоугодно было снять с меня тяжелую ответственность и дозволить обнажить меч.
Император не ответил на последнее замечание графа.
— Но любезный Менсдорф, — заметил Франц‑Иосиф после паузы, — я знаю, что у вас настоящее австрийское сердце. И разве оно не бьется сильнее при мысли поднять величие габсбургского дома и разбить опасного соперника, мнящего выбросить из Германии нашу Австрию и мой императорский дом? Неужели я должен упустить шанс, который, может быть, никогда так благоприятно не подвернется?
— Ваше Величество не может глубже и искреннее носить в сердце любовь к Австрии и более гордиться величием вашего дома, чем я, — отвечал Менсдорф. — Я отдал бы до последней капли свою кровь, чтобы увидеть Ваше Императорское Величество во Франкфурте, окруженным государями и восседающим на престоле в качестве властителя и руководителя Германии, но…
— Но, — прервал живо император, — неужели вы думаете, что эта цель достижима без содействия меча? В Берлине все в один голос кричат, что Германия должна обновиться мечом и кровью. Итак, меч решит и обагрится кровью.
— Но, — продолжал Менсдорф, преследуя печальным тоном свою собственную мысль, — я не могу считать благоприятной необходимость открыть военные действия на двух фронтах — это карта, на которую я бы не поставил теперешнего могущества Австрии и моих надежд на ее будущее развитие, — тем более если один из противников так могуществен и энергичен, что одному ему надо противопоставить все наши силы.
— Энергичен? — вставил король с легкой усмешкой. — Однако при Ольмюце он преспокойно отступил!
— Ольмюц более не повторится, Ваше Величество. Императора Николая уже нет, а между императором Александром и нами лежит Севастополь[46].
Император замолчал.
— Могу я всеподданнейше обратить внимание Вашего Величества еще на то, — сказал граф Менсдорф после нескольких минут, которые употребил на пересмотр бумаг, — что герцог Граммон настаивает на положительном ответе относительно французского союза при условии уступки Венеции?
— Разве нельзя еще помедлить с ответом? — спросил император.
— Нет, Ваше Величество. Посол объявил мне, что неопределенный ответ будет сочтен равносильным решительному отказу.
— Что же делать?
Граф Менсдорф произнес спокойно и медленно:
— Уступить Венецию.
Император закусил губу чуть не до крови.
— Как! — крикнул он. — Мне покупать права моих отцов, положение моего дома в Германии — и у кого! У той Италии, которая свергает с престола государей моего дома, угрожает церкви, готова лишить наследственных владений святейшего отца! Нет! Нет! Поставьте себя на мое место, граф Менсдорф, и вы поймете, что я на такое не пойду!
— Умоляю Ваше Величество вникнуть, — сказал граф, — что все покупается, всякий союз есть купля, и чем менее ценен предмет, который уступают, тем выгоднее сделка. Положение Австрии в Италии и прежняя итальянская политика, достоинство которой подлежит сильному сомнению, пали вместе с Ломбардией. Венеция значит уже очень мало, и в сущности есть не что иное, как препятствие к союзу с Италией.
— Вы считаете союз с Италией возможным? — спросил с удивлением император.
— Почему же нет? — ответил граф Менсдорф. — Когда у Италии будет все что есть итальянского, тогда у нее не будет враждебных Австрии интересов, и она скорее вступит в союз с нами, чем с Францией, с которой ей раньше или позже придется вступить в борьбу из‑за первенства между нациями романской расы.
— А изгнанные эрцгерцоги? А глава Церкви? — спросил император. — Нет, я этого не могу, — прибавил он. — Что скажет мой дядя, который спит и видит показать итальянцам острие австрийского меча, что скажет весь мой дом, история, что скажут в Риме? А когда Италия будет разбита, — продолжал он, помолчав с минуту в раздумье, — когда в Германии мы поднимемся на прежнюю высоту, тогда, пожалуй, можно завести переговоры и о Венеции, если этим пожертвованием получится гарантировать безопасность святого отца и неприкосновенность наследия святого Петра!
— Когда Ваше Величество будет победителем в Германии, — отвечал Менсдорф, — тогда нам не будут нужны никакие переговоры с Италией. Но…
Тут раздался стук в дверь.
Вошел дежурный флигель‑адъютант.
— Депеша к Вашему Императорскому Величеству от фельдцейхмейстера. — И он тотчас же вышел.
Взгляд императора вспыхнул, когда он дрожащей рукою разорвал конверт телеграммы.
— Сражение, может быть, — прошептал он. Глаза его с лихорадочным нетерпением пробежали короткие строки.
Франц‑Иосиф побледнел как смерть и, уставясь в бумагу, которую неподвижно держал перед собою, рухнул на простой деревянный стул перед столом.
Наступило короткое молчание, император тяжело дышал.
Менсдорф с крайней тревогой смотрел на государя, но не решался прервать тяжелого раздумья, в которое его повергло полученное известие.
Наконец император поднялся.
— Депеша от Бенедека, — бросил он.
— Что же сообщает фельдцейхмейстер? — осторожно спросил Менсдорф.
Император ударил себя рукою в лоб.
— Армия не готова. Он умоляет во что бы то ни стало заключить мир, не дожидаясь его дальнейших сообщений.
— Да не подумает Ваше Величество, — сказал граф Менсдорф, печально улыбаясь, — что я состою в заговоре с фельдцейхмейстером. Уж если он находит армию неготовой к борьбе, которая нам предстоит, а он располагает полным доверием общественного мнения… — граф Менсдорф сказал это с тонкой, чуть заметной усмешкой, — стало быть, в основании моих соображений лежал серьезный мотив.
Император с силой дернул золотой колокольчик, стоявший на столе. Вошел камердинер.
— Князя Лихтенштейна сюда! — воскликнул государь.
В следующую же секунду флигель‑адъютант стоял перед ним.
— Я попрошу графа Кренневилля тотчас же пожаловать ко мне. Кто в приемной?
— Фельдмаршал барон Габленц со своим начальником штаба и адъютантами, — доложил князь Лихтенштейн.
— Очень хорошо, — сказал император. — Пусть сейчас же войдет.
Через минуту князь ввел генерала и его свиту. Барон Габленц подошел прямо к императору и произнес:
— Я желал представиться Вашему Величеству перед отправлением в армию и всеподданнейше поблагодарить за оказанное мне доверие командовать десятым корпусом.
Император отвечал милостиво:
— Это доверие, любезный барон, вполне заслужено, вы его оправдаете новыми лаврами, которыми украсите австрийские знамена.
Барон Габленц представил полковника Бургиньона, своих адъютантов и Штилова.
Император обратился к каждому с несколькими любезными словами, в свойственной ему приветливой и обязательной манере.
У Штилова он спросил:
— Вы мекленбуржец?
— Точно так, Ваше Величество.
— Ваше сердце раздвоится, так как я боюсь, что ваше отечество, вынужденное положением, встанет на сторону наших противников.
— Ваше Величество, — отвечал молодой офицер задушевным тоном, — пока я ношу этот мундир, мое отечество там, где развеваются ваши знамена. Мое сердце принадлежит Австрии.
И он коснулся ладонью груди, где под мундиром таилась полученная накануне роза.
Император милостиво улыбнулся и положил руку на плечо молодого человека.
— Радуюсь, что фельдмаршал выбрал вас, и надеюсь услышать о ваших подвигах.
Князь Лихтенштейн отворил дверь со словами:
— Фельдмаршал граф Кренневилль.
Генерал‑адъютант императора вошел в полуформе своего звания. Его изящное лицо французского типа, с небольшими черными усами и умными темными глазами, не позволяло, благодаря своей живости, подозревать, что генерал успел уже прожить пятьдесят лет.
— Вашему Величеству угодно было видеть меня? — сказал он.
— Благодарю вас, господа! — император обратился к свите барона Габленца. — Надеюсь, поход даст вам случай оказать новые услуги мне и отечеству. Прошу вас остаться, барон.
Бургиньон, адъютанты и Штилов вышли.
Император развернул депешу, которую все время не выпускал из рук, и сказал:
— Вот только что полученная телеграмма, по поводу которой я желаю выслушать ваше мнение. Фельдцейхмейстер, — продолжал он с легкой дрожью в голосе, — просит меня заключить мир, так как армия не готова к войне.
— Это невероятно! — вскричал граф Кренневилль.
— Что вы на это скажете, барон Габленц? — спросил император у спокойно и молча стоявшего генерала.
Тот немного помедлил с ответом.
Франц‑Иосиф не сводил с него глаз.
— Ваше Величество, — начал генерал, — просьба фельдцейхмейстера должна иметь серьезное основание: он вообще не боится никакой опасности, и в его характере больше безрассудной смелости, чем обдуманной предусмотрительности.
— Храбрая и блестящая армия Вашего Величества не готова к войне?! — вскричал граф Кренневилль с живостью. — Чем же фельдцейхмейстер мотивирует это мнение?
— Он обещает его мотивировать, — сказал император.
Граф Кренневилль пожал плечами.
— А мир еще можно заключить? — спросил барон Габленц.
— Если я хочу навсегда обречь Австрию на второстепенное место в Германии или вовсе исключить из Германии, то да! Если хочу дать Пруссии двойной реванш за Ольмюц, то да. Иначе — нет!
Граф Кренневилль пристально посмотрел на фельдмаршала, который стоял в мрачном раздумье.
— Ваше Величество, — начал он наконец спокойным, внушительным тоном, — никто не знает лучше меня силу нашего противника. Я стоял в поле вместе с пруссаками и хорошо знаком с их материальным и нравственным могуществом. Оба громадны: вооружение их превосходно и игольчатые ружья — страшная вещь. Если б нам пришлось совсем одним сопротивляться Пруссии, меня бы серьезно тревожил исход борьбы. Но теперь меня успокаивают наши германские союзники.
— Союзная армия! — сказал Менсдорф.
— Не отдельные контингенты имеют, по‑моему, вес в военном отношении, — продолжал барон Габленц, — а то обстоятельство, что эти отдельные армии раздробят прусское войско и наш противник будет принужден к сложному ведению войны. Останься я в Ганновере, эта комбинация была бы еще вернее, однако и без того Пруссии придется сражаться очень разбросанными силами, тогда как мы можем действовать концентрированно. В этом, Ваше Величество, залог моего спокойствия, в этом мои надежды на успех, который все‑таки не может быть завоеван без тяжелых усилий! Вот моя точка зрения как генерала. О состоянии армии, о ее неподготовленности к войне я судить не берусь, пока сам своими глазами не видел ее и не взвесил оснований, побудивших фельдмаршала высказать такое мнение. Что касается политических соображений, то в этом я не судья и не думаю, чтобы Ваше Величество стали от меня требовать того, за что я не берусь. Позволю себе высказать только одно: если затронута честь Австрии, я против отступления — даже проигранное сражение не может причинить столько вреда, как отступление, совершенное до того, как обнажен меч.
Генерал замолчал.
Глубокое безмолвие водворилось на несколько минут в кабинете.
— Господа, — заговорил император, — вопросы, подлежащие моему разрешению, так серьезны, что требуют самого глубокого внимания и нескольких минут полной сосредоточенности. Через час я приду к окончательному решению и дам вам, граф Кренневилль, ответ для фельдцейхмейстера. И вы тоже, граф Менсдорф, получите через час ответ на вопрос, который поставили передо мной раньше.
Оба графа поклонились.
— Предложение союзу мобилизовать непрусские союзные войска должно быть сделано немедленно, как было угодно приказать Вашему Величеству? — спросил граф Менсдорф, складывая свои бумаги.
— Конечно, — сказал император, — необходимо, чтобы германские государства показали определенные цвета и чтобы союзные силы были выдвинуты в поле. Я согласен с бароном Габлендом, что в этом заключается большая часть нашей силы.
И приветливым движением головы он отпустил обоих графов, затем подошел к фельдмаршалу Габленцу, подал ему руку и сказал:
— Ступайте с Богом, — да благословит Он ваш меч и да ниспошлет мне случай снова быть вам признательным!
Генерал склонился к руке императора и произнес глубоко взволнованным голосом:
— Моя кровь и моя жизнь принадлежат Вашему Величеству и Австрии!
Франц‑Иосиф остался один.
Он сделал несколько быстрых шагов по комнате, потом сел на стул перед письменным столом и порывисто отбросил в сторону лежавшие перед ним бумаги, не обращая внимания на их содержание.
«Ужасное положение! — думал император. — Все мои чувства рвутся разрешить это общегерманское недоумение, избавить Австрию от этой заразы, грызущим червем подтачивающей ее сердце, препятствующей ее развитию и возвышению… Кровь моего рода зовет поднять перчатку, так издавна бросаемую то с злобной насмешкой, то со страшной угрозой этим опасным, смертельным врагом моей семьи! Меня призывает голос моего народа, но мои министры советуют мне отступить, а мои генералы колеблются в решительную минуту! Неужели правда то, что черным призраком поднимается с глубин моей души в тяжелые минуты? Неужели я в самом деле предназначен судьбой принести несчастье моей милой, прекрасной, дорогой Австрии, славному наследию моих великих предков?! Неужели моему имени суждено соединиться в истории с моментом угасания габсбургской звезды, с эпохой упадка империи?»
Он мрачно уставился глазами в пространство.
«О, если б ты был возле меня! Ты, великий муж, который так долго и славно стоял у кормила Австрии, со своим твердым, благородным сердцем, с своим светлым взглядом и непоколебимой волей — ты, о спокойную, гордую силу которого разбился демонический гигант, наложивший цепи на весь мир! О, если бы у меня был Меттерних![47] Что бы мне посоветовал этот свободный, богатый ум, которого никто не понимал и никто до сих пор не понимает, потому что между его внутренней жизнью и внешним миром стояло гордое изречение Горация: „Odi profanum vulgus et arceo“?!»[48]
Быстрым, резким движением государь схватил колокольчик.
— Сейчас же пригласите ко мне Клиндворта, — приказал он вошедшему камердинеру. — Пускай его поищут в государственной канцелярии.
Камердинер вышел.
«Это единственное существо, — продолжал думать император, — уцелевшее от тех великих времен старой Австрии, когда в государственной канцелярии сходились нити всей европейской политики, когда ухо Меттерниха присутствовало во всех кабинетах, и рука его направляла решения всех дворов. Правда, он был только агентом великого государственного мужа, не поверенным его замыслов, не Генцем, нет, он далеко не Генц! Но Клиндворт работал в той гениальной машине, его острый, проницательный ум понимал, угадывал общую идею или, по крайней мере, подозревал ее! Когда он со мною говорит, мне кажется, что передо мной воскресает то старое, великое, удивительное время, и мне кажется, мне мнится, что сказал бы и сделал Меттерних, если бы сейчас стоял на стороне габсбургского дома… У меня есть воля, есть силы работать, смелость сражаться — отчего же так трудно решать!»
И император, сжав голову обеими руками, погрузился в глубокое раздумье.
Камердинер отворил дверь из внутренних покоев и доложил:
— Господин Клиндворт к услугам Вашего Величества!
Франц‑Иосиф поднял голову.
В открытых дверях показался тот удивительный человек, который начал свою карьеру школьным учителем в окрестностях Гильдесгейма, короткое время играл официальную роль в качестве государственного советника при дворе герцога Карла Брауншвейгского, а после трагикомического падения этого государя начал своеобразную деятельность в роли одного из деятельнейших и способнейших агентов Меттерниха, которая ставила его в близкие отношения со всеми министрами и государями Европы, вовлекала во все важнейшие политические комбинации, причем он с большим искусством умел создать вокруг себя такой мрак, что только самые осведомленные политики в Европе видели его или имели с ним личный контакт.
Член государственного совета Клиндворт был старик почти семидесяти лет, широкоплечий и плотно сложенный. Почти вдавленная между плеч, слегка нагнутая голова с совершенно коротко остриженными, почти седыми волосами отличалась тем из ряда вон выходящим уродством, которое так же влечет и приковывает взгляд, как необычайная красота — даже почти сильнее. Маленькие глаза светились зорко и проницательно из‑под густых седых бровей и, казалось, хотели и могли быстро бегающим взглядом, никогда в другие глаза прямо не падавшим, разом схватить все, что в его кругозоре оказывалось достойным внимания.
Большой, широкий рот с тонкими, бесцветными губами был плотно сжат и посередине почти закрыт скрюченным, большим и толстым носом, который в нижней своей части расширялся до совершенно невероятных размеров.
Он носил длинный, наглухо застегнутый коричневый сюртук и белый галстук, и походил внешне скорее на удалившегося от дел рантье, чем на бывшего искусного политического агента. Тонко изощренное продолжительной политической карьерой уменье никогда не выставляться напоказ, всегда держаться в тени и на заднем плане, сказывалось во всей его наружности: трудно было представить себе личность более скромную и незаметную.
Член совета вошел, низко поклонился и сделал к императору два или три шага. Затем остановился и, не произнося ни слова, застыл в почтительной позе, тогда как зоркий взгляд его глаз, скользнув по лицу монарха, тотчас же опустился вниз.
— Я пригласил вас, любезный Клиндворт, — начал Франц‑Иосиф, слегка наклонив голову, — потому что желаю знать ваше мнение о положении, в котором я нахожусь. Вам известно, что я охотно сверяюсь с вашим умом, живущим воззрениями минувшего, великого времени.
— Ваше Императорское Величество слишком милостиво, — отвечал Клиндворт тихим, но отчетливым и внушительным голосом. — Все богатство моего опыта, собранное в течение долгой политической жизни, всегда готово к услугам Вашего Величества и, как говорил мой великий учитель, князь Меттерних, прошедшее есть лучшая мерка, вернейший барометр для настоящего. Ошибки прошлого видны со всеми их последствиями и результатами, и учат избегать тех промахов, в которые может ввести настоящее.
— Совершенно справедливо, — сказал император, — совершенно справедливо. Только в прошедшем, в ваше время, делали меньше ошибок… Однако какую же ошибку вы считали бы опаснейшей из всех, в которые может впасть настоящее?
Не колеблясь, член совета отвечал, бросив быстрый взгляд прямо в лицо императору:
— Нерешительность, Ваше Величество.
Император озадаченно посмотрел на него.
— И вы опасаетесь, что такая ошибка может быть совершена? — спросил он.
— Боюсь, она уже сделана! — отвечал член совета.
— Кем?
— Почему Ваше Императорское Величество оказывает мне высокую честь выслушивать меня? — спросил член совета, вместо того чтобы отвечать на вопрос. — Вашему Величеству угодно выслушать мое скромное мнение, потому что оно, упав на чашу весов, пусть и не тяжелее песчинки, даст Вашему Величеству возможность прийти к какому‑нибудь окончательному решению. Стало быть, Ваше Величество еще не пришло к таковому решению.
И он скорчил еще более смиренную мину, чем прежде.
Франц‑Иосиф улыбнулся.
— Вы умеете читать мысли собеседника, и против вашей диалектики ничего не поделаешь. Хорошо, — продолжал он, — если я еще не решился, то в этом нет беды, нет ошибки, потому что только теперь наступает момент решения!
— Прикажете, Ваше Величество, говорить без всякого стеснения? — спросил член совета.
— Конечно, — отвечал государь и тоном невыразимого высокомерия прибавил: — Для пустых разговоров я бы вас не стал звать.
Клиндворт сложил руки на груди и слегка забарабанил пальцами правой руки по тыльной стороне левой ладони.
Затем он заговорил медленно и с некоторыми паузами, наблюдая за действием своих слов:
— По твердому моему убеждению, я не могу разделить мнения Вашего Величества о том, что именно теперь наступил момент принятия решения.
Император посмотрел на него с удивлением.
— Когда же, по‑вашему, был этот момент? — спросил он.
— Когда Пруссия еще не заключала союза с Италией, когда Италия еще не была вооружена, а Пруссия не закончила своих приготовлений. Вашему Величеству было угодно довести до крайности великий разлад, Вашему Величеству угодно было возложить императорскую корону во Франкфурте, после того как граф Рехберг несколько преждевременно сервировал там le boeuf historique[49]…
Император нахмурил брови.
Не изменяя тона, член совета продолжал:
— Но вы, Ваше Императорское Величество, слишком рано разоблачили свои намерения и пропустили лучший момент, — удар должен был грянуть неожиданно, и противника следовало застигнуть врасплох. Этот продолжительный обмен депешами напоминает мне троянских героев, которые сперва произносили длинные речи и рассказывали свою генеалогию, а потом уже принимались метать копья. Разногласие — вызов, и тут же войска Вашего Величества должны были очутиться в Саксонии! Так мне представлялось дело. Теперь же наоборот. Саксонская армия придет в Богемию, иначе негде драться, то есть театр войны будет перенесен на родную почву. Вот это, Ваше Величество, я называю нерешительностью — злейшие ее результаты у нас налицо и с каждым днем будут умножаться.
Франц‑Иосиф слушал.
— Разве вы не думаете, что Пруссия испугается войны и отступит перед последним шагом? — спросил он.
— Нет, Ваше Величество, — отвечал член совета, — этого не будет — граф Бисмарк на такое не способен.
— Но король — ведь он против войны? Говорят об удалении Бисмарка в последний момент…
— Я этому не верю, Ваше Величество, хотя, впрочем, относительно прусского короля мне недостает личных данных для суждения. Я знал Фридриха‑Вильгельма Четвертого, знал императора Николая и знаю Наполеона. Я мог бы, даже при моих скудных познаниях души человеческой, сказать, что те почившие государи или Наполеон Третий могли бы так поступить. Короля Вильгельма я никогда не видел близко, — тут в голосе его прорезалась нотка горечи. — Что он может предпринять, я, стало быть, могу только предполагать на основании тех сообщений, которые получал.
— Что же вы предполагаете? — спросил Франц‑Иосиф.
— Я предполагаю, что король не отступит и будет драться. Вильгельм не молод, и потому не расположен к войне ввиду ее тягостных последствий. Он Гогенцоллерн, а все Гогенцоллерны питают известное традиционное почтение к дому Габсбургов, поэтому особенно не расположен к войне с Австрией; но это человек с характером, солдат, поэтому предпочтет войну отступлению, опасаясь, что оно сделало бы посмешищем ту военную организацию, которой он добился путем такой тяжкой борьбы. Король Вильгельм будет драться, не отступит перед угрозой, поэтому угроза была ошибкой и нерешительность приносит свои плоды.
— Но если уже ошибка сделана, как ее поправить? Ошибку может допустить каждый государственный человек. Великое искусство в том, чтобы своевременно исправлять ошибки. Что же теперь может помочь?
— Быстрое решение и быстрое действие, — отвечал Клиндворт.
— Но… вы не знаете, — сказал, запинаясь, император, — граф Менсдорф…
— Я все знаю, — отвечал, улыбаясь, Клиндворт. — Граф Менсдорф болен, а больные люди всегда нерешительны.
— А что сделал бы Меттерних, человек спокойный и осторожный? — спросил император не то сам себя, не то Клиндворта.
— Меттерних, во‑первых, никогда не довел бы дела до такого положения, — отвечал тот. — Но если бы он в настоящую минуту председательствовал в государственном совете, полки Вашего Величества уже сейчас стояли бы в Дрездене и в Ганновере.
— Но Бенедек…
— Бенедек, Ваше Величество, — прервал Клиндворт императора, — в первый раз оказался перед большой ответственностью, и до сих пор не начал действовать. Это его подавляет.
— Но он говорит, — вырвалось у монарха почти невольно, — что армия не готова к войне.
— Она, конечно, не сделается более готовой, если будет лежать на боку в Богемии. Прикажите начать драться — и солдаты будут драться, — отвечал непоколебимо Клиндворт.
Император заходил взад и вперед. Член совета стоял неподвижно, и только серые глаза его внимательно следили за движениями императора.
Вдруг государь подступил к нему совсем близко.
— Вы знаете о французском предложении? — спросил Франц‑Иосиф.
— Союз за уступку Венеции, — сказал Клиндворт.
— Что же вы об этом думаете?
— Думаю, что это в высшей степени неприятно Вашему Величеству, и это совершенно естественно.
— Вопрос не в том, что мне приятно или неприятно, — поморщился император, — а в том, что полезно в политическом отношении.
— В политическом отношении этот союз представляет собой nonsens[50], — отвечал Клиндворт.
— Почему? Граф Менсдорф приводил мне доводы, которые, признаюсь, произвели на меня сильное впечатление.
Глаза старика сверкнули резко, он немного выпрямился из своего согбенного положения и, забарабанив быстрее пальцами, заговорил живее и громче прежнего:
— Все политические принципы против этого союза — при предлагаемых условиях. Может быть, — я это допускаю, — что перед такой коалицией Пруссия отступила бы, но насколько? Достигло ли бы Ваше Величество того, чего желает? Нет, это просто означает отложить конфликт в долгий ящик, и Пруссия в конце концов останется в выигрыше. Мало того, я думаю, что в Берлине не побоялись бы даже французского союза и все‑таки пошли вперед. И что тогда? Если даже Ваше Величество победит, то все‑таки цель не будет достигнута. Неужели Ваше Величество думает, что император Наполеон потерпит главенство Австрии над твердо сплоченной Германией? Никогда! А если Ваше Величество потребует полной цены победы, то придется ее добыть только новой войной с этим союзником, который не задумается подать руку побежденному врагу. Стало быть, польза союза весьма сомнительна, особенно еще потому, что Франция неспособна ни к какому военному усилию.
— Верно ли это? — спросил озадаченный император.
— Вашему Величеству известно, — отвечал с твердостью Клиндворт, — что я осторожен в положительных заверениях и обладаю источниками сведений, которые всегда оказывались благонадежными. Франция не может выставить и ста тысяч штыков.
Император молчал.
— Если польза этого союза сомнительна, — продолжал Клиндворт, — то, наоборот, в двух отношениях вред от него может быть весьма значителен.
Франц‑Иосиф посмотрел на него с удивлением.
— Во‑первых, французский союз сильно скомпрометирует положение дома Габсбургов и Австрии в Германии. Если даже Ваше Величество будет иметь успех, все‑таки общественное мнение Германии станет видеть в Пруссии национального мученика, которому пришлось потерпеть поражение от исконного врага немецкой нации. Это послужит громадной поддержкой для Пруссии и почвой, на которой она впоследствии возобновит войну при лучших условиях.
— Но ведь общественное мнение Германии за меня, — заметил император.
— Отчасти, — отвечал Клиндворт, — но не за Францию. Ваше Величество, я не принадлежу к той партии, которая превозносит модную национальную политику, для Австрии в ней кроется величайшая опасность. Я по своим убеждениям принадлежу к тому времени, когда равновесие поддерживалось мудрым распределением больших и малых государственных тел, когда держались воззрения, что искусно связанный пучок прутьев крепче грубой дубины, но национальное чувство не следует бить по лицу, особенно после того, как оно, к сожалению, к крайнему сожалению, германскими съездами и тому подобными демагогическими средствами, которые всегда оставляют правительство в дураках, доведено до искусственного и лихорадочного возбуждения. Все эти представители Южной Германии, Баварии, теперь с жаром и горечью пишущие и говорящие против Пруссии, перейдут в ее лагерь при вести о союзе с Францией. Я знаю furor teutonicus[51], Ваше Величество; прежде, бывало, мы держали ее на привязи, теперь разнуздали и раззадорили. Если при таком настроении узнают о французском союзе, Германия примкнет к Пруссии.
Император слушал чрезвычайно внимательно. То, что говорил Клиндворт, отвечало, казалось, его собственным мыслям, и улыбка заиграла на его губах. Советник заметил это.
— Кроме того, Ваше Величество, — продолжал он, — я считаю этот союз в высшей степени вредным вследствие той жертвы, которой он будет куплен[52].
— Разве вы придаете обладанию Венецией такое большое значение? — участливо спросил император.
— Собственно обладанию Венецией я не придаю особенного значения, но здесь речь идет о принципе, который чрезвычайно важен в моих глазах. Добровольной, скрепленной трактатом уступкой Венеции Ваше Величество не только торжественно признало бы все, что было сделано в Италии до сих пор против дома Габсбургов, против законной власти и Церкви, а также и то, что может быть впоследствии сделано против этих факторов, на которых зиждятся сила и могущество Австрии. Я намекаю на расхищение наследия святого Петра, секуляризацию[53] святого престола в Риме. А это было бы отречением Австрии.
Император сказал с живостью:
— То же самое подсказывают мне мои чувства. Но неужели вы думаете, что я вообще буду когда‑нибудь в состоянии остановить ход событий в Италии, что у меня появится возможность вернуть утраченное?
— Думаю, — отвечал твердо Клиндворт.
Император был озадачен.
— Если б я оказался победителем в Германии, то сомневаюсь, чтобы Германия предприняла римский поход, — заметил император.
— Да в этом не будет никакой надобности, — отвечал Клиндворт, — ведь говорят: Italia fara da se, — eh bien[54], пусть итальянцы сами с собой расправляются.
И с тихим смехом он потер руки.
— А что может Италия сделать? — спрашивал настойчиво император. — Это вы знаете?
— Мое ремесло все знать, — сказал член совета. — Но я позволю себе только несколько коротких замечаний: Италия подпала под власть савойского дома и демагогов, потому что Австрия была побеждена при Сольферино.
— Только не Италией! — прервал император.
— Конечно, нет, но тем не менее, она была побеждена и революция[55] оказалась всемогущей, — защитники же закона бессильны и, главное, разъединены. С тех пор свершилось многое — урок пошел на пользу. Крепкая невидимая связь существует между всеми стоящими за право и религию, и на них почиет апостолическое благословение. То, что было разрушено карбонариями революции, будет воссоздано карбонариями Права и Долга. Но как тем помог победить внешний толчок, так и эти ждут, чтобы австрийский меч проделал первую брешь в этой крепости бесправия и нечестия. Одержи Австрия победу над войсками венчанной революции, и Италия будет объята пламенем, начнется крестовый поход против творения Кавура и поход этот увенчается победой.
Император слушал в сильном волнении. Подойдя совсем близко к Клиндворту, он спросил:
— Что это, ваши фантазии?
— Нет, Ваше Величество, это факты, которые я могу доказать.
— Когда? Где?
— В пять минут, здесь, в кабинете Вашего Величества.
— Так доказывайте!
— В таком случае, я прошу всемилостивейшего позволения ввести сюда персону, которой все известно и которую я пригласил с собой, предвидя направление нашей беседы. Этот человек ждет внизу.
Франц‑Иосиф с удивлением посмотрел на него.
— Кто это? — спросил он.
— Граф Риверо.
Император подумал и, видимо, старался связать это имя с каким‑нибудь воспоминанием.
— Позвольте, не был ли в прошлом году римский граф Риверо представлен ко двору нунцием?[56]
— Точно так, Ваше Величество. Но, кроме того, я прошу обратить внимание на то, что граф Риверо — неутомимый боец за право и Церковь, который под величайшим секретом приготовил обширное восстание, способное разрушить козни нечестивых. Он могущественный представитель всех тех элементов, которые, будучи крепко связаны невидимыми нитями, в настоящую минуту готовы к бою.
— Чем он себя легитимирует?[57] — спросил император, колеблясь между любопытством и недоверием.
Клиндворт вынул из кармана запечатанное письмо и передал императору.
— Из дворца Фарнезе? — Император торопливо разрывал конверт. — От моей невестки!
Он пробежал письмо глазами и сказал:
— Введите сюда графа.
Клиндворт удалился с низким поклоном.
— Какое счастье, что я позвал этого человека! — воскликнул император. — Неужели в самом деле найдется возможность спасти величие моего дома?
Через несколько минут вернулся Клиндворт, вместе с ним вошел граф Риверо, хранивший то же сановитое спокойствие, с каким сидел в будуаре фрау Бальцер и стоял под пулей Штилова.
С уверенностью, легким и твердым шагом, в которых сказывалась привычка ко двору, он сделал несколько шагов к императору, низко поклонился и устремил на него взгляд спокойных ясных глаз.
Император посмотрел на него внимательно и произнес:
— Мне помнится, я видел вас в прошлом году при дворе, граф?
— Весьма лестно, что Ваше Императорское Величество изволите это помнить, — сказал граф своим мягким и мелодичным голосом.
— Вы из Рима? — спросил император.
— Из дворца Фарнезе, Ваше Императорское Величество.
— И что вас побудило сюда приехать?
— Желание предложить Вашему Величеству мои услуги в великой борьбе, предстоящей Австрии.
— Моя невестка рекомендует вас как человека, достойного полного доверия.
— Я надеюсь его заслужить, — отвечал граф, скромно кланяясь и без всякой самонадеянности в голосе.
— Чем вы думаете быть мне полезным? — спросил император.
Граф отвечал на вопрошающий взгляд императора взглядом открытым, гордым и сказал:
— Я предлагаю Вашему Императорскому Величеству содействие великой невидимой силы, священной лиги права и религии.
— Объясните мне, что такое эта лига и что она может сделать?
— Я расскажу Вашему Величеству, как возникла лига, тогда вы поймете, что она такое и на что она способна. Когда после сильных ударов, от которых распалась австрийская армия в Италии, волна революции, под предводительством савойского дома, разлилась по Италии и возложила на голову короля Виктора‑Эммануила[58] ту корону, которая должна изображать переход к красной республике, тогда все носившие в сердце право и религию и готовые постоять за Святую Церковь были поражены и рассеяны, утратив способность к стойкому сопротивлению. Неправое дело быстро совершилось, и даже император Наполеон, мечтавший о совершенно иной Италии, не мог положить преграды им же самим спущенным с цепи злым духам. За пароксизмом лихорадки последовало изнеможение. Но за изнеможением пришла реакция. В Риме, во дворце короля Франциска, этого скромного, но в своей простоте истинно великого героя, который пушками Гаэты заявил свой протест против возмутительного насилия, сошлись вместе первые люди и сказали: зло победило потому, что этого хотели негодяи, действовавшие сообща. Почему же не восторжествовать снова правде, на стороне которой стоит Господь, если решительные и мужественные люди тоже сольют свои силы в общем труде, собрав вокруг себя всех слабых? За этим признанием последовало решение, за решением — действие. Король Франциск одобрил проект и выполнение, а героическая невестка Вашего Императорского Величества превратила чистый огонек благородного и доброго намерения в яркое пламя энтузиазма. По всей Италии стали возникать комитеты. Мужчины и женщины высоких правил примкнули к лиге, и вскоре в нее влились тысячи. Люди, преданные королю, работают при европейских дворах: в Париже умный и осторожный Канофари; граф Чито ездит по Европе. Мы в курсе всего, что происходит, Галотти организует Неаполь и Сицилию. Влияние сочленов лиги на массы громадно, оружие спрятано в надежных местах, и мы в настоящую минуту имеем под рукой силу, которая по одному мановению способна зажечь Италию пламенем от Альп до оконечностей Сицилии.
— Как относится Римская курия к вашему делу? — поинтересовался император.
Граф Риверо отвечал:
— Святой отец не может принять непосредственного участия в предприятии, вершащим светские дела, но его апостольское благословение, несомненно, на тех, кто трудится над восстановлением его мирских и духовных прав. Все духовенство содействует лиге всеми зависящими от него средствами.
— А как собирается действовать эта лига? Чего она надеется достичь? — продолжал вопросы император.
— Ваше Величество, мы ожидаем взрыва великой войны, которую Австрия готова начать для восстановления своего древнего могущества и величия. Трудно говорить об успехах на севере, но в Италии мы уверены в австрийской победе. Мы не можем ничего предпринять одни, потому что против нас регулярное войско, до которого мы еще не доросли, но как только оно столкнется с австрийской армией, как только будет нанесен первый удар, мы подадим сигнал и за спиной у солдат Виктора‑Эммануила поднимется Италия, сардинские полки будут прогнаны и законные государи вернутся в свои земли. Войскам Вашего Величества придется занять только Ломбардию, и она снова будет вам принадлежать.
— А Наполеон? — спросил император.
— Я имею основание предполагать, что он не без удовольствия увидит, как сардинская Италия итальянскими же усилиями распадется — он уже теперь недоволен творением рук своих. Кроме того, его вмешательство подоспеет слишком поздно.
— И вы думаете, что Италия отдаст моему дому даже Ломбардию?
— Да, Ваше Величество, — отвечал граф, — при условии…
— А условие?
— Ваше Величество, — сказал граф, — все мы, работающие над великим делом, — итальянцы, и хотим иметь счастливую, сильную Италию. Мы чаем создания Ломбардо‑Венецианского королевства на севере нашего полуострова, как кровь от нашей крови и плоть от нашей плоти. Мы хотим поэтому отдать Ломбардию Вашему Императорскому Величеству и дому Габсбургов — но не Австрии.
— Как же вы нас разделяете? — спросил император, немного обиженно.
— Я думаю, — отвечал граф, — что это разделение свидетельствует о глубоком уважении, которое мы питаем к великому императорскому дому. По моему мнению — и на его стороне стоит история, — в великой Австрии есть только одно действительно твердое связующее начало, это — император с армией.
Франц‑Иосиф почти невольно склонил голову.
— Для Италии, — продолжил граф, — это несомненная истина. Никто в Ломбардии, или Венеции, или во всем остальном моем отечестве не имеет ничего против владычества габсбурского дома, национальное чувство оскорблялось только введением немецких полков. Позвольте вашим итальянским подданным оставаться итальянцами — и все недоразумения исчезнут.
Император молчал, не вполне уловив мысль.
— Позвольте мне, Ваше Императорское Величество, — продолжил граф, — развить картину, стоящую перед моими внутренними очами с поражающей ясностью. Я воображаю себе, как по низвержении демонических сил, угнетающих теперь мое бедное отечество, Италия становится большим и прочно объединенным организмом, подобным Германскому союзу. На юге Королевство Обеих Сицилий, в сердце священное наследие Петра, на севере, рядом с Сардинией и мелкими герцогствами, Ломбардо‑Венецианское королевство. Все эти земли, управляемые итальянскими правителями, образуют великий Итальянский союз, и Ваше Величество стоит во главе этого союза, так же как и во главе немецких земель. И когда австрийское оружие победит в Германии, римский император займет пост высокочтимого и обожаемого защитника права и вершителя судеб Европы от Сицилии до Северного моря.
Глаза Франца‑Иосифа вспыхнули.
— Меня в высшей степени интересует то, что вы говорите, любезный граф, и я рад случаю, доставившему мне возможность слышать вас. Ваши планы отвечают желаниям, которые я лелею в сердце как потомок моих предков и глава моего дома.
— Стало быть, Ваше Величество согласны принять наши услуги и помочь нам? — спросил граф.
— Да, — сказал император.
Граф колебался с минуту, потом устремил твердый взгляд на императора.
— А автономия Итальянского королевства? — спросил он.
— Мое слово в залог, — отвечал государь.
Риверо поклонился.
— А вы, граф, — спросил император, — какую роль будете играть в великой драме?
— Я остаюсь теперь здесь, — отвечал граф Риверо, — чтобы следить за ходом дел и подать сигнал в данный момент. Я всегда к услугам Вашего Императорского Величества.
— Вы оказали мне большую услугу вашим сообщением, — сказал Франц‑Иосиф, — и спасли меня, — тут он обратился к Клиндворту, — быть может, от ошибки. Я надеюсь, любезный Клиндворт, что с нерешительностью покончено. Теперь, — вскричал он с живостью, — к делу во всех направлениях! Я чувствую мужество и уверенность и надеюсь, старая поговорка снова оправдается: «Austria est imperatura orbi universo!»[59].
— Ad majorem dei gloriam![60] — произнес граф тихим голосом.
Император наклонил голову и крикнул итальянцу, уходившему с Клиндвортом и в дверях еще раз поклонившемуся:
— До свидания!
Затем государь сел к письменному столу и быстро набросал две записки, которые запечатал гербовым перстнем. Он позвонил камердинеру и велел позвать флигель‑адъютанта.
— Любезный князь, — сказал весело император вошедшему князю Лихтенштейну, — отошлите эти записки сию же минуту Кренневиллю и Менсдорфу.
Князь взял письма и молча удалился.
— Теперь, — сказал император, вставая и поднимая кверху сияющие глаза, — теперь конец нерешимости. И да сохранит Бог Австрию!
Глава девятая
Приветливое послеобеденное солнце светило над тихим пасторатом в Блехове. На клумбах тщательно расчищенного сада цвели розы, просторный холл с ведущими во двор дверями был усыпан песком. В большой гостиной, скромно и со вкусом убранной, сидели за столом, покрытым снежно‑белой скатертью, пастор Бергер, его дочь и кандидат Берман.
Елена варила кофе в хорошеньком фарфоровом кофейнике, душистый аромат наполнял комнату, и ни одна дама в салоне высшего круга не сумела бы с более естественной прелестью выполнять этот сложный ритуал.
Напротив нее в большом удобном кресле сидел пастор Бергер в своем обычном черном сюртуке, которого он, по обычаю доброго старого времени, даже и дома никогда не заменял халатом. Единственная роскошь, которую позволял себе священник, была черная бархатная шапочка, придававшая его внешности характер домашнего уюта.
Между ними сидел молодой кандидат, тоже весь в черном, тоже в белом галстуке, но сюртук его не был такого старомодного покроя, как у дяди.
Пастор устроился поудобнее и сложил руки на груди.
— Сколько очарования, — произнес он глубоко взволнованным голосом, — в Божьем помазаннике, который может одним словом так осчастливить и который это так охотно делает, как наш всемилостивейший король! Подданные для него не плательщики податей, они чувствующие существа, живые души. И где бы его королевское сердце ни встретило человека, радующегося или страдающего, всюду оно отзовется с человеческим пониманием. О, как все это иначе в республиках! Там царствует закон, мертвая буква, холодное большинство, случай! И в больших монархиях правитель стоит так далеко, на такой уединенной недостижимой высоте… Но здесь, у нас, в прекрасном, богатом, спокойном и скромном Ганновере, мы знаем, что наш король по‑человечески нам сочувствует!
Елена искусно сварила кофе и поднесла отцу большую чашку с надписью из розовых гирлянд: «Милому отцу».
Старик отпил глоток, и на лице его отразилось удовольствие.
— Я попрошу долить немного воды в мою чашку, — произнес кандидат спокойным, немного высокопарным голосом, — мне вреден крепкий кофе.
— Как молодому поколению все вредно и как оно любит воду! — сказал пастор. — Вода, конечно, замечательный Божий дар, но в своих пределах: хороший кофе должен быть крепок, если его назначение веселить сердце, а ведь вы теперь подливаете воду и в благородные вина, оттого‑то теперь и слышно так много водянистых слов! Надеюсь, любезный Герман, что твоя проповедь в будущее воскресенье не будет разбавлена водой, потому как наши крестьяне привыкли к сильному, немудреному слову, каким гремел наш великий реформатор[61] на страх лицемерам, на радость праведным.
Елена между тем набила отцу большую пенковую трубку табаком и поднесла вместе с зажженным фитильком.
— Ты, пожалуй, и честной дедовской трубки курить не умеешь? — заметил старик племяннику, с большим удовольствием поглядывая на свою закоптелую трубку, товарища многих лет. — Вон там есть славные сигары, которые мы с обер‑амтманом выписали из Гамбурга.
— Благодарю вас, — сказал кандидат, — я вовсе не курю.
— Как? — удивился пастор. — Впрочем, это подходит к воде. Ладно, — продолжал он серьезнее, — у каждого времени свои обычаи, только едва ли они становятся лучше. Что же, готово ли твое представление в адъюнкты?
— Нет, — отвечал кандидат, — мне обещали быстро прислать его, я не стал там ждать, потому что мне хотелось как можно поскорее познакомиться с предстоящим кругом деятельности и устроиться у своих добрых родных.
Взгляд его упал на дочь пастора, которая присела за шитье к рабочему столику у окна.
— Кроме того, консистория вроде как не особенно довольна именным повелением короля, благодаря которому состоялось мое назначение сюда в адъюнкты, — заметил молодой человек.
— Можно себе представить, — сказал старик, — каждый любит разыгрывать роль властелина и сердится, когда ему дают почувствовать высший авторитет, особенно если это состоится с ведома подчиненных. Это нарушает обаяние власти. Они не сделали тебе, однако, никаких придирок?
— Ни малейших, — отвечал кандидат, — да это было бы и невозможно, — прибавил он, самодовольно улыбаясь, — мои аттестаты в безукоризненном порядке!
— Ну, так они могут успокоиться и не оспаривать у его величества прекрасного права делать людей счастливыми и радовать сердце старого слуги, если при этом не делается ничего несправедливого и никто не обижен. Дай только Боже, чтобы эти тяжелые времена миновали благополучно и чтобы грозная туча поскорее скрылась от нас. Сколько крови прольется, если в самом деле вспыхнет война!
Елена опустила работу на колени и задумчиво посмотрела в открытое окно на цветущие розы.
Быстрые шаги приблизились к дому.
В дверь гостиной постучали, и на призыв пастора вышла молодая, бедно одетая девушка.
— Ну, что скажешь, Маргарита? — обратился к ней приветливо старик.
— Ах, батюшка! — отвечала девушка дрожащим голосом, причем по лицу ее потекли слезы. — Отец так опасно заболел и говорит, что пришла его смерть, и ему хотелось повидать вас, батюшка, — попросить у вас утешения и совета. А что будет с нашим домом и со мной, если он в самом деле умрет!
Громкое рыданье душило девушку.
Пастор встал и отложил трубку в сторону.
— Что с отцом? — спросил он.
— Он вчера очень вспотел на работе, — отвечала девушка сквозь слезы, — и простудился. Всю ночь напролет прокашлял, совсем ослаб и думает, что умрет!
— Не плачь, дитя мое, — утешал ее пастор, — может быть, все еще не так плохо. Я сейчас приду и посмотрю, что можно сделать.
Открыв большой дубовый шкаф, он вынул из него несколько баночек, сунул их в карман и надел шляпу.
— Здесь, в деревне, приходится быть отчасти врачом, — сказал Бергер племяннику, — чтобы иметь возможность оказывать и некоторую помощь до прибытия медика. Кажется, я спас уже не одну жизнь моей аптечкой, — прибавил он со счастливой улыбкой.
— Бедный папа, — вздохнула Елена, — трубка не докурена!
— Неужели ты думаешь, что бедному больному мое появление доставит не больше удовольствия, чем мне лишние затяжки табаком? — спросил серьезно отец.
— Позволь, дядя, сходить мне вместо тебя? — попросил кандидат. — Я бы, таким образом, постепенно ознакомился со своими обязанностями.
— Нет, мой милый, — отвечал пастор, — я больше всего стою за порядок: ты пока не утвержден в должности, приход еще тебя не знает, появление незнакомого может только встревожить больного. Подождите меня, я скоро вернусь.
И вместе с девушкой, отиравшей слезы, старик вышел из дома.
Кандидат подошел к окну, сперва взглянув на Елену, которая снова принялась за шитье, потом на розовые кусты и дальше, на горизонт, увенчанный лесом.
— Здесь в самом деле хорошо, — сказал он, — летом здесь, должно быть, очень приятно жить.
— О да, отлично, — отвечала молодая девушка с выражением искреннего убеждения. — Тебе здесь еще лучше понравится, братец, когда ты походишь по окрестностям. Даже однообразные сосновые леса имеют свою прелесть! — И глаза ее перенеслись на очертания бора, замыкавшего пейзаж точно рамка.
Легкая усмешка, полусострадательная‑полунасмешливая, исказила губы кандидата.
— Меня только удивляет, — сказал он, — что дядя, с его богатым умом, так часто заметным по разговору и о котором так много говорят друзья его юности, мог выжить здесь так долго, так далеко от всякой умственной жизни и от сношений с идущим вперед мировым развитием. Это одно из первых пасторских мест в стране, и при его всеми признанном административном даровании, при глубоких познаниях и связях он бы давно мог выхлопотать себе место в консистории. Для такого человека, как он, такое место послужило бы переходом к высшему: исходным пунктом блестящей карьеры. Я не понимаю, как он выносит эту жизнь среди грубых крестьян.
Елена с удивлением посмотрела своими большими глазами на кузена — его слова вливали совершенно новый, чуждый элемент в ее жизнь.
— Как ты мало знаешь отца! — сказала она. — Он любит эту милую, мирную родину, этот тихий, благодатный круг деятельности гораздо больше всяких важных постов с их заботами и принуждением!
— Но чем выше и влиятельнее положение, — возразил кандидат, — тем шире круг деятельности, тем больше добра и пользы может принести деятельная жизнь.
— Может быть, — отвечала молодая девушка, — но тогда не видишь перед собой плодов своей деятельности, не имеешь близких сношений с людьми, а я часто слышала от отца, что высшее для него удовольствие — вливать утешение и успокоение в огорченные человеческие сердца и величайшая его гордость — возвращать Богу заблудшее сердце. Но ведь и ты, братец, тоже хочешь здесь остаться, тоже, по‑твоему, зарыть себя в этом уединении?
— У меня целая жизнь впереди, — отвечал он, — я должен работать, чтобы выйти в люди, и молодость — настоящее время для труда. Но конечной целью моей жизни я ставлю деятельность более важную и широкую. — И вспыхнувший взгляд его, казалось, пронизывал даль, лежащую за пределами мирного пейзажа за окнами скромного пастората.
— А ты, Елена, — спросил он немного погодя, — разве никогда не ощущала потребности более деятельной умственной жизни, никогда не стремилась в более оживленную, людную среду?
— Нет, — отвечала она просто. — Такая среда меня бы стесняла, подавляла. Еще недавно, когда мы были в Ганновере, мне казалось, вся кровь прихлынула к моему сердцу, я не понимала что мне говорили, и ощущала бесконечное одиночество. Здесь же я все понимаю — людей, природу, здесь мне живется тепло и широко. Там, в большом городе, холодно и тесно. Мне было бы очень жаль, если бы отец уехал отсюда, но об этом не может быть и речи! — сказала она уверенно.
Легкий вздох вырвался из груди кандидата, и он задумался.
— Но зимой, когда нет прогулок, когда нет красот природы, — тогда здесь, должно быть, очень печально и безотрадно?
— О нет! Никогда, никогда здесь не бывает безотрадно! Ты не можешь себе представить, как приятно проходят здесь длинные зимние вечера, когда отец читает или рассказывает мне, а я или играю ему, или пою, и папе так отрадно дома после трудового дня!
Кандидат опять вздохнул.
— Впрочем, — продолжала она, — мы здесь не совсем лишены общества. У нас есть соседи, семейство обер‑амтмана Венденштейна. В прошлом году у них бывали даже танцевальные вечера.
— Вечера! — крикнул кандидат, всплескивая руками.
— Право! К нам приезжали из Люхова, и мы так веселились, как никогда не веселятся в Ганновере.
— И дядя позволяет тебе принимать участие в таких шумных, чисто светских увеселениях?
— Конечно! Отчего же ему не позволять?
Кандидат хотел что‑то возразить, но удержался и, немного помолчав, промолвил кротко и скромно:
— Во влиятельных кругах все более и более приходят к убеждению, что подобные развлечения не приличны семействам духовных лиц.
— Ну, так, стало быть, и великолепно, что мы здесь далеко от влиятельных кругов! — отрезала Елена холодно.
Кандидат замолчал.
— Из кого же состоит общество в замке? — спросил он, немного погодя. — Мне придется на днях туда отправиться на поклон.
— Из самого обер‑амтмана, его жены, дочерей, и еще аудитора Бергфельда, — отвечала Елена.
— Давно он здесь? — спросил кандидат, поглядев прямо в глаза кузине.
— Год, — отвечала она совершенно спокойно, — и скоро уедет, а на его место назначен другой. У амтмана всегда работает какой‑нибудь молодой аудитор.
— Но у Венденштейна есть, кажется, сыновья? — продолжал спрашивать кандидат.
— Их здесь нет, — отвечала она, — один служит в министерстве в Ганновере, другой — офицер в Люхове. А, вот и отец вернулся! — и она указала на дорожку, по которой шел пастор. — Что это, Господи! — вырвалось у нее невольно, и яркая краска покрыла лицо.
Кандидат последовал по направлению ее взгляда и увидел на дороге всадника в синем драгунском мундире. Пастор остановился, дождался всадника, подал ему руку и, обменявшись с ним несколькими словами, снова двинулся в путь. Офицер поскакал дальше, приветливо махнув рукой по направлению к пасторату, у окна которого он, вероятно, заметил Елену.
Елена поклонилась.
— Кто этот офицер? — спросил кандидат.
— Лейтенант Венденштейн, — отвечала она и отошла от окна, чтобы разогреть для отца кофе.
Кандидат внимательно следил за ее движениями.
Через несколько минут пастор вошел в комнату.
— Благодарение Богу! — сказал он. — Все оказалось еще не так плохо: сильная простуда и лихорадка, но люди здесь так мало знакомы с болезнями, что каждую хворь считают смертельной.
Он заменил шляпу бархатной шапочкой, снова опустился в кресло и задумался. Немного погодя, проговорил:
— Лейтенант приехал.
— Я его видела, — сказала Елена, подавая отцу чашку кофе. — Что его побудило приехать так поспешно и в такое необычное время? Он обыкновенно приезжал только по воскресеньям.
— Плохо дело, — сказал пастор, — войны, кажется, не миновать, скоро вовсе перестанут давать отпуска, и лейтенант отпросился на сегодняшний вечер, чтобы проститься со своими. Он наказывал, чтобы и мы туда пришли, — он должен рано уехать, чтобы еще затемно быть на месте.
Руки Елены задрожали, и трубка, которую она набивала, чуть не вывалилась из ее рук.
— Господи! — продолжал старик. — Как я только подумаю о старом, славном обер‑амтмане и его доброй, умной жене, и представлю себе, что эта ужасная война может лишить их сына, который сегодня еще стоит перед ними в цвете молодости! — И он задумчиво взял трубку, над которой Елена, низко склонившись, держала зажженную бумажку.
Когда отец закурил, дочь быстро направилась к дверям.
— Куда ты, дитя мое? — спросил пастор.
— Если нам придется идти в замок, — сказала Елена торопливо и слегка дрожавшим голосом, — то мне надо еще распорядиться по хозяйству. — И, не оглядываясь, вышла из комнаты.
Кандидат посмотрел ей вслед удивленными глазами.
Затем подсел к пастору и сказал, скрестив руки на груди:
— Милый дядя, я желал бы, с первой минуты моего вступления в твой дом в качестве твоего помощника, если Богу будет угодно, занять положение здесь на почве правды, которая должна быть руководящей нитью в жизни каждого, особенно в жизни духовного лица.
Старик выпустил из своей трубки несколько густых клубов дыма и поглядел на племянника, как бы не понимая, к чему тот клонит.
— Моя мать, — продолжал кандидат, — часто выражала мысль, как она была бы счастлива, если бы мы соединились другим союзом, кроме уже существующего между нами родства. Она надеялась в глубине сердца, что Господь поможет мне ввести твою дочь Елену в мой новый дом в качестве моей законной жены.
Пастор молча курил, но его лицо говорило, что речь племянника ему не нова и не противна. Кандидат продолжал:
— Она часто говаривала мне: «Как бы я была рада видеть в тебе помощника и преемника моего брата! И чтобы ты, когда Господь со временем призовет его к себе, остался твердой опорой для его дочери. Конечно, — продолжала она, — и молодой человек при этих словах пристально взглянул на дядю, — конечно, внешние заботы жизни не будут ее касаться…»
— Нет, — сказал оживленно старик, — нет! Благодаря Богу, в этом отношении я могу умереть спокойно: маленькое состояние, которое мне завещал покойный дядя, удесятерилось Божьим изволеньем, так как я не проживал и половины изрядных доходов с моего прихода, и если Господь меня призовет, моя дочь не будет знать нужды до конца своих дней.
Чуть заметная довольная усмешка раздвинула тонкие губы кандидата.
— Но, — продолжал он, — она все‑таки нуждается в опоре, и «если ты, — говорила мне дальше мать, — можешь стать для нее такою опорой, она, быть может, и на всю остальную свою жизнь останется в том же доме, в котором родилась и выросла, и это чрезвычайно осчастливит меня». — Вот так часто говорила мне мать моя.
— Да‑да, моя добрая сестра! — сказал пастор, приветливо улыбаясь. — Судьба нас разлучила, хотя не особенно далеко по теперешним путям сообщения, так как до границы Брауншвейга можно доехать в один день, но в нашем быту трудно подняться с места. Тем не менее она любит меня по‑прежнему…
Кандидат продолжал:
— Мне мысль матери показалась прекрасной, но я всегда ее отстранял как нечто гадательное, сомнительное. Брак, по‑моему, мыслим только по склонности, только по соглашению сердец, и для этого необходимо знать друг друга. С тех же пор, как я здесь, и в те немногие дни, которые я провел вместе с вами в Ганновере, желание матери сделалось моим собственным. Я нахожу в Елене все те качества, которые считаю необходимыми для призвания христианской супруги священника и для того, чтобы составить счастье мужа. Желая, чтобы все между нами было ясным и чистосердечным, я спрашиваю у тебя, милый дядя, позволишь ли ты мне искать расположения твоей дочери, и если она, поближе со мной познакомившись, осчастливит меня им, то вверишь ли ты мне ее на всю жизнь?
Старик протянул племяннику руку.
— Спасибо тебе, — сказал он, — за твои честные и откровенные речи. Я отвечу на них так же честно и откровенно. То, что тебе говорила твоя мать, приходило и мне самому не раз в голову, и, признаюсь, если я так настаивал на твоем приезде сюда, то именно потому, что мне думалось, как было бы хорошо, если бы вы с Еленой сошлись. И тоже мечтал о том, как в конце дней моих, когда уже не буду в силах работать, я увижу дочь мою хозяйкой в этом дорогом доме, видевшем ее детство, и где некогда ее добрая мать так кротко и нежно стояла со мной рядом.
Старик замолчал, и слезы выступили из его глаз.
На лице кандидата показалось самодовольное выражение.
— И потому, любезный племянник, — продолжал пастор, — от всего сердца позволяю тебе искать расположения Елены. И если ваши сердца сойдутся, я с радостью дам вам мое родительское и пасторское благословение. Но, — продолжал он, — не спеши, дай времени сделать свое дело. Елена своеобразная, глубокая натура, она пугается всего нового. Дай ей узнать тебя — время терпит!
Кандидат пожал руку дяде.
— Благодарю тебя от всей души, — сказал он, — за твое позволение. Конечно, я не стану брать ее сердце штурмом — для христианского брака совсем неуместно быстро вспыхивающее пламя, сердца должны гореть чистым спокойным огнем.
Вошла Елена. Она накинула на плечи легкий платок, соломенная шляпа с мелкими цветами покрывала голову. Щеки ее горели свежим румянцем, в глазах виднелся влажный, мечтательный блеск, точно след недавних лет, но рот улыбался.
Она была удивительно хороша, и старик встретил ее улыбкой, тогда как кандидат скользнул по всей ее фигуре взглядом, от которого она невольно потупилась.
— Я готова, папа, — сказала она.
— Хорошо, дитя мое, так пойдем же!
И он встал и взялся за шляпу.
— Ступай и ты с нами, — обратился он к племяннику. — Я тебя представлю.
— Не надо ли мне прежде нанести утренний визит в замок? — спросил кандидат.
— Нет, — сказал пастор, — мы здесь не соблюдаем таких формальностей. Уверяю тебя, что ты всегда встретишь радушный прием у наших друзей!
И все трое оставили пасторат.
* * *
В Блехове, в большой гостиной собралось все семейство Венденштейнов.
Фрау Венденштейн сидела на большом диване, дочери готовили чай раньше обыкновенного. Лейтенант пересел к матери и старался рассеять ее веселой болтовней. Она часто отвечала на его замечания печальной улыбкой, но время от времени слезы капали украдкой на ее тонкие, белые пальцы, которые машинально водили иголкой по шитью. Обер‑амтман молча ходил по комнате, иногда останавливался у широко открытых дверей в сад и глядел через террасу на ширившийся перед ним в летних сумерках ландшафт.
— Не порти ему расположения духа! — сказал он наконец, останавливаясь перед женой с напускно‑суровым тоном. — Хороший солдат должен весело и бодро идти в огонь, ведь это его ремесло. И он, в сущности, должен радоваться тому, что пришло наконец время всерьез исполнять свое призвание и свой долг. Впрочем, точно ведь еще ничего неизвестно — прибавил он тоном, в котором сказывалось желание успокоить жену и себя самого. — Ведь это только приготовление на всякий случай, а туча может еще нас миновать.
— Не может не быть тяжело в такие минуты, — промолвила кротко фрау Венденштейн. — Мы остаемся дома, одни с нашими мыслями и заботами, а он на широком просторе и в пестрой суете событий… Довольно ли у тебя белья? — прервала она себя, как бы желая подавить сердечную тревогу материальной заботой о сыне, которому предстоит так много страшных испытаний.
— Белье у меня в превосходном порядке, мама, — весело отозвался лейтенант, — кроме того, если нам в самом деле предстоит поход, я не могу брать с собой много вещей, наша кладь не должна занимать места. Но где же пастор? Он мне обещал поскорее прийти и провести с нами последние часы. A propos[62], — продолжал он, — у него, кажется, гости. В окне, рядом с Еленой, я заметил какого‑то господина в черном.
— Это его племянник, который, по желанию старого священника, назначен ему в помощники, — сказал обер‑амтман. — И которому он впоследствии передаст приход. Радуюсь за доброго Бергера, что король быстро исполнил его просьбу. Может быть, молодой человек окажется хорошей партией для Елены.
Лейтенант взглянул на отца, встал и подошел к дверям на террасу.
В прихожей раздался шум.
Старый слуга вошел и сообщил:
— Фриц Дейк пришел и просит повидаться с господином лейтенантом.
Молодой человек быстро повернулся и сказал:
— Пускай войдет Фриц. Ну, что скажешь, старый друг? — проговорил он, приветливо идя навстречу молодому человеку, который, сняв фуражку, вытянулся в струнку.
— Извините, господин лейтенант, — произнес он, — я к вам с просьбой!
— Заранее согласен! — весело воскликнул лейтенант.
— В деревне сказывали, — начал Фриц, — что скоро быть войне и что сам король пойдет в поход. Вот и мне бы хотелось. И потому я хочу просить господина лейтенанта, так как мы с детства знались, чтобы он меня взял в денщики, чтоб нам и на войне быть вместе.
— Постой, дружище, — сказал офицер, — до этого дело еще не дошло. Мы еще не идем в поход, может быть, даже вовсе не пойдем: до сих пор бессрочные еще не собрались и армия еще не на военном положении. Потому, при всем моем желании, мне пока некуда тебя девать. Но, — продолжал он, — если в самом деле состоится поход, даю слово взять тебя с собой — не как денщика, у меня уже есть славный малый на эту потребу, кроме того, — прибавил он, усмехаясь, — сын старого Дейка слишком важен для роли слуги…
— Только не у вас! — возразил Фриц.
— Хорошо, хорошо! Когда придет время, я позабочусь, чтобы тебя причислили к моему эскадрону. Тогда мы вместе постараемся заставить говорить о драгунах!
— Так спасибо же вам, господин лейтенант, до свидания!
Пока офицер прощался с молодым крестьянином, слуга молча отворил дверь и в гостиную вошел пастор с дочерью и племянником.
Пастор представил кандидата обер‑амтману, который приветствовал молодого человек сердечным рукопожатием и подвел затем к своей жене.
Елена скоро присоединилась к девицам и, сняв шляпку, стала помогать им по хозяйству.
Лейтенант подошел к молодым девушкам.
— Ну, фрейлейн Елена, — начал он, — дело грядет нешуточное. Теперь я серьезно прошу вашего доброго пожелания, потому что скоро, быть может, оно понадобится. Не правда ли, — продолжал он задушевно и встречая ее взгляд своим глубоким и горячим взглядом, — вы будете иногда обо мне думать и пожелаете мне на дорогу чего‑нибудь хорошего?
Она глянула на него и слегка дрогнувшим голосом сказала:
— Конечно, я буду о вас думать и молить Бога, чтобы он вас сохранил!
Молодой человек посмотрел на нее со смущением. Слова были так просты и естественны и шли прямо к сердцу, и в первый раз офицер ощутил, что, уходя в поход, оставляет дома что‑то, с чем не хотел бы расставаться.
— Я живо помню, — продолжал он, немного помолчав, — ту темную тучу, которую мы видели вечером, накануне дня рожденья моего отца, и как она уплыла далеко и высоко из‑под лунного света. Теперь мне думается, что вот‑вот и я сам уеду. Уеду надолго и, может быть, в последний раз стою в милом кругу родных и друзей. Вот видите, я совершенствуюсь, и дошел уже до того, что помню ваши прекрасные мысли. Еще шаг, и я, возможно, научусь сам думать.
Она не отвечала.
— Чай готов, мама, — возвестила фрейлейн Венденштейн, бросив последний, критический взгляд на большой стол, перенесенный в виде исключения в гостиную и заставленный всякими принадлежностями для чая вместе с импровизированным ужином.
Фрау фон Венденштейн встала и подошла к столу вместе с пастором и обер‑амтманом, за которыми следовал кандидат.
— Вы сядете возле меня? — спросил тихо лейтенант у Елены. — По‑прежнему?
Она не отвечала, но молча стала у прибора рядом с ним.
Кандидат бросил вопросительный взгляд на молодых людей и сел рядом с фрейлейн Венденштейн.
В этот день в старом Блеховском амтманстве не царил тот дух, который обыкновенно господствовал за столом обер‑амтмана. Разговор шел натянутый. Никто не высказывал того, что думал, и никто не думал того, что говорил. Шутка, которую время от времени старался пустить в ход обер‑амтман, бессильно падала, как неудавшаяся ракета, и на тарелку хозяйки дома капнула не одна слезинка.
Лейтенант посмотрел на часы.
— Пора, — сказал он, — позволь мне встать, мама. Иоганн, лошадь!
Все поднялись.
— Еще просьба, — сказал молодой офицер. — Спойте мне на прощанье, фрейлейн Елена. Вы знаете, как я люблю, когда вы поете, а сегодня мне бы хотелось запастись отрадным воспоминанием из милой родины.
Стройная фигура молодой девушки вздрогнула. Елена невольно взмахнула рукой, как бы отклоняя просьбу.
— Прошу вас, — попросил он негромко.
Обер‑амтман подошел к роялю и открыл его. Елена села за инструмент, а лейтенант стал в дверях, выходивших в сад, через которые врывались светлые сумерки, продолжающиеся в июньские дни так долго.
Елена положила руки на клавиши, опустила на них глаза и задумалась. Немного погодя она взяла несколько аккордов и, не поднимая глаз, начала, как бы следуя внутреннему движению, удивительную мендельсоновскую песню:
По воле Божьей, С любимым самым Ждут нас расставанья…Ее чистый прекрасный голос глубоко затрагивал сердце и наполнял залу как бы магнетическим током. Лейтенант сделал шаг вперед, в тень вечернего сумрака, фрау фон Венденштейн низко наклонила голову и заплакала.
Все глубже и задушевнее лились звуки, хотя лицо певицы казалось совершенно спокойным, и только когда она дошла до конца, оно озарилось вдруг лучом светлой надежды:
Но расставаясь, Скажем друг другу мы «До свиданья!».Все молчали под впечатлением от песни. Лейтенант вернулся в комнату. Лицо его было печально и серьезно. Он бросил продолжительный взгляд на девушку, которая, не поднимая глаз, стояла возле рояля с тем же как бы застывшим выражением в лице, потом подошел к матери и поцеловал ей руку.
Старушка встала, обняла его за голову обеими руками:
— Да сохранит тебя Бог, мой сын, — тихо шепнула она и, горячо поцеловав в лоб, слегка оттолкнула юношу от себя, как бы желая скорее положить конец тяжелой процедуре расставанья.
Обер‑амтман пожал сыну руку и сказал:
— Ступай с богом и, когда потребуется, поступай достойно твоего имени и звания. Но только не надо больше прощаний. — Старик тревожно взглянул на жену, которая закрыла лицо платком. — Скорее на коня! Мы тебя проводим.
И он вышел в холл, а за ним последовали священник и кандидат.
Лейтенант обернулся еще раз, обнял сестру и подошел к Елене.
— Благодарю вас за песню, — сказал он, взяв ее ладонь, и не то припоминая последние слова песни, не то обращаясь к ней, прибавил, целуя ей руку: — Так до свидания же! — И не дожидаясь ответа, поспешил к отцу.
Лицо молодой девушки вспыхнуло, она вздрогнула, посмотрела ему вслед странно засветившимся взглядом, потом опустилась перед роялем на стул и заплакала, не замеченная обер‑амтманшей, которая не отнимала платка от лица, не замеченная и дочерью, которая обнимала мать и гладила рукой ее седые волосы.
На дворе стоял Фриц Дейк, который никому не хотел уступить чести подвести лейтенанту лошадь, а Ролан нетерпеливо рыл копытом песок.
Лейтенант обнял отца и пастора и подал кандидату руку, которую тот схватил с поклоном, причем если б не было так темно, можно было бы заметить злой, враждебный взгляд, который он бросил на офицера.
Тот ловко и легко вспрыгнул на лошадь.
— С богом, я мигом за вами! — крикнул Фриц Дейк, и молодой человек быстрым галопом скрылся в ночном мраке.
Глава десятая
15 июня 1866 года в восемь часов утра берлинские улицы сияли, залитые солнечным светом. Деятельная жизнь в Берлине начинается не рано, и в этот час на тротуарах Унтер‑ден‑Линден можно было встретить только людей низшего звания, да изредка чиновников и торговцев, спешивших в свои конторы.
На всех лицах лежала печать озабоченности, люди шагали торопливо, погруженные в собственные мысли. Знакомые при встрече, правда, останавливались и обменивались поклонами и последними известиями, но известия эти были тревожного свойства: австрийский посланник уехал из Берлина и война казалась неизбежной. Но войны этой никто не желал, и все приписывали ее честолюбию министра, который, ради своего авторитета в палате, приносил Германию — более того, всю Европу — в жертву огню.
Так думали и толковали добрые берлинцы, привыкшие каждое утро думать и говорить то, что им накануне внушали тетушка Фосс и дядюшка Шпенер[63]. А эти два старинных и уважаемых органа общественного мнения ежедневно посвящали длинные столбцы статьям, в которых доказывали, что только честолюбивые наклонности да безрассудная отвага господина Бисмарка нарушали покой Германии. Вследствие этого все мельники, кузнецы, каменщики и другие ремесленники, проживающие в королевской резиденции на Шпрее, пребывали в твердом убеждении, что для поддержания в Европе мира ничего более не требовалось, как отправить господина Бисмарка в Шенгаузен или Книпгоф сажать репу и капусту.
Когда призванные к оружию солдаты из ландвера проходили по улицам, направляясь к станциям железных дорог, на пути их стояли многочисленные группы берлинцев, старых и малых, с неудовольствием на лицах и с упреками на устах этому Бисмарку, который вносил несчастье в семьи и стоил городу так много денег. Это, однако, не мешало добрым берлинцам щедро угощать «жертв Бисмарковой политики», гвардейцев, отправлявшихся на безумную борьбу с братьями, пивом, сигарами, колбасой и вином. Что же касается самих «жертв», то они, по‑видимому, вовсе не считали себя несчастными.
Ряды их постоянно оглашались веселыми звуками старинных прусских солдатских песен, которые устно переходят из поколения в поколение, с биваков переносятся в мирный домашний быт, где мальчики им учатся, играя в солдаты, и затем снова поют их на биваках во время маневров или на настоящем поле сражения, куда идут по приказанию короля и генералов.
Но когда с наступлением вечера кузнецы, мельники, каменщики и другие ремесленники собирались в трактиры, там они снова слышали от своих коноводов, в свою очередь в течение дня наслушавшихся депутатов или журналистов, что виновником всей этой тревоги, застоя в делах и семейных горестей, является все тот же человек, который ставит в опасность трон и государство и рискует счастьем целого народа ради своих честолюбивых, безумных мечтаний. Человек этот не кто иной, как «феодальный юнкер», господин фон Бисмарк‑Шенгаузен.
Неудивительно после этого, если все шедшие ранним утром по Унтер‑ден‑Линден имели такой озабоченный вид. А когда знакомые при встрече сообщали один другому новейшие известия, в их словах неизменно слышалось хотя и тихо произносимое, но тем не менее сильное неудовольствие против «этого» Бисмарка, смущавшего весь мир, который без него мог бы быть так ясен и спокоен.
Мимо всех этих торопившихся, занятых людей и недовольных групп проходил быстрыми, твердыми шагами сам Бисмарк. Он появился из‑за угла Вильгельмсштрассе и шел по Унтер‑ден‑Линден в своем белом кирасирском мундире с светло‑желтым воротником, стальном кивере и майорских эполетах. Никто ему не кланялся, но он не обращал на это внимания и двигался быстрой, спокойной походкой, как если бы его окружали сплошь доброжелатели. На углу, где широкая Фридрихсштрассе пересекает улицу Унтер‑ден‑Линден и где находится всем известная кондитерская Канцлера, он вошел в одну из так называемых летучих библиотек и купил утренний номер газеты Фосса. Министр‑президент был известен всем и каждому, и несколько любопытных остановились, молча, но искоса, на него поглядывая.
Быстро пробегая глазами столбцы газеты, Бисмарк направился к скромному четырехугольному зданию королевского дворца, мимо величавой статуи Фридриха Великого, на которой развевалось в утреннем воздухе красное с черными орлами знамя.
Ответив на приветствие стражи, министр‑президент вошел во дворец и направился к покоям короля на первом этаже.
Там он нашел дежурного флигель‑адъютанта майора барона фон Лоена, поклонился ему и, вступив в разговор, стал ожидать аудиенции, на которую король выходил всегда с пунктуальною точностью.
В большой, просто меблированной комнате, служащей в то же время кабинетом и приемной, стоял король Вильгельм — седой, но чрезвычайно бодрый, с прямым молодцеватым станом. Он находился в глубине комнаты в амбразуре окна, из которого во время докладов обыкновенно озирал площадь и у которого берлинцы привыкли его видеть каждое утро.
На короле Вильгельме был мундир гвардейской пехоты, черный с белыми пуговицами. На его свежем, добродушном лице, обрамленном седыми волосами и тщательно прибранными бакенбардами, лежала тень печали. Он внимательно слушал человека, который говорил, собирая разные бумаги и укладывая их в большую черную папку.
Этот чиновник — целой головой ниже короля — был одет в простое штатское платье с белым галстуком. Его редкие седые волосы прямыми прядями лежали с обеих сторон лица, чрезвычайно открытого и подвижного. Его живые, блестящие глаза, с выражением юмора, смело устремлялись на государя.
Это был тайный советник Луи Шнейдер, одинаково известный как военный писатель, автор драматических сочинений, как режиссер и как актер — чтец Фридриха‑Вильгельма IV и Вильгельма I, старый верный слуга королевского дома.
— Так вы говорили с королем? — спросил его монарх.
— Точно так, Ваше Величество, — отвечал тайный советник. — Возвращаясь из Дюссельдорфа, куда ездил за сведениями для моего исторического труда, я остановился в Ганновере. Его Величество король Георг, как известно Вашему Величеству, всегда был ко мне очень милостив, а я, со своей стороны, питаю к нему глубокое уважение и симпатию. Я немедленно отправился во дворец и попросил аудиенции. Король принял меня в своем кабинете и был так милостив, что пригласил с собой завтракать. Его Величество находился в прекрасном расположении духа, и я снова был вполне им очарован.
— Да, — возразил король Вильгельм, — у моего брата Георга славная, благородная душа. Как бы я желал находиться с ним в прежних близких отношениях! Это было бы во многом лучше для Германии. К сожалению, он постоянно враждебно относится к Пруссии.
— Я это не вполне понимаю, — возразил тайный советник Шнейдер. — О личном нерасположении тут и речи быть не может. Король с величайшим удовольствием вспоминает свою молодость, проведенную в Берлине, и питает глубокое, трогательное уважение к памяти его величества покойного короля Фридриха‑Вильгельма Третьего. Он с наслаждением рассказывал мне множество анекдотов из старого времени — о графе Неаль, о князе Витгенштейне…
— Которого мы, все принцы, так боялись, — заметил король, усмехаясь.
— И было заметно, — продолжал Шнейдер, — с каким удовольствием король останавливался на этих воспоминаниях и как благосклонно выслушивал мои рассказы из тех же времен.
— Но не говорил ли он чего о настоящем положении вещей в политике? — спросил король.
— Как же, без этого не обошлось. Я осмелился выразить надежду, что король не ограничится одними дружескими воспоминаниями о прусском дворе, но, конечно, не замедлит при настоящем тревожном положении вещей возобновить с Вашим Величеством старинный союз, который в прошлом всегда связывал Ганновер с Пруссией.
— Что же он вам на это отвечал? — поспешно спросил король Вильгельм.
— Его Величество, — продолжал Шнейдер, — высказал свое мнение чрезвычайно откровенно, с той рыцарской прямотой, которая поражала меня всякий раз, когда я имел честь иметь с ним дело. Государь снова уверял меня, что хотя его неоднократно упрекали во вражде к Пруссии, он не чувствует к ней ни малейшего недоброжелательства. Немецкую войну Георг считает несчастьем, которому, опираясь на основные принципы союза, поверит только тогда, когда оно наступит. Но в этом несчастье, в этой несправедливости он никогда не явится участником.
— Но почему же он отказался примкнуть к нейтральному договору? — спросил король.
— Его Ганноверское Величество намерен остаться нейтральным абсолютно.
— В таком случае, я ничего не понимаю! — воскликнул король Вильгельм. — Граф Платен продолжает уклоняться от союза, который для нас так важен.
— Мне неизвестно, Ваше Величество, — сказал Шнейдер, — ни то, что совершается в политике, ни то, что делает и чего не делает граф Платен. Я знаю только одно: король Георг намерен держаться самого строгого нейтралитета.
— Так вы не думаете, чтобы он заключил договор с Австрией? — допытывался король.
— Нет, Ваше Величество, не думаю. Король очень определенно выразил свое намерение не принимать ничьей стороны в этой несчастной борьбе, между тем…
— Между тем? — повторил король.
— Между тем, — продолжал Шнейдер, — Его Величество точно так же определенно выразился насчет того, что никогда не окажет своего содействия стремлению Пруссии вполне или хотя отчасти превратить Германский союз в одно союзное государство. Напротив, он намерен всеми средствами бороться против предполагаемых реформ в союзе и будет всеми средствами отстаивать полную независимость и неприкосновенность своей короны.
Король Вильгельм покачал головой.
— Я позволил себе заметить, что никто не думает, — а Ваше Величество менее всех, — об ограничении власти кого‑либо из государей, но что более тесное военное объединение Германии становится необходимым, и почин в этом должно взять на себя наиболее сильное государство. Я прибавил, что Его Величество получил воспитание английских принцев. Но политика маленького царства, как Ганновер, не может существовать на тех же самых началах, как сильная держава, в распоряжении у которой есть многочисленное войско и флот.
— Его Величество не обиделся на это замечание? — насторожился король Вильгельм.
— Нисколько, — отвечал тайный советник. — Он выслушал меня чрезвычайно дружелюбно, не прерывая, а потом сказал совершенно спокойно, но с большою твердостью: «Любезный Шнейдер, мое королевское право вовсе не есть вопрос о власти. Я получил корону от Бога, точно так же как и властитель самого обширного царства, и никогда ни йоты не уступлю из своей независимости и самостоятельности, и пусть будет то, чему суждено!» Я заметил государю, — продолжал Шнейдер, — что, не имею ни малейшего желания мешаться в политику, однако как верный слуга моего государя чувствую себя обязанным передать ему при своем возвращении смысл слов, только что сказанных Его Величеством и которые при настоящем положении вещей имеют особенно важное значение. Король Георг вполне это одобрил и объявил, что его мнение на этот счет вовсе не составляет тайны и что он намерен всегда действовать согласно с ним. Затем он отпустил меня самым милостивым и дружеским образом.
— Итак, они все против меня! — воскликнул король Вильгельм после непродолжительного молчания, и на лицо его легла печальная задумчивость.
Он обратился к окну, и взгляд его долго покоился на фигуре великого Фридриха.
— Он тоже был один, — произнес Вильгельм вполголоса, — но благодаря этому вознесся еще выше.
Выражение его лица просветлело. Он посмотрел на часы и, с улыбкой взглянув на тайного советника, произнес:
— А теперь, любезный Шнейдер… — Он дунул, указывая пальцем на дверь.
— Я исчезаю, Ваше Величество, — смеясь, отвечал тайный советник и с комической поспешностью направился к выходу. Там он на минуту остановился и прибавил: — Желаю, чтобы точно так же исчезли от одного дуновения все враги Вашего Величества.
Король Вильгельм остался один.
— Итак, настал решительный час, — задумчиво произнес он. — Судьба моего дома и моего государства висит на кончике меча! Думал ли я, когда уже в преклонных летах вступал на престол, что мне предстоит такая великая борьба! Организуя войска, это произведение моей мысли и неусыпного труда, которые я имел в виду завещать сыну как залог будущего величия и силы, ожидал ли я, что мне самому придется еще вести это войско на бой, на те самые поля, где мой великий прадед неизгладимыми буквами начертал свое имя! Впрочем, — продолжал он, задумчиво опуская глаза, — во мне было какое‑то смутное предчувствие того, что совершается ныне. Когда я в Кенигсберге, стоя перед алтарем и облекаясь в знаки королевского достоинства, взял в руки меч, меня внезапно осенило как бы предзнаменование или откровение свыше. Я невольно простер клинок к стоявшим поодаль защитникам моего королевства и в глубине души произнес обет не обнажать меча без крайней надобности, но, раз обнажив, не опускать до тех пор, пока не будут повергнуты в прах все враги моего народа! Ныне это предчувствие исполняется, — тихо прибавил он: — Итак, с богом, вперед!
Король сложил руки и несколько мгновений стоял молча, с опущенной головой. Затем быстрыми шагами подошел к длинному письменному столу. Лицо его дышало энергией и решимостью, он твердой рукою взял колокольчик и громко позвонил.
— Просить сюда министра‑президента графа Бисмарка! — приказал он вошедшему камердинеру.
Несколько секунд спустя министр‑президент входил в кабинет.
Он быстрым, проницательным взглядом окинул короля и, по‑видимому, остался доволен выражением его лица. Вынимая из кармана бумаги, Бисмарк почти весело заговорил:
— Ваше Величество, настала решительная минута. Я надеюсь, что с горизонта Пруссии вскоре исчезнут все тучи, сила ее оружия восторжествует и очистит будущему путь от всяких преград и стеснений!
— Что вы принесли? — спокойно спросил король.
Граф Бисмарк отвечал, перебирая бумаги:
— Господин фон Вертер уведомляет о своем отъезде из Вены. В то же время он сообщает, что Бенедек находится при армии и очень недоволен ее состоянием.
— Еще бы! — произнес король.
— Габленц тоже отправился в армию.
— Мне очень жаль, — заметил король, — что этот храбрый генерал оказывается нашим врагом. Он дрался с нами заодно и теперь может быть нам опасен.
— Никакой генерал не опасен один, Ваше Величество. Ему недостает материала, да к тому же его советов не будут слушаться, — с уверенностью сказал граф Бисмарк. — Вместе с тем получено известие, что во Франкфурте союзным войскам было приказано вчера готовиться к походу против Пруссии. Таким образом, война фактически объявлена, и Вашему Величеству необходимо принять меры против угроз, которые находятся в нашем собственном кругу действий. Нам предстоит обезопасить Ганновер и Кур‑Гессен.
— К какому решению пришли во Франкфурте? — спросил король. — Разве Ганновер и Кур‑Гессен объявили себя за Австрию?
— Они не приняли австрийских мотивов, — отвечал министр‑президент, — но не противятся мобилизации армии. Это старая игра! — прибавил он. — Но она может сильно повредить нам, если мы не поспешим обезопасить себя со стороны этих держав.
— До сих пор они не вооружались, — заметил король.
— Но теперь, после решения союза, обязаны. Кроме того, их войска и в мирное время могут быть чрезвычайно для нас обременительны, — возразил граф Бисмарк. — Я убедительно прошу Ваше Величество принять энергичные меры и немедленно послать армию в Ганновер и Кур‑Гессен.
Король задумался.
— Ганновер и Кассель, — после паузы сказал он, — отказались примкнуть к нейтральному договору. Теперь, когда решено привести в действие союзные войска, об этом, конечно, более не может быть и речи. Но принятые ими полумеры, во всяком случае, доказывают, что они не осмеливаются окончательно объявить себя нашими противниками. Я намерен еще раз обратиться к ним с запросом и дать возможность свернуть с опасного пути, по которому они идут.
— Но, Ваше Величество, — заметил граф Бисмарк, — мы таким образом потеряем много времени, а оно нам теперь чрезвычайно дорого.
— Будьте покойны, любезный граф, — возразил король, — мы не станем терять времени понапрасну. Период сомнений и колебаний прошел, настала минута действовать. Мне более нечего ни раздумывать, ни выбирать!
Граф Бисмарк с облегчением вздохнул.
— Но для успокоения совести, — продолжал король, — я хочу еще раз обратиться к моим братьям с последним предостережением. Богу известно, — прибавил он, — как мне тяжело идти против них. Воззвание, которое предлагает им присоединиться к нам ввиду предполагаемых реформ в союзе и в то же время гарантирует за ними их владения, находится в руках посланников — не так ли?
— Точно так, Ваше Величество, — отвечал министр‑президент.
— Телеграфируйте немедленно предписание вручить кому следует это воззвание, и пусть потребуют на него ответ непременно сегодня же вечером.
— Предписание будет отправлено немедленно, — заверил граф Бисмарк. — Но что, если воспоследует отказ или — что гораздо вероятнее — уклончивый ответ? — спросил он, устремив на короля пытливый взгляд.
Король Вильгельм с минуту помолчал. Лицо его приняло выражение решимости, и он, прямо взглянув министру в лицо, отвечал:
— Тогда пусть посланники объявят войну.
— Да здравствует король! — громко воскликнул граф Бисмарк с сияющим лицом.
— То же самое сделайте и в отношении Дрездена, — добавил король.
— В отношении Дрездена?! — воскликнул граф Бисмарк. — Неужели Ваше Величество полагает, что господин фон Бейст…
— Я не имею никаких дел с господином фон Бейстом, — гордо возразил король, — но хочу еще раз протянуть руку королю Иоанну. Если это окажется бесполезным, не на меня падет вина за последствия.
— В таком случае, — заметил граф Бисмарк, — я буду просить Ваше Величество немедленно отдать приказ о военных действиях, которые окажутся необходимыми тотчас по объявлении войны.
— Я призову Мольтке и сделаю нужные распоряжения, — кивнул король.
— Смею ли я обратить внимание Вашего Величества на один пункт? — спросил граф Бисмарк.
Король вопросительно на него посмотрел.
— Генерал Мантейфель возвращается со своими солдатами из Голштинии, — сообщил граф Бисмарк. — Он имеет от Ганновера разрешение на проход в Минден. Его авангард стоит перед Гарбургом, расположенные на Эльбе суда находятся в его распоряжении. В Гарбурге нет гарнизона, и он легко может быть осажден. Если мы объявим войну Ганноверу, то для нас весьма важно завладеть Гарбургом с ходу, в противном случае нам пришлось бы потерять много времени. Мне кажется, что для нас было бы весьма полезно, если б Ваше Величество приказали генералу Мантейфелю немедленно осадить Гарбург. Он имеет на то полное право, так как получил от ганноверского правительства позволение на проход. Примет Ганновер наше предложение — генерал Мантейфель спокойно продолжит путь, отвергнет — и у генерала в руках останется весьма важная позиция и железная дорога.
Король, внимательно выслушав графа Бисмарка, с улыбкой кивнул головой:
— Вы правы! Хорошо иметь министром человека, который кое‑что смыслит также и в военном деле. Пошлите приказ.
— Прошу у Вашего Величества позволения удалиться, — сказал министр‑президент, — чтоб скорее привести в исполнение ваши приказания.
Он сделал движение, чтоб уйти.
— Какие известия из Парижа? — спросил неожиданно король.
Граф Бисмарк остановился. Лицо его омрачилось.
— Бенедетти, Ваше Величество, против обыкновения, молчит, — сказал он. — Зато граф Гольц уведомляет, что в Париже готовятся энергично действовать. Ему ясно дали понять, что император намерен принять сторону Австрии, если мы не поспешим сделать решительного шага. Я имею основание думать, — прибавил он, — что там ведутся скрытые переговоры насчет Венеции, чтоб в последнюю минуту сыграть с нами злую шутку. Мне это сообщает из Вены доверенное лицо. Граф Узедом тоже говорит, что весьма недоволен положением Италии. Впрочем, — продолжал министр менее озабоченным тоном, — все эти интриги меня мало тревожат. В Вене еще не хотят уступить и потому нарочно говорят так громко. А что касается Флоренции, то я послал туда инструкцию быть настороже, не дремать и работать заодно с нами.
— Но чего хочет император Наполеон? — настаивал король.
— Половить рыбу в мутной воде, — отвечал граф Бисмарк со свойственной ему откровенностью. — Но если он нас торопит, то нужно полагать, ему не везет. Я сделал Бенедетти запрос насчет таинственных сношений между Парижем и Веной. Он уверяет, что ничего не знает, но во всяком случае донесет в Париж, что мы еще далеко не оглохли на оба уха.
— Мне этот союз с Италией никогда не нравился, — задумчиво произнес король, — хотя я признаю его полезность. Грустно, что дела приняли такой оборот! Гораздо охотнее выступил бы я, как в былое время, заодно с Австрией против совершенно иного врага!
Граф Бисмарк с озабоченным видом всматривался в помрачившееся лицо короля.
— А если б дела не приняли такого оборота, — живо заговорил он, — Ваше Величество не мог бы взять на себя почин освобождения Пруссии — этого прекрасного, благородного государства, созданного вашими предками, от оков, в какие ее заковали зависть и недоброжелательство европейских держав с Австрией во главе. А между тем эта Австрия никогда не была немецким государством. Германия постоянно служит только ступенью для ее честолюбивых замыслов, и она всегда была готова изменить нам, продать нас и раздробить. Нет, Ваше Величество, я радуюсь, что настала наконец минута действовать и что королевскому орлу предстоит высоко парить в воздухе. Nec soli cedit[64] — гласит его девиз, и к солнцу поднимется он, хотя бы путь туда лежал ему сквозь грозные тучи. Пруссию и Германию ожидает блестящая будущность, и я горжусь тем, что мне выпало на долю идти об руку с творцом этой будущности.
Ясные глаза короля Вильгельма задумчиво покоились на оживленном, взволнованном лице министра. Радостно сверкнули они, когда граф так смело, с такой уверенностью произносил пророческие слова. Но вдруг король опустил глаза и тихим голосом произнес:
— Как угодно Богу!
Граф Бисмарк с умилением смотрел на государя, который, будучи облечен таким величием, выказывал так много простоты и смирения. Он как будто был удивлен, слушая могущественного монарха, который накануне страшной, решительной борьбы всю свою надежду, все свое честолюбие, всю тревогу выразил в этих трех простых словах.
— Угодно Вашему Величеству еще что‑нибудь приказать мне? — спросил министр голосом, который слегка дрожал от волнения.
— Нет! — отвечал король. — Поспешите отправить депеши.
И легким, дружеским движением головы отпустил министра.
Граф Бисмарк вышел из кабинета быстрее, нежели утром шел во дворец, и отправился в свой дом на Вильгельмсштрассе. Проходя по Унтер‑ден‑Линден, он еще менее прежнего обращал внимание на недоброжелательные взгляды прохожих. Гордое удовлетворение выражалось на его лице, а вся фигура дышала силой и отвагой. Великая борьба, которую он считал необходимой, начиналась, и он питал в душе твердую уверенность в ее счастливом исходе. Бисмарк не чувствовал ни малейшего страха, ни колебания.
* * *
На нижнем этаже здания министерства иностранных дел, к которому спешил министр‑президент, за столом, покрытым бумагами, сидел советник посольства фон Кейдель. Он вел оживленную беседу с мужчиной, белокурые волосы и борода которого, обрамлявшие открытое и оживленное лицо, изобличали его северогерманское происхождение. В светло‑серых глазах северянина светилась смесь юмора, добродушия и лукавства. На вид ему было около тридцати семи лет. Одетый с изяществом, какое встречается только в больших городах, он развалился в кресле, стоявшем близ стола фон Кейделя, и с видом денди покачивал на коленях глянцевитую шляпу, которую придерживал одной рукой.
— Вы полагаете возможным, любезный Бекманн, — говорил фон Кейдель, — расположить в нашу пользу французскую прессу и отстранить таким образом, с помощью голоса общественного мнения, всякое вмешательство Франции в дела Австрии?
— Ничего не может быть легче, — заявил Альберт Бекманн, остроумный и ловкий редактор газеты «Le Temps», который за двадцать лет жизни в Париже успел приобрести полное знание всех требований и особенностей французской публицистики. Это, однако, не мешало ему сохранить в совершенной чистоте все отличительные свойства немецкого характера. — Ничего не может быть легче. Нефцер вполне разделяет ваше мнение и будет поддерживать ваши интересы по убеждению, — он, впрочем, иначе и не пишет. «Siecle», а с ним и все либеральные газеты будут указывать на союз Франции с Австрией как на величайшую глупость. Пруссия олицетворяет для них прогресс, а Австрия реакцию, и потому они с радостью приветствуют всякий успех со стороны нашей державы. Нет больших трудов расположить их в нашу пользу. Необходимо только направлять издания и как можно быстрее и точнее сообщать им дипломатические и военные известия. Это я беру на себя.
Он погладил рукой шляпу, пощипал себя за белокурую бородку и с видом человека, вполне убежденного в справедливости своих слов, небрежно откинулся на спинку кресла.
— Но что вы скажете о клерикальных листках, каковы «Le Monde», «L’Univers»? — спросил фон Кейдель.
— С ними труднее поладить, — отвечал Бекманн. — Эти господа сильно расположены к Австрии, и их нелегко от нее отвратить. В газете «Le Monde» немецкие корреспонденции пишет мой двоюродный брат, доктор Онно Клопп.
— Этот Онно Клопп ваш двоюродный брат? — удивился фон Кейдель.
— Он имеет это преимущество, — отвечал Бекманн, — и подписывается в «Monde» как Герман Шульце. Но должен вам сказать, что он пишет в высшей степени скучно. Кроме того, кузен плохо владеет французским языком, поэтому статьи его сначала переводятся, вследствие чего приходятся по вкусу публике еще менее. Достаточно, чтоб этот листок принял чью‑нибудь сторону, и вся французская публика немедленно настраивается против нее враждебно.
— Но разве эта газета не пользуется большим влиянием при дворе? — продолжал фон Кейдель.
— Ни малейшим, — возразил Бекманн. — Император прислушивается к голосу только независимых органов и никогда не читает ультрамантанских листков. Могу вас уверить, что одна статья в «Siecle» или в «Temps» имеет гораздо более влияния на его решения, нежели самая ожесточенная полемика в «Monde» или «Univers».
— Но не думаете ли вы, — продолжал допрашивать фон Кейдель, — что Австрия в свою очередь будет стараться привлечь на свою сторону общественное мнение во Франции? Она не станет пренебрегать никакими средствами. Князь Меттерних…
— Ah, bah![65] — воскликнул Бекманн. — Князь Меттерних слишком trop grand seigneur[66], чтобы воздействовать на прессу. У него для этого кавалер Дебро де Сальданенга. Тот напишет ему несколько статей в своем «Memorial Diplomatique»[67]. Статьи эти будут очень хороши, дипломатичны и важны, но никто их не станет читать. Будьте покойны, — продолжал он, — общественное мнение будет за вас. Даже сам Оливье — Эмиль Оливье, этот римский гражданин со стремлением к портфелю в сердце, — прибавил он со смехом, — вполне настроен на прусский лад и своими речами будет действовать не хуже любого из самых распространенных журналов.
— Вы полагаете, что Эмиль Оливье клюнет на портфель, как на приманку? — с удивлением спросил фон Кейдель.
— Он непременно будет министром, — уклончиво возразил Бекманн. — On fera cette betise[68], но пока Оливье на стороне оппозиции и голос его имеет силу. Он крепко стоит за прусскую гегемонию в Германии — этого с нас достаточно. Затем остаются еще, — продолжал северянин, — «Revues Hebdomadaires», еженедельные обозрения, которые имеют почти столько же влияния, как и ежедневные журналы. Они читаются спокойно и спокойно перевариваются. Но и на этой почве вам нечего опасаться. Мне знакомы все редакторы, и я думаю, что легко могу их расположить в вашу пользу. Вы помните, как благосклонно всеми была принята моя брошюра «Le Traité de Gastein»[69], которую я написал после того, как имел честь беседовать с министром‑президентом в Висбадене?
— Помню, — отвечал фон Кейдель. — Я был тогда очень удивлен поддержкой, какую мы встретили в то время во французской прессе, и мы до сих пор вам за то чрезвычайно благодарны.
— Pas de quoi, не за что! — отмахнулся Бекманн. — Я делал по убеждению все возможное, чтобы распространить во Франции идею о воссоздании Германии в духе графа Бисмарка. И впредь я намерен действовать точно так же, потому что считаю эту идею справедливой и благотворной. Кстати, — перебил он себя, — знаете, что Хансен здесь?
— Вот как? — воскликнул фон Кейдель.
— Я полагаю, он здесь пробудет некоторое время, чтобы вполне изучить положение вещей, — заметил Бекманн, многозначительно поглядывая в сторону. — Вы можете действовать через него: все, что вы ему сообщите, он передаст куда следует и проведет в прессу.
Фон Кейдель слегка кивнул головой.
— А теперь, — сказал Бекманн, — я думаю, мне следует как можно скорее вернуться в Париж и приняться за дело.
Он встал.
Вошел слуга.
— Его сиятельство ожидает господина советника.
— Иду, — отвечал фон Кейдель. Он подал Бекманну руку и произнес: — Уведомьте нас поскорей о ваших деяниях. Вы как раз вовремя поспеете в Ганновер, чтоб видеть там, какой оборот примут дела, — с улыбкой прибавил он.
— Мне очень жаль, что Ганновер против вас, — заметил Бекманн. — Это мое отечество, и хотя я давно покинул его, однако питаю к нему искреннюю любовь. Но все это уладится, когда наступит решительная минута. Пока будем идти, куда нас ведет судьба.
Он простился с фон Кейделем, который, в свою очередь, пошел вверх по лестнице в комнату министра‑президента.
Глава одиннадцатая
Утром того же 15 июня король ганноверский Георг V сидел в своем кабинете в Гернгаузене. Свежий воздух врывался в открытые окна, цветы распространяли легкий аромат, фонтаны тихо журчали под окнами в собственном саду короля. Все в монаршей резиденции, расположенной вдали от городского шума, дышало миром и спокойствием.
Тайный советник Лекс сидел за столом близ государя, собираясь читать только что полученные бумаги.
Камердинер подал королю сигару в длинном деревянном мундштуке. Георг V, удобно усевшись в кресле, медленно пускал в воздух клубы синеватого ароматного дыма.
— Мы получили из Франкфурта известие о вчерашнем голосовании, Ваше Величество, — сказал тайный советник.
— Ну, что же? — спросил король.
— Девять голосов против шести постановили мобилизовать союзную армию.
— Это вследствие австрийских настояний, и нельзя сказать, чтобы было умно придумано, — заметил король. — Решение ставит нас в большое затруднение, между тем как оборот, приданный делу ганноверской и гессенской подачей голосов, мог бы принести гораздо больше пользы.
— Осмелюсь заметить, что этот оборот дел, который приводит в действие прусскую армию и отвергает австрийские мотивы, потребован не большинством голосов. К тому же он, по моему крайнему разумению, не кажется мне особенно важным. Вещи дошли до той точки, где нет более места юридическим тонкостям, и одни факты имеют вес.
— Но граф Платен был того мнения, — сказал король, — что в Вене и Берлине отнеслись с большим вниманием к нашей подаче голосов…
— Пруссия, по‑видимому, иначе относится к делу, — ответил тайный советник, заглядывая в лежавшую перед ним депешу. — Прусский посланник покинул собрание союза немедленно после голосования и объявил, что его правительство считает союз расторгнутым и взамен его готово вступить с отдельными государствами в новый союз, на основании предложенного им плана реформ.
— Так вот они уже как далеко зашли! — воскликнул король и выпрямился. — Следовательно, Германский союз, этот оплот немецкого и общеевропейского мира, отныне должен считаться расторгнутым! В какие времена мы живем! Но, — продолжал он после минутного размышления, — как может Пруссия считать расторгнутым союз: это противоречит основным законам, и вся Германия тем должна сплотиться еще крепче!
— Я боюсь, что союз, который, опираясь на Австрию и Пруссию, был силен и прочен, без Пруссии лишится главного своего жизненного элемента, — заявил Лекс.
Король молчал.
— Меня сильно тревожит будущее, — продолжал тайный советник, и, — прибавил со вздохом, — я был бы гораздо спокойнее, если бы Ваше Величество имело на руках договор о нейтралитете.
— Но боже мой! — воскликнул король. — Я неоднократно высказывал свое намерение остаться нейтральным…
— Но не заключили договора, — заметил Лекс.
— Гессенский курфюрст тоже отказался себя связать, — возразил король. — К нему послали из Вены Вимпфена, ко мне — брата Карла. Вы знаете, курфюрст мне через Мединга отвечал, что намерен принять окончательное решение и вступить в договор не прежде, чем расторжение союза фактически совершится. Затем он, так же как и я, хочет остаться вполне нейтральным. Если бы я выступил вперед с договором, о котором говорит граф Платен, то смутил бы весь союз и нанес глубокое оскорбление Австрии.
— Я держусь того мнения, что Ваше Величество могли примкнуть к нейтральному договору, нисколько не подвергаясь опасности произвести смятение во Франкфурте. Более того, я желал бы, чтоб Ваше Величество, если это еще возможно теперь, как можно скорее подписали договор, не слушая более уклончивых советов графа Платена. Лучше сидеть на одном стуле, чем между двумя.
— Вы правы, — согласился король. — Необходимо прийти к какому‑нибудь концу. Нейтралитет вполне соответствует моему взгляду на вещи, и печальное событие во Франкфурте бессильно изменить мое убеждение, которое воспрещает мне всякое участие в войне между членами Германского союза. Я позову Платена и прикажу немедленно сделать все необходимые распоряжения для нашего присоединения к нейтральному договору.
— Я убежден, — радостно проговорил Лекс, — что Ваше Величество поступит справедливо, и успокоюсь только тогда, когда договор будет лежать в нашем архиве.
Вошел камердинер.
— Государственный канцлер граф Платен убедительно просит у Вашего Величества аудиенции.
— Пусть войдет! — с удивлением воскликнул король.
Лицо тайного советника мгновенно приняло озабоченный вид.
Граф Платен вошел. Всегда спокойная, довольная физиономия его на этот раз выражала крайнюю тревогу.
Тайный советник с беспокойством и пытливо смотрел на графа.
— Что вы нам несете такого важного, граф Платен? — спросил король.
— Ваше Величество, — отвечал министр, подходя к стелу, — нота, сию минуту переданная мне князем Изенбургом, побуждает меня немедленно просить у Вашего Величества решительного ответа.
— Что случилось? — с напряженным вниманием спросил король. — Чего еще хотят от нас там, в Берлине? Я только что, — продолжал он, — говорил с тайным советником о нейтралитете, и мне кажется, что теперь, когда, к сожалению, разрыв союза состоялся фактически, нам следовало бы принять участие в нейтральном договоре.
— Ваше Величество, — граф Платен вынул из кармана сложенную бумагу. Похоже, Берлин на этом уже не остановится.
— Вот как? — воскликнул король, и на лице его проявились удивление и негодование. — Чего еще могут они требовать?
— Союза на основании предложенных реформ, причем обещают гарантировать права на владения и верховную власть Вашего Величества.
— Это нечто совершенно новое! — изумился король.
— Слишком поздно, — тихо проговорил тайный советник и печально опустил голову.
— Эти предлагаемые реформы, — живо заговорил король, — отнимают у меня большую и существеннейшую часть моей верховной власти: я раз и навсегда их отверг. Какую власть хотят они там еще за мной гарантировать после того, как я откажусь от самой значимой части этой власти? Передайте князю Изенбургу…
— Не будет ли угодно Вашему Величеству выслушать содержание ноты князя? — сказал Платен. — Он требует ответа к сегодняшнему вечеру, и если ответ этот окажется неудовлетворительным, то есть если Ваше Величество не согласится принять участие в союзном договоре, то Пруссия объявит Ганноверу войну.
Король выпрямился.
— Вот как! — сказал он. — Читайте!
Он закрыл лицо руками и откинулся на спинку кресла. Граф Платен развернул бумагу, которую держал в руках, и прочел прусскую ноту, помеченную настоящим числом.
Король во время чтения не шевелился и не проронил ни слова.
Когда граф Платен кончил, Георг поднял голову: лицо его было чрезвычайно серьезно.
— Какое ваше мнение? — тихо и холодно спросил он.
— Ваше Величество, — отвечал граф Платен нерешительно и с легкой дрожью в голосе, — я не думаю, чтобы дела действительно зашли так далеко, как говорится в этой ноте. Они просто хотят нас напугать, и если выиграть время…
— Но они сегодня же вечером требуют ответа! — нетерпеливо перебил тайный советник.
— Конечно, ответ необходимо дать, — согласился граф Платен, — но всегда есть возможность обойти решительный вопрос и прибегнуть к какому‑нибудь moyen terme[70]. Например, Ваше Величество может сказать, что мы готовы вступить с Пруссией в договор — слово «союз» следует всячески обходить, — но что для этого надо с обеих сторон тщательно обсудить вопрос. Таким образом мы выиграем несколько дней, а там нам на помощь могут явиться новые события. Граф Ингельгейм ежечасно ожидает известия о возвращении австрийских войск в Саксонию. Тогда мы станем сообразовываться с обстоятельствами…
— Я твердо решился! — прервал его король, и гордые черты лица его получили выражение непреклонной воли. Он с достоинством поднял голову и продолжал: — Условия, на основании которых я могу принять участие в новом союзе, подрывают верховную власть и самые святые права короны, наследованные мной от предков и признанные за мной всей Европой. На мне лежит обязанность передать их сыну ненарушимыми. Таково мое убеждение, и на требование Пруссии у меня один ответ: нет! И затем, — прибавил он, — я не хочу более никаких уверток, недомолвок или переговоров. Я хочу, чтобы в Берлине уяснили следующее: обещанный нейтралитет я свято сохраню, но в предлагаемый ими союз никогда не вступлю!
Тайный советник молчал.
Граф Платен вертел в руках ноту князя Изенбурга и, по‑видимому, искал другой способ несколько смягчить решительный ответ короля.
Георг V встал.
— Но положение, — продолжал он, — в котором в настоящую минуту находятся мой дом и мое государство, так серьезно, грядущие события влекут столь важные последствия, что я во всяком случае намерен прежде выслушать мнение моего совета.
Граф Платен с облегчением вздохнул и кивнул в знак согласия.
— Отправляйтесь, любезный граф, немедленно в город, — приказал король, — и созовите сюда всех министров!
— Приказание Вашего Величества будет исполнено, — поспешно проговорил Платен.
— В то же время, — продолжал король, — нам следует немедленно позаботиться о сосредоточении армии, рассеянной по всем частям королевства. Я желаю по возможности избегнуть всякого кровопролития в стране и вместе с войсками отправлюсь в Южную Германию, где можно будет действовать заодно с нашими многочисленными союзниками. Таким образом, если нам и не удастся избежать оккупации страны неприятельскими войсками, мы все‑таки избавим ее от ужасов войны.
— Ваше Величество хотите лично… — воскликнул граф Платен.
— Я хочу исполнить свой долг, — с достоинством перебил его король. — В военное время мое место посреди моих солдат. Отправьте немедленно предписания моим генерал‑адъютантам, начальнику главного штаба и командиру инженерного корпуса, — прибавил он, обращаясь к Лексу, — а вы, любезный граф, поспешите явиться ко мне сюда с другими министрами.
Граф Платен и тайный советник удалились.
Король остался один.
Он сидел у стола, погруженный в глубокое раздумье. Голова его низко опустилась, и по временам глубокие вздохи вырывались из его стесненной груди. Потом он медленно распрямился и устремил вопросительный взгляд наверх.
Вдруг камердинер поспешно растворил обе половинки дверей и доложил:
— Ее Величество королева!
Георг V мгновенно очнулся и встал.
Королева быстрыми шагами вошла в кабинет и приблизилась к королю, который обнял ее и поцеловал в лоб.
Королеве Марии было тогда около сорока пяти лет. Высокого роста и чрезвычайно стройная, она отличалась редкой грацией в движениях. Ее лицо, обрамленное темно‑русыми густыми волосами, утратило розовые тона и детское выражение, которые очаровывали на большом поясном портрете, висевшем над столом короля и изображавшем кронпринцессу в самой ранней молодости. Но добродушное и веселое, оно еще не потеряло всей своей свежести, а прекрасные темно‑серые глаза сияли нежностью и лаской. Теперь взгляд ее выражал тревогу, а голос дрожал от волнения.
— Я видела из окна, как к тебе спешил граф Платен, — посмотрев на мужа, проговорила Мария. — В это тревожное время приходится постоянно опасаться дурных известий, и я пришла к тебе узнать, не случилось ли чего нового? — произнесла она своим звучным, удивительно гибким голосом. — Что‑нибудь важное? — спросила она минуту спустя, робко заглядывая в серьезное, почти торжественное лицо короля.
Георг V отвечал:
— Было бы неблагоразумно уверять тебя, будто ничего не стряслось. Ты все равно не замедлила бы узнать правду. К тому же королева обязана принимать участие в великих кризисах и переживать их заодно с народом.
Он нежно положил ей на голову руку.
— Да, произошло нечто чрезвычайно важное, — сказал он. — Сегодня вечером у нас начинается война с Пруссией.
— О, боже мой! — воскликнула королева дрожащим голосом. — Возможно ли это! Но ты хотел при любом раскладе остаться нейтральным!
— Мне предлагают условия, которых я не могу принять, не уронив чести и достоинства моей короны. Я должен их отвергнуть, и тогда мне объявят войну! — проговорил король тихим, мягким голосом, как бы желая смягчить жестокое известие.
— Это ужасно! Неужели нет более никакой возможности отвратить такое страшное зло? Не могу ли я чего‑нибудь сделать для восстановления дружеских отношений? — воскликнула она, как бы внезапно осененная светлой мыслью. — Королева Августа, вероятно, так же как и я, с ужасом смотрит на эту в полном смысле слова братоубийственную войну.
— Поистине братоубийственную, — повторил король. — Из многих семей один брат находится на моей службе, другой на прусской. Но исправить ситуацию нет никакой возможности, поверь мне. Я в этом убежден. Единственное, что я могу еще сделать, это по мере сил избежать кровопролития здесь, на нашей земле. Граф Платен полагает, что еще можно потянуть время…
— Ах, если бы он не так много медлил до сих пор, — живо заметила королева, — мы не оказались бы теперь в таком тяжелом, безвыходном положении! Еще если бы Габленц со своими войсками не был отсюда отпущен! Поверь мне, — убедительно проговорила она, — мы вовлечены в это несчастье исключительно двойственностью Платена.
Король мрачно смотрел перед собой.
— Во всяком случае, теперь ничем не поправишь дела, — сказал он. — Нам остается только действовать. Я нынче же ночью вместе с Эрнестом отправляюсь в армию, которую намерен созвать всю на юге королевства, с тем, чтобы при первой возможности соединиться с южными войсками.
— А мы куда отправимся? — боязливо спросила королева.
Король обеими руками нежно обнял ее за голову, поцеловал в лоб и сказал чрезвычайно ласковым, но в то же время решительным тоном:
— Ты и принцессы — вы останетесь здесь!
— Здесь?! — с ужасом повторила королева, в волнении отступая шаг назад и устремляя на мужа испуганный взгляд. — Здесь? Во время неприятельской оккупации? Никогда! Ты, верно, несерьезно говоришь.
— Совершенно серьезно, — возразил король, — ты, мой ангел‑королева, при спокойном размышлении вполне поймешь мои причины: я в этом убежден.
Королева вопросительно на него посмотрела и слегка покачала головой.
— Я хочу, — продолжал король, — избавить страну от ужасов войны, а войско от бесполезного кровопролития, поэтому стягиваю его на юг, где ему придется действовать не одному, а вместе со всей южногерманской армией. Место мое и кронпринца — посреди войска. Но я не могу избавить страну и семейства моих подданных от притеснений, страданий и горестей, связанных с неприятельской оккупацией. Мои подданные должны пустить в свое отечество солдат неприятеля, которые поселятся в их домах, между тем как их сыновья будут драться на поле сражения. Я с моим сыном разделю судьбу моей армии, — а ты, королева, с дочерями разделишь судьбу страны — это наша королевская обязанность. Ни в одной ганноверской семье не должно говориться, что королевская фамилия поступает иначе, чем ее подданные. Мы связаны со страной тысячелетними преданиями, мы плоть от ее плоти и кровь от ее крови. Неужели ты допустила бы говорить о себе, что королева пребывает в безопасности, вдали от страны, которую постигло великое испытание?
Его рука искала руку супруги, а голова обратилась в ту сторону, где слышался легкий шорох ее платья.
Королева стояла со сложенными руками. Глаза ее, устремленные на мужа, утратили всякое выражение страха и сияли влажным блеском.
Когда король окончил говорить, она схватила его протянутую руку, опустила голову на его плечо и нежно к нему прижалась.
— Ты прав! — воскликнула она. — Прав, как всегда. Твоя великая и благородная душа всегда умеет увидеть то, что честно и справедливо. Да, мой король и супруг, я останусь здесь, вдали от тебя, но тесно связанная с тобой нашею любовью и долгом перед страной.
— Я знал, что ты одобришь мое решение, — спокойно и дружески проговорил король. — Моя королева не может думать и чувствовать не заодно со мной.
Супруги горячо обнялись. Королева плакала, склонив голову на могучую грудь государя, а он нежно гладил ее голову.
Цветы благоухали, фонтаны под окнами журчали, птицы щебетали на деревьях — вся природа дышала миром и счастьем.
Но где‑то вдали от этого солнечного света и внешнего благоухания собирались грозные тучи, которые должны были мгновенно и навсегда погасить луч спокойного счастья королевской семьи.
У дверей раздался стук.
Король тихонько отстранил от себя супругу.
— Министры ожидают приказаний Вашего Величества, — доложил вошедший камердинер.
— Теперь, — ласково сказал король супруге, — предоставь мне с министрами выполнить то, что нам предстоит. После я увижусь с тобой.
— Да снизойдет на тебя благословение Божие! — из глубины души вырвалось у королевы.
— Тяжелые времена настали, любезный Лекс, — дружески заметила она тайному советнику, который низко перед ней преклонился, — дай бог, чтоб они благополучно миновали!
И она медленно вышла из кабинета.
Министры вошли и стали размещаться вокруг стола.
Кроме графа Платена, Бакмейстера и генерала фон Брандиса, здесь присутствовал обер‑гофмаршал фон Малортие, старик с короткими, седыми волосами и морщинистым, постоянно недовольным лицом. Его собственная фигура, облаченная в наглухо застегнутый фрак и черный галстук, делала его гораздо более похожим на канцелярского служителя, страдающего болью в желудке, нежели на остроумного автора книги «Гофмаршал, каким он должен быть», которая пользуется большим авторитетом при всех дворах.
За ним следовал министр юстиции Леонгардт, знаменитый законовед, человек с виду чрезвычайно простой, с редкими, гладко причесанными волосами и в серебряных очках, за которыми скрывались выразительные, оживленные и чрезвычайно проницательные глаза. После них шли: министр народного просвещения, белокурый, еще молодой человек, бывший дипломат и посланник в Гааге, и еще тоже молодой министр финансов Дитрихс, которого граф Платен рекомендовал было в секретари к одному министру с весьма аристократической фамилией, но король на это предложение отвечал: «Если он способен работать за министра, то пусть сам будет министром»!
Все эти господа вошли в кабинет короля в глубоком молчании.
Когда они заняли места, Георг V сказал:
— Господа министры! Его Величество король прусский сделал мне через своего посланника предложение вступить с ним в новый союз, после того как будет расторгнут старый Германский союз. Вам известны события во Франкфурте‑на‑Майне. Я до сих пор не считал расторжение Германского союза возможным, несмотря на заявления прусского посланника. К сожалению, я должен ныне признать союз фактически расторгнутым. Повторяю еще раз перед вами всеми, что я считал себя вправе и был готов сохранить нейтралитет в войне, которая, к великому горю Германии, готовится между Австрией и Пруссией. Но Его Величество король прусский не этого от нас требует. Граф Платен, прошу вас, прочтите ноту князя Изенбурга.
Граф Платен медленно прочел прусскую ноту.
— Я полагаю, господа, что вам известна сущность предлагаемых Пруссией реформ, на основании которых я должен принять участие в союзе?
Министры отвечали утвердительно.
— Я принужден был бы также, — продолжал король, — отказаться от командования моей армией — той армией, которая дралась под Минденом, в Италии, при Ватерлоо. И эта армия должна была бы присоединиться к войску, выступающему против Австрии, и действовать заодно с ним. Перед лицом Бога, моей совести и присяги, данной мной стране, обращаюсь к вам, господа министры, с вопросом: могу ли я принять подобное предложение? Могу ли я сделать это в качестве защитника моего королевства? Дают ли мне на это право законы страны? Отвечайте сначала вы, граф Платен, как министр иностранных дел.
Граф Платен наклонился немного вперед и, потирая руки, произнес:
— Нет, Ваше Величество, — но, может быть…
Король перебил его:
— А вы, господин фон Малортие?
Обер‑гофмаршал, который еще больше обыкновенного съежился и ушел в свой черный галстук и застегнутый фрак, тихим голосом заявил:
— Нет, Ваше Величество.
— А вы, господин министр юстиции?
Министр юстиции отвечал коротко, ясным и громким голосом:
— Нет!
— Господин министр внутренних дел?
— Нет, ни в каком случае! — воскликнул Бакмейстер.
Такой же точно ответ дали министры военный, народного просвещения и финансов.
Король встал, а за ним и все министры.
— Я очень рад, господа министры, — сказал Георг V, — что вы все дали на прусские предложения один и тот же ответ, который я сам, по моему крайнему разумению, уже дал графу Платену немедленно после того, как он мне сообщил содержание ноты князя Изенбурга. Мне весьма утешительно знать, что я в таком важном случае думаю заодно с моим советом. Не потому, — прибавил он, гордо выпрямляясь, — чтоб я желал переложить ответственность свою на ваши плечи, но потому, что ваш единодушный ответ служит мне подтверждением факта, что бедствия, которые должен навлечь на страну наш отказ Пруссии на ее предложения, посланы нам Богом, и мы не можем никакими средствами их отвратить. А теперь, — прибавил государь, — так как вы согласны со мной о невозможности присоединения к новому союзу, нам следует немедленно приступить меры, которые предписывает наше затруднительное положение. Я хочу во главе моей армии отправиться на юг Германии, и для этого намерен как можно быстрее сосредоточить войска на юге моих владений. Мы с моими генералами немедленно сделаем все необходимые распоряжения. Королева и принцессы останутся здесь, чтобы разделить участь моих подданных.
Между министрами пронесся одобрительный шепот.
— Ваше Величество, — сказал министр Бакмейстер, — могу ли я просить у вас решения по одному вопросу, не терпящему отлагательства?
— В чем дело? — спросил король.
— Генерал Мантейфель стоит под Гарбургом, — сообщил министр, — и в силу данного ему позволения на проход через наши владения требует вагонов для провоза в Минден прусских войск. Дирекция железной дороги спрашивает у меня, что ей делать?
Король стиснул зубы.
— Он хочет быть в самом сердце моих владений, когда будет объявлена война! — воскликнул он. — Прикажите, чтоб все вагоны были немедленно отосланы сюда. Они будут нужны для перевоза наших собственных войск.
— При настоящем положении вещей, — продолжал министр, — нам следует также распустить сословное собрание. Я уже заготовил приказ.
— Дайте его сюда! — потребовал король.
Министр положил приказ на стол.
— Государственный секретарь здесь, — добавил он.
— Позовите его сюда!
Министр вышел и через минуту вернулся с государственным секретарем, в присутствии которого король подписал приказ.
— А теперь, господа, — воскликнул он, — идите, и пусть каждый из вас готовится в своем ведомстве к борьбе с тяжелыми временами! Молю всеблагого и всемогущего Господа, чтоб он позволил мне снова видеть вас всех вокруг меня довольными и счастливыми. Граф Платен и генерал Брандис, вас прошу остаться.
Остальные министры молча поклонились и вышли из кабинета.
— Прошу вас, граф Платен, — сказал король, — приготовить князю Изенбургу ответ — ясный и определенный, подобный только что слышанному мной от всех вас.
— Желание Вашего Величества будет немедленно исполнено, — заверил граф Платен. — Но вы, конечно, изволите приказать, чтобы форма ответа была дружелюбная, не исключающая возможности дальнейших сношений…
— Вы еще считаете возможными дальнейшие сношения?! — изумился король. — Ответ должен быть только учтив, и не более того, — продолжал он. — Можете еще раз упомянуть о моей готовности остаться нейтральным, но что касается предложения насчет реформ — ответ на него не должен оставлять ни малейшего сомнения.
— Если Вашему Величеству угодно, — сказал граф Платен, — ответ может редактировать государственный советник Мединг. Он со своим искусством в выборе выражений сумеет избегнуть всякой резкости…
— Пусть его в самом деле отредактирует Мединг, — согласился король. — Я уверен, что он сделает это в самых приличных выражениях, но зато сильно сомневаюсь, чтоб самые лучшие выражения могли здесь послужить в пользу. Пришлите ко мне Мединга, как только у него будет готов ответ.
Граф Платен быстро удалился.
— Вы, любезный генерал, — король обратился к военному министру, — останьтесь здесь и вместе с генерал‑адъютантами и с начальником главного штаба начертайте мне план сосредоточения войск. Господин тайный советник, собрались генералы?
— Они ожидают приказаний Вашего Величества.
— Введите их сюда.
— При одной мысли, что выступаю в поход вместе с Вашим Величеством, я снова делаюсь молодым, государь, — заявил генерал Брандис. — Сердце мое опять забилось сильно, как во времена великого Веллингтона![71]
— Тогда Германия действовала единодушно, — со вздохом проговорил король.
Между тем как генералы совещались в Гернгаузене, адъютанты скакали в город с депешами, а телеграф передавал войскам приказы. Город Ганновер находился в лихорадочном волнении. На тихих обычно улицах собирались толпы любопытных и горячо рассуждали о последних событиях. Глубокое смущение выражалось на всех лицах, когда кто‑либо из более посвященных в государственные дела объявлял, что армии приказано идти на юг Германии и что король покидает столицу. Уже с некоторых пор общественное мнение было враждебно настроено против Пруссии, все громко порицали, что государь отпустил бригаду Калика и генерала Габленца, австрийским войскам устраивались разного рода овации. Но тем не менее, когда дело дошло до действительной войны и грозное положение вещей сделалось очевидным каждому, население Ганновера пришло в сильное волнение. А известие о предполагаемом отъезде короля окончательно повергло его в смятение.
Обитатели Ганновера часто составляли оппозицию и порицали и критиковали все, что делалось и не делалось, но резиденцию без короля никаким образом не могли себе представить. Это казалось им чем‑то невероятным, и уже начинали раздаваться голоса, говорившие: «Король спасается и оставляет нас одних. Неприятель будет действовать беспощадно и наложит на нас контрибуцию!»
Но с другой стороны слышалось: «Королева с принцессами остается здесь. Ее присутствие будет защитой для резиденции, враги не посмеют не уважить в ней ее королевского достоинства». И многие успокаивались при этом известии.
Таким образом, толпа переходила от одного настроения к другому. Наиболее напуганные спешили к бургомистру и его приближенным с требованием, чтоб они просили короля не покидать города. Другие хотели, чтобы войска стянулись вокруг резиденции, третьи советовали ломать железную дорогу. Одним словом, на улицах со всех сторон сыпались советы, и каждый произносивший их питал убеждение, что если его послушают, то город и страна будут спасены.
Войска, стоявшие в Ганновере, спешили на железную дорогу, другие батальоны и эскадроны вступали в город и после непродолжительной остановки отправлялись далее. Но все эти передвижения совершалось так таинственно, что многочисленная публика, толпившаяся вокруг станции железной дороги, оставалась в полном неведении о военных действиях.
На большой площади перед станцией железной дороги скопилась кучка горожан, ведущих оживленную беседу. Небольшого роста, бледный, черноволосый мужчина со сверкающими глазами, по‑видимому, старался их успокоить. Все они принадлежали к типу рослой, мощной, нижнесаксонской буржуазии, неустрашимой в действии, когда ясно видят свою дорогу, но легко теряющей всякое самообладание в необыкновенных, запутанных обстоятельствах. Люди северогерманской и нижнесаксонской расы во всяком новом положении должны сначала осмотреться, свыкнуться с ним, прежде чем применить к делу свои силы. Все неожиданное, новое, непривычное смущает их и на время парализует деятельность.
Так точно было и теперь. Сильные мужчины с резкими, характерными чертами лица стояли совершенно растерянные и беспомощные. На их физиономиях выражалось глубокое недовольство, готовое излиться на правительство, которому всегда приходится отвечать, если что‑нибудь нарушает привычный, спокойный ход времени.
— Да будьте же вы, наконец, рассудительны! — говорил белолицый коротышка, сильно жестикулируя. — Не дети же вы, в самом деле, и не могли подумать, что Германия ни к чему новому не придет, а будет постоянно довольствоваться одними толками за пивной кружкой. Всякий разумный человек должен был видеть, к чему клонятся дела. К тому же вы не знаете ничего наверняка.
— В этом‑то и несправедливость! — перебил его высокий, дородный мужчина, говоривший густым басом. — В том‑то и несправедливость, что мы ничего не знаем. Могли бы нас наконец оповестить о том, что делается, чтобы дать время позаботиться о семьях и устроить свои дела.
— Да погодите же! — нетерпеливо воскликнул первый. — Вы слышали, что генералы еще совещаются с королем в Гернгаузене, а министры только что оттуда вышли. Вы хотите знать решение, прежде чем оно родится. Жаль, в самом деле, — прибавил он и засмеялся с досадой, — жаль, что король не пригласил на совещание весь город.
— Зонтаг прав! — произнес старик, одетый в платье простого мещанина. Выразительные черты лица его хранили отпечаток многих невзгод, и говорил он на нижнесаксонском наречии, которое сильно распространено между поселянами и в низшем классе горожан. — Зонтаг прав. Мы должны ждать, король в свое время сообщит нам все, что следует. Он не оставит нас в неведении и опасности: недаром же он сын Эрнста‑Августа, — сказал он успокоительным тоном, обращаясь к другим горожанам, которые слушали его внимательнее и с большим доверием, чем маленького, бледного, вертлявого купца Зонтага.
— Вон, — воскликнул внезапно последний, — стоит карета графа Веделя! — И он указал на изящный экипаж, только что остановившийся у здания станции железной дороги. Кучер с трудом сдерживал красивых лошадей, которые нетерпеливо били копытом о мостовую. — Пойдемте к графу, он, без сомнения, знает все, что делается.
Зонтаг быстрыми шагами направился к карете, другие последовали за ним.
Вскоре из вокзала вышел комендант королевского замка граф Альфред Ведель, в мундире, соответствующем его званию.
Он с удивлением увидел густую толпу, окружавшую его карету и, казалось, желавшую перерезать ему путь.
— Что у вас здесь за собрание? — ласково спросил он. — Как, и вы тут, господин Зонтаг? И вы, любезный Конрад?
Он подошел к старику, который вместе с Зонтагом отделился от толпы, и подал ему руку.
— Господин граф, — сказал старый придворный, седельный мастер Конрад, ветеран великой войны и любимец короля Эрнста‑Августа, который очень любил с ним разговаривать и всегда с удовольствием выслушивал его в высшей степени бесцеремонные, иногда даже грубые, но всегда меткие замечания, приправленные народным юмором, — господин граф, — и он отвел рукой купца Зонтага, который было тоже выступил вперед и собирался заговорить. — Мы все здесь в большой тревоге и неизвестности. Со всех сторон слышим, что начинается война и король уезжает. Судьба города беспокоит горожан, и они желали бы точнее узнать, что их ожидает.
— Да, — вмешался купец Зонтаг, освобождаясь от удерживавшей его руки старого Конрада, — да, господин граф, все эти люди тревожатся, волнуются и готовы потерять всякое мужество. Я делал все, чтобы их успокоить, но напрасно. Прошу вас, господин граф, скажите, что случилось и что им делать.
Взоры всех с напряженным вниманием устремились на красивого молодого мужчину, который с минуту молча и спокойно обводил глазами теснившуюся вокруг него толпу.
— Что случилось? — переспросил он громким, внятным голосом. — Ничего необыкновенного: мы накануне войны и король выступает со своей армией на поле сражения.
— А нас и город оставляет беззащитными? — послышался ропот в толпе.
Легкая краска выступила на лице коменданта, и гневная молния сверкнула в его глазах.
— Всякий ганноверский солдат, отправляясь на войну, — сказал он, — разве не оставляет дома своей семьи? Королева и принцессы остаются здесь посреди вас, а я остаюсь при Ее Величестве.
— A! — раздалось в толпе. — Если королева здесь остается, то, конечно, город еще не в большой опасности.
— В большой или не в большой, а королева разделит с вами вашу участь, равно как король собирается разделить участь своих солдат. Справедливо это или нет? Отвечайте! — воскликнул граф Ведель.
— Справедливо! — громко ответил Конрад, а толпа за ним несколько тише подтвердила: «Да! Да!»
— Но, — продолжал граф Ведель, — вы у меня спрашивали еще, что вам делать?
Он приблизился к толпе, так что очутился почти посреди нее. Сверкающий взгляд его перебегал с одного из присутствующих на другого.
— Как! — воскликнул он. — Ганноверский гражданин не знает, что ему делать, когда страна в опасности и король выступает в поход? Старый Конрад мог бы вам это сказать лучше меня: он немало видел на своем веку и жил во времена, о которых я знаю только понаслышке. Армия наша находится на мирном положении, — с одушевлением продолжал он, — она нуждается в припасах и помощи: пушки должны быть из арсенала препровождены на железную дорогу, а ганноверские граждане толкутся здесь без дела, жалуются и ропщут! Припасайте лошадей и работников, а где не хватит тех и других — будем действовать сами. Я тоже присоединюсь к вам, лишь только позволит служба. Армия выступает в поход, — продолжал он, — надо позаботится о ее продовольствии: не голодать же солдатам! Составьте комиссию и тащите сюда, на железную дорогу, все, что у вас есть в кладовых. Мы отправим провизию в армию для удовлетворения первых потребностей. Затем, не сегодня завтра войска наши могут наткнуться на неприятеля, к нам явятся раненые и больные — пусть ваши жены щиплют корпию и готовят перевязки. Идите к моей жене, она вам посоветует, как все устроить. Сколько раз вы играли в солдаты в своих стрелковых кружках. Теперь регулярное войско уходит: неужели вы оставите королеву в Гернгаузене без защиты? Неужели не найдется никого из ганноверских граждан, кто взял бы на себя обязанность защищать королеву, которую король с доверием оставляет в своей резиденции? Теперь, — прибавил он несколько тише и медленнее, — я вам сказал, что делать. Дела, в сущности, столько, что я решительно не понимаю, как вы можете бесполезно тратить столько времени, оставаясь здесь, чтобы волноваться и трусить…
Толпа молчала. Зонтаг с торжествующим видом поглядывал на нее блестящими глазками.
Старый Конрад почесывал за ухом.
— Гром и молния! — воскликнул он наконец. — Граф говорит правду! Стыдно нам, старикам, что мы ожидаем, чтоб нас учила молодежь! Скорее вперед! — громко крикнул он. — Будем делать все, что предпишет нужда. Разделимся на партии. Вот Зонтаг понимает в этих делах: он устроит комитет, а я оправлюсь в арсенал.
Он подошел к графу Веделю и сказал ему:
— Вы, граф, истый ганноверец. Вы нам резко высказали ваше мнение и были правы. Но будьте покойны, мы не оставим пятна на чести ганноверских граждан!
— А ты, старый дружище, — прибавил он, скидывая шапку и кланяясь стоящей посреди площади статуе короля Эрнста‑Августа, — ты увидишь, что старый Конрад и все ганноверские граждане сумеют честью и правдой послужить твоему сыну.
Он подал руку графу, который крепко ее пожал.
Мрачное настроение толпы изменилось как по волшебству. Тревога и уныние мгновенно сбежали со всех лиц, которые вдруг засияли решимостью и мужеством.
Все окружили графа Веделя и, пока он садился в карету, протягивали ему свои крепкие руки.
Лошади помчались, и экипаж быстро покатился по дороге в Гернгаузен. Толпа, обменявшись еще несколькими словами, разошлась.
Через час облик города изменился.
На улицах не было более уныло слоняющихся групп: всюду кипела жизнь, но в то же время и царствовал порядок. Горожане всех сословий, работники и мастеровые на телегах и тачках перевозили оружие из арсенала на станцию железной дороги. Другие на плечах перетаскивали туда же съестные припасы, частью для немедленного продовольствия солдат, частью для отправления в магазины. Женщины ходили по улицам легкими шагами, но с озабоченными лицами, собирались в кучки и совещались насчет своей деятельности. Наиболее влиятельные горожанки спешили в великолепный, только что отстроенный дом графа Веделя, где графиня принимала их во вновь организованный комитет.
Старый Конрад стоял у входа в арсенал, то помогая накладывать оружие, то крепким словцом понукая неловких работников. А что касается купца Зонтага, то его можно было видеть везде: суетящегося, бегающего, кричащего. Он от волнения был бледнее обыкновенного, охрип от постоянного говора, но все не переставал ободрять и воодушевлять других.
Настал вечер, и солнце зашло, осветив в последний раз короля в замке его предков.
Было девять часов, когда государственный секретарь Мединг, приготовив ответ на прусскую ноту, быстро ехал между двумя рядами фонарей по аллее, ведущей в Гернгаузен.
Во дворце вовсе не было заметно того волнения и движения, какие царили в городе. Привратник стоял у подъезда, лакеи в красных ливреях расхаживали по прихожей медленными неслышными шагами — только лица были озабоченнее обыкновенного.
Зато на дворе стояли запряженные и освещенные фонарями фургоны, вокруг которых суетились слуги, нагружая их чемоданами и сундуками.
Придворные лакеи с тревожным любопытством поглядывали на приближенных короля, являвшихся к нему в столь непривычные часы. Но привычка и строгая дисциплина не давали им вымолвить слова, и только одни робкие взгляды, бросаемые украдкой на посетителей, обнаруживали внутреннее беспокойство.
— Король в своем кабинете? — спросил, входя, Мединг.
— Его Величество в комнате у Ее Величества.
Мединг молча поднялся в верхний этаж по лестнице, где так часто можно было в эти самые часы видеть нарядных дам и кавалеров в блестящих мундирах. Теперь же яркий свет канделябров освещал картину полного безмолвия и пустоты.
У входа в покои королевы сидел в креслах ее старый, седой камердинер, а перед ним стоял камердинер короля.
— Доложите королю о моем приходе, — сказал Мединг.
Камердинер с минуту помедлил.
— Извините, господин секретарь, — промолвил он, — если я осмелюсь задать вам один вопрос. Правда ли, что война объявлена и что неприятель явится сюда?
Мединг печально на него взглянул.
— Правда, любезный Мальман, — отвечал он. — Но, пожалуйста, доложите обо мне поскорее: мы не должны терять ни минуты.
— О Господи, какие времена! — воскликнул камердинер короля, направляясь во внутренние покои, между тем как старый камердинер королевы закрыл лицо руками.
Государственный секретарь последовал за камердинером и, пройдя большую переднюю, вошел в гостиную королевы.
Там все королевское семейство сидело вокруг чайного стола.
Король был в генеральском походном мундире. Он весело улыбался королеве, которая с трудом удерживала беспрестанно наворачивающиеся на глаза слезы. Рядом с королевой сидела семнадцатилетняя принцесса Мария, грациозное существо с прекрасными, благородными чертами лица, с большими, голубыми, задумчивыми глазами. Менее матери привыкшая владеть собою, она не удерживала своих слез и то и дело утирала батистовым платком раскрасневшиеся очи. По другую сторону короля сидела его старшая дочь, принцесса Фридерика. Белокурая и стройная, как сестра, она наследовала от отца его повелительную осанку. Чрезвычайно скромная и чуждая всякой самонадеянности, она, однако, своей фигурой и каждым движением изобличала свое королевское происхождение. Девушка не плакала. Ее большие, ясные голубые глаза сияли смелым, горделивым блеском. Она по временам кусала свои розовые губы, и если бы кто заглянул ей в сердце, то нашел бы там сильное желание следовать лучше за отцом, в поход, чем оставаться в бездействии дома и в печальном уединении ожидать известий из армии.
Напротив сидел, откинувшись на спинку стула, кронпринц Эрнст‑Август, высокий молодой человек двадцати одного года. Ни одной чертой лица не напоминал он своего отца. Узкий, покатый лоб его был почти весь закрыт гладкими темно‑русыми волосами. Нос его был слегка приплюснут, а полные губы как бы с некоторым усилием приоткрывались, чтоб пропускать лениво и медленно произносимые слова. Но прекрасные зубы и блестящие, добродушные глаза делали лицо молодого принца чрезвычайно симпатичным.
Кронпринц был одет в гусарский мундир, состоявший из синего доломана с серебряными шнурками. Он кусал зубами ногти левой руки, а правой играл с маленькой собачкой из породы такс, которая ласкалась к нему.
Такая картина представилась глазам государственного секретаря, когда он вошел в комнату королевы.
С глубоким вздохом окинув взором королевскую семью, он приблизился к королю.
— Доброго вечера, любезный Мединг, — произнес Георг V своим обычным тоном. — Вы мне принесли ответ Пруссии. Надеюсь, что он сформулирован точно и ясно?
— Я старался с точностью передать мысль Вашего Величества, — отвечал Мединг, низко кланяясь.
— Прикажешь, чтоб мы удалились? — спросила королева.
— Нет, — ответил король, — это столько же касается вас всех, сколько и меня. Наш секретарь потрудится прочесть нам свою работу. Садитесь, любезный Мединг, и читайте.
Мединг сел против короля, раскрыл сложенную бумагу и начал ее читать.
Король облокотился о спинку стула и закрыл лицо рукой, как делал всякий раз, когда хотел во что‑нибудь серьезнее вникнуть.
Королева и принцесса Мария тихонько плакали; принцесса Фридерика с напряженным вниманием вслушивалась в каждое слово.
Кронпринц играл с собачкой.
Государственный секретарь читал медленно, выразительно, несколько останавливаясь после каждой фразы.
В ответе этом, написанном в чрезвычайно спокойном и умеренном тоне, выставлялись все причины, по которым король считал невозможным для себя примкнуть к новому союзу, предлагаемому Пруссией. В нем снова и подчеркнуто упоминалось о намерении короля держаться самого строгого нейтралитета. Затем следовало объяснение, что Георг никогда не станет сражаться ни с одной из немецких держав, иначе как разве только защищаясь, в случае если будет произведено нападение на его владения. В заключение выражалась надежда, что столь желанные дружеские отношения между Пруссией и Ганновером не будут расторгнуты и в настоящие дни.
Король молча слушал до конца.
Когда государственный секретарь кончил, Георг V поднял голову и сказал:
— Вы и на этот раз прекрасно передали мою мысль. Я не могу здесь ничего ни прибавить, ни убавить. Но не думаете ли вы, — продолжал он после минутного размышления, — что отказ следует выразить еще резче, чтоб они не подумали, будто я хочу продолжать с ними переговоры о предлагаемых ими реформах? Это было бы недостойно нас и нечестно в отношении Пруссии.
— Я полагаю, государь, — возразил государственный секретарь, — что насчет этого пункта редакция ответа не оставляет ни малейшего сомнения. Что же касается примирительного и спокойного тона в целом, то я думаю, Ваше Величество его вполне одобрит, так как само желало бы по возможности сохранить мир.
— Конечно, конечно! — с живостью проговорила королева.
— По возможности! — повторил король с глубоким вздохом. — Прошу вас, любезный Мединг, — сказал он минуту спустя, — прочтите мне еще раз весь ответ. Извините меня, что я вас так мучаю, но дело это чрезвычайно важно, о нем стоит подумать дважды.
— С величайшей готовностью, Ваше Величество, — сказал государственный секретарь и вторично, так же медленно, прочел ответ.
— Прекрасно! — воскликнул король, когда он замолчал. — У меня нечего прибавить. Что ты об этом скажешь? — спросил он, обращаясь к королеве. — Прошу тебя и вас всех, выскажите ваше мнение. Дело это равно касается и вас.
— Ему надлежит совершиться! — со сдерживаемыми слезами проговорила королева.
— А ты, Эрнст, — спросил король, — не имеешь ли чего сказать?
— Нет! — отвечал кронпринц, вздыхая и гладя собачку, которую взял на колени.
— А вы обе? — продолжал спрашивать король.
— Нет! — отвечала принцесса Фридерика, гордо подымая голову.
— Нет! — с рыданием произнесла ее младшая сестра.
— В таком случае дело это надо считать оконченным, — весело сказал король. — Я, по плану моих генералов, — продолжал он, обращаясь к Медингу, — приказал, чтобы войска стягивались около Геттингена, а оттуда уже отправлялись на юг. Я сам уезжаю туда в два часа. Прошу вас, любезный Мединг, побывайте у генерала Брандиса и у графа Платена, и передайте им, чтоб они были в два часа на железной дороге, готовые к отъезду. Вас самих я тоже прошу приготовиться и мне сопутствовать — вы мне будете нужны. Но успеете ли вы собраться?
— Конечно, успею, Ваше Величество.
— А ты, — обратился король к сыну, — отдай приказание, чтоб не было забыто ничего из твоих походных вещей. Любезный Мединг, — прибавил он, — дайте сюда ответ на подпись.
Мединг взял со стоящего неподалеку письменного стола королевы перо, передал его королю и поднес ему бумагу.
Твердой рукой начертал король начальные буквы своего имени: G. R.
— Поставьте внизу число и час, — сказал король, — чтобы сохранилась точная память о важной минуте, когда был подписан столь важный документ.
Государственный секретарь посмотрел на часы. Стрелки показывали десять минут первого.
Он сделал заметку под подписью короля.
— Теперь прошу у Вашего Величества позволения удалиться, — попросил он, — время мое сочтено. А вы, Ваше Величество, — прибавил он, обращаясь к королеве, — позвольте выразить вам искреннейшие и верноподданнейшие мои пожелания, чтоб скорей миновали эти тяжелые дни. Да благословит Бог Ваше Величество!
Королева склонила голову, закрыв лицо платком.
— До свидания! — воскликнул король. Мединг с глубоким поклоном вышел из комнаты.
В большом аванзале он встретился со стройным, высокого роста молодым человеком в гвардейском мундире, с приветливыми, смеющимися чертами лица и открытыми, умными глазами, — то был племянник короля, князь Георг Сольмс‑Браунфельс.
Он подал Медингу руку и сказал:
— Ну, любезный Мединг, все кончено, война объявлена!
— Я везу ответ на прусскую ноту! — сообщил серьезно Мединг, указывая на сложенную бумагу в своей руке.
Князь задумчиво поглядел с минуту на пол.
— Знаете, — сказал он, — мне кажется, что вы — Дэвисон, секретарь королевы Елизаветы, уносящий от нее смертный приговор[72].
Мединг печально улыбнулся.
— Да, это в самом деле смертный приговор для многих храбрых, и благодарение Богу, что он ляжет не на мою ответственность — я только исполняю свой долг, хотя мне так тяжело, как едва ли кому иному. До свидания в Геттингене, — сказал он, пожимая молодому человеку руку, и, спустившись по лестнице, сел в быстро подъехавшую карету.
Когда секретарь выезжал из‑под ярко освещенных позолоченных ворот внешнего двора, ему встретилась длинная вереница экипажей, направлявшаяся к замку.
То был магистрат и представители городского сословия, ехавшие проститься с королем. Когда длинная вереница выехала из аллеи, темной лентой выделяясь на ярком фоне ворот и двора, она стала похожей на длинную, черную похоронную процессию. Невольно содрогаясь под этим впечатлением, Мединг откинулся в глубь кареты и в глубоком раздумье поехал к городу.
Пока все это происходило в Гернгаузенском дворце, граф Платен сидел в своем кабинете, в боковом флигеле королевских зданий.
Маленькая лампа освещала письменный стол, заваленный бумагами и письмами, перед ним сидел граф, задумчиво подперев голову рукой.
— Неужели в самом деле нет никакого выхода? — вырвалось у него наконец, когда он встал и зашагал по комнате. — Неужели мы не в силах вновь приобрести утраченное выгодное положение?
Он задумчиво посмотрел в окно, на теплую, звездную летнюю ночь.
— Сосредоточение армии — хорошая мера, — продолжал он, — в этом сказывается наша твердая воля не подчиняться безусловно; хорошо и то, что король уезжает: это облегчит переговоры. Ну, я думаю, — произнес он бодрее, — что в Берлине призадумаются и будут рады‑радешеньки нейтралитету. Мы теперь вынуждены поступать именно так. В Вене нас не могут ничем попрекнуть — и когда Австрия победит…
Радостная улыбка озарила его черты, и в воображении рисовались отрадные картины будущего.
Часы на письменном столе звонко пробили двенадцать.
— Князь Изенбург! — доложил вошедший камердинер.
— Теперь, так поздно? — удивился Платен и быстро двинулся навстречу прусскому послу, который серьезно и неторопливо миновал отворенные настежь двери.
— Что вы скажете нам хорошего в такой поздний час? — спросил граф.
— Не знаю, могу ли я сказать что‑либо хорошее, — отвечал князь, маленький, худенький человек лет пятидесяти, с тонкими, изящными чертами лица и маленькими, черными усиками, устремляя свои черные глаза с печальным и вопросительным выражением на Платена. — Во‑первых, — продолжал он, — я попрошу вашего ответа на ноту, переданную мною сегодня утром, который мне предписано сообщить до вечера сегодняшнего дня. Вы видите, — показал посол, вынимая часы, — что я оттягивал как мог, но уже двенадцать часов, день кончен.
— Любезный князь, — сказал граф Платен, — я вашу ноту тотчас же передал королю, и ответ в настоящую минуту у Его Величества. Я жду его с минуты на минуту и не сомневаюсь, что мы придем к обоюдному соглашению.
Изенбург слегка тряхнул головой.
— Если ответ еще у Его Величества, то вы должны его знать и я вынужден, — он сделал ударение на этом слове, — просить вас настоятельно сообщить мне его содержание. Если предложение принято, уполномочены ли вы заключить предложенный союз?
— Вы согласитесь с тем, — отвечал граф Платен, — что крепко связующие трактаты, так же как преобразовательные реформы союза, требуют обсуждения и времени.
— Настоятельнейше прошу вас, граф, — сказал посол, — дайте мне сперва на один пункт положительный ответ — я не имею полномочий входить в рассуждения: принял король союз или нет?
— Нет, — произнес граф Платен нерешительно, — но…
— В таком случае я вам объявляю войну! — торжественно возвестил князь Изенбург.
Граф Платен пристально посмотрел ему в лицо.
— Но, мой любезный князь… — начал было он.
— Вы поймете, — прервал его князь Изенбург, — что мне после только что сделанного заявления ничего больше не остается, как выразить мое глубокое личное сожаление о том, что наши многолетние отношения, о которых я всегда буду вспоминать с удовольствием, должны возыметь такой печальный исход. Прощайте же и сохраните обо мне, так же как я о вас, дружеское воспоминание!
Посланник подал графу Платену руку, которую тот взял машинально, и, прежде чем министр успел прийти в себя от изумления, оставил комнату.
Немного погодя к графу пришел Мединг и застал еще не оправившимся от недавней сцены. Секретарь передал министру приказание короля отправляться в Геттинген, а тот сообщил про объявление войны.
— Разве вы все еще сомневались в этом исходе? — осведомился Мединг.
— Я считал его невозможным! — воскликнул Платен. — И надеюсь, что в Геттингене можно будет еще кое‑что устроить.
— Ничего нельзя устроить, а надо как можно скорее отправляться в Южную Германию! — сказал Мединг и ушел к генералу Брандису.
Бекманн прибыл в Ганновер с берлинским курьерским поездом и, к большой досаде, узнал, что без того уже сильно задержавшееся путешествие может быть продолжено только после того, как будут отправлены различные военные поезда.
Было два часа ночи.
С неудовольствием вышел он на дебаркадер, зябко кутаясь в дорожный плащ, закурил сигару и стал смотреть на суетливую беготню железнодорожной прислуги.
Вдруг к самому парапету подъехал поезд, составленный из небольшого числа вагонов, посреди которых бросался в глаза большой королевский вагон, украшенный короной.
— Что это значит? — спросил Бекманн у одного из суетившихся кондукторов.
— Король уезжает в Геттинген, — отвечал тот и бросился дальше.
Бекманн подошел к королевскому вагону и начал его рассматривать.
— Стало быть, правда, — сказал он, — что король уезжает. Но это не похоже на бегство: солдаты, по крайней мере, вовсе не обнаруживают стремления отступать.
Дебаркадер, несмотря на ранний час, все более и более наполнялся людьми, которые в молчаливом ожидании поглядывали на королевский вагон.
Наконец отворились большие двери королевской залы, в которой видны были генералы, министры, придворные чины, Лекс и Мединг.
Все в серьезном безмолвии расступились перед королем, направлявшимся к выходу на дебаркадер. Король был в генеральском мундире и опирался на руку кронпринца в мундире гвардейских гусар. За ним следовали флигель‑адъютанты Геймбрух и Кольрауш и капитан граф Ведель.
Король простился со всеми собравшимися на проводы, к некоторым обратился с несколькими милостивыми словами и некоторым подал руку.
Главный директор железной дороги подошел доложить, что поезд готов.
Король и кронпринц направились к открытым дверцам вагона.
Все головы обнажились, и глухой ропот пронесся по собравшейся толпе.
За королем последовала его свита. Толпа теснее пододвинулась к вагонам.
Георг V показался в окне, высунулся из него и произнес своим громким, чистым голосом:
— Отправляясь в армию, чтобы отвратить несправедливое нападение, я говорю горожанам моей столицы: до свидания! Королеву и принцесс поручаю вашей защите, они разделят вашу участь. Господь с вами и с нашим правым делом!
— Да здравствует король! — крикнула толпа. — До свиданья! До свиданья! Да благословит Бог Ваше Величество! — Замахали платки, и шляпы высоко поднялись на воздух.
В первом ряду стоял Бекманн, слезы блестели в его глазах, он высоко поднял свою шляпу, и голос его громко присоединился к всеобщему пожеланию, которым ганноверцы провожали своего уезжающего короля.
Поезд медленно тронулся, локомотив засвистел, быстрее задвигались колеса, еще громкий возглас: «До свиданья!» — и король выехал из столицы.
Медленно удалились генералы и придворные, медленно и молча разбрелась толпа, и Бекманн снова задумчиво зашагал по дебаркадеру.
«Tiens, tiens! — думал он. — Voila le revers de la medaille[73]. Чего только эта война не разрушит! Как глубоко врежется она в человеческую жизнь в ее высших и низших слоях! Великие события лежат на лоне грядущих дней, да. И много слез — даже мои глаза увлажнились при виде этого прощанья короля со своим народом. Ну, чему быть, того не миновать, отдельные личности ничего изменить не могут — судьба выше всех нас!»
— Сию минуту отправляется поезд в Кельн! — сказал кондуктор, проходя мимо него.
— Наконец! — весело вздохнул Бекманн, и скоро его уносил шипящий и свистящий локомотив.
Глава двенадцатая
Король Георг V прибыл в Геттинген рано утром 16 июня, и в великом изумлении и не меньшем смятении узнали жители, еще накануне не подозревавшие важности настоящего момента, что война объявлена, что король в гостинице «Короны» и что армию стягивают к Геттингену.
Никогда еще город старой Георгии‑Августы не видывал в своих стенах такой пестрой и шумной жизни.
Безостановочно проходили городскими воротами или со станции железных дорог новые отряды и располагались частью в городе, частью в окрестных деревнях.
Солдаты украшали свои каски дубовыми ветками, весело гарцуя, выступали статные кони кавалерии, громко звеня, катились по мостовой батареи, со всех сторон неслись веселые песни.
Перед гостиницей «Короны» кипела деятельная жизнь. Ординарцы из красных гусар стояли наготове в ожидании приказаний, адъютанты приезжали и уезжали, лакеи суетливо двигались взад и вперед, группы горожан тихо, озабоченно перешептывались и с любопытством поглядывали на средние окна комнат первого этажа, в которых поместился король.
Когда же прибывал новый полк и, проходя перед гостиницей, гремел звуками «God save the king!»[74] — наверху отворялось окно, и в нем показывался король в генеральском мундире и походном кепи, серьезно и приветливо кланяясь войскам, знамена которых склонялись перед царственным главнокомандующим. Торжественно и шумно гремело староганноверское «ура!», так что окна звенели, а сердце короля радостно замирало, потому что чувствовалось, что эти крики вырывались из‑под самого сердца и что солдаты, приветствуя ими своего государя, радостно пролили бы свою кровь в его защиту.
Около девяти часов появился университетский совет, предводительствуемый проректором, знаменитым профессором государственного права Захарией, и почти священнически темная одежда представителей науки смешалась с пестрыми блестящими мундирами и придала новую прелесть оживленной и разнообразной картине.
Король принял профессоров, поработал с генералом Гебзером, которого назначил командующим армией, и наконец остался один в своей комнате.
Лицо его было бледно и утомлено тревогами предшествовавшего дня и бессонной ночи, но глаза светились высоким мужеством и непреклонной решимостью.
Камердинер отворил двери и доложил о кронпринце.
Приветливо улыбаясь, король протянул сыну руку, которую тот почтительно поцеловал.
— Спал ли ты? — спросил король.
— Мало, — отвечал принц, лицо которого под впечатлением шумного движения вокруг немного более обыкновенного оживилось. — Я говорил со многими офицерами из выступающих в поход полков.
— Превосходный дух в армии, не правда ли? — сказал глубоко тронутый король. — Меня несказанно радует сознание, что я стою во главе такого войска.
— Да, — согласился принц нерешительно, — дух превосходен, но…
— Что такое? — настороженно и напряженно спросил король. — Разве ты что‑нибудь заметил, что идет вразрез этому духу?
— Дух превосходен, папа, — отвечал кронпринц медленно и немного запинаясь, как будто не находя подходящих слов, — но… но нет полного доверия к начальникам!
— Как нет доверия? — изумился король, вскакивая с места. — В начале похода — да ведь это ужасно!
Он помолчал.
— Уверен ли ты в этом? — спросил он немного погодя. — Кто это тебе сказал?
— Многие офицеры, — отвечал принц, — из генерального штаба, адъютанты, и меня настоятельно просили передать это тебе.
— В самом деле? И к кому же именно нет доверия? Называли имена?
— Да, — сказал принц, — например, генерала Гебзера считают недостаточно энергичным для командования в поле, кроме того, он не пользуется популярностью. Чиршница находят слишком старым для военных передряг и слишком втянувшимся в бумажную бюрократическую службу…
Быстрым движением король схватился за стоявший на столе, под рукою, колокольчик и сильно позвонил.
— Дежурного флигель‑адъютанта! — приказал он вошедшему камердинеру.
Тотчас вошел флигель‑адъютант граф Ведель.
— Любезный Ведель, — обратился к нему король, — кронпринц только что сообщил мне, что между офицерством и войсками нет надлежащего доверия к генералу Гебзеру, которому я решил передать командование армией, и что и генерал‑адъютант не пользуется необходимым авторитетом. Момент серьезен: скажите мне как офицер и как флигель‑адъютант, по долгу и совести, что вы об этом знаете?
Граф Ведель, красивый, рослый юноша, с короткими, черными волосами, направил свои большие темные глаза честно и откровенно на короля и отвечал твердым, звонким голосом:
— Все, что его высочество сообщил Вашему Величеству, насколько мне известно из моих личных наблюдений, есть совершенная правда!
Король просидел несколько минут в раздумье.
— И вы это слышали от людей серьезных и способных? — допытывался он.
— От офицеров генерального штаба, — отвечал граф Ведель, — и многих других начальников, с которыми мне приходилось беседовать.
— Кого же они считают способным командовать армией?
— Генерал‑адъютанта Ареншильда, — отвечал граф Ведель, не задумываясь.
— Благодарю вас, — сказал серьезно король, — попросите ко мне графа Платена и генерала Брандиса.
Граф Ведель вышел.
— Плохо, очень плохо! — произнес печально король. — Армия без доверия к предводителям — наполовину разбита, хорошо еще, что я узнал об этом вовремя…
Кронпринц подошел к окну и смотрел на пестрые группы на улице.
Вошли оба министра.
Генерал Брандис — улыбаясь и спокойно, как всегда, граф Платен — бледный и взволнованный.
— Господа, — сказал король, — я слышу, что личности избранных мною командиров не пользуются полным доверием войск.
Он замолчал.
— Совершенно справедливо, к сожалению, я сам слышу это со всех сторон, Ваше Величество, — вымолвил граф Платен.
— А вы, генерал Брандис?
— Ваше Величество, — начал генерал своим спокойным голосом, — я тоже слышал много подобных отзывов, но если верить всяким слухам, возникающим в такую тревожную пору, то пришлось бы часто менять распоряжения. Главное, по‑моему, чтобы распоряжались хорошо и быстро двигались вперед.
— Я сам не придаю большого значения тому, что говорят в городе, — сказал король, — но это обстоятельство кажется мне слишком серьезным, и я в самом деле не хотел бы, чтобы армия выступила в поход без доверия к своим предводителям!
— Конечно, Ваше Величество, дело серьезное, — отозвался Платен. — Мне тяжело высказывать мнение по военному делу, в котором я мало смыслю, и Вашему Величеству известно, что я стою вне влияний каких бы то ни было партий…
Генерал Брандис слегка усмехнулся.
— Но настоящий случай такого рода, — продолжал Платен, — что нельзя не принять в расчет общественного настроения.
— Вам не называли Ареншильда?
— Его все хотят, Ваше Величество! — отвечал граф Платен.
Генерал Брандис молчал.
— Я мало знаю Ареншильда, — вслух раздумывал король. — Что вы о нем думаете, генерал Брандис?
— Ареншильд способный генерал и безукоризненно честная личность! — отвечал военный министр.
— Считаете вы его способным командовать армией? — спросил король.
— Ваше Величество, проба генерала — успех. Я старый боевой солдат и берусь судить о солдатах только в поле.
Король подпер голову рукой и долго сидел молча.
Наконец он встал и заговорил торжественно:
— Вопрос идет о будущем моего дома и моего королевства, я жертвую всеми личными желаниями и соображениями, когда на очереди такие крупные интересы. Я никогда не простил бы себе, если б успех был подорван ошибкой; времени нельзя терять — надо решать безотлагательно. Бедный Чиршниц, — сказал он тихо, покачав головой, — какой тяжелый для него удар! Но кого же выбрать в генерал‑адъютанты? — спросил он себя.
— Называют полковника Даммерса, папа, — подсказал кронпринц, снова подходя к отцу.
— Полковника Даммерса? — переспросил король.
— Способный и энергичный офицер, — отозвался Брандис, — человек деятельный и решительный!
— Я беседовал с ним, — сказал граф Платен, — и нашел в нем очень умного и просвещенного человека. Я изложил ему политическую программу последнего времени, и он вполне признал ее основательность. Думается…
— Он здесь? — перебил король.
— Должен быть, — отвечал кронпринц.
Король позвонил.
— Я прошу к себе генерала Гебзера и генерал‑адъютанта Чиршница, — сказал он со вздохом.
Оба генерала вошли.
Генерал Гебзер был высок и статен, лицо его дышало смелостью, взгляд был оживлен, а усы и волосы покрывала легкая седина. Генерал‑адъютант Чиршниц держал какие‑то бумаги в руке.
— Любезный генерал Гебзер, и вы, Чиршниц! — произнес король дрожащим голосом. — Мне предстоит говорить с вами серьезно и потребовать от вас нового доказательства вашего патриотизма и вашей преданности мне и моему дому.
Генерал Гебзер посмотрел на короля прямо и смело, Чиршниц удивленно вскинул брови, как будто не понимал, каких еще доказательств преданности можно от него ожидать.
— В часы, подобные настоящему, — продолжал король, — необходимо откровенное, честное слово. Я слышу, что армия произведенное мной назначение командующим вас, генерал Гебзерг, приняла не с тем радостным сочувствием, которого оно заслуживало бы, и что в рядах солдат ходит другое, более популярное имя. Я слышу еще, — продолжал он, — что повсюду высказывают опасение, что вам, любезный мой Чиршниц, по вашим преклонным летам, могут оказаться не по силам тяжелые испытания похода и что вследствие этого может произойти перерыв в служебных делах, а это может повлечь за собой пагубные последствия во время кампании. Господа, — произнес он тише и наклоняя вперед голову, как бы желая высмотреть сквозь завесу глаз своих впечатление, которое произведут его слова, — вы знаете, что я всегда готов как самого себя, так и свои личные соображения принести в жертву делу моего государства. Я знаю, вы думаете так же, как я, и я могу ждать от ваших преданных сердец такой же жертвы. Я, ваш король, высоко чтущий ваши заслуги и ваш образ мыслей, прошу вас принести эту жертву.
Король замолчал. Тяжелый вздох вырвался из его груди.
Генерал Гебзер высоко поднял голову, и горькая усмешка на мгновение передернула его губы. Бледный, но не задумавшись ни на секунду, он сделал шаг к королю и сказал громко и твердо:
— Долг мой, Ваше Величество, предписывал мне по приказанию моего венчанного повелителя вести армию против врага и обнажить шпагу на защиту отечества. Долг мой также передать эту обязанность тому, кого Ваше Величество найдет более достойным. Благодарю Ваше Величество за оказанное мне доверие…
— Которое ни на миг не поколебалось! — поспешил вставить король.
— И надеюсь, — продолжал генерал, — что тот, кто меня заменит, будет служить отечеству и Вашему Величеству с тем же рвением, с той же преданностью… Я знаю, что так и будет, — прибавил он, — так как речь о ганноверском офицере!
Король молча подал ему руку, и твердым шагом, не взглянув на кронпринца и министра, генерал вышел из комнаты.
Чиршниц в глубоком волнении кусал свои седые усы, слезы блестели на его ресницах.
— Ваше Величество, — заговорил он медленно и негромко, — теперь не время и не место исследовать причины дружеского участия, которое так заботливо старается оградить мою старость от тягостей похода. Мне же ничего больше не остается, как просить Ваше Величество уволить меня от обязанностей генерал‑адъютанта. Вашему Величеству известно, что я уже просил об этом увольнении и что я охотно удалюсь на покой, но сердцу старого солдата больно, что это увольнение должно состояться именно теперь, когда армия идет на врага! Может быть, это воспоминание, — и он указал на медаль за Ватерлоо на своей груди, — дало бы мне, при всей моей старости, силы вынести все тяготы похода, но, впрочем, закон природы требует, чтобы старые уступали место молодым. Я прошу Ваше Величество сохранить о вашем старом слуге милостивое воспоминание…
Грубый солдатский голос старого ветерана изменил ему.
Король бросился к нему.
— Мы не прощаемся, милый Чиршниц! — сказал он взволнованно. — Мы свидимся скоро после этого тяжелого испытания, и вы еще долго будете не оставлять меня своим высокочтимым советом!
И он прижал старика к груди.
— Примите назначение в генералы от инфантерии — как доказательство моей признательности и моего сочувствия, прибавил он тихо и ласково.
Генерал молча поклонился.
— Ваше Величество позволит мне вернуться в Ганновер? — спросил он. — Старому инвалиду нечего бояться неприятелей, — прибавил он с горечью.
— Поезжайте, любезный генерал, королева будет очень рада совету преданного слуги.
Кронпринц подошел и приветливо сказал:
— Я попрошу вас поклониться от меня маме!
— Прощайте, ваше королевское высочество, — отвечал генерал. — Вы видите уходящим старого слугу вашего деда и отца — так уходит и все старое время. Дай Боже будущему новых людей — но прежнюю верность!
И старый генерал ушел.
Король глубоко вздохнул.
— Итак, — сказал он, — самое трудное сделано. Теперь новые назначения — и дай Бог, чтоб они были счастливы! Генерал Брандис, потрудитесь приготовить повеления, — обратился он к военному министру, — и позаботьтесь, чтобы генерал Ареншильд немедленно отправился к месту назначения вместе с полковником Даммерсом.
Генерал вышел серьезный и безмолвный.
Граф Платен подошел к королю:
— Граф Ингельгейм только что приехал и просит аудиенции.
— Просить его! — повелел король с живостью.
Граф Платен удалился и через несколько минут вернулся с послом императора Франца‑Иосифа.
Граф Ингельгейм, высокий, статный человек пятидесяти восьми лет, с коротко остриженными, белокурыми с проседью волосами и сановито‑приветливым, безбородым и бледным лицом, был в черном фраке со звездой ордена Гвельфов и Мальтийским крестом.
— Рад видеть вас здесь, любезный граф, — приветствовал король, весело идя ему навстречу. — Вы, стало быть, не побоялись переполоха войны?
— Ваше Величество, — отвечал граф, — мой государь приказал мне не оставлять Вашего Величества, и потому я буду покорнейше просить позволения остаться при главной квартире.
— С большим удовольствием, любезный граф, предлагаю вам гостеприимство моей главной квартиры! — сказал король. — Может быть, нам с вами придется иногда оставаться без обеда, но — а la guerre comme a la guerre![75] Перед нами великие события! — прибавил он серьезно.
— Которые приведут Ваше Величество к высокой славе и прочному счастью! — вставил живо граф Ингельгейм.
— Вы думаете, нам удастся пройти в Южную Германию? — спросил король.
— Я в этом уверен, — отвечал граф, — судя по всем до меня дошедшим справкам. Я только что получил письма из Касселя: путь свободен и немногие прусские отряды, которые могут встретиться, не дерзнут задержать армию Вашего Величества.
— Мне бы хотелось, чтобы предстоящие дни уже миновали! — сказал с грустью король. — Меня тяжело гнетет забота об исходе кампании, и я боюсь думать, что нас может окружить более сильный неприятель.
— Храбрая армия пробьется, Ваше Величество, если будет нужно, но главное, Ваше Величество, мы не одни — великое решение предстоит на саксонских полях, и только когда там император разобьет врага и победит, Ваше Величество снова торжественно вступит в свою столицу.
— Главное, — сказал король, немного помолчав, — пройти в Баварию: если это удастся, армия спасена и может свободно влиять на великое решение германских судеб. Надо хорошенько узнать, где стоит баварская армия.
— Я вчера слышал, что баварские форпосты у Эйзенаха и Готы, — сказал Ингельгейм.
— Ну, в таком случае соединиться трудно! Однако следовало бы дать знать в баварскую главную квартиру, где мы находимся и куда направляемся, чтобы они распорядились своими операциями сообразно с этим.
— Без сомнения, Ваше Величество, — вставил граф Платен, — как только главнокомандующий решит вопрос о нашем маршруте…
— Мне кажется, сами обстоятельства указывают на то, что необходимо идти прямо вперед, и как можно скорее, — сказал король.
— Не знаю, — отвечал граф Платен, — мне кажется, есть много различных соображений и воззрений, которые довольно трудно было бы примирить.
— Трудно примирить — я этого не понимаю! — воскликнул король. — Впрочем, — прибавил он с грустной улыбкой, — я должен предоставить это моим генералам! Позаботьтесь, во всяком случае, о том, граф Платен, чтобы надежные и доверенные люди были разосланы на пути к югу для разведки, нет ли там неприятельских войск, а если есть, то в каком количестве.
— Слушаю, Ваше Величество!
— Нет ли известий из Гессена? — поинтересовался король.
— От вчерашнего числа, Ваше Величество, — отвечал Ингельгейм. — Курфюрст решился остаться в Касселе, армия передана генералу Лоссбергу и сосредоточена около Фульды.
— Так и нам следует идти туда же, — решил король, — потому что вместе с гессенской армией мы образуем корпус, который может уже представлять серьезное противодействие.
Камердинер доложил о военном министре.
— Генерал Ареншильд и полковник Даммерс к услугам Вашего Величества! — заявил Брандис, входя в комнату. — И вот повеления.
— Пригласите их сюда, — распорядился король. — Любезный граф, мы увидимся за столом! — И он подал посланнику руку. — Пожалуйста. Граф Платен, поручаю вам заботу о том, чтобы графу Ингельгейму были доставлены все удобства, какие возможны при главной квартире.
Посланник и министр, удаляясь, в дверях встретились с входившими офицерами.
Первым вошел Ареншильд, невысокий, чрезвычайно худой человек с резкими, отчасти обветренными чертами и громадными седыми усами. За ним шел полковник Даммерс, еще совсем молодой человек, белокурый, с румяным, свежим лицом и быстрыми, энергичными движениями. Светло‑серые глаза его зорко окинули присутствующих. Он подошел к королю и остановился в ожидании. За ними следовал генерал Брандис.
— Господа! — произнес Георг V серьезно и отчасти надменно‑холодно. — Я призвал вас к важнейшим постам в настоящую минуту и убежден, что вы оправдаете доверие, которое вы сумели снискать в армии и которое я вам оказываю, — прибавил он.
Прошу вас безотлагательно приступить к делу, а вы, генерал Ареншильд, сообщите мне как можно скорее ваше мнение о направлении нашего движения.
— Ваше Величество, — сказал генерал, сильно ударяя себя в грудь, — я высоко ценю это доверие, и все, что может сделать старый солдат, чтобы оправдать его, будет сделано. Прошу, Ваше Величество…
— Что? — спросил король.
— Назначить мне в начальники генерального штаба полковника Кордемана.
Король помолчал.
— Стало быть, еще новое назначение! — произнес он вполголоса. — Впрочем, это в порядке вещей, — продолжал он, — вы имеете право выбирать себе начальника штаба; полковник Даммерс, приготовьте все необходимое, а вы, генерал Брандис, решите вопрос с генералом Зихартом, всячески его менажируя[76].
— Генерал сейчас сам просил меня уволить его, Ваше Величество, — отвечал Брандис.
— Славный человек! — воскликнул король. — Я потом повидаюсь с ним и лично его поблагодарю. А теперь, господа, за дело! Эрнст, прошу тебя прислать ко мне Лекса.
Кронпринц и офицеры вышли из комнаты.
Король опустился в кресла с глубоким вздохом. Задумчиво прислушиваясь к долетавшему снизу глухому шуму голосов и шагов, к которому изредка примешивались военные сигналы, лошадиный топот и барабанная трель, он тихо проговорил:
— Nec aspera terrent![77]
Вновь организованный генеральный штаб устроился в университетской аудитории и неутомимо работал над мобилизацией и подготовкой армии к походу.
Пока таким образом весь город предавался лихорадочному движению и напряженной деятельности, к станции железной дороги быстро катила карета.
В ней, скрестив руки и в мрачном раздумье, сидел старый генерал Чиршниц..
«Так вот конец долгой служебной карьеры, начатой с походов тысяча восемьсот тринадцатого года, проведенной через многие годы труда и работы! И чтобы быть вытолкнутым из рядов в виду неприятеля! Почему? Потому что несколько молодых офицеров, несколько честолюбивых пролаз хотят очистить себе путь и воспользоваться случаем избавиться из‑под суровой и твердой дисциплины старого Чиршница!»
Он отстегнул саблю и положил ее на переднее сиденье кареты.
— Лежи тут, — сказал он печально, — старый, честный меч! Ты слишком прям и неподатлив для этого времени и для этого поколения! Они любят много писать, много бегать взад и вперед, сочинять проекты, отдавать приказания и еще охотнее отменять их, а о солдатах они не позаботятся, в поход не пойдут и драться не станут. Ну, — промолвил он со вздохом, — армия будет драться, войска бросятся на врага, как только его увидят, вопреки всем теориям и инструкциям, — в этом я уверен.
Он приехал на станцию, и, пока отставной генерал с саблей в руке входил в один из пустых вагонов, отправлявшихся в Ганновер за новыми войсками, на станционном дворе шумно и суетливо строился полк кембриджских драгун под командой полковника графа Кильмансэгге. Тот сидел на горячившейся лошади, собираясь вести полк через город на квартиры в окрестные деревни Гарсте и Гладебек.
Генерал полюбовался из своего купе на великолепных, блестящих вооружением и воодушевлением всадников.
Затем он откинулся с печальной улыбкой назад, на подушки, локомотив свистнул, и поезд умчался в Ганновер.
В тот же момент зазвучали трубы полковой музыки, лошади подняли головы, всадники приосанились на седлах, ряды сомкнулись, и прекрасный полк вступил в город Георгии‑Августы.
Перед четвертым эскадроном скакал на гарцующей лошади высокий, стройный человек, капитан фон Эйнем, а возле него ехал лейтенант Венденштейн, бодрый и сияющий в своем военном наряде. Глаза его блестели, и видно было, что только служебная дисциплина побуждала его сдерживать рвавшуюся вперед лошадь, — ему так хотелось броситься очертя голову навстречу врагу!
Полк прошел мимо гостиницы «Короны», эскадроны приветствовали громким «ура!» короля, показавшегося в окне, и вышли другими воротами в деревни, где их ждал радушный прием крестьян.
Четвертый эскадрон стал на постой в деревне Гладебек.
Лошадей накормили и поставили на места с той заботливостью, с какою кавалеристы всегда относятся к своим коням.
Веселый костер запылал на деревенском перекрестке, у подножия холма, с которого открывался далекий простор лугов и засеянных полей. Внизу светились всю ночь напролет крестьянские избы, а издали доносились громкие голоса, отрывистые сигналы и ржание лошадей. С темного неба мигали звезды, и мягкий, теплый ночной ветер веял свежестью после дневного зноя.
На холме стоял неподвижно конный часовой с ружьем наготове.
Перед костром лежали два офицера на чистой, высоко подмощенной соломе: лейтенанты Венденштейн и Штольценберг. В походном котелке кипела вода. Коньяк, лимоны и большие куски сахара виднелись в изобилии, и Штольценберг — розовый, свежий юноша — готовил в двух серебряных походных кубках душистый крепительный напиток, который некогда вдохновлял Шиллера на его бессмертные песни. Ветчина, хлеб и колбаса лежали тут же и доказывали, что гладебекские крестьяне не поскупились попотчевать гостей всем, что было лучшего в их кладовых.
Штольценберг размешал лучинкой приготовленный напиток, попробовал и подал один из кубков товарищу.
— Ты веришь в предчувствия, Венденштейн? — спросил он.
— Право, не знаю, — отвечал тот, приподнимаясь, чтобы выпить из кубка. — Право, не знаю, я никогда об этом хорошенько не думал, но, — прибавил он, смеясь и ставя кубок на землю перед собой, — мне бы следовало в них верить, потому что если предчувствие есть то неопределенное чувство, которое дает нам возможность провидеть будущее, то мое будущее должно быть прекрасно и светло: мне все улыбается впереди, мне так весело, что я готов тотчас умчаться в мрак и тьму ночи на целые мили ради удовольствия. Знаешь, Штольценберг, — продолжал лейтенант, закуривая сигару, кончик которой предварительно обрезал маленьким ножом, — ведь ужасно хорошо, что пошлая, скучная гарнизонная служба кончилась и что нам предстоит поход, настоящая война, старина! Ведь такая ночь на биваках под открытым небом, — просто прелесть! Дай‑ка мне уголек, зажечь сигару!
Штольценберг подал ему пылающую лучинку, от которой товарищ прикурил сигару со всем тщанием тонкого знатока, и с удовольствием пустил клубы ароматного дыма на ветер.
— Однако почему тебе вздумалось заговорить о предчувствиях, Штольценберг? — спросил он.
Штольценберг подправил костер длинной веткой и задумчиво посмотрел в огонь.
— Потому что у меня было предчувствие, — сказал он серьезно.
— Ну и ну! — воскликнул Венденштейн. — Ты говоришь это таким голосом, точно каменный гость! Говори толком, но сперва выпей. Знаешь, философы утверждают, что предчувствия выходят из желудка, а для желудка нет ничего лучше, как стакан доброго вина.
Штольценберг согласился с полезностью диететического предписания своего приятеля и, встав, заговорил снова:
— Знаешь ли, я, в сущности, затрудняюсь тебе рассказать, в чем было дело, потому что это такие пустяки. Но если ты непременно хочешь… Когда я, совершенно собравшись, выходил из своей комнаты, чтобы сесть на лошадь, меня всего пронизало ледяным холодом, точно электрическим ударом, и почудилось, внутри меня что‑то шепнуло: ты не вернешься! Впечатление было так сильно и внезапно, что я на момент остановился как вкопанный. Но потом все так же быстро прошло, и я скоро не мог даже дать себе отчета, что именно со мной было.
— Вздор! — решил Венденштейн, лежа на спине и глядя на звезды. — Я стою на том, что у тебя желудок не в порядке, и это весьма естественно — рано встал и целый день был на ногах и в тревоге. Выпей‑ка еще пунша.
— И знаешь, что это же самое чувство, — продолжал Штольценберг, — повторилось еще раз. Когда мы сегодня проходили мимо гостиницы «Короны» в Геттингене, король кланялся из окна, наши солдаты кричали неистово «ура!», я поднял саблю, чтобы салютовать, — и в ту же минуту меня пронизало опять ледяным холодом, и снова точно кто‑то нагнулся к уху и шепнул: ни ты не вернешься, ни король!
— Ты с ума сошел! — вскричал Венденштейн, быстро вскакивая. — Ты можешь предчувствовать для себя самого, что твоей душе угодно, но оставь короля в покое! Сделай одолжение, не говори больше никому о твоих галлюцинациях.
Штольценберг сказал вполголоса:
— Если дело дойдет до сражения, ведь много храбрых падет, такова наша доля — славная, честная смерть. Вот все, чего мы можем желать, — только бы не страдать долго и не остаться калекой.
— Брось, пожалуйста! — сказал Венденштейн. — Что за глупые мысли перед началом дела! Послушай лучше, что я тебе скажу…
И полушутя, улыбаясь счастливому воспоминанию, он сказал:
— Мне кажется, я влюблен!
— Ты! — засмеялся Штольценберг. — Ну, брат, плохое же ты выбрал время!
— Почему?
— Потому что хороший солдат, идя на войну, не должен ничего оставлять позади себя. Ведь наше дело — вперед, и без оглядки!
— Ты не понимаешь! Напротив, идя в дело, именно приятно сознавать, что есть сердце, которое бьется для нас и шлет нам вслед приветы и пожелания, и если представится возможность сделать что‑нибудь путное, как приятно, что про тебя подумает это сердце! А потом, когда настанет пора вернуться, как должно быть отрадно!
— Пора вернуться! — повторил мрачно Штольценберг. — Однако, — прибавил он веселее, — кто же твоя новая страстишка?
Задумчиво поднятые к звездам глаза Венденштейна уставились как бы с удивлением на приятеля, и немного обиженным тоном он сказал, снова откидываясь на солому:
— Страстишка! Что за выражение! Впрочем, я тебе не скажу.
— Так это, стало быть, серьезно? — спросил Штольценберг. — Ну, так на этот раз позволь мне поднести тебе здоровый стакан пунша, потому что я стою на том, что любовь — болезнь, особенно когда надо идти в поход.
Венденштейн не отвечал, но продолжал наблюдать звезды, которые в эту минуту так ярко светились и над старым Блеховом, над старыми деревьями и хорошо знакомыми дорогами и тропинками, над пасторатом и цветущими розовыми кустами, и он тихо запел:
И, расставаясь с друзьями, Мы говорим им — до свиданья!— Стой! Кто там? — крикнул часовой на холме и гулко взвел курок.
Оба офицера в одну минуту были на ногах.
Открытая коляска парой быстро катилась по дороге и остановилась на оклик часового. Офицеры подошли. На расстоянии показалось несколько драгун.
— Кто здесь? — спросил Штольценберг, заглядывая в экипаж.
Из экипажа высунулось молодое, румяное лицо. Незнакомец обратился к офицерам.
— Это я, господа, Дувэ, посланный графом Платеном и генералом фон Ареншильдом отвезти депешу графа Ингельгейма к барону Кюбеку, во Франкфурт, и вместе с тем разыскать гессенскую армию, чтобы доставить ей сведения о нас и убедить присоединиться к нам. Вот депеши, а вот пропуск!
Штольценберг подошел с пропуском к костру, прочел его и возвратил Дувэ.
— Все в порядке, — сказал он. — Желаю вам счастливого пути и успеха. Доставьте нам поскорее гессенцев, а если можно, то и баварцев!
— Если только буду в силах, то непременно исполню, — отвечал молодой человек.
— Штольценберг, — позвал Венденштейн, — дай сюда стакан пуншу! Вот, — он обратился к молодому человеку, — наполните про запас желудок — это нелишнее на ночь: почем знать, где вы еще что‑нибудь найдете!
— За здоровье храбрых часовых! — провозгласил Дувэ, опорожняя поданный кубок.
Лошади тронулись, коляска умчалась, и офицеры вернулись к костру.
Немного погодя снова раздался оклик часового. По ту сторону холма раздались шаги, был сообщен пароль, и быстро поднявшиеся офицеры встретили капитана фон Эйнема.
Штольценберг доложил:
— Ничего нового, проехал курьер с депешами и пропуском.
— Хорошо, господа, но, — прибавил он, весело улыбаясь, — позвольте на минутку позабыть о служебной дисциплине и подсесть к вам. Дайте‑ка мне стаканчик пуншу и чего‑нибудь закусить. Мне до сих пор столько было возни с людьми и лошадьми, что я еще не успел подумать о себе самом.
Офицеры поспешили предложить командиру остатки своего ужина и приготовили ему стакан душистого и горячего пунша.
— Да, — сказал Эйнем, поудобнее укладывая солому к огоньку и закуривая сигару, — в первое время все прекрасно и удобно, но потом нам не видать такого пунша и не курить таких сигар!
— Тем лучше! — сказал весело Венденштейн. — Отличный случай испытать силу нашей воли. Но капитан, скоро ли мы тронемся вперед? Только что проехал курьер, отправленный к гессенской армии. Мне кажется, чтобы соединиться с ней, нам надо двинуться вперед, ведь не возвращаться же гессенцам!
— Я, право, не знаю, когда мы двинемся! — отвечал со вздохом командир. — До сих пор ничего похожего нет — главный штаб сидит, не разгибая спины, и пишет — с утра до вечера все пишет! Когда мы тронемся, одному Богу известно!
— Мне, право, жаль Чиршница! — сказал Штольценберг. — Он славный, храбрый старик! Грубоват — вишни в гостиной не совсем было бы приятно с ним есть. Но солдатская похлебка в походе — иное дело. Почему его, в сущности, отстранили?
— Граф Кильмансэгге, который был здесь с четверть часа тому назад, — отвечал капитан, — сказывал, что армия потеряла будто бы доверие к его военным способностям.
— Вздор! Находили, конечно, что он староват, но это вовсе не было заметно на службе, когда ему приходилось ее отправлять, — сказал Венденштейн. — А каков новый генерал‑адъютант, Даммерс?
— Я его мало знаю, — говорят, человек с энергией. Однако все это вещи, нас не касающиеся, кавалерия осталась при старых преданиях — где враг, туда иди и бей или умирай… Точка, и довольно!
И он допил стакан.
— Дай бог, чтобы новые метлы хорошо справили свое дело и чтобы мы поскорее двинулись с места!
Он встал.
— Доброй ночи, господа, до свидания завтра, дай бог на марше!
Офицеры раскланялись, и капитан медленно скрылся во тьме по направлению к деревне.
Штольценберг и Венденштейн решились спать по часу каждый поочередно, пока другой остается сторожить у огня. Так миновала полночь, форпосты погрузились в безмолвие, тогда как в Геттинген все прибывали новые и новые отряды: бессрочные, резервные и не служившая еще молодежь стремились со всех концов родного края, чтобы стать в ряды армии.
Новый главный штаб проработал всю ночь напролет, много было споров, много изведено бумаги и чернил, и в конце концов, порешили оставить армию еще на четыре дня в Геттингене, чтобы хорошенько приготовиться к походу.
Четыре дня — очень большой срок, когда счет идет на часы!
Глава тринадцатая
И в самом деле, в те достопамятные дни счет шел на часы, и история за сутки делала столько шагов на своем пути, изменявшем лицо земли, сколько в иное время не делала за годы.
С севера подвигался генерал Мантейфель, генерал Фогель фон Фалькенштейн занял Ганновер и взял на себя управление краем, чиновникам которого король позволил и даже приказал оставаться на своих местах. Генерал Бейер сосредотачивал свой корпус, разбросанный по Гессену, генерал Секендорф занял Нордгаузен, из Эрфурта двинулась часть осаждающей армии с артиллерией в Эйзенах и там соединилась с армией герцога Кобург‑Готского, чтобы запереть для ганноверской армии и этот путь к югу.
Приказания летели из Берлина к начальникам отдельных корпусов и отрядов, и быстрое и дружное движение обнаруживалось во всех частях прусской армии с целью окружить сперва ганноверскую армию непрерывной цепью, а затем стягивать эту цепь все теснее и крепче.
Оставался открытым только один естественный и прямой путь на Фульду.
Между тем храбрая, поражающим героизмом вдохновленная ганноверская армия находилась в Геттингене и его окрестностях.
Генеральный штаб работал день и ночь, чтобы приготовить ее к походу. Молодые офицеры горели нетерпением и не понимали, почему полки, пришедшие со своих постоянных квартир в Геттинген таким неслыханным маршем, могут быть неготовыми к походу; старый Брандис качал головой и думал, что лучше было бы пробиться к югу с неготовой армией, чем очутиться взаперти с готовой — он припоминал, как войска великого Веллингтона часто были не готовы к походу по требованиям регламентов и, несмотря на то, шли в бой, сражались и побеждали. Король кусал губы от нетерпения — но что мог сделать государь, лишенный зрения, как только спрашивать и торопить и опять снова спрашивать и торопить!
Между тем генеральный штаб доказывал храброму генералу Ареншильду, что по всем существующим регламентам армия еще не может быть пущена в действие. В доказательство представлялись регламенты, генеральный штаб оказывался правым, и генерал Ареншильд ежедневно докладывал королю, что армия все еще не готова.
Кроме того, генеральный штаб ждал присоединения гессенцев и баварцев к ганноверской армии.
Королю приходилось ждать, изнывая в нетерпении в гостинице «Короны».
И войскам тоже приходилось ждать по квартирам, но их нетерпение не было сдержанно и тихо, как у короля. Напротив, солдаты разражались грубыми проклятиями, громче и резче сказывалось нетерпение в кавалерийских полках, лошади которых рыли землю, а люди думали, что им стоит только впрыгнуть в седло, чтобы быть так же готовыми к битве, как и всякий кавалерист.
Все ждали.
Граф Платен ждал ответа от князя Изенбурга. Он послал князю пояснение на прусский ультиматум и надеялся, что на этом основании можно будет начать какие‑нибудь переговоры. Но на второй день это объяснение вернулось — правда, распечатанное, но с холодными и короткими замечаниями князя, что после объявления войны его дипломатические обязанности прекратились и что он не имеет времени заниматься чтением упражнений в красноречии ганноверского министра.
Курьер Дувэ между тем продолжал путь, не встречая ни одного прусского солдата. Он нашел кур‑гессенскую главную квартиру не в Фульде, а в Ганау, и там генерал Лоссберг объявил ему, что, во‑первых, не может делать никаких распоряжений, так как командование взял на себя принц Александр Гессенский, а во‑вторых, кур‑гессенская армия еще не трогалась с места.
Курьер поспешил дальше, передал во Франкфурте австрийскому послу барону Кюбеку депешу графа Ингельгейма, и от Кюбека получил ответ к принцу Александру Гессенскому, который квартировал в Дармштадте. Дувэ лично передал принцу все сведения о положении ганноверской армии, о котором тот ничего не знал. Принц Александр отвечал, что постарается убедить баварцев, стоящих у Швейнфурта, поскорее двинуться к северу, что восьмой армейский корпус должен как можно скорее перейти через Фульду, чтобы подать руку помощи ганноверской армии, и что наконец кур‑гессенскую бригаду не мешает, в виде демонстрации, перевести из Ганау в Гессен.
Стало быть, в главной квартире принца Александра ждали, что ганноверская армия поспешно двинется по пути к Фульде, сольется с кур‑гессенской бригадой и присоединится к восьмому армейскому корпусу. Путь через Фульду был свободен, и там могли встретиться только разве отдельные отряды разбросанного корпуса генерала Бейера, которые, по всей вероятности, не рискнули бы вступить в сражение.
Так рассчитывали в главной квартире принца Александра.
Но иначе распорядился новый ганноверский генеральный штаб. Частью через путешественников, частью через разосланные рекогносцировки узнали, что на Фульдской дороге сосредоточено от шестидесяти до ста тысяч пруссаков, и потому решено было не идти по этому направлению, а врезаться прямо в прусские владения, в прусскую армию, чтобы пробиться в Эйзенах через Гейлигенштадт и Треффур и примкнуть к баварцам, о которых не было никаких известий, оставалось только надеяться, что они там.
Тщетно качал головой старый Брандис и говорил, что армия, желающая пробиться через неприятельский строй, не должна от него удаляться, и поэтому если прусские войска сосредоточены на пути к Фульде, то по очень практичным принципам Веллингтона следует идти именно туда. Во всяком случае, там больше шансов откинуть врага и достигнуть юга, чем выбраться из того котла, в который ганноверские предводители добровольно хотят окунуться.
Генеральный штаб единогласно порешил идти на Гейлигенштадт, и король утвердил это решение.
И вот наконец 21 июня в 4 часа утра армия выступила, и единогласное ликование на всех постоях приветствовало распоряжение о марше. Храбрые бригады выдвигались одна за другой в образцовом порядке, как на параде. Около пяти часов король выехал из Геттингена, простившись с сенатом, университетом и чиновничеством.
Полуэскадрон кембриджских драгун составлял личный конвой государя. Георг V ехал на великолепном белом коне, которым чуть заметной тонкой уздечкой управлял майор Швеппе, рядом с королем ехал кронпринц в гусарском мундире и на маленькой легкой лошади. Их окружала многочисленная свита: семидесятилетний генерал Брандис с негодованием отказался от кареты, граф Ингельгейм, в сером пальто и высоких охотничьих сапогах, ехал возле короля. За блестящей кавалькадой следовала дорожная карета монарха шестеркой, с форейторами и егерями. Дальше тянулся ряд других экипажей для свиты и прислуги.
Когда королевский кортеж проезжал мимо идущих войск, раздавалось громкое, восторженное «ура!», и все эти бодрые, мужественные солдатские сердца бились сильнее, видя посреди себя короля.
Отважное, но стратегически отчасти загадочное выступление ганноверцев, на которое тогда были обращены взгляды не только Германии, но и всей Европы, принадлежит истории и о нем подробно рассказано в сочинениях о войне 1866 года. Последующим временам предстоит, быть может, объяснить различные, уму непостижимые обходы, которые делала армия, в Гейлигенштадте вновь передумавшая идти на Треффур и направившаяся через Мюльгаузен в Лангензальца, оттуда, почти под эрфуртскими пушками, прошедшая в Эйзенах и затем вдруг, после того как эта местность оказалась почти в ее руках, остановившаяся потому, что в ганноверской главной квартире явился парламентер герцога Кобург‑Готского без легитимации. Чтобы разъяснить это появление, был послан в Готу майор генерального штаба Якоби, который оттуда, обманутый численностью стоявших под Эйзенахом прусских войск, телеграфировал полковнику Бюлову о приостановке дальнейших действий. Полковник Бюлов, согласно этому предписанию, отступил от Эйзенаха и заключил перемирие.
И когда — свидетельствует официальный отчет об этом событии — главнокомандующий Ареншильд, в уверенности, что Эйзенах взят, к восьми часам вечера появился в условленном пункте, то увидел завершенным дело, которое разрушало все его планы, противоречило видам короля, но вмешаться в которое или изменить его он не мог, во‑первых, потому что наступила ночь, а во‑вторых, потому что его связывало по рукам и ногам перемирие.
Майор Якоби был предан военному суду, правильное ведение которого оказалось невозможным при дальнейшем ходе событий.
Принятие парламентера, начало переговоров с ним и с герцогом Гобургским в самом разгаре военных действий, отступление от Эйзенаха заставили в Берлине думать, что король хочет вступить в переговоры, и король Вильгельм, постоянно одушевляемый желанием избегнуть кровавого столкновения с ганноверцами, отправил своего генерал‑адъютанта Альвенслебена в ганноверскую главную квартиру, которая 25 июня находилась на Эйзенахской дороге, в Гроссберингене.
Между тем за время приостановки военных действий ганноверцев, последовавшей вследствие предварительных переговоров с герцогом Кобургским, Эйзенах был так сильно прикрыт прусскими войсками, что взятие его сделалось крайне затруднительным.
Генерал Альвенслебен явился в Гроссберингене как уполномоченный Его Величеством королем прусским «для принятия приказаний Его Величества короля ганноверского». Переговоры вращались вокруг предложения, сделанного ганноверским кригсратом: дозволить ганноверским войскам без кровопролития пройти на юг под условием в течение известного времени не поднимать оружия против Пруссии. Со стороны Пруссии это время было определено годом, и потребованы определенные гарантии и залоги. Ганноверский король не принял условий, поставленных таким образом, хотя переговоры не были прекращены, и, напротив, перемирие продолжалось, и король обещал дать положительный ответ до утра 26‑го. Когда утром 26‑го король отправил в Берлин полковника генерального штаба Рудорфа, он не был пропущен генералом Фогель фон Фалькенштейном, который между тем успел сосредоточить в Эйзенахе почти две дивизии и тотчас же объявил, что он знать не хочет о приостановке военных действий и намерен немедленно нападать.
Ганноверская армия была вследствие этого поставлена в весьма затруднительное положение. Король, проведя ночь в Гроссберингене, 26‑го рано утром снова перевел свою главную квартиру в Лангензальца.
Вдали от города, в стороне от Эйзенахской дороги, стоит охотничий дом, большое красивое здание, с большой просторной площадью перед фасадом, напротив которого возвышается изящная почтовая контора. За домом тянется большой сад, обнесенный высокой стеной, широкая веранда составляет переход из дома в сад.
Перед охотничьим домом стоял двойной караул, на площади виднелись придворные экипажи, офицеры разных полков приходили и уходили, адъютанты и ординарцы главнокомандующего, штаб‑квартира которого располагалась в городе, носились взад и вперед, передавая известия королю. Военная деятельность кипела.
Армия была сосредоточена около Лангензальца и приведена в оборонительное положение, так как отказ со стороны Фогеля фон Фалькенштейна признать перемирие заставлял ежеминутно опасаться прусского нападения.
Король сидел в своей комнате. Глубокая задумчивость лежала на его лице. Перед ним стоял старый генерал Брандис.
— Брандис, — сказал печально король, — кажется, мы в очень незавидном положении.
— К сожалению, Ваше Величество, не кажется, а точно, — отвечал генерал.
— Кажется, — продолжал король, — эти несчастные нерешительные переговоры привели только к тому, что пруссаки успели усилиться, и наше положение стало безвыходным. Без этих переговоров мы бы взяли Эйзенах и, может быть, были бы теперь в Баварии.
— Совершенно справедливо, — согласился генерал сухо. — Ваше Величество должны отдать мне справедливость, — продолжал он, — что я всегда самым решительным образом высказывался против подобных переговоров. По‑моему, нужно или вести переговоры, или вести войну: то и другое вместе немыслимо. И наконец, я даже не понимаю, к чему могли привести эти переговоры. Я не понимаю их мотива. Свободно пройти на юг, с обязательством некоторое время не сражаться с пруссаками…
— Два месяца, — вставил король.
— Какой в этом смысл? — продолжал генерал. — Как бы нас встретили в Южной Германии, если бы мы туда пришли и сказали: вот мы, дайте нам квартиры и провиант, но драться мы не будем! Я, право, не знаю, что бы я сам ответил на такой сюрприз, будучи на месте главнокомандующего южных войск. Я думаю, что в таком случае лучше было бы остаться в Ганновере.
Лицо короля слегка вспыхнуло досадой, но в следующую минуту приняло прежнее приветливо‑грустное выражение.
— Но Брандис, — проговорил он, — главнокомандующий и генеральный штаб с утра до вечера твердили мне, что армия все равно не приготовлена к войне и совершенно не годится для серьезных операций, что ей по прибытии в Южную Германию надо еще, по крайней мере, два месяца, чтобы прийти в состояние, необходимое для начала боевых действий! Оттого‑то я и согласился на эти переговоры. Что же мне было еще делать?
— Не мое дело, — сказал генерал, — судить о решениях и мерах Вашего Величества, но я не могу не повторять, что не понимаю этих теорий генерального штаба. Что за генеральный штаб, результатом трудов которого является всегда отрицание и предложение отступать, отступать и отступать? Ведь вам, Ваше Величество, угодно было решиться на войну, а воевать — значит идти вперед. Наступательные движения укрепляют дух армии, — топтание на месте утомляет ее, а бесцельное шатание взад и вперед окончательно деморализует.
Король промолчал и глубоко вздохнул.
— Ваше Величество! — продолжал горячо и живо генерал. — Есть только одно средство спасения, это — немедленное движение к Готе. Пруссаки ждут, исходя из предшествующих наших действий, что мы перейдем железную дорогу при Эйзенахе, и потому сосредоточили там свои силы. Ваше Величество, прикажите, не медля ни минуты, двинуться к Готе, идти форсированным маршем, — там не может быть серьезного препятствия, и мы прорвемся! У нас девятнадцать тысяч человек, пусть четыре тысячи лягут, мы все‑таки — головой ручаюсь — с остальными пятнадцатью окажем Южной Германии существенную помощь, и, главное, знамя Вашего Величества будет по‑прежнему высоко развеваться. А если останемся здесь, — прибавил он печально, — это добром не кончится!
— Но как же быть с Альвенслебеном? — спросил нерешительно король. — Граф Платен все еще надеется на результат.
— Какой результат? — прервал Брандис. — Нечего сказать, завидные результаты всех его переговоров!
— Граф Платен, — доложил камердинер.
По закону короля вошел Платен.
— Ваше Величество, — сказал он, — прусский полковник Деринг приехал из Берлина парламентером и привез депешу от графа Бисмарка.
— Просить его сюда, — распорядился король, вставая.
Брандис пожал плечами и отошел к окну.
Граф Платен ввел прусского полковника.
— Полковник фон Деринг, — представился тот, почтительно приближаясь к королю. — Прошу позволения Вашего Величества прочесть депешу его сиятельства министра‑президента графа Бисмарка.
— Я готов вас выслушать, полковник, — отвечал король.
Полковник развернул бумагу, которую держал в руке.
— Я должен предварительно доложить Вашему Величеству, — сказал он, — что я считаю свое поручение фактически отмененным, так как нашел здесь переговоры прерванными и войска генерала Фогеля фон Фалькенштейна готовыми к нападению.
— Так, стало быть, ваше сообщение не может быть более полезным? — сказал холодно король.
— Позвольте мне все‑таки, Ваше Величество, исполнить мое поручение.
— Может быть… — начал было граф Платен.
— Читайте, полковник, — прервал его король.
Полковник медленно прочел депешу, в которой заключалось буквальное повторение требования, выраженного князем Изенбургом 15‑го числа и предлагавшего союз на основании прусских условий реформы.
— Неужели этот человек думает, — воскликнул король, когда полковник кончил, — что я теперь…
— Ваше Величество, — сказал полковник Деринг твердым голосом, — я всепреданнейше прошу принять во внимание, что я, как прусский офицер, не могу слышать о прусском министре‑президенте выражений…
— Разве он не человек, как все мы? — спросил надменно король. — Неужели он думает, что я теперь в поле, во главе моей армии, приму условия, которые отверг в моем кабинете в Гернгаузене? Что я теперь поверну мою армию против Австрии?
— Нельзя ли, быть может, предоставить некоторое время для обсуждения, — заметил граф Платен.
— Я не уполномочен принимать ничего подобного, — возразил Деринг.
— И не нужно, — сухо сказал король, — ответ мой остается тем же: нет! Я допустил переговоры во избежание бесполезного пролития крови и угнетения населения, но так как избежать их не удалось, я больше ничего не могу сделать. Благодарю вас, полковник, и желал бы познакомиться с вами при более благоприятных обстоятельствах. Позаботьтесь, господа, — он обратился к своим генералам, — чтобы полковника проводили до форпостов.
Деринг поклонился и вышел из комнаты вместе с обоими министрами.
Перед домом расхаживал граф Ингельгейм и поглядывал время от времени с напряженным вниманием на окна короля. Группы офицеров оживленно разговаривали. Все знали, что у короля прусский парламентер, и пуще всего боялись капитуляции, не сделав ни выстрела.
— Ведь тогда нельзя будет нигде показаться в ганноверском мундире! — горячился молоденький гвардейский офицерик с по‑детски румяным лицом. — Что ж мы — две недели расхаживали взад и вперед, выжидая то баварцев, то гессенцев и ни разу не обнажив шпаги, того и гляди, попадем, как глупая мышь, в мышеловку! А чего‑чего не ожидали от нового главнокомандующего, — и что же вышло!
На отличной лошади подскакал цветущий юноша в мундире гвардейских егерей, с командорской звездой Эрнста‑Августа на груди, спрыгнул с седла, передал лошадь подоспевшему рейдкнехту[78] и подошел к группе офицеров.
— Откуда так спешно? — спросил говоривший.
— Объезжал войска, — отвечал князь Герман фон Сольмс‑Браунфельс, младший из племянников короля, делая тщетную попытку захватить пальцами чуть видный пушок на верхней губе. — Я в совершенном отчаянии, что король, несмотря на мои настоятельные просьбы, прикомандировал меня к главной квартире — для меня физически необходимо время от времени подышать свежим лагерным воздухом! А вы где, Ландесберг? — спросил он молоденького офицера.
— Да пока здесь, — отвечал тот, — и страшно бешусь на бездействие, на которое нас обрекает главный штаб! Королю следовало бы созвать нас, всех офицеров, и мы бы ему в пять минут доказали, что армия как нельзя более готова к войне и жаждет подраться.
— Еще бы! — воскликнул один гусар, крутя длинные усы. — Я главное не понимаю — на какой прах нам генеральный штаб! Ведь так слоняться без цели, как нас до сих пор заставляли, сумел бы всякий дурак. Мне помнится, я слышал старый анекдот о каких‑то неудавшихся крестоносцах: они предоставили идти перед собой гусю и шли по маршруту, который тому вздумалось указывать. Это было, по крайней мере, проще и дешевле — теперь штабные повыдергали у бедного гуся перья и строчат ими день и ночь — а какой из этого прок?
— Вон парламентер возвращается, — заметил Ландесберг, и офицеры приблизились к охотничьему дому, из дверей которого вышел Деринг в сопровождении Брандиса и Платена.
Пока Брандис распоряжался отправкой парламентера, Платен поспешно подошел к Ингельгейму.
— Повторение требования пятнадцатого числа!
— Ну, и что? — спросил граф Ингелъгейм.
— Разумеется, сейчас же отвергнуто.
— Стало быть, этим несчастным переговорам положен конец? — констатировал Ингельгейм, не без удовольствия провожая глазами карету, в которой уехал Деринг.
— Конец, — повторил граф Платен со вздохом.
— Знаете, любезный граф, — продолжал посланник, — по‑моему, положение весьма серьезно. Вы здесь заперты в угол между прусскими армиями, и я вижу только один исход — немедленное движение к Готе.
— Да и король не прочь двинуться вперед как можно скорее, но генеральный штаб…
— Господи боже мой! — воскликнул Ингельгейм. — Если бы король остался при своих старых генералах, я, право, думаю, что Чиршниц не стал бы постоянно пятиться.
— Да, — граф Платен пожал плечами, — в военном деле я не судья, но в Геттингене всеобщее желание…
— Всеобщее желание как там, так и здесь — действовать и идти вперед — взгляните на группы этих офицеров, они, конечно, думают именно так, — и он указал на кружок горячо разговаривавших молодых офицеров.
Князь Герман подошел к графу Платену.
— Надеюсь, — сказал он, — больше парламентеров не будет?
— Это был последний, — вмешался Ингельгейм.
На дороге послышался резкий рожок почтальона, и быстро подъехала дорожная карета с ливрейным лакеем на козлах.
— Это что такое? — спросил граф Платен удивленно.
И все взгляды устремились на карету, остановившуюся у подъезда.
Лакей спрыгнул с козел и отворил дверцы.
Пожилой человек в дорожном костюме медленно вышел из экипажа и вопросительно огляделся вокруг.
— Персиани? — воскликнул князь Герман.
— Господи! В самом деле, Персиани! — подтвердил граф Платен с удивленным, но радостным выражением, и поспешил навстречу русскому послу при ганноверском дворе.
— Чего ему надо? — Ингельгейм нахмурил брови.
— Это, при любом раскладе, хороший знак, — сказал князь, и прибавил он, усмехаясь: — Во всяком случае, это не парламентер.
— Почем знать, — проворчал Ингельгейм.
И взгляд его внимательно уставился на графа Платена, подошедшего к Персиани.
— Наконец, я вас нашел, любезный граф! — произнес посол императора Александра — старик с оживленными темными глазами и резкими чертами лица, в которых теперь выражалось сильное утомление. — Слава богу, это ужасное путешествие кончено!
И он протянул министру свою дрожавшую от усталости руку.
— Вы не можете себе представить, что я вынес, — продолжал он, передавая свой плащ слуге, — в этой отвратительной карете, беспрестанно задерживаемой передвижением войск, без сна, без надлежащей пищи… В мои‑то годы…
— Ну, — сказал граф Платен, — здесь вы можете немного отдохнуть: многого мы вам, правда, предложить не можем, потому что комфортом наша главная квартира не изобилует.
— Но прежде всего, — прервал его Персиани, — где Его Величество? Я прошу немедленно аудиенции — я приехал к нему с особым поручением.
Граф Платен вытаращил глаза и, помедлив, отвечал:
— Так пойдемте со мной, я сейчас же доложу о вас королю.
Он подал руку валившемуся с ног от усталости старику и поднялся вместе с ним по внутренней лестнице охотничьего дома.
В прихожей Персиани в изнеможении опустился на стул.
Граф Платен вошел в комнату короля и застал его отдыхающим на диване. Возле него сидел тайный советник Лекс и докладывал о разных текущих делах.
— Извините, Ваше Величество, за перерыв, — сказал министр, — приехал господин Персиани с особым поручением от своего правительства и просит Ваше Величество его принять.
Георг V поднялся, и радостное выражение оживило его черты.
— Как? — воскликнул он с живостью. — И что он привез? Пусть войдет!
Граф Платен ввел русского посланника в комнату.
— Добро пожаловать в наш лагерь, мой любезный Персиани! — вскричал король, подавая вошедшему руку.
Персиани схватил ее и промолвил надтреснутым голосом:
— Боже мой! Ваше Величество, какие времена! Как прискорбно мне видеться вновь с Вашим Величеством при таких обстоятельствах!
Рука его дрожала, и глаза были полны слез.
— Господин Персиани очень устал от дороги, Ваше Величество, — заметил граф Платен.
Король тотчас же опустился на диван и сказал:
— Так садитесь же! Любезный Лекс, постарайтесь добыть стакан вина.
— Благодарю, всепокорнейше благодарю, Ваше Величество! — проговорил Персиани, в изнеможении падая на стул. — Я потом что‑нибудь найду, а теперь позвольте прежде всего изложить поручение, с которым мне приказано явиться в главную квартиру Вашего Величества.
Здесь Персиани в кратких словах передал о том сочувствии, которое питают в Петербурге к положению короля и которым продиктован возложенное на русского посланника поручение предложить свои услуги королю Георгу на случай возможных переговоров с Пруссией. Расчет строился на том, что дружественное посредничество нейтральной обоим германским государям монархии может содействовать к мирному решению вопроса.
Король нахмурился.
— Все переговоры кончены, — заявил он.
— Боже мой, — вскричал Персиани, — так, стало быть, я приехал слишком поздно!
Его, видимо, поразила мысль, что трудное путешествие оказывалось напрасным.
— Неужели нет никакой возможности, — сказал он, складывая дрожащие руки, — избегнуть кровавого столкновения? Нам доподлинно известно, что прусский король душевно желает соглашения, и если Ваше Величество…
— Господин Персиани, — сказал король, — я, право, не знаю, как снова начинать переговоры после того, как только что перед вашим приездом мне было повторено неприемлемое требование от пятнадцатого числа? Я снова отверг его.
— Боже мой! Боже мой! — вскричал Персиани. — Какое несчастье в такие моменты быть таким: старым, бессильным и не владеть своими нервами! Может быть, мое посредничество снова…
Он не мог дольше говорить: голос изменил ему, он был близок к обмороку.
— Любезный Персиани, — произнес король кротко, — сердечно благодарю, что вы так быстро проделали это тяжелое путешествие, чтобы привести мне доказательство дружеского и доброго расположения великой державы, но в настоящую минуту ничего нельзя больше сделать… Вам нужно подкрепиться и отдохнуть. Я попрошу вас удалиться — граф Платен о вас позаботится.
— Благодарю, благодарю, Ваше Величество! — Персиани с трудом встал и тяжело оперся на руку графа Платена, проводившего его в комнату с постелью, на которой старичок тотчас же в изнеможении задремал, между тем как его слуге было предоставлено в распоряжение весьма ограниченное количество провизии для господина.
Граф Платен сошел вниз и отыскал в саду австрийского посланника.
— Ну, что? Новые переговоры? — спросил Ингельгейм, вопросительно взглядывая на министра.
— Кажется, — отвечал тот, — что в Петербурге по личному побуждению или вследствие прусского желания склонны к посредничеству — может быть, в связи с приездом полковника Деринга. Во всяком случае…
— Любезный граф, — прервал его австрийский посланник серьезно, — я воздерживался от всяких замечаний относительно этих несколько дней тянувшихся переговоров, — они по форме, по крайней мере, касались войны. Вы видите, куда эти переговоры привели вас в военном отношении: вы заперты, почти придавлены прусскими войсками, и погибнете, если не воспользуетесь единственным средством спасения. Неужели в этот крайний и последний момент врагу будет дано время замкнуть и этот еще, может быть, открытый, путь на Готу посредством возобновления переговоров? На этот раз, впрочем, — продолжал австриец, — вопрос переходит на дипломатическую почву. Я должен обратить ваше серьезное внимание на политические последствия. Переговоры, которые велись до сих пор, поставили вас в весьма опасное военное положение, неужели вы хотите того же и в отношении политики? Что скажут в Вене, когда узнают, что даже в этот момент нельзя положиться на Ганновер, что при русском посредничестве затеваются переговоры с Пруссией…
— Да ведь никаких переговоров не было, — прервал граф Платен.
— Да, потому что бедный Персиани утомлен дорогой и заснул, — огрызнулся Ингельгейм, — но когда он проснется? Прошу вас, граф Платен, отправьте вы этого русского посланника восвояси. Неужели вы до сих пор думаете найти где бы то ни было поддержку, кроме Австрии? Неужели вы хотите запереть для себя все двери, выключить себя из раздела плодов великой борьбы, который там скоро будет иметь место?
— Но, позвольте, — под каким предлогом? — замялся граф Платен.
— Да бедный, больной старик ухватится с радостью за любой предлог, который даст ему возможность убраться отсюда, из‑под пушек. Прошу вас, — продолжал он настойчиво, — подумайте, что скажут в Вене: император, который так твердо рассчитывал на Ганновер, все ваши друзья в обществе, Шварценберги, Дидрихштейны, графиня Менсдорф, графиня Клам‑Галлас…
— Персиани уедет, — сказал Платен. — В Вене слишком хорошо знают, как я отношусь к Австрии, и в крайнем положении Ганновера…
— Самое лучшее — твердо держаться одной стороны, — добавил граф Ингельгейм.
— Я иду к королю, — объявил граф Платен, и направился к дому.
Граф Ингельгейм посмотрел ему вслед, качая головой.
«Только бы он дорогой никого не встретил! — сказал он про себя. — Боюсь, — продолжал он в раздумье, — ах, как боюсь, что все это очень дурно кончится! Поражающий героизм государя не найдет никакого органа, который бы соединил его с храброй армией, генеральный штаб понятия не имеет о войне, поклоняется только одному принципу — бегать от неприятеля, где только тот покажется, а кронпринц…»
Он только глубоко вздохнул.
«Однако все‑таки многое сделано, — продолжал граф, — этот ганноверский поход отнял у Пруссии много времени, много сил. Все это прямая для нас выгода, и тяжело ложится на чашу весов. Занятие края потребует еще больших сил. Главное, необходимо всякими мерами мешать неприятелю действовать тут на севере с полной свободой. Эге, да вот и мой северный коллега отдохнул!»
И он пошел навстречу русскому посланнику, спускавшемуся из дома в сад.
Персиани немного поспал, немного приоделся, немного поел и казался гораздо свежее и бодрее прежнего.
Все еще слегка колеблющимся шагом он направился навстречу графу Ингельгейму.
— Добро пожаловать, любезный коллега! — сказал граф, протягивая руку. — Дипломатический корпус начинает пополняться: до сих пор я был его единственным представителем! Вы очень утомлены путешествием?
— Смертельно, граф! — отвечал Персиани, опускаясь на садовую скамейку, на которой рядом с ним устроился граф Ингельгейм. — И кажется, здесь не предвидится возможности хоть сколько‑нибудь отдохнуть…
— Помилуйте, где тут отдыхать! — заохал Ингельгейм. — Целый день шум, барабанный бой, трубы!
— Ужасно! — сказал Персиани.
— А ночью вместо порядочной постели жесткий соломенный матрац…
Персиани всплеснул руками и поднял глаза к небу.
— Но это все мелочи, с этим можно было бы кое‑как примириться, — продолжал гнуть свое Ингельгейм.
Персиани покосился на него с выражением глубочайшего удивления.
— Неприятно будет, когда начнется настоящее действие, — многозначительно произнес австрийский дипломат, — король, конечно, примет участие, и нам придется быть неотступно возле него…
— Неужели вы думаете, что нам есть основание чего‑либо бояться? — спросил Персиани. — Ведь, кажется, наш дипломатический характер…
— Нисколько не предохранит меня от плена, — пугал Ингельгейм, — потому что мы с Пруссией враги. Вы — иное дело, вы можете рассчитывать на безукоризненное внимание, как скоро вас признает кто‑либо из командиров. Конечно, в запале боя, может быть… — Он не кончил, но многозначительно пожал плечами.
— Но разве есть основание предполагать? — спросил Персиани.
— Любезный коллега, — отвечал граф Ингельгейм, слегка вздыхая и искоса бросая на дипломата испытующий взгляд, — ядра, пули и сабли не руководствуются дипломатическими соображениями. В таких неожиданных положениях не остается никакого выбора. Впрочем, я не думаю, чтобы опасность могла угрожать нашей жизни, хотя, конечно, не совсем приятно слышать страшный шум поля битвы, видеть кровь, трупы…
Персиани невольно вздрогнул при мысли о таких поводах к возбуждению нервов.
— Вот идет граф Платен, — сказал австрийский посланник, — может быть, он сообщит нам что‑нибудь новое.
Граф Платен подошел и просил русского посланника пожаловать к королю.
— Вы, стало быть, думаете, что переговоры уже немыслимы? — спросил Персиани, поднимаясь на лестницу.
— Я не думаю, чтобы король теперь решился на какие‑либо уступки, — ответил Платен после некоторого колебания.
— В таком случае… — начал было Персиани, но не высказал своей мысли, потому что они уже подошли к дверям.
— Любезный Персиани, вы, вероятно, немного отдохнули? — сказал Георг V. — Я пригласил вас, чтобы еще раз поблагодарить за усердие, с которым вы, несмотря на ваши лета и на ваше слабое здоровье, предприняли вдвойне тягостную поездку сюда и передали мне дружеское участие и предложение. Я попросил бы вас остаться долее в моей главка квартире, если бы не была отрезана последняя возможность к переговорам, после того как полковник Деринг приезжал сюда еще раз предлагать союз на условиях реформы, от чего я отказался. Таким образом, мне пришлось бы вас бесполезно мучить, удерживая здесь и подвергая ваше здоровье лишениям и опасностям боевой жизни. Поэтому я прошу вас вернуться в Ганновер. Вы можете быть там полезным королеве своими советами. Благодарите императора искренно и сердечно за его дружбу и заботу!
— Если Ваше Величество полагает, что в настоящем положении дел переговоры невозможны и что я не могу быть вам здесь полезным…
— Это точное мое мнение, — подтвердил король.
— Но, может быть, — сказал Персиани, — с течением времени, в случае перевеса одной стороны, еще раз наступит момент для каких бы то ни было переговоров, — в таком случае долг мой остаться…
— Такого момента ожидать скоро нельзя… Отправляйтесь и сообщите королеве, в каком положении вы нашли здесь меня и армию.
— Я повинуюсь, — согласился Персиани, — и молю Бога сохранить Ваше Величество и устроить все к лучшему!
В глубоком волнении старик схватил поданную ему королем руку, долго держал ее в обеих ладонях, и крупные слезы капали из его глаз.
Король милостиво улыбнулся.
— Я знаю, как вы расположены ко мне и к моему дому. Да сохранит Господь вас и вашего государя! — прибавил он с чувством.
Персиани вернулся с графом Платеном в сад, где их дожидался Ингельгейм. После обмена несколькими незначительными фразами старик пожал графу Ингельгейму руку и направился с Платеном к дому, где для него были приготовлены карета и конвой.
— Итак, буря миновала! — возрадовался граф Ингельгейм, потирая руки, и с юношеской подвижностью идя к дому.
Через час состоялся военный совет под председательством короля. На нем заседали главнокомандующий и главный штаб, генерал‑адъютант, генерал Брандис, граф Платен, граф Ингельгейм и Мединг.
Король настаивал на немедленном отправлении в Готу. Генерал Брандис, полковник Даммерс и гражданские чины настойчиво поддерживали мнение короля.
Начальник главного штаба полковник Кордеман заявил со своей стороны, что армия вследствие усиленных маршей и скудного провианта отнюдь не может быть приведена в атакующее положение и что необходимо сосредоточить все силы для обороны и заблаговременно приготовиться к возможному нападению. Весь главный штаб присоединился к мнению своего начальника, и главнокомандующий счел при таких условиях выступление вперед мерой чересчур рискованной.
Король со вздохом согласился, но объявил, что хочет провести ночь среди войск, и поэтому в полночь, сопровождаемый всей своей свитой, прошел через весь лагерь и расположился на биваках в ржаном поле, перед местечком Меркслебен.
Все провели ночь в напряженном ожидании. Но все оставалось спокойным. К форпостам не дошло никаких известий о движениях неприятеля.
Около четырех часов утра вернулись в главную квартиру несколько офицеров, разосланных накануне к югу на рекогносцировку, и сообщили, что баварцы решительно продвигаются вперед, и к 25‑му должны были быть уже у Баха.
Полная бездеятельность неприятеля, казалось, подтверждала эти сведения и позволяла предполагать, что прусские действующие войска были стянуты в том направлении.
Главная квартира приободрилась и повеселела, и было решено выждать подтверждения этих известий и приближения баварской армии, укрепившись на занятой позиции. Только генерал Брандис покачивал головой и говорил:
— Если баварцы подвигаются к северу, а пруссаки заняты на юге, то тем больше оснований спешить как можно скорее к ним навстречу и подать им руку, прежде чем главные прусские силы подойдут с севера.
Между тем было приказано поставить батареи, король и его свита, измученные бессонной ночью, отправились в Тамсбрюк, деревушку на берегу Унструты, и король расположился в тамошнем пасторском доме.
Рассвет 27 июня выдался ясным, и солнце озарило первыми лучами пеструю, разнообразную картину раскинувшейся вокруг города Лангензальца ганноверской армии.
Глава четырнадцатая
В пять часов утра король прилег отдохнуть в тихом пасторском домике в Тамсбрюке. Из распоряжений главного штаба следовало, что в ближайшие дни предстоит ограничиться оборонительными стычками, дожидаясь предполагаемого, но никакими определенными известиями не подтвержденного прибытия баварцев.
Под большой, старой липой на дворе пастората сидела за очень скромным завтраком королевская свита.
На большом столе, покрытом белой скатертью, стоял фаянсовый кофейный прибор с синими цветочками, какие, по преданию, сохраняются до сих пор в некоторых старых, скромных деревенских хозяйствах Северной Германии, и далеко не аромат мокко разносился из большого кофейника, кипевшего на старинной жаровне.
Окорок и несколько колбас, большой черный хлеб и маленький кружок масла дополняли убранство стола. Строго беспристрастным распределением всех этих благ занимался флигель‑адъютант граф Ведель.
Все общество отдавало честь завтраку с аппетитом, которого никогда не обнаруживало за парадными обедами в Гернгаузене.
— В этом напитке, кажется, ужасно много воды, — заметил генерал Брандис, подозрительно поглядывая на темноватую жидкость в своей чашке.
— Так в нем, стало быть, избыток того, чего недостает в колбасе, — отозвался граф Ингельгейм, сделав перочинным ножом тщетную попытку отрезать кусок.
— По крайней мере, не просто холодная вода, — сказал дрожащий и бледный граф Платен, глотая горячий кофе.
— Не знаю, лучше ли горячая вода холодной, — ворчал Брандис, все еще не решаясь поднести чашку ко рту. — Для внешнего употребления она, пожалуй, имеет свои преимущества, но без некоторой примеси спиртного элемента — в настоящем случае достоинство ее кажется весьма сомнительным, тем более так рано утром.
— Ваше превосходительство изволит разделять отвращение к воде старых легионеров, — сказал, улыбаясь, граф Ведель, — они ведь говорят: вода очень неприятна, когда заберется за сапоги, но должна быть еще неприятнее, когда заберется в желудок!
— Веллингтоновы легионеры жили до изобретения гидропатии! — заявил маленький Лекс, уничтожая с большим старанием ветчину.
— И были совершенно правы! — заметил генерал Брандис с комичной серьезностью. — Их стихией был огонь, и они не разводили своих войск сахарной водицей, как теперь вошло в моду.
— Не угодно ли вашему превосходительству отведать вот этого, — князь Герман Сольмс подал изящную, оплетенную соломой походную фляжку, — у меня осталось немного превосходного коньяка!
— Вы — спасение погибающих, милый князь! — сказал старый генерал, приветливо улыбаясь. — Я ваш должник!
Князь вошел в дом, вернулся с чайником, полным кипятка, и скоро стоял перед генералом со стаканом грога, возвратившим старому ветерану обычное бодрое и веселое настроение.
Громкое «ура!» раздалось со стороны обступивших двор хозяйственных пристроек, в ту же минуту с той стороны показался кронпринц Эрнст‑Август, спеша присоединиться к обществу вокруг стола.
В одной руке у него было кепи, в другой — платок, завязанный узелком.
— Отгадайте, что у меня здесь, господа? — спросил он, осторожно приподнимая кверху фуражку и платок. — Свежие яйца! Не прелесть ли это? — И он выложил добычу на стол. — Давайте их варить, или лучше сделать яичницу?
— Зачем столько излишней возни? — возразил Брандис, взяв одно яйцо, разбив о сабельную рукоятку и выпив. — Видно, что молодое поколение не привыкло к походной жизни.
Граф Ингельгейм последовал его примеру.
— Было бы весело самим состряпать яичницу! — настаивал кронпринц, прикрывая свою добычу обеими руками.
— К сожалению, у нас времени мало! — проворчал Брандис.
— Слышите! — воскликнул, вскакивая со своего места, Мединг.
— Пушечный выстрел! — сказал Ингельгейм, прикладывая руку к уху.
— Не может быть! — удивился генерал‑адъютант. — Откуда ему взяться? Главный штаб не ждет никакого нападения!
Повторилось несколько очень отдаленных глухих залпов.
— В самом деле, выстрелы! — крикнул Ведель.
— Не мешало бы сесть на лошадей! — воскликнул Брандис с просиявшим лицом, допивая остатки грога.
— Не разбудить ли Его Величество? — предложил Ведель.
— Прислали бы сказать, если бы было что‑нибудь серьезное, — заметил Даммерс. — Я пойду на чердак, оттуда видно далеко вокруг.
И он вошел в дом. За ним последовал князь Герман, а остальное общество в напряженном ожидании прислушивалось к залпам, доносившимся все яснее и яснее.
— С яичницей в самом деле много возни, — передумал кронпринц и, положив яйца в чайник, из которого Брандис взял лишь каплю воды для грога, поставил его на уголья. Затем принялся усердно их раздувать и озабоченно следить за начинавшимся процессом закипания.
Немного погодя вернулся Даммерс.
— На горизонте видны большие колонны, сквозь пыль сверкает оружие! — сообщил он. — Надо разбудить Его Величество!
Граф Ведель побежал в дом.
С равнины доносились сигналы; в разных местах лагеря раздавались звуки марша.
Георг V вышел из пастората.
Все подошли к нему.
— Ваше Величество, — обратился к королю Брандис, — я с радостью слышу старые, хорошо знакомые голоса пушек. Это молодит старое сердце!
Лицо короля светилось мужеством и решимостью.
Он пожал генералу руку.
— Я в первый раз слышу этот голос на серьезном поле, — ответил государь, — но, мой любезный генерал, и мое сердце бьется сильнее при его звуках. Теперь никакие колебания немыслимы, и с нами Бог!
И Георг сложил набожно руки и молча поднял голову к небу.
Почти невольно его примеру последовали все присутствующие.
Раздался лошадиный топот, подскакал офицер гвардейского корпуса, спрыгнул с седла и доложил королю от имени главнокомандующего, что неприятель надвигается большими колоннами с Готской дороги и что генерал просит Его Величество немедленно оставить Тамсбрюк и подняться на вершины, за Меркслебен.
Граф Ведель отправился распоряжаться, лошадей вывели и заложили экипажи.
— Главнокомандующий просит у Вашего Величества полномочий на случай возможной необходимости капитулировать, — прибавил адъютант.
Генерал Брандис закусил усы, граф Ингельгейм топнул ногой.
— Что это значит? — спросил с недоумением король.
— Главный штаб, — продолжал адъютант, — поставил главнокомандующему на вид, что утомленная и оголодавшая армия может не выдержать сражения, поэтому он просит разрешения капитулировать, если это, по его убеждению, окажется необходимым. Генерал с этой целью составил инструкцию и просит Ваше Величество, всемилостивейше подписав ее, возвратить ему немедленно.
И он подал королю бумагу.
Король крепко стиснул зубы. Тяжелый, сдавленный вздох вырвался из его груди. Но, не сделав ни одного порывистого движения, Георг взял у адъютанта бумагу и разорвал ее.
— Вернитесь к главнокомандующему, — отчеканил он холодным, металлически звонким голосом, — и отвезите ему мой приказ защищаться до последнего человека!
Лицо адъютанта просияло.
Почтительно отдав королю честь, он в один миг очутился на седле и умчался как вихрь.
— А теперь, господа, вперед! — приказал король.
— Папа, только что из‑под курицы, всмятку! — подбежал принц с полной тарелкой сваренных яиц.
— Скушайте хоть одно, Ваше Величество, — попросил Брандис, — неизвестно еще, когда и где доведется вам снова чем‑нибудь себя подкрепить! — И он подал королю яйцо, предварительно разбив его с одного конца.
Король съел и повернулся к лошадям.
Уселись, и кавалькада тронулась, с драгунами в качестве эскорта.
Когда король выезжал из Тамсбрюка, началась горячая перестрелка.
С высот видны были линии неприятельских застрельщиков перед городом Лангензальца, — неприятельские батареи выстроились по ту сторону Унструты и поддерживали оживленный огонь, ганноверские батареи отвечали с другой стороны. Перед городом началась схватка пехоты. Ганноверская кавалерия виднелась в стороне и медленно отступала.
— Куда мы едем? — спросил король.
— На холм, за Меркслебен, откуда видно все поле битвы, Ваше Величество, — отвечал генерал‑адъютант.
— Мы удаляемся от пушечного грома, — заметил король.
— Дорога делает изгиб и уклоняется влево, к тому холму, — отвечал полковник Даммерс.
— Так мы повернем вправо, чтобы приблизиться к сражению, — сказал король спокойно и повернул лошадь в том направлении, откуда несся гул ружейных залпов. — Швеппе, — обратился он к кирасирскому майору и берейтору, который держал его лошадь под уздцы, — я приказываю вам ехать в том направлении!
— Там нет никакой дороги, Ваше Величество! — отвечал майор.
— Так мы поедем через поле!
И в самом деле, королевский отряд двинулся в направлении, указанном королем. Все ближе и ближе раздавались пушечные выстрелы и треск ручного огнестрельного оружия.
Король и его свита двигались по горной возвышенности, окружавшей равнину, направляясь к указанному адъютантом пункту, резко выделяясь на общем фоне красивыми мундирами конвойных драгун и блестящими мундирами свиты.
Несколько пуль пролетело над этой группой, лошади начинали тревожиться.
Вдруг неприятельская артиллерия избрала кортеж короля своей мишенью, и дождь гранат хлынул на него, взрывая почву то спереди, то сзади, то перелетая над головами.
Генерал‑адъютант подскакал к королю.
— Ваше Величество! — проговорил он взволнованно. — Мы в смертельной опасности, умоляю Ваше Величество…
Граф Платен и генерал Брандис тоже стали убеждать короля удалиться с явно опасного пункта.
Король приостановил лошадь.
Свита тоже остановилась.
— Может ли отсюда видеть меня моя армия? — спросил Георг V.
— Непременно, Ваше Величество, — отвечал генерал‑адъютант, — место Вашего Величества видно со всех концов равнины.
— Хорошо, — сказал спокойно король.
И остался на месте.
Гранаты со свистом пролетали над его головой, мелкие снаряды, не долетая, рассыпались у подножия холма, на котором он остановился, лошади вскидывали головы, дрожали и ржали. Неподвижно, подобно мраморной статуе, стоял слепой король на вершине, чтобы армия видела его, вельфского монарха, готового отдать жизнь за то, что он считал своим правом и долгом.
И громогласным «ура!» приветствовали ганноверские колонны своего государя, проходя стройными рядами мимо него, и низко склонялись перед ним знамена. Король отвечал спокойным наклоном головы.
— Однако, если мы тут задержимся, — шепнул Ингельгейм Брандису, — какая‑нибудь шальная пуля найдет случай решить очень просто ганноверский вопрос.
— Да, в самом деле, — заметил Платен, указывая на гранату, лопнувшую очень близко от короля, — они все ближе и ближе ложатся к цели. Но если сказать что‑нибудь, мы еще дольше здесь останемся!
— Ваше Величество, — сказал Брандис, подъезжая к королю, — сражение уклоняется в сторону, и я думаю, что Ваше Величество будет виднее с того холма, который был первоначально предназначен для пребывания Вашего Величества.
— В самом деле? — переспросил король.
— Я убежден, что Вашему Величеству лучше туда переместиться! — отвечал генерал.
— Так едем! — решил король, вонзая шпоры в бока лошади, так что майору Швеппе оказалось весьма затруднительным с ней справляться.
Кортеж быстро переместился на тот холм, около которого сосредоточилась резервная кавалерия.
Король подъехал к самому скату, свита последовала его примеру, частью спешилась и следила за движением сражавшихся войск при помощи подзорных труб.
Экипажи выстроились полукружием на некотором расстоянии.
Король стоял неподвижно. Ни одна черта его благородного, бледного лица не изменилась. Генерал‑адъютант поминутно сообщал ему все, что видел из хода сражения, свита тоже время от времени выражала громкими возгласами результаты своих наблюдений, но по большей части все шепотом передавали друг другу опасения или надежды.
Пока это происходило в главной квартире, драгунский полк герцога Кембриджского стоял с самого раннего утра на форпостах в окрестностях деревни Геннигслебен, на пути из Лангензальца в Готу.
Перед этой деревней стоит дом шоссейного сборщика, черный с белым шлагбаум которого виден издалека. У этого пункта помещался самый отдаленный форпост.
Лейтенант Штольценберг с младшим своим товарищем, Венденштейном, командовал этим отрядом.
Утреннее солнце светило ярко, и оба молодых офицера стояли возле лошадей, поглядывая на равнину, далеко перед ними расстилавшуюся, прорезанную серой лентой шоссе. Немного соломы лежало на земле, но от припасов, из которых молодые люди составили себе ужин перед вступлением в Геттинген, не уцелело ничего.
Усталый, сонный Венденштейн вытащил из кармана фляжку, хлебнул из нее и передал товарищу. Затем вынул из кармана кусок черного хлеба, принялся медленно отламывать от него маленькие кусочки и глотать их.
— Знаешь что, Штольценберг, — заговорил он с легкою дрожью, — такой род войны невыносим. Ведь не таким мы представляли себе поход, когда выступили в него! — И он подал своей лошади кусок хлеба, накапав на него сперва немного водки.
— Нет, видит Бог! — согласился Штольценберг, вздыхая, и, глотнув из фляжки в свою очередь, поморщился: — Тьфу, черт побери! Откуда ты взял такую мерзость!
— В деревенском кабаке — что ж делать, коньяк весь вышел, приходится пить картофельный спирт! Однако скверно, — продолжал он, — что у нас нечего есть и пить. В тылу всего вдоволь, но с нашими порядками провиантские обозы всегда отстают на бог знает сколько, и пока до них доберешься, того и гляди, пробьют тревогу и надо будет двинуться вперед!
— Ну, это, брат, еще вопрос, пойдем ли мы вперед! А какие славные овечки бегали по обе стороны дороги! И мы не дерзнули к ним прикоснуться! Черт возьми! — прибавил офицер, топая ногами. — Быть на неприятельской земле и не сметь разжиться необходимейшими припасами, это уж слишком!
— Знаешь что? — сказал, смеясь, Венденштейн. — Главный штаб так сосредоточился на заботе улизнуть от врага, что позабыл о пропитании своих людей. Впрочем, где провиантским колоннам угнаться за нашими своеобразными лавировками!
— Я, однако, не понимаю, как мог король согласиться на подобное ведение войны! — недоумевал Штольценберг. — Ведь он положительно хотел идти вперед, и это трусливое метание вовсе не свойственно его характеру.
— Бедный король! — вздохнул Венденштейн. — Что же ему делать? Да, если б он мог видеть, а теперь… Все, что он может — это разделять нашу участь, и это он делает.
— Что это такое? — удивился Штольценберг, устремив трубу на равнину. — Посмотри‑ка, Венденштейн, на повороте шоссе — видишь облако пыли?
Венденштейн тоже поглядел в трубу.
— Ружья сверкают сквозь пыль! — вскричал он оживленно. — Штольценберг, старый друг! Кажется, неприятель!
— Наверное, — отвечал тот, все следя глазами за столбом пыли, — это пехотная колонна, а вон и артиллерия! Венденштейн, ступай к эскадрону и объяви.
— Урра! — гаркнул Венденштейн и, вспрыгнув на лошадь, понесся к деревне.
Штольценберг и отряд драгун в ту же минуту очутились в седлах и, выстроившись, напряженно смотрели на равнину.
Облако пыли медленно приближалось, все явственнее становились в нем блестящие точки.
Немного погодя к форпосту подскакало несколько всадников. Командир полка, граф Кильмансэгге, со своими адъютантами сопутствовал Венденштейну. Он посмотрел пристально в трубу.
— В самом деле неприятель! — сказал полковник. — А вон, взгляните, на тот холм въезжает батарея! Все форпосты должны вернуться к полку! — скомандовал он адъютантам, которые сломя голову помчались в разные стороны.
— А что предпримет полк, позвольте спросить, господин командир? — спросил Штольценберг, выстроив свой отряд.
— Исполнит приказ главнокомандующего: медленно отступить, отстреливаясь от неприятеля! — ответил со вздохом и пожимая плечами Кильмансэгге, и уехал назад, к деревне, куда съезжались со всех концов отряды форпостов.
— Отступать и вечно отступать! — заревел отчаянным голосом Венденштейн. — Ну, это кончится тем, что тактика ошибется в своих расчетах на армию!
На южных высотах сверкнула молния, с треском раздалось несколько залпов, и ядро раздробило поднятый шлагбаум возле шоссейного домика.
— Увертюра началась! — оповестил Штольценберг и быстро понесся со своим отрядом к деревне.
Это были те же самые выстрелы, которые услышали в королевской главной квартире в Тамсбрюке.
Полк медленно отступал к Лангензальца под прикрытием застрельщиков.
Город между тем был очищен — так исполнялся повсеместный приказ главнокомандующего армии отступать, отбиваясь и отстреливаясь по мере необходимости.
У Лангензальца драгуны встретили бригаду Кнезебека, которая по полученному приказанию отступала за Унструту. Войска исполняли приказание скрежеща зубами и отдавали позицию за позицией, тотчас занимаемые неприятелем, застрельщики которого шли по пятам ганноверцев, а артиллерия со всех холмов поддерживала все более смертоносный огонь.
Драгуны перешли мост через Унструту и стали перед деревней Меркслебен у подножья церковной горы, с которой поддерживали огонь ганноверские батареи, медленнее прусских, но зато каждым залпом метко производили видимые опустошения в прусских рядах.
Вправо от драгун тянулась, отступая, бригада Кнезебека. По ту сторону Унструты лежала мельница при маленьком ручейке Зальца, которая немедленно по отступлении ганноверцев была занята пруссаками и из которой они поддерживали сильный огонь.
Мимо драгун промаршировало два батальона гвардейской пехоты. Во главе первого батальона ехал полковник Ландесберг, полковник Альтен вел второй.
Батальоны шли к Унструте и, согласно полученному приказанию, должны были подняться на возвышенность к остальной бригаде.
Полковник Ландесберг ехал перед своим батальоном, невесело задумавшись, гренадеры следовали в мрачном безмолвии.
Батальон, имея Унструту с левой стороны, дошел до того пункта, где ему предстояло повернуть влево, чтобы занять предписанные позиции.
Унструта в этом месте имеет очень низкие берега, и переход через нее, видимо, не представлял затруднений. Ровная почва окружала холм, на котором лежит деревушка Меркслебен. Передние цепи неприятельских застрельщиков приблизились к противоположному берегу.
Полковник Ландесберг внимательно осмотрел окрестности.
— Если это место останется неукрепленным, — сказал он своему адъютанту, — неприятель врежется в самую середину нашей позиции и разделит наши силы.
— Мне это тоже кажется, полковник, — отвечал адъютант, — и я не понимаю, почему ее отдают. Между тем главный штаб…
Полковник прикусил усы.
— Невозможно предоставить неприятелю такую позицию и такую переправу через реку! — воскликнул он вполголоса.
Молния сверкнула из его глаз. Внезапным порывом он остановил лошадь.
— Батальон, стой! — скомандовал он громовым голосом.
Команда пронеслась по рядам. Батальон остановился.
С взволнованными лицами, полными напряженного ожидания, глядели гренадеры первых рядов на своего любимого начальника.
— Фронтом к неприятелю! — крикнул он.
Громовое, торжествующее «ура!» единогласно отвечало на это распоряжение, и гренадеры в один миг стали в указанную позицию.
На противоположном берегу показались неприятельские застрельщики.
— Застрельщики, вперед! — скомандовал полковник.
Линии развились с необыкновенной правильностью, и через несколько минут ганноверские стрелки стояли у берега, лицом к лицу с врагом.
Огонь ганноверцев последовал с такой правильностью и меткостью, что передние ряды неприятельских застрельщиков скоро стали искать прикрытия и отвечали слабее.
Между тем подоспел второй гвардейский батальон. Полковник Альтен подскакал прямо к Ландесбергу, который в пылу сражения очутился почти у самого берега, в ряду застрельщиков.
— Что случилось? — изумился Альтен. — Изменена диспозиция?
— Взгляните на эту позицию, — отвечал Ландесберг, — разве можно ее отдать? Я ее не отдам!
— У вас есть на это приказание? — спросил фон Альтен.
— Не нужно мне никаких приказаний, когда я вижу поставленную на одну карту участь дня и армии и могу удержать эту карту! — крикнул с увлечением Ландесберг. — Пали!
И ружья дружно грянули вдоль всей линии застрельщиков.
Полковник Альтен внимательно и пристально осмотрелся.
Потом подскакал к своему батальону, остановившемуся в томительном ожидании шагах в ста позади.
— Фронтом к неприятелю! — крикнул он.
Второй батальон так же, как первый, ответил оглушающим «ура!».
Через несколько минут линия застрельщиков развернулась до берега Унструты, и неприятель неожиданно для себя оказался перед опустошающим огнем.
Ганноверские гренадеры падали, но ряды пополнялись беззвучно и правильно и не отступали ни на дюйм от берега — впереди стоял полковник Ландесберг спокойно и холодно, как на параде.
Неприятельские батальоны, подвинувшиеся было к реке, приостановились. Между ними стало заметно тревожное движение.
Подскакал адъютант.
— Господин полковник! — крикнул он. — Главнокомандующий ожидает вас в предписанной позиции!
— Скажите ему, что я занят! — отвечал резко Ландесберг.
Адъютант бросил взгляд на позицию, отдал честь, повернул коня и умчался, не прибавив ни слова.
Неприятельский огонь ослабевал. Немного погодя послышался сигнал, и неприятельские застрельщики отошли на расстояние выстрела.
Полковник вложил саблю в ножны.
— Итак, — сказал он, — первое сделано. Как вы думаете, можно пройти через реку?
— Без сомнения, — отвечал адъютант, близко подъехав к берегу, — дно видно.
— В конце концов, люди могут переплыть, — констатировал спокойно Ландесберг. — Десять минут отдыха, а затем вперед!
На некотором расстоянии, в деревне Меркслебен, стояла бригада полковника де Ваукса. Полк кембриджских драгун держался поблизости берегов Унструты. Офицеры напряженно следили за движениями войск, отступавших обоими флангами, тогда как в центре продолжался сильный артиллерийский огонь.
— Мы уже повсюду отступили за Унструту! — волновался Венденштейн. — Это скандал! Чем кончится этот отход? Мы будет отступать, пока и сзади не наткнемся на неприятеля, который должен откуда‑то двинуться с севера, и тогда…
— Тогда мы капитулируем! — с горечью сказал Штольценберг и заставил лошадь подпрыгнуть. — Ведь именно этим должен завершиться такой способ ведения войны?
К молодым людям быстро подъехал Кильмансэгге.
— Посмотрите! — И он указал на берег, видневшийся вдалеке на равнине. — Что это значит — там дерутся?
— Обмениваются выстрелами при отступлении — там уходит бригада Кнезебека, — сказал Венденштейн.
— Неприятель скоро зайдет нам во фланг! — воскликнул Штольценберг, и оба офицера взяли в руки трубы и принялись смотреть по направлению, указанному графом Кильмансэгге.
— Это гвардейский полк, — определил Штольценберг, — но он не отступает, он стоит твердо на берегу…
— Неприятельские застрельщики отступили! — живо крикнул Венденштейн.
— Наши батальоны строятся… подходят к реке… идут в реку — урра!! — закричал во все горло Кильмансэгге. — Наши наступают!
— А мы тут стоим спокойно! — торопливо проговорил Венденштейн и со звоном всунул саблю в ножны.
В эту минуту подъехал полковник де Ваукс с бригадным штабом.
— Гвардейский полк переходит через Унструту! — закричал ему навстречу Кильмансэгге.
— Я видел, — сказал полковник, — и черт меня побери, если я останусь киснуть на месте! Скверно одно, нам придется брать с боя все те позиции, которые мы уступили добровольно неприятелю! Что у вас там под рукой? — спросил он у адъютанта.
— Первый батальон второго полка и первый егерский батальон, — отвечал тот.
— Приведите их скорее сюда.
Адъютант поскакал к ближним колоннам и скорым маршем привел их к полковнику.
Тот сошел с лошади и встал во главе их.
— А мне что делать? — спросил Кильмансэгге.
— Подъезжайте к Унструте, переходите через реку, где будет можно, и действуйте сообразно с обстоятельствами. Если можно, нападите на правый фланг неприятеля и заставьте замолчать вон те батареи.
— Будет исполнено, полковник! — вскричал Кильмансэгге. Через несколько минут полк был выстроен и быстро понесся к реке.
С той стороны, где перешли через реку два гвардейских батальона, снова начался сильный, ружейный огонь. Первый батальон с храбрым полковником Ландесбергом во главе медленно двигался прямой линией к Лангензальца, второй батальон повернул налево к мельнице, которая образовала здесь центр неприятельской позиции и стояла против полковника де Ваукса.
— Теперь пора! — крикнул он, послав с адъютантами бригаде приказ к наступлению, и велел заиграть штурм‑марш.
Перед ним лежала открытая равнина шагов в пятьсот, частью густо засеянная репой. Она обстреливалась огнем неприятельских линий и артиллерий с находившихся за ними высот.
Забили барабаны, полковник поднял саблю, и в стройном порядке, как на параде, батальон двинулся по равнине.
Неприятельский огонь делал сильные опустошения в рядах, которые в высокой листве репы могли продвигаться только медленно, — но батальон спокойно и споро смыкал ряды и скоро был на берегу Унструты, откуда с своей стороны открыл смертоносный огонь по неприятелю, который отвел своих застрельщиков и сосредоточил все свои силы вокруг мельницы.
Переход гвардейских полков через Унструту и смелое наступление полковника де Ваукса было между тем замечено со всех позиций армии и повело за собой всеобщее наступательное движение.
Офицеры перестали ждать приказаний, войска с громким «ура!» бросали свои позиции и спешили туда, где представлялась возможность скорее встретиться с врагом и где они рассчитывали принять более деятельное участие в ходе сражения.
Пехота повсюду переходила, отчасти переплывала Унструту и надвигалась на неприятельские позиции. Батареи, сперва оттянутые, выдвинулись вперед и поддерживали нападение непрерывным огнем, а кавалерия со всех сторон тоже подоспевала к полю битвы.
Все действовавшие неприятельские силы сосредотачивались около вышеупомянутой мельницы, которая составляла, таким образом, ключ к позиции центра прусской армии и была окружена глубоким рвом.
Против мельницы было два моста через Унструту, запертые баррикадами и сильно защищенные.
С высот сошел полк, взял мосты приступом и с этой стороны тоже двинулся к мельнице, тогда как отдельные небольшие отряды, повсюду переходя и переплывая реку, со всех сторон подходили к этой твердой неприятельской позиции.
Перед мельницей завязалось горячее дело. Отряды всех полков объединились для приступа.
Три раза храбро шли на приступ лейтенанты Керинг, Лейе и Шнейдер; лейтенант Лейе пал, пронзенный пулями, но ганноверцев было слишком мало, ров слишком глубок, и огонь из мельницы слишком убийствен.
Тогда показался генерал‑адъютант Даммерс, чтобы взглянуть на ход сражения и дать отчет королю. Рядом с ним ехал князь Герман Сольмс.
Сильно поредевшие ряды снова сомкнулись для нового приступа.
Вдруг с одной из придвинувшихся прусских батарей посыпался на них дождь гранат. Ряды дрогнули под этим убийственным огнем. Несколькими прыжками лошади князь очутился между ними и мельницей.
— Не так страшен черт, как его малюют! — крикнул он весело, обращаясь к солдатам, и, спокойно остановив коня, снял кепи и комично поклонился гранате, пролетевшей над его головой.
— Ура! — закричали солдаты и снова бросились к мельнице.
В эту же минуту двинулись с мостов два сомкнутых батальона, а за ними батальон Флеккера. Вместе с тем из‑за них, с высот Меркслебена, грянул залп быстро подоспевшей ганноверской батареи и сорвал с мельницы крышу.
Тогда храбрые защитники строения, превратившегося в груду развалин, вышли с противоположной стороны и густой волной хлынули вдоль шоссе назад к городу. Но в ту же минуту отступающие были встречены смертоносным фланговым огнем от подоспевшего второго гвардейского батальона, а через мосты примчались два эскадрона гусар и бросились на неприятеля с саблями наголо.
Часть бегущих удачно добралась до стоявших в отдалении прусских войск, остальные вернулись к развалинам, и в одном из уцелевших окон показался белый платок.
Огонь тотчас же прекратился. Полковник Флеккер подскакал к простреленным насквозь дверями мельницы, они распахнулись, и последние из храбрых защитников, человек сто из Двадцать пятого пехотного прусского полка, положили оружие. Двор мельницы был завален ранеными и трупами — перед ней лежали павшие ганноверские солдаты.
Генерал‑адъютант подъехал к князю Герману.
— Поздравляю вас, князь, — сказал он, — вы окрестились огнем! Только напрасно вы себя так экспозировали. Что бы сказал король, если бы с вами случилось несчастье.
— Да помилуйте! — сказал князь, смеясь и крутя чуть заметные усики. — Король прикомандировал меня к главной квартире, а мне вовсе не хотелось, чтобы про меня сказали, что я боюсь огня!
— Теперь не скажут, — заметил полковник, смеясь и приветливо глядя на юношу.
С этой минуты отступление неприятеля было решено. Медленно и в порядке, под непрерывным огнем, двинулись прусские войска по направлению к Готе, прикрываемые батареями, непрерывно отвечавшими на ганноверские залпы.
Между тем как прусская позиция была разбита в центре, граф Кильмансэгте подъехал к Унструте, отыскивая удобную переправу. Но берега были круты и сплошь поросли кустарником. Пришлось ехать вниз по течению до деревни Негельштедт, где наконец оказался мост и стало возможным перебраться на другой берег.
Драгуны подъезжали все ближе к неприятелю, уже отступившему по всей линии, но вынужденному к новой схватке на равнине к югу от Лангензальца. Перед драгунами оказалась небольшая возвышенность, полк поднялся на нее и очутился против открытого неприятельского фланга. Два прусских каре медленно отступали, беспрестанно останавливаясь и отстреливаясь, а на холме прямо против драгун виднелась прусская батарея, посылавшая картечь ганноверцам, напиравшим на центр.
Драгуны были одни — между ними и ганноверскими войсками стояли пруссаки.
— Слава богу! Наконец и мы в деле! — радовался Венденштейн, удерживая свою лошадь возле Штольценберга. — Знаешь, в такие минуты, право, лучше быть влюбленным; по крайней мере, я знаю, о чем думать, и…
— Опять! — слегка вздрогнул Штольценберг. — Ну, это недаром… Прощай, старый друг! Мы больше не увидимся…
— Вздор! — решительно возразил Венденштейн. — Однако смотри — начинается!
Четвертому эскадрону было приказано взять неприятельскую батарею, а второму и третьему — двинуться на неприятельское каре. Убийственный картечный огонь встретил драгун. Упали два трубача, за ними вслед множество всадников, но эскадрон неудержимо мчался вперед, а впереди всех скакал капитан Эйнем с высоко поднятой саблей.
До батареи оставалось всего ничего, когда снова раздался залп и осыпал храбрых всадников картечью.
Каким‑то чудом капитан остался цел. Он первый очутился между неприятельскими пушками и сильным ударом сабли повалил канонира. Драгуны последовали за ним под жестоким огнем прикрывавшего батарею отряда пехоты.
Одна из пуль попала в лошадь командира, которая, падая, почти совсем его придавила. Отчаянным усилием Эйнем вырвался из‑под нее.
— Вперед! — крикнул капитан, высоко взмахнув саблей, но в ту же минуту рука, пронзенная пулей, беспомощно упала. Он ухватился левой рукой за колесо стоявшей рядом пушки, как вдруг три или четыре неприятельских штыка глубоко вонзились в его грудь.
Храбрец упал на груду трупов, сведенная смертельной судорогой рука крепко держала спицу завоеванной пушки. Драгуны бросились к нему, и вскоре остальные защитники батареи обратились в бегство.
Батарея была взята, как приказано, но большая часть драгун полегла около нее вместе со своим предводителем.
Эскадроны, медленно подвигавшиеся к каре, следили за этой атакой с напряженным вниманием и приветствовали победителей громким «ура!».
Когда оба эскадрона приблизились к каре настолько, что можно было атаковать, из‑за холма, на котором стояла взятая батарея, неожиданно показались лейб‑гвардейцы, а за ними на некотором расстоянии кирасиры.
Лейб‑гвардейцы отважно бросились на стоявшее ближе каре. Сделанные на коротком расстоянии два залпа не остановили их. Но храброе каре не шелохнулось, и лейб‑гвардейцы отступили, чтобы приготовиться к новому нападению.
От второго каре, стоявшего ближе к драгунам, отделился командир и махнул платком. К нему был послан майор Гаммерштейн с адъютантом и трубачом.
— Мои люди измучены до последней степени, — сказал прусский штаб‑офицер, — я готов сдаться.
— В таком случае позвольте вашу шпагу, — отвечал Гаммерштейн, — и распорядитесь положить оружие.
— Постойте, — сказал прусский офицер, — сюда едут кирасиры.
И в самом деле, кирасиры, следовавшие за лейб‑гвардейцами, неслись в атаку с саблями наголо.
— Ступайте к ним навстречу и остановите их! — приказал Гаммерштейн своему адъютанту.
Тот бросился к кирасирам, но в страшном шуме, поднимаемом полком на всем скаку, его не заметили и не услыхали. Кирасиры продолжали свое наступление.
— Слишком поздно! — констатировал прусский офицер. — Пали! — скомандовал он, возвращаясь к каре, и смертоносный залп встретил кирасир.
Майор Гаммерштейн вернулся назад, и по рядам драгун пронеслось:
— В атаку марш, марш!
Второй эскадрон стремительно бросился на каре. Его встретил страшный залп.
Командир упал с лошади почти перед самым каре. Сильным прыжком лошади выдвинулся вперед Штольценберг и с саблей наголо и с громким «ура!» врезался в каре, но почти тотчас же слетел с лошади, пронзенный штыками.
Тем не менее его натиск образовал глубокую брешь и проложил путь эскадрону.
— Ура! Старый друг! — крикнул Венденштейн, но в ту же минуту сам повалился рядом с товарищем, а через них пронеслись драгуны.
Каре было разбито наголову, и остатки его разбежались.
Но когда драгунский эскадрон собрался, ни одного офицера не было налицо и недоставало трети солдат.
В рядах первого эскадрона кирасир был молодой солдат, в старом мундире, видимо не на него сшитом, простые серые панталоны были засунуты в сапоги. На голове у него красовалась фуражка, из‑под которой виднелась рана на лбу, наскоро перевязанная белым платком.
— Где лейтенант Венденштейн? — спросил он у одного драгуна.
— Вон все наши офицеры! — отвечал драгун, указывая на груду людей и лошадей, обозначавшую место, где стояло неприятельское каре.
— Убит! — крикнул кирасир. — Но я не могу его там оставить, я дал слово не оставлять его, и пусть не скажут, что Фриц Дейк не держит слова! Бедный лейтенант!
Он быстро подъехал к своему офицеру.
— Ваше благородие, — сказал он, отдавая честь, — я прибыл в армию в Лангензальца и был зачислен в кирасиры. Надеюсь, что вы остались мной довольны!
— Ты молодец! — подтвердил офицер.
— Ну, ваше благородие, — продолжал молодой человек, — сегодня, кажется, все кончено, и у меня на лбу тоже есть отметка, из которой так и каплет кровь в глаза, позвольте мне на сегодня отлучиться?
Офицер посмотрел на него с удивлением.
Яркая краска покрыла лицо кирасира.
— Господин офицер! — проговорил он. — Я вырос в Блехове вместе с сыном нашего амтмана Венденпггейном, лейтенантом кембриджских драгун; когда я отправлялся в армию, его мать сказала мне: «Фриц, не оставь моего сына!» Я обещал, и вот, мой лейтенант лежит под трупами — неужели мне его там оставить?
Офицер взглянул на него приветливо.
— Ступай, славный малый, — проговорил он, — и вернись, когда ты больше не будешь нужен своему лейтенанту.
— Благодарю вас! — обрадовался Фриц.
Кирасиры двинулись преследовать неприятеля.
Между тем и другое каре было рассеяно возобновленным натиском лейб‑гвардейцев. Кавалерия оставила место, и вскоре на поле битвы водворилось глубокое безмолвие. Только по временам его прерывали глухие стоны раненых, лежавших вперемешку с убитыми, мертвыми лошадьми, друзьями и неприятелями.
Фриц Дейк остался один. Он сошел с лошади, взял ее за поводья и приблизился к тому месту, где произошла схватка драгун с каре. Лошадь упиралась и порывалась в сторону. Он отвел ее и привязал к одному из деревьев, обступавших пролегавшее поблизости шоссе.
Затем снова подошел к страшной груде. Несколько раненых со стоном просили воды.
Молодой человек вздрогнул всем телом.
— Не погибать же им всем? — Он поглядел вокруг. Вдоль шоссе тянулся ров. В нем могла быть вода. Он схватил с земли две каски и бросился ко рву. В нем оказалась вода, но мало и мутная — постоянная жара повсюду все высушила.
Юноша наполнил обе каски мутной, тепловатой жидкостью и вернулся к раненым, пылающие глаза которых смотрели на него с невыразимой тоской. Он вынул из‑за пазухи походную фляжку, налил из нее понемногу в обе каски и напоил этой жидкостью несчастных, беспристрастно разделяя ее между ганноверцами и пруссаками.
— Ну, теперь потерпите немножко! — сказал он ласково. — Я сейчас похлопочу достать для вас телегу.
И он принялся осматривать груды трупов.
Храбрые драгуны лежали вперемешку с отважными прусскими пехотинцами, — одни со спокойным, мирным выражением в лице, другие так ужасно обезображенные пулями и штыками, что у молодого солдата замирало сердце, и он должен был на минуту закрыть глаза, чтобы собраться с силами для дальнейших поисков.
— Вот Штольценберг! — вскрикнул он, узнав молодого офицера в фигуре, плававшей в крови и лежавшей лицом к земле. — Славный, красивый какой! И так рано убит! Пулей снесло половину черепа, а сколько ран на теле! Уж и кровь перестала бежать!
Фриц Дейк нагнулся над телом, сложил руки и тихо прочел «Отче наш».
— Ай, вот Ролан! — опять крикнул он, поднимаясь. — Бедный, убит! А под ним — Господи! — под ним лейтенант!
Он с усилием оттащил лошадь в сторону. Под ней оказался Венденштейн, бледный и неподвижный — левая рука была прижата к груди, правая застыла с саблей, широко раскрытые глаза казались точно стеклянные.
— Умер! — громко и горестно простонал Фриц. — Но я его все‑таки возьму с собой! — решил он тотчас же. — Ему здесь не след оставаться, по крайней мере, бедная мать придет помолиться на его могилу. Как ужасно смотрят милые, добрые глаза! — продолжал он, рассматривая труп. — Но где же рана? Голова цела… ах, вот, грудь — то‑то он прижал рукой!.. Однако кровь еще сочится! Но глаза я видеть не могу!
И он нагнулся закрыть глаза товарищу своих детских игр.
— Господи! Да он жив! — вскрикнул он вдруг. — Веки движутся!
И он внимательно уставился в лицо лежавшего на земле.
В самом деле, веки медленно поднялись и снова опустились — на минуту в глазах блеснула молния жизни, потом они опять приняли то же неподвижное, стекловидное выражение.
Фриц Дейк опустился на колени.
— Боже милосердный! — заговорил он дрожащим, прерывающимся голосом. — И пусть после этого тебе не будет угодно выслушать никакой моей просьбы во всю мою остальную жизнь, но помоги мне теперь спасти моего бедного господина!
Он вынул фляжку, открыл рот раненого и влил в него порядочный глоток водки.
Легкая, чуть заметная дрожь пробежала по членам лейтенанта, глаза оживились на мгновение и вопросительно уставились на молодого крестьянина, губы чуть‑чуть приоткрылись, на них выступила кровь, и грудь поднялась от тяжелого вздоха.
Затем опять закрылись веки, и не стало заметно ни малейшего признака жизни.
Фриц охватил сильными руками тело лейтенанта и донес до лошади. С большим трудом взобрался на седло, не выпуская из рук своей ноши, усадил ее перед собой, крепко держа правою рукой, а левою взялся за узду и быстро направился к городу через поле.
Разбитое драгунами и кирасирами каре было последним серьезным препятствием со стороны пруссаков. По устранении его все пространство до Готы было занято исключительно ганноверскими войсками.
Не готовая к походу армия, совершив неслыханнейшие переходы — к сожалению, бесцельные, — опровергла свою неспособность к бою, самовольной, неудержимой инициативой вступив в кровавую стычку и победив.
На холме у Меркслебена целый день простоял король со своей свитой.
Георг V ни на минуту не сошел с седла. Он задавал короткие вопросы о ходе сражения, на которые получал быстрые ответы. От главнокомандующего не поступало никаких известий, ведь сражение было начато и велось отдельными офицерами, не захотевшими выполнять план главнокомандующего и самовольно вступившими в бой на тех местах, на которых каждый из них стоял, и тем способом, который каждому казался целесообразнее и успешнее.
Король ничего не видел, он слышал над собой свист пуль, вокруг себя гром пушек, но недоставало живой, пестрой картины, затрагивающей нервы и приковывающей трепетное внимание.
Он стоял как бронзовая статуя, ни малейшего следа внутреннего волнения не было видно на его спокойном лице, он только спрашивал время от времени, могут ли солдаты его видеть?
Когда, наконец, генерал‑адъютант принес известие, что центр неприятеля прорван, когда кирасиры, стоявшие за штандартом короля, в резерве, неистово ринулись в погоню за неприятелем, когда подскакал адъютант главнокомандующего с докладом об окончательной победе, одержанной ганноверскими войсками, король глубоко вздохнул и сказал:
— Я хочу сойти!
Рейткнехты подбежали помочь королю.
Свита поспешила принести поздравления.
— Много храбрых сердец перестало биться! Мир их праху и вечная память их мужеству! — сказал король печально.
Он долго стоял в раздумье.
— Я немного устал, — проговорил он наконец, — дайте мне чего‑нибудь выпить.
Стоявшие поблизости схватились за фляжки — они были пусты.
— В нашей карете есть немного хереса! — вспомнил Мединг и поспешил к экипажам. Он вскоре вернулся с початой бутылкой хереса и маленькой булкой, налил вина в серебряный стакан и подал королю.
Георг V выпил и закусил кусочком хлеба.
— Теперь я чувствую себя лучше! — сказал он. — Дай боже, чтобы каждый из моих солдат мог сказать то же самое! Я малость пройдусь! — прибавил он и, взяв под руку Мединга, прошелся взад и вперед по холму. — Господь даровал нашему оружию победу! — сказал он взволнованно. — Что же теперь делать?
— Ваше Величество, — отвечал Мединг, — чтобы столько благородной крови не было пролито даром, нам следует тотчас же отправиться в Готу, там перейти через железную дорогу и поторопиться достичь Баварии.
Король вздохнул.
— О, если б я мог сам вести свою армию! А теперь мне будут чинить затруднения, противопоставлять соображения — вы знаете, как поступает наш главный штаб… — Он замолчал.
— Прикажите вести протоколы военным советам, Ваше Величество, — заметил Мединг, — чтобы впоследствии можно было проверить все соображения и возражения и констатировать их в точности на бумаге.
— Непременно! — согласился с живостью король. — Я потребую протоколов, ибо я отвечаю перед историей за все, что случится и что будет сделано ошибочно!
Адъютант главнокомандующего подъехал к королю.
— Генерал Ареншильд просит Ваше Величество соблаговолить занять главную квартиру в Лангензальца!
— На коней! — приказал король.
Подвели лошадь, и королевский отряд двинулся в путь, вниз, через поле битвы.
Серьезно и спокойно ехал король мимо мельницы. При дороге лежали груды трупов, лошадиные копыта покраснели от крови, застывающей большими лужами. Король ничего не видел. Он слышал «ура!» приветствовавших его войск, но на лице его не было радости. Холодно и неподвижно сидел он на лошади и думал о павших, заплативших за победу своей жизнью, думал о будущем и с тревогой спрашивал у себя, принесет ли победа желаемые плоды, выручит ли армию из опасной западни, в которую ее вовлекли?
Королевская главная квартира поместилась в стрелковом доме в Лангензальца.
Как только король немного отдохнул, он вызвал к себе главнокомандующего и начальника главного штаба и пригласил вместе с тем генерала Брандиса, графа Платена, графа Ингельгейма, Мединга и Лекса для заседания на военном совете с целью обсуждения дальнейшего образа действий.
Было девять часов вечера, когда все приглашенные собрались в комнате короля.
Король начал с настойчивого требования немедленно двинуться к Готе. Мединг, исполняя желание короля, приступил к составлению протокола заседания. Но главнокомандующий и начальник главного штаба объявили, что армия так измучена, что положительно не в состоянии идти. Тщетно доказывал генерал Брандис, что даже для измученной армии короткий переход в Готу, где она нашла бы превосходные квартиры и обильное продовольствие, — лучше бивачной жизни в поле, без достаточного питания: начальник штаба объявил переход безусловно невозможным, а главнокомандующий сложил с себя всякую за него ответственность. Оба генерала настойчиво просили позволения оставить военный совет, так как их присутствие посреди войск крайне необходимо.
Военный совет разошелся без всякого результата, и король удалился, чтобы отдохнуть после тяжелых испытаний дня.
Вокруг города зажглись бивачные огни войск, и отовсюду доносились такие громкие песни, такие веселые возгласы, что трудно было верить в глубокое изнеможение этих солдат, будто бы слабых до того, что не представлялось никакой возможности заставить их промаршировать два часа до Готы, где они нашли бы отдых и ужин.
Фриц Дейк между тем доехал со своим лейтенантом до города, не зная все еще, жив он или нет. Тяжело лежало тело на его руках, беспомощно повисли члены, и от тряской езды из ран снова засочилась кровь.
Молодой крестьянин въехал в город, на улицах которого сражались и который казался оставленным жителями, попрятавшимися по чердакам и подвалам.
— Где бы мне его приютить? — спросил он себя. — В гостинице, пожалуй, будет лучше всего, — решил он после минутного раздумья и отправился отыскивать гостиницу. На повороте улицы, за хорошеньким, тщательно выхоленным палисадником стоял большой белый дом с большими хозяйственными пристройками. Зеленые опущенные жалюзи покрывали окна.
Когда кирасир с безжизненным телом на руках проезжал мимо, из первого этажа раздался звонкий, молодой голос, с оттенком полуужаса, полусострадания:
— Ах, бедный офицер!
Фриц Дейк был тронут звуком голоса и выражением сострадания к лейтенанту, и поднял глаза. Из‑под жалюзи выглядывала румяная, белокурая девичья головка, которой робко откинулась назад, когда солдат поднял голову, однако жалюзи не опустились.
Интонация ли голоса или участливый взгляд голубых глаз навели Фрица на мысль попросить именно здесь, в этом большом и, по‑видимому, обеспеченном доме, приюта для своего лейтенанта. Он остановил лошадь и крикнул:
— Да, бедный офицер очень нуждается в покое и уходе, и я прошу поместить его в этом доме!
Заявление было повелительно и категорично — ведь он принадлежал к армии, победоносно вступившей в город, — но тон был мягкий и умоляющий, и именно этот тон побудил молодую девушку полностью открыть окно и снова высунуть голову. Из‑за нее показался старый толстый человек, с красным, круглым лицом и короткими седыми волосами. Он сердито посмотрел на ганноверского солдата.
— Место в доме найдется, если нужно, — сказал он коротко и несколько грубо, — но ухаживать за раненым некому, а есть и самим нам почти нечего.
— Об этом я уже сам позабочусь! — сказал Фриц Дейк. — Только спуститесь вниз и помогите мне внести моего лейтенанта.
Старик ворча отошел от окна, а молодая девушка приветливо крикнула:
— Я сейчас приготовлю постель для раненого, а потом увидим, что нужно будет еще.
И тоже скрылась из окна.
Старик между тем отворил дверь и подошел к всаднику.
— Я не могу радоваться вашему вступлению в мой дом, — сказал он мрачно и резко, — потому что вы принадлежите к врагам моего короля и моего края, но комнату я вам дам, и, — прибавил он, сострадательно взглянув на бледного офицера, — еще охотнее для раненого, чем для здорового.
— Тут не может быть речи о друзьях или врагах, — отвечал Фриц Дейк спокойным и приветливым тоном, — дело в том, чтобы исполнить христианский долг относительно бедного раненого.
— Ну ладно! — согласился старик просто и подошел к лошади.
Фриц Дейк осторожно спустил тело лейтенанта на руки старика, сошел с седла, привязал лошадь к низенькому забору палисадника, и оба внесли безжизненного офицера в дом.
— Сюда! — указал старик на лестницу на верхний этаж.
Фриц Дейк нес голову раненого, и, тяжело ступая, едва поспевал за ним старик, заботливо поддерживая тело.
Наверху оказался длинный коридор, с дверями по обе стороны.
Молодая девушка, встретившая их наверху, побежала отворять дверь в большую комнату о двух окнах во двор, меблированную просто, но с некоторым изяществом. В ней раненого ожидала белоснежная постель.
Фриц Дейк положил на нее офицера с помощью старика и девушки.
— Ну, молодой человек, — сказал старик, серьезно глядя на кирасира, — теперь ваш офицер в надежном месте и не будет терпеть ни в чем недостатка в доме пивовара Ломейера! А теперь поставьте вашу лошадь в стойло, и, — прибавил он тише, как бы заискивающим голосом, — если можете, избавьте меня от других квартирантов!
Оба сошли с лестницы, между тем как молодая девушка осталась в комнате возле раненого, поправляя подушки и с состраданием поглядывая на бледное, мертвенное лицо.
На улице показалось несколько пехотинцев.
— Где тут в городе квартиры? — заговорил один из них. — А, вот славный дом, — войдем и спросим, здесь будет место для всех!
В эту минуту в дверях показался Фриц Дейк со стариком.
— Эге, да тут кирасиры! — воскликнули пехотинцы. — Товарищ, нет ли местечка?
Фриц Дейк положил палец на губы.
— В доме тяжело раненные офицеры, — сказал он, — нельзя ни громко говорить, ни стучать…
— Ну, так мы пойдем дальше! — решили пехотинцы и, бросив на окна сострадательный взгляд, отправились дальше.
— Спасибо! — произнес приветливо старый пивовар.
Фриц Дейк провел лошадь в стойло, где оказалось место между четырьмя лошадьми пивовара.
Затем он спросил кусок мела, подошел к входной двери и крупными буквами написал: «Тяжелораненые офицеры!»
— Ну, а теперь отправлюсь искать доктора, — сказал он, — смотрите хорошенько за моим лейтенантом и не трогайте его! — Он хотел было уйти.
— Постойте, — остановил его старик, — ваши доктора, вероятно, сильно заняты перевязкой, а здесь рядом живет наш домашний доктор, отличный и очень знающий человек, я его позову!
Он ушел и скоро вернулся с седым, но бодрым и приветливым старичком. Они поднялись наверх, тщательно заперев за собою дверь. Старый доктор подошел к постели, и Фриц стал тревожно следить за выражением его лица.
Доктор покачал головой, поднял одно из опущенных век раненого, заглянул в глаз и сказал:
— Жизнь еще не угасла, но сохраним ли мы ее, одному Богу известно! А теперь надо взглянуть на рану, надо его раздеть. А вы, милая Маргарита, принесите нам теплой воды и немного вина.
Молодая девушка поспешно вышла. Фриц Дейк осторожно разрезал мундир, панталоны и сапоги лейтенанта.
Одна рана оказалась на левой груди, другая — на плече.
— Это пустяки, — сказал доктор, указывая на плечо, — штыковая рана сама собой заживает, но тут, — и он вынул из футляра зонд и вложил его в грудную рану. — Пуля засела в ребрах, — определил он. — Если раненый не умрет от потери крови и истощения, то его еще можно спасти. Теперь ему необходим величайший покой. Когда я приступлю к извлечению пули, надо, чтобы он хоть немного окреп.
Молодая девушка принесла теплой воды, белье и губку. Потом зажгла лампу, так как становилось темно.
Доктор промыл рану и влил немного вина в рот лейтенанту. Вздох раздвинул его губы, легкая краска выступила на щеках, и он открыл глаза. Удивленные, большие глаза окинули обстановку, но в следующую минуту опять закрылись, а губы чуть слышно прошептали: «До свидания».
Молодая девушка сложила руки и подняла кверху глаза, полные слез.
Фриц Дейк подбросил свою фуражку к потолку и широко разинул рот, — можно было бы издать «ура!», каким он, бывало, разражался в веселом товарищеском кругу в Блеме, на лугу перед деревней или в большой зале деревенской гостиницы, но на этот раз «ура!» не издалось, рот снова сомкнуло, фуражка упала в угол, и только счастливое, признательное выражение осталось светлым отблеском на лице, до того мрачном и печальном.
— Ну вот, — доктор с довольным видом кивнул головой, — теперь больше ничего и не нужно, только чтобы кругом все было тихо, да давайте ему по капельке как можно чаще вино, чтобы восполнить потерю крови. Завтра я попробую извлечь пулю.
И он ушел вместе со стариком Ломейером.
Фриц и Маргарита остались при раненом, прислушиваясь к его дыханию. Каждые пять минут молодая девушка с величайшей пунктуальностью подавала кирасиру ложку, полную вина, которую тот принимал с благодарным взглядом и вливал в рот раненому.
Старый Ломейер принес холодный ужин для Фрица и кружку своего собственного пива. Молодой человек торопливо поел — аппетит оказался хорош, как всегда, — но от пива отказался.
— Пожалуй, засну, — сказал он.
— Ну, Маргарита, ступай спать, — распорядился старик, — мы уж без тебя позаботимся о раненом — тебе не высидеть ночи!
— Пустяки, папа! — возразила девушка. — Что значит ночь, когда дело идет о человеческой жизни! Позволь мне остаться, может быть, что понадобится!
Старик не стал противоречить, и приветливый взгляд его одобрил дочь. И Фриц тоже ничего не сказал, но его большие, честные синие глаза устремились на молодую девушку с выражением бесконечной признательности.
Старик сел в кресло и скоро задремал. Молодые люди остались у постели и исполняли аккуратно предписания доктора, с радостным участием приглядываясь к каждому признаку жизни — то глубокому вздоху, то легкой краске на бледном лице.
Долго они сидели, не говоря ни слова.
— Славная вы девушка! — вдруг проговорил Фриц, когда она снова подала ему ложку вина. — Как мать моего лейтенанта будет вам благодарна!
— Ах, бедная мать! — произнесла она с чувством, отвечая на его дружеское рукопожатие, и в ее ясных глазах блеснули слезы. — Должно быть, она очень знатная дама?
И Фриц принялся тихо, чуть не шепотом, рассказывать ей о семье лейтенанта, о старом амтманстве в Блехове, о прекрасной Вендландии с ее богатыми пажитями и темными сосновыми лесами, потом о своем собственном доме, о своем отце, о своем дворе и поле. Молодая девушка слушала молча и внимательно. Картины, встававшие перед ней при словах солдата, были так просты, так естественны, так свежи и чисты, кроме того, были все расцвечены поэтическим колоритом, окружавшим молодого храброго кирасира, вынесшего на руках с поля битвы своего бедного, насмерть раненного товарища и теперь так нежно, так заботливо следившего за проблесками жизни, висевшей на тоненьком волоске в изнеможенном теле.
Так, тихо и спокойно, прошла ночь в доме Ломейера. С улицы доносились громкие, веселые голоса городских постояльцев и солдат на биваках, всюду кипела жизнь и раздавался воинственный шум, и старый пивовар, иногда просыпаясь в своем кресле, приветливо взглядывал на молодого солдата и раненого офицера, которые избавили его от беспокойных постояльцев.
Утро 28 июня занялось лучезарно. В главной квартире спозаранку все были на ногах. Король обратился к армии с несколькими душевными словами, благодаря за проявленные храбрость и самоотверженность.
Затем начали хоронить на лангензальцском кладбище убитых. Король со свитой стоял у края большой, общей могилы. Священник трогательной речью напутствовал соединенных и примиренных смертью героев — пруссаков и ганноверцев. Георг V, который не мог видеть трупов храбрецов, лежавших в яме у его ног, — верных борцов за долг и своего государя, — низко нагнулся и, взяв горсть земли, первый бросил ее своей державной рукой павшим героям.
— Да будет земля вам пухом! — прошептал король и еще тише прибавил: — Благо уснувшим в вечном покое!
И, сложив благоговейно руки, произнес про себя молитву. Потом взял под руку кронпринца и вернулся в стрелковый дом. На пути его повсюду приветствовали стоявшие и расхаживавшие группами солдаты громкими «ура!» и возгласами: «Вперед! Вперед!»
Король низко наклонил голову. На чертах его лежало скорбное выражение.
Придя в свою комнату, он тотчас же послал за главнокомандующим.
Тот, как выяснилось, уехал к бивакам, и прошло больше часа, прежде чем он вошел к королю.
— Могут ли войска идти? — спросил король.
— Нет, Ваше Величество! Армии капут! Совсем капут! — сказал генерал, отчаянно ударяя себя в грудь. — Есть нечего, и боеприпасов не хватит для серьезного дела.
— Что же делать, по‑вашему? — спросил спокойно и холодно король.
— Ваше Величество! — крикнул генерал. — Главный штаб единогласно просит капитуляции!
— Почему?
— Главный штаб того мнения, что армия не в состоянии продолжать похода, — заявил генерал. — Кроме того, — прибавил он, — отовсюду надвигаются значительные неприятельские силы, форпосты доносят с севера, что генерал Мантейфель нас запирает, с юга генерал Фогель фон Фалькенштейн двинул значительные силы из Эйзенаха к Готе…
— Этого не могло бы быть, если б мы вчера же вечером пошли дальше, — заметил король.
— Идти дальше было немыслимо, как уверял главный штаб, — сказал Ареншильд.
Король молчал.
— Ваше Величество! — снова заговорил генерал, по‑прежнему колотя себя в грудь. — Мне тяжело произносить слово «капитуляция», но ничего иного не остается. Прошу разрешения Вашего Величества вступить в переговоры с генералом Фогелем.
— Я оглашу вам мое решение через час, — объявил король, — оставьте здесь своего адъютанта.
И он отвернулся.
Генерал вышел из комнаты.
— Итак, — произнес с глубокой скорбью Георг V, — напрасно лилась кровь, напрасны были все эти тревоги, страдания, лишения — все напрасно! И отчего? Оттого, что глаза мои застилает ночь, что я не могу стать во главе моей храброй армии, подобно моим предкам… Ах, как это тяжело, как это больно!
Король крепко стиснул зубы и поднял к небу свои невидящие очи.
Мало‑помалу с лица его сбегали негодование и скорбь, уступая место кроткому спокойствию. На губах заиграла тихая, страдальческая улыбка, он сложил руки и тихо проговорил:
— Мой Господь и Спаситель нес терновый венец и для меня тоже пролил кровь свою на кресте. Господи! Не моя — но твоя да будет воля!
Он позвонил в золотой колокольчик, последовавший за ним из его гернгаузенского кабинета в поход.
Вошел камердинер.
— Прошу сейчас же ко мне графа Платена, генерала Брандиса, графа Ингельгейма, тайного советника Лекса и члена совета Мединга.
Немного погодя все эти лица вошли в кабинет.
— Вам известно положение, в котором мы находимся, господа, — сказал король, — нас окружают значительные неприятельские силы, и главнокомандующий сейчас объявил мне, что войска в совершенном изнеможении и не могут продолжать похода, что у нас нет ни провианта, ни боеприпасов Он считает капитуляцию неизбежной. Но прежде чем на нее решиться, я желаю выслушать ваши мнения. Что вы думаете, граф Ингельгейм?
Австрийский посол заговорил глубоко взволнованным голосом:
— Тяжело, государь, говорить о капитуляции на другой день после такой победы, но если превосходство окружающих нас сил несомненно, — сил, успевших охватить нас со вчерашнего вечера, — прибавил он с ударением, — тогда продолжение войны было бы только напрасной жертвой храбрых солдат, чего никто Вашему Величеству не посоветует.
— Если б можно было послать кого‑нибудь в Берлин, — начал граф Платен, — тогда, быть может…
— Ваше Величество! — прервал его резко генерал Брандис, и голос его дрогнул. — Если б Ваше Величество могли сами обнажить меч и стать во главе армии, — я бы сказал теперь: «Вперед!» — и уверен, что мы пробились бы и достигли бы цели, но теперь… — И он топнул ногой и отвернулся, чтобы скрыть слезы, подернувшие его глаза.
Мединг подошел к королю.
— Ваше Величество, — заговорил он сдержанным голосом, — надо примириться с неизбежностью. Солнце проглядывает и сквозь мрачные тучи! Зачем напрасно проливать кровь ваших подданных? Но государь ответствен перед историей, и потому необходимо констатировать, что дальнейшее наступление действительно невозможно. Если мне позволено будет повергнуть к стопам Вашего Величества мой совет, то потребуйте от главнокомандующего и от всех начальников бригад честного слова и клятвы перед Богом и совестью в том, что войска не могут ни идти вперед, ни еще раз вступить в бой и что у нас нет ни припасов, ни снарядов. Тогда Ваше Величество будет ограждено от всякого нарекания, от всякого упрека со стороны армии, отечества и истории!
Король одобрительно кивнул головой.
— Итак, — сказал он, — это должно совершиться! Напишите приказ на имя главнокомандующего.
— И позвольте мне, Ваше Величество, — сказал граф Ингельгейм, — в эту торжественную минуту выразить уверенность, что после тяжелого испытания, ниспосланного вам Богом, вы вернетесь в свою столицу с торжеством — это так же несомненно, как то, что Австрия и мой император готовы стоять до последнего человека за права Германской империи!
Король приветливо пожал ему руку.
— Вы тоже напрасно подвергались лишениям? — сказал он с печальной улыбкой.
— Не напрасно, Ваше Величество, — я увидел короля и армию без страха и упрека.
Часом позже король принял требуемую клятву от главнокомандующего и всех начальников бригад. Генерал Фогель фон Фалькенштейн принял капитуляцию. Вскоре после этого в Лангензальца вступил генерал Мантейфель и по приказанию прусского короля сделал к капитуляции дополнения, в высшей степени почетные и лестные для ганноверской армии.
Офицеры сохранили оружие, лошадей, поклажу и все свои служебные права, так же как унтер‑офицеры свое жалованье.
Солдаты сдали оружие и лошадей офицерам, назначенным ганноверским королем, которые их затем предали прусским комиссарам, и были отпущены на родину.
Но прежде всего генерал, по особому повелению прусского короля, высказал его глубокое удивление и почтение храброй стойкости ганноверских войск.
Георг V выслал вперед, в Линц, графа Платена, генерала Брандиса и Мединга, которые там должны были ожидать его, сам же остался отдохнуть в замке герцога Альтенбургского, чтобы затем отправиться в Вену и ждать там дальнейших событий.
Ганноверские солдаты, которых весть о капитуляции поразила как гром среди ясного неба, сложили оружие в глубокой, горькой скорби и с палками в руках вернулись на родину, из которой вышли такие полные надежд и воинственного пыла!
Но они имели право вернуться, гордо подняв голову, потому что сделали все возможное. Они воздвигли себе нерукотворный и непреходящий памятник славы и доблести, и рыцарский предводитель прусской армии первый увенчал этот памятник лаврами своего королевского признания и одобрения.
Но знающему историю тех дней и следившему за знаменательным ходом событий невольно приходит на мысль мучительно неотвязчивый вопрос: почему судьбе не было угодно, чтобы оба благородных, рыцарских и благочестивых государя, воины которых стояли здесь в кровавой распре друг против друга, лично встретились и пришли к взаимному дружескому согласию?
Часть третья
Глава пятнадцатая
Был летний вечер. Знойное марево висело над равниной, которая окружает мирное селение Блехов. Воздух был удушлив, небо, хотя и безоблачное, подернуто сероватой дымкой. Солнце стояло еще высоко над горизонтом, но лучи его бросали на мутное небо резкий багровый, точно кровавый оттенок. Вокруг господствовала невозмутимая тишина.
Из селения выбыло большое число молодых людей, которые при известии, что войска стягиваются к Геттингену, отправились присоединиться к армии — кто надеялся настигнуть ее еще на ходу, кто уже в самом Геттингене. Но тише всего было в здании амтманства, где хозяин, с грозно нахмуренными бровями, расхаживал взад и вперед по большой зале. По временам он останавливался и устремлял мрачный взор через сад на широкую равнину. Он получил королевский приказ, который предписывал всем чиновникам оставаться при своих должностях. До него дошло также и распоряжение, в силу которого управление страной переходило в руки прусского гражданского комиссара фон Гарденбурга. Вслед за получением этих известий обер‑амтман немедленно передал все дела аудитору фон Бергфельду, причем сказал ему: «Вы достаточно знаете ход дел, для того чтобы вести их и исполнять приказания, какие будут получаться свыше. Делайте все, как знаете, а когда потребуется моя подпись, приходите за ней. Я остаюсь на моем посту, потому что король так приказал. Но не рассказывайте мне ничего о том, что совершается вокруг нас. Я не хочу ничего знать о бедствиях, постигших нашу страну. Мое старое сердце и без того истерзано тоской: незачем беспрестанно наносить ему еще новые раны. Только в случае, если здешним служащим сделается уж очень тяжело, вы меня уведомьте, в чем дело, и тогда прусский комиссар услышит голос старого Венденштейна так же явственно, как его привыкли слышать господа ганноверские референты!» С этими словами он вышел из канцелярии суда, поставив подпись везде, где это требовалось. Вообще старик мало говорил с тех пор, как страна подверглась оккупации прусскими войсками.
Тихо и беззвучно бродила по дому госпожа фон Венденштейн. Она, по обыкновению, занималась хозяйством — все было готово вовремя, ни в чем не проявлялось упущения. Только по временам старушка внезапно останавливалась, устремляя вдаль неподвижный взор, который будто следовал куда‑то за ее мыслью, далеко чрез окаймленный лесом горизонт. Потом вдруг, как бы очнувшись, начинала хлопотать с усиленным рвением. И чем быстрее она двигалась, чем усерднее все приводила в порядок, тем легче, казалось, становилось у нее на сердце.
Тишина господствовала также и в пасторском доме. Там все было налицо и все шло обычным порядком. Но тяжесть, чувствовавшаяся вокруг, висела и над мирной кровлей пастората. Даже розы в саду уныло склонялись на стеблях под жгучими лучами солнца.
Пастора не было дома. Он отправился навестить некоторых из своих прихожан, как это делал обыкновенно, не считая еще свои обязанности в отношении их ограничивающимися воскресной проповедью. Священник, желающий быть поистине добрым пастырем вверенных ему душ, должен был, по его мнению, сеять слово Божие еще и в дружеских беседах с прихожанами, деля с ними их радости и печали.
Елена сидела у окна с шитьем в руках, но взор ее часто задумчиво устремлялся вдаль, а руки как бы в изнеможении опускались на колени.
Перед ней расположился кандидат Берман, опрятно одетый весь в черное и, по обыкновению, гладко причесанный. Его всегда спокойное, с правильными чертами лицо было теперь еще спокойнее и самодовольнее обыкновенного.
Он внимательно следил за направлением взгляда и за выражением устремленных вдаль глаз молодой девушки. Желая поддержать плохо вязавшийся разговор, он сказал:
— Как душно сегодня! Вся природа истомлена зноем. Почти механически чувствуется давление этой густой, тяжелой атмосферы!
— Бедные войска! — со вздохом проговорила Елена. — Как сильно должны они страдать от духоты.
— За эти дни я чувствую себя вдвойне довольным и счастливым, — сказал кандидат. — Я не нарадуюсь тому, что избрал для себя мирную духовную карьеру, которая позволяет мне держаться в стороне от бесполезных страданий и лишений, каким подвергаются солдаты.
— Бесполезных? — воскликнула Елена, широко раскрыв глаза. — Ты, кузен, считаешь бесполезным сражаться за короля и отечество?
— Не перед глазами света, конечно, — возразил тот спокойно и назидательно. — Все эти люди, по твердой их уверенности, исполняют свой долг, но сама война достойна порицания и приносимые для нее жертвы бесполезны. К чему ведут они? Разве не гораздо полезнее и приятнее Богу та война, которую мы для усовершенствования человеческого рода ведем с помощью духовного оружия против неверия и греха? Такую войну ведет твой отец, Елена, и как бы я желал быть ему помощником!
— Это высокое, святое призвание — в том нет спора. Но и солдат, который сражается за правое дело, точно так же служит Богу, — возразила молодая девушка.
— А где оно, правое дело? — спросил кандидат. — Каждая из воюющих сторон призывает на помощь Бога, и как часто победа остается за явно неправым делом!
— Для солдата, — отвечала Елена, — всякое дело, которое он защищает в силу данной им присяги, правое.
— Конечно, конечно, — успокаивающе произнес кандидат. — Но, — продолжал он, — по моему мнению, женщине гораздо приличнее питать склонность к более мирной деятельности. Какой опорой, например, может служить солдат своей жене и детям? Его ежеминутно могут от них оторвать и вовлечь в борьбу, затеянную между собой сильными и великими мира сего. Нередко оставляет он на поле брани жизнь, сражаясь за дело, которое вовсе его не касается, и тогда его семья остается в нужде и печали.
— Да, но она хранит в своем сердце гордое сознание, что тот, кого она оплакивает, заслуживает названия героя! — с живостью воскликнула Елена, и в глазах ее блеснула молния.
Кандидат искоса посмотрел на кузину и продолжал несколько глухим голосом:
— Я полагаю, что борьба на службе Бога тоже не лишена своей доли геройства.
— Без сомнения, — отвечала Елена, — и потому всякое призвание должно выполняться свято. А мы, — прибавила она с улыбкой, — к тому и посланы на землю, чтоб утешать страждущих и исцелять раны, получаемые в борьбе с жизнью.
И она снова стала задумчиво смотреть вдаль.
Через несколько минут девушка быстро встала.
— Мне кажется, — сказала она, — на открытом воздухе жара не так томительна. Я пойду навстречу отцу, он должен скоро вернуться. — Надев соломенную шляпу, она спросила: — А ты, кузен, пойдешь со мной?
— С величайшим удовольствием, — живо проговорил тот, и оба, выйдя из пастората, пошли вниз по улице по направлению к деревне.
— Я за это короткое время совершенно сжился со здешней местностью, — вымолвил кандидат после того, как они некоторое время молча шли рядом. — Я теперь начинаю ясно сознавать всю прелесть здешнего житья и понимать, как тут можно постепенно привыкнуть обходиться без развлечений, какие представляют большие города.
— В самом деле! — почти весело произнесла она. — А ты еще так недавно страшился этого уединения, точно так я страшилась городского шума. Но в настоящее время, — продолжала она со вздохом, — грустно находиться в такой глуши: здесь ничего не знаешь ни об армии, ни о короле. Бедный государь!
Кандидат промолчал.
— Об уединении здесь и речи быть не может, — продолжал он после непродолжительной паузы, как бы возвращаясь к первой своей мысли и не обращая внимания на замечание молодой девушки. — Занятия твоего отца, как они ни просты, чрезвычайно многочисленны и представляют гораздо более разнообразия, чем часто можно встретить в больших центрах. А твое общество, милая Елена… — живо проговорил кандидат и остановился.
Она с изумлением на него взглянула.
— А мое общество, — сказала девушка с улыбкой, — не может вознаградить за отсутствие движения, какое встречается только в больших городах. Моя ученость…
— Ученость! — с живостью перебил он ее. — Разве ученость делает приятным общество женщин?
— Для вас, ученых господ, — полушутливо сказала она, — ученость, конечно, не лишнее.
— Только не для меня! — воскликнул Берман. — Для нас вся прелесть женщины заключается именно в естественной простоте ума и сердца. Мужчина должен образовывать и воспитывать женщину. Ему вовсе незачем находить ее уже готовой.
Елена окинула его быстрым взглядом и снова опустила глаза.
Они несколько минут шли молча.
— Елена, — начал снова кандидат, — я говорю правду, когда утверждаю, что мне все более и более приходится по сердцу простая, мирная деятельность посреди сельского населения. Но правда и то, что этому немало содействовало твое общество.
Она продолжала идти молча.
— Отказываясь от полной возбуждения городской жизни, — продолжал молодой человек, — я совершенно естественно ищу себе вознаграждения. А его доставить мне может только семья, домашний очаг. Оставаясь здесь помощником твоего отца, я стал бы работать с двойным рвением, если бы мог найти удовлетворение своим сердечным потребностям… Елена, — с одушевлением продолжал он. — Нашла ли бы ты удовлетворение и отраду в том, чтоб вместе со мной служить опорой и утехой твоему отцу в его преклонных летах? Согласилась ли бы быть мне помощницей и, идя со мной об руку, составлять мое счастье, подобно тому как некогда твоя мать составляла счастье твоего отца?
Молодая девушка продолжала молча смотреть в землю. Грудь ее сильно вздымалась.
— Кузен… — проговорила она.
— Мне, как служителю церкви, — продолжал Берман, — неприлично выражать любовь языком и способом людей светских. Чисто и ясно должно гореть пламя любви в сердце духовного лица. Такое пламя предлагаю я тебе, Елена. Я прямо и открыто спрашиваю у тебя: согласна ли ты принять этот дар моего сердца и можешь ли найти в нем счастье твоей жизни?
Она остановилась и посмотрела ему прямо в глаза.
— Твои слова удивляют меня, кузен. Я не ожидала их услышать… Это так внезапно…
— Отношения между нами непременно должны выясниться, — сказал он, — потому я и решился тебе высказать то, что происходит в моем сердце. Духовному лицу следует свататься иначе, чем светскому. Неужели это удивляет тебя, дочь пастора?
— Но кузен… — нерешительно заметила она. — Мы друг друга едва знаем.
— Неужели ты мне не доверяешь? — спросил он. — Разве ты сомневаешься, что я могу быть тебе в жизни опорой?
Она упорно смотрела вниз. Яркая краска разлилась по ее лицу.
— Но при этом необходимо еще…
— Что такое? — спросил он, пытливо на нее смотря.
— Любовь, — прошептала она.
— И ее‑то ты не считаешь возможным ко мне чувствовать? — спросил он.
Елена опять с изумлением на него взглянула. Глубокий вздох вырвался у нее из груди, а глаза снова на мгновение задумчиво устремились вдаль. Затем легкая, почти лукавая улыбка заиграла на ее губах.
— Но боже мой, — тихо проговорила она, — как же это возможно знать наперед?
— Наперед! — повторил он, и лицо его приняло угрюмое выражение.
— Кузен, — она подала ему руку, а в голосе ее звучала искренность. — Ты говоришь, конечно, с добрым намерением, и для меня чрезвычайно лестно, если ты думаешь, что я могла бы быть для тебя чем‑нибудь в жизни. Но позволь ответить тебе точно так же просто и искренно: я думаю, ты ошибаешься. По крайней мере, мне так кажется, — ласково прибавила девушка. — Во всяком случае, оставим на сегодня этот разговор, который так поразил меня своей неожиданностью. Дай мне время опомниться. Я обещаю тебе об этом подумать, и когда мы ближе с тобой познакомимся, дам тебе ответ…
Он угрюмо потупил взор.
— О! — произнес наконец кандидат с горечью. — Твое сердце уже дало ответ. Ты не поняла безыскусственного выражения моей любви. Где же священнику внушить такое пламенное чувство, как, например, какому‑нибудь молодому офицеру…
Она остановилась, бледная и серьезная, а глаза ее приняли суровое выражение.
Он замолчал, как бы недовольный собой, и поспешил вернуть лицу привычное выражение спокойствия.
— Кузен, — сказала девушка холодно и небрежно, — прошу тебя прекратить этот разговор. Испытай прежде собственное сердце и дай мне допросить мое. Мой отец…
— Мои желания и желания твоего отца одни и те же, — прервал он девушку.
Она опустила голову, и лицо ее подернулось печалью.
— Отец, — продолжала Елена, — не станет желать, чтобы я поступила необдуманно.
— Но ты мне дашь ответ, когда все взвесишь?
— Да, — проговорила она, — а теперь, прошу тебя, не будем больше об этом говорить.
Тонкие губы его слегка дрогнули, а глаза опустились. Они молча и серьезно шли рядом.
— Вон отец! — воскликнула Елена и поспешила навстречу пастору, который шел по тропинке, ведущей от нескольких домиков, стоявших особняком.
Кандидат медленно следовал за нею.
— Вы отлично сделали, дети, — сказал пастор, — что вышли ко мне навстречу. В эти тяжелые времена лучше не быть одному. Вся деревня погружена в тоску и заботы об отсутствующих. К тому же недавно пронеслась весть, которая всех взволновала.
— Какая весть, папа? — спросила Елена. — Надеюсь, не печальная?
— И радостная и печальная одновременно, — ответил пастор. — Во всех деревнях и домах толкуют, что было сражение, наша армия одержала блестящую победу, но крови пролито очень, очень много!
— О, это ужасно! — воскликнула Елена в сильном волнении и крепко сжимая руки. Кандидат не отводил от нее пытливого взгляда, но она этого не замечала и смотрела прямо перед собой.
— Здешние поселяне, — спокойно продолжал пастор, — находятся в недоумении. Они не знают, радоваться ли им победе или страшиться за своих сыновей и братьев.
— Хорошо, — заметил Берман, — не иметь в армии никого из близких. Это избавляет от страха и тревоги…
— Ты не сжился так, как я, в течение многих лет со здешними прихожанами, — серьезно возразил пастор. — Каждый из них мне близок, как родственник, и я переживаю страдания моей духовной семьи так же сильно, как свои собственные.
Елена быстрым, как бы невольным движением схватила руку отца и поцеловала ее. Старик почувствовал, как капнула на нее слеза. С ласковой улыбкой он сказал:
— Ты, милое дитя, тоже сочувствуешь горю наших прихожан — я это знаю: ты между ними выросла.
Елена с тихим вздохом вытерла выступившие у нее на глазах слезы.
Злобный блеск сверкнул в глазах кандидата, а губы его искривились насмешливой улыбкой.
— Я хочу пойти к обер‑амтману, — сказал пастор, — там должны быть более точные известия. К тому же они, без сомнения, сильно тревожатся о лейтенанте. Бедная фрау Венденштейн! Пойдемте со мной, дети.
И они отправились к холму, на котором посреди высоких деревьев стояло мрачное здание амтманства.
Елена взяла под руку отца и старалась ускорить его шаги.
Они вступили в обширные сени, где массивные дубовые шкафы стояли так же неподвижно, а старинные картины так же торжественно смотрели из своих рам, как будто в жизни окружающих их людей не происходило ни перемен, ни страданий.
По большой зале по‑прежнему вышагивал взад и вперед обер‑амтман, а фрау Венденштейн сидела вместе с дочерью на своем привычном месте у большого стола. Все имело обычный вид, но на лицах людей отражалась тяжелая тоска, томившая их сердце.
Обер‑амтман молча подал руку пастору, фрау фон Венденштейн молча поклонилась вошедшим, и молча же обнялись молодые девушки.
— По деревне ходят слухи о большом сражении и победе, — начал пастор. — Я думал, что могу получить от вас более точные сведения.
— Я не имею никаких известий, — угрюмо произнес старик. — И знаю столько же, сколько и другие. В этом, конечно, должна быть доля правды: будем надеяться, что слух о победе подтвердится.
Он ни слова не сказал о собственной тревоге, о страхе за сына, который был тоже в числе сражавшихся. Но во взгляде, брошенном им на жену, выразилась вся скорбь его души.
— Страшные вещи совершаются в мире, — сказала та, качая головой, — в мирное время пар и телеграф уничтожают все расстояния и самые ничтожные известия то и дело перелетают с одного конца света на другой. Теперь же, когда все сердца преисполнены тревожным ожиданием, известия медленно передаются неверной молвой, совершенно так, как это было встарь.
— Таковы результаты гордых трудов человеческого ума, — сказал пастор. — Лишь только рука Божия коснется судьбы народов, человек является вполне беспомощным и все труды его пропадают даром. Но мы должны утешаться мыслью, что во всем этом действует промысел Божий: он может нас защитить и спасти. Он в силах залечить те раны, которые нам наносят.
Со сложенными руками и глубоким умилением слушала фрау фон Венденштейн слова пастора. Но одинокая слеза медленно катилась у нее по щеке, свидетельствуя о том, как сильно тревожит ее неизвестность.
— Из армии я не имею никаких известий, — сказал обер‑амтман, — зато получил из Ганновера письмо от сына. Он сообщает сведения о прусском управлении и хвалит порядок и точность пруссаков, — прибавил старик не без оттенка горечи в голосе.
— Жители столицы должны находиться в гораздо более тягостном положении, чем мы, — заметил пастор, — там политические соображения имеют больше значения, чем здесь, и я полагаю, часто нелегко бывает согласовать обязанности ганноверской службы с особенностями настоящего положения вещей.
— Господа референты, по‑видимому, очень легко их согласуют, — мрачно промолвил судья. — Я согласен с тем, что пруссаки отлично распоряжаются, быстро и толково, но я нахожу, что в настоящее время восторгаться этим вовсе излишне. Но нынешняя молодежь совсем не та, что была в мое время.
Вдруг в залу вошел быстро и в сильном волнении аудитор фон Бергфельд.
— Что нового принесли вы нам из Люхова? — спросил судья, идя к нему навстречу. Взоры всех вопросительно устремились на вошедшего.
— Это правда! — воскликнул он. — Близ Лангензальца произошло большое сражение, и наша армия победила.
— Слава богу! — сказал обер‑амтман. — Следовательно, она благополучно пробралась на юг?
— К сожалению, нет, — печально произнес аудитор. — На следующий день после битвы наши храбрые войска были со всех сторон окружены превосходящими неприятельскими силами и вынуждены были сдаться.
— Значит, и король в плену? — мрачно спросил судья.
— Нет, — отвечал аудитор, — король свободен. Капитуляция совершилась на почетных условиях, все офицеры отпущены с оружием и с лошадьми! Но, — продолжал он, — чрезвычайно много раненых. В Ганновере составляют комитеты. Армия страдает от недостатка припасов, и оттуда постоянно являются требования белья, хлеба, мяса.
— Немедленно отправить все, что есть в доме! — живо распорядился судья. — Раненые должны иметь все лучшее, для них я опорожню свой погреб.
Фрау фон Венденштейн встала и подошла к мужу.
— Пусти меня отвезти припасы! — с мольбой проговорила она.
— Зачем?! — воскликнул судья. — Ты там не можешь принести никакой пользы, а когда Карл вернется…
— Когда он вернется! — проговорила бедная мать и громко зарыдала.
— Мы, без сомнения, скоро получим от него известие, — пытался успокоить ее обер‑амтман, — а до тех пор…
В передней послышались голоса.
В залу вошел Иоганн и сказал:
— Старый Дейк желает поговорить с господином обер‑амтманом.
— Зови, зови его сюда! — воскликнул судья, и в комнату не замедлил явиться старый Дейк, как всегда преисполненный спокойного достоинства, но с более обыкновенного серьезным выражением в крупных, суровых чертах лица.
— Ну, любезный Дейк, — сказал обер‑амтман, — до тебя дошло известие, и ты пришел переговорить о том, как бы поскорей доставить нашим храбрым солдатам все необходимое для их продовольствия?
— Я получил письмо от моего Фрица, — сдержанно проговорил Дейк, почтительно пожимая поданную ему руку.
— Ну, как он поживает? — спросил Венденштейн.
— Не видал ли он моего сына? — в свою очередь спросила фрау Венденштейн, боязливо заглядывая в лицо крестьянина.
— Он нашел господина лейтенанта, — коротко отвечал тот.
— И мой сын — жив? — нерешительно продолжала старушка, как бы опасаясь выговорить вопрос, на который должен был воспоследовать ответ такой великой для нее важности.
— Он жив, — ответил старый Дейк. — Я хотел бы переговорить с господином обер‑амтманом наедине, — нерешительно прибавил он.
— Нет! — воскликнула фрау фон Венденштейн, быстро подходя к крестьянину. — Нет, Дейк, вы принесли нам недобрые вести, я это вижу, но я хочу их слышать! Я достаточно сильна и могу все перенести, кроме неизвестности. Прошу тебя, — прибавила она, обращаясь к мужу, — пусть он говорит при мне!
Старик колебался.
Пастор тихо выступил вперед.
— Не препятствуйте вашей жене слушать, мой старый друг, — сказал он спокойно. — Ваш сын жив, это главное, а затем что бы ни случилось, такое верующее существо, как ваша жена, сумеет все перенести.
Фрау фон Венденштейн с благодарностью взглянула на пастора.
Старый Дейк медленно вытащил из кармана бумагу.
— Может быть, господин обер‑амтман пожелает прочесть письмо моего сына…
— Дайте его мне, — потребовал пастор, — мне, как служителю церкви и старому другу дома, подобает сообщить здесь это известие.
Он взял письмо и подошел к окну, чрез которое еще проникали в залу последние лучи отходящего дня.
Фрау фон Венденштейн не спускала с него глаз, а Елена сидела у стола, опираясь головой на руку. Она казалась совершенно спокойной и даже безучастной к тому, что происходило вокруг нее. Глаза ее были неподвижно устремлены на одну точку, как будто она ничего и не слышала.
Пастор медленно прочел:
«Дорогой батюшка!
Спешу немедленно отправить вам известие о себе. Я, слава богу, здоров и весел. Я присоединился к армии близ Лангензальца, поступил в кирасиры и принимал участие в битве. Скажу вам, что в огне я вел себя порядочно, но вышел из него невредим. Мы победили, отбили у неприятеля две пушки и взяли много пленных. Но сегодня нас окружили со всех сторон, и генералы объявили, что мы не можем идти далее. Король сдался на капитуляцию, и теперь мы все возвращаемся на родину. У меня надрывается сердце, когда я смотрю на всех наших храбрых солдат, отправляющихся по домам с белой палкой в руках. Вид у них у всех бодрый и свежий.
Что касается до меня, любезный батюшка, то я еще останусь здесь с лейтенантом Венденштейном, который тяжело ранен, и я не хочу оставлять его одного. Я нашел его на поле битвы и сначала счел уже умершим. К счастью, я ошибся — доктор вынул у него пулю и говорит, что если он перенесет лихорадку, то останется жив. Я вместе с ним пока нахожусь в доме пивовара Ломейера, отличного человека, хотя и пруссака. За лейтенантом очень хорошо ухаживают. Мой хозяин взялся также отправить вам это письмо через одного своего знакомого. Передайте все это немедля господину обер‑амтману, а обо мне не беспокойтесь.
Ваш сын
Фриц.
Сего 28 июля 1866 г.».
Пастор умолк.
Судья медленно подошел к жене, положил ей руки на плечи, поцеловал в седые волосы и сказал:
— Он жив! Господи, благодарю Тебя!
— Ты меня отпустишь к нему? — спросила старуха.
— И меня также? — прибавила дочка.
— Да, — сказал старый амтман.
— Желал бы и я также с вами ехать, но я буду там бесполезен.
Елена встала, медленными, твердыми шагами подошла к госпоже Венденштейн и с сияющими глазами сказала:
— Могу я вас сопровождать, если отец позволит?
— Ты, Елена?! — воскликнул пастор.
— Наши солдаты нуждаются в уходе, — сказала молодая девушка, смотря прямо в глаза отцу, — а ты учил меня помогать страждущим. Неужели теперь, когда настало время действовать, ты мне не позволишь исполнить мой долг?
Пастор ласково посмотрел на дочь.
— Иди с богом, мое дитя, — сказал он и, обращаясь к фрау фон Венденштейн, прибавил: — Вы возьмете мою дочь под ваше покровительство?
— От всего сердца! — воскликнула та, горячо обнимая Елену.
Кандидат Берман молча присутствовал при этой сцене.
Когда молодая девушка выразила свое намерение сопровождать госпожу Венденштейн, он с досады закусил губу, и в глазах его сверкнул гневный свет. Но он быстро оправился, его послушные черты лица приняли свое обычное невозмутимое выражение. Он выступил вперед и мягким голосом проговорил:
— Я прошу у вас, сударыня, позволения сопровождать вас в этом путешествии. Я полагаю, вы не сочтете лишним иметь при себе мужчину, который в случае надобности мог бы вас защитить. Кроме того, я думаю, присутствие духовного лица должно быть многим желательно на месте кровопролития. Мне кажется, я там буду полезнее, чем здесь, где дядя, без сомнения, согласится до моего возвращения по‑прежнему один отправлять свои обязанности.
В ожидании ответа на свой вопрос он скромно смотрел то на обер‑амтмана, то на пастора.
— Тебе пришла в голову отличная мысль, племянник! — одобрил пастор, подавая ему руку. — Там ты найдешь обширное и благородное поле для деятельности. Здесь же я справлюсь один.
Обер‑амтман остался очень доволен, что дамы нашли себе спутника, а жена его, со своей стороны, благодарила кандидата за то, что он взялся облегчить ей трудности ее пути к раненому сыну.
Елена, услышав предложение двоюродного брата, как будто испугалась, но ни словом, ни взглядом не высказала своего беспокойства.
Старый амтманский дом вдруг оживился непривычной суетой.
Фрау фон Венденштейн суетилась и хлопотала, то указывая дочери, какие вещи следует укладывать в чемоданы, то вынося из кладовой вино, сахар и другие съестные припасы и отдавая приказания слугам на время своего отсутствия. То нравственное оцепенение, в котором она пребывала за эти последние дни, совершенно исчезло: тот, кто увидел ее теперешнее оживление, подумал бы, что она делает приготовления к какому‑нибудь домашнему празднеству.
Елена между тем с отцом и кандидатом вернулась в пасторат, чтобы тоже заняться приготовлениями к отъезду. Не прошло и двух часов, как перед подъездом амтманского дома уже стояла дорожная карета, запряженная парой сильных, рослых лошадей.
Фрау фон Венденштейн долго не могла оторваться от мужа: они в течение многих лет впервые расставались на такое продолжительное время. Старик, обнимая ее, проговорил:
— Да благословит тебя Бог и да возвратит тебя снова сюда вместе с нашим сыном!
Весть об отъезде обер‑амтманши к раненому сыну с быстротой молнии разнеслась по селению, и множество поселян с женами, в том числе и Дейк, собрались вокруг кареты напутствовать отъезжающих пожеланиями. Фрау фон Венденштейн всем дружески пожимала руки и тем и другим обещала прислать сведения о находившихся при армии их родственниках. Карета была, насколько могла в себя вместить, нагружена приношениями, которые всякий предлагал по мере своих средств. Когда же наконец лошади тронулись, все присутствующие обнажили головы, но никто не произнес ни слова, и все медленно начали расходиться по домам, преисполненные тревожных ожиданий насчет завтрашнего дня, который должен был принести более подробные известия о сражении, а следовательно, и о милых отсутствующих.
Обер‑амтман и пастор тоже молча возвратились в дом и еще долго сидели вместе. Они мало говорили, но находили большое утешение в обществе друг друга. Обер‑амтман спокойным взглядом обвел комнату, но когда взор его остановился на месте, где обыкновенно сидела жена, когда он вспомнил, как недавно еще здесь раздавались веселые голоса, и о сыне, которому угрожала, может быть, смерть, — глаза его подернулись туманом и из них полились горячие слезы.
Он быстро встал и несколько раз прошелся по зале.
Пастор также поднялся со стула.
— Мой уважаемый друг, — сказал он, — в такую минуту и мужчине не стыдно плакать! Но поздно, пора вам отдохнуть. Не забывайте, что и эти тяжелые дни в свою очередь минуют.
Судья молча подал пастору руку. По щекам его струились слезы.
— Молите Бога, — проговорил он тихонько, — чтоб Он сохранил мне сына!
Пастор ушел. Особняк погрузился во мрак и безмолвие. Только в комнате самого амтмана еще долго светился огонь и слуги до зари слышали твердые, равномерные шаги хозяина, которые раздавались на весь дом.
Глава шестнадцатая
Между тем как на севере Германии совершалась столь обильная последствиями катастрофа, в Вене все еще рассчитывали на счастливый исход сражения, которое со дня на день должно было произойти в Богемии. Австрийское оружие снискало успех в Италии, одержав победу при Кустоцце, и венцы были уверены, что им удастся так же победить и Германию.
Они возлагали большие надежды на фельдцейхмейстера Бенедека, который вышел из народной среды. Все тревожные сомнения, еще так недавно волновавшие многих, теперь совсем улеглись. Австрия взяла верх над Италией, счастье снова переходило на ее сторону. Вследствие этого известия из Богемии ожидались с нетерпением, но без страха: никто не сомневался в победе.
Но не так спокойно и не с таким доверием смотрели в глаза будущему члены государственной канцелярии и при дворе.
Граф Менсдорф казался печальным и смущенным. Известия из Италии не могли рассеять его опасений, и он с слабой улыбкой принимал поздравления по случаю победы при Кустоцце. Император колебался между страхом и радостью. Успех австрийского оружия в Италии пробуждал гордое воспоминание о Наварре и, по‑видимому, раскрывал перед ним блестящие перспективы. Но с другой стороны, его пугали сомнения, выражаемые фельдцейхмейстером Бенедеком, этим простодушным генералом, который мало полагался на стратегические соображения, умел только водить солдат в огонь и с ними поражать неприятеля. В настоящем случае Бенедек неоднократно утверждал, что считает невозможным успех с войском в том состоянии, в каком он его нашел.
Такие сомнения невольно пробуждали опасения в сердце императора, и он со страхом ожидал развития событий.
Между тем как вся Вена волновалась и каждый из ее обитателей желал, чтоб у времени были крылья и скорей явилась бы развязка всех этих томительных ожиданий, госпожа Антония Бальцер возлежала на удобной софе в своем уютном будуаре. Занавески у окон были опущены, несмотря на сильную жару, и в комнате царствовал полумрак, пропитанный таинственным ароматом, составляющим неизбежную принадлежность жилища светских дам. Никто не знает, что это за аромат, но действие его неотразимо: оно охватывает вас со всех сторон, как магнетический ток, и возбуждает в высшей степени приятные ощущения.
Молодая женщина лежала в грациозной позе. Черты лица ее имели то самое прелестное, томное выражение, с каким красавица принимала фон Штилова и которое менялось на гордую сдержанность и холодность, с какою она обыкновенно относилась к мужу.
Глаза ее печально смотрели в пустоту, и на всей фигуре ее читалась печать утомления.
Маленький столик близ нее был покрыт кучей нераспечатанных писем и телеграмм.
Ее прозрачной белизны руки небрежно играли с маленькой болонкой, которая лежала, свернувшись, у нее на коленях.
— Я считала себя такой сильной, — прошептала она вдруг, — а между тем не могу забыть…
Она быстро встала, положила собаку на подушку и медленно прошлась по комнате.
— Каких странностей преисполнена человеческая природа! — раздраженно воскликнула дама. — Я считала себя сильной, я хотела властвовать и подняться на самую вершину общественной лестницы, не позволяя себе ни сдерживаться никакими соображениями, ни увлекаться чувственными мечтаниями. И что же? Едва вступила я на первую ступень этой лестницы, как уже оборачиваюсь назад! Мое сердце стонет, я страдаю от любви, точно какая‑нибудь гризетка! — гневно прибавила она, топнув красивой ногой по мягкому ковру.
— Но почему, — задумчиво продолжала фрау Бальцер, — почему я не могу забыть того, кто так грубо от меня отвернулся, с таким презрением меня покинул? Граф Риверо предлагает мне то, чего я так сильно желала. Он занимает высокое положение в свете и держит в руках нити, управляющие человеческими судьбами, — почему же я не люблю его? С ним я могла бы быть счастлива! А тот, другой… — глаза ее подернулись влагой, а руки слегка приподнялись, — которому принадлежит каждый удар моего сердца, которого я с тоской призываю в уединенные часы ночи, которого руки мои напрасно ищут в пустом пространстве… Где он, этот ребенок, этот дух, стоящий так ниже меня, но столь прекрасный и чистый?! — воскликнула она, к кому‑то невидимому простирая руки. — Я его люблю, и я раба своей любви!
Женщина в изнеможении опустилась на кресло и закрыла лицо руками.
Долго сидела она так неподвижно, только грудь ее высоко вздымалась, испуская глубокие вздохи, которые одни нарушали тишину погруженной в полумрак комнаты.
Потом она опять быстро вскочила с сверкающими очами, похожая на Медею, и, вся дрожа, произнесла задыхающимся голосом:
— Как охотно стерла бы я в прах ту, которая у меня его отняла! Знатную даму, с колыбели наслаждавшуюся всем счастьем, всеми золотыми дарами жизни! Она имела все, в чем мне было отказано, неужели за ней останется еще и любовь, которую я утратила?
Она поспешно отворила маленький ящичек с инкрустацией и вынула из него фотографический портрет в виде визитной карточки.
— Что за обыкновенные, ничего не говорящие черты! — воскликнула она. — Как скучна должна быть такая любовь! Неужели она может дать ему счастье — ему, испытавшему страстное биение моего сердца и впервые в моих объятиях узнавшего, что такое любовь?!
Красавица гневно смяла портрет в руках.
Звонок в передней вывел ее из задумчивости. Она быстро сунула смятую карточку в ящик и заставила лицо принять обычное выражение холодности и спокойствия.
Немедленно вслед за докладом лакея в комнату вошел граф Риверо, как всегда безукоризненно одетый, с любезной улыбкой светского человека на губах.
Легкими неторопливыми шагами подошел он к молодой женщине и поцеловал ей руку — не с жаром любовника, но и не с уважением человека высшего круга к даме, занимающей одинаковое с ним положение в свете. Приветствие графа отличалось равнодушием и короткостью, которые лишь едва смягчались изяществом его манер.
Она, казалось, это сознавала, и в глазах ее сверкнул луч ненависти к своему искусителю.
— Как вы почивали, мой прекрасный друг? — с улыбкой спросил граф. — Входя в ваше мирное убежище, начинаешь сомневаться, действительно ли мир в настоящую минуту находится в таком тревожном, лихорадочном состоянии.
— Получено много писем и депеш, — спокойно проговорила она, указывая на маленький столик близ софы.
— Уверены ли вы, — спросил граф, — что эта деятельная корреспонденция не обращает на себя внимания?
— Здесь все освоились, — отвечала она с бледной улыбкой, — с тем, что я получаю много писем. Я не думаю, чтоб у меня стали искать нити важных событий.
Граф подошел к окну и отдернул одну из опущенных занавесей. Комната мгновенно озарилась дневным светом. Затем подвинул к окну заваленный депешами столик и начал их открывать одну за другой. Молодая женщина между тем сидела, молча откинувшись на спинку кресла.
Граф вынул портфель, достал из него маленькую тетрадку с различными шифрами и с помощью ее принялся разбирать письма и депеши.
Содержание тех и других, по‑видимому, было ему чрезвычайно по сердцу. Выражение лица его становилось все довольнее и довольнее. Наконец он встал, и с сияющим гордостью лицом сказал:
— Труд мой приближается к концу. Скоро, скоро рухнет здание лжи и ненависти, а правда и право восторжествуют!
— Но что будет со мною? — спросила молодая женщина, слегка поворачивая голову к графу.
Он подошел к ней, сел на кушетку и заговорил с гордым спокойствием, вежливо целуя руку, которую она не отнимала.
— Вы вместе с нами поработали над великим делом, мой прекрасный друг. Вы оказали нам большую услугу, служа посредницей в нашей тайной корреспонденции и помогая мне сохранить вид простого туриста. Обещаю вам независимое и блестящее положение. На каком основании — предоставьте это мне: надеюсь, вы мне доверяете?
Фрау Бальцер пытливо на него посмотрела и отвечала:
— Не сомневаюсь, что вы хотите и можете сдержать свои обещания.
— Но, — продолжал он, — нам остается еще очень много дел, даже если мы и достигнем главнейшей цели. Я намерен открыть новое и еще более широкое поле деятельности вашему уму и способностям. Согласны ли вы по‑прежнему быть моей союзницей?
— Согласна, — отвечала она. Из груди ее вырвался глубокий вздох, легкая краска подернула щеки, в глазах замерцал тихий, мягкий свет. — У меня есть одно желание, — прибавила женщина.
— Какое? — спросил он тоном светского человека, который желает быть любезным. — Если в моей власти его исполнить…
— Я думаю, что это в вашей власти. Я видела столько примеров вашего могущества, что получила к нему большое доверие…
— В чем же дело? — Он пристально на нее смотрел.
Она опустила глаза перед его пытливым взглядом и, сложив руки, тихим, дрожащим голосом произнесла:
— Возвратите мне Штилова!
На его лице выразилось изумление с легким оттенком смущения.
— Этого желания я, признаюсь, с вашей стороны не ожидал. Я думал, ваш каприз к нему давно прошел. Да и выполнить его превыше моих сил.
— Этому я не верю, — отвечала она, и взгляд ее сурово и пытливо остановился на графе. — Он ребенок, а вы умеете управлять людьми зрелыми и более крепкого закала.
— Но вы забываете, — начал он, — что…
— Что он в пылу мечтательного бреда бросился к ногам одного из тех скучных, сладеньких созданий, которые ищут в готском календаре, кому могут принести в дар свое сердце! — воскликнула она, вскакивая с места и метая из глаз молнии. — Нет, я этого не забыла, но потому‑то именно и хочу вернуть его себе. Я вам буду помогать во всем, — продолжала она несколько медленно, — я все силы ума и воли посвящу на служение вашим планам, но что‑то хочу получить и для себя, потому говорю вам: отдайте мне назад Штилова.
— Вы получите для себя все, чего желаете, — сказал граф и продолжал с улыбкой: — Я также вовсе не намерен стеснять вас в ваших личных удовольствиях, но на что вам этот, как вы его сами называете, ребенок? Разве вы не можете повелевать всем и всеми, благодаря вашему уму и вашей красоте?
— Но я люблю его, — тихо произнесла она.
Граф с изумлением на нее смотрел.
— Извините меня, — сказал он, усмехаясь, — этого ребенка…
— Да, и именно потому, что он ребенок! — воскликнула молодая женщина с оживлением, и в широко раскрытых глазах ее засветилась глубокая страсть. — Он так чист, так добр, так прекрасен! — прошептала она с сверкающими на ресницах слезами.
Граф бросил на нее серьезный взгляд.
— Но знаете ли вы, — сказал он, — что любовь, господствующая над вами, может лишить вас способности господствовать над другими? Она отнимет у вас возможность быть моей союзницей.
— Нет! — воскликнула она. — Нет! Она станет освежать меня и укреплять, между тем как эта неудовлетворенная жажда моего сердца делает меня печальной и отнимает всякую бодрость духа. О, дайте, дайте мне его назад! Я сознаюсь в своей слабости. Позвольте мне быть слабой только в одном этом случае, и даю вам слово во всем другом быть сильной и непреклонной!
— Если б вы мне раньше сказали то, что говорите теперь, — задумчиво произнес он, — я, может быть, мог бы… Но теперь моя власть не простирается так далеко. Я не смею здесь ей воспользоваться. Этот молодой человек не может быть вашей игрушкой, — прибавил он серьезно и решительно. — Будьте сильны и забудьте этот бред вашей фантазии!
Он спокойно и холодно встал.
— Прекратим этот разговор, — произнесла она своим обычным тоном.
Граф устремил на нее проницательный взор.
— Значит, вы находите, что я прав? — спросил он.
— Я забуду этот бред моей фантазии, — отвечала она, и ни один мускул ее лица не шевельнулся.
В прихожей снова раздался звонок.
— Это Галотти! — воскликнул граф, отворяя дверь будуара.
В комнату вошел среднего роста мужчина, полный и с округлым лицом. Его жидкие волосы вовсе не скрывали высокого, сильно развитого лба, светлые глаза смотрели зорко и пытливо, сочные губы свидетельствовали о живом, словоохотливом темпераменте.
— Дела идут отлично! — идя к нему навстречу, воскликнул граф. — Все готово для того, чтобы нанести решительный удар. Сардинская партия приведена в смущение австрийской победой, и мы теперь можем разом покончить с этим забавным правительством, которое именует себя итальянским.
— Отлично, отлично! — Вновь пришедший слегка пожал руку графу Риверо и подошел к молодой женщине, которую приветствовал с утонченной любезностью человека из хорошего общества. — Я тоже принес вам добрые известия, — продолжал он. — В палаццо Фарнезе все готово, и граф Монтебелло в своем ответе на сделанный ему дружеский вопрос дал очень ясно понять, что ни шага не сделает для того, чтобы воспрепятствовать соединению Италии, как то было предусмотрено во время Цюрихского мира.
— Я вас оставлю одних, господа, — сказала госпожа Бальцер. — Вам в зале приготовят завтрак, который будет к вашим услугам, лишь только вы окончите вашу беседу.
Граф Риверо поцеловал ей руку, синьор Галотти поклонился, и она удалилась в свою спальню.
— Король поедет в Неаполь? — спросил граф после ее ухода.
— По первому знаку, который ему подадут отсюда, — отвечал Галотти. — Его будет ожидать на берегу вооруженный отряд, составленный из солдат бывшей неаполитанской гвардии. Сардинский гарнизон повсюду очень слаб, и народ везде восстанет по первому знаку.
— А в Тоскане? — спросил граф.
— Там тоже все готово к восстанию. Большое число солдат великого герцогства ожидает только сигнала, а слабый сардинский гарнизон почти весь подкуплен.
— Так вы полагаете, что настала минута поднести фитиль к мине, которую мы так тщательно наполняли порохом? — допрашивал гостя граф.
— Без всякого сомнения, — отвечал Галотти. — Зачем нам ждать? Сардинская армия после битвы при Кустоцце вполне деморализована, и за ней зорко наблюдает эрцгерцог Альбрехт. Нам надо действовать теперь или никогда. Италия может чрез несколько недель быть освобождена от тяжелого ига, которое лежит гнетом над правдой. Все с нетерпением ожидают сигнала, который вам следует произнести.
Граф в раздумье отошел к окну.
— Все это так долго и так тщательно готовилось, — проговорил он, — но теперь, когда настала минута действовать, когда мысли предстоит воплотиться в дело, из глубины души невольно поднимается сомнение в том, хорошо ли все продумано? Но далее медлить нельзя. Нам следует ехать в Рим и Неаполь, а в Тоскану послать ожидаемый сигнал. Вот, — продолжал он, обращаясь к Галотти и вынимая из портфеля три карточки, которые внимательно прочел, — вот три адреса. На них написан текст телеграммы, а указанные на ней имена, равно, как и самое содержание ее, не могут возбудить ничьих подозрений.
Нерешительно, как бы неохотно, протянул он карточки Галотти.
Вдруг в будуар поспешно вошла госпожа Бальцер.
— Известно ли вам, граф Риверо, — живо проговорила она, — что армия в Богемии полностью разбита? Известие это как беглый огонь странствует по Вене и до меня сейчас дошло через мою камер‑юнгферу.
На лице графа изобразился ужас. Его зрачки страшно расширились, по губам пробежал нервный трепет, и он поспешно схватился за шляпу.
— Быть не может! — воскликнул Галотти. — Генерал Габленц привык одерживать победы, и теперь еще никто не ожидал решительного сражения.
— Надо с точностью узнать, что происходит, — произнес граф глухим голосом. — Будет ужасно, если эти слухи оправдаются!
Он хотел уйти, но его остановил громкий звонок, вслед за которым в комнату вошел молодой человек в одежде аббата.
— Слава богу, что я вас здесь нашел, граф Риверо! — воскликнул он. — Мы ничего не должны предпринимать! Свершилось страшное несчастие: Бенедек разбит наголову, армия обращена в бегство.
Граф молчал. Темные глаза его сверкали зловещим огнем, вся фигура выражала глубокую тоску.
— Тем быстрее и энергичнее должны мы теперь действовать! — воскликнул Галотти. — Известие, достигнув Италии, смутит наших приверженцев. Враги же наши, напротив, ободрятся, а равнодушные примкнут к ним.
И он хотел взять у графа карточки, которые тот все еще держал в руках.
Но граф их ему не отдал.
— Кто вам сообщил это известие, аббат Рости? — спокойным голосом спросил граф.
— Оно только что было доставлено из дворца в канцелярию нунция, — отвечал аббат. — К сожалению, тут не может быть ни малейшего сомнения!
— В таком случае, труды многих лет пропали безвозвратно! — печально произнес граф Риверо.
— Не будем терять времени, — говорил Галотти. — Надо действовать как можно скорее. Что бы затем ни случилось с Германией, мы, по крайней мере, восстановим Италию в ее прежнем виде. Австрия во всяком случае нам будет благодарна, если мы взамен утраченного влияния в Германии возвратим ей права на Италию…
— Нет, — холодно перебил его граф, — мы ничего не можем предпринять, пока положение полностью не выяснится. Успех в Италии был для нас возможен только в том случае, если бы австрийские войска, победоносные в Германии, держали в страхе регулярную армию Пьемонта и связывали ее действия. Но когда эта армия свободна, мы перед ней бессильны. Мы только напрасно принесли бы в жертву многих из наших приверженцев и расстроили все, что с таким трудом до сих пор воздвигали и чего не могли бы создать вторично. Я боюсь, что армия Виктора‑Эммануила получит свободу рук и что в Вене не замедлят совершенно отказаться от Италии!
— Отказаться от Италии после блистательной победы при Кустоцце?! — воскликнул аббат Рости. — Это невозможно, да и зачем?
— Ради Германии, которую им тоже не удастся сохранить!
— Но это следовало бы, в таком случае, сделать до начала войны, — заметил Галотти. — Тогда Австрия действительно располагала бы двойными силами в Германии, но теперь…
— Любезный друг, — со вздохом проговорил граф, — вспомните слова Наполеона Первого: Австрия всегда отстает — на год, на армию и на идею!
— Но все же, — с оживлением воскликнул Галотти, — я не понимаю, почему мы должны сидеть сложа руки, когда у нас все так хорошо подготовлено!
— Я вовсе не требую, чтоб мы безусловно сидели сложа руки, — сказал граф Риверо. — Да и разве полное бездействие для нас возможно? — прибавил он, и глаза его загорелись. — Нам только, может быть, придется сызнова начать трудную работу. Теперь же действовать нельзя. Это было бы неблагоразумно, и мы можем тем самым компрометировать много личностей, а наконец, и само дело. Прежде чем поставить все на карту, нам необходимо с точностью выяснить настоящее положение вещей. Известно ли вам, — спросил он аббата, — как принял это известие император и что он намерен делать?
— Император, совершенно естественно, должен быть сильно смущен и опечален. Он немедленно отправил в армию графа Менсдорфа с приказанием досконально исследовать тамошнее положение вещей. Вот все, что до сих пор известно.
— Менсдорф оказался прав! — в раздумье произнес граф Риверо. Затем он встал и, энергично взмахнув рукой, продолжал: — Еще раз повторяю вам, господа: мы не можем действовать впотьмах, дадим прежде всему выясниться. Но нам не следует терять мужества, если окажется необходимым потрудиться еще в течение нескольких лет. Теперь прежде всего я хочу ясно видеть настоящее, а затем мы уже станем говорить о будущем.
Он приблизился к молодой женщине, которая, по‑видимому, безучастно присутствовала при этой сцене, и сказал, целуя ей руку:
— До свидания, chere amie![79] — Затем несколько тише прибавил: — Может быть, скоро настанет та минута, когда для вашей деятельности откроется более широкое поле, и тогда вы скоро забудете все ваши мелкие желания.
Она окинула его быстрым взглядом, но ничего не отвечала.
Галотти и аббат тоже с ней распростились и вышли вместе с графом.
Молодая женщина долгим взглядом проводила вышедших от нее гостей и осталась одна.
— Ты хочешь сделать из меня свое орудие! — воскликнула она. — Ты сулишь мне свободу и власть, а на деле предлагаешь позолоченное рабство! Ты запрещаешь биться моему сердцу, потому что боишься, как бы оно не сделало меня негодной для дальнейшего употребления! Но, — продолжала красавица, — ты ошибаешься, граф Риверо, жестоко ошибаешься! Я в тебе нуждаюсь, но никогда не буду твоей рабой, ни за что! Итак, война объявлена! — сказала она решительно. — Война из‑за цены владычества: я хочу попробовать по твоим гордым плечам добраться до вершин своего собственного могущества и полной независимости. Независимость! — произнесла женщина со вздохом, немного помолчав. — Как многого мне недостает для нее! Но мы пойдем вперед медленно и осторожно: прежде всего сделаем опыт, нельзя ли помимо моего господина и властелина вернуть этого изменника, к которому рвется мое сердце.
Она бросилась на софу и задумчиво поглядела вдаль.
— Но боже мой! — вскрикнула она, хватаясь руками за голову. — Я хочу его вернуть, а он пошел на врага, он участвовал в большом сражении, он, может быть, уже лежит мертвый на поле битвы… — Глаза ее уставились в пустое пространство, как бы ища страшной картины, которая вырисовывалась в ее душе.
— Но если б даже это случилось, — сказала красавица глухо, — может быть, так даже лучше, может быть, я избавилась бы от жгучего шипа, которого теперь не могу вырвать из сердца. Граф прав, такая любовь — слабость, а я не хочу быть слабой! Но знать, что он жив, и думать, что он уже не мне принадлежит, знать, что он, с его красотой, во всем его очаровании, у ног другой — в ее объятиях!
Она вскочила — грудь порывисто поднималась, глаза горели, красивое лицо исказилось.
— Никогда, ни за что! Ах, как в старину было удобно избавляться от врагов! А теперь? Но разве непременно нужно уничтожать тело химическими средствами, чтобы побороть препятствия?
Злая усмешка играла на красивых губах, в глазах вспыхивали электрические искорки. Она подошла к письменному столу и принялась разбирать бумаги в одном из ящиков.
Много писем разлетелось по сторонам, прежде чем она нашла то, чего искала. То было коротенькое письмо — всего одна страничка.
— Вот это он написал мне во время маневров, — сказала она, — это пригодится!
Она тихо прочла:
«Очаровательная королева!
Не могу не сказать тебе в нескольких словах, что мое сердце стремится к тебе и разлука с тобой тяжело ложится на душу. Скучная и утомительная служба отнимает весь день, но лежа ночью на биваке, глядя на мерцающие звезды, вдыхая мягкий ночной воздух, я вижу перед собой твой прелестный образ, и как воочию, мне чудится твое дыхание. Полный пламенной тоски, я простираю руки, чтобы отыскать тебя и обнять, и когда наконец глаза мои смыкает сон, ты опять передо мной во сне, ты прижимаешься ко мне так сладко, так нежно и страстно… И как ужасно, что немелодичные звуки трубы на рассвете разрушают такие небесные сны! Мне бы хотелось все спать и грезить, пока я снова не буду возле тебя, пока меня слаще всякого сна снова не обнимут твои руки! Целую этот листок, к которому прикоснутся твои прелестные ручки».
— Отлично! — произнесла она, кончив чтение. — И, главное, хорошо то, что нет числа!
Госпожа Бальцер взяла перо и, прежде внимательно вглядевшись в почерк письма, написала на верху страницы: «30 июня 1866».
— Прекрасно, нельзя отличить! — И она позвонила.
Вошла горничная.
— Отыщи моего мужа и скажи, что мне надо сейчас же его видеть!
Горничная вышла, а молодая женщина подошла к окну, рассеянно глядя на оживленное движение улицы и самодовольно усмехаясь.
Глава семнадцатая
Мрачная тишина царила в императорском замке. Посреди громких ликований по случаю итальянских победоносных вестей грянул громовой удар, принесший из Богемии крушение всех надежд, и в один миг подорвавший всякое доверие к фельдцейхмейстеру Бенедеку. Всех точно оглушило: даже лакеи торопливо и мрачно сновали по длинным коридорам и обменивались только необходимыми по службе словами. Император немедленно после известия о проигранном сражении отправил графа Менсдорфа в главную квартиру фельдцейхмейстера, чтобы в качестве военного знатока удостовериться в положении дел, а с тех пор как граф уехал, государь не выходил из своих покоев и, кроме дежурных по службе, никого не принимал.
В императорской прихожей царило глубокое безмолвие, часовой у дверей королевского кабинета стоял неподвижно, дежурный флигель‑адъютант упорно молчал, смотря на группы под окном, то сходившиеся в тихих, серьезных переговорах, то снова расходившиеся. Люди то и дело бросали взгляды на окна замка, как бы ожидая оттуда новостей или решающего слова, способного рассеять страх и смятение момента.
Старинные часы мерно и спокойно покачивали маятником, так же хладнокровно отсчитывая эти печальнейшие моменты габсбургского дома, как возвещали течение всесокрушающего времени и в дни его величайшего блеска. Вечно одинаковой поступью шествует время через мимолетные моменты счастья, так же как и через томительно длинные часы черных дней, вот только в шуме радости не слышно его гулкого шага, тогда как в мрачной тиши несчастия рефрен Memento Mori[80] раздается громко, сурово напоминая нам о каждой секунде, падающей в недра вечного, неумолимого прошедшего.
Так было и здесь. Часовой и флигель‑адъютант несли свое дежурство часто и не раз в этой же самой комнате, с веселыми мыслями о внешнем мире и жизни, весело кипевшей вокруг, и все те часы исчезли из их воспоминания или расплылись в общую, неопределенную картину; эти же немые, мрачные минуты глубоко врезались в их память медленным раскачиванием маятника, отсчитывавшего томительно ползущие секунды.
Вошел генерал‑адъютант граф Кренневилль. Рядом с ним шел ганноверский посол, генерал‑майор фон Кнезебек в парадной ганноверской форме, а за ними следовал флигель‑адъютант ганноверского короля, майор фон Кольрауш, скромная, военно‑чопорная фигурка, с короткими черными усами и почти лысой головой.
Кнезебек, высокий, статный человек, так твердо и самоуверенно входивший в салон графа Менсдорфа, теперь шел согбенный, горе и уныние запечатлелись на его морщинистом лице. Не говоря ни слова, он поклонился дежурному.
— Доложите обо мне, — обратился к адъютанту граф Кренневилль.
Адъютант ушел, но через минуту вернулся, указав почтительным движением, что император ждет генерал‑адъютанта.
Граф Кренневилль вошел в кабинет Франца‑Иосифа.
Император опять кутался в серый форменный плащ, он сидел согнувшись перед большим письменным столом, перья, бумага и письма лежали перед ним нетронутыми, ничто не свидетельствовало о всегда столь неутомимой деятельности этого государя. Судорожно перекошенное, изнуренное лицо императора выражало уже не печаль, а мрачное, неутешное отчаяние.
Генерал‑адъютант печально посмотрел на своего глубоко потрясенного государя и тихим, дрожащим голосом проговорил:
— Умоляю Ваше Величество не слишком поддаваться впечатлению этих тяжело потрясающих известий. Мы все — вся Австрия взирает на своего императора. Нет несчастия, с которым бы не могли справиться твердая воля и смелое мужество, а если Ваше Величество поддадитесь унынию, то что же делать армии, что делать народу?
Император медленно поднял тусклые, усталые глаза и провел рукой по лбу, как бы стряхивая гнет мыслей.
— Вы правы! — отвечал он глухо. — Австрия ждет от меня мужества и решимости. И в самом деле! — сказал он громче, вскидывая голову и метая из глаз гневную молнию. — Мужества у меня много, и если бы вопрос был только в том, чтобы стать под неприятельский огонь, если бы моя личная храбрость могла обусловить исход дела, то, конечно, победа осталась бы за австрийским знаменем! Но как мне не считать себя обреченным на несчастье, как не думать, что мой скипетр пагубен для Австрии? Разве я не все сделал, чтобы обеспечить успех? Разве я не поставил во главе армии человека, на которого общественное мнение указывало как на способнейшего? И что же?! Разбит! Уничтожен! — восклицал государь, и в голосе его звучали слезы. — Разбит после такого высокого, блестящего торжества, разбит неприятелем, который искони веков оспаривал германское наследие моего дома, которого я, наконец, считал навсегда низвергнутым, уничтоженным! К чему мне победы в Италии, когда я утрачу Германию? О, как это ужасно!!
И император закрыл лицо руками, а из груди его вырвался глубокий вздох.
Граф Кренневилль сделал шаг вперед.
— Ваше Величество, — сказал он, — еще не все потеряно. Может быть, Менсдорф привезет добрые вести. Неприятелю победа обошлась дорого, возможно, все еще устроится к лучшему.
Император опустил руки и пристально посмотрел на графа.
— Любезный Кренневилль, — произнес он неторопливо и серьезно, — я скажу вам нечто, что никогда еще не было для меня так ясно, как в эту минуту. Видите ли, величайшее могущество моего дома, сила, которая поддерживала Габсбургов и Австрию во все тяжелые времена, — была устойчивость, та несокрушимая, невозмутимая выносливость, которая спокойно гнется под ударами несчастия, ни на миг не теряя из виду цели, которая умеет страдать, переносить, выжидать. Пройдите всю историю, взгляните на ее мрачнейшие страницы, вы найдете у всех моих предков эту черту и убедитесь, что именно в ней было все их спасение. Эта устойчивость, — продолжал он после короткого молчания, — мне чужда, и в этом мое несчастье. Радость увлекает меня на легких крыльях до небес, великие задачи жизни возбуждают во мне могучий энтузиазм, но, с другой стороны, тяжелая рука несчастия повергает меня в прах: я могу сражаться, могу принести себя в жертву, но не могу нести креста, не могу ждать — не умею ждать. Впрочем, — прибавил он, вздрогнув, и как бы придя в себя, — впрочем, вы правы, граф. Не следует падать духом. Если несчастье велико, то мы должны быть выше него!
И он поднял голову и прикусил толстую нижнюю губу красивыми зубами, взглянув на генерала со всей царственной гордостью Габсбургов лотарингских.
— Душевно радуюсь твердости Вашего Величества, тем более что ганноверский посол, генерал Кнезебек, просит аудиенции. Он твердо и мужественно переносит тяжелый удар, постигший его государя!
— Бедный король! — горестно произнес император. — Он храбро постоял за свои права и справедливо ждет от меня помощи и защиты! Боже мой! — вдруг прибавил он неожиданно. — Как после этого позорного поражения я покажусь на глаза всем государям, которых я собирал вокруг себя в древней императорской зале во Франкфурте!
И он снова уставился глазами в землю в мрачном отчаянии.
— Ваше Величество! — произнес Кренневилль умоляющим голосом.
Император встал.
— Введите сюда генерала Кнезебека!
Генерал‑адъютант бросился к дверям и впустил Кнезебека и Кольрауша.
Император подошел к генералу и подал ему руку.
— Вы привезли печальную весть, любезный генерал, я преисполнен удивления к вашему государю и глубоко сожалею, что такой героизм не смог принести лучших результатов. Но и здесь вы не нашли ничего утешительного! — прибавил он, видимо переламывая себя, и затем, как бы желая не прикасаться более к этому больному месту, поднял вопросительный взгляд на майора Кольрауша.
— Ваше Величество, — сказал Кнезебек, — я прежде всего попрошу позволения представить майора фон Кольрауша, флигель‑адъютанта моего государя. Он желает удостоиться чести передать Вашему Императорскому Величеству письмо Его Величества короля.
Император приветливо поклонился майору, который подошел церемониальным шагом и вручил императору письмо.
Тот распечатал его и быстро пробежал глазами короткие строки.
— Его Величество сообщает мне в нескольких словах о печальной катастрофе и обращает меня к вам для дальнейших разъяснений.
— Мой всемилостивейший государь, — начал Кольрауш тоном официального доклада, — приказал мне передать Вашему Императорскому Величеству, что, после того как армия сделала величайшие усилия, чтобы защитить независимость и самостоятельность короны и королевства, и после того, как эти усилия и победоносное сражение при Лангензальца оказались тщетными, Его Величество считает наиболее справедливым и достойным приехать к Вашему Императорскому Величеству, своему могущественному союзнику.
— И преданному другу, — вставил горячо император.
Майор поклонился и продолжал:
— И мне поручено спросить, не будут ли Вашему Величеству неприятны посещение и пребывание короля в Вене?
— Неприятно? — повторил император с живостью. — Да я жажду обнять венчанного героя, показавшего всем нам такой высокий пример твердости и мужества. Хотя, конечно, — продолжал он со вздохом, — король найдет здесь не могущественного союзника, но только надломленную силу, которая исключительно при помощи величайших усилий и крайнего мужества, быть может, будет в силах устранить самое худшее…
— Король готов разделить с Вашим Величеством радость и горе, так как считает ваше дело своим и правым!
Император опустил на мгновение глаза. Затем поднял их с сияющим выражением и сказал:
— Дружба и доверие такого благородного и отважного сердца вселяют в нас новое мужество, новые силы для продолжения нашей борьбы. Скажите вашему государю, что я жду его с нетерпением и что он найдет меня готовым стоять до конца за правду и Германию. Я передам вам мой письменный ответ королю, как только успею.
Император замолчал. Майор молча ждал знака, что аудиенция окончена.
Через несколько минут Франц‑Иосиф снова заговорил взволнованным голосом:
— Король подал пример несравненного мужества. Мне хочется выразить ему мое удивление к его образу действий в эти дни каким‑нибудь внешним знаком! Я сейчас же созову капитул[81] ордена Марии‑Терезии, и армия моя будет гордиться тем, что король и кронпринц соблаговолят носить на своей груди благороднейшие и высшие почетные отличия австрийских солдат. Подождите, пока я не пришлю вам знаков.
— Я достаточно знаю своего государя, — отвечал майор с радостным выражением, — и могу сказать определенно, что такое отличие преисполнит его живейшей радости и вся ганноверская армия сочтет его за особую для себя честь и гордость.
— Очень рад, любезный майор, — сказал император милостиво, — случаю познакомиться с вами и прошу вас принять от меня Рыцарский крест моего ордена Леопольда, который я доставлю вам вместе с прочими вещами. Прошу носить его как воспоминание об этой минуте и моем к вам дружеском расположении.
Майор низко поклонился.
— Я и без того никогда не забыл бы этой минуты, Ваше Величество, — заверил он.
— Ну, а теперь отдохните, — сказал ласково император, — чтобы собраться с силами на обратный путь, как только все будет готово.
И он милостиво кивнул головой. Майор откланялся и вышел.
— Вы были в баварской главной квартире? — спросил император у Кнезебека.
— Был, Ваше Величество, — отвечал тот, — и нашел ее в Нейштадте. Я поставил принцу Карлу на вид крайнее положение ганноверской армии и настоятельно просил именем Вашего Величества немедленно двинуться на Готу и Эйзенах, чтобы там соединиться с ганноверцами и придать, по возможности, лучший оборот всей кампании.
— И что же сказал принц? — спросил император.
— Принц, равно как бывший при этом генерал фон дер Танн, признали важность соединения баварской армии с ганноверской и были готовы сделать все от них зависящее, тем более что они и без того были наготове идти вперед. Но как Его Королевское Величество, так и начальник главного штаба выразили при этом величайшее несочувствие к образу действий ганноверской армии, о которой, в сущности, доподлинно не знали, где она, и которая, по полученным о ней сведениям, наделала тьму величайших стратегических ошибок. Принц спросил у меня, как сильна наша армия, и когда я ему ответил, что она, по моему расчету и по собранным мной справкам, заключает в себе около девятнадцати тысяч человек, отвечал мне: «С девятнадцатью тысячами пробиваются сквозь неприятеля, а не шатаются из угла в угол, пока наконец в каком‑нибудь из углов не будут приперты безвыходно!»
Император покачал головой и вздохнул.
— Я выслушал это с мучительнейшим прискорбием, — продолжал генерал, — и еще с большим прискорбием должен сказать Вашему Величеству, что я не могу не согласиться с мнением баварской главной квартиры. Я сам офицер главного штаба, — прибавил он со вздохом, — но я должен сознаться, что переходы, которые делала наша армия, мне совершенно непонятны: ей гораздо легче было бы быстрым маршем достигнуть с своей стороны баварцев, чем поджидать их в бесцельном изнурительном метанье взад и вперед.
— Бедный король! — печально произнес император.
— Разумеется, — продолжал Кнезебек, — я не высказал своего воззрения в баварской главной квартире, напротив, настаивал на скорейшем выступлении на выручку ганноверской армии — единственное спасение, впрочем, как оказалось впоследствии; принц Карл был совершенно со мной согласен, тотчас же отдал приказ двинуться к Готе через Тюрингенский лес и сообщил об этом принцу Александру, чтобы одновременно выдвинуть восьмой корпус. Но, — продолжал он со вздохом, — баварская армия оказалась вовсе не готовой к походу!
— Не может быть! — воскликнул император. — Бавария еще на съезде так горячо отстаивала политику, которая неизбежно должна была привести к войне!
Кнезебек пожал плечами.
— Как бы то ни было, — сказал он, — баварская армия была не в состоянии действовать быстро и энергично. Но она все‑таки двинулась, — принц Карл перенес главную квартиру в Мейнинген, я последовал за ним с сердцем, полным тревоги и страха. На следующий же день мы должны были двинуться дальше, как вдруг приехал граф Ингельгейм и принес весть о лангензальцской капитуляции!
— Какое печальное совпадение печальных обстоятельств! — вскричал император.
— После этого, разумеется, принц Карл тотчас же приостановил движение вперед своей армии и приказал фланговыми маршами восстановить соединение с восьмым корпусом, стоявшим в семнадцати милях от Мейнингена. А я, — прибавил он мрачно, — вернулся сюда с отчаянием в душе и нашел здесь, к сожалению, еще весть о страшном ударе, постигшем Ваше Величество и наше дело.
— Удар ужасен! — вскричал император. — Но я не теряю мужества и надежды. Я рад был увидеть сегодня адъютанта короля и вас, любезный генерал. Это придало мне новые силы предпринять крайние меры для того, чтобы остаться верным моему долгу относительно Германии. Думаете ли вы, — спросил он после некоторого раздумья, — что можно ожидать от Баварии энергичного продолжения военных действий? Вы там были и видели их близко, у вас верный и зоркий глаз — скажите мне откровенно свое мнение.
— Ваше Величество, — отвечал Кнезебек, — как бы то ни было, Бавария будет отвлекать прусские силы, и это уже большая выгода. Что же касается энергичных военных действий, то принц Карл очень стар, а в его лета энергия редкость, особенно во главе в самом деле неготовой армии.
— Но генерал фон дер Танн?
— Чрезвычайно способный полководец, но возьмет ли он на себя ответственность подвергнуть риску баварские войска не исключительно ради Баварии, зная при этом характер принца Карла? Я в этом сомневаюсь…
— Вы, стало быть, ожидаете?
— Очень малого.
— А от других немецких корпусов? — спросил с напряженным участием император.
— Восьмой корпус без Баварии ничего не может сделать, а о баденских войсках перед самым моим отъездом пришли странные вести, — сообщил Кнезебек.
— Что же именно?
— Не знаю, — сказал Кнезебек, — но говорят, что впечатление известий о Кениггреце, там, быть может, преувеличенных…
— Они хотят нам изменить?
Кнезебек только пожал плечами.
— Вот она, союзная армия! — И Франц‑Иосиф гневно топнул ногой. — Неужели вы думаете, что солнце Австрии заходит? Это, может быть, вечер, — сказал он мрачно, — может быть, и ночь, но, — тут глаза его вспыхнули, — ведь за ночью может последовать утро!
— Солнце привыкло не заходить в габсбургских владениях, — сказал Кнезебек.
— И клянусь Богом, — сказал император, — если дневное светило в этой кампании еще раз снова лучезарно взойдет над моим домом и Австрией, ваш король сядет со мной рядом на германский престол во всем блеске могущества и славы! — И он протянул генералу руку в неподражаемо благородном порыве.
Вошел флигель‑адъютант.
— Граф Менсдорф возвратился и просит аудиенции у Вашего Величества.
— Ах, — заговорил император, тяжело дыша и порываясь идти, — скорее, скорее! Я жду его с нетерпением.
И он бросился навстречу графу Менсдорфу.
— Вашему Величеству угодно будет еще что‑нибудь приказать мне? — спросил Кнезебек.
— Останьтесь, останьтесь, генерал! Известия графа Менсдорфа так же весьма интересны для вас, как и для меня!
Генерал поклонился.
— Ну, Менсдорф, — проговорил император дрожащим голосом, — что же вы молчите! Судьба Австрии на ваших устах!
Менсдорф едва держался на ногах. Утомительная поездка в главную квартиру тяжело отозвалась на его болезненном организме, глубокие морщины пролегли по лицу, печальная складка образовалась около рта, и только темные глаза светились лихорадочным блеском.
— Вы измучены! — сказал император. — Садитесь, господа!
И он сам сел в кресло у письменного стола. Менсдорф и Кнезебек устроились напротив.
— Ваше Величество, — начал Менсдорф своим обычным тихим голосом, глубоко вздохнув, — вести печальны, очень печальны, но не безнадежны!
Император сложил руки и поднял глаза кверху.
— Армия потерпела страшное поражение, в порыве отчаяния обратилась в беспорядочное бегство, и всякий порядок был нарушен. К сбору и новому формированию масс возможно приступить только через несколько дней.
— Но как это могло случиться? — спросил порывисто император. — Как мог Бенедек?
— Фельдцейхмейстер был прав, говоря, что с такой армией нельзя драться. Положение было неслыханное. Вашему Величеству хорошо известно, что Бенедек — храбрый боевой генерал, отлично умеющий действовать по заданному плану и повести за собой солдат, но ему пришлось действовать на совершенно ему незнакомом поле. Ваше Величество, я не могу умолчать, что у него не было никакой поддержки. Главный штаб составил план, о достоинствах которого я не хочу судить, но который должен был быть изменен вследствие быстрых, неожиданных и удивительно комбинированных движений прусского корпуса, вследствие неожиданного прибытия армии кронпринца прусского. Но главный штаб в упорном ослеплении отклонял всякое изменение первоначального плана, не принимая в соображение никаких доводов. Кроме того, об отступлении вовсе не подумали. Никто из офицеров не знал дороги назад, мало того, никто из командиров полков не знал мостов, по которым могло бы состояться отступление. И потому отступление превратилось в бегство, бегство — в панику и распад.
— Это неслыханное дело! Фельдцейхмейстера надо предать военному суду! — крикнул император.
— Не его, Ваше Величество, — возразил граф Менсдорф, — он сделал все, что мог, твердо стоял на посту, который был ему вверен, рисковал жизнью, с неслыханной отвагой бросился на неприятеля — разумеется, тщетно! Меня слезы душили, Ваше Величество, — продолжал граф дрожащим голосом, — когда я видел храброго генерала подавленным, мрачным и когда он мне сказал на свой простой, солдатский лад: «Я все потерял, кроме жизни, увы!» Ваше Величество, можно глубоко сожалеть, что фельдцейхмейстер был поставлен на место, до которого не дорос, но сердиться на него, осуждать его — невозможно!
Император молча и мрачно понурил голову.
— Но если кто подлежит суду, — продолжал граф Менсдорф, — то это главный штаб. Теперь еще не время для приговора, спокойное и всестороннее обсуждение дела пока еще немыслимо. Душевно желаю, чтобы кажущиеся виноватыми оправдались, но все‑таки необходимо потребовать строгого отчета, этого требует вся армия, геройская храбрость которой была так напрасно принесена в жертву. Этого через несколько дней потребует голос народа.
— А кто виновные? — мрачно допытывался император.
— Фельдмаршал Геникштейн и генерал‑майор Крисманик — обвиняемые, — сказал с ударением граф Менсдорф, — окажутся ли они виновными — решат следствие и суд.
— Они сейчас же должны оставить свои посты и явиться сюда для отчета. Граф Кренневилль! — громко позвал император.
— Не могу скрыть от Вашего Величества, — продолжал тихо и спокойно Менсдорф, — что со всех сторон в армии адресуют также жестокие упреки графу Клам‑Галласу — он будто бы не в надлежащее время приступил к военным действиям и не слушал приказаний, которые ему отдавались.
— Граф Клам? — вскричал император. — Я этому не верю!
— Благодарю Ваше Величество за это слово! — сказал граф Менсдорф. — И осмелюсь присовокупить, что я считаю графа Клама при его преданности Вашему Величеству и Австрии неспособным на небрежность по службе. Однако он мой родственник, принадлежит к высшей аристократии империи, общественное мнение его обвиняет и тем беспощаднее и громче его осудит, если его оправдание не будет гласно. Я прошу Ваше Величество и его привлечь к ответу.
— Хорошо, пускай его пригласят сюда приехать, а там я посмотрю, — сказал император. — Но однако, — продолжал он, — что же делать? Положение безнадежно?
— Ваше Величество, — отвечал Менсдорф, — в армии насчитывают еще сто восемьдесят тысяч штыков, которые хотя в настоящую минуту совершенно неспособны к военным действиям, но, для того чтобы оказать новое сопротивление неприятелю, нуждаются только во времени и организации. Безопасным представляется ольмюцский лагерь, и туда‑то фельдцейхмейстер стягивает главные силы, чтобы привлечь неприятеля к себе и отвлечь от Вены.
— Отвлечь от Вены! — повторил император. — Это ужасно! В несколько дней враг, которого я надеялся раздавить навсегда, угрожает мне в моей собственной столице!
— Надо надеяться, — сказал Менсдорф, — что прусская армия последует за фельдцейхмейстером и будет задержана у Ольмюца. Между тем надо на всякий случай прикрыть Вену и сформировать новый корпус, чтобы напасть на неприятеля с двух сторон.
Генерал Кнезебек одобрительно кивнул головой, император с напряженным вниманием смотрел на своего министра.
— Для этого, — продолжал Менсдорф, — нам необходимы Венгрия и итальянская армия.
Император вскочил с места.
— Неужели вы думаете, — вскричал он с живостью, — что из уст Венгрии еще раз раздается Moriamur pro rege nostro?[82]
— Pro rege nostro, — повторил Менсдорф, ударяя на каждом слове. — Думаю, да, если Ваше Величество захочет стать rex hungariae![83]
— Разве этого нет? Что же мне еще делать, чтобы увлечь за собой Венгрию на поле битвы?
— Позабыть и простить, — отрезал Менсдорф, — и возвратить Венгрии ее самостоятельность под короной святого Стефана.
Император промолчал.
— А итальянская армия? — спросил он погодя.
— Она должна поспешить как можно скорее для прикрытия Вены.
— А что же будет с Италией?
— От Италии надо отказаться! — вздохнул Менсдорф.
Император взглянул на него подозрительно.
— Отказаться от Италии? — переспросил он нерешительно и опустил глаза вниз.
— Италия или Германия? — многозначительно произнес граф Менсдорф. — Дерзаю думать, что выбор не затруднителен!
— Тяжело то, что пришлось стать лицом к лицу с таким выбором! — прошептал император.
— Позвольте мне, Ваше Величество, яснее высказаться и точнее формулировать мои мысли. Вашему Императорскому Величеству, должно быть, памятно, что я еще до начала войны смотрел на два ее театра с тяжелым чувством, я был того мнения, что Италией следует пожертвовать для укрепления положения в Германии и для приобретения французского союза. Тогда, однако, еще жила надежда и без этой жертвы выйти победоносно из борьбы, и мужественное сердце Вашего Величества твердо ухватилось за эту надежду. Теперь это уже немыслимо — надо сделать прискорбный выбор. Если можно еще чего‑нибудь достигнуть в Германии, если можно сохранить то, что у нас есть, — то все силы Австрии должны сосредоточиться на этом пункте. Итальянская армия должна быть переброшена сюда, и эрцгерцог Альбрехт обязан принять командование над всеми войсками. Только при таких условиях возможен успех, только таким образом возможно удержать Германию на стороне Австрии. Ваше Величество не должны заблуждаться относительно того, что впечатление Кениггреца на немецких союзников, без того неподготовленных и осторожно колеблющихся, будет ужасно. Баден уже отпал…
— Баден отпал?! — вскричал король, порывисто вскакивая.
— Сейчас только, как я собирался ехать сюда, — сказал граф Менсдорф, — пришло в государственную канцелярию известие из Франкфурта о том, что принц Вильгельм Баденский объявил шестого июля, что при теперешних обстоятельствах дальнейшее содействие баденских войск союзной армии не может продолжаться.
— Вот, стало быть, первое последствие Кениггреца! — сказал император с горечью. — Но, — продолжал он, гордо вскинув голову и сверкнув очами, — они могут ошибиться в расчете, эти государи, предки которых смиренно стояли у трона моих предков. Могущество Австрии потрясено, но не разрушено, и еще раз наступит время, когда Габсбург воссядет на суд Германии — карать и миловать! Граф Менсдорф! Мой выбор сделан! Все для Германии! Но… как это устроить? Неужели мне, победителю, склониться перед итальянским королем, предлагать мир, который может быть отвергнут?
— Ваше Величество, — сказал граф Менсдорф, — исход покажется очень легким и удобным, если принять в соображение дипломатическое положение, каким оно было до начала войны. Император Наполеон жаждет покончить счеты с Италией, он предлагал союз до войны ценой Венеции, — разве нельзя теперь принять его условий? Мой совет, государь, уступить Венецию французскому императору и за то приобрести или союз с ним, или, по крайней мере, его могущественное посредничество. Этой мерой достоинство Австрии перед Италией будет сохранено, всякое прямое сношение устранено, и все наши силы сосредоточатся для продолжения войны с Пруссией. Если Ваше Величество позволит, я тотчас переговорю об этом с герцогом Граммоном и пошлю инструкцию князю Меттерниху?
Император долго молчал в глубоком раздумье. Неподвижно сидели перед ним три собеседника, можно было слышать их дыхание — так тихо было в кабинете, — а извне доносился глухой шум большой, деятельной Вены.
Наконец император встал, а за ним все другие.
— Да будет так! — возвестил Франц‑Иосиф серьезно и торжественно. — Ни Испания, ни Италия не приносили благословения моему дому. В Германии стояла его колыбель, в Германии возросло его величие, в Германии должно лежать и его будущее! Переговорите сейчас же с Граммоном, — продолжал он, — а вы, граф Кренневилль, приготовьте все, чтобы передать моему дяде главное командование над всеми моими армиями и перебросить сюда как можно скорее южную армию. Генерал Кнезебек, вы стоите здесь как представитель мужественного государя, вы видите, что наследник германских императоров жертвует всем для Германии.
— Я желал бы, чтобы вся Германия была свидетельницей благородной решимости Вашего Величества! — сказал с чувством генерал.
— А насчет Венгрии? — спросил Менсдорф.
— Переговорите с графом Андраши, — сказал император с легким колебанием, — и сообщите мне, что может быть сделано и чего там ждут!
Он махнул рукой и кивнул головой, приветливо улыбаясь.
Все трое господ оставили кабинет с глубоким поклоном.
Император прошелся несколько раз быстрыми шагами взад и вперед.
— Но если я пожертвую Италией, — прошептал он, — как Рим, как церковь устоит против волн, отовсюду и неудержимо стремящихся на скалу Петра?
Франц‑Иосиф задумался.
Слегка постучав, вошел камердинер из внутренних покоев.
— Граф Риверо, — сообщил он, — просит аудиенции, и так как Ваше Величество приказывало всегда о нем докладывать, то…
— Какое странное совпадение! Неужели это предостережение свыше? — спросил себя тихо император и сделал было движение, чтобы отказать в приеме.
Но тотчас совладал с собой и распорядился:
— Пускай войдет.
Камердинер вышел.
«Я его выслушаю, — решил император, — во всяком случае, он имеет право на откровенность и правду!»
Дверь внутренних покоев снова отворилась, и граф Риверо серьезно и печально вошел в кабинет.
— Вы пожаловали в грустный момент, граф! — обратился к нему император. — События этих дней погребли много надежд!
— Правые и святые надежды никогда не должны быть погребены, государь, — отвечал граф. — Даже сходя в могилу, следует их доверчиво поручать грядущему.
Император посмотрел на него вопросительно.
— Я тоже не совсем еще потерял надежду, — произнес он с некоторым смущением.
— Государь, — заговорил Риверо после недолгого молчания, так как император ничего больше не высказывал, — я слышал только в общих чертах о великом несчастии. Я не знаю, насколько поправимы его последствия и на что решилось Ваше Величество. Вам известно, что в Италии все готово для восстания за святое дело религии и правды. Победы австрийского оружия сильно потрясли военное и нравственное могущество сардинского короля, и наступил момент, когда мне надлежит произнести решающее слово, чтобы повсюду зажечь пламя. Прежде чем сделать это, я прошу приказаний Вашего Величества и спрашиваю: может ли восстание в Италии рассчитывать на полную и сильную поддержку австрийской армии? Иначе жертва стольких жизней будет напрасна и может только повредить нашему святому делу.
Граф говорил тихо и спокойно, почтительным тоном придворного человека, но тем не менее в его голосе звучала глубокая, серьезная твердость.
Император на минуту опустил глаза. Потом подошел к графу на шаг ближе и медленно заговорил:
— Любезный граф, неприятель угрожает из Богемии столице, разбитая армия не может продолжать действовать, не отдохнув и не собравшись с силами. Я нуждаюсь во всех силах Австрии, чтобы отвратить последствия поражения, парировать угрожающий удар. Южная армия должна прикрыть Вену и вместе с переорганизованной заново богемской армией дать возможность снова перейти в наступление.
— Стало быть, Ваше Величество жертвует Италией? — Граф глубоко вздохнул, но без малейшего раздражения, пристально глядя на государя своими темными глазами.
— Должен пожертвовать, — сказал император, — если хочу сохранить Австрию: иного выхода нет…
— И Ваше Величество навсегда уступит савойскому дому железную корону Габсбургов, отдаст Венецию, эту гордую царицу Адрии, королю Виктору‑Эммануилу, армии которого разбил австрийский меч?
— Не ему! Не ему! — живо крикнул император.
— Кому же, Ваше Величество?
— Мне необходима французская помощь, — сказал император, — я должен купить союз с Наполеоном!
— Итак, снова эта демоническая рука холодно и мрачно захватит судьбы Италии! — заключил граф горячо. — Итак, Рим и священный престол будут навсегда предоставлены произволу бывшего карбонария?
— Не навсегда! — возразил император. — Когда мое могущество в Германии будет восстановлено, когда удастся устранить грозящую опасность, тогда у святого престола будет защитник могущественнее того, чем бы я мог быть теперь. И почем знать: Германия завоевала Ломбардию в прежние времена…
— Стало быть, все потеряно! — невольно вырвалось у графа глубоко горестное восклицание. Но он тотчас же подавил порыв чувства и заговорил с обычным спокойствием: — Решение Вашего Величества безвозвратно — или я могу себе позволить высказать против него несколько возражений?
Император помолчал с минуту.
— Говорите, — сказал он наконец.
— Ваше Величество надеется поправить совершившееся несчастие привлечением южной армии и уступкой Венеции, то есть Италии, купить союз с Францией? По моему убеждению, обе надежды неосновательны.
Император посмотрел на него с удивлением.
— Южная армия, — продолжал граф, — вернется слишком не скоро, чтобы принести какую‑нибудь существенную пользу; противник Вашего Величества не ждет и не стоит спокойно, доказательством тому служат прискорбные события, под впечатлением которых мы находимся. Французский союз, если даже его удалось бы купить, не стоит назначаемой ему цены, потому что — как я уже имел честь раньше заверять Ваше Величество — Франция не способна к какой бы то ни было успешной военной деятельности.
Император молчал.
— С другой же стороны, — продолжал граф, — отказываясь от Италии, вы отрицаете великий принцип, вы признаете революцию — революцию против законного права и против церкви, вы отнимаете у императорского габсбургского дома того могущественного союзника, который сидит на судилище высоко над полями битв и кабинетами и по своему предвечному усмотрению руководит судьбами государей и народов. Ваше Величество жертвует церковью, жертвует Господом, оружием и твердынею которого служит Святая Церковь!
Император вздохнул.
— Но что же мне делать? — воскликнул он горестно. — Неужели впустить надменного врага в столицу, а самому бежать? И разве может государь‑беглец, государь без престола быть защитником Церкви?
— Предки Вашего Величества, — отвечал граф, — неоднократно бегали из Вены, но, твердо стоя за право и за того вечного, всемогущего союзника их дома, они всегда, возвеличенные и увенчанные славой, возвращались в свою столицу! Кроме того, — продолжал он, — между неприятелем и Веной еще много пространства — неприятельская армия тоже сильно потрепана, и что Вена не сделается прусским городом, за это ручается Европа, за это постоит Франция — даже без всякой платы, — Англия, и пока еще даже Россия. Предоставьте победоносной итальянской армии под предводительством героя‑эрцгерцога продолжать натиск, и вскоре вся Италия будет принадлежать вам, союзник Пруссии будет раздавлен и Святая Церковь прогремит своим могучим словом за Австрию и Габсбургов. Слово это будет услышано в Баварии, в Германии, во Франции, и Ваше Величество восстанет с новыми силами. Не бросайте одного дела неоконченным, для того чтобы вполсилы взяться за другое, преследуйте победу до конца, тогда она в свой черед поправит зло, не жертвуйте победой поражению, напротив, исправьте поражение довершением победы!
Граф говорил горячее обыкновенного. Слова лились с его уст магнетическим потоком, глаза горели, и черты озарились пророческим светом.
Он слегка приподнял руку, и в своей удивительной мужественной красоте стоял точно статуя красноречию.
Император смотрел на него в сильном смущении, лицо его выражало живую борьбу.
— И с другой стороны, — продолжал граф, — если Ваше Величество отдаст Италию, отвлечет все силы к северу и если все‑таки эта жертва не принесет желаемого результата, где вы тогда найдете поддержку и помощь? Прочную поддержку и надежную помощь? Раз сойдя с колеи, раз оторвавшись от вечного и неизменного союзника, разрыв будет становиться все больше и больше, обратится в бездну, и могущество церкви уже не вступится за отпавшую Австрию. А государственным людям не след пренебрегать этим могуществом: если даже теперь молнии Ватикана не срывают больше корон с головы государей и не заставляют их каяться перед дверями храма, то все‑таки дух и слово Церкви мощно и неудержимо пронизывает весь мир, и если скалу не раздробить больше громовому удару, то ее подточит капля! Взвесьте, Ваше Величество, серьезно и зрело, прежде чем сделать первый шаг, ведущий к разрыву с Церковью.
Взволнованное лицо императора вспыхнуло. Он поднял голову, гордая молния сверкнула из глаз, губы вздернулись гневом и задрожали. Но граф Риверо, не давая ему вставить слова, продолжал горячо:
— В Мексике августейший брат Вашего Величества вступил на опаснейшую стезю, основывая свое могущество на светских опорах, отвернувшись от Церкви, — и вот он мяч в руках Наполеона, и путь, им избранный, будет вести его все ниже и глубже в бездну…
Император не выдержал.
— Благодарю вас, граф Риверо, — произнес он холодно и надменно, — за то, что вы потрудились так обстоятельно изложить свое мнение. Но мое решение принято, и безвозвратно! Я не могу иначе. Я надеюсь, что на избранной мною стезе я скоро вновь обрету прежние могущество и возможность быть полезным церкви и служить ей, как указывает мне сердце.
Лицо графа снова приняло обычное спокойное выражение, глаза несколько утратили блеск и смотрели ясно и холодно.
Он подождал несколько минут, но так как император молчал, то сказал без всякого следа волнения в голосе:
— Ваше Величество ничего больше не изволит приказать?
Император отвечал приветливо:
— Прощайте, граф, будьте уверены в моем искреннем расположении и надейтесь вместе со мной на будущее: возможно, то, чего вы хотите, Бог устроит в грядущее время!
— Я никогда не перестаю надеяться, — сказал граф спокойно, — потому что будущее принадлежит владыке мира!
И с низким поклоном Риверо вышел из кабинета.
Император задумчиво посмотрел ему вслед.
«Им хочется вернуть времена Каноссы! Ошибаются — я не хочу быть слугой Церкви, я хочу бороться и завоевать себе силу и право быть ее защитой. А теперь — за дело!»
Он позвонил.
— Позвать ко мне сию же минуту господина Клиндворта! — приказал он вошедшему камердинеру.
Император сел к столу и принялся торопливо просматривать различные бумаги. Но занятие это было скорее механическим, мысли блуждали далеко, и часто бумаги выпадали из рук, а взгляд терялся задумчиво в пространстве.
Вошел Клиндворт; лицо с опущенными глазами было, как всегда, неподвижное и непроницаемое, руки сложены на груди. Низко поклонившись, советник остановился у двери.
Император отвечал легким кивком.
— Знаете, на что я решился? — спросил он, пристально вглядываясь в лицо Клиндворта.
— Знаю, Ваше Величество.
— И что вы на это скажете?
— Радуюсь решению Вашего Величества.
Император казался удивленным.
— Вы согласны с тем, что я жертвую Италией?
— Чтобы сохранить Германию, да, — отвечал Клиндворт. — Из Германии можно снова завоевать Италию, из Италии Германию — никогда!
— Но ведь вы были против уступки Италии до войны?
— Точно так, Ваше Величество, — отвечал Клиндворт, — ибо великий Меттерних учил, что никогда не следует отдавать того, что имеешь и можешь удержать за собой. Но если уж необходимо жертвовать, то следует отдавать то, что снова может быть легко приобретено.
— Но в Риме на это посмотрят очень косо, и пожалуй, станут во враждебные ко мне отношения?
— Косо посмотрят — да, но до ссоры не дойдет, так как без Австрии им все‑таки не обойтись. Церковь и ее влияние — могущественный фактор в политической жизни, и политическими факторами следует пользоваться, но не давать им овладевать собой — это было одно из основных правил Меттерниха.
Император помолчал в раздумье.
— Но если я отдам Италию, я хочу, чтобы мне заплатили за эту жертву. Считаете ли вы возможным французский союз?
— Надеюсь, — сказал Клиндворт, метнув в императора пристальный взгляд из‑под опущенных век, — если дипломатия исполнит свою обязанность!
— Исполнит свою обязанность? — переспросил император. — Любезный Клиндворт, я вас попрошу тотчас же отправиться в Париж и употребить все усилия, чтобы подвинуть императора Наполеона на немедленные деятельные меры!
— Я еду с следующим курьерским поездом, Ваше Величество, — сказал Клиндворт, не моргнув глазом.
— Вы хорошо знаете положение и знаете, чего я хочу?
— Ваше Величество может на меня положиться!
Император долго молчал, барабаня пальцами по столу.
— Что говорят в Вене? — как бы между прочим поинтересовался он наконец.
— Я очень мало забочусь о том, что говорят, — ответил Клиндворт, в то же время украдкой пристально глянув на государя. — Но я все‑таки слышал, что настроение в общем спокойное и что все надеются на эрцгерцога Альбрехта и итальянскую армию.
— А не говорят… о моем брате Максимилиане? — спросил император, запнувшись.
Клиндворт опять украдкой взглянул на государя.
— Ничего не слыхал, да и что же говорить?
— Есть люди, — сказал Франц‑Иосиф вполголоса, — которые к каждой катастрофе приплетают имя моего брата. — И он опять замолчал, мрачно нахмурив брови.
— Лучшее средство заставить всю Вену повторять только одно имя — Вашему Величеству следует показаться на люди!
— То есть как — проехать по Пратеру? — спросил император все так же угрюмо и хмуро.
— Ваше Величество, — сказал Клиндворт, — только что доставлено множество австрийских и саксонских раненых офицеров, которые помещены в Леопольдштадте, в гостинице «Золотая овца». Осмеливаюсь верноподданнейше просить Ваше Величество навестить этих раненых — это произведет отличнейшее впечатление.
— Хорошо! Сию же минуту! И не для впечатления, а потому что сердце мое влечет меня приветствовать и поблагодарить этих храбрецов.
Он встал.
— Прикажете, Ваше Величество, деньги на поездку в Париж взять из государственной канцелярии? — спросил Клиндворт тихим, раболепным голосом.
— Нет, — возразил император и, открыв небольшую шкатулку, стоявшую перед ним на столе, вынул из нее два свертка и подал их советнику. — Довольно?
— Вполне! — отвечал Клиндворт.
Глаза его сверкнули, и, схватив свертки, он проворно опустил их в карман длинного коричневого сюртука.
— Ну, поезжайте скорее и скорее возвращайтесь. Если будет нужно, сообщайте мне сведения известным вам путем. Но главное, устройте что можно!
Он слегка кивнул головой. Клиндворт поклонился и исчез, отворив дверь ровно насколько было необходимо, чтобы проскользнуть, не производя ни малейшего шума.
Император позвонил и потребовал коляску и дежурного флигель‑адъютанта.
Он проехал к «Золотой овце» и навестил раненых офицеров.
Жители Вены, видя его веселым и гордым, в открытом экипаже, говорили: «Ну, значит, еще не так плохо, если император так бодр и весел!»
Когда Франц‑Иосиф выходил из гостиницы, у крыльца собралась густая толпа и приветствовала императора громкими, восторженными «ура!».
Он весело и гордо поглядывал по сторонам и, приветливо кланяясь направо и налево, сел в коляску.
Вдруг громко и явственно раздались вблизи и издали крики: «Eljen! Eljen!»
Император вздрогнул и, озабоченно прислушиваясь, впал в глубокую задумчивость, между тем как экипаж, медленно раздвинув толпу, быстро уносил его к дворцу.
Глава восемнадцатая
Наполеон III сидел в своем кабинете в Тюильри. Тяжелые, темные занавеси на больших окнах были раздвинуты, и утреннее солнце врывалось яркими лучами. Император был в легком утреннем костюме, волосы и длинные усы были только что причесаны, и стареющее, усталое лицо носило тот отпечаток свежести, который ночной отдых и тщательный туалет придают даже больным чертам.
Возле него на маленьком столике стояли зажженная свеча и простенький прибор из серебра и севра, в котором он только что сам себе приготовил чай. Наполеон курил большую, темно‑коричневую гаванскую сигару, синий дымок которой расходился по кабинету и, смешиваясь с ароматом чая и легким благоуханием eau de lavande[84], распространял легкий и приятный запах по комнате, только что перед приходом императора тщательно проветренной.
Император просматривал письма и телеграммы, и на лице его светилось веселое и довольное выражение.
Перед ним стоял Пьетри.
— Все тому, кто умеет ждать! — сказал император с легкой усмешкой. — Меня хотели втянуть в эту немецкую войну, заставить быстро и неожиданно действовать. А теперь? Я думаю, ничего больше и лучше я никогда не мог бы достичь, если бы даже, против склонности и убеждения, вмешался в естественный ход событий. Австрийский император, — продолжал он, — уступает мне Венецию и просит моего посредничества, чтобы удержать победоносно наступающего врага. Таким образом, Италия в моих руках, и мое обещание — свобода до Адриатики — будет исполнено! Таким образом, я выиграл во влиянии и обаянии, что весит больше власти. Прусский король примет мое посредничество — в принципе, конечно, и прежде всего для перемирия, но из этого последует остальное, и таким образом, я стану вершителем судеб Германии! Мог ли я достичь большего, даже если бы французская армия стояла под ружьем? — спросил он, протяжно затянувшись сигарой, и затем, поглядев на белый пепел на ее оконечности, медленно выпустил синеватый дым отдельными клубами.
— Конечно, нет, — отвечал Пьетри, — и я удивляюсь проницательности Вашего Величества. Признаюсь, меня сильно заботила отстраненность Франции от всякого участия в этих великих событиях. Однако мне хотелось бы представить Вашему Величеству, что, как кажется, положение более выяснилось относительно Италии, чем относительно германских властей, хотя король пока еще обнаруживает некоторое нежелание принять Венецию в подарок. Принятие посредничества в принципе…
— Поведет к дальнейшим переговорам на практике, — прервал император. — Я это знаю: у обеих сторон при этом свои потаенные мысли, но зато, — сказал он, усмехаясь, — и у меня есть свои! Во всяком случае, важно уже то, что мое слово способно заставить пушки замолчать, что тихая и дружеская речь Франции может заставить обоих противников опустить оружие и выслушать мое слово с почтительным вниманием. Это, во всяком случае, ставит меня в положение авторитета в Германии. Таким образом, — продолжал он, — должно быть представлено это дело общественному мнению. Весьма важно, чтобы общественное мнение не было вовлечено в недоразумения, которые могли бы запутать, испортить мою осторожную, тихую игру.
— Это уже сделано, государь, — подхватил Пьетри. — Совершенно в таком смысле «Монитер» изобразил посредничество Вашего Величества, и таким же образом будет обработано это положение и другими, нам преданными газетами.
— Хорошо, хорошо, — кивнул император, — а как относится к этому самодержавное общественное мнение моих добрых парижан?
— Превосходно! — отвечал Пьетри. — Все органы прессы смотрят на роль Франции в этом столкновении как на самую соответствующую национальному достоинству и самую лестную.
Император вновь самодовольно кивнул головой.
— Я не могу, однако, скрыть от Вашего Величества, — сказал Пьетри, — что в журналистике заметна сильная агитация в прусском смысле: прусский консул Бамберг, который, как Вашему Величеству известно, состоит по этой части при посольстве, с некоторых пор очень сильно и искусно поддерживает «Temps», «Siecle» и другие газеты.
Император в раздумье молчал.
— Вопрос в том, — продолжал Пьетри, — нужно ли противодействовать этой агитации?
— Нет, — сказал император решительно, — мне в настоящую минуту весьма не хотелось бы, чтобы общественное мнение встало на сторону Австрии — это меня стеснило бы. Я должен сказать вам откровенно, — продолжал Наполеон после минутного молчания, — что я весьма мало доверяю Австрии, которая, кажется мне, переживает процесс разложения, и думаю, предпочтительнее поладить с пруссаками. Великий император имел эту мысль, — продолжал он как бы про себя, — но его не поняли в Берлине и поплатились за то под Иеной. Но граф Бисмарк не Гаугвиц и… А с австрийской стороны, — вдруг прервал он себя, — ничего не делается, чтобы повлиять здесь на общественное мнение?
Пьетри пожал плечами.
— Князь Меттерних, — ответил он, — слишком чванлив, чтобы об этом заботиться и снизойти с Олимпа в темненькие и грязненькие закоулки журналистики, к которым вообще в Австрии питают глубочайшее презрение.
— Да‑да, — сказал император в раздумье, — эта законная дипломатия живет и действует на своих олимпийских высотах, не заботясь о том, что происходит внизу, в пыли и грязи, а между тем именно там, внизу, формируется общественное мнение, эта неосязаемая сила в образе Протея[85], решающее слово которой низвергало некогда гордых богов Олимпа в преисподнюю!
— Впрочем, — сказал, улыбаясь, Пьетри, — австрийское общественное мнение тоже отчасти настраивается очень длинными, очень аристократическими и дипломатическими статьями «Memorial Diplomatique»…
— Дебро де Сальданенга? — спросил, улыбаясь, император.
— Точно так, Ваше Величество.
— Впрочем, — сказал император, заботливо стряхивая с панталон упавший сигарный пепел, — пожалуй, можно пустить одну или две статьи — небольшое противоречие не повредит. Укажите на необходимость не слишком принижать положение Австрии в Европе. Вы слышите: в Европе — о Германии не должно быть и речи. И статьи должны носить печать официозного австрийского происхождения: пусть вся журналистика думает, что они вышли оттуда. Вы сумеете это устроить?
— Как нельзя лучше, Ваше Величество.
— Лагероньер говорил мне об очень ловком журналисте Эскюдье, у него много знакомых в Австрии. Употребите его на это. Вообще нам не мешало бы увеличить наш журналистский контингент. Наши кадры поредели, а нам придется предпринять поход. Подумайте об этом!
Пьетри поклонился.
Камердинер доложил:
— Его превосходительство господин Друэн де Люис.
Император кивнул головой, еще раз затянулся сигарой и сказал своему секретарю:
— Будьте под рукой — вы мне еще понадобитесь.
Пьетри скрылся за тяжелой портьерой, которая вела на лесенку к его комнате.
Едва опустились складки портьеры, как вошел Друэн де Люис, серьезно и спокойно, как всегда, с портфелем под мышкой.
— Здравствуйте, любезный министр, — сказал Наполеон III, медленно приподнимаясь и протягивая ему руку. — Ну, довольны ли вы ходом дел и положением, которое нам доставила выжидательная политика?
— Не особенно, государь, — отвечал Друэн де Люис серьезно и спокойно.
Чело императора подернулось облаком. Но в следующую же минуту он сказал с приветливой улыбкой:
— Вы неисправимый пессимист. Чего же вам еще? Разве мы в эту минуту не вершители судеб Европы?
— Судья, — ответил невозмутимо Друэн де Люис, — который еще сам не знает, примут ли партии его приговор… Лучший судья тот, который кладет меч на весы, и Бренн, прототип галльских полководцев, подал нам к тому пример!
— Мне кажется, что передо мной пламеннейший из моих маршалов, а не министр иностранных дел, — сказал император, улыбаясь. — Однако говоря серьезно — чем вы недовольны? Я знаю, что нам предстоит ряд тяжелых и сложных переговоров, но, — прибавил он любезно, — может ли это пугать вас, многоопытного государственного мужа, умеющего находить нить Ариадны[86] во всех подобных лабиринтах? Я думаю, — и он самодовольно потер руки, — что наша игра будет выиграна, как только нам удастся перенести вопрос на поле продолжительных переговоров. Я больше всего боюсь быстро возникающих событий. Они исключают возможность логики, комбинаций, всех орудий ума.
Друэн де Люис помолчал немного, спокойно глядя на более обыкновенного оживленное лицо императора.
— Я знаю, — сказал министр наконец, — что Ваше Величество любите распутывать гордиевы узлы, но вы упускаете из виду, что здесь мы имеем дело с человеком, который весьма не прочь рассечь мечом такие хитросплетенные комбинации и меч у которого очень острый!
— Но, любезный министр, — возразил император, — неужели вы хотите, чтобы я в этот момент, когда мое посредничество принимается, выступил с оружием в руках между партиями!
— Не в руках, государь, — отвечал Друэн де Люис, — но, во всяком случае, с острым мечом при бедре! Ваше Величество, — продолжал он, — момент серьезен, французское посредничество не может быть платоническим. Ваше Величество должно уяснить себе, чего вам угодно достичь этим посредничеством.
— Прежде всего, конечно, чтобы прекратилась эта неприятная пушечная пальба в Германии, делающая невозможной всякую спокойную и разумную дипломатию. Cedant arma togae![87] А затем… Но что вы думаете о положении дел и о нашем поведении? — прервал он себя, причем его полузакрытые глаза открылись и в министра вперился взгляд его фосфорически блестящих зрачков.
Он сел, указывая Друэну де Люису на кресло.
— Государь, — сказал Друэн, опускаясь в кресло, — прежде всего необходимо уяснить, что мы можем противопоставить совершившимся событиям в Германии? Возможны два пути; я позволю себе проанализировать их перед Вашим Величеством. Из сообщений Бенедетти, из указаний графа Гольца несомненно видно, что Пруссия хочет в полной мере воспользоваться громадным успехом своего оружия, успехом, который дорого обойдется монархии Гогенцоллернов!
Император одобрительно кивнул головой.
— По моим справкам и наблюдениям характера графа Бисмарка, пруссаки потребуют не только отстранения Австрии от германских дел, не только прусского главенства в Германии, но еще и территориальных уступок: присоединения Ганновера, Гессена и Саксонии.
Император поднял голову.
— Гессен, — сказал он. — Это меня не касается. Ганновер — я уважаю короля Георга и искренно ему симпатизирую, с тех пор как познакомился с ним в Баден‑Бадене, но это пускай они устраивают с Англией. Саксония, — сказал он, слегка покручивая усы кончиками пальцев, — дело другое, затрагивающее традиции моего дома… Однако, — прервал он себя, — продолжайте!
— Австрия, — спокойно продолжал Друэн де Люис, — должна будет согласиться на эти требования, потому что она не в силах снова подняться и продолжать борьбу. Южная армия движется слишком медленно, а на Венгрию — как подтверждают все мои агенты — нельзя положиться. Стало быть, только от решения Франции будет зависеть, исполнятся ли требования Пруссии или нет.
Император молчал.
— Вашему Величеству предстоит два пути относительно этого положения вещей…
Наполеон внимательно прислушивался.
— Ваше Величество может сказать: так как Германский союз, состоявший под основанной на народном праве гарантией Европы, распался и все германские государи стали вследствие этого просто европейскими правителями и союзниками Франции, то Франция не допустит серьезного изменения их владений и образа правлений, изменения, затрагивающего германское и европейское равновесие. Ваше Величество может допустить разделение Германского союза на северогерманскую и южногерманскую группы: первую под эгидой Пруссии, вторую под эгидой Австрии. Но никакого дальнейшего изменения. Вот путь, которым я советовал бы следовать Вашему Величеству.
Император склонил голову в раздумье.
— А если Пруссия не примет этого предложения — или приговора? — спросил он.
— Тогда Вашему Величеству надлежит двинуться к Рейну и последовать примеру Бренна, — сказал Друэн де Люис.
— Что же я выиграл бы? — спросил император. — Разве эта раздвоенная Германия не была всегда готова соединиться против Франции, может быть крепче организовавшись в своих двух половинках, чем когда‑либо она была в древних германских союзах? А другой путь? — спросил он погодя.
— Если Вашему Величеству не угодно то, что я только что предложил, — сказал Друэн де Люис, — тогда Франции следует поступить относительно Германии так же, как последняя поступила относительно Италии: предоставить события их течению, дать состояться полному или местному национальному объединению под прусским скипетром, допустить территориальное увеличение Пруссии и, с своей стороны, потребовать вознаграждений.
Глаза императора вспыхнули.
— Каких бы вы вознаграждений потребовали? — спросил он.
— Бенедетти предполагает, — сказал Друэн де Люис, — что в Берлине весьма не прочь помочь нам приобрести Бельгию.
Император одобрительно кивнул головой.
— Но я, — продолжал министр, — такой политике не сочувствую: мы не много выиграли бы относительно военных позиций и обременили бы себя большими сложностями с Англией.
Император слегка пожал плечами.
— Но ведь Бельгия — страна французская, — заметил он.
— Да, государь, — отвечал Друэн де Люис. — Точно так же, как Эльзас — немецкий.
— Мало ли что! — невольно вырвалось у императора. — Однако каких же вы хотите вознаграждений?
— Государь, — отвечал министр, — когда Германия сплотится в одно политическое и военное целое под прусским скипетром, она станет серьезной угрозой для Франции, опасностью для нашего могущества, даже для нашей независимости. Стало быть, мы должны с нашей стороны также потребовать гарантий против агрессивной политики вновь организованной Германии. Во‑первых, — продолжал он, так как император молчал, — во‑первых, мы должны потребовать — и это, в сущности, весьма скромное и умеренное требование — восстановления французских границ в тех линиях, которые были начертаны Венским конгрессом тысяча восемьсот четырнадцатого.
Император живо кивнул головой.
— Затем, государь, — продолжал Друэн де Люис, прямо и твердо устремляя на императора свой ясный взгляд, — мы должны потребовать уступки Люксембурга и Майнца.
— Это много! — сказал император, не поднимая глаз.
— Много, но не чересчур! Люксембург, кроме того, составляет исключительно вопрос между нами и Голландией и нуждается только в безмолвном согласии Пруссии. Что же касается Майнца, то это дело можно было бы устроить посредством какой‑нибудь полюбовной сделки. Во всяком случае, лучше требовать больше того, что точно рассчитываешь получить. Таково мое мнение о вознаграждениях.
— И мое также! — сказал император вставая, и своей медленной, раскачивающейся походкой он сделал несколько шагов по комнате. Потом остановился перед Друэном де Люисом, который тоже встал, и проговорил: — Весьма сожалею, что не могу избрать первого из указанных вами путей, хотя вам он кажется лучшим.
— Я оба пути нахожу лучшими исходами, государь, — сказал Друэн де Люис, кланяясь, — и хотя предпочитаю первый, но тем не менее, отдаю полную справедливость и второму.
— Так пойдемте вторым! — решил император. — Предоставим Бисмарку объединять Германию, как ему хочется, и укрепим с своей стороны могущество Франции насколько окажется возможным. Напишите сейчас же Бенедетти, чтобы он отправился в главную прусскую квартиру и сперва потребовал просто перемирия, чтобы сначала замолчали пушки и оставили место для спокойного обсуждения. Тогда он в спокойной беседе с Бисмарком обговорит вопрос о вознаграждениях и упомянет при этом о Люксембурге и Майнце.
Друэн де Люис нагнул голову.
— Но, ничем себя не связывая, не ставя никаких ультиматумов — я хочу оставить за собой полную свободу действий, — продолжал с живостью император.
— Наши интересы могут быть соблюдены, государь, — вставил Друэн де Люис, — только в таком случае, когда наша речь будет свободна и наше положение определено…
— Так и будет. Но нельзя же начинать с ультиматума? Пускай Бенедетти позондирует и возможно скорее отвечает, как будут приняты его заявления.
— А что Вашему Величеству угодно будет ответить Австрии? — спросил Друэн де Люис.
— Что мы приложим всевозможные старания способствовать как можно более благоприятному миру и что, разумеется, территориальная целость и европейское положение Австрии не обсуждаются. В Вене, — прибавил он, — надо посоветовать на всякий случай не прекращать готовиться к продолжению войны. Почем знать? Всегда может наступить иной оборот, и во всяком случае, твердость Австрии и увеличение затруднений, которые Пруссия еще находит с той стороны, нам весьма на руку.
— Я совершенно согласен с мнением Вашего Величества и тотчас же напишу герцогу Граммону в этом смысле. Но, однако, — сказал он, — я должен еще сообщить Вашему Величеству, что сегодня приехал господин фон Бейст и просит аудиенции.
— Фон Бейст, саксонский министр? — удивился император.
— Он в Париже с сегодняшнего утра и был у меня только что перед моим отправлением сюда.
— И чего он хочет?
— Защиты Вашего Величества для Саксонии.
— Я сейчас же его приму, — заявил Наполеон, немного подумав, — но без церемониала!
— И господин фон Бейст того же желает, государь!
— Так попросите его доложить о себе через полковника Фаве, который сегодня дежурит. Я предупрежу полковника, чтобы он ввел его ко мне незаметно.
— Очень хорошо, Ваше Величество. Я жду сегодня или завтра князя Рейсса, которого прусский король послал к Вашему Величеству с письмом из своей главной квартиры в Пардубице.
— Откуда? — переспросил Наполеон.
— Из Пардубицы, государь, — повторил Друэн де Люис, медленно выговаривая каждый слог.
— Что за имя! И вы знаете, что он везет?
— Наброски мирного договора, — ответил Друэн де Люис, — без предварительного принятия которых король не хочет заключить перемирия. Так сказал мне граф Гольц, которого известили телеграммой об отправке князя.
— А графу Гольцу известны эти наброски? — продолжал спрашивать Наполеон.
— Из его общей и предварительной инструкции я заключаю, что они содержат именно то, что я сейчас сообщал Вашему Величеству. Исключение Австрии из Германии, прусское главенство и присоединение областей, лежащих между обеими частями прусской монархии.
— В таком случае его приезд ничего не изменит в нашей политике, — сказал император, — но мы все‑таки его подождем.
— Я позволю себе еще раз обратить внимание Вашего Величества на то, — произнес министр решительным тоном, пристально глядя на императора, — что какую бы политику ни избрала Франция, наши интересы могут быть соблюдены только в таком случае, если наш язык будет очень тверд и наши действия очень решительны.
— Так и будет, — подтвердил император, — по существу, с формальной стороны при этих соглашениях надо быть очень осторожными, — дайте это знать Бенедетти.
— Тем более оснований выступить вперед с большой твердостью, — настаивал Друэн де Люис, — что для Пруссии, возможно, возникнет новое затруднение, которое побудит берлинский двор еще охотнее поладить с нами. Мне только что прислали статью официозного «Journal de St.‑Petersbourg», в которой излагается, что перемирие могло бы привести к окончательному примирению, если бы в Германии не было кое‑кого, кто считает себя достаточно сильным, чтобы вынудить у Европы согласие на завоевание Германии, забыв про наличие в Европе других сильных держав, для которых европейское равновесие не пустое слово.
И Друэн де Люис, вынув из портфеля газету, подал ее императору. Тот пробежал статью глазами и положил на стол.
— Это хорошо! — сказал он, улыбаясь. — И адрес, по которому направлен намек, не оставляет сомнений.
— Барон Талейран думает, что эта статья выражает настроение придворных кругов, — сообщил Друэн де Люис, — и что хотя князь Горчаков соблюдает большую сдержанность, но несомненно с большой озабоченностью наблюдает за далекоидущей катастрофой в Германии.
— Отлично, отлично! — все более оживлялся Наполеон. — Сообщите Талейрану, чтобы он всячески поддерживал это настроение. Ему следует, — прибавил он, подумав немного, — особенно напирать на то, что интересы как России, так и Франции не допускают, чтобы Германия сплотилась в одну концентрированную военную державу в руках Пруссии.
— Я приготовил инструкцию в этом смысле, государь, — отвечал Друэн де Люис, — так как предугадывал намерения Вашего Величества.
— И… — начал было император, как бы пораженный внезапной мыслью, но тотчас же спохватился и сказал улыбаясь: — Вы видите, как все счастливо совпадает, чтобы снова вложить в наши руки нити европейских дел: мы словно выиграли крупное сражение, не сделав ни выстрела, не издержав ни франка!
— Я буду радоваться, когда все придет к счастливому концу, — сказал Друэн де Люис, застегивая портфель.
— И не забудьте, — сказал император любезно, повторяя слова своего министра, — что наша речь должна быть тверда и наш образ действий решителен!
Он подал министру руку.
— Я сейчас пришлю сюда фон Бейста, государь, — предупредил министр, направляясь к выходу.
— Пожалуйста, а как только случится что‑то новое, я буду вас ждать.
И с обязательной улыбкой он сделал шаг к двери, в которую прошел Друэн, отвесив низкий поклон.
Император прошелся в раздумье взад и вперед по кабинету. Затем подошел к портьере, маскировавшей потайную лестницу, и крикнул:
— Пьетри!
Тот явился сию же минуту.
— Вы знаете эту статью в «Journal de St.‑Petersbourg»? — спросил Наполеон.
— Знаю, — отвечал Пьетри, быстро взглянув на номер газеты, — она лежала у меня наготове для сообщения Вашему Величеству.
— Все идет превосходно! — возрадовался император, потирая руки. — Мы должны как можно больше подкреплять эти затруднения, возникающие с востока для победителя при Кениггреце. Я приказал Талейрану настаивать на тождестве французских и русских интересов.
Наполеон помолчал, покручивая кончики усов.
— Вы можете написать ему совершенно конфиденциально, — продолжал он, — что не мешает, при случае и очень осторожно, намекнуть, что с тысяча восемьсот пятьдесят четвертого и тысяча восемьсот пятьдесят шестого годов европейское положение весьма изменилось и что теперь сближение Франции и России по восточному вопросу вполне возможно и желательно. Если из совместного обсуждения германских дел разовьется ближайшее соглашение, то пересмотр Парижского трактата, вероятно, не встретит здесь никакого противодействия. Но совершенно частным образом, — продолжал он с ударением, — ничем себя не связывая, и под строжайшим секретом.
— Очень хорошо. Сейчас же будет исполнено, — сказал Пьетри. — Государь, — продолжал он, подождав с минуту, — здесь Клиндворт, и желает вас видеть.
— Клиндворт? — Наполеон усмехнулся. — Без этой старой зловещей птицы не обойтись в бурное время! Что он говорит?
— Он прямо из Вены и хочет сообщить Вашему Величеству много интересного.
— Интересен он всегда, и очень часто у него бывают хорошие мысли. Введите его сюда немедленно!
Пьетри спустился с лестницы, и через несколько минут из‑под тяжелой портьеры показался Клиндворт.
Император и Клиндворт были одни. Клиндворт стоял в той же позе, в том же коричневом сюртуке и белом галстуке, как в кабинете императора Франца‑Иосифа. Опустив глаза, он ждал слова императора.
— Добро пожаловать, любезный Клиндворт, — сказал Наполеон со свойственной ему чарующей любезностью, — идите сюда и присядьте ко мне. Поболтаем об удивительных и бурных событиях, встревоживших весь мир.
Он опустился в кресло, а Клиндворт, окинув быстрым проницательным взглядом выражение физиономии императора, сел против него.
Наполеон открыл маленький этюи[88], с большою ловкостью свернул себе папиросу из турецкого табака и зажег о стоящую на столе свечу.
— Радуюсь видеть Ваше Величество таким бодрым и веселым в это тяжелое время, — начал Клиндворт. — Его Величество император Франц‑Иосиф будет очень рад узнать, что Ваше Величество в таком прекрасном здравии.
— Вы от императора Франца‑Иосифа? — спросил, настораживаясь, Наполеон.
— Вам известно, государь, — сказал Клиндворт, складывая руки на груди, — что я не посланник, поскольку не гожусь для репрезентаций. Я просто старый Клиндворт, имеющий счастье удостаиваться доверия и полагающий все свои дряхлые силы на водворение здравого смысла в дипломатическом мире, где творится так много нелепостей.
Император усмехнулся и пустил густой клуб дыма.
— И потому вы приехали поправить немножко нелепости, которые могли быть сделаны в Тюильри? — спросил он.
— Если Ваше Величество поведет речь о Тюильри, я умолкаю, но, если вы упомянете и Ке‑д’Орсе[89], я не скажу «нет»: там хороший совет не повредил бы!
Император засмеялся.
— Ну, какой же совет предложили бы вы Ке‑д’Орсе?
Клиндворт, быстро окинув взглядом императора, забарабанил пальцами левой руки о правую и сказал:
— Я напомнил бы министрам и дипломатам Вашего Величества старое изречение: Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat![90]
Император вдруг сделался серьезен, глаза его, блестящие и проницательные, взглянули из‑под покрывавшей их завесы век и с пылающим выражением уставились на Клиндворта, который сидел перед ним, не дрогнув ни одним мускулом.
Затем он откинулся в кресло, медленно выпустил клуб дыма и спросил спокойно:
— Вы думаете, стало быть, что дело так плохо? После того как император решился уступить Венецию, все его военные силы будут свободны и военное счастье может измениться.
— Не думаю, чтобы оно изменилось, государь, — сказал спокойно Клиндворт, — и, по моему убеждению, Вашему Величеству следует позаботиться, чтобы это поражение впоследствии было заглажено.
— Поражение? — спросил Наполеон, гордо выпрямляясь и покручивая усы.
— Государь, при Кениггреце Франция была разбита в такой же степени, как и Австрия.
Император промолчал.
— Неужели, Ваше Величество, вы полагаете, что для престижа Франции — императорской Франции — может быть полезно, когда без ее участия в самом сердце Европы перевернутся вверх дном все отношения, когда без согласия Франции рядом с нею вырастет громадная прусская военная держава? Европейские кабинеты научатся таким путем обделывать свои дела, не спрашиваясь Франции, и Ваше Величество лучше меня понимает, какое это произведет впечатление на французскую нацию.
Император задумался. Потом спросил серьезно и спокойно:
— А что собирается делать император Франц‑Иосиф и чего он от меня ждет?
Клиндворта нимало не смутил этот неожиданный прямой вопрос, придавший всему разговору совершенно иной тон.
— Император, — сказал он, — решился продолжать войну до последней крайности. Он надеется привлечением южной армии приобрести необходимые силы для возобновления действий, рассчитывает на Венгрию…
Наполеон слегка покачал головой.
— Он надеется, — продолжал Клиндворт, — что переговоры о перемирии дадут ему время, необходимое для отдыха, а что затем бескомпромиссность прусских требований сделает мир невозможным. Он ожидает, что тогда Ваше Величество двинется к Рейну, выручит Австрию и сбросит Пруссию с высоты, на которую ее возвела победа при Кениггреце.
Император помолчал с минуту.
— Нет ли в этом ряде ожиданий каких‑нибудь затруднений или препятствий? — спросил он, не поднимая глаз.
— Если Ваше Величество их видит, то, конечно, есть.
— А разве вы не видите их?
— Государь, мне приказано призвать Ваше Величество к скорому вмешательству с вооруженной рукой. А когда Ваше Величество соблаговолит дать мне ответ на это мое поручение, то я, если прикажите, выскажу свое мнение.
— Вы любите тонкости, — заметил император, улыбаясь, — ну хорошо, я буду говорить откровенно. Император может быть уверен, что для спокойствия и равновесия Европы я считаю необходимым иметь сильную Австрию и что я буду всем могуществом Франции препятствовать всякому изменению этого европейского положения Австрии, если возникнет такая необходимость. Но вместе с тем я думаю, что этот крайний момент еще не наступил и что, может быть, теперь скорее вредно, чем полезно превратить моим вооруженным вмешательством, для которого в настоящую минуту нет основания, немецкий вопрос в общеевропейский кризис.
Клиндворт внимательно слушал, сопровождая безмолвным кивком каждое из медленно произносимых слов императора.
— Вашему Величеству угодно выждать, — произнес он наконец, — и, быть может, сохранить за собой подольше свободу действий, но во всяком случае, не допускать территориальных ограничений Австрии?
Император слегка кивнул головой.
— Но это отнюдь не исключает возможности вмешательства в дела, — сказал он, — только в настоящую минуту более всего необходимо, чтобы Вена употребила все усилия изменить военное положение дел в пользу Австрии.
— Я вполне понимаю, — отвечал Клиндворт.
— Ну, а теперь, — продолжал император, бросая окурок в фарфоровую пепельницу и с большим тщанием принимаясь сооружать себе новую папиросу, — озвучьте мне ваше мнение!
— Мое мнение таково, что Ваше Величество совершенно право!
На лице Наполеона отразилось некоторое изумление.
— Ваше Величество совершенно право, — повторил Клиндворт, взглянув украдкой на императора, — во‑первых, потому, что выжидание дает вам возможность потребовать вознаграждений для Франции, — сказал он равнодушно и почти небрежно.
Веки императора почти совсем закрылись. Наполеон смял папиросу, закурил новую и выпустил густой клуб дыма.
— Во‑вторых, — продолжал Клиндворт, немного повышая голос, — Ваше Величество вдвойне право, воздерживаясь в настоящую минуту от резкого вмешательства, потому что оно принесло бы Франции и Австрии мало пользы.
Император напряженно вслушивался.
— Если Ваше Величество вступится теперь вооруженной рукой в немецкие дела, — продолжал Клиндворт, барабаня пальцами, — возможны два варианта. Или Пруссия образумится и ситуация останется по сути в прежнем положении, исключая преобладания Пруссии в советах союза и некоторых территориальных ее увеличений, но зато Пруссии будет дано в руки громадное нравственное оружие. Немцам будут без умолку твердить, что Франция помешала объединению Германии, что Австрия призвала на помощь национального врага, и так как теперь в Германии модно говорить, писать и петь все что хочешь. И поскольку все, что говорится, пишется и поется, сочиняют в Берлине, то Австрия в немецком общественном мнении будет совершенно уничтожена, и при первом случае, когда Франция будет, может быть, занята в другом направлении, Гогенцоллернам упадет в руки совершенно зрелый плод.
Император слегка покрутил усы и кивнул головой.
— Или, — продолжал Клиндворт, — и это самое вероятное, — ввиду известного характера руководящих лиц, Пруссия не образумится и примет борьбу, невзирая на ее гигантские размеры. Тогда я боюсь, что Бисмарку удастся возжечь национальную войну и двинуть объединенную Германию против Франции.
— Возможно ли это при настоящем настроении Германии? — усомнился Наполеон.
— Государь, — сказал Клиндворт, — когда текучая вода зимой не замерзает, в нее бросают железные полосы, и тотчас же образуется ледяная кора. Французский меч, брошенный в немецкое течение, произвел бы то же самое, что и те железные полосы: волны остановились бы и соединились бы в твердую массу.
— А Южная Германия?
— Она уже потеряла надежду на Австрию, — вздохнул Клиндворт, — и чувствует себя в руках Пруссии. Обещаниями и несколькими ласковыми или угрожающими словами не трудно будет перетянуть ее на ту или иную сторону. Я убежден, что она сама теперь ищет подходящего предлога. Наоборот, — продолжал Клиндворт, оживляясь, — если Пруссия достигнет теперь того, чего хочет, то есть прежде всего территориальных увеличений, полного присоединения Ганновера, Гессена и так далее, то тогда умеренно примененным давлением на Пруссию будет достигнута самостоятельность Южной Германии. Тогда результатом станет не единство германской нации — этот популярный идеал всех завсегдатаев пивных, а, напротив, раскол Германии, и ценой такого количества крови окажется только увеличение Пруссии. Нравственное негодование, к которому немцы так склонны, обратится против нее, и симпатии нации могут снова обратиться к Австрии.
— Возможно ли это? — спросил император.
— Конечно, особенно если Австрия проникнется иным духом и примется за разумную политику, пользуясь теми факторами, которые в наше время приобрели такое значение. К сожалению, с ними надо считаться, как с настоящими силами!
— То есть? — спросил Наполеон.
— Государь, — отвечал Клиндворт, — когда Пруссия увеличится аннексиями и приобретет главенство в Северной Германии, она превратится в суровый, ничем не стесняющийся военный лагерь, потому что германские племена нелегко ассимилировать, и ляжет железной рукой на Северную Германию, обращая ее вместе с тем постоянной угрозой против Южной. Тогда Австрия внутренне окрепнет и сделается защитой автономий, самостоятельности и свободы.
Наполеон усмехнулся:
— Свободы?
— Почему нет? — спросил Клиндворт. — Опаснейшие болезни излечивают применением сильнейших ядов.
— Кто же будет тем искусным врачом, чья рука сумеет дать больной Австрии этот яд в надлежащих дозах? Граф Менсдорф? Или Меттерних?
— Я, кажется, нашел такого врача, — ответил Клиндворт серьезно и не смущаясь.
Вошел камердинер.
— Полковник Фаве в прихожей, Ваше Величество!
Император встал.
— Одну минуту, — сказал он.
Клиндворт тоже встал и подошел ближе к императору.
— Этот врач, — сказал он тихо, — господин фон Бейст!
Император удивленно и озадаченно посмотрел на него.
— Фон Бейст? Протестант? Неужели вы думаете, что император…
— Думаю, — сказал Клиндворт, — впрочем, господин фон Бейст здесь, — он устремил на императора свои зоркие глаза тверже и продолжительнее, — Ваше Величество можете сами позондировать, основательно ли мое мнение.
Наполеон улыбнулся.
— Играя с вами, — сказал он, — надо выкладывать карты на стол. Подождите у Пьетри, я хотел бы еще с вами побеседовать после свидания с вашим врачом будущей Австрии.
Самодовольная улыбка показалась на широких губах Клиндворта, который с низким поклоном скрылся за портьерой.
Император позвонил.
— Полковника Фаве!
Полковник, худощавый человек среднего роста, с короткими черными волосами и маленькими усами, в черном сюртуке, полувоенный‑полупридворный по внешности, появился в дверях. Он подержал ее половинку для саксонского министра и, впустив его, немедленно удалился.
Господин Бейст был в сером, широко распахнутом пальто из легкой летней материи сверх черного фрака, с белой звездой Почетного легиона. Седоватые волосы его были тщательно подвиты, черные панталоны почти совсем закрывали поразительно маленькие ноги в красных сапожках, холеное, умное лицо его какого‑то прозрачного цвета, с выразительным ртом и оживленными, ясными глазами, было бледно и не скрашивалось обычной приветливой и чарующей улыбкой. Скорбная морщина залегла около губ, и сильная усталость выражалась на нервно подергивающемся лице.
Он подошел к императору с тем тонким и самоуверенным изяществом, которым отличаются придворные высшего общества, и молча поклонился.
Наполеон подошел к нему с любезной улыбкой и подал руку.
— Как ни прискорбен повод, — произнес он мягким голосом, — я все‑таки рад видеть у себя умнейшего и талантливейшего государственного человека Германии.
— Несчастнейшего, государь! — сказал печально фон Бейст.
— Несчастны только утратившие надежду, — отвечал император, садясь и приглашая сесть Бейста приветливым движением.
— Государь, я приехал, чтобы выслушать из уст Вашего Величества, могу ли я питать надежду и привезти ее моему государю?
Император покрутил усы кончиками пальцев.
— Скажите мне, как вы смотрите на положение дел в Германии, мне любопытно услышать ваше мнение — мнение мастера схватывать черты и излагать их образно, — попросил император с любезной улыбкой и легким наклоном головы.
Бледное лицо Бейста оживилось.
— Государь, — сообщил он, — я проиграл свою игру! Я надеялся создать новый федеративный строй в Германии, окончательно втиснуть в рамки прусское честолюбие и ввести Германский союз на новую, более отвечающую современным требованиям стезю свободного развития силы и авторитета. Но я заблуждался, я не принял в расчет немецкого разлада, бессилия Австрии. Игра проиграна, — повторил он со вздохом, — но, по крайней мере, Саксония сделала все, что от нее зависело, чтобы ее выиграть.
— Но разве игра не может повернуться счастливо? — спросил император.
— Не думаю, — сказал Бейст. — В Вене надеются на южную армию, на возобновление наступательной войны. Я ни во что это не верю. От удара, подобного кениггрецскому, государство нелегко оправляется, даже если его внутренняя жизнь не представляет такого застоя и такого разложения, как в Австрии. Пруссия — победитель и воспользуется правом победителя железной рукой, если ей не противопоставят могущественного вето!
Ясные глаза его пристально уставились на императора.
— И вы думаете, что это вето должен — и могу — произнести я? — спросил Наполеон.
— Государь, — отвечал фон Бейст, — я говорю с Вашим Величеством прежде всего как саксонский министр, как слуга несчастного государя, которому угрожает потеря наследства его дома, насколько оно у него еще сохранилось.
— Вы думаете, — вставил император, — что в прусской главной квартире в самом деле думают об удалении немецких государей?
— Присоединение Ганновера, Гессена и Саксонии уже решено, — уверил Бейст, и продолжил, слегка пожимав плечами: — В Берлине так много поставили на карту, что, естественно, хотят воспользоваться всеми преимуществами выигрыша в видах будущего. Однако Ганновер и Гессен разделяют прусскую монархию, Саксония, напротив, отделяет Пруссию от Австрии и препятствует непосредственным столкновениям. Главное же в том, что Ганновер и Гессен пошли своим собственным путем и относились к истинным интересам Германии с холодной пассивностью. Они, наконец, не вступили в союз с Австрией перед настоящей борьбой, и если их постигнет несчастье, они по большей части виноваты сами. Но сохранение Саксонии вопрос чести для Австрии и, — прибавил он, глядя императору в лицо, — может быть, также для Франции, для наследника могущества и славы Наполеона Первого.
Наполеон нагнул голову и медленно покручивал усы.
— Государь, — продолжал Бейст, и бледное лицо его вспыхнуло, а ясные, блестящие глаза неуклонно покоились на императоре, — когда могущество вашего великого дяди рухнуло под рукой судьбы при Лейпциге, когда от него отвернулись многие из тех, кого он поднял и возвеличил, саксонский король стоял рядом с ним, стоял верным другом и союзником в беде. И ему пришлось тяжело поплатиться за эту верность: почти половиной своих владений. Император никогда этого не забывал и еще на Святой Елене вспоминал о своем благородном союзнике с волнением и скорбью.
Император опускал голову все ниже и ниже. Бейст продолжал, все более и более повышая голос:
— Теперь, Ваше Величество, наследнику государя, верно стоявшего возле вашего дяди в его несчастии, угрожает опасность потерять остатки того, что ему осталось из прежних владений его предков, — королю Иоанну, бывшему всегда искренним другом Вашего Величества, угрожает опасность быть изгнанным из наследия отцов, и — не он, государь, но я, его слуга, не стесненный, подобно ему, высшими соображениями царственной деликатности, спрашиваю у Вашего Величества: потерпит ли преемник могущества, славы и имени великого титана, чтобы сын его верного и последнего друга, друга в нужде и опасности, был лишен престола и изгнан из своего государства?
Бейст замолчал и, сдерживая дыхание, с напряженным вниманием ждал ответа.
Наполеон поднял голову. Веки его были открыты. Большие зрачки лучезарно светились, своеобразное выражение гордости и величия лежало на его челе, мягкая, печальная улыбка играла на губах.
— Друзья моего дяди, — начал он мягким, гармоничным голосом, — мои друзья до третьего и четвертого поколения, и никакой государь не раскается в том, что стоял возле несчастного императора, пока меч Франции в моих руках! Вы спасли Саксонию, — продолжал он, приветливо улыбаясь. — Скажите королю, вашему повелителю, что он вернется в свою столицу и в свое королевство. Даю мое императорское слово!
И жестом, в котором соединялись величие и достоинство государя с изящной вежливостью светского человека, он подал Бейсту руку.
Тот схватил ее почтительно, быстро поднявшись с места, и промолвил взволнованным голосом:
— Если б в эту минуту дух великого императора мог взглянуть на землю, он приветливо улыбнулся бы Вашему Величеству! Вы доказываете, что его дружба до сих пор много значит на весах судеб Европы!
Наступила короткая пауза. Император задумчиво смотрел вдаль. Бейст снова сел и ждал.
— Вы, стало быть, того мнения, — сказал наконец император, — что Австрия не оправиться от этого удара?
— Я настойчиво убеждал в Вене, — отвечал фон Бейст, вздыхая, — сделать все возможное, употребить крайние усилия, но едва ли это увенчается успехом. Австрийская государственная машина заржавела, и только разве гений мог бы заставить ее двигаться. Но гения там нет, да ему, — прибавил он печально, — и не откуда теперь взяться на родине Кауница и Меттерниха.
— В таком случае, надо его поискать на стороне, — вставил император.
Глаза саксонского министра устремились с удивлением и недоумением на совершенно успокоившееся, но исполненное решимости лицо Наполеона.
— Неужели вы думаете, — продолжал тот, — что Австрию нельзя было бы воскресить, если бы нашелся гений, которого там недостает?
— Конечно, можно! — откликнулся живо Бейст. — В Австрии кроются громадные внутренние силы, недостает только нерва, который бы придал этой силе движение!
— Вы в вашей политической жизни так о многом думали, и с таким успехом, — император любезно улыбнулся и слегка наклонил голову, — неужели вы не думали и о том, как можно было бы двинуть эту дремлющую силу, чем ее можно оживить?
Светлый, неожиданный луч сверкнул из глаз Бейста.
— Государь, — сказал он с воодушевлением, — первая и главная причина слабости Австрии лежит в том, что ее связывают собственные силы, что одна часть этой монархии должна охранять и держать под шахом другую. Венгрия с ее громадной военной силой, с ее богатой, неистощимой производительностью лежит мертвым капиталом, и вместо того чтобы ее оживлять, ею пользоваться, Вена, напротив, сдерживает и подавляет всякое жизненное проявление этой страны. В этом кризисе, например, одна Венгрия могла бы спасти все утраченное, но и теперь не решаются произнести воскресающего слова, потому что это слово называется свободой, национальной самостоятельностью. При этом слове трепещут пыльные, заплесневелые архивы государственной канцелярии, и еще больше трепещут пыльные, заплесневелые люди! В сердце монархии, в самой Австрии коснеющая бюрократия со страхом давит всякое жизненное проявление народа, а где народ не думает, не чувствует, не участвует в государственной жизни, там он не способен ни на какую жертву, ни на какой сильный, героический порыв для поддержки и спасения своего государства. О, — продолжал он, — если б Австрия могла воскреснуть к новой жизни, если бы ее богатые силы могли развиться и закалиться, тогда все было бы спасено, все было бы приобретено для Австрии — и для Германии. Когда Австрия встанет в нравственном отношении на свое место в Германии, когда она пойдет впереди умственного прогресса и когда прогресс разовьет в ней новые материальные силы, тогда наступит день блестящего возмездия за нынешнее поражение. Формула для достижения этого проста. Это — свобода и самостоятельность для Венгрии, свобода и общественная жизнь для всей монархии, реформа управления и реформа армии! Но для применения и проведения этой формулы требуются, — прибавил он с печальной улыбкой и легким поклоном, — ум и воля Вашего Величества!
— Вы льстите, — император улыбнулся и слегка поднял палец, — в эту минуту я учусь. Вы, вероятно, не останетесь саксонским министром? — спросил он вдруг.
— Я не оставлю своего короля в этом кризисе, — сказал Бейст. — И затем, я думаю, самое лучшее для несчастного государственного человека — сойти со сцены.
— Или, — добавил император, — попробовать свои силы на более широком поприще, развернув силы, которым не хватало простора в узкой колее.
Он встал.
Бейст тоже встал и взялся за шляпу.
— Надеюсь, — сказал император, — что ваши воззрения на возрождение Австрии серьезно воплотятся в жизнь. Во всяком случае, прошу вас всегда помнить, что вы имеете здесь друга и что интересы Франции и Австрии солидарны: обе нации должны стремиться к тому, чтобы гарантировать немецкой нации свободное развитие истинно народной жизни. Передайте королю мой привет и просите его положиться на мое слово.
Бейст с живым волнением схватил руку, протянутую ему императором.
— Благодарю, государь, искренно благодарю! — воскликнул он. — И куда бы ни привело меня будущее, я этого часа никогда не забуду!
И, низко поклонившись, он вышел из кабинета.
Император позвал Пьетри.
— Клиндворт здесь? — спросил он.
— Здесь, государь.
— Прошу его прийти!
Клиндворт явился.
— Вы правы, — сказал император, — врач для спасения больной Австрии найден!
Клиндворт поклонился.
— Я знал, — сказал он, — что Ваше Величество со мной согласится!
— Постарайтесь вручить ему лечение больного и можете рассчитывать на полную мою поддержку!
Наполеон замолчал и задумался.
— И скажите императору, — сказал он погодя, — что я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать ему по возможности существенную помощь, но главное усилие для своего восстановления должна все‑таки сделать сама Австрия.
— Понимаю, государь.
— И дайте мне возможность быть au fait[91] Бейста.
Клиндворт поклонился.
— Итак, я могу уехать? — спросил он.
— Вы должны приняться за дело, — ответил император, — потому что ваша задача нелегка. До свидания! — И он приветливо поклонился ему.
Клиндворт исчез за портьерой.
— Карты все больше и больше перемешиваются, — сказал император, опускаясь в кресло, — и теперь вопрос только в том, кто крепче держит их в руках и зорче следит за игрой. Игра усложняется: открываются широкие перспективы для будущего. Если Австрия в самом деле сможет воскреснуть к новой жизни, Италия сдавлена с двух сторон, союз готов. Венгрия, Польша угрожают России…
Глаза его вспыхнули.
— Ну, — сказал он, тихо усмехаясь, — подождем, в выжидании вся моя сила. А теперь надо что‑нибудь сделать для Саксонии.
Император встал и позвал Пьетри.
— Ступайте к Друэну де Люису, — распорядился он, — и попросите его прибавить к инструкции для Бенедетти серьезно и решительно не допускать присоединения Саксонии к Пруссии.
— Слушаю, государь.
— И не знаете ли вы, где в настоящую минуту генерал Тюрр?
— Кажется, в итальянской армии, но я сию минуту уточню.
— Напишите ему… нет — пошлите к нему доверенное лицо и попросите от моего имени как можно скорее приехать сюда.
Пьетри поклонился.
— Через него, — сказал император вполголоса, как бы про себя, — у меня рука отчасти в Турине и отчасти в Пеште, — это может быть очень важно!
— Ваше Величество ничего больше не изволит приказать? — спросил Пьетри.
— Нет, благодарю, — сказал император, и секретарь ушел.
Наполеон свернул себе еще папиросу, уютно уселся в кресле и, пуская густые клубы дыма, погрузился в размышления.
Глава девятнадцатая
В древнем замке князя Дидрихштейна, в Никольсбурге, расположилась главная квартира прусского короля. Блестящая и пестрая картина развернулась в маленьком городке, который в своем тихом и скромном уединении никогда, кажется, не мечтал сделаться центром таких великих, мировых событий. Перед замком стоял под ружьем королевский караул, войска, расположенные на постое в городке, передвигались разнообразными группами по улицам. Их пересекали порой стройно марширующие колонны, по неровной мостовой гремела артиллерия, из окрестностей несся многоголосый шум биваков, и кругом кипели жизнь и движение. Жители робко выглядывали из дверей своих домов и настежь раскрытых окон: все они смертельно боялись неприятеля, но к этому страху начинало примешиваться доверие. Сплошь и рядом прусские солдаты в затасканных мундирах, обросшие громадными бородами, подходили приветливо к группам поселян, сбегавшихся сюда из погоревших и разоренных войной деревень, и предлагали хлеб и вино застенчиво отворачивавшимся детям или старикам.
Картина войны была тут в полном блеске, во всем своем ошеломляющем величии, наполняющем воспоминаниями долгие, тихие годы мира, во всем своем ужасе момента, страшным разгромом разрушающего счастье многих лет, во всем своем могучем потрясении человеческой природы, разнуздавшей все свои дикие инстинкты, но вместе с тем богато проявляющей благороднейшие и чистейшие примеры преданности и самоотвержения.
Как только неоднократно проявлявшаяся приветливость солдат вызвала доверие жителей, оно все более и более вырастало под впечатлением переходивших из уст в уста известий о мирных переговорах. Между генералами и адъютантами, в постоянной поспешности и озабоченности входившими и выходившими из замка, виднелись иногда и дипломаты в скромной штатской одежде. Все знали, что приехал французский посол и после короткого пребывания уехал в Вену. Было заключено предварительное, короткое перемирие на пять дней, и в воздухе повеяло миром, никем так горячо не желаемым и так искренно не призываемым, как несчастными жителями тех местностей, которые служили театром кровавой военной драмы.
Посреди всего этого шума, гула голосов, сигналов и барабанного боя сидел в просторной комнате своей квартиры граф Бисмарк.
В середине этой комнаты стоял большой стол, покрытый темно‑зеленым сукном и заваленный грудами писем и бумаг. На полу в пестром беспорядке валялись вскрытые и развернутые конверты. Посреди стола была развернута большая карта местности, и перед ней сидел министр‑президент на простом камышовом стуле. На маленьком столике рядом стояла бутылка с светло‑желтым богемским пивом и большой стакан. В открытое окно врывался свежий воздух.
Министр был в майорском мундире своего кирасирского полка, по‑домашнему расстегнутом, в высоких сапогах и при палаше[92].
Напротив него сидел советник посольства Кейделль в мундире конного ландвера, занимаясь просмотром поступивших писем.
— Бенедетти долго нет, — сказал министр, глядя на карту, над которой он долго сидел в задумчивости. — Кажется, что в Вене питают еще большие надежды или, быть может, хотят сыграть двойную игру. Ну, долго нас здесь не удержат! — резюмировал он, допив свой стакан залпом. — Потому что лежать здесь на боку — значит ухудшать наше положение. Как медленно ни двигается южная армия, она все‑таки идет вперед, а холера сильно к нам подбирается. Жаль, что король со свойственным ему мягкосердечием отказался от вступления в Вену: нас ничто не удерживало и австрийская игра в жмурки волей‑неволей прекратилась бы в их собственной столице. Но, однако, если они еще долго не согласятся на наши условия, то, по всей вероятности, терпению нашего всемилостивейшего государя наступит конец! Есть ли письма из Петербурга? — спросил он у Кейделля.
— Только что распечатал отчет графа Редерна.
— Дайте сюда! — потребовал с живостью Бисмарк и торопливо схватил протянутую ему советником бумагу.
Он внимательно прочел ее, и в комнате водворилась глубокая тишина, в которой можно было расслышать дыхание обоих присутствовавших, странно противоречившая с шумом, долетавшим извне.
Граф бросил бумагу на стол.
— Это правда, — проговорил он, — поднимается туча, которая может составить для нас весьма прискорбное затруднение. Предпримут ли там что‑нибудь? — сказал он вполголоса. — Перейдет ли неудовольствие в дело? Не думаю, но во всяком случае это очень неприятно: если Австрия найдет поддержку, то снова пойдут в ход рычаги. Впрочем, — продолжал он, — для Австрии в Петербурге ничего не сделают. Но необходимые перемены в Германии и это французское посредничество с его задними мыслями — положение и без того достаточно затруднительное, и, может быть, так же трудно будет разорвать эту паутину дипломатических нитей, которой нас хотят опутать, как было трудно прорвать австрийские линии. Во всяком случае, эту русскую тучу надо рассеять в настоящую минуту и в будущем! Потому что в будущем предстоит еще многое сделать! — прибавил он в раздумье.
Он встал и прошелся большими шагами по комнате, погруженный в размышления и шевеля губами. Бурные, стремительные мысли отражались на подвижных чертах его лица.
Наконец сила воли внесла ясный порядок и спокойствие в его мысли; он вздохнул свободнее, подошел к окну и вдыхал свежий воздух с такой жадностью, что широкая, сильная грудь высоко поднималась.
Вошел секретарь иностранного министерства.
Граф обернулся к нему.
— Приехал баварский министр фон дер Пфортен и желает видеть ваше сиятельство. Вот его письмо.
Граф Бисмарк взял небольшую запечатанную записку, распечатал ее и пробежал содержание.
— Все нахлынули, — констатировал он с гордой усмешкой, — все охотники, уже поделившие между собой шкуру медведя и только теперь почувствовавшие его когти! Но так скоро не добиться им своего. Скажите министру фон дер Пфортену, что вы мне передали его письмо и что я пришлю мой ответ.
Секретарь ушел.
Через несколько минут он вернулся и доложил:
— Французский посол!
— А! — многозначительно произнес граф Бисмарк.
Кейделль встал.
— Потрудитесь сходить к фон дер Пфортену, любезный Кейделль, и скажите ему, что я не мог бы его принять в качестве баварского министра, так как мы еще в разгаре войны с Баварией, но частное свидание с ним, без всяких последствий, я готов устроить, и вскоре выберу для него час.
Кейделль поклонился и вышел.
В следующую минуту секретарь по знаку Бисмарка отворил дверь французскому послу.
Выражение лица графа Бисмарка совершенно изменилось: на черты его легли холодное спокойствие и вежливая приветливость. Он учтиво пошел навстречу представителю императора Наполеона и подал ему руку.
Бенедетти своей внешностью составлял поразительную противоположность рослой фигуре и твердой, солдатской выправке прусского министра. Ему было лет пятьдесят; скудные волосы оставляли лоб широко и высоко открытым и покрывали только верхнюю часть головы. Безбородое, гладкое лицо принадлежало к физиономиям, по которым трудно определить возраст человека и которые в молодости кажутся старше, а в старости моложе. Трудно было бы сказать, какой характер, какие особенности выражались в его чертах: в них не читалось ровно ничего, кроме интеллигентной податливости на всякие впечатления. Что могло скрываться за этой спокойной, ровной, приветливой внешностью, трудно было угадать. Глаза были открыты и смелы, по‑видимому, беззаботны и равнодушны, и только необычайно быстрый и острый взгляд, которым он иногда охватывал все окружающие предметы разом, мог заставить предполагать, что им двигал живой интерес. Лицо ничего не говорило, ничего не выражало, и все‑таки чувствовалось, что за этой кажущейся невыразительностью прячется нечто, имеющие причины и способность тщательно скрываться.
Стройная, среднего роста фигура выделялась прямой осанкой, жесты были оживленны, как у всех итальянцев, эластичны и льстивы, как у левантинцев; легкий, летний костюм чрезвычайно прост, но, несмотря на только что проделанную дорогу, безукоризненно чист.
— Я ждал вас с нетерпением, — сказал Бисмарк, устремив на спокойное лицо посланника свой острый и проницательный взгляд. — Что вы нашли в Вене — привезли ли мир?
— По крайней мере, начало к нему: я привез принятие предложенной императором программы мирных переговоров.
— Ага, стало быть, в Вене решили вопрос?
— Я выдержал тяжелую борьбу, — сказал Бенедетти. — Нелегко было добиться согласия Австрии.
Граф Бисмарк пожал плечами.
— На что же там еще надеются? — вырвалось у него. — Хотят, что ли, дождаться нас в Вене?
— Надеются на вступление южной армии в действие, на серьезную военную помощь Венгрии, — ответил посланник.
— Может быть, еще на нового Яна Собесского? — спросил граф Бисмарк с легкой улыбкой.
— И в самом деле, я должен сознаться, — продолжал спокойно Бенедетти, — что не был в состоянии напрочь отказать этим надеждам одобрении.
Граф Бисмарк посмотрел на него удивленно и вопросительно.
— Почти две трети южной армии, — продолжал Бенедетти, — стоит в окрестностях Вены, Пратер — бивак, а флоридсдорфский лагерь представляет твердую позицию. Войска южной армии полны победоносной самоуверенности и воодушевлены как нельзя лучше. Эрцгерцог Альбрехт — генерал решительный, а начальник его генерального штаба, фельдмаршал фон Ион — офицер с тонким умом.
Граф Бисмарк спокойно слушал. Тонкая, чуть заметная усмешка играла на его губах.
— А Венгрия? — бросил он небрежным тоном.
— С графом Андраши и партией Деака вступили в переговоры, и если дадут автономию и допустят вооружение гонведов[93], надо ожидать громадного движения в Венгрии.
— Если дадут, — повторил Бисмарк. — Венгрию часто обманывали… Впрочем, — продолжал он, — наши войска стоят под Пресбургом, который не обложили только вследствие наступившего перемирия: ключи к Венгрии в наших руках.
— В Вене убеждены, — продолжал Бенедетти, — что прусская армия сильно потрясена тяжелым сражением и страдает болезнями…
— Она гораздо больше страдает от праздного лежания на боку! — сказал с живостью граф Бисмарк.
— По всем этим причинам, — продолжал посол невозмутимо, — нелегко было добиться согласия на мирную программу моего государя. Император Франц‑Иосиф очень долго не решался допустить исключение Австрии из Германии. Однако уступил настойчивым представлениям, которые я ему сделал именем императора и о которых ему писал сам государь. Для того чтобы не подвергать Австрию новым случайностям и тягостям войны, чтобы не нарушать дольше европейского спокойствия, Франц‑Иосиф согласился принять программу.
Граф Бисмарк кусал усы.
— И в чем же состоит эта программа, в конце концов принятая Австрией? — спросил он. Он пригласил посла сесть и сам уселся против него.
— Почти ничего не поменялось, — отвечал Бенедетти. — Сохранение целости Австрии, но исключение ее из вновь переорганизованной Германии; образование северогерманского союза под военным управлением Пруссии; признание за южногерманскими государствами права образовать независимый союз, но сохранение национального союза между Северной и Южной Германиями, обусловленного свободным взаимным соглашением германских государств.
Граф Бисмарк сопровождал легким кивком каждую фразу этой программы, медленно и отчетливо высказываемой посланником, причем слегка постукивал кончиками пальцев одной руки о кончики пальцев другой.
— Так, это именно то, чего мы в настоящую минуту желали для выяснения положения Пруссии и Австрии в Германии, — сказал он. — Основания переговоров, если уже Австрия на них согласна, и окончательного мира выяснятся при дальнейшем соглашении. Мир с Австрией не касается и не должен касаться наших распоряжений относительно остальных государств Германии, с которыми мы в войне.
— Австрия предоставляет каждому из этих государств самому для себя заключать мир, — сказал Бенедетти.
— Заключать мир! — вскричал граф Бисмарк. — Да для этих корольков очень удобно было бы заключить теперь мир, чтобы при первом подходящем случае возобновить старую игру.
Немного помолчав, министр продолжал спокойнее:
— Несколько дней тому назад король сообщил вашему императору по телеграфу, что необходимо решительное усиление Пруссии путем территориального ее увеличения. Вы жили между нами, — продолжал он, — вы хорошо знаете, чем Пруссия рискнула для этой войны, знаете жертву, которую мы принесли, и раны, которые война причинила стране. Прусский народ ожидает, требует плодов этой жертвы, после того как победа оказалась на нашей стороне. Он требует, и совершенно основательно, чтобы кровь прусских солдат, сынов народа, не была пролита напрасно, чтобы окончательно и навсегда было устранено положение, которое естественно привело к настоящей борьбе и могло бы привести к возобновлению ее в будущем. Тяжелые преграды, приготовленные Пруссии ее географическим положением, ее сдавлением в нелепые, неестественные и политически возмутительные границы, должны быть устранены навсегда. Если Пруссии суждено занять положение, на которое она имеет право, и если она хочет твердо, всецело исполнить свое назначение, то должна прежде всего сама по себе окрепнуть и правильно округлиться. Для этого, во‑первых, необходимо присоединение Ганновера, Гессена и Саксонии, чтобы сплотить обе половинки монархии и обеспечить нам военную безопасность от Австрии.
Ни одна черта на плоском лице посланника не изменилась.
— Я нахожу весьма естественным, что прусский народ, выставивший на поле битвы все свои силы, желал бы собрать наибольшее количество плодов войны, — сказал он, заметно оттенив слова «все свои силы». — Но, с другой стороны, надо принять в соображение желания народов и правительств враждебного лагеря. Они, — продолжал он, слегка понизив тон, — так же, как я сам, убеждены, что каждое время имеет свои особые политические принципы и соображения. Сегодня они совершенно иные, чем те, например, какими были во времена Фридриха Великого: тогда считали возможным и прекрасным сохранять за собой все, что попадало в руки. Солидарность интересов и договоров была тогда не так реальна, как теперь.
Между бровями графа Бисмарка показалась складка.
— Ну, — произнес он более спокойным голосом и с легкой усмешкой, — я думаю, что Фридриху Великому не так‑то легко было сохранить то, что он взял. Эта политическая замашка была применена в больших размерах в начале нынешнего столетия Наполеоном Первым.
— Да, это была ошибка основателя нашей императорской династии, — согласился Бенедетти. — Ошибка, поднявшая против него в конце концов всю Европу — я могу высказать это прямо ввиду мудрой сдержанности, которой всегда отличался мой государь во главе своих победоносных войск, и ввиду его стараний избегнуть промахов своего великого дяди.
Граф Бисмарк пробыл несколько мгновений в задумчивости и молчании.
— Вы знаете, — заговорил он наконец с некоторой откровенностью, — как я высоко ценил добрые отношения с Францией, — императору это тоже известно, — и особенно в эту минуту я отнюдь не хочу, чтобы меня заподозрили в небрежении к желаниям и интересам Франции, в нежелании выслушать ее добрый совет. Дружеские отношения Пруссии, Германии с Францией, согласование обоюдных политических потребностей и необходимостей, мирные и добрососедские международные сношения между обеими странами, по моему мнению, это первое условие для равновесия и спокойствия Европы. Давайте же спокойно и откровенно обсуждать положение дел. Я могу вам только повторить, — он пристально поглядел на посла, — что решительное увеличение Пруссии вышеупомянутыми областями кажется мне безусловной необходимостью. Думаете ли вы, что император будет серьезно против этих присоединений, с точки зрения интересов Франции?
Бенедетти не сразу ответил на этот прямой вопрос.
— Император признавал и раньше, — заговорил он наконец, — что установление связи между двумя частями прусской монархии для вас необходимо, и, по моему убеждению, теперь он менее чем когда‑либо склонен отрицать эту необходимость. Требуется ли для этого полная аннексия германских государств, все‑таки стоящих под гарантией европейского народного права, — насчет этого мнения могут быть различны; но я не думаю, чтобы император питал намерение становиться против выполнения ваших видов, даже если он их не разделяет.
Граф Бисмарк одобрительно кивнул головой.
— Что же касается Саксонии… — продолжал Бенедетти.
Прусский министр взглянул на него вопросительно и нетерпеливо.
— …я нашел в Австрии твердую решимость безусловно сохранить ее территориальную целость: на это там смотрят как на долг чести относительно союзника, дравшегося на одних полях с Австрией.
Граф Бисмарк прикусил губу.
— Я думаю, — продолжал Бенедетти, — что император Франц‑Иосиф скорее решился бы на крайние шансы продолжения войны, чем на отступление от этого условия.
Граф Бисмарк помолчал с минуту.
— А что Франция? Как относится император Наполеон к этому условию… Австрии? — спросил он, пристально глядя на посла с легкой усмешкой.
— Я считаю себя вправе предполагать, — ответил Бенедетти, — что император серьезно сочувствует этим австрийским желаниям относительно Саксонии.
— Серьезно? — спросил Бисмарк.
— Серьезно, — повторил спокойно посол.
— Хорошо! — согласился Бисмарк. — Присоединение Саксонии не составляет для нас крайней необходимости. Я передам королю желания императора Наполеона — и Австрии — относительно Саксонии. Разумеется, Саксония будет присоединена к северному немецкому союзу.
— Это уже внутренний вопрос новой организации Германии, — сказал Бенедетти, слегка кланяясь, — в который император вовсе не имеет намерения вмешиваться.
— Вот, стало быть, программа, принятая как окончательный базис для мира. С той добавкой, что все перемены, которые состоятся в Северной Германии в территориальном отношении, будут одобрены и приняты Австрией. Речь о присоединении Ганновера, Кур‑Гессена, Нассау и Франкфурта…
Спокойное лицо посланника обнаружило легкое изумление.
— Я что‑то не помню, чтобы мы говорили о Нассау и Франкфурте, — вставил он.
— Это необходимо для окончательного закругления, то есть после того, как мы вынуждены отказаться от Саксонии… — сказал граф Бисмарк.
Бенедетти молчал.
— Стало быть, на этом базисе могут быть начаты мирные переговоры? — спросил прусский министр, устремляя испытующий взгляд на посланника.
— Я не вижу никаких затруднений дальше, — ответил Бенедетти, — и, — прибавил он без всякого особенного ударения, — не сомневаюсь, что соглашение взаимных интересов новой Германии и Франции состоится без всяких усилий ввиду умеренности и уступчивости, обнаруженных императором, и которыми постоянно были одушевлены и вы, и ваше правительство.
Взгляд графа Бисмарка глубоко и проницательно заглянул в совершенно равнодушные глаза французского посланника. Он, казалось, заботливо взвешивал каждое из произнесенных им слов.
— Почему вы полагаете, что эти взаимные интересы могут быть затронуты новыми отношениями, и каким образом может быть установлено соглашение?
Бенедетти откинулся на спинку своего кресла и сказал:
— Я думаю, вы признаете готовность, с которой император Наполеон принял присоединение немецких государств к Пруссии, хотя, как я уже говорил, оно не согласуется с его воззрениями и может возбудить сильное неудовольствие других европейских кабинетов.
— Какое же государство скажет что‑нибудь против, — вскричал Бисмарк, — когда Франция за нас?
— Может быть, Англия вступится за Ганновер?
Граф Бисмарк пожал плечами.
— Может быть, Россия. Допустит ли император Александр, при своих воззрениях на законность и монархическое право государей, упразднение династий?
Граф Бисмарк молчал.
— Но… это только мимоходом, — заметил Бенедетти. — Во всяком случае, мне кажется, что вам существенно необходимо действовать в полнейшем согласии с Францией, и я думаю, что на предупредительность императора Наполеона относительно вас вы ответите не меньшей готовностью признать необходимость некоторых территориальных изменений взаимных границ для упрочения равновесия и взаимного согласия.
Легкое облако, показавшееся на лбу графа Бисмарка при первых словах посланника, быстро исчезло, лицо его приняло выражение равнодушного спокойствия, и он спросил с приветливой вежливостью:
— И вы можете сообщить мне воззрения императора на эти территориальные изменения?
— Мое воззрение, — отвечал с ударением Бенедетти, — таково, что Франция вправе требовать некоторых вознаграждений взамен снисходительности, которую она обнаружила к серьезным переменам в Германии. Вы не станете отрицать, что границы, в которые Франция была поставлена в тысяча восемьсот пятнадцатом году, не отвечают ни естественным, ни военным ее условиям, и что изменение границ, навязанных в тысяча восемьсот четырнадцатом году победоносной Европой изнуренной Франции, конечно, составляет скромное и справедливое требование в настоящую минуту.
Граф Бисмарк молчал, но улыбающееся, предупредительное выражение не исчезло с его лица.
— И вы найдете естественным, — продолжал Бенедетти, — что императору угодно в исправленные границы Франции включить Люксембург, принадлежащий нам по естественному положению, языку и необходимый для нас в военном отношении, при столь значительно усилившемся могуществе Германии, угрожающем рейнским укреплениям… Извините! — продолжал он, улыбаясь. — Надо обо всем подумать! Могут наступить времена, когда в Париже и Берлине не будет правительств, которые бы так дорожили миром и так высоко ценили взаимную дружбу. Соглашение на этот счет не должно быть затруднительным. Разумеется, что голландскому королю, и без того не придающему большого значения этому слабо привязанному владению, будет предложено достойное вознаграждение.
Граф Бисмарк продолжал молчать, слушать и приветливо улыбаться.
— Наконец… — сказал Бенедетти.
Граф Бисмарк вопросительно поднял голову.
— Наконец, ключом к оборонительной позиции Франции — я все говорю о временах возможного разлада, который, конечно, весьма далек от действительности, — должен быть Майнц…
Из глаз Бисмарка сверкнула молния.
Он быстро поднялся и, тяжело дыша, выпрямился во всю высоту своего богатырского роста. Посланник медленно последовал его примеру.
— Я скорее сойду с политической сцены, — почти закричал прусский министр, — чем соглашусь подписать уступку Майнца!
И он быстро зашагал по комнате.
Посланник стоял неподвижно. Светлые, спокойные глаза его внимательно следили за оживленными движениями графа.
— Если мои воззрения, — произнес он обыденным тоном, — не сходятся с вашими, то…
Граф Бисмарк отвернулся к окну и крепко сжал губы в сильном напряжении воли.
— То мы, вероятно, при более близком их рассмотрении скорее сойдемся, — заключил он вдруг, обращаясь к посланнику и закончив начатую им фразу.
Лицо его оказалось по‑прежнему вежливым и приветливым.
— Но теперь не время приступать к этому рассмотрению, — продолжал он. — Вам поручено высказанные вами желания формулировать от имени императора и потребовать на них ответа, или поставить их в какую‑либо связь с мирными переговорами с Австрией?
— Я имел честь, — ответил Бенедетти, — уже в самом начале нашего разговора об этом предмете заметить, что высказываю свои воззрения. Мне ничего не поручено требовать или просить определенного ответа и тем менее устанавливать связь между этой беседой и австрийскими мирными переговорами.
— Стало быть, вы согласны продолжить эту беседу тогда, — констатировал Бисмарк, — когда будет покончено лежащее ближе и подписан мир с Австрией? Вы понимаете, что для продолжения этой беседы необходимо глубокое, спокойное обсуждение, чтобы совершенно объективно взвесить взаимные интересы, и затем, — продолжал он, улыбаясь, — трудно рассуждать о вознаграждениях, прежде чем будут в наших руках предметы, образующие эквивалент вознаграждений. Я, впрочем, не сомневаюсь, что мы придем к взаимному соглашению, когда примемся за это и когда у вас будут определенные инструкции. Вы знаете, как мне сильно хочется не только сохранить отношения к Франции в форме существующей дружбы, но упрочить их так крепко и надежно, чтобы связь между Францией и Германией послужила залогом европейского мира. Итак, все, что в настоящую минуту подлежало решению, решено? — спросил он после небольшой паузы.
— Решено, — отвечал Бенедетти.
— Австрийские уполномоченные?
— Прибудут завтра или послезавтра. А мне хотелось бы отдохнуть с дороги. — И он взялся за шляпу.
Граф пожал ему руку и проводил его до дверей.
Как только дверь за посланником затворилась, выражение лица графа совершенно изменилось. Приветливая улыбка исчезла, глаза сверкнули гневом.
— Хорошую сделку они задумали, эти ловкие игроки! — вскричал он. — Но они ошибутся в расчетах. Германия не станет, подобно Италии, оплачивать собственной плотью и кровью шаги к своему объединению. По крайней мере, пока я имею влияние на судьбы нации. Пускай их подвигаются к Рейну, если нельзя иначе, а уж я, конечно, не отступлю! Единственная уступка, на которую я могу согласиться, это идти вперед не спеша. Я был бы не прочь помериться с ними силами, не прочь сказать еще раз: вот что я сделал! И на этот раз и король не стал бы колебаться и ждать. Однако, — продолжал он спокойнее, — многое достигнуто и достигнутое не следует безумно ставить на карту. Они воображают, что игра у них в руках? Ну, а я, с своей стороны, немножко перетасую карты…
Он позвонил. Вошел дежурный.
— Отыщите господина Кейделля и попросите его привести ко мне господина фон дер Пфортена!
Дежурный ушел.
Бисмарк подсел к развернутой на столе карте и стал внимательно на нее смотреть, то проводя по ней пальцами правой руки, то тихо шевеля губами, то задумчиво устремляя глаза в потолок.
Через четверть часа в кабинет вошли Кейделль и фон дер Пфортен.
Полная и рослая фигура этого государственного человека была согбена и обнаруживала следы большой физической усталости. Длинное, округлое и пухлое лицо, обрамленное темными, плоскими волосами, было бледно и измученно, глаза смотрели тускло сквозь стекла очков.
Граф Бисмарк высоко выпрямился — выражение ледяной холодности лежало на его чертах. С военной чопорностью и строго официальной вежливостью он сделал шаг навстречу баварскому министру и отвечал на его поклон. Затем таким же холодным и вежливым жестом пригласил его сесть на то самое кресло, в котором только что сидел Бенедетти, а сам расположился напротив, ожидая когда гость заговорит.
— Я приехал, — начал фон дер Пфортен слегка взволнованным голосом с южнонемецким акцентом, — во избежание дальнейшего кровопролития. Поход, в сущности, окончен — в вашу пользу, и Бавария не должна медлить завершить войну, которую ей, — прибавил он тише, — может быть, лучше было вовсе не затевать!
Граф Бисмарк строго посмотрел на него своими светлыми, суровыми глазами.
— Знаете ли вы, что я имею полное право отнестись к вам как к военнопленному? — спросил он.
Фон дер Пфортен вздрогнул. Он на минуту лишился языка и с глубоким изумлением уставился на прусского министра.
— Бавария в войне с Пруссией, отношения прерваны, — сказал Бисмарк, — баварский министр может быть в прусской главной квартире только в качестве пленного, ведь единственный путь международных сношений происходит через парламентеров.
Фон дер Пфортен печально повесил голову.
— Я в вашей власти, — проговорил он спокойно, — и само это доказывает, как сильно я желаю мира. Что выиграли бы вы, задержав меня?
Бисмарк помолчал.
— Удивляюсь вашей смелости, — сказал он немного погодя. — В самом деле вам, должно быть, очень хочется мира!
Фон дер Пфортен слегка тряхнул головой.
— Боюсь, — заявил он, — что мой шаг будет напрасен.
— Добрый шаг никогда не напрасен, если даже он сделан поздно, слишком поздно, — сказал Бисмарк с легким оттенком приветливости в голосе. — Какое положение могла занять Бавария, если бы вы сделали этот шаг месяцем раньше, если бы вы месяцем раньше пожаловали ко мне в Берлин!
— Я остался верен Германскому союзу, освященному всей Европой, — напомнил фон дер Пфортен, — и думал исполнить свой долг относительно Германии и Баварии. И ошибся — мир праху прошедшего! Я приехал переговорить о будущем.
— Будущее в наших руках, — заметил Бисмарк. — Австрия заключает мир и не заботится ни о союзе, ни о своих союзниках!
— Я это знаю, — тихо произнес Пфортен.
— Германия теперь видит, — продолжал Бисмарк, — до чего она дошла на австрийском буксире. Мне особенно жаль Баварию, потому что я всегда считал ее призванной занять особенно важное и многозначительное положение в национальном развитии Германии и стать наряду с Пруссией во главе нации.
— Если Бавария при моем управлении вступила на ложный путь, — сказал фон дер Пфортен, — и исход решил, что путь был ложен, то каждый промах поправим, хотя бы и с запозданием. Моя деятельность окончена после этого прискорбного исхода, мне остается только исполнить один долг: употребить все усилия, чтоб отвратить от моего отечества и от моего молодого короля все тяжелые последствия моего просчета. Я здесь для выполнения этого долга, и именно потому, что я ничего от будущего не требую и не жду, то надеялся свободнее и объективнее переговорить с вами, граф, насчет будущего.
Бисмарк помолчал с минуту, слегка барабаня пальцами по столу.
— Я не могу, — ответил он наконец, — беседовать с баварским министром как прусский министр. Для этого недостает основания, недостает согласия короля. Но этот час не останется бесплодным, — прибавил он более мягким тоном. — Я хочу вам доказать, как мне лично жаль, что мы с вами не пришли к соглашению, не смогли идти вместе, рядом. Ваш совет, ваша опытность могли бы быть так полезны для Германии. Если мы, барон фон дер Пфортен и граф Бисмарк, баварский и прусский патриоты, поговорим о положении вещей… быть может, — прибавил он, улыбаясь, — баварскому и прусскому министрам будет чему от нас научиться!
Лицо фон дер Пфортена просияло. Он радостно взглянул на Бисмарка сквозь очки.
— Что же, вы думаете, — спросил Бисмарк, — должно совершиться с Баварией, что Пруссия могла бы сделать для нее?
— Положим, — сказал фон дер Пфортен, — что Пруссия добьется безусловной гегемонии в Северной Германии.
— Кто же стал бы ее оспаривать?
— Я на это замечу только то, что аннексия южных государств, во всем столь от нее различных, едва ли может быть в интересах Пруссии, и потому ей выгоднее устроить будущность Германии в дружеском соглашении с самостоятельной и неослабленной Баварией.
— Чтобы при каждом случае встречать новые затруднения? — спросил граф Бисмарк.
— После опыта этих дней… — начал было баварский министр.
— Любезный барон, — прервал его граф Бисмарк, — я буду говорить с вами совершенно откровенно. Будущее принадлежит не мне и не вам. Слова и обещания, как бы вы серьезно к ним ни относились, не могут быть основанием, на котором следовало бы успокоиться будущему мирному могуществу Пруссии и Германии. Нам нужны гарантии. Пруссия не должна вторично подвергаться только что перенесенным опасностям, она не должна быть вынуждена вторично приносить такую же жертву. Бавария — к собственному своему ущербу, как я всегда был убежден, — во все времена относилась к нам враждебно. Мы должны быть вполне уверены в том, что этого в будущем не будет. Для этого есть два пути.
Фон дер Пфортен насторожился.
— Или мы отнимем от ваших владений столько, что вперед Бавария будет в совершенной невозможности повредить нам чем‑нибудь…
— Вы подумали, как трудно присоединить баварские владения и баварское население? — спросил фон дер Пфортен.
— Трудно, согласен, но мы преодолели бы эти трудности, ради обеспечения блага Пруссии меня не остановят никакие преграды.
Фон дер Пфортен вздохнул.
— Осложнения, к которым мог бы повести подобный образ действий… — сказал он вполголоса, пристально глядя в лицо прусского министра.
Бисмарк тоже пристально на него поглядел.
— Откуда им взяться? — спросил он. — Австрия, что ли? А там, — продолжал он, смело и гордо озирая всю фигуру баварского министра, — откуда могли бы возникнуть осложнения, не пренебрегут своей долей добычи.
Фон дер Пфортен понурил голову.
— Стало быть, нечего говорить об этом, — сказал Бисмарк. — Мы немцы — и можем обделывать немецкие дела, не озираясь по сторонам.
— А другой путь? — подсказал фон дер Пфортен.
— Внутренняя жизнь Баварии, — ответил Бисмарк, задумчиво глядя вдаль, — нам чужда, и мы не хотели бы в нее врываться. Германии для ее могущества и силы, Пруссии для ее обеспечения необходимо сосредоточение народных оборонительных сил в руке могущественного полководца германской нации, ее естественного предводителя. Если Бавария признает эту национальную необходимость, утвердит ее прочным трактатом и в случае национальной войны передаст безусловно прусскому королю командование своими военными силами, тогда у нас появится надлежащая гарантия для германского могущества — для обеспечения Пруссии.
Лицо баварского министра все более и более прояснялось.
— Предводительство в случае национальной войны? — спросил он.
— Разумеется, с необходимыми частностями, для того чтобы сделать возможным общее дело, — введение баварского тела в организм прусской армии, — вставил Бисмарк.
— Без посягательства на военное значение короля? — уточнял фон дер Пфортен.
— Я не считал бы необходимым ограничивать его больше, — отвечал граф.
Фон дер Пфортен глубоко вздохнул.
— Это, стало быть, ваши мирные условия? — спросил он.
— Не мирные условия, а условия для мира, — поправил Бисмарк.
— Как это следует понимать?
— Очень просто, — сказал граф. — Когда будет заключен трактат, который я вам сейчас начертал и который сейчас же распоряжусь набросать в подробностях, с военной точки зрения — трактат, который, впрочем, пока должен оставаться под секретом, чтобы не наделать вам хлопот с антипрусской партией, — когда, говорю я, такой трактат будет принят, тогда заключить мир не составит труда. Пруссия обретет в этом договоре гарантию того, что Бавария искренне и откровенно хочет работать вместе с нами над делом национального объединения и отрекается от всех ошибок своей прежней политики, и с такой гарантией мы будем в силах очень легко и скоро выработать условия мира. Тогда в наших интересах будет сохранить Баварию как можно более сильной и самостоятельной в пределах Германии. Тогда весь вопрос сведется только на военные издержки, которые мы заплатим сполна, и, может быть, на некоторые, совершенно ничтожные поземельные уступки для округления наших границ.
— Граф, — с чувством произнес фон дер Пфортен, — благодарю вас. Вы указываете мне путь, которым Бавария может с честью и на благо германскому отечеству выйти из печального настоящего положения. Благодарю вас от имени моего короля!
— Я принимаю живейшее участие в вашем юном государе, — заверил Бисмарк. — И надеюсь, что Бавария в союзе с Пруссией достигнет того положения в Германии, которое так долго не хотела занимать, — сказал граф кротким голосом. — Однако, любезный барон, — продолжал он, вставая, — прошу вас помнить, что это был разговор между двумя частными лицами. Возвращайтесь скорее к своему королю и привезите мне как можно скорее его согласие на трактат. Как только трактат будет подписан, немедленно враждебные отношения будут прекращены, и я обещаю вам, что вслед за этим быстро и беспрепятственно последует заключение мира. И, — прибавил он с любезной улыбкой, — будьте уверены, что я не желаю вашего отстранения от дел.
— Я знаю, — сказал фон дер Пфортен, — что мне остается делать: новая рука должна ввести Баварию на новый путь. Мои же пожелания будут всегда принадлежать новой Германии, как всегда принадлежали старой!
— Еще одно, — сказал граф Бисмарк. — Так как мы так хорошо поняли друг друга, вы могли бы оказать услугу вашим союзникам в Штутгарте и Дармштадте — быть может, и мне самому, — потому что мне хотелось бы иметь возможность поступить осторожно с Вюртембергом и Гессеном. Если бы тамошние дворы заключили трактаты в подобном же смысле, то осторожность относительно них не вызывала бы сомнений. С полномочиями заключить подобные предварительные трактаты, которые я также обещаю хранить в секрете, я буду рад видеть господ фон Варнбюллера и фон Дальвига, и надеюсь скоро и легко прийти с ними к мирным соглашениям.
— Я не сомневаюсь, что они скоро появятся, — заявил фон дер Пфортен.
— Ну, любезный барон, отправляйтесь скорее, — улыбнулся пруссак. — До скорого свидания! И постарайтесь, чтобы граф Бисмарк как можно скорее мог бы приветствовать здесь баварского министра и уполномоченного.
Он подал фон дер Пфортену руку, которую тот пожал искренне и взволнованно, и проводил до дверей. В прихожей находился Кейделль, и граф поручил ему позаботиться о скорейшей и беспрепятственной доставке баварского министра на место.
Вернувшись в комнату, граф Бисмарк самодовольно потирал руки, расхаживая большими шагами взад и вперед.
— Итак, мои парижские благожелатели! — рассмеялся он. — Вы хотите расколоть Германию, раздробить ее на куски и получить вознаграждение! Ну, сваи для ее будущего соединительного моста вколочены. А ваши вознаграждения? Убаюкивайте себя надеждами на них. Однако теперь — к королю!
Он застегнул мундир, взял фуражку и вышел из комнаты.
В своей прихожей он застал пожилого человека с седыми волосами и с седой бородой, в мундире ганноверского флигель‑адъютанта.
Его ввел прусский офицер и, почтительно подойдя к министру‑президенту, доложил:
— Обер‑лейтенант фон Геймбрух, флигель‑адъютант ганноверского короля, желает переговорить с вашим превосходительством.
Граф Бисмарк обернулся к Геймбруху, приложил руку к фуражке и вопросительно посмотрел на него.
Обер‑лейтенант приблизился к нему и сказал:
— Его Величество король, мой всемилостивейший государь, недавно прибывший в Вену, прислал меня сюда передать письмо Его Величеству королю Пруссии. Вместе с тем я имею честь вручить вашему превосходительству письмо от графа Платена.
И он подал министру‑президенту запечатанный конверт.
Тот вскрыл его и быстро пробежал содержание. Затем серьезно обратился к Геймбруху:
— Потрудитесь подождать меня здесь, я зайду к Его Величеству и скоро вернусь.
И он вышел, козырнув по‑военному.
В приемной короля было несколько генералов, много ординарцев. Все приподнялись при входе графа Бисмарка, который отдал им честь.
Дежурный флигель‑адъютант фон Лое встретил министра‑президента.
— Его Величество один? — спросил граф Бисмарк.
— Генерал фон Мольтке у короля, — отвечал фон Лое, — но Его Величество приказал тотчас же доложить о вашем превосходительстве.
И, стукнув в дверь короля, он вошел с докладом и в следующую же минуту вернулся и отворил дверь министру‑президенту.
Король Вильгельм стоял перед большой, раскинутой по столу картой, на которой положение армий было обозначено длинными пестрыми булавками. Он был в верхнем походном сюртуке, с Железным крестом в петлице, с орденом Pour le Merite[94] на шее.
Король внимательно следил за линиями, которые проводил карандашом по воздуху над картой Мольтке, обозначая то здесь, то там точки для разъяснения доклада о своих диспозициях. Высокая, статная фигура генерала была слегка согнута, чтобы лучше видеть карту, спокойное лицо с тонкими, серьезными, напоминающими Шарнгорста чертами было слегка оживлено. Он с увлечением развивал свою мысль, король слушал молча и только время от времени выражал одобрение кивком.
— Хорошо, что вы пришли, — обратился король к входящему министру. — Вы можете нам разъяснить. По словам Мольтке, генерал Мантейфель пишет, что принц Карл Баварский предлагает восьмидневное перемирие и просит пощадить Вюрцбург, атакуемый Мантейфелем, ввиду предстоящих мирных переговоров с Баварией. Генерал Мантейфель, не будучи извещен, тем не менее не отклонил предложения, поставив, однако, условием перемирия сдачу Вюрцбурга, и теперь спрашивает, что ему делать? Что это за переговоры с Баварией?
Граф Бисмарк усмехнулся.
— У меня только что был фон дер Пфортен, государь, — отвечал он.
— А! Стало быть, они просят мира? О чем же вы с ним говорили?
— Ваше Величество, — отвечал граф Бисмарк, — это в связи со всем положением настоящей минуты, о котором я прошу позволения сделать Вашему Величеству доклад и просить высочайших решений.
Фон Мольтке вложил карандаш в большую записную книгу, которую держал в руке, и сказал:
— Я Вашему Величеству пока не нужен?
— Я попрошу Ваше Величество, — сказал граф Бисмарк поспешно, — оставить генерала здесь — его мнение на обсуждаемые вопросы весьма важно!
Король одобрительно кивнул головой, генерал вопросительно посмотрел на министра‑президента.
— Ваше Величество, — сказал Бисмарк, — Бенедетти вернулся и привез согласие Австрии на мирную программу императора Наполеона.
— Стало быть, можно начать переговоры? — спросил король.
— Без промедления, государь, — отвечал Бисмарк. — Бенедетти поставил себе в большую заслугу то, что ему удалось подвинуть Австрию на принятие программы. Он говорил о сильном нерасположении к ней, которое нашел в Вене, и старался изобразить положение Австрии как еще весьма богатое надеждами.
Мольтке усмехнулся.
— Ничего они больше не могут сделать! — сказал спокойно король. — Они воображали завлечь нас в Ольмюц и там задержать, прикрыть Вену и поднять Венгрию! Все это не удалось. Мы, по совету Мольтке, оставили их на покое в Ольмюце, а сами отправились напрямик. Мы стоим перед Веной, которая не может сопротивляться: укрепления, сооруженные ими при Флоридсдорфе, нас не удержат, кроме того, у нас в руках ключи от Венгрии, и венгры, кажется, вовсе не намерены спасать Австрию из ее затруднений.
— Я знаю, государь, — кивнул граф Бисмарк, — и знаю также, какую цену стоит придавать уверениям Бенедетти: его тактика — показывать нам повсюду затруднения, чтобы убедить поладить с Францией и выплатить ей цену ее посредничества.
— И он высказался о цене? — спросил король с возрастающим вниманием.
— Я не обинуясь высказал послу, — отвечал Бисмарк, — как уже Ваше Величество от восемнадцатого телеграфировали из Брюнна императору Наполеону, что положительное усиление прусского могущества путем территориальных приобретений существенно необходимо, и указал ему на лежащие между двумя половинками нашего государства враждебные владения.
— Он высказывал какие‑нибудь возражения? — спросил король.
— Он распространился насчет трактатов и европейского равновесия, что звучало довольно странно в устах наполеоновского дипломата, но не имел ничего против. Только насчет Саксонии…
— Ну? — спросил король.
— Насчет Саксонии, как выразился Бенедетти, император Наполеон ставит непременным условием со стороны Австрии сохранение территориальной целости.
Король задумчиво посмотрел на пол.
— То есть, — продолжал Бисмарк, — Австрии навязывают то, за что стоит Париж. Но как бы то ни было, сохранения Саксонии требуют серьезно. Вашему Величеству предстоит решить, можно ли согласиться на эту уступку или нет?
— Как вы полагаете? — спросил король.
— Настаивать на присоединении Саксонии значило бы усложнять положение данного момента — особенной необходимости в этом не вижу и думаю, что даже в военном отношении…
Он вопросительно посмотрел на генерала Мольтке.
— Если Саксония вступит в военный союз Северной Германии и серьезно исполнит свои обязанности… — сказал генерал.
— Король Иоанн свято сдержит слово! — заявил король, и темный луч сверкнул из его глаз. — Стало быть, Саксония останется неприкосновенной — чрезвычайно рад возможности смягчить тяжелые последствия войны хоть для одного высокочтимого государя!
Бисмарк поклонился.
— Франция, так же как Австрия, — продолжал он, — принимает все остальные перемены в составе Северной Германии, а затем остается вопрос о вознаграждениях.
Лицо короля омрачилось.
— Они выставили требования? — спросил он.
— Нет еще. Но Бенедетти очень определенно намекал, в чем именно они будут состоять.
— Что же это за требования? — поинтересовался король.
Бисмарк отвечал спокойно и улыбаясь:
— Границы тысяча восемьсот четырнадцатого года, Люксембург и Майнц!
Король вздрогнул, как от удара электричеством. Бледное лицо Мольтке вспыхнуло, и на губах его показалась саркастическая усмешка.
— И что вы отвечали? — спросил король, стиснув зубы.
— Я отложил рассуждения об этом до того дня, когда будет заключен мир с Австрией. Тем более что Бенедетти настойчиво выдавал это за свои личные взгляды, и мне поэтому не было нужды давать определенный ответ.
— Вы знаете, однако, — сказал король с строгим выражением и таким же тоном, — что я никогда не уступлю ни пяди немецкой земли?
— Так же верно, как то, что я никогда не подпишу подобного трактата! — отвечал Бисмарк. — Однако напрасно вызывать преждевременно разрыв, затруднения и усложнения — если Франция теперь поднимется…
— Мы пойдем на Париж, — уверенно заявил Мольтке. — У Наполеона нет армии!
— Граф Гольц так не думает, — возразил министр‑президент. — Если б я мог знать это наверняка! Впрочем, во всяком случае лучше заключить мир с Австрией и не спешить с переговорами о вознаграждениях, еще не предъявленных Францией официально. Как только мы здесь порешим вопрос, мы дадим Парижу ответ, которого он заслуживает, и еще устроим маленький сюрприз… Позвольте теперь перейти к фон дер Пфортену, Ваше Величество.
Король посмотрел с удивлением.
— Вашему Величеству памятно, — невозмутимо продолжил граф Бисмарк, — положение, которое мирная программа дает южногерманским государствам?
— Конечно, — отвечал король, — и это положение возбуждает во мне серьезные опасения за будущее!
— Намерение ясно, — отвечал министр‑президент. — В Париже хотят Германию раздробить и поставить одну часть под удар другой: в Вене рассчитывают возобновить в будущем с большим успехом теперь проигранную игру. Надеюсь, что они ошибутся в расчете. Фон дер Пфортену я поставил на вид весьма умеренные условия мира, если Бавария в силу особого, тайного договора примет главное командование Вашего Величества над баварской армией в случае войны.
Глаза короля засветились.
— Тогда Германия была бы единой! — вскричал он. — И что же, он согласился?
— С радостью и благодарностью! — отвечал Бисмарк. — И уверяет, что его примеру не замедлят последовать Вюртемберг и Гессен. Я хотел только просить генерала Мольтке набросать предполагаемый трактат, чтобы, когда фон дер Пфортен вернется с согласием короля, можно было все поскорее покончить. А пока пускай генерал Мантейфель отказывает в окончательном объявлении перемирия, чтобы произвести благотворное давление. Я надеюсь, — продолжал он усмехаясь, — что по заключении мира император Наполеон заметит, что козыри в столь тонко им разыгранной игре очутятся в наших руках, и тогда вопрос о вознаграждениях может быть без околичностей отстранен.
— Посмотрите, Мольтке, — засмеялся король, приветливо поглядывая на министра‑президента, — как дипломаты‑то всегда верны себе! Даже если носят мундир! Однако, — продолжал он серьезнее, — я не хочу, чтобы Бенедетти заводил при мне речь о вознаграждениях — я не мог бы отстрочить своего ответа!
Бисмарк поклонился.
— Ваше Величество, нам необходимо обратить внимание еще на другую сторону, — сказал он. — Настроение в Петербурге неблагоприятно, я боюсь, что там будут очень недовольны нашими новыми приобретениями.
— Я сам этого боялся, — признался король.
— Необходимо, — продолжал Бисмарк, — совершенно очистить воздух в той стороне, парализовать воззрения и влияния, которые могут там преобладать, и довести до России, как ей выгодна дружба Пруссии и Германии теперь и в будущем. Необходимо послать в Петербург толкового человека. Я изложу Вашему Величеству мои воззрения на этот предмет, и они могут послужить инструкцией для посланника.
— Пожалуйста, — заявил король с живостью, — я хочу сохранить целою и нерушимой дружбу с Россией не только из политических соображений, но и по личному убеждению. Я пошлю Мантейфеля, он отлично все устроит, как только мы покончим с Баварией.
Граф Бисмарк молча поклонился.
— Ваше Величество, — начал он немного погодя. — Только что приехал ганноверский флигель‑адъютант с письмом от короля. Он мне передал письмо от графа Платена.
Глубоко скорбное выражение показалось на лице короля.
— Что он пишет? — спросил он.
— Король признает Ваше Величество победителем Германии и готов принять условия, которые Ваше Величество продиктует для мира.
Король долго молчал.
— О, — вскричал он, — если б я мог ему помочь! Бедный Георг! Нельзя ли сохранить Ганновер без военной самостоятельности?
Бисмарк посмотрел с железным спокойствием и твердостью на взволнованное лицо короля.
— Ваше Величество сочло необходимым для обеспечения и могущества Пруссии присоединить Ганновер. Что может значить, чего может стоить мнимое королевство — просто княжеское вельфское владение! Но для нас такое препятствие, как страна с враждебным населением, может быть весьма опасным. Подумайте, Ваше Величество, сколько бед наделала бы нам ганноверская диверсия, если бы там оставили Габленца или если ганноверский главный штаб поменьше гонял армию бессмысленно взад и вперед? Такая опасность должна быть навсегда устранена в будущем.
— Королева Фридерика была сестрой моей матери! — произнес король дрожащим голосом.
— Я высоко чту отношения королевской крови, связывающие Ваше Величество с королем Георгом, — сказал граф Бисмарк, — и сам лично преисполнен почтительной симпатии к этому несчастному государю. Но важнейшая обязанность Вашего Величества лежит в вашем отношении к народу, кровь которого лилась на полях битвы, к народу Фридриха Великого, к народу тысяча восемьсот тринадцатого года. Этому народу Ваше Величество должны пожертвовать своей кровью. Простите, Ваше Величество, что я дерзаю говорить от имени этого народа — я знаю, мои слова только отголосок того, что королевское сердце Вашего Величества само ясно и глубоко чувствует. Принятием письма короля вы себе свяжете руки — вы вступите в переговоры, которых вовсе не следует допускать.
Король глубоко вздохнул.
— Бог свидетель, — сказал он, — я все испробовал, чтобы избегнуть разрыва с Ганновером и предохранить короля от тяжелого испытания, которое должно было его постигнуть! Поверьте, сердце мое приносит Пруссии, ее величию и ее германскому призванию тяжелую жертву.
И глаза короля увлажнились.
— Так отклоните прием этого письма! — сказал он взволнованным голосом, печально опуская голову.
— Да благословит Бог Ваше Величество! — вскричал Бисмарк, весь просияв. — За Пруссию и Германию!
Мольтке посмотрел на своего короля с выражением искренней любви и серьезного удивления.
Король молча махнул рукой и отвернулся к окну.
Бисмарк и Мольтке вышли из кабинета.
Глава двадцатая
После бурных и тревожных дней в Лангензальца наступила тишина. Ганноверская армия была распущена и вернулась на родину, прусские войска двинулись дальше на юг и запад, навстречу другим врагам, и городок Лангензальца внешне стал снова таким же тихим и мирным, каким был многие годы перед тем, как судьбе заблагорассудилось сделать его театром таких кровавых событий.
Но хотя внешне улицы казались по‑старому спокойными и сонными под знойными лучами летнего солнца, — внутри домов двигалась тихая жизнь неутомимой любви и сострадания, той любви и того сострадания, которые после грозных военных ураганов врываются в жизнь с большей стремительностью и служат прекрасным доказательством вечной и неразрывной связи человеческого сердца с Богом, неиссякающей любви, неистощимого милосердия.
Многие из тяжелораненых пруссаков и ганноверцев не могли быть отправлены на родину. Для них устраивались лазареты, и частные дома с готовностью открывали свои двери для несчастных жертв войны. Кроме сестер милосердия и дьяконисс из Пруссии и Ганновера, являлись родственники раненых с целью лично за ними ухаживать. Когда с заходом солнца на землю спускались сумерки и прохлада, на улицах встречалось множество одетых в простые темные платья женщин и девушек, которые с серьезными лицами спешили за город подышать свежим воздухом и набраться новых сил для добровольного самопожертвования, на какое себя обрекали. Горожане, отдыхавшие от дневного труда у ворот своих жилищ, провожали их взглядами, исполненными участия, и вполголоса обменивались замечаниями насчет той или иной из проходящих групп.
Фрау фон Венденштейн с дочерью и Еленой была очень дружелюбно принята в жилище старика Ломейера. Маргарита отдала в их распоряжение две лучшие во всем доме комнаты, убрав их как только могла удобнее и красивее. А кандидат поселился в ближайшей гостинице.
Фрау Венденштейн подошла к постели своего сына, дрожа от страха и ожидания. Она с трудом удерживала душившие ее рыдания. Лейтенант лежал перед ней неподвижно, и только легкое дыхание свидетельствовало, что он жив.
Мать с тоской взяла его за руку и, склонясь над ним, осторожно поцеловала в лоб. Под влиянием магнетического действия этого материнского поцелуя молодой человек медленно открыл глаза и обвел комнату бессмысленным взглядом. Но вдруг глаза оживились, в них мелькнул луч сознания, а по губам пробежала легкая улыбка. Рука едва заметным пожатием отвечала на приветствие матери.
Она опустилась на колени возле кровати и, склонив голову на руку сына, вознесла к Богу безмолвную молитву, в которой горячо просила сохранить столь драгоценную для нее жизнь.
Немного поодаль стояли молодые девушки. Елена не могла отвести глаз от зрелища слабого, надломленного существа, которое так недавно покинуло ее во цвете сил и здоровья. Сестра молодого человека горько плакала, закрыв лицо платком. Глаза Елены были сухи и блестящи, лицо оставалось бледным и неподвижным, только губы слегка дрожали да руки судорожно сжимались.
Когда мать опустилась на колени, взгляд лейтенанта упал на молодую девушку. Легкая краска мгновенно вспыхнула на его щеках, в глазах сверкнул радостный луч, губы раскрылись, но из них вырвался только тяжелый, хриплый вздох, и они окрасились красноватой пеной. Веки опять опустились на глаза, и лицо покрылось смертельной бледностью.
Но вскоре явился доктор и принес помощь и утешение. Тогда настало время неутомимого ухода, — этой тихой работы, столь тяжелой в самой своей несложности, но столь преисполненной благодати, которая отрешает сердце от всего житейского и возносит его к вечному источнику любви, к всемогущему распорядителю человеческой жизни и человеческих судеб. Чего, кажется, легче, как сидеть в мягком кресле и наблюдать за больным! Как невелик труд приложить к ране освежающий компресс, или влить в рот укрепляющий напиток, или просто взбить подушку, на которой покоится голова больного!
Но кто передаст всю тоску напряженного состояния, с каким приходится следить за каждым движением век или губ, за каждым вздохом любимого существа! От одной минуты сна, от малейшего упущения в докторских предписаниях может зависеть жизнь больного. О, какое громадное значение приобретают в ночной тишине все эти маленькие, казалось бы ничего не значащие, услуги! Как медленно тянутся тогда минуты, каким мелким, бесцветным кажется все, что не входит в пределы комнаты больного, что не имеет отношения к святой работе восстановления человеческой жизни, к усилиям остановить руку равнодушной Парки и отвратить неумолимое лезвие от тонкой нити, на которой покоится так много счастья и надежды, любви и радости, труда и награды!
А когда к одру страдания начинает медленно приближаться выздоровление, которому все еще, как нежному весеннему цветочку, продолжает угрожать рука холодной смерти, неохотно уступающей свою добычу и все еще силящейся сразить своим ледяным дыханием слабый цветок, который вы взрастили с неутомимой заботливостью, — с каким умилением склоняется тогда человек перед рукой Всевышнего! Какими ничтожными оказываются тогда человеческие силы и воля, как кротко научается тогда сердце произносить слова молитвы: «Господи, да будет воля Твоя!» С какою верою и смирением обращается взор к надзвездному миру, припоминая божественное изречение: «Просите, и дастся вам!»
Старушка‑мать пережила у постели сына все эти различные фазы внутренней жизни. Одновременно страшась и надеясь, отчаиваясь и веря, она выполняла однообразные обязанности сиделки с невозмутимым видом. Ей усердно помогали молодые девушки. Елена исполняла свою часть труда со спокойным самообладанием. Она не спускала глаз с больного и с робкой пытливостью всматривалась в его бледные черты.
Наконец явилась надежда, которая освежила и ободрила эти истомленные опасениями и тревогой сердца. Больной счастливо перенес первый приступ лихорадки, пулю извлекли, но впереди еще ожидал кризис, а именно отделение запекшейся крови, которая находилась в глубине раны. Затем оставалось бы только постепенно подкреплять его сильно потрясенную нервную систему.
Доктор предписал больному безусловный покой. Вблизи него не должен был раздаваться ни малейший звук, не следовало отвечать ему ни на один вопрос, а только постоянно показывать улыбающееся лицо и говорить с ним не иначе как глазами.
Но как красноречив был этот язык!
Какой чистый, теплый свет изливался из глаз Елены, когда они покоились на бледном лице спящего, с напряженным вниманием следя за каждым его движением или с благодарностью обращаясь к небу, когда сон больного был спокоен!
А когда больной, в свою очередь, открывал глаза и встречал взгляд молодой девушки, какая радость мгновенно вспыхивала на его лице! Удивительно, как многое может выражать глаз человеческий — этот маленький кружок, в котором все находит себе место, где отражаются и звездное небо, и вечные горы, и бесконечное пространство морей! То, чего не может сказать ограниченное, в узкую форму заключенное слово, что не может быть выражено даже цветистым языком поэзии, то все с мельчайшими оттенками и совершенно понятно передается глазами, и в особенности глазами больного, которые, не отражая в себе многочисленных и изменчивых картин внешнего мира, становятся чище, прозрачнее и отчетливее передают малейшие движения души.
Когда глаза раненого офицера останавливались на молодой девушке, в них можно было прочесть целую поэму воспоминаний и надежд. Тогда легкий румянец выступал на ее щеках и взор опускался, но только на мгновение: глаза ее опять невольно поднимались, и сквозь подергивавшую их влажную дымку в них светился ответ ее сердца.
Однажды, когда Елена подавала ему прохладительное питье, он протянул ей бледную, исхудалую, испещренную синими жилками руку. Она вложила в нее свою; он сжал ее и долго не выпускал, а глаза его между тем смотрели на нее так благодарно, жадно и вопросительно. Она вся зарделась и отняла руку, но он во взгляде ее успел прочесть желанный ответ. С блаженной улыбкой, опять закрыв глаза, он продолжал во сне начатый им наяву сон.
С тех пор он чаще и чаще с мольбой во взгляде протягивал ей руку. Она подавала ему свою; он медленно подносил ее к губам и запечатлевал на ней горячий поцелуй. Елена в смущении отнимала руку, а он опять засыпал со счастливой улыбкой. Безмолвный разговор между ними все становился продолжительнее и красноречивее. Не раз открывал он рот, чтобы едва слышным шепотом подтвердить выражение глаз, но она с нежной улыбкой останавливала его, поднося палец к губам. Но однажды он не утерпел и у него вырвались слова: «Милая Елена!»
Она с сияющими глазами быстро подала ему руку и не отняла ее, когда он запечатлел на ней долгий и горячий поцелуй.
Фрау фон Венденштейн видела и хорошо понимала этот безмолвный обмен мыслями. Какая женщина не сумеет понять его, какая мать останется слепа к чувству, возникающему в сердце ее возлюбленного сына к той, которой предстоит продолжать относительно взрослого мужчины дело любви, начатое матерью в его детстве, — дело смягчающей, утешающей, всепрощающей и всеискупающей любви! Без нее, без этой любви, сила мужчины остается сухой и непроизводительной, потому что его стремлению к деятельности не хватает тогда животворного света и тепла.
Эти разговоры улыбками и глазами часто происходили в присутствии матери, но трудно было бы определить, с удовольствием или с тревогой следила она за развитием того, что совершалось на ее глазах. Ее бледное, спокойное лицо светилось неизменной лаской и дружелюбием, но более на нем ничего нельзя было прочесть. Во всяком случае, она не могла без умиления смотреть на это пробуждение любви в сердце больного сына. Когда же он раз, в одно и то же время взяв за руку ее и Елену, соединил их в одном пожатии, между тем как глаза его с трогательной мольбой устремлялись то на одну, то на другую, фрау Венденштейн молча обняла Елену и нежно поцеловала ее в лоб. В ту самую минуту в комнату вошла сестра лейтенанта и тоже принялась горячо обнимать Елену. Больной совершенно преобразился: он буквально сиял радостью, глядя на них.
Таким образом в комнате раненого занялась заря новой жизни, завязалась новая сердечная связь, нежная, чистая, благоухающая, святая! Вряд ли бы она могла скрепиться в таком точно виде среди тревог и волнений внешнего мира. О том, что произошло, никто не сказал ни слова, но все друг друга понимали. Каждый знал и чувствовал, что здесь, в тиши уединения, на рубеже между жизнью и смертью, возникло и взросло нечто, чему надлежало перейти в вечность. Таким образом, в то время, как по мановению руки Божией над историческим миром разражалась страшная гроза и в Германии вследствие жестокой борьбы устанавливался новый порядок вещей, здесь, в частной жизни людей, совершались события более мирного и отрадного свойства. То, что эти сердца переживали, запечатлевалось в них неизгладимыми буквами и должно было перейти в вечность наравне с великими событиями, по воле судеб божиих записываемыми на скрижалях истории.
От проницательного взгляда преданного Фрица Дейка также не ускользнуло ничего из произошедшего в комнате больного лейтенанта. От тоже не проронил о том ни слова, постоянно выражая свое одобрение и участие почтительным вниманием, которым окружал дочь пастора. Когда же он видел ее сидящей у постели раненого, то с радостной улыбкой поглядывал на девушку и многозначительно кивал головой.
Со времени приезда дам он входил в комнату больного, чтобы только приготовить все необходимое для ухода за ним. Но он оставил за собой часть ночного бдения в самые тяжелые для бодрствования часы, и тогда с добродушной суровостью выпроваживал дам из комнаты лейтенанта.
Кроме того, он с неутомимым усердием помогал красавице Маргарите во всех ее стараниях сделать как можно приятнее и удобнее однообразную жизнь ее гостей. Для Ломейера он сделался просто необходим всюду — во дворе, в конюшне и в саду. Он со всяким делом справлялся чрезвычайно ловко, избавляя старика от многих забот и тягот. По вечерам Фриц сидел у ворот вместе с Маргаритой и ее отцом. Последний, с веселой улыбкой посматривая на дочь, всегда с новым удовольствием слушал рассказы молодого человека о его родине. Особенно приятно ему было узнавать из этих рассказов, что старый Дейк владел значительным состоянием, которому надлежало всецело перейти к его единственному сыну и наследнику.
Кандидат по нескольку раз в день навещал дам, скромно, без малейшей навязчивости помогая им ухаживать за больным и утешая фрау Венденштейн речами, исполненными надежды и упования. Кроме того, он посещал все дома, в которых были больные или раненые, и повсюду неутомимо разносил духовную пищу. Он также принимал деятельное участие в устройстве лазаретов. Весь городок Лангензальца превозносил его до небес. Фрау фон Венденштейн, со своей стороны, не могла нахвалиться молодым пастором и при всяком удобном случае старалась ему выразить свое уважение и благодарность.
Елена держалась от двоюродного брата в стороне. Он, в свою очередь, не пытался сближаться с ней более, чем того требовали ежедневные визиты. Правда, его глаза часто покоились на молодой девушке с особенным выражением, в них по временам сверкала гневная молния, особенно в те минуты, когда Елена сидела у постели больного и на ее лице отражалась вся глубина ее привязанности к нему. Но никогда ни словом, ни малейшим намеком кандидат не дал ей почувствовать того, что медленно и в молчании копилось у него на сердце.
Однажды вечером, в последних числах июня, фрау фон Венденштейн вместе с дочерью сидела у открытого окна, в которое свободно проникал прохладный вечерний воздух. Дверь в комнату больного была отворена. Елена сидела у постели, с заботливым вниманием наблюдая за его спокойным сном.
В обществе дам находился также и кандидат в своем обычном черном одеянии и белом галстуке, тщательно повязанном вокруг шеи. Его гладко причесанные волосы плотно прилегали к вискам.
Он вполголоса рассказывал госпоже Венденштейн о других раненых, которых видел в этот день.
— Вы избрали для себя высокую стезю, — сказала старушка, ласково смотря на молодого пастора. — Во времена, подобные нынешним, особенно отрадно подавать страждущим духовную помощь, ободрять их и успокаивать.
— Но с другой стороны, — смиренно заметил кандидат, опуская глаза, — в такое время более, чем когда‑нибудь, сознаешь все свое бессилие перед лицом Всемогущего промысла. Обращаясь со словами утешения к страдальцам, которые уже стоят на пороге вечности, я нередко у себя спрашиваю, достоин ли говорить с ними от имени Господа? Тогда я почти начинаю сомневаться в пользе и величии моего призвания. Но, — продолжал он, как на молитву складывая руки, — вечная сила слова Божия и недостойному орудию сообщает власть творить великое. Я с чистейшей радостью могу сказать, что многие сердца были мной обращены к вере и что многим раскрыл я врата в Царствие Небесное.
— Сколько семейств будут вам благодарны! — горячо проговорила фрау Венденштейн, пожимая ему руку.
— Не меня должны они благодарить, а того, кто через меня действует, — отвечал кандидат, склоняя голову.
В то же самое время он искоса бросил быстрый взгляд в комнату больного, где слышался легкий шорох.
Туда между тем тихонько вошел доктор, осторожно приблизился к спящему, наклонился над ним, привычной рукой отодвинул компрессы и стал внимательно рассматривать рану.
Несколько минут спустя он вышел в соседнюю комнату к дамам.
Фрау фон Венденштейн устремила на него тревожный, вопросительный взгляд. Последовавшая за доктором Елена остановилась в дверях.
— Все идет как нельзя лучше, — сказал доктор, дружески кланяясь. — Хотя я и не могу еще сказать, что всякая опасность миновала, однако с каждым днем все более и более начинаю надеяться на благоприятный исход болезни.
Фрау Венденштейн радостным взглядом поблагодарила его за хорошую весть. Глаза Елены подернулись влажным блеском.
— Но больной еще требует самой тщательной заботы. Ему необходимо полное спокойствие. Малейшее возбуждение может оказать гибельное влияние на его сильно потрясенную нервную систему и вызвать тифозную горячку, за исход которой, при расстроенном его организме, никак нельзя ручаться. Внутренняя часть раны еще наполнена запекшейся кровью, которую следует удалять постепенно. Внезапное ее отделение может сопровождаться сильным воспалением и причинить смерть. Повторяю: первое и необходимейшее условие выздоровления заключается в безусловном спокойствии, чтобы дать природе возможность самой себе помочь. Затем продолжайте прикладывать компрессы, давать больному прохладительное питье и поддерживайте его силы легкой питательной пищей. А теперь, сударыни, я хочу также и на вас распространить мой докторский авторитет, — продолжал он. — Вы давно уже не дышали свежим воздухом, а сегодня прелестная погода, — извольте пойти погулять.
Фрау фон Венденштейн нерешительно на него посмотрела. Доктор продолжал:
— В интересах больного вы должны подумать о сохранении собственных сил. Что станется с ним, если и вы также захвораете! Я настоятельно требую, чтобы вы шли погулять. За больным пока может присмотреть Фриц. К тому же ему теперь ничего не надо, кроме сна.
— Я останусь дома! — живо воскликнула Елена и вдруг, опомнившись, в смущении опустила глаза.
— Прошу вас, сударыня, — вмешался кандидат, — последуйте предписанию доктора и будьте совершенно покойны. Я останусь с вашим сыном. За это время я достаточно научился ухаживать за больными. Идите: вам необходимо отдохнуть.
— Итак, скорее в путь! — воскликнул доктор. — Я сам покажу вам дорогу к прелестной тенистой аллее. Вы увидите, какую пользу вам принесет свежий воздух. Это в высшей степени целебное средство, которое природа безвозмездно всем предлагает.
Фрау фон Венденштейн надела шляпу и мантилью. Молодые девушки последовали ее примеру. Елена бросила в комнату больного еще один заботливый, тревожный взгляд, затем нехотя присоединилась к двум другим дамам.
Кандидат с опущенными глазами и кроткой улыбкой проводил их до дверей.
Потом он вернулся, вошел в комнату больного и поместился на стоявшем возле постели стуле.
Странную противоположность составляли эти два человека. На лице раненого офицера, погруженного в легкую дремоту, выражалось почти небесное спокойствие. Он представлял собой картину мирных, сладких сновидений. Лицо молодого пастора, напротив, было искажено ненавистью, выражением совершенно земной и низкой страсти.
Раненый сделал легкое движение головой, как бы чувствуя тяжесть упорно устремленного на него взгляда кандидата. Минуту спустя он открыл глаза и взглянул на то место, где надеялся увидеть воплощенным предмет своих сновидений. С удивлением, почти с испугом взор его упал на пастора, лицо которого с пробуждением больного приняло свое обычное спокойное выражение, а глаза опустились, чтобы скрыть горевшую в них ненависть. Но, несмотря на всю силу своей воли, кандидат, однако, не успел преобразить свою физиономию так быстро, чтобы лейтенант не заметил зловещего блеска его зрачков.
— Не надо ли вам чего‑нибудь, господин Венденштейн? — спросил кандидат тихим, мягким голосом. — Ваши дамы вышли подышать свежим воздухом, а вас поручили моим заботам.
Больной легким движением руки указал на стоявший около постели столик с графином свежей воды и с маленькой скляночкой, наполненной красноватой жидкостью.
Кандидат налил несколько капель лекарства в стакан с водой и осторожно поднес его к губам больного, который с трудом приподнял голову. Глаза последнего ясно говорили: «Благодарю вас».
Кандидат поставил стакан обратно на столик, затем, сложив руки, тихо заговорил:
— Думали ли вы, господин Венденштейн, утоляя вашу земную жажду, о том, что душа ваша тоже нуждается в напитке, который бы освежил ее и укрепил на рубеже жизни, так чтобы она могла, в случае если Господу угодно будет призвать вас к себе, явиться перед своим судией совсем вооруженная и готовая дать строгий отчет во всех своих деяниях?
Глаза раненого, которые после того, как он утолил свою жажду, опять сомкнулись, приготовляясь ко сну, теперь широко раскрылись и со страхом и недоумением устремились на кандидата. Он привык, чтобы с ним говорили не иначе как глазами, знаками, отдельными словами, произносимыми тихим шепотом. Длинная речь пастора неприятно подействовала на его усталые нервы. Кроме того, в нем до сих пор постоянно поддерживали надежду на выздоровление и веру в новую, счастливую будущность. Внезапно вызванный перед ним образ смерти, еще простиравшей над его головой свою грозную руку, подействовал на него как ледяное дыхание подземелья, когда в него входят с насыщенного солнцем и благоуханием воздуха. Легкая дрожь пробежала по его телу, он слабо покачал головой, как бы пытаясь прогнать от себя ужасное явление.
— Думали ли вы о том, — продолжал кандидат, постепенно возвышая голос и все более и более придавая ему суровости, — думали ли вы о том страшном, роковом часе, который, может быть, очень недалек от вас? О часе, когда ваша душа после жестокой борьбы покинет охладевшее тело, а сердце, простившись со всеми земными радостями и надеждами, сойдет во мрак могилы, чтобы обратиться в прах, из которого оно возникло?
Все шире и шире раскрывались глаза раненого. Лихорадочная краска разлилась по его лицу. Он с мольбой во взгляде смотрел на кандидата.
Тот, в свою очередь, устремил на лейтенанта сверкавший, неумолимый взор, каким гремучая змея преследует свою добычу.
— Думали ли вы, — продолжал пастор голосом, резкие звуки которого, проникая в сердце больного, терзали его не менее упорно устремленного на него жестокого взгляда, — думали ли вы о том, как вы при трубном звуке предстанете перед строгим Судией и должны будете дать ему отчет о жизни, последним действием которой было кровопролитие и братоубийство в борьбе, оправдываемой земными законами, но осуждаемой вечным правосудием?
Нервная дрожь пробегала по лицу больного. Лихорадочная краска все более и более сгущалась на его щеках, отяжелевшие веки были в непрерывном движении, то опускаясь, то поднимаясь над глазами.
— Небо оказало вам великую милость, — плел ядовитую паутину кандидат. — Оно дает вам время приготовиться к вечности. А как многие внезапно призываются им из среды житейской суеты! Но воспользовались ли вы этим временем, оказались ли достойным столь великой милости? Отрешились ли вы от всего земного и обратились всеми помыслами к небу? Не таятся ли еще у вас в сердце мирские надежды и желания? Рассчитайтесь скорее с жизнью, чтоб не пропало для вас бесследно дарованное вам для того время!
Кандидат, по мере того как говорил, все ближе и ближе придвигался к лейтенанту. Он буквально впился глазами в лицо несчастного, на котором отчетливо выражалось глубокое потрясение. Бледные руки больного дрожали. Он приподнял их, как бы стараясь отстранить от себя страшное зрелище, затем, указывая на столик, едва слышно простонал:
— Воды!
Кандидат еще ближе наклонился над несчастным лейтенантом. Правая рука его была распростерта над головой больного, а левою он сделал угрожающее движение в воздухе. Голос его глухо звучал, когда он продолжал:
— Подумайте о вечной воде! Позаботьтесь о том, чтоб вам дозволено было напиться из источника милосердия божия, которое одно может избавить вас от адского пламени, неизбежно ожидающего, если вы не поспешите вырвать из вашего сердца земных помышлений! Ваше время уже, может быть, сочтено, и если вы не отрешитесь от прошлого, то непременно упадете в пропасть, которая уже разверзлась перед вами!
Красная пена выступила на губах больного. Его глаза широко раскрылись и дико блуждали по комнате, все тело подергивалось судорогами.
Пастор хриплым голосом шипел уже над самым его ухом:
— Пропасть разверзается… из нее подымаются огненные языки, в воздухе раздаются плач и стоны грешников, мольбы которых более не достигают слуха божественного милосердия! Небесный свет меркнет, душа, преисполненная неизъяснимого ужаса, погружается все глубже… глубже… глубже…
Больной еще раз сильно вздрогнул; хриплый вздох вырвался из его высоко поднятой груди, рот раскрылся, и из него хлынул поток черной, густой крови, между тем как лицо покрылось смертельной бледностью.
Кандидат умолк. Медленно выпрямился он и спокойно, неподвижно смотрел на происходившую перед ним страшную борьбу жизни со смертью. Холодная улыбка мелькала на его бледных губах.
Тихо отворилась дверь соседней комнаты, и послышались чьи‑то легкие, осторожные шаги.
Кандидат вздрогнул. Он почти с сверхъестественным усилием возвратил чертам своего лица их обычное выражение спокойного достоинства и, скрестив руки на груди, обратил голову по направлению к двери.
На пороге показался Фриц Дейк.
— Вы тут, господин кандидат? — произнес он шепотом. — Я был занят на конюшне, когда узнал, что дамы вышли погулять, и пришел сюда взглянуть на лейтенанта… Господи боже мой! — вдруг громко воскликнул он, бросаясь к постели. — Что случилось? Лейтенант умирает!
Он схватил больного за руку и наклонился над тем, что уже казалось ему лишенным жизни трупом.
— Я опасаюсь худшего, — сказал кандидат тихим голосом, в котором звучало участие. — Внезапная судорога схватила бедного молодого человека, в ране открылось кровотечение, которое, я боюсь, должно положить конец всем нашим надеждам. Все это случилось очень быстро, в ту самую минуту, как я предлагал ему духовное утешение.
— Боже мой, боже мой! — воскликнул Фриц Дейк. — Это ужасно… Бедная мать! Бедная фрейлейн Елена!
Он выбежал за дверь и голосом, в котором слышались волнение и испуг, громко позвал:
— Маргарита, Маргарита!
Молодая девушка быстро повиновалась призыву, произнесенному таким тоном, от которого на ее собственном лице появилось выражение испуга. Она быстро поднялась по лестнице и боязливо заглянула в комнату больного.
— Лейтенант умирает! Ради бога, бегите скорей за доктором! — кричал Фриц Дейк.
Маргарита беглым взглядом окинула больного, увидела его бледное лицо, струившуюся изо рта кровь и, всплеснув руками, побежала вниз по лестнице.
Фриц Дейк опустился на колени возле кровати и платком вытирал беспрестанно накоплявшуюся у рта кровь, время от времени повторяя:
— Боже мой, боже мой, что скажет его мать!
Кандидат вышел в последнюю комнату и взялся было за шляпу, но потом передумал и решился остаться. Он сел в кресло, откуда мог видеть то, что происходило у постели больного.
Маргарита между тем не теряла времени напрасно. Она знала дорогу, по которой пошел доктор, сопровождая дам, и пустилась за ним в погоню. Миновав последние дома города, она увидела доктора, который прощался с дамами у входа в тенистую аллею.
Не переводя духа, бегом молодая девушка направилась к завиденной ею вдали группе. Доктор с удивлением на нее смотрел, а глаза Елены устремились на девушку с выражением тревожного ожидания.
— Ради бога, господин доктор! — воскликнула Маргарита, с трудом переводя дух. — Я думаю… Я боюсь… Бедный лейтенант…
— Что случилось? — с испугом спросил доктор.
— Я боюсь, что он умер! — проговорила наконец Маргарита. — Идите скорей, скорей!
Фрау Венденштейн схватила за руку доктора, как бы ища в ней опоры, затем, не выпуская ее, пошла по направлению к дому, все более и более ускоряя шаг. Она влекла за собой доктора, который между тем расспрашивал Маргариту о причинах столь неожиданного кризиса.
Елена шла впереди всех так быстро, что, казалось, едва касалась ногами земли. Когда она услышала страшную весть, принесенную Маргаритой, у нее вырвался один‑единственный крик, затем она почти бегом пустилась в обратный путь, вошла в город, достигла дома Ломейера, поднялась по лестнице и очутилась у комнаты больного.
На пороге она на мгновение остановилась и глубоко вздохнула, прижимая руки к груди.
Затем отворила дверь и, бледная, безмолвная, устремила неподвижный взгляд на молодого человека, перед которым стоял на коленях Фриц Дейк, осторожно вытирая выходившую у него изо рта кровь.
Фриц Дейк обернулся. Увидев перед собой Елену, лицо которой выражало глубокое отчаяние, он понял, насколько ее скорбь должна была превышать его собственное горе. Медленно приподнимаясь с колен, он дрожащим голосом произнес:
— Я боюсь, уж не призвал ли его Господь к себе… Подойдите сюда, фрейлейн Елена! Если кто‑нибудь может его разбудить, так это разве только вы.
И он подвел ее к постели.
Она упала на колени, схватила руку больного и прижала к губам. Сухие глаза ее впились в его лицо, а губы шептали:
— Господи, пусть и я за ним последую!
В таком положении оставались они в течение нескольких минут: Елена на коленях у постели, возле нее Фриц Дейк, утиравший рукой беспрестанно накоплявшиеся в его глазах слезы, а в соседней комнате кандидат с выражением живейшего участия на лице. Руки его были крестообразно сложены на груди, а губы шептали молитву.
Вскоре явился и доктор с двумя остальными дамами.
Госпожа Венденштейн хотела тоже войти в комнату больного, но доктор ее остановил.
— Здесь никто не может помочь, кроме меня, — сказал он решительно. — Больной принадлежит пока мне. Когда окажется в вас надобность, я позову.
Фриц Дейк почти насильно увел фрау Венденштейн и ее дочь. Елена тихо приподнялась и села на отдаленный стул тут же, в комнате больного.
Доктор внимательно рассматривал лицо больного, освидетельствовал его рану и, приложив руку к сердцу, долго считал его удары.
Кандидат подошел к фрау Венденштейн, которая, закрыв лицо руками, опустилась на первый попавшийся ей стул.
— Не отчаивайтесь, — начал он ее утешать. — Еще не вся надежда потеряна, но если Господу угодно будет положить конец жизни вашего сына, вспомните, что такая же участь, кроме вас, постигла еще многих и многих других!
Рыдания были единственным ответом бедной матери.
Вскоре явился доктор. Едва только он удалился из комнаты больного, Елена заняла свое прежнее место у кровати лейтенанта и опять старалась дыханием согреть его руки.
— Это страшный кризис, — сказал доктор, — причины которого я никак не могу себе объяснить и который оставляет весьма мало надежды. Надо быть ко всему готовыми, но пока еще бьется сердце, пока в больном есть хоть искра жизни, доктору не следует унывать. Помочь тут я почти не в силах: если природа сама не справится, искусство бессильно. Но, — спросил он, обращаясь к кандидату, — каким образом настал этот кризис? Больной в последнее время был так спокоен…
— Когда я к нему вошел, — отвечал кандидат, — он проснулся и попросил пить. Я ему налил его питья, и он, казалось, совершенно хорошо себя чувствовал. Но когда я заговорил с ним, стараясь направить его мысли на высшие духовные предметы, его вдруг начали подергивать судороги и изо рта хлынула кровь. Все это случилось чрезвычайно быстро и совершенно неожиданно.
— Так‑так, — проговорил доктор. — То, чего я надеялся достигнуть постепенно, случилось разом. Накопившаяся в сосудах кровь внезапно излилась. Трудно предположить, чтобы при этом не произошло какого‑нибудь разрыва. Не слишком ли много вы с ним говорили?
— Я ему сказал только то, — отвечал пастор, набожно складывая руки, — что считал своей обязанностью. Слышал ли он меня и понял ли — я не знаю.
— Извините меня, господин кандидат, — перебил его доктор, неодобрительно качая головой, — я вовсе не принадлежу к разряду тех докторов, которые отвергают религию. Я от всей души верю, что помощь является к нам только от Бога, но на этот раз, право, гораздо лучше было бы оставить больного в покое.
— Божественное слово везде и во всякое время уместно, — возразил кандидат холодным, решительным тоном, устремляя кверху исполненный благочестия взор.
— Боже мой, боже мой! — воскликнула Елена в соседней комнате голосом, в котором одновременно звучали и радость и испуг. — Он жив… он просыпается!
Все поспешили к постели больного. Доктор стал у него в головах, а Елена оставалась по‑прежнему на коленях, прижимая к губам руку молодого человека.
Лейтенант открыл глаза и с удивлением обвел ими всех присутствующих.
— Что такое со мной случилось? — спросил он тихим, но вполне чистым голосом, между тем как новая струйка крови обагрила его губы. — Я видел ужасный сон! Мне казалось, будто я умираю!
И он опять закрыл глаза.
Доктор приподнял подушку, на которой покоилась голова больного, и, взяв у Елены его руку, пощупал пульс.
— Стакан вина! — приказал он.
Фриц Дейк бросился вниз и через минуту вернулся со стаканом старого вина темно‑красного цвета.
Доктор поднес его ко рту больного. Тот с жадностью выпил все до последней капли.
Все были в страшно напряженном состоянии. Лицо Елены казалось высеченным из мрамора: вся душа ее тонула в глазах.
Несколько минут спустя легкая краска медленно выступила на щеках больного, он глубоко вздохнул и снова открыл глаза.
Его взгляд упал на Елену, и лицо мгновенно оживилось радостной улыбкой.
— Вздохните поглубже! — сказал доктор.
Больной повиновался.
— Вы нигде не чувствуете боли?
Молодой человек отрицательно покачал головой.
Доктор еще раз пощупал пульс, коснулся рукой головы больного и в течение нескольких минут внимательно прислушивался к его дыханию.
Затем он подошел к фрау Венденштейн и, с улыбкой подавая ей руку, сказал:
— Природа благополучно выдержала натиск страшного кризиса. Теперь ничего более не нужно, кроме спокойствия и подкрепляющих средств. Благодарите Бога: ваш сын спасен!
Старушка приблизилась к постели, долго смотрела в глаза больному, потом нежно поцеловала его в лоб.
Затем она вышла в соседнюю комнату и в изнеможении опустилась там на диван. Обильные слезы хлынули у нее из глаз и не замедлили ее облегчить.
Елена же все по‑прежнему оставалась у постели больного, не выпуская его руки и не отводя глаз от его лица. Только на ее бледных чертах теперь сияла тихая радость.
Кандидат все еще стоял со сложенными руками. Улыбка не сходила с его крепко сжатых губ, между тем как глаза следили за всем, что происходило у постели раненого лейтенанта.
Доктор был занят выпиской рецепта. Затем он присоединился к другим, держа в руках узкую полоску бумаги.
— Пусть, — сказал он, — больной через час принимает по ложке этого лекарства. Я надеюсь, что он проведет ночь спокойно, а завтра или послезавтра мы начнем его откармливать. Теперь он, с Божией помощью, не замедлит выздороветь.
Потом, обращаясь к кандидату, прибавил серьезно:
— Извините меня за нетерпеливые слова, которые я недавно вам сказал. Вы были правы, говоря о всемогуществе божественного слова. Здесь сегодня поистине совершилось чудо! Подобный кризис едва ли из ста раз один оканчивается благополучно! Я преклоняюсь перед этим чудом и с благодарностью и смирением обращаюсь к источнику света, который ниспосылает нам знание и веру, как два различных луча, исходящих из одной и той же точки.
Он говорил с оживлением и в заключение горячо пожал кандидату руку.
Странное выражение промелькнуло на лице последнего.
Он опустил глаза и молча низко склонил голову.
Потом Берман вспомнил, что у него было еще много других больных, которые ожидают его посещения, и простился с фрау фон Венденштейн, еще раз выразив ей свое участие. Он подошел также и к Елене и подал ей руку.
Но почему молодая девушка с таким ужасом вдруг от него отшатнулась? Отчего по всем членам ее пробежал лихорадочный трепет и сердце в ней вдруг точно замерло?
Поймала ли она на лету быстрый, острый взгляд, который из глаз кандидата упал на больного, или она просто поддалась минутному влиянию одной из тех странных антипатий и симпатий, которые часто оказываются проницательнее долгого опыта, самого глубокого знания человеческого сердца и самого тонкого понимания вещей и людей?
Доктор и кандидат удалились. Дамы остались одни при больном, который не замедлил уснуть крепким, безмятежным сном.
Фриц Дейк, благодаря своему крепкому организму, менее прочих пострадал от только что пережитых волнений. Вследствие этого он мог вполне отдаться радости, какую пробудила в нем уверенность в выздоровлении лейтенанта. Отнеся прописанный доктором рецепт в аптеку, он отправился в маленький садик, где Маргарита поливала цветы, которые после знойного дня томно склоняли свои головки на стеблях.
Фриц и Маргарита при этом мало говорили. Он наполнял для нее лейку и делал вокруг корней растений маленькие углубления для воды. Его несказанно радовала ловкость, с какою Маргарита двигалась между цветами, поливая их и подвязывая. Фриц не спускал с молодой девушки глаз и остался чрезвычайно доволен, когда та, заметив это, слегка покраснела.
Потом он вместе с Ломейером и его дочерью приступил к сытному ужину и опять любовался, как Маргарита при этом выполняла свои обязанности хозяйки.
Молодой человек мысленно представлял себе, как она будет украшать своим присутствием его богатый крестьянский дом в Блехове и как старый Дейк останется доволен приобретением такой невестки. О чем думала Маргарита — неизвестно, но вид у нее, когда она прислуживала отцу и гостю и исполняла свои маленькие обязанности с уверенностью опытной хозяйки и с грацией цветущей молодости, был чрезвычайно счастливый.
Таким образом, в доме Ломейера наконец водворилось полное спокойствие и счастье.
А кандидат Берман между тем прилежно обходил своих многочисленных больных и раненых. Он неутомимо утешал одних, напутствовал других и смиренно отклонял от себя всякую благодарность. В лазаретах он все приводил в порядок и всюду давал полезные советы. Все осыпали похвалами благочестивого, кроткого, услужливого молодого пастора.
Глава двадцать первая
Графиня Франкенштейн сидела в приемном салоне своего дома на улице Херренгассе в Вене. Ничто в этом салоне не изменилось; громадные, потрясающие события, прошумевшие ураганом над Австрией и потрясшие глубочайшие корни габсбургского могущества, не оставили следа в этих аристократически спокойных и сановито‑неизменных покоях. Но в них, кроме старинной мебели, видевшей на своих подушках те минувшие поколения, которые теперь смотрели из матово блестящих золотых рам на своих внуков и правнуков, кроме высоких, просторных каминов, пламя которых отражалось в юношески сверкавших глазах теперь давно усопших бабушек, кроме часов с группами пастушков, равнодушно отсчитывавших секунда за секундой часы горя и радости, рождения и смерти уже стольким отпрыскам этого дома, кроме всех этих предметов, безжизненных и вместе с тем полных живучих воспоминаний, привыкших созерцать с высоты спокойного величия преходящие скорби и радости человечества, сидели современные люди, глубоко взволнованные и потрясенные ужасным и неожиданным ударом, постигшим судьбы габсбургского дома и Австрии.
Старая графиня Франкенштейн, как всегда преисполненная серьезного, сановитого достоинства, но с грустным выражением в гордом, спокойном лице, сидела на большом диване, рядом с ней в темном платье сидела графиня Клам‑Галлас, часто прикладывавшая тонкий кружевной платок к глазам. Против дам расположился генерал Рейшах. Лицо его дышало по‑прежнему здоровьем и свежестью, умно и оживленно лучились темные глаза из‑под седых бровей, но над выражением невозмутимой веселости лежал покров грусти. Возле матери, откинувшись в кресло, устроилась графиня Клара. И на ее прелестном молодом личике лежал налет печали, недаром же она была истой дочерью той гордой австрийской аристократии, которая глубоко и жгуче чувствовала унижение, постигшее на кениггрецских полях древние императорские знамена. Но эта печаль лежала только легкой вуалью на выражении счастья, наполнявшего задумчивые глаза. Лейтенант фон Штилов, несмотря на страшную опасность, которой он подвергался при Траутенау и Кениггреце, остался цел и невредим; война почти окончена, и новой опасности для него не предвидится, и тотчас по заключении мира начнутся приготовления к свадьбе!
Молодая графиня сидела, вглядываясь в глубокой задумчивости в привлекательные картины, в которых рисовалось ей будущее, и мало вслушивалась в то, что говорили другие.
— Это несчастие — результат невероятного подобострастия к тому, что кричали снизу, — говорила графиня Клам голосом, дрожавшим от скорби и гнева. — Передали командование Бенедеку только потому, что он был популярен, потому что он сам из народа! Разумеется, все офицеры высшего круга, вся аристократия были оскорблены, отодвинуты на задний план! И вот к чему это привело! Я, конечно, ничего не имею против прав заслуги и таланта — продолжала она, — история учит, что многие из великих полководцев вышли из простых солдат, но из этого еще не следует, что надо выдвигать вперед людей, не имеющих никаких талантов и никаких других заслуг, кроме храбрости, только потому что они не знатного рода! И затем осталась в виноватых та же аристократия! То, что сделали с графом Кламом — неслыханное оскорбление для всего австрийского дворянства!
— Не смотрите на вопрос таким образом, графиня, — сказал Рейшах. — Я, напротив, думаю, что пример графа Клама зажмет рот клевете, потому что нет лучше средства выяснить настоящие причины поражения. Общественное мнение, подстрекаемое парой журналистов, осыпало графа упреками — совершенно справедливо, что он потребовал строгого следствия, и Менсдорф прекрасно сделал, убедив императора согласиться. Подождем конца, он докажет, что австрийская аристократия выше всяких упреков!
— Тяжело мне, — говорила графиня Клам, — сверх гнета общего несчастья, быть так жестоко пораженной лично… — И она вытерла выступившие слезы платком.
— Расскажите нам, барон, — попросила графиня Франкенштейн, воспользовавшись короткой паузой, чтобы переменить разговор, — расскажите нам о ганноверском короле — вы ведь прикомандированы к нему. Я так благоговею перед этим венчанным героем, так глубоко сочувствую его несчастью!
— Удивительно, как твердо и спокойно король переносит свое тяжелое положение! Впрочем, он все еще полон надежд, — боюсь, как бы они его не обманули!
— Неужели осмелятся просто лишить его престола? — вскричала графиня Франкенштейн.
— К сожалению, после того, что говорил Менсдорф, я совершенно в этом уверена, — сказала графиня Клам.
— А Австрия должна это терпеть, — возмутилась графиня Франкенштейн, и ее обычно спокойное лицо вспыхнуло гневом, глаза заблестели.
— Австрия все терпит и вытерпит еще гораздо больше! — вздохнул генерал, пожимая плечами. — Я вижу впереди долгий ряд несчастий, опять начнутся опыты — и каждый новый опыт будет стоить короне перла и лаврового листа. Я боюсь, что мы вступим на стезю Иосифа Второго.
— Боже сохрани! — взмолилась графиня Франкенштейн, всплескивая руками. — Ганноверский король останется здесь? — спросила она, помолчав.
— Кажется, — отвечал Рейшах. — Он живет на Валльнерштрассе, в доме барона Кнезебека, где ему уступила свою квартиру графиня Вильчек. Но я слышал, что он скоро переедет в Гитцинг, на виллу герцога Брауншвейгского. Мне кажется, ему лучше следовало бы отправиться в Англию, ведь он английский принц по рождению, и если ему там удастся перетянуть на свою сторону общественное мнение, что весьма немудрено при его чарующей личности, то Англия — единственная держава, которая, может быть, что‑нибудь для него сделает — и может сделать. Но его нельзя на это подвинуть, а граф Платен, кажется, вовсе и не способен двигать короля к твердым намерениям.
— У меня был граф Платен, — сообщила графиня Клам, — он не верит в аннексию Ганновера.
— Такого сорта люди видят черта только тогда, когда он им на шею сядет, — сказал Рейшах. — Вот генерал Брандис, простой, старый солдат, с ясным, здравым смыслом, был бы лучшим советником для короля в положении, где только скорая и быстрая решимость могла к чему‑нибудь привести. Но он не находит поддержки в Платене…
— Сколько несчастий породили эти несколько дней! — сказала графиня Франкенштейн.
— Ну, — Рейшах встал, — вы можете утешаться счастьем, расцветающим у вас в доме. Держу пари, что мысли графини Клары заняты очень веселыми картинами!
Молодая графиня слегка покраснела и сказала, улыбаясь:
— Что вы можете знать о мыслях молодых девушек?
— Достаточно для того, — отвечал Рейшах, — что если бы я смел теперь принести моей маленькой графине куклу, то выбрал бы ее в зеленом мундире с красными обшлагами.
— Мне кукол давно не надо! — засмеялась молодая графиня.
Фон Рейшах и графиня Клам простились и уехали.
Как только мать с дочерью остались одни, вошел слуга и доложил:
— Пришел незнакомый господин и умоляет графиню принять его на минуту!
— Кто такой? — спросила графиня с удивлением, потому что у нее почти не было отношений вне ее замкнутого общества.
— Вот его карточка! — И слуга подал графине визитку. — Он уверяет, что графине будет очень любопытно его выслушать.
Графиня Франкенштейн взяла карточку и с удивлением прочла: «Е. Бальцер, вексельный агент».
Яркая краска залила лицо графини Клары, она испуганно взглянула на мать и прижала платок к губам.
— Не понимаю, чего может от меня хотеть совершенно мне незнакомая личность… Впрочем, введите его сюда!
Через несколько минут Бальцер вошел в гостиную.
Он был весь в черном, и его пошлое лицо носило выражение величавого достоинства, как‑то плохо шедшего ему.
Он подошел к дамам с поклоном, в котором к наглой уверенности трактирного habitue[95] примешивалось смущение, испытываемое каждым привыкшим к дурному обществу человеком при входе в настоящий аристократический салон.
Графиня Франкенштейн посмотрела на него надменно и холодно, графиня Клара, окинув его пошлую фигуру быстрым взглядом, опустила глаза и с трепетом гадала, какова может быть причина этого необычного посещения.
— Я согласилась вас принять, милостивый государь, вследствие вашего настояния, — начала графиня спокойно и холодно, — и прошу сказать, что вы имеете мне сообщить.
Бальцер поклонился с напускным достоинством и сказал:
— Меня привело к вам, ваше сиятельство, весьма печальное стечение обстоятельств, в котором в одинаковой степени заинтересованы и вы, и я, и ваша дочь…
Глаза Клары устремились на него с выражением глубокого изумления и мучительного ожидания. Светлый, надменный взор графини спрашивал яснее слов: что может быть между нами общего?
Бальцер понял этот взгляд, и чуть заметная насмешливая улыбка показалась на его лице.
— Весьма прискорбный случай, — сказал он медленно и запинаясь, — вынуждает меня вверить вам, графиня, мою честь и посоветоваться с вами, как бы устроить все к общему благу.
— Прошу вас перейти скорее к сущности ваших сообщений — мне время дорого…
Бальцер повертел в руках шляпу в видимом смущении и спросил:
— Ваша дочь помолвлена с лейтенантом фон Штиловом?
Графиня посмотрела на него с глубоким изумлением. Она начинала бояться, что перед ней сумасшедший. Молодая графиня вздрогнула, побледнела и не смела поднять взора.
Бальцер вынул платок и потер глаза. Он театрально протянул к графине руки с умоляющим жестом:
— Графиня, вы сейчас поймете, почему я к вам обратился. Вверяю свою участь вашей скромности, потому что только при вашей помощи может быть распутана эта плачевная путаница.
— Милостивый государь! — графиня выразительно взглянула на колокольчик. — Прошу вас не тянуть.
— Фон Штилов, — сказал Бальцер, — этот легкомысленный молодой человек, который так счастлив, обладая столь прелестной невестой, не побоялся посягнуть на мое домашнее спокойствие, разрушить мое счастье — вступить в преступную связь с моей женой!
Графиня Клара вскрикнула и, закрыв лицо руками, упала в кресло, перед которым стояла.
Графиня Франкенштейн гордо и пристально посмотрела на отвратительного для нее вестника и голосом, в котором не было и следа волнения, спросила:
— Откуда это вы знаете? Уверены ли вы в этом?
— Слишком уверен! — вскричал патетически Бальцер, снова поднося платок к глазам, покрасневшим от трения. — Я люблю свою жену, графиня! Она была моим единственным счастьем! С некоторых пор друзья предупреждали меня, но я не верил этим предупреждениям. А когда про обручение господина фон Штилова с этой прекрасной особой, — он поклонился Кларе, — стало известно в Вене, я считал себя совершенно обеспеченным, потому что в своей простоте, — он положил руку на черный атласный жилет, — не считал возможным такую развращенность…
— Ну? — спросила графиня.
— Пока случайно — о! — сердце мое обливается кровью, как я только подумаю! Вчера я открыл ужасную истину.
Графиня сделала нетерпеливое движение.
— Между письмами, переданными мне с почты, было одно на имя жены, — продолжал он. — Я не обратил внимания на адрес и в уверенности, что оно адресовано ко мне, распечатал его. В нем оказалось ужасное, несомненное подтверждение моего несчастия.
Графиня Клара подавила рыдание.
— Где же это письмо? — спросила графиня‑мать.
Бальцер шумно вздохнул и, вынув из кармана сложенную бумажку, передал графине. Она взяла, развернула и прочла. Потом бросила на стол и крикнула:
— Что вы сделали!
— Графиня! — заговорил патетически Бальцер. — Я люблю свою жену. Она тяжко передо мною виновата — это правда, но я все‑таки ее люблю и не теряю надежды вернуть ее себе.
Графиня презрительно пожала плечами.
— Я не хочу ее отталкивать, я хочу ей простить. — говорил Бальцер слезливым голосом, — и потому я пришел поговорить с вами, графиня, просить вас…
— О чем? — спросила графиня.
— Вот видите ли, я думал, — сказал Бальцер, вертя свою шляпу, — если бы вы… ведь теперь в Вене так скучно, — если б вы уехали в свои поместья, или в Швейцарию, или на итальянские озера, — подальше отсюда, — и взяли бы с собой лейтенанта Штилова, — тогда бы он здесь не остался… и не мог продолжать отношений с моей женой. А я бы ее тоже на время отсюда удалил, а после свадьбы графини молодые поехали бы в фамильное имение господ Штиловых. Он забыл бы мою супругу, и все пришло бы в порядок. Если мы будем действовать сообща, по одному плану…
Он говорил медленно и запинаясь, часто прерываясь и пытливо поглядывая то на мать, то на дочь. Покрасневшие от слез глаза Клары горели негодованием, она напряженно, полуоткрыв рот, ждала слов матери, как бы боясь, что та не сумеет дать надлежащего ответа.
Графиня Франкенштейн выпрямилась и заговорила тоном холодного презрения:
— Благодарю вас за ваше сообщение, милостивый государь, открывшее нам вовремя глаза. Но сожалею, что не могу быть полезной восстановлению вашего домашнего счастья. Вы сами можете понять, что графиня Франкенштейн не может брать на себя исцеления барона Штилова от такой недостойной страсти и не должна продолжать отношений, которыми барон так мало дорожил. Стало быть, мы предоставляем вам самим изыскать способ вернуть к себе вашу жену.
Глаза Клары вполне одобрили мать. Гордым движением отвернувшись от Бальцера, она молча и с большим трудом удерживаясь от слез, смотрела сквозь стекла одного из больших окон гостиной.
Бальцер, изображая глубокое отчаяние, всплеснул руками:
— Боже мой! Извините, что я в своем горе думал только о себе и о своей жене, и упустил из виду, что вы… Я думал только о том, что вы желаете этой партии, и надеялся, что поэтому вы согласитесь действовать со мной заодно.
— Графиня Франкенштейн не может желать партии, которая недостойна ее, — сказала графиня с невозмутимым спокойствием, — а теперь, я полагаю, продолжение этого разговора не имеет смысла.
Она слегка поклонилась, Бальцер будто бы в отчаянии ломал руки:
— О, как я был глуп! Я теперь вижу, что мне вовсе не следовало говорить вам все то, что я высказал. Я теперь понял, что вы ничем не можете мне помочь! Но, графиня, будьте милосердны до конца! Сохраните мне мою тайну! Штилов в порыве ярости отомстит мне, произойдет скандал… Вам и вашей дочери, конечно, все равно, но мне и моей супруге! О, пожалейте нас!
И он сделал движение, как будто хотел броситься к ногам графини.
— Милостивый государь, — ответствовала графиня, — я не вижу никакой надобности обсуждать это… неприятное обстоятельство… с бароном Штиловом.
Клара поблагодарила мать взглядом.
— Я прекращу отношения моей дочери с бароном Штиловом под каким‑нибудь благовидным предлогом, и тогда вам останется сделать то, что вы сочтете за лучшее. Тайна ваша будет сохранена.
И она кивнула головой, недвусмысленно давая знать Бальцеру, что ему пора уходить. Тот, как будто подавленный невыносимым горем, молча поклонился и вышел.
Он проворно сбежал с лестницы, и как только вышел за дверь, серьезное и печальное выражение на его лице сменилось пошлой усмешкой торжества.
«Ну, — бормотал он про себя, — кажется, дело сделано, и тысяча гульденов заслужена честно. Теперь моя супруга может снова ловить своего любезного дружка сколько угодно — и поймает! Она на это мастерица! А тогда, — продолжал он, все более и более ухмыляясь, — я буду иметь право не стесняясь черпать из золотой руды этого юного миллионера!»
Негодяй поспешил к жене с отчетом.
Когда он вышел из гостиной, Клара, не говоря ни слова, разрыдалась и бросилась на шею матери.
— Крепись, моя девочка! — говорила тихо графиня, гладя ее блестящие волосы. — Тяжелое испытание послал тебе Господь, но лучше теперь порвать недостойные тебя отношения, чем если бы этот же удар постиг тебя позже!
— О, мама! — с трудом выговаривала сквозь слезы молодая графиня. — Я была так счастлива! Он меня так уверял, что совершенно свободен, и я ему так слепо верила!
— Ступай в свою комнату, дитя мое, — велела графиня, — тебе нужен покой. А я подумаю, как лучше всего устроить дела. Отсутствие барона значительно облегчает задачу: мы поедем в деревню, я все устрою. Успокойся и не теряй присутствия духа, чтобы свет не заметил: наш долг нести наши горести одиноко и безропотно. Только мелкие, пошлые души показывают свои раны всякому встречному. Господь тебя утешит, а на груди матери ты всегда найдешь место для твоих слез!
И, нежно приподняв дочь с кресла, в которое та было бросилась в порыве скорби, она сама проводила ее в комнату.
В больших, просторных покоях снова раздавалось однообразное раскачивание маятника посреди глубокой тишины и портреты предков глядели из рам с той же неизменной, величавой улыбкой; глаза, смотревшие так спокойно и приветливо в былые дни, тоже плакали и гордым усилием заставляли слезы литься в свои же сердца, чтобы не вызывать сострадания или злорадства света. И вечно вперед стремящееся время после часов печали и скорби снова дарило моменты счастья. Все это было не ново в старом доме старинного рода.
Вдруг в прихожей раздался шум, послышалось бряцание сабли. Слуга отворил дверь, и в гостиную вошел лейтенант Штилов, свежий, цветущий и веселый; сияющими глазами оглядел он комнату и с удивлением оглянулся на слугу.
— Они только что были здесь, — оправдывался слуга, — у графини был один господин по делу — они, должно быть, только что вышли, я сию минуту доложу, что господин барон…
— Нет, любезный друг, — сказал молодой офицер, — не докладывайте, дамы, вероятно, сами скоро вернутся, и мне хотелось бы сделать им сюрприз. Не говорите ничего!
Слуга поклонился и вышел.
Молодой офицер прошелся по гостиной взад и вперед. Счастливая улыбка царила на его лице, восторг свидания после разлуки, во время которой ему угрожала смерть в самых разных видах, предвкушение увидеть неожиданную радость в глазах любимой девушки — все это наполняло сладкой тревогой его молодое сердце.
Он подошел к креслу, где обыкновенно сиживала графиня Клара рядом с матерью, и прижал губы к спинке, на которой часто покоилась ее головка.
Затем он сел в это кресло, полузакрыл глаза и отдался сладким грезам, — и часовой маятник отмерял время, пролетавшее над этими счастливыми, полными надежд грезами тем же однообразным темпом, как и минуты терзания, только что на этом самом месте наполнившего сердце той, чей образ носился в его мечтах.
Пока молодой человек сидел здесь в мечтах и ожидании счастья, Клара находилась в своей комнате — четырехугольном покое с одним большим окном, отделанной и меблированной серой шелковой материей. Перед окном стоял письменный стол, рядом пирамидальная этажерка с цветами, разливавшими по комнате аромат. На столе, на изящной бронзовой подставке стоял большой фотографический портрет жениха, подаренный им перед отъездом в армию; в нише, в углу комнаты, располагался пюпитр с изящным, черного дерева и со слоновой кости Распятием; рядом у на стене висела маленькая раковина со святой водой.
В комнате имелось все, что могут дать изящный вкус и богатство для украшения жизни, атмосфера ее еще так недавно была полна счастья и надежды, а теперь? Цветы благоухали, как час тому назад, солнце светило в окно по‑прежнему, — но куда девалось счастье, куда скрылась надежда?
Клара бросилась на колени перед изображением Распятого, в чем она часто находила утешение в своих детских огорчениях былой поры. Девушка ломала красивые, белые руки в задушевной мольбе, глаза, полные слез, устремились на изображение Спасителя, губы шевелились в полуслышной молитве, — но мир и покой не нисходили по‑прежнему в ее душу.
Она встала и глубоко вздохнула, из глаз сверкнуло уже не горе, а гнев. Она прикусила губы белыми зубами и начала ходить по комнате взад и вперед, прижимая руки к груди, как бы желая унять бурю чувств, грозившую разорвать сердце.
Она остановилась перед письменным столом и сердито, враждебно посмотрела на портрет Штилова.
«Зачем ты ворвался в мою жизнь? — думалось ей. — Чтобы лишить меня покоя и радостей и заставить заплатить за несколько мгновений обманчивого счастья такими страшными муками!»
Взгляд ее долго покоился на портрете, медленно и постепенно исчезало выражение гнева с ее черт, глаза засветились грустной кротостью.
— А как хорошо было это короткое счастье! — шепнула она. — Неужели эти честные, добрые глаза лгали? Неужели в то же самое время…
Она опустилась на стул перед столом и почти бессознательно, по старой привычке, открыла шкатулку из черного дерева, удивительно красиво выложенную золотом и перламутром.
В этой шкатулке лежали письма ее жениха, письма из лагеря, все маленькие записочки, многие сильно перепачканные от множества рук, через которые им приходилось проходить, чтобы дойти до нее. Она знала все их наизусть — эти приветы любви, говорившие так мало и так много, ожидаемые ею с таким томлением, получаемые с таким ликованием, с такой тихой радостью вновь и вновь перечитываемые.
Почти механически она взяла одну из них и медленно пробегала глазами строки. Но вдруг с отвращением бросила бумажку на стол.
— И та же рука, — вскричала она, — которая написала эти слова!.. — Она не кончила и мрачно посмотрела вдаль. — Но правда ли это? Может быть, злоба, зависть… Ведь я знала, что эта женщина не была ему чужда… Ведь я не сравнивала почерков… Боже мой! Несчастное письмо осталось в гостиной, — что, если кто‑нибудь из прислуги… — И, быстро вскочив со стула, она бросилась из комнаты, торопливо миновала промежуточные покои, вошла в гостиную и направилась прямо к столу, на котором было оставлено несчастное письмо между двумя вазами с цветами и канвовой работой.
Шум ее шагов пробудил молодого человека от его мечтаний. Он быстро приподнялся из полулежачего положения и увидел ту, чей облик наполнял его мысли.
Невозможно было бы изобразить в словах те чувства, которые в эту минуту наполнили грудь молодой девушки. Сердце ее сперва сильно забилось радостным восторгом, когда она так нежданно‑негаданно увидела перед собой любимое существо, но в следующий же миг она содрогнулась, вспомнив о том, что ее навсегда отделило от стоявшего перед ней воплощения счастья. Мысли ее путались в мучительной тревоге, она не находила сил ни заговорить, ни уйти и стояла, не двигаясь, не отрывая глаз от неожиданного гостя.
Молодой человек одним прыжком оказался возле нее, он раскрыл было объятия, но потом, быстро спохватившись, опустился на колени, взял ее руку и запечатлел на ней долгий, пламенный поцелуй.
— Вот, — заговорил он, — вот мое счастье, моя радость, моя звездочка! Вот опять твой верный рыцарь у твоих ног, твой талисман сохранил меня — святое сияние моей звездочки было сильнее всех грозных туч, меня окружавших!
И сияющими глазами, полными любви и счастья, он посмотрел ей в лицо.
В ее широко раскрытых глазах почти не было выражения; казалось, вся ее кровь отхлынула к сердцу, будто впечатление этого момента подавило все ее мысли, всю ее волю.
Он радовался этой неподвижности, приписывая ее неожиданности свидания, и сказал:
— Генерал Габленц отозван к императору и взял меня сюда с собой — вот почему я здесь раньше, чем предполагал.
Он отстегнул лацкан мундира и вынул из‑под него изящный золотой медальон с прихотливо выложенной из бриллиантов буквой «С», говоря с улыбкой:
— Вот талисман, которым меня благословила моя дама и который охранял меня от всех опасностей: он всегда покоился на моей груди и может засвидетельствовать, что все удары моего сердца принадлежат моей любви!
Он открыл медальон: на синей бархатной подкладке под стеклышком лежала засохшая роза.
— А теперь мне не нужен безжизненный талисман, так как передо мной стоит живая роза моего счастья!
Он встал, нежно положил руки на ее плечи и поцеловал девушку в лоб.
Она вздрогнула, глаза метнули молнию гнева и презрения, щеки вспыхнули.
— Барон! — почти крикнула она, отодвигаясь от него. — Прошу вас, оставьте меня!
Губы дрогнули, она не находила слов и отвернулась, чтобы выйти из комнаты.
Штилова точно громом поразило. Что это значит? Что случилось? Неужели она уйдет, не рассеяв этого ужасного мрака сомнений? Он бросился к ней, протянул обе руки и произнес голосом, полным любви и тоски, полным горя и страха:
— Клара!
Она вздрогнула, остановилась, силы грозили ее оставить, она пошатнулась.
Штилов поддержал ее и посадил в кресло. Потом опустился перед ней на колени и проговорил с мольбой и страхом:
— Ради бога, Клара, что случилось? Что с тобой?
Приложив платок к глазам, она тихо плакала, потеряв всякое самообладание.
Дверь отворилась, и вошла графиня Франкенштейн.
Она с глубоким изумлением уставилась на группу, которую увидела перед собой.
Штилов быстро поднялся.
— Графиня! — сказал он. — Не можете ли вы разрешить мне загадку, перед которой я стою: что такое с Кларой?
Графиня поглядела на него спокойно и серьезно.
— Я не ждала вас так скоро, — заговорила она, — иначе я распорядилась бы немедленно довести до вашего сведения, что моя дочь больна. Мы оставляем Вену надолго, и я думаю, что при подобных условиях лучше отложить пока планы, которые мы строили насчет будущего. Дитя мое, — обратилась она к дочери, все еще тихо плакавшей в кресле, — ступай в свою комнату.
— Клара больна? — с ужасом переспросил молодой человек. — Боже мой! Давно ли? Нет, этого не может быть — что‑то другое стряслось здесь без меня… Умоляю вас!
Быстрым порывом молодая графиня выпрямилась, гордо вскинула голову и, пристально взглянув на Штилова, сказала:
— Случай — или Провидение привело вас сюда именно теперь. Пусть между нами будет правда — я, по крайней мере, не хочу молчать!
И прежде чем графиня успела вставить слово, она быстро подошла к столу, схватила письмо и подала его молодому офицеру жестом, исполненным гордого достоинства. Затем снова залилась слезами и бросилась на шею матери.
Штилов прочел письмо, и яркая краска залила его лицо. Он опустил голову.
— Я не знаю, как могло попасть сюда это письмо… Я думал… я заключил из некоторых слов Клары, что ей известно несчастное увлечение, которому я поддался было… Я думал, что, несмотря на прошлое, она все‑таки отдала мне свое сердце, и не понимаю…
Клара посмотрела на него пылающими глазами.
— Несмотря на прошлое! — произнесла она с горькой иронией. — Да, потому что я поверила вашему слову, я поверила, что все это было только в прошедшем… Я не знала, что мне придется делить настоящее с этим прошедшим!
— Боже мой! — говорил Штилов, все более и более недоумевая. — Я ровно ничего не понимаю… Как могло старое письмо…
— Старое письмо? — переспросила строго графиня. — Писанное всего неделю тому назад!
Штилов посмотрел на бумагу. Глаза его широко раскрылись. Он долго молча держал перед собой листок, им же самим написанный. Наконец, пылая гневным волнением, он обратился к дамам:
— Я не знаю, какой демон затеял эту адскую игру. Не понимаю, кому понадобилось разлучать два сердца, предназначенные самим Богом друг для друга! Графиня, — продолжал он, — вы обязаны сказать мне правду, я требую правды: кто вам дал это письмо?
Клара тяжело дышала и не сводила глаз с молодого человека.
Графиня, видимо, боролась с отвращением, которое ей внушал весь этот разговор, и холодно ответила:
— Вы можете дать честное слово, что все это останется между нами?
— Честное слово! — сказал Штилов.
— Это письмо нечаянно попало в руки мужа этой дамы, и о…
— Обман! Бессовестный обман! — крикнул Штилов полугневно, полурадостно. — Я еще не очень понимаю его цели, но какова бы она ни была… Графиня! Клара! Это письмо написано год тому назад… Посмотрите, если вглядитесь хорошенько, то заметите, что число только что написано свежими чернилами. Это постыдная интрига!
И он протянул письмо графине.
Она его не взяла и холодно взглянула на молодого человека. В глазах Клары сверкнул луч надежды — любящее сердце так склонно верить и надеяться!
Штилов бросил письмо.
— Вы правы, графиня, — сказал он, гордо выпрямляясь, — это доказательство для адвокатов!
И он подошел к Кларе, опустился на колени и, взяв в руку медальон с засохшей розой, сказал задушевным голосом:
— Клара! Клянусь этим святым воспоминанием о первых часах нашей любви, клянусь талисманом, сопровождавшим меня во всех ужасах войны: это письмо написано год тому назад, прежде чем я тебя знал!
Он встал.
— Графиня, — прибавил он серьезно и спокойно, — даю вам честное слово дворянина, носящего имя, честно и беспорочно переходившее из века в век, носящего меч, бесстрашно обнажившийся против врагов Австрии, что дата на этом письме подделана и что я, с тех пор как полюбил Клару, не обменялся с той женщиной ни одним словом, и ни одна моя мысль не принадлежала ей. Я не спрашиваю, верите ли вы моим словам — графиня Франкенштейн не может сомневаться в слове дворянина и австрийского офицера. Но я тебя спрашиваю, — прибавил он с жаром, обращаясь к Кларе, — веришь ли ты, что мое сердце принадлежит тебе беззаветно и нераздельно? Хочешь ли ты остаться звездой моей жизни?
Он молча ждал, опустив голову.
Молодая графиня смотрела на него с выражением беспредельной любви. Счастливая улыбка играла на ее губах. Легким шагом подошла она к нему и с пленительным жестом подала ему руку.
Он поднял глаза и встретил ее кроткий, лучистый взгляд, увидел ее любящую улыбку, ее живой румянец. Он быстро протянул к ней обе руки, она нагнулась и спрятала голову на его груди.
Графиня смотрела на юную пару с кроткой, счастливой улыбкой, и в комнате водворилось продолжительное безмолвие.
Старые часы отмерили и эти моменты своим неспешным маятником — моменты, следующие один за другим вечной чередой и никогда не уравновешивающиеся в непрестанной смене короткого счастья долгими несчастиями, составляющими человеческую жизнь на земле.
Когда поздним вечером Клара вернулась в свою комнату, она положила золотой медальон с засохшей розой на пюпитр, к подножию Распятия, и на этот раз ее молитва поднялась к нему окрыленной, как аромат весенних цветов, и в сердце ее звучали чистые, дивные мелодии, точно хвалебные песни ангелов, окружающих престол вечной любви!
Часть четвертая
Глава двадцать вторая
В просторном светлом кабинете своего дома в Петербурге, за громадным письменным столом, перед грудой бумаг, поражавших, несмотря на их большое количество, образцовым порядком, сидел вице‑канцлер Российской империи князь Александр Горчаков. Несмотря на ранний утренний час, он был полностью одет: поверх нижнего платья из белой летней материи на нем был легкий черный сюртук, который он из‑за жары расстегнул. Его тонкое, интеллигентное лицо, с легкой ироничной складкой около умного рта, с короткими седыми волосами, обхватывалось снизу высоким черным галстуком с стоячими воротничками. Проницательные глаза, часто сверкавшие из‑под золотых очков добродушным, почти веселым юмором, смотрели сегодня печально и недовольно на начинавшийся день.
Перед князем стоял его доверенный секретарь Гамбургер, весь в черном, — мужчина среднего роста, со смелым и умным выражением в оживленных глазах. Он докладывал князю о текущих дипломатических делах. На столе перед ним лежал большой пакет с бумагами. Он только что кончил один доклад и отметил резолюцию министра на бумаге, которую держал в руке. Затем присоединил документ к большому пакету, взял его со стола и поклонился в знак того, что доклад кончен.
Князь взглянул на него с удивлением.
— Вы разве готовы? — спросил он коротко.
— Точно так, ваше сиятельство.
— Но у вас еще множество бумаг, которые вы опять с собой уносите, — сказал князь, взглянув на объемистый пакет в руках секретаря.
— Я буду иметь честь доложить о них завтра.
— Почему не сегодня? Вы всего четверть часа здесь, и у нас есть время! — заметил министр с легким оттенком неудовольствия в голосе.
Гамбургер молча взглянул на князя своими умными, зоркими глазами и затем произнес спокойно, с легкой, чуть заметной улыбкой:
— Вы, ваше сиятельство, сегодня, кажется, провели дурно ночь и не в лучшем расположении духа. У меня между предметами, подлежащими докладу, есть несколько, для которых, по особой их важности, весьма желательно, чтобы вы были хорошо настроены. Я боюсь, что ваше сиятельство само впоследствии станет гневаться, если эти обстоятельства примут оборот, которого я имею основание сегодня опасаться.
Князь пристально посмотрел на него сквозь золотые очки, но ему не удалось ни заставить секретаря потупить честный, спокойный взгляд, у ни согнать с его лица выражение приветливости.
— Гамбургер, — сказал он, и в углах глаз показались первые проблески возвращающегося юмора, — я вас сделаю своим врачом! К сожалению, вы не умеете лечить, но что касается диагноза, вы рождены быть доктором — я теперь никогда больше не дерзну быть при вас в дурном расположении духа!
— Ваше сиятельство, конечно, не предполагает, — Гамбургер с улыбкой склонил голову, — чтобы я позволил себе посягать на свободу вашего расположения духа. Я прошу только позволения соображаться с ним в своих докладах.
— Да как же мне не быть в дурном расположении духа, — спросил князь полушутя‑полусердито, — когда весь мир выходит из своих старых, избитых колей, когда и без того уже тяжко потрясенное европейское равновесие совершенно рушится и когда все это совершается без всякого участия России, без того, чтобы мы что‑нибудь выиграли при новом строе вещей! Я рад, что Австрия разбита, — продолжал он в раздумье. — Она в неслыханной неблагодарности покинула нас в час испытания, ее фальшивая дружба вредила нам не менее наших явных врагов. Но меня заботит и тревожит, что эта победа зашла так далеко, что в Германии сталкивают с престолов законных государей, что на нашей границе образуется угроза в лице германской нации. Пруссия, — продолжал он после короткой паузы, — была нашим другом, могла им быть и должна была им быть. Но то, что теперь возникнет, будет уже не Пруссия, а Германия. И вспомните, какою ненавистью к России с тысяча восемьсот сорок восьмого года было пропитано германское национальное движение! В Париже ничего не сделают, — потребуют вознаграждений, — и, я думаю, ничего не добьются… Да, если бы тогда Наполеон мог решиться, тогда наступил бы, быть может, момент, удобный для вмешательства. Но мы одни ничего не могли сделать!
— Ваше сиятельство изволит выслушать, что скажет генерал Мантейфель — он должен быть скоро здесь, — напомнил Гамбургер, вынимая часы.
— Что он скажет? — досадовал князь. — Будет разговаривать, разъяснять, и ничего больше. А что нам ответить? Сделать bonne mine au mauvais jeu — voila tout![96]
Гамбургер тонко усмехнулся.
— Ваше сиятельство изволит послушать, — повторил он. — Что касается меня, то я не могу себя убедить в том, что России следует относиться враждебно к новому строю Германии. Мешать он, в сущности, не может, старое европейское равновесие давно вышло из колеи, — а вес России достаточно велик, — прибавил он с гордостью, — чтобы не бояться нового раздела тяжестей. Россия — великое, мощное национальное тело — не должна коснеть в старых преданиях, она должна вступить в будущее свободно и без предрассудков, и если сила других держав увеличится, то ведь и русское могущество не замкнуто в неизменные рамки.
Он вынул из папки, которую принес с собой, пачку документов и положил их на стол возле князя.
Тот слушал внимательно, задумчиво устремив проницательный взор вдаль.
— Что это вы положили на стол? — спросил он.
— Парижский трактат, ваше сиятельство, — отвечал Гамбургер.
Тонкая улыбка мелькнула на губах князя. Светлый луч из его глаз упал на секретаря.
— Гамбургер, — сказал он, — вы просто удивительный человек — я думаю, вас следовало бы бояться!
— Отчего, ваше сиятельство? — спросил секретарь спокойным, почти наивным тоном.
— Мне кажется, вы читаете мысли людей, — ответил князь, все более и более приходя в свое обычное светлое настроение.
— Нельзя же не учиться кое‑чему в школе вашего сиятельства. — Гамбургер с улыбкой поклонился.
Князь взял Парижский трактат и, просматривая его, задумался. Потом вдруг поднял глаза и спросил:
— А генерал Кнезебек, посланный сюда ганноверским королем, уже в Царском Селе?
— Он отправился туда сразу после аудиенции у вашего сиятельства. Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть, чтобы послу отвели квартиру там.
— Он уже видел государя? — спросил князь.
— Нет, ваше сиятельство, — вы сами просили Его Величество принять его только тогда, когда вы переговорите с генералом Мантейфелем.
— Совершенно справедливо, — отвечал князь задумчиво. — Государь принимает большое участие в ганноверском короле, но мне бы не хотелось, чтобы мы чем бы то ни было связали себя. Одни мы можем сделать мало, единственно возможное — это чтобы император своим личным влиянием удержал прусского короля от присоединений. Но и это весьма сомнительно. Необходима крайняя осторожность. Его Величество перед каждым шагом должен вполне уяснить себе все его последствия.
Вошел камердинер и доложил:
— Генерал фон Мантейфель.
Гамбургер ушел в боковую дверь кабинета. Князь встал.
Всякий след дурного расположения духа исчез с его лица, которое приняло выражение спокойной, безукоризненной вежливости.
Мантейфель вошел. Он был в парадном мундире генерал‑адъютанта прусского короля, с синим эмалевым крестом Pour le Merite[97] на шее, со звездой русского Александра Невского на груди, с орденом Белого орла и со звездой прусского Красного орла.
Своеобразное, резко очерченное лицо генерала, с густыми, короткими, низко со лба растущими волосами, с окладистой, только немного на подбородке пробритой бородой, утратило обычное строгое, почти мрачное выражение. Он подошел к русскому министру приветливо и любезно, как бы с простым визитом вежливости, и только живые, проницательные серые глаза из‑под густых бровей устремлялись на лицо князя с выражением тревожного ожидания.
Князь подал генералу руку и вежливым движением предложил занять место в кресле, стоявшем возле письменного стола.
— Радуюсь, — сказал он, — возможности приветствовать ваше превосходительство в Петербурге и прошу извинить, — прибавил он, бегло взглянув на парадный мундир генерала, — что я принял вас в этом утреннем костюме, рассчитывая на совершенно дружескую и частную беседу…
— Я имею честь передать Его Императорскому Величеству письмо от моего всемилостивейшего государя, — отвечал генерал, — и хотел быть ежеминутно готовым представиться Его Величеству. Разумеется, после того, как выскажу вашему сиятельству цель моего поручения.
Князь слегка поклонился.
— Цель вашего поручения высказана в высочайшем письме? — спросил он.
— Это только верительная грамота, которая ссылается на мои личные разъяснения, сущность которых не могла быть предметом письменной инструкции для здешнего посольства.
— Граф Редерн говорил мне об этом, — сказал князь Горчаков, — когда сообщил о предстоящей мне чести вашего посещения.
И, слегка прислонясь к спинке кресла, он взглянул на генерала с выражением предупредительного ожидания.
— Король приказал мне, — начал Мантейфель, — изложить как вашему сиятельству, так и Его Величеству императору с величайшей откровенностью и полным доверием те воззрения, которые должны в настоящую минуту преобладать в прусской политике в Германии и Европе: этого требуют близкие отношения обоих царствующих домов и дружеские их связи.
Князь поклонился.
— Успех прусского оружия, — продолжал генерал, — жертва, которую принесли государство и весь народ, чтобы добиться этого успеха, налагают на Пруссию обязанность прочно и твердо обеспечить приобретенное как для себя, так и для нового строя Германии в смысле национального целого, а прежде всего — как можно деятельнее устранить возможность возврата событий, подобных только что совершившимся.
Князь молчал, глаза его выражали только вежливое внимание.
— Король потому принял известные вашему сиятельству основные условия французского мирного посредничества, — продолжал Мантейфель, — не замедлив тотчас же заявить о настоятельной необходимости усилить прусские владения путем территориального расширения, соответствующего воззрениям, о которых я только что имел честь докладывать вашему сиятельству, и Австрия заранее согласилась на всякое подобное расширение Пруссии на севере.
Полупрезрительная‑полусострадательная усмешка мелькнула на одно мгновение на устах князя, затем его лицо вновь приняло прежнее внимательно‑спокойное выражение.
— Король, — продолжал Мантейфель, не сводя глаз с Горчакова, — решил, таким образом, осуществить наше усилие, необходимое не только для Пруссии, но и для Германии, посредством присоединения Ганновера, Кур‑Гессена, Нассау и города Франкфурта.
Генерал замолчал как бы в ожидании ответа министра.
Ни одна черта не шевельнулась в лице князя. Ясно и приветливо смотрели его глаза сквозь золотые очки на генерала, и в этих глазах явственно читалось: я слушаю!
Мантейфель продолжал:
— Эта необходимая мера глубоко и больно затрагивает короля, так как с нею связано применение суровых мер к родственным княжеским домам. Его Величество долго боролся, но долг относительно Пруссии и Германии не мог не одержать в его королевском сердце победу над чувством сострадания и над родственными соображениями. Поэтому он решился на присоединение.
Генерал снова, казалось, ждал ответа или, по крайней мере, замечания собеседника, но лицо князя оставалось спокойным и неизменным, как портрет, и на нем сохранялось только одно выражение — непоколебимой решимости выслушать с пристальным вниманием все, что ему будет сказано.
Мантейфель продолжал:
— Совершившиеся события требуют довольно значительного пересмотра тех основ европейских отношений, которые были установлены венскими трактатами. И король считает поэтому необходимым изложить Его Императорскому Величеству побудительные причины, которые им руководят и должны были руководить: он придает совершенно особое значение тому, чтобы эти причины были вполне и справедливо одобрены той державою, которая вместе с Пруссией до сих пор почти одна в Европе твердо держалась упомянутых трактатов.
Князь слегка поклонился.
— Венские трактаты! — наконец произнес он, пожимая плечами. — Кто же о них вспоминает теперь в канцеляриях современной дипломатии?
— Чем более Его Величество король, — продолжал Мантейфель, — проникнут справедливостью принципов, которые легли в основание тех трактатов и Священного союза, тем глубже он скорбит об отступлении Австрии от этих принципов и от этого союза; чем более прусская политика в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году доказала свою верность трактатам, тем более моему всемилостивейшему государю желательно убедить Его Императорское Величество в том, что только сознание безусловной необходимости могло привести к тому, чтобы решиться на изменения, предстоящие в Германии, и подвергнуть родственные княжеские дома суровым последствиям войны.
— Мы знакомы с последствиями, приносимыми войной побежденному, — сказал князь со спокойной вежливостью, — мы уже десять лет несем эти последствия на берегах Черного моря!
— Несчастье, в котором Пруссия не повинна, — отвечал Мантейфель, — о котором у нас живо сожалели и прекращение которого мы, конечно, приветствовали бы с радостью.
Князь промолчал. Легкий проблеск в его глазах выдал внимательно наблюдавшему генералу, что его слова были весьма приятны.
Он продолжал:
— Его Величеству было бы глубоко прискорбно, если б неизбежности германской политики как бы то ни было затронули узы тесной дружбы и безусловного доверия, существующие между дворами Берлина и Петербурга. Он, напротив, надеется, что они не только будут продолжать связывать Пруссию и вновь возникающую Германию с Россией, но представлять новый и политически еще более твердый базис для фактического, силой вещей обусловленного союза между обеими державами.
Князь опустил на мгновение глаза. Потом заговорил тоном спокойной беседы:
— Мы все здесь знаем — и я могу заверить, что император, мой всемилостивейший государь, больше всех — цену искренней и откровенной дружбы с Пруссией, и я не сомневаюсь, — прибавил он любезно, — что в данном случае эта дружба доказала бы себя на деле письменным договором. Только в настоящую минуту я затруднился бы придумать фактические условия для подобного трактата. Россия отдыхает и организуется, — продолжал он, слегка оживляясь, — и не имеет никаких оснований как бы то ни было вмешиваться в вопросы европейской политики, в формирование национальных групп, если только русские интересы не страдают от этого прямо и непосредственно. Мы можем, — он выразительно посмотрел на собеседника, — сожалеть о переменах, от которых рухнут основы древних княжеских престолов в Германии, но видеть в этих переменах повод к деятельному вмешательству или основания для практического союза я не считаю возможным. Кроме того, — прибавил Горчаков после короткой паузы, — новые условия Германии кажутся мне, говоря откровенно, неспособными укрепить политические дружеские отношения берлинского двора к нам. Вы сами хорошо знаете по опыту тысяча восемьсот сорок восьмого года, что немецкое движение всегда было враждебно России; Германия, быть может, не повсеместно примет политические воззрения Пруссии.
— Я полагаю, что ваше сиятельство в этом отношении ошибается, — сказал Мантейфель с некоторым оживлением. — Демократическое движение тысяча восемьсот сорок восьмого года, воспользовавшееся национальной идеей только как вывеской, видело в России начало реакции и пустило в ход, следуя по стопам своих предводителей, из ненависти к России, один из тех подстрекающих кличей, которыми приводят в движение массы, но истинно национальные стремления Германии не имеют ничего враждебного к России и с радостью приветствовали бы ее национальное усиление и могущественное положение в Европе!
Князь молчал. В лице его проглядывало легкое сомнение.
Мантейфель продолжал:
— Позвольте мне, ваше сиятельство, изложить воззрения, которые мой всемилостивейший государь питает в этом отношении и которые, разумеется, вполне разделяет и министр‑президент, граф Бисмарк.
Князь слегка наклонился и слушал с напряженным вниманием.
Лицо генерала оживилось, и он продолжал убеждающим тоном:
— История учит, что все союзы, возникающие из минутных, преходящих политических констелляций, если даже они скреплены торжественнейшими трактатами, так же непрочны и неустойчивы, как и вызвавшие их причины. А когда, наоборот, два государства или два народа связываются одно с другим политическими, неизменными жизненными условиями, там союзы прочно и твердо переживают времена и выступают на свет при каждом практическом случае, основаны ли они на договорах или нет. Первое и существенное условие таких естественных союзов отрицательное: интересы обоих государств никогда не пересекаются, никогда не входят в противоречие. Это первое и неизбежное условие несомненно существует в отношениях Пруссии к России, в чем ваше сиятельство, конечно, со мной согласится. Устремления Пруссии направлены на запад. Германская нация жаждет единства, твердого и мощного управления — призвание, благороднейшее честолюбие Пруссии состоит именно в том, чтобы сосредоточить это управление в могучей длани своих королей. Пруссия должна добиться владычества над всей Германией, она не должна до тех пор успокоиться, пока не достигнет этой высокой цели для себя и для всей нации. То, что теперь достигнуто, — это только шаг, правда, шаг значительный на великой стезе, по которой предстоит пройти немецкой политике Пруссии, но еще далеко не окончательный. Но и финал не далек, потому что существеннейшее препятствие, стоявшее у нас на пути — могущество и влияние Австрии в Германии, подорвано, и подорвано надолго, как мне кажется, навсегда. На пути, на который вступила Пруссия, по которому она должна следовать к своей цели, ей могут встретиться интересы Франции, Италии, Англии, но никогда интересы великого, все более и более укрепляющегося Русского государства. Потому что куда, к каким законным целям стремится русская политика?
Ясные глаза князя Горчакова впились проницательно и выжидательно в оживленное, взволнованное лицо генерала — разговор, видимо, близился теперь к существеннейшим вопросам.
Генерал на мгновение опустил глаза, потом заговорил, слегка запинаясь:
— Ваше сиятельство, извините меня, если я осмелюсь высказать вам, человеку, гений которого воодушевляет русскую политику и руководит ею, свое мнение на цели этой политики, так как полнейшая откровенность существенно необходима для полного взаимопонимания и согласия, а именно в нашем общем понимании политических задач лежит условие, необходимость подобного соглашения.
Князь снова молча поклонился и ждал.
— Задача великого основателя Русской монархии, — продолжал Мантейфель медленно, как бы подыскивая надлежащие выражения для своих мыслей, — задача Петра Великого заключалась в создании европейски цивилизованного государства, и для выполнения этой великой задачи он должен был создать канал, которым цивилизация могла бы хлынуть в жилы великого государства, проникнуть в него животворно и плодоносно. Так я понимаю избрание Петербурга в столицы новой России. Петербурга, который, исходя из внутренних условий и жизненных потребностей великой империи, никогда не мог бы быть избран в ее столицы, потому что жизненные центры державы лежат не на севере, не в этом отдаленном углу государства, но на юге, там, где великая национальная производительная сила богатым ключом бьет из‑под почвы. Они там, где естественный путь соединяет мировую торговлю Азии с Европой, этих двух частей света, которым Россия подает обе свои руки. Эти жизненные условия, — продолжал он после минутного молчания, причем взгляд его прямо и твердо устремился на Горчакова, — лежат в Черном море!
Легкая тень пробежала по лицу русского министра, он невольно взглянул на бумагу, которую положил перед ним на стол фон Гамбургер.
Мантейфель продолжал:
— Первая, великая задача, которую поставил себе Петр Великий, исполнена: объемный, могучий национальный организм России пронизала европейская культура, и мы должны сознаться не без некоторого стыда, что она в один век догнала всю остальную Европу.
— Нам пришлось только усвоить то, что Европа создала тяжелыми усилиями, — сказал скромно князь.
— Последние великие мероприятия императора Александра, — продолжал Мантейфель, — завершают дело, открыв также и глубокие слои народа прямому влиянию жизненного духа цивилизации. Одним словом, первая фаза русской политики пройдена, Петербург исполнил свое назначение. На мой взгляд, задача будущего в том, чтобы вызвать плодотворное развитие национальных сил из такого центра, который бы соединял все серьезно производительные, так сказать, экономические условия, оживить окончательно сплотившийся организм и заставить его плодотворно работать. Для этого вам необходимо Черное море с его богатым бассейном: там лежит истинный центр России, там должно развиться его будущее, как совершенно верно прозрел гениальный император Николай, стремившийся обеспечить развитие России в том направлении.
Взгляд князя снова упал на бумагу, составлявшую столь важный для России документ.
— Но на этом пути, — продолжал генерал, — по которому Россия должна, по моему убеждению, и теперь следовать — и следовать до конца, — прибавил он с нажимом, — как нам необходимо идти по нашей стезе в Германии, на этом пути, говорю я, русские интересы никогда не пересекутся с интересами Германии. Напротив, мы с радостью будем видеть, как наш сильный национальный сосед так же счастливо выполняет свое естественное призвание, как мы надеемся выполнять свое.
Он замолчал и вопросительно взглянул на князя.
Тот, слегка вздохнув, сказал спокойно:
— К сожалению, печальный результат Крымской войны поставил на пути, указанном вашим превосходительством с таким тонким пониманием наших экономических условий, — и Горчаков, слегка улыбаясь, наклонил голову, — такие непреодолимые преграды, что…
— Ведь и мы, — вставил живо Мантейфель, — и мы на нашем пути часто и долго стаивали в ожидании, но мы из‑за этого никогда его не покидали, никогда не теряли надежды достичь цели.
Князь помолчал несколько секунд. Потом медленно заговорил:
— Я признаю вместе с вашим превосходительством, что интересы Пруссии — даже новой Пруссии и Германии — не могут столкнуться с интересами России. Я не стану после ваших слов сомневаться и в том, что национальное движение в современной Германии не унаследовало ненависти к русским от демократического движения тысяча восемьсот сорок восьмого года. Я с удовольствием вижу в этих отношениях ручательство в том, что между нами не встанут никакие тучи. Но с той же откровенностью, с которой говорили вы со мной, ваше превосходительство, я должен ответить, что не могу усмотреть, каким образом современное положение и — все‑таки, с точки зрения законного права, прискорбное изменение европейского равновесия могут послужить основой более твердых политических уз, более прочного союза в будущем. Вы идете своим путем победоносно, а нам наш путь надолго, быть может, навсегда прегражден.
— Позвольте мне, ваше сиятельство, — проговорил быстро Мантейфель, — высказаться в этом отношении с беззаветной откровенностью, которую вы, — прибавил он, улыбаясь, — не вмените в преступление солдату, только что вернувшемуся из лагеря и являющемуся на дипломатическом поприще только в качестве дилетанта.
Из‑под полуприкрытых век князь устремил на собеседника взгляд, исполненный невыразимого юмора.
Генерал провел рукой по усам и сообщил:
— Император Наполеон требует вознаграждения за согласие на новые приобретения Пруссии и новое устройство Германии.
— Вот как? — произнес князь.
— И, — продолжал Мантейфель, — в Париже не церемонились в выборе того, что они желают получить взамен.
— Я не посвящен в эти переговоры, — заметил Горчаков, причем его взгляд выразил живое участие.
— Я могу сообщить вашему сиятельству все необходимые сведения, — отвечал Мантейфель. — Французы требуют границ тысяча восемьсот четырнадцатого года, Люксембурга и Майнца.
Черты князя все более и более оживлялись.
— Требуют? — спросил он.
— Требование еще не поставлено открыто, — отвечал генерал, — Бенедетти высказался на этот счет только еще конфиденциально.
— И что отвечал граф Бисмарк? — полюбопытствовал князь.
— Он отсрочил разъяснение и решение вопроса до заключения мира с Австрией, — сказал Мантейфель.
Князь тонко усмехнулся и слегка кивнул головой.
— Но я могу вашему сиятельству вперед предсказать ответ, — продолжал генерал.
— В чем же он будет заключаться?
— Ни пяди земли, ни одной крепости, никакого вознаграждения! — произнес твердо и громко Мантейфель.
Горчаков посмотрел на него с удивлением, как будто не ожидал этого простого, короткого ответа.
— А что сделает Франция? — спросил он.
Генерал пожал плечами.
— Может быть, объявит войну, — отвечал он, — может быть, будет пока молчать, ждать, вооружаться. Во всяком случае, возникнет сильная напряженность, и неизбежным следствием будет война.
Князь посмотрел с удивлением на этого военного, говорившего с тонким пониманием о целях и нитях политических интересов и упомянувшего с такой солдатской простотой, как о естественном выводе, о войне, под громами которой Европа должна содрогнуться, потрястись в своих основаниях.
— Вот положение, — сказал Мантейфель. — Прошу у вашего сиятельства позволения высказать мои взгляды на его последствия и на отношение России к этим последствиям.
— Слушаю вас с нетерпением, — сказал князь.
— Положение, которое я только что охарактеризовал, — продолжал генерал, — передает в руки России решение вопроса о том, в каких отношениях станут навсегда в будущем империя и Германия. Если русская политика воспользуется настоящим положением, чтобы создать нам какие‑то затруднения, то эта политика, — прошу извинения у вашего сиятельства — для уяснения моего взгляда я должен коснуться всех возможных случайностей, — эта политика даже при благоприятнейших условиях доставила бы Франции прирост могущества, не помешав пересозданию Германии, и во всяком случае навсегда создала бы для вас из Пруссии и Германии соперника, который только о том и думал бы, как бы войти в соглашение с западными державами насчет европейских дел, и сделал интересы тех держав своими собственными.
Мантейфель говорил твердо и решительно, прямо глядя в глаза вице‑канцлеру.
Князь опустил глаза и прикусил губу.
— Еще раз прошу извинения у вашего сиятельства, — сказал генерал, — в том, что я для разъяснения моего взгляда должен был коснуться случайности, которая, без сомнения, далека от ваших мудрых политических воззрений. Я перехожу к другой вероятности: если Россия, верная старым традициям обоих дворов, отнесется к увеличению Пруссии одобрительно и разумно воспользуется данным моментом для того, чтобы прийти к соглашению с новой Германией насчет оснований, которые должны упрочить дружеские отношения между этими двумя державами в обоюдных их интересах. Или Франция, придравшись к отказу в вознаграждениях, тотчас же объявит войну — но мы ее не боимся, она в один момент соединила бы всю Германию и была бы принята без колебаний, особенно если у нас за спиной благосклонным другом будет стоять Россия. Для России же не может быть лучше случая порвать путы, наложенные трактатом тысяча восемьсот пятьдесят шестого[98] года на развитие ее естественных и необходимых задач. Пока мы держим Францию под шахом, никто вам не помешает прорвать те естественные преграды, которые поставила вам австрийская сторона в союзе с западными державами на Черном море, на этом пункте, в котором лежит будущность России.
Глаза Горчакова засветились, в чертах его ясно выразилось радостное понимание мысли, которую Мантейфель развивал так оживленно и убедительно.
Мантейфель продолжал:
— Если же совершится то, что я лично считаю вероятным, а именно — что Франция, уже упустившая надлежащий момент…
Князь одобрительно покачал головой.
— Если Франция в настоящее время промолчит, начнет собираться и вооружаться — расклад окажется еще лучше, потому что будет еще вернее и надежнее. Напряженное состояние, всегда предшествующее неизбежной войне, даст нам возможность крепче и теснее сплотить национальные силы Германии, и вам останется время сделать все приготовления на юге и западе и обратиться за океан, чтобы на всякий случай обеспечить себе своего естественного союзника.
— Генерал, — Горчаков улыбнулся, — вы основательно изучили русские дела…
— Потому что я люблю Россию, — отвечал чистосердечно Мантейфель, — и потому что я вижу спасение Европы в искренней, неразрывной дружбе между Россией и Германией. Однако я сейчас закончу, — продолжал он. — Когда рано или поздно возгорится решающая, последняя борьба с Францией, тогда во всяком случае будет разбит союз западных держав, так тяжело на вас отзывавшийся, и вам ничего не будет стоить держать под контролем возможные мстительные побуждения Австрии. Вам будет предоставлена полная свобода снова открыть Черное море вашим национальным интересам и вашему национальному будущему. Мы, со своей стороны, на пути достижения наших естественных целей можем только радостно приветствовать быстрое и мощное движение России к выполнению ее исторической миссии. Да, — прибавил он, — мы вам всегда и везде будем оказывать мощную поддержку в этом отношении. Если бы я вообще сомневался, к какому решению мог бы прийти всегда такой дальновидный политический деятель, как вы, ваше сиятельство, то я бы сказал: что лучше — чтобы две державы, интересы которых нигде не приходят во враждебное столкновение, парализовали одна другую взаимными препятствиями, или чтобы они помогли одна другой свободным и чистосердечным соглашением достичь того могущественного положения, которое им естественно приличествует — вести рука об руку судьбы Европы?
Он замолчал и слегка наклонился в ожидании ответа князя.
С лица Горчакова окончательно спала та холодная сдержанность, которая легла было на него в начале разговора.
Серьезно, почти торжественно смотрели глаза, обратившиеся на прусского посланника.
— Любезный генерал, — сказал князь твердым, звонким голосом. — Если основания и воззрения, которые вы мне только что высказали так горячо и убедительно, суть воззрения вашего правительства…
— Они во всех отношениях разделяются моим всемилостивым государем и его министром, — сказал спокойно и твердо Мантейфель.
— В таком случае я могу ответить вам так же откровенно, что мы в основных чертах совершенно сходимся в понимании современного положения.
Луч радости сверкнул из глубоких, серьезных глаз генерала.
— Вопрос только в том, чтобы точнее определить применение общих начал и воззрений к случайностям практического положения дел, — продолжал князь, — и твердо установить базис взаимного содействия в будущем.
— Я готов приступить к этому немедленно, — заверил генерал.
— Но прежде всего, — предложил князь, — мы должны просить Его Величество утвердить наше соглашение. Если вам угодно, мы сейчас же отправимся в Царское Село: вы потрудитесь все, что сейчас мне высказали, изложить еще раз перед Его Величеством.
Мантейфель поклонился.
— Я надеюсь, — произнес он, — что преданность моему отечеству и искренняя любовь к России придадут моим словам ясность и убедительность.
Князь позвонил.
— Прикажите подать карету, — отдал он распоряжение вошедшему камердинеру. Потом обратился к Мантейфелю: — Извините меня на минуту, я сейчас буду готов вам сопутствовать.
И удалился через боковую дверь. Мантейфель подошел к окну и стал задумчиво смотреть сквозь стекло.
Через пять минут князь вернулся. На нем был вицмундир со звездой Черного орла над звездой Св. Андрея.
— Прошу вас, — пригласил министр с вежливым жестом.
Мантейфель, а за ним князь вышли за порог.
Вечером того же дня удивительно прекрасный парк, окружающий императорский дворец в Царском Селе, лежал в полном блеске лучей позднего солнца. Это величественное создание Екатерины I постоянными усовершенствованиями доведено в настоящее время до волшебного очарования. Насчет тщательности содержания его рассказывают, между прочим, что на изящных дорожках никогда не увидишь упавшего осеннего листка.
Из бокового флигеля громадного дворца, сверкавшего сквозь темную листву высоких деревьев своими позолоченными орнаментами и величественными кариатидами, под лучами западающего солнца, вышел генерал Кнезебек. Он приехал утром в Царское Село на отведенную ему по повелению императора квартиру и ждал аудиенции, на которой должен был передать Его Величеству письмо своего короля, поручившего генералу просить посредничества Александра II в пользу Ганновера.
Серьезно и печально шел генерал по прекрасным аллеям, унылые мысли теснились в поникшей голове. Высокое внимание, с которым его приняли, предоставленные в его распоряжение экипажи и прислуга — все это не могло сгладить впечатления, вынесенного им из беседы с князем Горчаковым, так же как из намеков придворных, с которыми ему довелось говорить, что для его короля надежды мало. Все относились к нему с сочувствием и симпатией, но в атмосфере двора есть известный ток, который для привыкших к этим сферам уловить не стоит труда. Почти всегда этот ток позволяет заранее предугадывать, благоприятны ли созвездия для просителя или нет.
Генерал с самого начала не сочувствовал политике ганноверского двора — он зорко провидел слабость Австрии и глубоко скорбел о непонятном образе действий ганноверской армии во время короткого похода. Он многими связями тяготел к Пруссии и всем сердцем сочувствовал объединению Германии, но он был верный слуга своему государю, и глубокая печаль овладела им при мысли о злополучном будущем, которое казалось неустранимым, если его миссия не увенчается успехом.
Он расхаживал медленно взад и вперед, погруженный в глубокую задумчивость.
Вдруг генерал очутился перед искусственной развалиной, превосходно задуманной и уединенно поставленной между высокими деревьями.
Кнезебек подошел к ней. При виде генеральского мундира слуга в придворной ливрее почтительно отворил дверь, и генерал вступил в высокую, круглую, сверху освещенную башню. То была истинно английская капелла — полутемная, серьезная, строгая. Он удивленно оглянулся. Перед ним высилась мраморная фигура Спасителя — невыразимо прекрасное создание Даннекера. Спаситель одною рукою указывал на свою грудь, другую поднял к небу неподражаемо изящным, величественным движением.
Генерал долго в раздумье стоял перед поражающим изваянием.
— Наши скорби положить на божественную грудь Спасителя и в смирении ждать решения свыше, — прошептал он наконец. — Не само ли Провидение привело меня именно теперь и именно сюда, к этому божественно прекрасному изображению?
Подавленный могучим впечатлением художественного произведения, Кнезебек сложил руки и долго стоял в сосредоточенном безмолвии.
— Если колесу всемирной истории в своем неудержимом стремлении вперед надлежит так многое раздавить и уничтожить, пусть же, по крайней мере, из борьбы и страданий этих дней возникнет величие и могущество германского отечества и счастье германского народа, — говорили тихо его уста. И, еще раз бросив долгий взгляд на изваяние, он отвернулся и вышел в парк.
Генерал направился ко дворцу и остановился перед большим прудом, при котором стоит так называемое адмиралтейство, где великие князья упражняются в постройке корабельных моделей. У изящного входа в адмиралтейство виднелось множество разнообразных лодок и судов всех пяти частей света: турецкая каюка, китайская джонка, русский челнок и китоловная лодка алеутов покачивались рядом; искусные матросы были готовы к услугам желающих покататься.
Генерал рассеянно разглядывал эту пеструю картину, когда к нему поспешно приблизился придворный лакей и сообщил, что его просят к государю императору.
Быстрым шагом и тяжело дыша генерал вернулся на свою квартиру и застал там флигель‑адъютанта. Надев шарф и каску, он поспешил вместе с флигель‑адъютантом через большую, роскошную террасу дворца в покои императора.
Прихожая была пуста, дежурный камердинер тотчас же отворил дверь кабинета императора. Флигель‑адъютант, вернувшись после короткого доклада, пригласил генерала Кнезебека войти.
В светлой комнате, большие окна которой выходили на террасу и обильно впускали мягкий, приятный летний воздух, перед ним предстала высокая фигура Александра II. Император был в русском генеральском мундире. Его прекрасное, всегда серьезное, почти печальное лицо было взволнованно. Большие, выразительные глаза устремили на генерала взгляд, полный глубокого сострадания.
Его Величество сделал шаг навстречу генералу и сказал своим сильным, мелодичным голосом, на чистейшем немецком языке:
— Вы приехали поздно, генерал! Но я все‑таки рад здесь видеть вас, верного слугу своего государя!
И он подал генералу руку, которую тот взял почтительно и в глубоком волнении.
— Если бы я мог только, — заговорил он, — быть полезным моему тяжко испытанному судьбой государю! Прежде всего я должен исполнить поручение, — и он вынул из‑под мундира запечатанное письмо, — и передать письмо моего государя в высочайшие руки Вашего Императорского Величества.
Александр II взял письмо, сел в кресло и указал рукой на другое, приглашая гостя сесть рядом.
Император распечатал письмо и медленно, внимательно прочел его.
С минуту он просидел, молча и печально склонив голову, потом поднял глубокий взгляд на генерала и произнес:
— У вас есть еще что‑нибудь сообщить мне?
— Я могу прибавить еще то, — сказал Кнезебек, — что король, мой всемилостивейший государь, в полном признании совершившегося факта, силой событий сделавшего прусского короля победителем в Германии, готов заключить с его прусским величеством мир и принять условия, вынуждаемые необходимостью. Его Величество высказал то же самое в письме, обращенном к королю Вильгельму, но письмо это не было принято. Король надеется, что Ваше Императорское Величество, по чувству всегда высоко ценимой дружбы, соизволит взять на себя дружественное посредничество для предотвращения тех крайних мер, о которых уже говорят во всех газетах.
Император глубоко вздохнул и опустил глаза.
— Любезный генерал, — сказал он, — вы приехали поздно. Я в самом деле питаю искреннейшую дружбу к королю и всей душой желал устранить столкновение, печальные последствия которого теперь осуществляются. Я старался подействовать в этом смысле, но мне не удалось. Положение вещей ставит меня против вас. Желанию моего сердца быть полезным королю противостала неизменимая политическая неизбежность, о которой дядя мой, король Вильгельм, скорбит не менее меня.
Генерал глубоко вдохнул. Лицо его скорбно передернулось, глаза сверкнули слезой.
Император смотрел на него долго с выражением искреннейшего участия.
— Я едва решаюсь, — продолжал он мягким тоном, — сделать вам единственное предложение, возможное в данных обстоятельствах и которое я берусь исполнить, если прусский король согласится. Если королю будет угодно, — произнес медленно Его Величество, — то кронпринцу Эрнсту‑Августу может быть обеспечено наследие в Брауншвейге.
Генерал помолчал с минуту.
— Таким образом, — сказал он, — вельфский дом был бы ограничен первобытным и древнейшим наследием своих предков! Позвольте мне, Ваше Императорское Величество, немедленно сообщить моему государю это предложение, на которое я сам не в состоянии дать никакого ответа.
— Пожалуйста! — сказал император. — Если у вас нет под рукой более удобного средства, — прибавил он, — то отправьте депешу к графу Штакельбергу, он доставит и ответ.
— Слушаю, Ваше Величество.
— Будьте уверены, — говорил император задушевным голосом, — что я преисполнен живейшего и искреннего участия к королю. Да устроит Господь будущность его дома как можно лучше, и если я могу чем‑либо содействовать этому, пусть король не сомневается в моей готовности. Как ни прискорбен повод, — прибавил он, — мне все‑таки приятно было иметь случай познакомиться с вами, генерал!
Александр подал Кнезебеку руку и крепко ее пожал.
Затем позвонил и приказал позвать адъютанта.
— Отправляйтесь сию же минуту с депешей, которую вам даст генерал, к князю Горчакову. Ее нужно немедленно отправить к моему посланнику в Вену. Ответ должен быть безотлагательно доставлен сюда, к генералу.
Кнезебек вышел из кабинета с низким поклоном.
Через час электрический провод передавал его депешу в Вену.
Наступила ночь. Тревожно и без сна встретил генерал солнце, незадолго перед полуночью скрывшееся за горизонтом, а теперь снова поднимающееся на востоке, соединяя вечерние сумерки с утренними.
В двенадцать часов к нему явился секретарь князя Горчакова и передал запечатанный пакет.
Кнезебек торопливо сорвал печать с большим двуглавым орлом и прочел начисто переписанную ответную депешу.
Она гласила:
«Король не может делать предметом переговоров брауншвейгское наследство, принадлежащее ему и его дому по всем правам. Поэтому он готов немедленно отречься от престола, если это может повести к водворению кронпринца во главе правительства Ганноверского королевства».
— Я этого ждал! — сказал генерал, печально вздыхая.
И, спрятав бумагу на груди, он надел каску и сел в стоявшую наготове карету, чтобы отправиться к императору Александру.
Глава двадцать третья
Император Наполеон снова сидел в своем кабинете в Тюильри, но в усталом, вытянувшемся лице не было выражения довольства и спокойной уверенности. Короткое пребывание на водах Виши не укрепило его здоровья, и политическая ситуация сложилось не так, как ему хотелось. Мрачен и серьезен был император. Он оперся локтями о колени, нагнул голову вперед и, крутя левой рукой кончики усов, слушал доклад сидевшего перед ним министра иностранных дел.
Друэн де Люис был сильно взволнован, легкая краска играла на его обыкновенно столь спокойном лице, оживленные, умные глаза светились огнем раздражения, подавляемого только большим усилием воли.
— Государь, — говорил он, — вот последствия медлительной, нерешительной политики, которую я так давно умоляю Ваше Величество оставить. Если бы Ваше Величество вовсе не допустило войны между Пруссией и Австрией или если бы месяц тому назад наша армия двинулась к Рейну, настоящие затруднения вовсе не возникали бы или Франция получила то, что ей следовало получить при новом переделе Германии. Теперь мы в очень тяжелом положении, и потребуются вдвое большие усилия для того, чтобы отстоять интересы Франции.
Император слегка приподнял голову и бросил из‑под опущенных век продолжительный взгляд на встревоженное лицо своего министра.
— Вы думаете, — спросил он, — что в Берлине в самом деле отвергнут всякие требования о вознаграждении? Майнц можно, пожалуй, оставить им, если он перестанет быть крепостью или будет превращен во второстепенное укрепление, но неужели они осмелятся?
Он приостановился.
— Я убежден, — ответил Друэн де Люис, — что добровольно они нам ничего теперь не уступят. Мир с Австрией заключен, прусская армия свободна идти куда ей заблагорассудится и находится на военном положении, стало быть, имеет громадное преимущество перед нами. Из России слухи очень неблагоприятны — неудовольствие в Петербурге уступило место большой сдержанности, и барон Талейран в последние дни получал только уклончивые ответы на все свои замечания насчет опасности объединенной в военном отношении Германии. Впрочем, краткие отчеты Бенедетти не оставляют никакого сомнения относительно его предложений в Берлине. Мы должны будем употребить большие усилия.
Император опять посмотрел долгим, задумчивым взглядом.
— Бенедетти должен вернуться сегодня утром, мне любопытно выслушать его личный отчет, — сказал он.
— Он, вероятно, отправился на Ке‑д’Орсэ, — отвечал Друэн де Люис.
Занавесь, скрывавшая дверь в комнату секретаря, зашевелилась, и из‑за нее показалось умное, тонкое лицо Пьетри.
— Государь, — сказал он, — господин Бенедетти здесь и спрашивает, угодно ли Вашему Величеству его принять?
— Сейчас же! — распорядился живо император. — Введите его сюда.
Через минуту посланник был в кабинете. Он был в черном утреннем сюртуке, бледное лицо носило следы утомления от дороги, глаза блестели нервным возбуждением.
Он низко поклонился императору и поздоровался с Друэном де Люисом.
— Я ждал вас с нетерпением, — признался Наполеон, — сядьте и расскажите, что делается в Берлине?
— Государь, — сказал посол, взяв стул и садясь против императора и Друэна де Люиса, — я поехал на Ке‑д’Орсэ доложиться господину министру, но, узнав, что он здесь, взял смелость явиться прямо сюда…
— И правильно сделали, — одобрил император, — вы видите здесь весь конституционный правительственный аппарат в сборе, — продолжал он, улыбаясь. — Ну, говорите, я слушаю с нетерпением.
Бенедетти глубоко вздохнул и сказал:
— Как Вашему Величеству известно, я представил полученный мной из Виши проект трактата графу Бисмарку немедленно по его возвращении в Берлин, в совершенно интимной беседе.
— И?.. — спросил император.
— Он просто и коротко отклонил всякое вознаграждение, прежде всего Майнц.
— Вот видите, Ваше Величество! — вставил Друэн де Люис.
Император покрутил усы и опустил голову.
— Я, — продолжал Бенедетти, — делал упор на все основания, побуждающие нас в эту минуту требовать уступок для Франции, я изложил, какими соображениями мы должны руководствоваться относительно общественного мнения в стране. Я ставил на вид, как ничтожны требуемые нами вознаграждения сравнительно с увеличением прусского могущества, говорил, что военно‑сосредоточенная Германия обязана дать Франции гарантии для мира в будущем, — все тщетно: министр‑президент стоял на своем и только повторил, что национальное чувство Германии никогда не допустит таких уступок.
Император молчал.
— Через два дня, — продолжал Бенедетти, — я имел второе совещание с графом Бисмарком — и оно дало такой же результат. Я осторожнейшим образом указал на опасность, которая может возникнуть из отрицания наших справедливых требований для будущих добрых отношений между Пруссией и Францией, но и это привело лишь к тому, что граф Бисмарк дал мне почувствовать, тоже осторожным, но не оставляющим сомнения способом, что даже ввиду такой опасности он будет настаивать на своем и не отступит от самых крайних последствий своего отказа. Впрочем, я должен заметить, что наша беседа ни на минуту не выходила из пределов вежливейших, даже дружественных форм, и граф Бисмарк неоднократно повторял, что очень дорожит добрыми отношениями к Франции. Министр‑президент высказал убеждение, что интересы Германии и Франции в Европе, даже при новых условиях, будут иметь множество общих пунктов, и результатом уступчивости с нашей стороны может быть политика, основанная на упроченной взаимной дружбе. При таких обстоятельствах я счел необходимым не продолжать переговоров, а как можно скорее приехать сюда, чтобы лично дать отчет о положении дел в Берлине.
Друэн де Люис прикусил губу.
Император медленно поднял глаза на Бенедетти и пытливо на него посмотрел.
— И вы полагаете, — спросил он, — что общественное мнение в Пруссии и Германии будет на стороне графа Бисмарка, если он осмелится объявить войну Франции? Вы думаете, что король…
— Ваше Величество, — с оживлением заговорил Бенедетти, — я именно это и хотел довести до вашего сведения, для того чтобы все наши решения могли быть приняты с полным знанием дела. Война против Австрии далеко не была популярна в Пруссии. Если бы она имела несчастный исход, наверное, произошли бы внутренние беспорядки. Теперь же я не могу утаить от Вашего Величества, что в этом случае успех, по обыкновению, имел большое влияние на умы. Прусский народ как будто пробудился от сна. Цели министра‑президента, которые теперь так же ясны для всех, его стойкость и энергия не только всеми одобряются, но вызывают всеобщий восторг. Граф Бисмарк в настоящую минуту — самый популярный человек в Пруссии, и если что может довести эту популярность до апогея, так это именно война, предпринятая с целью возвратить Германии некогда принадлежавшие ей провинции. Армия, генералы и принцы королевского дома вполне разделяют всеобщее настроение, а в военных кругах эти вопросы встречают полное сочувствие, которое и высказывается там вполне свободно. Король ни на минуту не задумался бы начать подобную войну. Таково положение вещей, и я считал своей обязанностью вполне прояснить его Вашему Величеству.
— Но вся остальная, побежденная, но не уничтоженная Германия, что думает она? — спросил Друэн де Люис, так как император продолжал молчать.
— С положением вещей в остальной Германии я, конечно, менее знаком, чем с настроением умов в Берлине, — ответил посланник. — Впрочем, я внимательно следил за выражением общественного мнения в газетах и, кроме того, нередко вел беседу о Германии с людьми, которые хорошо ее знают. Результат моих наблюдений следующий: я пришел к убеждению, что в настоящую минуту, когда еще так свежо воспоминание недавнего опыта, ни одно немецкое правительство не осмелится принять сторону Франции против Пруссии. Весь германский народ, я в том уверен, за исключением, может быть, какой‑либо ничтожной партии, в случае войны непременно объявит себя за Пруссию. Нам пришлось бы тогда иметь дело с целой Германией.
— Франция не должна отступать ни перед каким врагом, когда дело идет о ее чести и выгодах, — гордо заметил Друэн де Люис.
Бенедетти опустил глаза и после некоторого колебания сказал:
— Я должен еще сообщить Вашему Величеству, что мне известно из весьма верного и хорошо знакомого Вашему Величеству источника, что между Пруссией и южногерманскими правительствами составлен тайный договор, в силу которого эти правительства обязались в случае войны предоставить свои войска в распоряжение Пруссии.
— Это невозможно! — живо воскликнул император, выпрямляясь. — Это было бы полным уничтожением мирного договора!
— Наши представители при южногерманских правительствах ничего о том не говорят, — заметил Друэн де Люис.
— Я уверен в том, что утверждаю, — спокойно возразил Бенедетти.
Император встал. Оба его собеседника тоже поднялись с своих мест. Друэн де Люис с напряженным вниманием смотрел на своего государя.
— Любезный Бенедетти, — сказал тот чрезвычайно дружелюбно, — я полагаю, вы устали с дороги, прошу вас, отдохните. Я вам очень благодарен за сведения и за усердие, которое вас побудило мне их лично передать. Я завтра еще с вами повидаюсь и тогда сообщу вам мои дальнейшие инструкции.
И он с утонченной любезностью подал посланнику руку.
Тот низко поклонился и вернулся в комнату Пьетри.
— Ваше Величество изволили убедиться, что наши предложения отвергнуты, — сказал Друэн де Люис.
Император гордо выпрямился. Его лицо приняло выражение сипы, а в глазах сверкнул луч непреодолимой решимости.
— В таком случае мы будем действовать, — заявил Наполеон.
Лицо министра засияло радостью.
— Франция поблагодарит Ваше Величество за эту решимость! — воскликнул он.
Император позвонил.
— Генерала Флери! — приказал он вошедшему камердинеру.
Минуту спустя в кабинет явилась плотная, мощная фигура генерала с выразительным лицом, украшенным бородой а‑ля Генрих IV.
— Собрались маршалы? — спросил Наполеон.
— Все налицо, Ваше Величество.
Друэн де Люис с удивлением посмотрел на императора.
Тот отвечал на его взгляд улыбкой.
— Вы должны убедиться, мой любезный министр, — сказал он, — что я не предаюсь апатии. Вы видите, я уже подумал о приготовлениях к действию, которое вы считаете необходимым. Я надеюсь, вы останетесь мною довольны. Прошу вас меня сопровождать.
Он вместе с министром вышел из кабинета и направился в большую, с изящной простотой убранную залу, посреди которой стоял стол, а вокруг него кресла.
Здесь собрались все высшие чины французской армии, все обладатели маршальского жезла, который в течение веков составлял цель самых горячих стремлений и который покупался ценою такого количества пролитой крови.
Тут были: престарелый маршал Вальян, гораздо более похожий на придворного, нежели на военного; седовласый, с проницательным взглядом граф Реньо де Сен‑Жан д’Анжели; Канробер с длинными волосами, которого скорей можно было принять за ученого, чем за воина; несмотря на свои преклонные лета, изящный, с рыцарской осанкой граф Барагэ д’Илье; военный министр граф Рандон; весь точно составленный из мускулов и нервов худощавый Мак‑Магон, с тонкими, мягкими чертами лица и светло‑голубыми глазами; болезненный Ниэль, с серьезным, страдальческим лицом, которому он своей несокрушимой силой воли придавал выражение энергии; наконец, маршал Форей с бодрым, воинственным видом.
Здесь недоставало самого младшего из маршалов — Базена. Он находился в Мексике и готовился предоставить несчастного императора Максимилиана его трагической участи. Все маршалы были в черной штатской одежде.
Император отвечал на их низкий поклон исполненным дружелюбия и достоинства приветствием. Он твердыми шагами подошел к середине стола, занял стоявшее там кресло и сделал знак рукой, приглашая садиться всех остальных.
Против императора поместился Друэн де Люис, по правую руку — маршал Вальян, по левую — граф Барагэ д’Илье. Остальные расселись по старшинству.
— Господа маршалы! — громким голосом заговорил император. — Я собрал вас всех, в том числе тех, которые командуют находящимися за границей войсками, не исключая и вас, герцог Маджентский, с целью спросить, как у достойнейших представителей французской армии, совета и мнения по поводу весьма важного вопроса.
Маршалы вопросительно смотрели на императора.
— Вам всем известны, — продолжал Наполеон, — последние события, совершившиеся в Германии. Пруссия хочет, употребляя во зло свою победу при Садовой, создать из Германии военное государство, которое будет постоянно угрожать французским границам. Я не считал себя вправе вмешиваться во внутреннее развитие Германии. Немецкая нация имеет такое же право сама устраивать свою судьбу, какое требует для себя Франция и какое она признает за всеми остальными державами. Но как на французском государе на мне лежит обязанность заботиться о безопасности наших границ. С этой целью я открыл переговоры об уступке Франции тех естественных границ, которые и в стратегическом отношении обеспечивали бы ее полную безопасность. Я говорю о границах тысяча восемьсот четырнадцатого года[99], то есть о Майнце и Люксембурге.
Император обвел глазами всех присутствующих. Он ожидал радостного и восторженного одобрения.
Вместо того маршалы сидели молча, опустив головы. Даже ясные глаза Мак‑Магона и те не отозвались на воинственное заявление императора.
Наполеон продолжал:
— По некоторым соображениям оказывается, что в Берлине не согласны выполнить справедливые требования, выставленные мною от имени Франции. Прежде чем идти далее и доводить дело до крайности, я желаю выслушать ваше мнение о войне с Пруссией — войне весьма важной и серьезной для Франции.
Друэн де Люис нахмурился — не такой оборот хотелось ему придать делу.
— Мне известно, — сказал император, от зоркого глаза которого не ускользнуло неудовольствие маршалов, вследствие чего он, верный своей натуре, тотчас же спохватился и подавил первый порыв, — что Франция достаточно сильна и хорошо вооружена, чтобы отразить всякое нападение. Но прежде чем приступить с нашей стороны к войне, долженствующей иметь важные последствия, нам следует очень хорошо, очень точно взвесить наши силы и нашу боеспособность. Поэтому я попрошу вас, господа маршалы, высказать ваше мнение о случайности войны с Германией и о способе, которым надлежало бы вести подобную войну.
Старый маршал Вальян заговорил веско и спокойно:
— Государь, лет двадцать тому назад сердце мое радостно встрепенулось бы при мысли о такой войне — о мести за Ватерлоо. Теперь же старческая осторожность берет верх над юношеским пылом, над порывистым стремлением французского сердца во что бы то ни стало одержать победу. Прежде чем решить такой трудный, серьезный вопрос, необходимо составить комиссию для точного исследования положения армии и боевых и оборонительных средств страны, для определения влияния нового прусского оружия на тактику и уже из этого вывести взвешенное заключение. Я сегодня не решаюсь высказаться о вопросе, так глубоко затрагивающем судьбы Франции. Если я чересчур осторожен, — прибавил он, — прошу Ваше Величество еще раз вспомнить, что я очень стар!
Граф Барагэ д’Илье и маршал Канробер присоединились к мнению, высказанному Вальяном.
Военный министр граф Рандон сказал:
— Я думаю, что положение армии, которой я посвятил все мои заботы, превосходно и оборонительные средства страны в наилучшем состоянии, но я отнюдь не против более точного исследования, так как оно до известной степени послужило бы проверкой выполнения мной обязанностей военного министра. Особенно желательно точное исследование влияния нового оружия.
Седовласый граф Реньо де Сен‑Жан д’Анжели проговорил твердым голосом:
— Государь, я имею честь командовать гвардией Вашего Величества. Гвардия всегда готова выступить против врагов Франции, и если Ваше Величество объявит войну сегодня, то завтра гвардия двинется к границам, полная рвения украсить старого орла новыми лаврами. Но с одной гвардией нельзя вести войну, поэтому я вполне соглашаюсь с мнением маршала Вальяна.
Друэн де Люис пожал плечами с плохо скрытым нетерпением, император задумчиво молчал.
— Государь! — заговорил герцог Маджентский своим мягким в разговоре голосом, но раздававшимся перед фронтом металлически звонко, точно трубный звук. — Государь, Вашему Величеству известно, что я предпочитаю меч, сверкающий на вольном солнечном свете и воздетый против врагов Франции, мечу, ржавеющему в ножнах, но тем не менее я тоже вполне сочувствую мудрой предусмотрительности маршала Вальяна. Необходимо исследовать — но поскорее — и затем немедленно приняться за то, что надлежит сделать.
Маршал Ниэль медленно поднял свои умные глаза на императора.
Он поколебался с минуту, потом заговорил спокойно и серьезно:
— Прошу извинения у нашего почтенного ветерана: я много моложе его, однако дерзаю не разделять его мнения!
Маршалы удивленно взглянули на говорившего. Друэн де Люис в радостном ожидании не сводил глаз с его лица, император поднял голову и с живым участием посмотрел на маршала.
— Государь, — продолжал он, видимо оживляясь, — я считаю исследование ненужным, потому что и без подобного исследования твердо стою на своем мнении.
— И ваше мнение? — спросил живо Наполеон.
— Мое мнение, что Ваше Величество не в состоянии вести войну.
Друэн де Люис с ужасом взглянул на маршала — император не шелохнулся. Потом опустил глаза и наклонил голову немного набок, как всегда делал, когда слушал с особенным вниманием.
— Государь, — продолжал Ниэль, — когда обладатель французского маршальского жезла — в таком собрании и перед своим государем — высказывает свое воззрение, и притом воззрение подобное моему, он обязан подтвердить его доказательствами. В настоящую минуту я коснусь только основных пунктов, но я всегда готов изложить мои доводы в подробном докладе Вашему Величеству. Во‑первых, война против Пруссии и Германии — я уверен, что в данном случае Германия станет на сторону Пруссии, — потребует всех сил французской нации. Их в настоящую минуту нет. Мексиканская экспедиция вытягивает из Франции ресурсы людские и финансовые, и я не желал бы, чтобы мы, подобно Австрии, рисковали выступить разом на двух театрах войны против такого противника, опасные силы которого потребовали бы всего нашего внимания. Во‑вторых, я не считаю исследование необходимым, чтобы быть убежденным, что прусскому игольчатому ружью нужно противопоставить не менее целесообразное оружие, если уже нельзя превзойти его достоинства. Я не разделяю мнения, распространенного в Австрии и приписывающего исключительно игольчатому ружью поражающий успех Пруссии; я с своей стороны сомневаюсь в этом. Но во всяком случае, оставляя в стороне в самом деле разительную эффективность этого ружья, для нравственного сознания солдат, для придания им уверенности, необходимо дать им в руки оружие, не уступающее игольчатому ружью или, если можно, превосходящее его, после того как газеты и общественное мнение окружили это изобретение Дрейзе ореолом сказочного могущества. Я считал бы весьма опасным армию с ее теперешним вооружением противопоставить прусским полкам. Новое вооружение, государь, потребует новой тактики: я укажу только на совершенно изменившееся значение кавалерии, на новые задачи артиллерии, что Вашему Величеству еще лучше известно, чем мне, — прибавил он, кланяясь императору. — Затем, без всякого исследования несомненно, что наши пограничные укрепления в отношении фортификации, провианта и боевых припасов вовсе не готовы к войне. Это не упрек военному управлению, — прибавил он, слегка кланяясь графу Рандону, — это факт, вполне объясняемый тем, что политическое состояние последних лет отвлекало наше военное внимание на другие пункты. Наконец, — сказал он тоном глубокого убеждения, — есть еще момент, по моему мнению, чрезвычайно важный. Мы имеем в Пруссии державу, военная организация которой делает каждого гражданина солдатом до глубокой старости. В случае нужды после потерянного сражения, даже после уничтожения всей ее стоящей в поле армии, Пруссия сможет выставить второе войско из настоящих, хорошо знакомых со службой солдат. Я не стану говорить о том, какое влияние должно иметь такое крайнее напряжение сил на внутренние условия, на благосостояние края, но в военном отношении это ручательство всегдашнего и полного успеха. У нас же нет ничего, кроме нашей полевой армии, и если она будет разбита, у нас не останется ничего, кроме недисциплинированных масс с избытком доброй воли, но без всякого умения, и которые в свою очередь падут бесполезными жертвами. Я не думаю, чтобы было полезно или по нашим национальным особенностям возможно введение у нас прусской системы военной службы, но во всяком случае, если мы не хотим выступить в бой с неравными силами, то должны создать что‑нибудь вроде военной национальной гвардии, чтобы за нашей первой регулярной армией стоял, если можно так выразиться, военно‑пригодный материал для образования второй. Короче: прежде всего нам следует совершенно высвободить свои силы в Мексике, чтобы иметь возможность сосредоточить их всецело на одном фронте. Затем надлежит дать всей армии по возможности превосходящее противника скорострельное оружие. Тактика должна быть приспособлена к новому вооружению. Крепости следует привести в исправность. Наконец, надо создать подвижную гвардию. Эти условия я считаю необходимыми для того, чтобы начать серьезную и решительную войну.
Он поклонился императору и замолчал.
В комнате водворилась глубокая тишина.
Император поднял взор на маршала Форея, младшего в этом собрании.
— Я совершенно согласен с мнением маршала Ниэля, — заявил Форей.
Остальные маршалы молчали. В лицах их явно выражалось сочувствие маршалу Ниэлю.
— Государь, — заговорил оживленно Друэн де Люис, — я не военный и убежден, что почтительный маршал совершенно прав с военной точки зрения. Но выполнение условий, которые он ставит для успешного похода, требует времени — много времени, а я думаю, что нам нельзя его терять, если мы хотим сохранить честь и интересы Франции. Благоприятный момент пройдет, Пруссия все более и более укрепится, военные силы Германии все более и более организуются и сплотятся, и когда будет исполнено все, чего требует маршал, то приращение наших сил окажется лицом к лицу с таким же крупным, может быть еще более значительным приращением сил соперника. Государь, — продолжал он с одушевлением, — я умоляю дать мне двух солдат и одного офицера с французским знаменем: я поставлю их на границе для подкрепления тех необходимых требований, которые мы должны предъявить Пруссии. Как только в Берлине увидят, что мы не шутим, нам уступят. А если не уступят, то через несколько дней вся Франция, преобразованная в батальоны, подкрепит нашу армию. Такими батальонами, государь, ваш дядя завоевал вселенную, из них возникла та могучая армия, которая, не взращенная в казармах, но обученная на поле битв, под огнем пушек, поработила всю Европу!
Глубоко скорбное выражение показалось на мгновение на лице императора.
Он вопросительно взглянул на маршала Ниэля.
— Что вы на это скажете, маршал? — спросил он.
— Государь, — отвечал Ниэль, — слова господина министра не могут не заставить сильнее биться каждое французское сердце, но глубокое сознание моей обязанности побуждает меня не соглашаться с ними. Непосредственно за победой при Садовой — когда Германия стояла еще под ружьем, когда Австрия еще не заключала мира, когда прусская армия была еще тяжко обескровлена только что выдержанной кровавой битвой — можно было бы отважиться на то, что советует господин министр. Теперь это было бы страшным риском для французской славы и французского величия — риском, на который могли бы, пожалуй, решиться вы, Ваше Величество, — прибавил он, многозначительно взглянув на императора, — но которого не осмелится присоветовать вам добросовестный генерал.
— А если б я решился на этот рискованный шаг, — сказал император, причем глаза его сверкнули, — кто бы из вас, господа, встал со мной рядом, чтобы вывести французскую армию в поле?
Глубокое молчание отвечало на вопрос императора.
— Государь, — отозвался Мак‑Магон, устремляя на императора свои светло‑голубые, ясные глаза, — по слову Вашего Величества мы все готовы стать во главе французской армии, чтобы умереть, но прежде того мы попросили бы Ваше Величество послушаться совета маршала Ниэля и не предоставлять судеб Франции — императорской Франции — на волю сомнительного случая!
Все маршалы склонили головы, и на лицах их выразилось полное одобрение слов герцога Маджентского.
Друэн де Люис печально опустил голову на грудь.
Император устремил взор на маршала Ниэля.
— Сколько времени потребуется для выполнения всего, что вы считаете необходимым, маршал?
— Два года, государь, — отвечал спокойно и громко маршал.
— Лучшие мои пожелания будут сопутствовать маршалу в его деятельности, если Ваше Величество уполномочит его к ней, — сказал военный министр граф Рандон, кланяясь императору.
После нескольких секунд глубокого безмолвия Наполеон встал.
— Благодарю вас, господа маршалы, — сказал он спокойно и просто, — за ваши смело и честно высказанные воззрения, которые мне весьма помогут в этот важный момент остановиться на каком‑нибудь решении. Я увижусь еще со всеми вами сегодня за обедом.
И свойственным ему исполненным достоинства вежливым жестом он отпустил военных и вернулся к себе в кабинет.
Задумчиво и серьезно Наполеон несколько раз прошелся по кабинету.
— Начать действовать при таких условиях было бы безумной отвагой, — сказал он, — и зачем? Если время может способствовать созреванию плода, если выжидание вернее приведет к цели? Друэн де Люис, всегда спокойный, осторожный, вдруг заговорил как клубный оратор тысяча семьсот девяносто третьего! Он в сговоре с Орлеанами, — вздохнул государь, мрачно уткнувшись взглядом в пол.
Затем он подошел к письменному столу, сел и стал писать. Рука его быстро двигалась по бумаге, иногда он поднимал лицо, точно приискивая слова, потом снова принимался писать, заполняя одну страницу за другой.
Окончив, он позвал Пьетри.
— Перепишите мне это начисто, — распорядился император, подавая ему исписанные листы, — но сперва прочтите и скажите, что вы об этом думаете?
Пьетри читал медленно и внимательно, император тем временем свернул папиросу, зажег ее о всегда горевшую на столе свечу и медленно зашагал взад и вперед по комнате, пытливо поглядывая иногда на своего секретаря.
Когда он заметил, что Пьетри кончил чтение, то спросил:
— Ну что вы скажете?
— Государь, — сказал Пьетри, — Ваше Величество, стало быть, не желает действовать?
— Может быть, лучше выждать? — спросил император.
— Но эта программа, — сказал Пьетри, — ведь это политическая программа будущего, принимает перемены, совершающиеся в Германии.
— Принимает, — согласился император и как бы про себя прибавил: — Принимать еще не значит признавать; принятие есть не что иное, как фактическое состояние, которое может длиться, которому можно предоставить длиться сколько угодно, сколько окажется нужным.
— Удивляюсь меткости избираемых Вашим Величеством выражений, — заметил Пьетри. — Но эта теория невмешательства едва ли встретит сочувствие господина Друэна де Люиса. Я не думаю, чтобы он принял эту программу без спора.
Император пристально посмотрел на своего секретаря.
— Я не могу его принуждать, — сказал он.
— И Ваше Величество твердо намерен выполнить эту программу?
— Твердо… — ответил император задумчиво. — Странное дело, как трудно даются твердые решения в подобные дни… Знаете ли, Пьетри, — он положил на плечо секретарю руку, — каждое решение отзывается больно в моих нервах — я не знаю страха, опасность делает меня холодным и спокойным, но я всегда благодарен тому, кто меня каким‑то импульсом заставляет делать то, что я хотел бы сделать, что сделать следовало бы. Приготовьте поскорее копию, я поеду кататься.
Глава двадцать четвертая
На следующее утро Пьетри, кончив доклад у императора, поднялся, чтобы удалиться в свою комнату. Император смотрел серьезно и печально.
— Я должен нанести визит императрице Шарлотте, — сказал он вполголоса.
— Бедная императрица! И она в самом деле достойна сожаления, — заметил Пьетри.
— Зачем она так упрямо цепляется за этот смешной мексиканский трон? — удивлялся с досадой Наполеон. — Не могу же я искусственно поддерживать императора Максимилиана на престоле, который он сам расшатал своим либеральным идеализмом? Он отделился от церковной партии, глубоко оскорбил клерикалов, единственную силу, которая могла бы там привлечь к нему массы и которая, главное, могла бы достать ему денег, столь нужных ему, потому что без денег у него скоро не будет ни войска, ни генералов, ни министров, ни друзей. Неужели я должен, — продолжал он после паузы, — неужели я должен постоянно вливать в эту мексиканскую яму потоки французской крови и французского золота, не имея возможности наполнить ее теперь, когда на границах Франции выросла эта немецкая угроза, когда я должен молчать и улыбаться, потому что не могу действовать? — Наполеон крепко стиснул зубы, лицо его приняло озлобленное выражение. — Эта мексиканская экспедиция была великой идеей, — развивал он дальше свою мысль. — Противопоставить угрожающей Северной Америке упрочение монархического принципа в другом полушарии — доставить преобладание латинским расам. С подчинением южных штатов эта идея стала невозможной, император Максимилиан не сумел упрочить своего трона, у меня больше нет интереса поддерживать его, я не могу больше ему помогать.
— Если бы Ваше Величество деятельно поддержало южные штаты, — заметил робко Пьетри.
— Разве я мог сделать это один? — отвечал император с живостью. — Разве Англия не изменила мне — Англия, для которой было бы гораздо важнее, чем для меня, подорвать успех и прочность этой американской республики, которая точит нож, чтобы им со временем перерезать хлопчатобумажную артерию гордой Великобритании? Неужели я должен был один взвалить на себя ненависть и вражду этой державы будущего, не зная наверное, что буду в силах ее раздавить? И для того, чтобы поддержать трон императора, который в своей либеральной экспериментальной политике хочет управлять дикарями при помощи конституционных теорий? Мне жаль Максимилиана — в нем есть что‑то особенно благородное, величественное, но много смутного. Он напоминает некоторых из своих предков: Иосифа Второго, который родился на свет целым столетием раньше, и еще того, другого Максимилиана, который целым веком опоздал родиться и которого немецкие поэты прозвали последним рыцарем, забывая при этом Франциска Первого. Мне его жаль, — повторил он, вздыхая, — но я не могу ему помочь. Впрочем, не велика беда, если после этой экспедиции ему снова придется сделаться австрийским эрцгерцогом! У иных государей нет в виду и такой перспективы, в случае если под ними рухнет трон! И мне хотелось бы, чтобы императрица Шарлотта уехала, — сказал он глухо, — она вчера была очень взволнована, тяжело будет снова с ней увидеться!
Наполеон позвал дежурного адъютанта, приказал подать экипаж и ушел в уборную.
В салоне бельэтажа гранд‑отеля на Итальянском бульваре сидела в черном платье императрица Шарлотта. Ее прежде столь прелестное, свежее и веселое лицо было бледно и печально; глубокие складки залегли около рта и преждевременно старили ее, волос почти не было видно из‑под черного кружевного платка, падавшего на лоб, губы неспокойно, нервно подергивались, усталые глаза порой вспыхивали лихорадочным блеском.
Перед императрицей стоял генерал Альмонте, мексиканский посланник в Париже — сановитый мужчина южного типа, и печально поглядывал на государыню, которая еще так недавно переплыла океан, чтобы вступить на трон Монтесумы, сверкавший сказочным блеском, а теперь сидела согбенная тяжкой скорбью: вместо диадемы Монтесумы она нашла там мученический венец Куаутемока[100].
— Вы, стало быть, думаете, генерал, — говорила императрица дрожащим голосом, — что на Францию нечего надеяться?
— Думаю, Ваше Величество, — отвечал серьезно генерал. — Судя по всему, что мне привелось здесь видеть и слышать, император твердо решился как можно скорее выйти из этого предприятия. Если императору Максимилиану угодно сохранить престол, — чего я горячо желал бы в интересах моей несчастной родины, столь долго эксплуатируемой разными проходимцами, — он должен отложить всякую надежду на Францию и искать опоры в своем краю, прежде всего постараться снова приобрести прочнейшую и могущественнейшую из опор, им утраченную: церковь и клерикалов, которые могут дать ему денег и солдат. Не здесь надо искать помощи — если Вашему Величеству угодно последовать моему совету, то вам следует ехать в Рим. Один папа может привлечь на сторону императора силу духовенства, столь могущественную и влиятельную в Мексике. Конечно, он потребует за это награды, поставит условия, но как бы ни было, надо действовать скорее, пока еще не поздно!
— О! — заговорила императрица, вставая и быстро заходив по комнате. — Зачем мой благородный, несчастный муж поддался искушениям этого демона, называемого Наполеоном? Зачем он оставил наш прелестный Мирамар, для того чтобы низвергнуться в эту бездну, которая втягивает нас все глубже и глубже! Если бы вы знали, — говорила она, уставив на генерала пылающий взор, — если бы вы слышали, как я умоляла этого человека! Он уехал в Сен‑Клу, чтобы не встречаться со мной! Я бросилась туда, я почти силой ворвалась к нему, просила, умоляла, подавила в сердце всю злобу. Умоляла его, как умоляют Бога, упала к его ногам — я, внучка Людовика‑Филиппа, к ногам сына Гортензии — о боже мой!
Она в изнеможении упала на диван.
— И что же ответил император? — спросил генерал, с глубоким состраданием глядя на несчастную женщину, чело которой так тяжело пригнула эта злополучная, роковая корона.
— Ничего! — вздохнула императрица. — Фразы, холодные фразы утешения, звучавшие из его уст ядовитой насмешкой. Генерал! — вдруг заговорила она, выпрямляясь и устремив на него пристальный взгляд. — Генерал, мне кажется, я схожу с ума! Столько горя не вынести человеческой душе, столько слез не пролить глазам, не подпав под власть сил тьмы! Ночью, — говорила она, глядя упорно вдаль, как бы следя за каким‑то призраком, — ночью, когда после долгой, полной слез бессонницы на меня сходит тревожная дремота, я вижу его, ко мне крадется из ада вырвавшийся демон и подает мне кубок. Из кубка высовываются огненно‑желтые и зеленые языки, я трепещу до глубины души, но он подносит кубок к моим губам, огненные языки лижут мой мозг, мне невыносимо больно, но я должна пить — пить отвратительный напиток, который он мне подает… И этот напиток — кровь, кровь моего мужа! — громко вскрикнула она, судорожно ломая руки.
— Ваше Величество, ради бога, успокойтесь! — произнес взволнованно генерал.
В прихожей раздался шум.
Вошел слуга.
— Его Величество император въезжает во двор, — известил он и отворил настежь двери в переднюю.
Императрица Шарлотта быстро поднялась, провела платком по лбу. Черты ее утратили судорожную сосредоточенность, она сказала спокойно и с печальной улыбкой:
— Оставьте меня с ним одну, генерал. Может быть, Господь смягчил его сердце.
В прихожей показался Наполеон в черном фраке со звездой и в ленте ордена Гваделупской Божией Матери. За ним следовал полковник Фавэ.
Императрица встретила его на пороге своей комнаты. Генерал Альмонте с низким поклоном вышел из комнаты. Слуга запер двери.
Наполеон поцеловал императрице руку, подвел к дивану, а сам сел в кресло рядом. Императрица смотрела ему в лицо тревожно и робко, но его глаза были опущены.
— Удобно ли здесь Вашему Величеству? — спросил он вежливо. — Я был бы счастлив, если б вам было угодно принять гостеприимство в одном из моих загородных дворцов…
— Мне ничего не нужно, — заговорила нетерпеливо императрица, — я приехала выслушать свой приговор. Я прошу Ваше Величество сказать мне, на что я могу надеяться?
— Кажется, я еще вчера высказал Вашему Величеству свой взгляд на положение дел, — сказал император спокойно. — Я могу только еще раз повторить, что мне весьма прискорбно подчиниться требованиям этого положения, безусловно мне запрещающего исполнить желания Вашего Величества, как бы горячо мне этого ни хотелось! — прибавил он, вежливо наклоняя голову.
Губы императрицы Шарлотты слегка задрожали.
— Государь! — произнесла она сдержанно. — Дело не в моих желаниях: они никогда не стремились к тому отдаленному трону. Дело идет о чести, быть может, о жизни моего мужа, потому что он не задумается пожертвовать жизнью ради чести.
— Но, сударыня, — возразил Наполеон, покручивая усы, — я не понимаю, каким образом честь может предписывать упрямо похоронить себя под развалинами трона, которого нет возможности сохранить? Ваш супруг предпринял великое, хорошее дело, что оно не могло быть доведено до успешного конца, виноваты обстоятельства, а не он — никто ему не бросит упрека.
Горькая усмешка показалась на лице императрицы.
— Мой муж смотрит на это иначе, — сказала она. — Он не хочет мыкаться по свету развенчанным императором. По его убеждению государь, раз вступив на престол, может быть с него свергнут только смертью.
— Максимилиан не доведет до крайности взгляд, вовсе не подходящий к данному случаю, — отвечал Наполеон. — Я отправлю к нему генерала Кастельно, который еще раз от моего имени изложит ему всю неизбежность положения, под гнетом которого я нахожусь. Император поймет — и вернется, и я убедительно прошу вас, Ваше Величество, поддержать вашим советом доводы генерала.
Лицо императрицы ярко вспыхнуло, глаза засветились трепетным пламенем, губы дрогнули, и она сказала сурово:
— Напрасно посылать генерала — и я никогда не посоветую моему мужу того, что он сам считает несовместимым со своим возвышенным, рыцарским пониманием чести.
Император прикусил губу, опущенные веки приподнялись на секунду, и из‑под них глаза метнули на императрицу суровый, почти враждебный взгляд.
Она увидела этот взгляд — и вздрогнула, мучительной тоске прижала руку к сердцу и, тяжело дыша, заговорила, устремив на Наполеона горящие глаза:
— Государь! Вопрос не только в чести моего мужа — вступаться за нее, конечно, прежде всего наша личная обязанность и забота. Но вопрос идет еще кое о чем ином, близком Вашему Величеству — о чести Франции.
Император холодно улыбнулся.
— Моя армия удаляется из Мексики только по моему приказанию и несет с собой обильные лавры, — сказал он.
— Лавры? — повторила императрица, вся вспыхнув. — Да, простые солдаты, храбро сражавшиеся там, принесут с собою лавры, и лаврами прорастут могилы убитых на тех полях. Но знамена Франции, покидающие престол, воздвигнутый французским императором, изменяющие государю, который отправился туда по призыву Франции и теперь ею же будет обречен на унижение, на погибель, — эти знамена должны покрыться трауром, потому что они отреклись от чести Франции! О государь! — Она сделала над собой отчаянное усилие. — Еще раз прошу вас, умоляю вас — заклинаю! — откажитесь от вашего жестокого намерения!
Лоб императора мрачно нахмурился, ледяная улыбка скривила губы.
— Ваше Величество согласится со мной, — сказал он, — что я лучший, во всяком случае, единственный компетентный судья в том, чего требует честь Франции.
Из глаз императрицы блеснула молния, на лице проявилось выражение гордого презрения.
— Господин судья, — сказала она, — позвольте же мне быть адвокатом французской чести: моя кровь дает мне на то право. Во мне течет кровь Генриха Четвертого, и мой дед был законным французским королем!
Глаза Наполеона выкатились из‑под завесы век, пронзив точно острием шпаги взволнованную женщину, сидевшую перед ним и дрожавшую всем телом.
Он встал.
Императрица тоже поднялась.
Она прижала обе руки к сердцу, все ее тело согнулось под страшным напряжением воли, благодаря которому ей удалось снова придать взгляду спокойствие, а лицу вежливую улыбку.
— Государь, — заговорила она мягким, задушевным голосом, — простите жене, отстаивающей честь и жизнь мужа, в порыве отчаяния чересчур смело вступившейся за дело, которое для меня всего выше и дороже — как и следует быть. Государь, заклинаю вас Богом и вечным блаженством: пощадите нас! Не откажите нам еще год в вашей помощи или дайте хотя бы денег, если вы так дорожите французской кровью!
И невыразимо робким, умоляющим взором она посмотрела на человека, из уст которого должно было раздаться слово надежды, которое она затем отнесет на крыльях любви и радости своему изнывающему в тоске мужу, чтобы влить новые силы в его обезнадеженную душу.
Наполеон отвечал холодно:
— Ваше Величество, величайшая дружеская услуга, которую может оказать человек человеку в такие серьезные минуты жизни, заключается в полной правдивости и откровенности. Непростительно было бы мне давать Вашему Величеству неисполнимые обещания, тешить вас несбыточными надеждами: решение мое неизменно, как необходимость, которая его вызвала. Я ничего больше не могу дать Мексике — ни одного человека, ни единого франка.
Лицо императрицы вдруг страшно исказилось, белки глаз налились кровью, очи вспыхнули фосфорическим блеском, губы судорожно вздернулись и обнажили ослепительно‑белые зубы, руки вытянулись, она шагнула к императору и, тяжело дыша, заговорила обрывавшимся на каждом слове, почти нечеловечески звучавшим голосом:
— Да, так это правда!.. Так вот он, призрак моих снов… ужасный призрак моих ночей… Вот он передо мной с кровавым кубком в руке… демон ада… палач моего мужа!.. Рази моего мужа, вечно усмехающийся дьявол… рази и меня кстати, внучку Людовика‑Филиппа — короля, который тебя вырвал из нищеты и спас от эшафота!
Император в ужасе, как от привидения, медленно и осторожно отступал к двери.
Императрица так и осталась стоять во весь рост, с протянутыми руками, с искаженным лицом и пылающими глазами. Из запекшихся уст ее неслись хриплые, свистящие слова:
— Уходи, проклятый… Но забери с собой мое проклятье! То проклятье, которое Бог бросил на голову первого убийцы! Под этим проклятием рухнет твой трон, огонь спалит твой дом. И когда ты будешь лежать на земле, во прахе, в ничтожестве, из которого ты возник, когда ты будешь всеми оставлен, всеми оплеван, тогда ангел мести прогремит трубным гласом до самой крайней глубины твоей истерзанной души два имени: Максимилиан и Шарлотта!!!
Император на пороге закрыл рукой глаза и неслышно скользнул за дверь, быстро миновал прихожую, где его адъютант и генерал Альмонте со страхом прислушивались к ужасающим возгласам императрицы, и проговорил задыхающимся голосом:
— Едем, Фавэ, скорее едем! Императрица нездорова!
Он быстро спустился с лестницы, пугливо оглядываясь; встревоженный адъютант шел за ним.
Генерал Альмонте бросился к императрице.
Несчастная упала на колени посреди комнаты, прижимая левую руку к груди, вытянув правую вперед и тупо уставив глаза в потолок, поразительно походя на мраморную статую отчаяния.
— Боже мой! — вскрикнул генерал, наклоняясь, чтобы приподнять ее. — Ваше Величество! Ради самого Бога, успокойтесь! Что случилось?!
Легкая дрожь пробежала по членам императрицы, она медленно обратила глаза на генерала, провела рукой по лбу, позволила Альмонте поднять себя и усадить на диван. Прибежала испуганная камер‑фрау и принялась помогать генералу, в дверях показался лакей со страхом в лице.
Вдруг императрица тревожно оглянулась, как бы ища чего‑то в комнате.
— Где он? — спросила она охрипшим от крика голосом. — Ушел?.. Зачем его выпустили? Я побегу за ним следом, я буду кричать ему мое проклятье день и ночь!
— Ваше Величество!
— Прочь! — закричала отчаянно императрица. — Прочь! Оставьте меня. Карету мне, карету! Бегу за ним, за изменником, убийцей моего мужа!
И, сильно оттолкнув от себя генерала и камер‑фрау, она сбежала с лестницы, не переставая кричать:
— Карету! Карету!
Генерал поспешил за ней.
На большом дворе гранд‑отеля толпились любопытные, привлеченные присутствием императорского экипажа. На большом балконе сидели приезжие иностранцы, читая газеты и болтая.
Вдруг всех поразили громкие вопли женщины в черном платье, с искаженным лицом, налитыми кровью глазами, показавшейся в подъезде и немолчно кричавшей: «Карету! Карету!» Генерал Альмонте догнал императрицу, старался ее успокоить — напрасно! Все взгляды обратились на эту странную группу.
Генерал, желая как можно скорее положить конец этой ужасной сцене, приказал лакею подать стоявшую наготове карету императрице.
Карета подъехала. Одним прыжком императрица очутилась в ней. Генерал встал на подножку, чтобы сесть рядом. Но вдруг силы оставили Шарлотту: она откинулась назад, на подушки, глаза закрылись, изо рта показалась белая пена — женщина лишилась чувств.
Подоспело несколько лакеев. Императрицу бережно отнесли по лестнице в ее комнату.
— Какая трагедия! — проговорил генерал Альмонте, весь дрожа от волнения и медленно ступая за несшими несчастную. — И сколько ужасного еще впереди!
В Булонском лесу поздним утром медленно двигались блестящие экипажи аристократии, haute finance[101] и верхушка дипломатического корпуса. Все парижское общество было еще в городе, потому что европейский кризис сосредоточивал все интересы на этом центре, и все общество совершало перед обедом обычную прогулку по прекрасным берегам обоих озер, между прекрасно ухоженными деревьями. Среди чопорных, массивных экипажей с напудренными лакеями неслись легкие и щеголеватые коляски дам полусвета, и к этим коляскам подъезжали на гарцующих лошадях молодые люди, не стесняясь негодующими взглядами дам настоящего большого света. Подъезжали и смеялись, обмениваясь шутками и отвечая на пикантные замечания, которыми их мимоездом осыпали звезды сцены и «Кафе Англэ».
В открытой коляске, запряженной великолепной гнедой четверкой, с двумя жокеями в зеленых с золотом ливреях впереди, со шталмейстером у дверец, показался посреди всей этой пестрой толпы император. Рядом с ним сидел генерал Флери. Лицо Наполеона сияло веселостью, он живо разговаривал с генералом, с приветливой любезностью раскланиваясь направо и налево, и блестящий экипаж его неспешно обогнул озеро три раза. Через час весь Париж узнал, что император в вожделенном здравии и что, вероятно, все обстоит благополучно, раз Его Величество в таком прекрасном настроении!
Также в духе был император и за обедом, на который были приглашены все маршалы.
День оканчивался, солнце садилось, и на гигантский город спустилась теплая, темная ночь.
Император вошел к себе в кабинет, снял мундир, в котором обедал, и надел простой черный сюртук.
Когда камердинер вышел, он позвал Пьетри.
— Готова ли карета без ливреи? — спросил он.
— Стоит у бокового подъезда, как приказало Ваше Величество.
— Вы говорили мне о какой‑то удивительной ученице Ленорман? — сказал император. — И Морни тоже говорил — Моро, кажется?
Пьетри улыбнулся.
— Она предсказывала уже много чудесного — я сам был у нее однажды, и ее предсказания меня поразили.
— И исполнились?
— Многое из того, что она предсказывала, совершилось, государь.
— Я хочу ее видеть. Поедемте к ней.
И они спустились сперва в комнату секретаря, потом прошли коридор и вышли боковой дверью во внутренний двор, где стояла простенькая карета, запряженная парой вороных. На козлах сидел кучер без ливреи, карету можно было принять за докторский экипаж.
Император сел в повозку, рядом с ним поместился Пьетри, крикнув сперва кучеру: «Улица Турнон, пять». Карета быстрой рысью выехала со двора и направилась к улице Риволи.
Вторая такая же неброская карета ехала на некотором расстоянии. В ней сидели начальник дворцовой полиции и один из его помощников.
В старом Париже, неподалеку от Люксембургского дворца, находится улица Турнон, одна из старинных улиц, сохранивших еще тип минувших времен, с низенькими, простенькими домами, старинными лавочками и маленькими оконцами.
Карета императора остановилась перед домом № 5. Пьетри вышел и направился через маленький двор. Император шел за ним. Вторая карета остановилась на углу улицы, сидевшие в ней тоже вышли и, закурив сигары, принялись медленно расхаживать взад и вперед по тротуару.
Наполеон III миновал с своим секретарем двор, в конце его оказалась дверь, а за дверью — узкая темная лестница. Небольшая площадка первого этажа была освещена простенькой, но изящной лампой, под которой на фарфоровой дощечке виднелась надпись: «Мадам Моро».
— Это тот же дом и та же квартира, в которой жила Ленорман, — сообщил Пьетри, дернув колокольчик, висевший возле дощечки.
Император посмотрел с любопытством вокруг.
— Стало быть, здесь был Наполеон Первый, — сказал он задумчиво, — и здесь ему предсказали корону.
Дверь отворилась. Молоденькая горничная в костюме парижских субреток показалась на пороге. Император поднял воротник пальто и закрыл платком нижнюю часть лица.
Пьетри выступил вперед и заслонил своего государя.
— Мадам Моро? — спросил он.
— Я не знаю, — отвечала горничная, — примет ли вас мадам так поздно…
— Мы друзья, — сказал Пьетри, — мадам нас наверняка примет.
— Пожалуйте в гостиную — я сейчас доложу.
Девушка ввела императора и его секретаря в маленькую, но изящно и богато убранную гостиную. Большой ковер покрывал пол, вокруг стола, на котором лежали различные иллюстрированные издания, стояли глубокие кресла, с потолка спускалась большая лампа и ярко освещала комнату.
— Вот и Вашему Величеству пришлось поучиться ждать в приемной, — пошутил Пьетри, подвигая императору кресло.
Наполеон только слегка оперся рукой на спинку кресла и с большим любопытством осматривал комнату. На стене висела большая гравюра, его изображение в императорской мантии. Наполеон слегка вздохнул при взгляде на стройную, моложавую фигуру на гравюре, потом сказал, указывая на нее секретарю:
— Дама, видно, из благонамеренных?
— Она ученица Ленорман, государь, — отвечал Пьетри, — и живет по заветам своей наставницы, кроме того, состоит под особым покровительством герцога Морни.
Маленькая дверь, замаскированная очень тяжелой темной портьерой, отворилась, портьера раздвинулась, и на пороге появилась невысокая женщина в скромном, черном шелковом платье, довольно толстая, лет пятидесяти, с темными, гладко причесанными волосами и черными, оживленными и проницательными глазами, странно выделявшимися на полном, немного припухшем и довольно пошлом лице.
Пьетри выступил вперед.
— Благодарю вас, сударыня, — начал он, — что вы согласились принять нас в такое позднее время — вы недавно дали мне такое блестящее доказательство вашего искусства, что один из моих друзей, будучи мимоездом в Париже, пожелал попросить вас приподнять и для него завесу будущего.
— Пожалуйте, господа, — пригласила мадам Моро просто и спокойно, мелодичным голосом и тоном светской дамы.
Она вернулась в свой кабинет. Император и Пьетри последовали за ней.
Этот кабинет оказался маленькой четырехугольной комнатой, где кроме двери в гостиную имелась еще маленькая дверь, в которую посетители после консультации могли уходить, если не желали встречаться с дожидавшимися в гостиной.
Кабинет был оклеен темными обоями, окно, выходившее на двор, занавешено толстой темно‑зеленой материей. Высокий старинный шкаф стоял у одной стены, возле окна помещался небольшой стол под зеленым ковром, перед столом кресло, на котором уселась гадалка. На столе стояла лампа под темно‑зеленым абажуром, ярко освещавшая ковер на столе, но оставлявшая остальную комнату в тени. По другую сторону стола стояло несколько темно‑зеленых кресел и небольшой диван, обитый той же материей.
Император сел на одно из кресел в тени и часто подносил платок к лицу.
Мадам Моро не обращала на это внимания. Она привыкла к тому, что многие из ее посетителей желали сохранять инкогнито.
Усевшись в кресло, она спросила:
— Вы желаете grand jeu?[102]
— Разумеется, — отвечал Пьетри, став радом с креслом императора.
Наполеон внимательно ко всему присматривался.
— Я попрошу господина дать мне руку — левую, пожалуйста!
Наполеон протянул гадалке свою изящную, продолговатую, нежную руку, казавшуюся моложе, чем фигура императора и его лицо.
Мадам Моро повернула руку ладонью кверху и вытянула как можно больше угол, который образуют большой палец с указательным.
— Какая упорная, медлительная воля… — заговорила она тихо, не отводя глаз от руки императора, — но вместе с тем какая усталость… сколько скрытности… Эта рука создана для того, чтобы постоянно и осторожно натягивать тетиву лука, но не скоро решается спустить стрелу; ей хотелось бы управлять и выпущенной стрелой, но стрела принадлежит року. Эта рука не выпустит стрелы даже тогда, когда цель видна, а глаз уловил момент — она упустит ее под сотрясением неожиданного толчка, но стрела принадлежит вечным силам Промысла… — прибавила дама тише. — В самом начале надломленная, линия жизни изгибается, перекрещивается, пересекается побочными чертами, поднимается смелым поворотом все выше и выше…
Она еще пристальнее и вдумчивее посмотрела на руку.
— Удивительная у вас рука, — продолжала она, не поднимая глаз. — Подобную руку имел Фабий Кунктатор. Впрочем, вот черты, напоминающие руку Катилины, но без тревожной торопливости этого заговорщика, а вот линии Цезаря… нет, Августа. Удивительная у вас рука: она создана для того, чтобы медленно и осторожно связывать нити, она предназначена для созидания и собирания, для сохранения и сбережения, — и несмотря на это, судьба часто заставляет ее разрушать.
— А куда ведет линия жизни? — спросил император так тихо, что голоса его нельзя было бы узнать.
— Она возвращается туда, откуда вышла.
Император взглянул на Пьетри и шепнул:
— Таинственна, как Пифия!
Услышала ли мадам Моро эти слова или нет, но тем не менее сказала:
— Загадочность, оставляемую линией жизни, быть может, удастся рассеять моим картам.
И, выпустив руку императора, она вынула из ящика стола колоду больших карт с изящно раскрашенными странными изображениями и попросила императора их перетасовать и снять. Он это проделал, продолжая держать лицо в тени, и затем возвратил карты.
Мадам Моро разложила карты длинным рядом по столу и пристально в них вглядывалась.
— Вот сочетание, редко встречающееся: я вижу вас окруженным блеском, высшими мира сего, ваша рука заправляет судьбами многих… Боже мой! Я видела такое же сочетание только однажды! Да, вот орел над вашим челом; вот звезда в диагонали — золотой улей… Молчать было бы недостойной комедией, значило бы унизить мое искусство…
Она быстро встала и низко поклонилась, несмотря на маленький рост и толщину, не без некоторой грации.
— Мой бедный дом, — заговорила она, — имеет счастье принимать под своей кровлей французского государя! С глубочайшим уважением приветствую моего великого и любимого монарха!
Наполеон III был поражен. Выдвинувшись из тени, он промолвил, улыбаясь:
— Честь и слава вам, мадам Моро. Ваши карты всеведущи. Если мой великий дядя был здесь у вашей наставницы, то и племяннику его извинительно посетить ученицу Ленорман. Но раз мы сняли маски, — продолжал он, — читайте же дальше по вашим картам.
Мадам Моро вернулась на свое место и по знаку императора села. Наполеон подвинулся поближе к столу и внимательно смотрел на разложенные карты.
— Государь, — говорила Моро, — любя Францию и всем сердцем будучи предана вашему дому, я не раз в одиночестве гадала о вас, и странно: то же сочетание, которое являлось передо мной тогда, лежит снова и сегодня в картах, перетасованных собственной Вашего Величества рукой. Ошибка была бы невозможна. Смешно было бы, зная, кто находится передо мной, говорить о прошедшем Вашего Величества, — продолжала она, медленно переходя взглядом с карты на карту, — только одно хотелось бы мне сказать… — продолжала она, запнувшись. — Могу ли я говорить все? — спросила гадалка, взглянув на Пьетри.
— У меня нет секретов от этого господина, — сказал Наполеон.
— Государь, — продолжала мадам Моро, разглядывая карты, — Ваше Величество счастливы с императрицей, соединяющей в себе все добродетели, но, несмотря на то…
— Что же? — удивленно и нетерпеливо спросил Наполеон.
— Государь, — продолжала Моро медленно и торжественно, — жизнь Вашего Величества лежит на границе между силами света и силами тьмы, яркая, лучезарная звезда светит вам, но глубокие тени демонического рока часто неудержимо поднимаются кверху, чтобы затуманить чистую и светлую звезду. Под лучами этой звезды, под влиянием ее благотворных лучей юношеское сердце Вашего Величества раскрылось любви, полной поэзии и молодого пыла. На этой любви покоилось благословение великого императора, великого мученика Святой Елены, эта первая любовь осветила и согрела начало жизни Вашего Величества, и на эту любовь отозвалось сердце, в жилах которого текла кровь великого дяди…
Император в глубоком изумлении опустил глаза — лицо его опечалилось.
— Государь, — продолжала Моро, — мрачные тени поднялись, роковая ночь покрыла ту любовь и ее упования. Сердце, бившееся для вас, обречено влачить печальную, одинокую жизнь, а вам недостает подруги, которую добрый гений вашей юности подвел к вам в лучах вашей звезды и которая часто подкрепляла бы ваше сомневающееся, колеблющееся сердце.
Император молчал. Вздох вырвался из его груди.
— И теперь, — продолжала Моро, — и в эту минуту вы колеблетесь, вы в нерешимости — душу вашу оспаривают две силы… Она колеблется между войной и миром, — и странно, но люди меча советуют мир…
Император слушал в глубоком раздумье.
— Государь, вы сломили гордыню России, вы заставили английскую королеву поклониться праху вашего дяди, вы отомстили габсбургскому дому за унижение римского короля — всюду звезда ваша светила вам ярко, но берегитесь Германии! Оттуда поднимаются мрачные тени и заволакивают вашу звезду. Берегитесь! Берегитесь! — вскрикнула она, поднимая руки умоляющим жестом. — По крайней мере, теперь не выпускайте из рук железной кости войны!
Император сидел не двигаясь, легкая дрожь пробегала по его членам.
— И если вам удастся ее удержать, — продолжала Моро, проводя пальцами длинные черты по разложенным картам, — то вот, вас окружают мирные картины, и только глубоко, на дне, точит бог войны меч на грядущие дни.
— И Франция должна смириться? Унизиться, уступить? — тихо проговорил Наполеон, как бы отвечая на свои мысли.
— Не вижу ни смирения, ни уничижения, — сказала Моро, глядя на карты, и глаза ее блестели. — Я вижу лучи и блеск, такой блеск, который едва ли окружал престол вашего дяди; я вижу народы всего мира у подножия вашего трона, я вижу вокруг вас императоров, королей, князей Европы… Султан приветствует французского повелителя… Я вижу только блеск, ослепляющий блеск и гордую радость, и народы Европы, Азии, Америки, Африки — в изумлении перед блеском французской империи!
Гордая молния сверкнула из глаз императора.
— Что же дальше? — спросил он нетерпеливо.
— Государь, звезда ваша стоит победоносно в зените. Но вот поднимаются тучи, кровавые молнии прорезают их, я вижу сверкание мечей, над землей проносится громоносным ураганом бог войны. Ваше Величество во главе громадного войска, вы в Германии… — Она вдруг закрыла лицо руками. — Извините, Ваше Величество, глаза устали, ничего больше не вижу, я не обладаю, подобно великой Ленорман, даром провидеть в далекое будущее, — потом эта даль станет яснее, но не вечный мир вам судьба предназначила, государь. Посмотрите! — И она проговорила торжественно: — Когда маслина бросит тень на Францию, лавры ее завянут!
— Стало быть, мир принесет мне счастье и блеск, только не надо давать маслине перерастать лавровое дерево?
Она слегка кивнула головой, все продолжая глядеть на карты. Лицо ее подергивалось, она открывала рот, как будто намереваясь что‑то сказать, но ничего не сказала.
Император встал. Еще раз глаза его внимательно окинули комнату.
— Стало быть, в этой комнате император посетил мадам Ленорман? — спросил он.
— В этой самой комнате, Ваше Величество, — подтвердила Моро, вставая, — только обивка мебели переменена!
— Благодарю вас, — сказал Наполеон, — продолжайте наблюдать за моим гороскопом — я буду рад еще раз вас послушать!
И, поклонившись с приветливой улыбкой, он вышел в двери, которые распахнула перед ним мадам Моро, держа в руке лампу.
На лестнице он подал Пьетри руку и сказал:
— Останьтесь, мадам Моро, не провожайте, я не хочу, чтобы меня узнали. Я рассчитываю на вашу скромность. Прощайте!
Скромный экипаж быстро умчал их к Тюильри.
Пройдя в кабинет, император сел к письменному столу. Пьетри стал возле него.
Император писал:
«Любезный мой Друэн де Люис!
Посылаю вам при этом изложение оснований, которые, по моему неизменному убеждению, следует руководствоваться в политических отношениях Франции к событиям, совершившимся в Германии. Я не сомневаюсь, что вы разделите мои воззрения, и прошу вас верить моей искренней дружбе.
Наполеон».
Он передал письмо Пьетри.
— Государь, — Пьетри посмотрел на императора, пробежав его письмо глазами, — кого вам угодно назначить в преемники господину Друзну де Люису?
— Мутье хорошо знаком с положением дел в Берлине, — сказал император, — приготовьте письмо к нему с запросом, возьмется ли он за управление министерством иностранных дел.
Пьетри поклонился.
— Еще одно, — сказал Наполеон. — Позовите завтра рано утром Хансена, может быть, еще можно сделать одну попытку.
— Слушаю, Ваше Величество.
— Что вы думаете о мадам Моро? — спросил император, уже повернувшись к двери в свои внутренние покои и на минуту приостановившись. — Каким образом она могла узнать тот эпизод моей молодости? — тихо шепнул он.
— Государь, трудно сказать что‑нибудь положительное об этом…
— There are more things in heaven and earth, then are dreamt of in our philosophy[103], — промолвил Наполеон на чистом английском языке и приветливо кивнул головой в ответ на низкий поклон секретаря.
Глава двадцать пятая
Наутро после своего возвращения, в большой гостиной, расположенной рядом со спальной, в изящной холостяцкой квартире в одном из старинных, знатных домов тихого городского квартала, лежал на обтянутом темно‑красной шелковой материей диване лейтенант Штилов.
Частично задернутые занавески из той же материи пропускали в комнату приятный полусвет. Царившую кругом тишину прерывал только по временам доносившийся с улицы шум проезжавшей кареты.
Перед молодым человеком на маленьком столике стоял изящный серебряный чайный сервиз. Нежась в широком утреннем костюме из черной шелковой материи на ярко‑красной подкладке, Штилов медленно покуривал душистый турецкий табак из коротенькой трубочки, и выражение полного блаженства и спокойного удовольствия лежало на его лице. После долгих лишений и утомлений лагерной жизни он в первый раз наслаждался изящным и богатым комфортом своей обстановки, и счастливыми взорами здоровался со всеми пестро и разнообразно наполнявшими комнату предметами: картинами, гравюрами, редким оружием, старинным фарфором, короче сказать, всеми теми тысячами разнообразных безделушек, которыми тешатся изящный вкус или мимолетный каприз богатой молодежи.
Он обещал графине Франкенштейн не делать ни шагу против виновника гнусной попытки поссорить его с ее дочерью. «Не будем никогда больше говорить об этом гадком человеке и из всей этой истории сохраним только воспоминание о милосердии Божием, не допустившем злу восторжествовать», — сказала ему с кроткой улыбкой Клара. И так велика эластичность двадцатидвухлетнего сердца, так сильно могущество всепримиряющего счастья, что он почти не думал о случае, чуть не лишившем его драгоценнейшего достояния сердца, а если и вспоминал, то только с тем сладким трепетом, которым сопровождается избавление от только что угрожавшей счастью опасности.
Вдруг дверь быстро распахнулась, и в комнату вошел испуганный, встревоженный лакей.
— Господин барон, — начал он, слегка запинаясь, — я…
Молодой человек повернул голову и вопросительно посмотрел на слугу, но тот не успел еще кончить фразы, как в полуоткрытую дверь, быстрым движением отстранив слугу в сторону, скользнула стройная женская фигура в легком утреннем туалете. Лицо ее было закрыто густой вуалью, падавшей с маленькой круглой шляпы.
Штилов поднялся и с глубоким изумлением шагнул навстречу вошедшей, отпустив движением руки слугу, который старался передать пожатием плеч, что он не был в состоянии избавить своего хозяина от непрошеного посещения.
Как только за ним затворилась дверь, дама подняла вуаль, и Штилов увидел красивое лицо фрау Бальцер. Она была бледна, большие глаза горели страстью, по полуоткрытым губам скользила женственная стыдливость вместе с выражением твердой энергической решимости. Она была поразительно прекрасна — почти ослепительна в этом простеньком утреннем платье гризетки, так же как в той изысканной роскоши, которая ее обыкновенно окружала.
В тупом изумлении, почти с ужасом смотрел Штилов на эти столь знакомые черты — он меньше всего ожидал их теперь увидеть.
— Антония! — негромко вскрикнул он.
— Так вы еще не разучились произносить это имя? — сказала она и бросила на него взгляд, полный скорби. — Я боялась, что все‑все воспоминания улетучились из вашего сердца — даже имя той, которую вы когда‑то любили и теперь презираете — осуждаете беспощадно…
Штилов все еще стоял в таком остолбенении от неожиданности этого посещения, что не находил слов. Глаза его вспыхнули молнией гнева, но молния тотчас же угасла — можно ли сердиться на такую кротость, на такое смирение? Самые противоположные чувства боролись в его душе.
— Вы меня жестоко осуждали, — продолжала она тем мягко тающим голосом, который дан в удел немногим женщинам и который льнет к сердцу слушающего, как нежная ласка. — Вы от меня отвернулись, не потребовав ни слова объяснения, а ведь вы меня серьезно любили? Ведь вы знали, что я вас люблю? — прибавила она робко, почти шепотом, опуская глаза и вся вспыхнув.
Штилов все еще не находил слов, что сказать в ответ таким взглядам, таким словам. Он был готов в самом деле признать себя жестоким варваром, и потребовалось воспроизвести в памяти вчерашний вечер, чтобы вооружиться против этой женщины холодным спокойствием.
Антония подошла ближе и подняла на него глаза, полные беспредельной нежности.
— Моя любовь, — говорила она тихо, — была чиста и доверчива, как любовь девочки, и она наполняла всю мою душу, она смиряла мою гордость, я лежала у ваших ног, как раба!
Слезы засветились в ее красивых глазах.
— Прошу вас, — начал Штилов в смятении, — к чему эти воспоминания? Зачем эта тяжелая сцена?
— Вы правы, — отвечала она, и из глаз ее сверкнул гордый луч, не сорвав с них, однако, покрывавшей их завесы сентиментальной грусти. — Вы правы: я не должна касаться далекого прошлого. Но есть прошлое более близкое, о котором я должна говорить, которое привело меня сюда.
— Но… — начал было Штилов.
Не слушая его, она продолжала:
— Вы меня безжалостно покинули, — она прижала руку к сердцу, — вы меня оскорбили, и сердце мое возмутилось. Я хотела возненавидеть вас, забыть… Но все лучшие стремления моей души восстали против этого — я не могла вас забыть. — Тут голос ее задрожал. — Гордость шептала мне: если даже он тебя разлюбил, он все‑таки не имеет права тебя презирать!
Штилов холодно смотрел на нее, чуть заметная усмешка играла на его губах.
— Вы имели право, — продолжала она, — считать меня фальшивой, думать, что вы попали в ловушку кокетки. Может быть, хуже — может быть, вы считали себя жертвой, — прибавила она тихо. — Но этого вы не должны думать, к воспоминанию обо мне не должно примешиваться презрение.
— Оставим прошедшее, — повторил он, — уверяю вас…
— Нет! Вы должны выслушать меня до конца — если прошедшее не оставило за мной никаких иных прав, то права говорить вы у меня не можете отнять!
Он промолчал.
— Вы знаете, какова была моя жизнь — с сердцем, полным любви, с головой, полной стремлений к вершинам жизни. Меня в первой молодости приковали к человеку, которого вы знаете. Он сам заботился о том, чтобы я была окружена молодежью, между прочим, сам познакомил меня с графом Риверо. Я обнаружила в графе богатый ум, предполагала достигнуть с ним удовлетворения всех желаний, он внес свет и интерес в мою жизнь. Мне показалось, что я его полюбила. Разве это преступление?
И, не дождавшись ответа, фрау Бальцер продолжала:
— Когда я вас увидела, я поняла, что ошибалась, поняла, что то было увлечение только головы, только воображения — сердце мое заговорило, фибрами всего существа я почувствовала в себе новое, незнакомое чувство, выраставшее из глубины души. Позвольте мне умолчать о той поре, — сказала она, вздрогнув. — Воспоминания, которых я еще не могу убить, могут увлечь меня. Я долго и тяжело боролась сама с собой, — продолжала женщина спокойным голосом, усилием воли подавляя чувство. — Мне следовало рассказать вам об этом прошлом, но я не решалась, — любовь делала меня трусихой, я боялась вас потерять. Я боялась даже облака на любимом челе, я молчала, молчала из страха за мою любовь. Он уехал, но вы знаете, в какой позорной, унижающей зависимости нахожусь я — человек, имя которого я ношу, властелин моей участи, был ему должен. Я не смела быстро и резко порвать тех отношений, ждала его возвращения. Зная графа как человека благородного и великодушного, я хотела объяснить ему все на словах, как вдруг случилась та несчастная встреча… Отношения, которые мне хотелось распутать спокойно, были порваны. О! — вдруг вскрикнула она в порыве горести. — Что я тогда выстрадала!
Штилов был тронут и посмотрел на нее с состраданием.
— Я виновата, — продолжала Антония, — но не так, как кажется: в душе я не изменяла своей любви — с той минуты, когда я поклялась вас любить, вам безраздельно принадлежал каждый удар моего сердца, каждое движение моей души.
Она подошла к нему еще ближе и, протянув руки и устремив на него взгляд, полный беспредельной нежности, продолжала:
— Я вам не изменяла — я вас не забывала, я вас не могу забыть! Я пришла, чтобы объяснить — я не хочу… — Тут голос ее заглушили слезы. — Не хочу, чтобы вы меня презирали, чтобы вы меня совсем забыли… — прибавила она тихо. — Мне не верится, чтобы все‑все исчезло из вашего сердца! Я не могу с вами расстаться, не сказав, что, если когда‑нибудь ваше сердце будет одиноко, есть существо, есть друг, который никогда не изменит своей первой, своей единственной любви!
Она была несказанно хороша, стоя перед ним так кротко, скромно, полуоткрыв губки, с глазами, полными слез, всей своей стройной фигурой изнемогая под наплывом чувств. Штилову стало жаль ее, тон ее голоса, магнетический блеск глаз разбудили воспоминание о прошлом. Но он перемог позыв к нежности и всепрощению. Глаза его приняли холодное выражение, губы улыбнулись насмешливо.
— Оставимте прошлое в покое, — сказал он холодно и вежливо, — я вам не делал упреков и не буду делать. Я вам желаю…
Она печально на него посмотрела.
— Стало быть, мои слова были напрасны, — сказала она, — вы мне не верите…
Лицо его вспыхнуло досадой.
— Я верю вам, — сказал он, — и не нуждаюсь в ваших словах, так как, слава богу, все знаю. Я думаю, мы можем кстати закончить эту историю из вашего недавнего прошлого следующим эпизодом.
И, вынув из ящика письмо, которое она переслала через мужа к графине Франкенштейн, он развернул его перед нею.
— Вы видите, — сказал он, — я узнал, с какою пользой для настоящего вы употребляете воспоминание о прошлом.
Она вздрогнула, как пораженная молнией. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью, черты судорожно исказились.
— Надеюсь, что это положит конец нашей беседе, — сказал он с горькой усмешкой.
Дама вспыхнула, задрожала, глаза загорелись страстью.
— Нет, — почти закричала она, — нет! Не конец, далеко не конец!
Штилов слегка пожал плечами.
— Не конец! — кричала она вне себя. — Потому что я тебя люблю, потому что я не могу без тебя жить, потому что ты не можешь быть счастлив с той ледяной глыбой, которой хочешь дать свое имя!
— Вы заходите чересчур далеко! — вспылил Штилов.
— Ты сам не понимаешь, что делаешь! — кричала она, бросаясь к его ногам. — Послушай, милый! Единственный! Выслушай меня, не отталкивай! Я не могу без тебя жить, и я знаю, что и ты будешь тосковать о том могучем роднике страсти, которым полна моя душа. Оставь мне твое сердце! Отдай той женщине имя, положение в свете, я никогда за ними не гналась. Мне никогда ничего не было нужно, кроме тебя самого, и когда тебе станет скучно и холодно в том ледяном свете — приходи ко мне, в мои объятия — отдохнуть, согреться, помечтать… Больше мне ничего не надо: я буду терпеливо ждать тебя, буду жить долгие годы воспоминаниями о коротких минутах счастья. Делай все что хочешь — но только люби меня!
Она схватила его руку и прижала к пылающим губам. Он вздрогнул, и на секунду закрыл глаза.
Потом взглянул на нее спокойно и приветливо и взял за руку.
— Антония, — заговорил он тихо и ласково, — я был бы недостоин носить саблю, если бы сказал вам теперь что‑нибудь еще, кроме того, что забвение и прощение — единственная возможная дань нашему прошлому. Я не хочу помнить о вас ничего, кроме хорошего, и если вам понадобится помощь друга, вы найдете ее во мне.
И, слегка пожав ее руку, он ее выпустил.
Тон ли его голоса, спокойное ли пожатие руки дали ей понять, что на любовь нечего больше рассчитывать. Она постояла молча и неподвижно, в глазах потухла страсть, на миг сверкнула молния злобы, но она поспешила спрятать ее под быстро упавшие веки.
Фрау Бальцер опустила вуаль на лицо и проговорила голосом, в котором не было и следа волнения:
— Прощайте и будьте счастливы! — и быстро вышла из комнаты.
Штилов в изнеможении бросился в кресло.
— Что это было: комедия или правда? Что бы ни было, дай бог ей найти счастье! Это последняя тучка, угрожавшая затмить мою звезду, теперь ее лучи прольют в мою жизнь чистый и продолжительный свет!
Он позвонил, приказал заложить экипаж, оделся и поехал к графине Франкенштейн.
Широкие аллеи Пратера были полны пестрой жизни. На больших полянах, под деревьями этого громадного парка расположилась стянувшаяся к Вене кавалерия, со всех сторон представали разнообразные лагерные сцены.
Там нетерпеливо ржали и рыли копытами землю лошади на привязи, здесь солдаты у пылающего костра варили обед, дальше виднелась походная лавочка, успевшая в изобилии обзавестись съестными припасами и напитками для желающих. Жители Вены толпами бросались смотреть на последние панорамы войны, подернутые романтической прелестью и совсем утратившие первоначальный трагический колорит, после того как ужасы войны и страх, соединенный с ними, перешли в область минувшего. Больше всего любопытных толпилось около большой лужайки, обставленной высокими деревьями, на которой смуглые сыны Венгрии исполняли свой фантастический национальный танец — чардаш. Один наигрывал на старой скрипке своеобразную, то меланхолично плакавшую, то дикими дифирамбическими порывами метавшуюся мелодию, даже при таком исполнении поражавшую удивительной, необъяснимой прелестью. Другие исполняли не менее своеобразный танец, то позвякивая шпорами и несясь вихрем, то остановившись на месте, изгибаясь в странных, но всегда грациозных и привлекательных позах.
В числе любопытных стояли, между прочим, старик Гройс, комик Кнаак и вечно веселая Жозефина Галльмейер. Великолепные, полные жизни и ума глаза Пепи внимательно следили за движениями чардаша. Слегка покачивая головой, она била ножкой в такт резко кадансированной музыке.
— Посмотри‑ка, старина, — сказала она вдруг, обращаясь к Гройсу, серьезно и печально поглядывавшему на оживленную сцену, — какие молодцы! Вот бы мне где выбрать себе дружка — не чета нашей чахлой молодежи.
— Да, — подтвердил мрачно старый комик, — вон пляшут, а как дело дошло до того, чтобы за Австрию подраться, так на попятный двор! Восемьдесят полков нашей великолепной кавалерии вовсе не были в деле, — сердце разрывается, как только вспомнишь!
— Тьфу, старый, кровожадный тигр! Радоваться надо, что они еще могут плясать и не попали на эти проклятые огнестрельные иголки, — не много бы от них тогда осталось!
— Ба! Огнестрельные иголки! — сказал старый Гройс. — Теперь оказывается, что все они сделали. Сперва народ говорил, что генералы виноваты, а потом генералы свалили все на иголки. А я думаю, что народ был прав: если б пруссакам дать наших генералов, иголки не много бы помогли!
— Блаженны забывающие то, чего нельзя изменить! — изрекла фрейлейн Галльмейер. — Против пруссаков ведь ничего не поделаешь, они превыше богов!
— Отчего такое благоговение перед пруссаками? — спросил Кнаак.
— Да ведь они в самом деле превыше богов, если верить поэту, сочиняющему такие чудесные роли для моей приятельницы Вольтер! — Она приняла комично‑патетическую позу и продолжала, поразительно подражая голосу и тону великой артистки городского театра:
С глупостью борются боги вотще!А пруссаки ведь не вотще померялись силами с дураками! — сказала она, смеясь.
— Пепи, — заметил строго Гройс, — можешь говорить что хочешь обо мне и обо всех, но, если ты начнешь острить над несчастьем моей милой Австрии, мы сделаемся врагами!
— Ах, как страшно! — вскрикнула Галльмейер. — Тогда мне, пожалуй, пришлось бы… — И она взглянула на него с лукавой улыбкой.
— Ну, что еще?
— Со старым Гройсом бороться вотще, — продекламировала она и высунула кончик языка.
— Можно ли с тобой говорить серьезно? — спросил старый комик полусердито, полушутя.
Чардаш кончился, группы гуляющих снова задвигались.
— Смотрите, — показал Кнаак, — вон едет наш приятель Штилов со своей красавицей невестой!
И он указал на изящную открытую коляску, медленно ехавшую по большой аллее. В глубине сидели графиня Франкенштейн с дочерью, на передней скамейке лейтенант фон Штилов в блестящем уланском мундире. Лицо его сияло счастьем, он живо рассказывал что‑то молодой графине, указывая рукой на лагерные группы.
— Славная парочка! — отметил с удовольствием Гройс, приветливо поглядывая на улыбающихся молодых людей.
О, dass sie ewig gruenen bliebe Die schoene Zeit der jungen Liebe![104] –сказала бы моя приятельница Вольтер, — продекламировала Галльмейер. — А я зла на него: я призналась ему в любви, а он мною пренебрег. Впрочем, я скоро утешусь! — заключила она со смехом. И они пошли дальше.
Экипаж графини Франкенштейн, оставив за собой густую толпу гуляющих, быстро направился к городу.
К дебаркадеру северной железной дороги ежедневно подъезжали длинные поезда с больными и ранеными, подвозимые с перевязочных пунктов и временных лазаретов из окрестностей Вены и с более отдаленных полей битв, для того чтобы им могла быть оказана более правильная и серьезная помощь.
Залы железнодорожной станции были приспособлены для временного приема раненых: многие прибывали в такой крайней слабости, что не могли быть тотчас отправлены дальше, почти все нуждались в некотором отдыхе, и, кроме того, для формирования дальнейших транспортов тоже требовалось время.
Венские дамы всех сословий, от высшей аристократии до простейших и беднейших горожанок, съезжались и сходились обыкновенно ко времени прибытия подобных поездов на станцию, чтобы угощать раненых напитками, подкреплять их легкой пищей, с бельем и корпией под рукой для необходимейших перевязок, по указанию врачей. Здесь в полном блеске обнаруживался тот прекрасный, патриотический, самоотверженный дух, которым проникнут австрийский народ, тот дух, который императорское правительство так часто не понимает, так часто даже старается подавить, почти никогда не пользуясь его жизненным порывом правильно и плодотворно на общее благо.
— Раненых ждут, — обратилась молодая графиня Франкенштейн к своей матери, когда их коляска выехала из аллеи Пратера на площадку дебаркадера. — Не выйти ли и нам? Я взяла с собой корпии, черносмородинного сока и вина. Мне бы хотелось, — прибавила она, нежно взглянув на жениха, — тем более помочь бедным раненым, что это хоть немножко выразило бы мою благодарность Богу за то, что он так милостиво избавил меня от горя и страданий!
Штилов горячо пожал невесте руку, восторженно взглянул на ее мило вспыхнувшее личико.
— Как я рада, что ты об этом подумала, — сказала графиня‑мать. — Никогда нельзя достаточно сделать для тех, кто страдает и сражается за свою родину, и мы должны в этом отношении стоять впереди всех сословий.
— Я попрошу позволения удалиться, — Штилов взглянул на часы, — мне надо побывать у генерала Габленца, чтобы спросить, не будет ли каких‑нибудь приказаний.
Клара посмотрела на него печально.
— Но вечером ты будешь свободен? — спросила она.
— Надеюсь, — отвечал молодой человек, — теперь нам, адъютантам, почти нечего делать.
Коляска подъехала к подъезду станции и остановилась.
— Так до свиданья! — повернулась графиня Франкенштейн к Штилову, когда они вышли из экипажа, а взгляд Клары прибавил: «До скорого!»
Лакей вынул из‑под козел корзинку с разными припасами и последовал за дамами в вокзал.
Там глазам их представилась оживленная, но серьезная и печальная картина.
Длинными рядами стояли походные кровати и носилки, на которых лежали раненые, больные, умирающие воины всех родов войск, в числе их было много и пруссаков. Частью бедняги переносили свои страдания в безмолвной покорности, частью охали и стенали в страшных муках от тяжелых ран и увечий.
Между этими рядами ходили врачи, осматривая прибывших и определяя, куда кого перенести или отправить, судя по степени ранения и надежде на выздоровление. Перед дальнейшей отправкой переменяли перевязки, раздавали лекарства и прохладительные, а неизбежно необходимые операции производили в особо для этого устроенных кабинетах и бараках. Тяжело и грустно было смотреть на все это: очевидцы того, как гордые полки весело выступали в поход, как глаза воинов блестели при звонких переливах сигнальных рожков, и смотревшие теперь на эти разбитые, измученные, окровавленные тела, привезенные с полей битв, на которых им даже не удалось ценой своей крови отстоять знамен своего отечества, тяжело вздыхали при мысли, что так громко прославляемая, прогрессивная цивилизация не сумела изгнать из общества жестокую, смертоносную войну. Войну, кровавый бич которой теперь так же поднимает людей друг против друга, как поднимал на полях битв седой древности, с той только разницей, что изобретательный человеческий ум теперь придумал более варварские и более смертоносные орудия уничтожения, с механической быстротой выбивающие из строя тысячи там, где некогда падали в рукопашном бою только единицы.
Рядом с докторами, исследовавшими раны холодным взглядом науки, находились сестры милосердия, эти неутомимые жрицы христианской любви: тихо и спокойно скользили они между постелями, то помогая накладывать перевязку нежной рукой, то ободряя коротким, приветливым словом, то вливая в бледные уста лекарство или питье.
И всюду возле деятельных групп виднелись впереди прекрасные, изящные венские аристократки, то поившие жаждущих, то раздававшие лекарства и корпию и всем и каждому из печальных страдальцев дарившие свои приветливые улыбки.
Большой помощи не было, правда, от этих импровизированных самаритянок, изливавших избыток любви к Отечеству в уходе за его ранеными защитниками, но сам вид их был бесконечно отраден для несчастных страдальцев, которые в этом нежном уходе видели признание и понимание их жертв и терзаний. Многим из затуманенных лихорадкой глаз чудились в прелестных пособницах далекие сестры или возлюбленные, и тусклые, неподвижные глаза оживлялись, бледные, перекосившиеся от мук уста улыбались.
Таким образом, они все‑таки приносили благословение и утешение бедным больным, хотя доктора явно ими тяготились. Но врачи, имея дело только с тем сердечным мускулом, который гонит кровь по жилам, не знают того сердца, которое недоступно анатомическому скальпелю, не признают человеческого сердца с его горестями и радостями, которое, однако, так часто ставит в тупик их искусство.
Графиня Франкенштейн и ее дочь тотчас же присоединились к дамам своего круга и начали вместе с ними обходить ряды кроватей.
В числе собравшихся здесь женщин для вошедшего в моду ухода за ранеными — хотя странно сопоставлять слово «мода» с такой гуманной, благотворной и во многих случаях самоотверженной деятельностью — была и красивая жена вексельного агента Бальцера.
В простеньком, темно‑сером платье, с корзинкой с корпией и прохладительным питьем в руке, она оказала одному из оперировавших врачей такую искусную помощь, что он поблагодарил ее, удивляясь, что не сестра милосердия, а, по‑видимому, знатная дама оказалась такою ловкой и уверенной пособницей. Поразительно прекрасна была эта женщина в скромном наряде, с бледным, благородным лицом, в неподражаемой грации движений и в удивляющей находчивости и энергии ее помощи. Иностранцы, видевшие ее в кругу знатных венских дам, принимали Антонию за знатнейшую из знатных. Но эти дамы ее не знали; иные из них спрашивали, кто эта прекрасная, изящная особа, но никто не умел ее назвать, потому что в Вене недостает той общественной жизни, которая в Париже дает дамам высшего круга возможность лично знать своих подражательниц — или, иногда, своих моделей — из полусвета. Имя фрау Бальцер было более или менее известно, о ней часто говорили в салонах, но немногие из дам ее видели, так как она старалась держаться в стороне от многолюдных собраний и строго соблюдала внешние приличия.
Она ходила между рядами кроватей, щедро утоляя направо и налево изнемогавших от жажды больных, как вдруг, почти у самого выхода, ей бросились в глаза отдельно от других поставленные носилки, на которых неподвижно лежал бледный солдат.
Она подошла и медленно наклонилась к нему — ее встретил тусклый взгляд, исхудалое лицо было мертвенно‑синее, посередине груди зияла большая, открытая рана, полная крови и гноя. Раненый умер дорогой, должно быть несколько часов тому назад. Она положила руку ему на лоб — он был холоден как лед.
Антония в ужасе отшатнулась от этой страшной, печальной картины, как вдруг ее слух поразили оживленные голоса.
Она оглянулась и увидела в нескольких шагах от себя группу из нескольких дам, стоявших вокруг раненого в уланском мундире; бинт на его голове сдвинулся, и он тщетно старался поправить его своей слабой рукой.
Из дамской группы выделилась молоденькая графиня Франкенштейн, сияя красотой и грацией. Глубокое сострадание увлажняло ее глаза.
— Ведь это улан! — сказала она матери. — Ведь это один из наших! — и легким шагом подошла к носилкам, сняла перчатки и, отодвинув кружевные рукавчики, принялась приводить в порядок повязку раненого своими нежными, беленькими ручками.
Антония Бальцер вздрогнула при звуке этого голоса, из своего темного угла она увидела в полном свете и блеске эту пленительную, счастливую девушку с улыбающимися устами и лучистыми глазами.
Лицо ее побледнело почти так же, как у лежавшего перед нею мертвеца, в глазах вспыхнул огонек, в котором не было уже ничего человеческого — звериная злоба исказила красивое лицо.
С минуту она смотрела, не двигаясь, на чарующее явление, потом на губах ее показалась невыразимая усмешка.
— Здесь смерть, там жизнь, — шепнула она надорванным, хриплым голосом и торопливо наклонилась к лежавшему перед ней трупу, так что лицо ее не могло быть видно со стороны.
Она вынула из корзинки маленькие ножницы с позолоченными ручками, глубоко погрузила их в рану на груди мертвеца, потом прижала к этой ране свой тонкий, батистовый платок и дала ему пропитаться кроваво‑гнойной влагой.
Когда она приподнялась, лицо ее, пугливое и встревоженное в первую секунду, усилием воли приняло более спокойное выражение. Она быстро подошла к Кларе, только что собиравшейся забинтовать компресс, который она положила на голову раненого улана.
— Ради бога! — заговорила она. — Кусок холста, каплю одеколона — я все извела, а вон там раненый умирает!
И, порывисто пододвинувшись к Кларе, она, как бы умоляя, схватилась обеими руками ее руку, протянувшуюся, чтобы хорошенько расправить бинт.
Клара вскрикнула и отдернула руку. Крупная капля крови медленно скатилась с ее белокожей руки на рукав.
— О, какая неловкость! — вскрикнула фрау Бальцер. — Я уколола вас ножницами — тысячу раз прошу извинить меня!
И она поспешно прижала свой носовой платок, пропитанный гноем из мертвой раны, к раненой руке графини.
— Пожалуйста, — сказала приветливо молодая девушка, — не беспокойтесь о таких пустяках, когда нужно оказывать серьезную помощь!
И она медленно высвободила свою руку из‑под платка, которым фрау Бальцер нажимала и терла ее, как бы для того, чтобы остановить кровь.
Затем Клара подала длинный холщовый бинт, который держала в руке, и сказала:
— Вот, пожалуйста, отрежьте отсюда!
Фрау Бальцер проворно отрезала ножницами кусок холста, вежливо поблагодарила и, еще раз извинившись, вернулась к трупу.
Многие дамы приблизились во время этой маленькой, коротенькой сцены к носилкам, стоявшим в стороне.
— Бедняжка умер! — констатировали они. — Здесь больше нечего делать!
Фрау Бальцер печально взглянула на труп.
— Да, умер, — подтвердила она, — мы пришли слишком поздно!
И, сложив руки, она наклонила голову и, состроив набожную мину, прошептала молитву. Стоявшие вокруг нее дамы последовали ее примеру. Затем все перешли дальше, к другим кроватям.
В числе немногих мужчин, расхаживавших между многочисленными сострадательными дамами, помогая и распоряжаясь, хлопотал граф Риверо.
Он был недалеко, когда фрау Бальцер подбежала к графине Франкенштейн попросить холста.
Пристально и задумчиво навел он свои большие, темные глаза на эти две изящные женские фигуры, затем медленно отошел в другую сторону.
Через несколько часов вокзал опустел, дамы вернулись или в высокие, роскошные гостиные аристократических дворцов, или к спокойным, тихим очагам скромных семей. Бедные раненые были распределены по различным лазаретам для того, чтобы пройти долгим рядом дней и страданий к выздоровлению — или к смерти.
Глава двадцать шестая
Утреннее солнце светило в комнату лейтенанта фон Штилова. Но не в блаженных грезах, как вчера, лежал молодой хозяин на покойной кушетке. Быстро и беспокойно расхаживал он по комнате, живая, горестная тревога читалась на его бледном лице, очевидно пережившем бессонную ночь.
Накануне вечером он был у невесты, — час прошел в том сладком, пленительном лепете влюбленных сердец, которые хотят сказать друг другу так много и не находят достаточно слов, как вдруг Клара пожаловалась на острую боль в маленькой ранке на руке. Приложили холодные компрессы — боль становилась сильнее и сильнее, рука распухла. Позвали домашнего врача, он перепробовал различные средства, но маленькая рана принимала все более странный вид, рука все сильнее воспалялась. Штилов оставался у невесты почти до утра, когда доктор решил приложить к ране новую мазь, а молодой графине дать снотворный порошок.
Графиня почти насильно отослала Штилова домой отдохнуть немного и обещала утром чем свет послать за знаменитым Оппольцером. Никто не верил в серьезную опасность, но тем не менее молодой человек провел ночь в тревоге и страхе, волнуемый непреодолимыми опасениями.
Рано утром он послал своего слугу узнать о здоровье и получил в ответ, что графиня поспала и что доктора Оппольцера ждут с минуты на минуту. Он оделся, чтобы самому отправиться к больной невесте.
Но только что он пристегнул саблю, как слуга доложил о графе Риверо.
Молодой человек сделал нетерпеливое движение, но было поздно отказывать. Граф входил уже в комнату, как всегда спокойный и серьезный, бодрый и изящный.
Он вежливо поклонился, протянул руку и, обдав молодого друга своего теплыми лучами приветливых глаз, заговорил своим мелодичным голосом:
— Я услышал, что вы здесь с фельдмаршалом Габленцем, и поспешил повидаться с вами, пока вас не отправили дальше, и высказать вам мою радость, что вы так счастливо прошли через все опасности войны.
— Вы очень добры, граф, — отвечал Штилов немного натянутым тоном, — я очень рад вас видеть…
Граф ждал приглашения сесть, но Штилов сконфуженно опустил глаза и молчал.
Потом вдруг он поднял на графа свои ясные глаза и заговорил горячо и взволнованно:
— Граф, простите, я буду с вами откровенен. Умоляю вас пожаловать ко мне в другое время: теперь, в эту минуту, признаюсь, я слишком встревожен и озабочен…
— Встревожены? — спросил участливо граф. — Вы не сочтете, конечно, за любопытство, если я позволю себе спросить…
— О, надеюсь, что ничего серьезного нет, — проговорил Штилов, — но моя невеста — вы знаете, я обручен?
— Слышал и только что собрался вас поздравить.
Штилов слегка поклонился и продолжал:
— Моя невеста заболела, такой странный случай — меня это ужасно беспокоит! Я только что собирался к ней, чтобы повидаться и узнать, что сказал Оппольцер, за которым сегодня посылали…
— Посылали за Оппольцером? — спросил граф с испугом. — Боже мой! Разве графиня серьезно больна?
— Просто невероятно, — отвечал Штилов, — хотя симптомы очень тревожного свойства: легкая рана на руке приняла такой угрожающий характер и вызвала такую сильную лихорадку!..
— Рана! — воскликнул граф. Лицо его вдруг сделалось очень серьезным и выразило напряженное внимание.
— Моя невеста, — продолжал молодой офицер, — ухаживала за ранеными в вокзале северной железной дороги. Другая дама, отрезая кусочек полотна, слегка уколола ее ножницами. Этот укол едва ли можно назвать раной, но в течение вечера рука девушки страшно вспухла и причиняет ей невыносимую боль. При этом проявилась сильная лихорадка. Доктор полагает, что на кончик ножниц попало какое‑нибудь ядовитое вещество, но с точностью ничего не может определить. Вы меня извините, — прибавил он, пожимая графу руку, — если я с вами теперь распрощаюсь…
Граф слушал очень внимательно. Он страшно побледнел и серьезно смотрел на взволнованное лицо молодого человека.
— Любезный барон, — медленно заговорил он, — я принимаю в вас живое участие и желал бы вам помочь. В молодости я много занимался медициной и с особенной тщательностью изучал свойство ядов и противоядий, которые, — прибавил он с легким вздохом, — некогда играли столь роковую роль в моем отечестве. Если вследствие какой‑либо несчастной случайности на ножницах было ядовитое вещество, я, может быть, в состоянии уничтожить его гибельное действие. Позвольте мне взглянуть на вашу невесту.
Затем он взволнованным голосом, с убеждением продолжал:
— Поверьте мне, я не всякому предложил бы свою помощь. Но я думаю, что в настоящем случае, если опасность велика, я могу ее предотвратить.
Штилов сначала в безмолвном изумлении слушал графа, затем лицо его оживилось радостной благодарностью. Он схватил за руку графа и быстро проговорил:
— Пойдемте!
— Прежде зайдемте ко мне за некоторыми инструментами, — сказал граф. — Если дело действительно заключается в отравлении, то каждая минута дорога.
Вместо ответа молодой человек потащил графа из комнаты. Они сели в извозчичий экипаж и через несколько минут очутились близ квартиры графа, которая находилась по соседству. Граф вышел из экипажа и вскоре вернулся с небольшим черным ящичком в руках. После непродолжительной, быстрой поездки они остановились перед домом графини Франкенштейн и вошли в приемную залу.
В передней комнате их встретил лакей, который на вопрос Штилова о графине печально отвечал:
— Ах, господин барон, какое ужасное несчастье!. Бедная графиня очень плоха! Мы посылали за ее духовником и к вам также, господин барон.
Затем он поспешил доложить графине о приходе молодого человека.
Штилов в волнении ходил взад и вперед по зале. Лицо его выражало глубокое страдание, доходившее до отчаяния. Граф ждал неподвижно, опираясь на спинку кресла.
Несколько минут спустя явилась графиня Франкенштейн. Она была бледна, заплакана и имела утомленный вид.
Дама с изумлением взглянула на графа, которого несколько раз встречала прежде в обществе, но присутствие которого в настоящую минуту у себя никак не могла объяснить.
Штилов бросился к ней навстречу, схватил ее за руку и дрожащим голосом воскликнул:
— Ради бога… что с Кларой?
— Успокойтесь, любезный Штилов, — кротко сказала графиня, с трудом удерживая рыдание. — Рука Господня тяжело на нас упала. Если не случится чуда, мы лишимся Клары.
И она горько заплакала.
— Но боже мой, что же это такое? Что говорит доктор? — в отчаянии воскликнул молодой человек. — Что могло попасть в рану?
— Клара, вероятно, прикоснулась к трупу, из раны которого яд проник в ее кровь. На спасение нет почти никакой надежды! — беззвучно произнесла мать.
— Я пойду к ней, я должен на нее взглянуть! — воскликнул молодой человек почти диким голосом.
— У нее теперь духовник, который старается ее утешить и ободрить, — остановила его графиня. — Дайте ей прежде покончить с этим последним долгом.
Она сделала над собой усилие, чтоб успокоиться, и подняла вопросительный взгляд на графа. Тот продолжал стоять неподвижно и слушал молча. Когда графиня высказала мнение доктора насчет причины болезни молодой девушки, в глазах его сверкнул гневный луч, но затем он с благодарностью поднял их к небу. Встретив вопросительный взгляд графини, Риверо подошел к ней со спокойным самообладанием светского человека и с легким поклоном сказал:
— Надеюсь, вы меня узнали, графиня, хотя я всего только несколько раз имел честь вас видеть. Барон Штилов, который, вероятно, позволит мне назваться его другом, рассказал о страшном несчастии, постигшем молодую графиню. Я предложил ему, еще не вполне зная, в чем дело, извлечь пользу из медицинских познаний, какие мне удалось приобрести в молодости. Теперь, когда я услышал от вас все подробности этого страшного случая, я прошу вас довериться мне. Позвольте мне без промедления употребить одно средство, которое, с Божьей помощью, даст нам возможность спасти вашу дочь.
Графиня слушала его с величайшим удивлением.
— Вы, граф, — доктор? — спросила она.
— Из любви к искусству, — отвечал он, — но вследствие этого не хуже многих, которые практикуют по профессии.
Графиня, видимо, колебалась.
— Ради бога, не мешайте графу действовать! — воскликнул Штилов. — Все средства должны быть испробованы! Боже мой, боже мой, я не могу ее лишиться!
— Граф, — сказала графиня Франкенштейн, — благодарю вас от всего сердца за ваше участие и предложение. Но, — продолжала она нерешительно, — вы простите мои колебания… жизнь моей дочери…
— Колебания и замедления могут в настоящем случае стоить жизни, — спокойно заметил граф.
Графиня все еще не решалась. Штилов со страхом на нее смотрел.
Дверь из соседнего покоя медленно растворилась, и в залу вошел патер Игнациус, духовник графини и ее дочери.
На нем было черное священническое одеяние. Он держал себя просто, изящно, но в то же время с достоинством. На его суровом, бледном лице, окаймленном короткими черными волосами, лежало выражение душевного спокойствия, самообладания и ума.
— Графиня вполне покорна воле Божией, — заговорил он тихим, приятным голосом. — Она желает причаститься, чтобы быть вполне готовой, если Господу не угодно будет внять нашим молитвам о ее спасении.
— Боже мой! Боже мой! — в отчаянии воскликнул Штилов. — Умоляю вас, графиня, не отвергайте средства, которое вам посылает само небо!
— Граф Риверо, — сказала графиня, указывая своему духовнику на графа, — предлагает средство для спасения моей дочери. Вы понимаете… Еще раз прошу у вас извинения, граф. Вы понимаете, что я колеблюсь, ведь речь идет о жизни моего дитяти! Я ежеминутно ожидаю доктора. Оппольцер тоже хотел опять прийти. Он, правда, не подавал почти никакой надежды…
Патер Игнациус бросил на графа проницательный взгляд. Тот отвечал на него со спокойным достоинством, почти с видом гордого превосходства.
— Во всяком случае, это серьезный и важный вопрос, — нерешительно произнес патер.
— А спасение с каждой минутой становится все сомнительнее и сомнительнее! — с оживлением воскликнул граф. — Я думаю, — продолжал он спокойнее, обращаясь к патеру, — вы непременно согласитесь со мной, что в таком необыкновенном случае все средства, даже самые странные, должны быть испробованы.
С этими словами он устремил на священника пристальный взор, поднял руку и, незаметно для других, осенил себе лоб и грудь особого рода знамением креста.
Патер смотрел на него с изумлением, почти с испугом. Он смиренно преклонил голову перед сверкающим взглядом графа и, быстро повернувшись к графине, сказал:
— Было бы преступлением против божественного милосердия не воспользоваться средством, которое оно посылает нам в этой крайней нужде. Графиня, вы взяли бы на свою совесть тяжкую ответственность, если отвергли предлагаемую вам помощь.
Графиня Франкенштейн не без удивления выслушала слова патера.
— Пойдемте, — сказала она после минутного молчания графу Риверо.
Все направились к покоям молодой графини. Ее комната была наполнена цветами; в нише стояло изваяние Христа, а в ногах девушки лежали высохшие розы.
Портьеры, висевшие над дверьми, которые вели в спальню, обитую серой шелковой материей, были подняты, так же как и темно‑зеленый полог кровати, где на подушках покоилась молодая графиня в белом пеньюаре. Откинутый назад правый рукав обнажал сильно распухшую руку, обложенную компрессами, которые сидевшая возле женщина беспрестанно поливала сильно пахнувшею жидкостью.
Лицо молодой девушки горело, глаза ее сверкали лихорадочным блеском, когда она печально устремила их на вошедших.
При виде страждущей девушки Штилов быстро отделился от остальной группы, опустился на колени возле кровати и, сложив руки, взволнованным голосом воскликнул:
— Клара, моя Клара!
Она отвечала ему преисполненным нежности взглядом.
— Мой дорогой друг! — сказала она тихо и протянула ему левую руку. — Как прекрасна жизнь! Как горько думать о смерти, которая, по‑видимому, так ко мне близка! Но Бог милостив, Он нас не разлучит!
Штилов склонил голову на руку своей невесты и слегка коснулся ее губами. Он не был в состоянии произнести ни слова. Из груди его только вырвался тяжелый вздох.
Граф Риверо между тем быстрыми, твердыми шагами подошел к кровати.
— Надейтесь, графиня, — произнес он уверенным тоном. — Господь благословит мою руку. А вы, барон, уступите мне ваше место: минуты дороги! — Он слегка коснулся плеча стоявшего на коленях молодого человека.
Тот быстро встал и отошел в сторону.
Граф снял компрессы и испытующим взглядом осмотрел руку, которая с самой кисти и до плеча была покрыта сильной опухолью с синеватым отливом и темными полосами.
Все взоры были устремлены на графа. Он продолжал осмотр и ощупал опухоль. Взгляд графини выражал не только удивление, но и доверие к этому едва ей знакомому человеку, который с таким спокойствием и самоуверенностью говорил ей: «Надейтесь!»
Граф окончил осмотр руки.
— Так точно, — сказал он, — в рану попала гнойная материя, отрава сильно распространилась: еще немного — и было бы уже слишком поздно!
Он поставил на ближний столик черный ящичек, который принес с собой, и открыл его. В ящике находились хирургические инструменты и несколько флаконов из граненого хрусталя. Граф взял нож с золотой рукояткой и блестящим острым лезвием.
— Заранее прошу у вас прощения, графиня, — сказал он тоном светского человека. — Я вынужден причинить вам боль — это неизбежно.
Молодая девушка улыбнулась ему в ответ.
Граф твердой рукой взял руку больной и с быстротой молнии сделал в опухоли глубокий, крестообразный надрез.
Оттуда мгновенно хлынула густая кровь, перемешанная с гноем.
— Платок! — воскликнул граф.
Ему подали батистовый платок, он быстро отер кровь, взял один из хрустальных флаконов, широко раскрыл рану и влил в нее часть содержавшейся в нем жидкости.
Лицо молодой графини покрылось смертельной бледностью. Она закрыла глаза и судорожно сжала губы.
— Вам больно? — спросил граф.
— Невыносимо! — едва слышно прошептала она.
Граф вынул из ящика маленькую спринцовку с острым стальным концом, наполнил ее жидкостью из того же самого флакона и стал делать подкожные впрыскивания вдоль покрывавших руку темных полос. Лицо молодой девушки принимало все более и более страдальческое выражение. Графиня Франкенштейн с беспокойством следила за движениями графа. Штилов в безмолвном отчаянии ломал руки. Патер Игнациус стоял, сложив ладони, и шептал молитву.
Граф взял другой флакон и осторожно влил из него определенное число капель в стакан, до половины наполненный водой. Вода окрасилась красным цветом, а в комнате распространился резкий запах.
Граф слегка коснулся лба больной. Она открыла глаза. Лицо ее судорожно подергивалось от нестерпимой боли.
— Выпейте это! — сказал граф мягким, но в то же время повелительным тоном.
Она повиновалась. Риверо не спускал с нее глаз.
Мало‑помалу черты лица ее приняли более спокойное выражение. Она открыла глаза и с облегчением вздохнула.
— Ах, как хорошо! — прошептала девушка.
Луч радости сверкнул на лице графа.
— Я сделал все, — торжественно произнес итальянец, — что во власти науки и искусства. Остальное в руках Божьих: да благословит Он мои усилия! Молитесь, графиня, молитесь от всего сердца, чтоб Он сообщил моему средству силу уничтожить действие яда!
— Да, да! — с оживлением воскликнула молодая девушка, отыскивая глазами жениха. — Приди ко мне, мой дорогой друг!
Барон Штилов поспешил на ее призыв и упал на колени возле ее кровати.
— Я не могу соединить рук, — сказала она тихо и нежно, — но положу мою здоровую руку на твою, и мы вместе станем молиться Богу, чтоб Он нас не разлучал.
И Клара дрожащим голосом начала произносить молитву, между тем как глаза молодого офицера с выражением глубокого благочестия обратились к небу.
Вдруг молодая девушка вздрогнула, почти с испугом отдернула свою руку и с отчаянием воскликнула:
— Наша молитва не может вознестись к Господу! О, какая ужасная мысль: мы молимся не одному Богу!
— Клара! — возразил молодой человек. — Что ты говоришь? В небе один Бог, и Он нас, конечно, услышит.
— Ах! — сказала она, не обращая внимания на его слова. — Бог один, но ты не идешь по тому пути, который ведет к нему. Ты не находишься в лоне Церкви! Я не раз об этом думала, когда была здорова и счастлива, но усыпляла свою совесть. Теперь же, в крайней опасности, на пороге вечности, мною овладел ужасный страх. Бог не станет нас слушать, и, — продолжала она со взглядом отчаяния, — если я умру, если ничто не спасет меня, я вступлю в вечность с сознанием, что его душа потеряна… О, это ужасно! Ужасно!
— Клара, Клара! — воскликнул Штилов в сильном волнении. — Бог один для всех, обращающихся к нему с верой и любовью и с чистым сердцем. А какая молитва может быть чище и искреннее той, которую я только что к нему воссылал!
Графиня Франкенштейн упала в кресло и закрыла лицо руками. Патер внимательно следил за происходившей перед ним сценой. Спокойные, прекрасные черты лица графа Риверо точно преобразились.
Клара с тоской смотрела на жениха. Она кротко покачала головой.
— Ты молишься не в одной церкви со мной, — сказала она. — Нас разделяет все, что есть самого высокого в человеческом сердце.
— Клара, моя возлюбленная Клара! — воскликнул молодой человек, простирая к ней руки. — Церковь, в которой молится твоя чистая душа, должна быть самая истинная и святая. Если б здесь передо мной был алтарь этой церкви, я немедленно повергся бы перед ним и стал бы взывать к Богу о твоем спасении!
И с вдохновенным видом он схватил руку молодой девушки и положил ее на свою. Невыразимая радость озарила ее лицо.
— Алтарь Божий здесь, — торжественно произнес граф Риверо, вынимая из‑под своей одежды золотой крест с серебряным Распятием художественной отделки, — и служитель его перед вами!
Он отцепил Распятие, висевшее у него на груди на тонкой золотой цепочке.
— Не может быть алтаря святее этого, — сказал он, с умилением целуя крест. — Святой отец в Риме освятил его своим апостольским благословением. Молодой человек, — продолжал он, обращаясь к Штилову, который, казалось, не помнил себя от различных волновавших его чувств, — молодой человек, Господь несказанно милостив к вам, таким чудесным образом указывая вам путь ко спасению. Повинуйтесь голосу Божию, который говорит с вами через эти чистые уста! Не отвергайте руки, которая вводит вас в лоно Святой Церкви. Спешите признать Бога и закрепите это признание словами, которые, может быть, вашей умирающей невесте суждено вознести к престолу Всевышнего. Вы молите небо о чуде для спасения любимого вами существа, — откройте ваше собственное сердце для чудотворного возрождения, которое вам ныне предлагается.
— Я готов на это! — воскликнул Штилов. Он был в сильно возбужденном, восторженном состоянии.
Клара закрыла глаза и крепко пожала руку молодого человека.
— Ты слышишь, Господи! — прошептала она. — Благодарю Тебя! Судьбы Твои неисповедимы, и благость Твоя неисчерпаема!
— Господин патер, — с достоинством произнес граф, — приступите к исполнению ваших духовных обязанностей: примите эту вновь восприявшую спасение душу в лоно Святой Церкви.
Патер Игнациус был глубоко взволнован. Лицо его сияло радостью, но тем не менее он колебался.
— Но разве это возможно, — сказал он, — таким образом… здесь… без приготовлений?
Граф резко взмахнул рукой.
— Я беру на себя всю ответственность, — гордо произнес он. — Формальности могут быть соблюдены позже. — И он подал патеру Распятие, которое тот с благоговением поцеловал.
— Положите руку на изображение Спасителя и повторите за патером то, что он вам скажет, — произнес граф, обращаясь к молодому человеку.
Штилов повиновался.
Медленно и торжественно произносил патер слова, заключающие в себе исповедание католической веры. С глубоким чувством повторял их молодой человек, а вслед за ним и Клара едва слышным шепотом. Граф стоял, гордо выпрямившись, с глазами, поднятыми кверху, с выражением торжества на лице.
Графиня Франкенштейн опустилась на колени и склонила голову на сложенные крестообразно руки.
Затем патер с глубоким, почтительным поклоном возвратил Распятие графу, который, поцеловав его, снова повесил на цепочку и спрятал на груди.
— Теперь вы можете молиться вместе, — сказал он чрезвычайно мягко. — В ваших сердцах нет более разногласия, и обоюдная молитва ваша в чистейшей гармонии вознесется к престолу вечной любви и милосердия.
Штилов скрестил руки на краю постели, Клара положила на них свою левую, и оба, из глубины своих любящих сердец, принялись шептать молитву о том, чтобы им не разлучаться.
Долго и горячо молились они. Присутствующие с умилением смотрели на эту столь прекрасную и трогательную картину. В комнате царствовала торжественная тишина.
Наконец барон Штилов встал и запечатлел на руке Клары нежный поцелуй. Графиня Франкенштейн подошла к нему и поцеловала его в лоб.
— Да благословит вас Бог, сын мой, — горячо произнесла она. Молодой человек с недоумением смотрел вокруг себя. Ему казалось, что он внезапно очутился в каком‑то новом, совершенно незнакомом ему мире. Ему необходимо было несколько одуматься, чтобы прийти в себя после стольких потрясающих впечатлений.
Граф подошел к постели, чтобы снова осмотреть рану.
Рана была ярко‑красного цвета; ее окружали маленькие пузырьки, видневшиеся также и на других частях руки.
— Лекарство действует, — сказал он, — яд начинает выходить; я более не сомневаюсь в спасении!
Барон Штилов бросился к нему на шею.
— Вот друг — навсегда! — воскликнул он, и слезы хлынули у него из глаз.
— Каким образом могу я выразить вам мою благодарность? — спросила графиня Франкенштейн.
— Благодарите Бога, графиня, — возразил граф. — Он совершил ныне два чуда: одному существу сохранил Он земную жизнь, другому открыл путь к вечному блаженству. Но, — прибавил Риверо с улыбкой и тоном светского человека, — я рассчитываю на вашу скромность и надеюсь, что вы не станете меня ссорить с медицинским факультетом.
Он сделал еще распоряжения насчет дальнейшего употребления своего лекарства, дал больной еще одну дозу и вышел из дому с обещанием вернуться через несколько часов.
Быстрыми шагами направился он к жилищу госпожи Бальцер. Когда он поднялся по лестнице и вступил в покои молодой женщины, лицо его приняло суровое выражение.
У нее он застал аббата Рости, который его ожидал. Молодой человек сидел на стуле близ кушетки, на которой покоилась хозяйка в свежем светло‑голубом платье и весело болтала.
Аббат встал, чтобы приветствовать графа, а молодая женщина с любезной улыбкой протянула ему красивую руку.
— Мы вас ждали, — сказала она. — Бедный аббат уже давно скучает оттого, что поставлен в необходимость вести со мной разговор, — шутливо прибавила она. — Где вы были?
— Я предотвращал последствия страшного преступления, — заявил граф сурово, устремив на молодую женщину пытливый взгляд.
Она невольно вздрогнула.
— Преступления? — повторила она. — Какого и над кем?
— Над чистым, прекрасным существом, — отвечал граф, не спуская с нее глаз, — которое безжалостная рука осудила было на жестокую смерть, — над графиней Кларой Франкенштейн.
Госпожа Бальцер была поражена. Она вдруг побледнела, губы ее задрожали, а глаза невольно опустились перед неподвижным, испытующим взглядом графа. Ее грудь высоко поднималась, она хотела заговорить, но могла только с трудом переводить дух.
— Видите ли, аббат, — сказал граф, указывая на молодую женщину, — видите ли вы эту тварь, которая вам сейчас улыбалась, которая умеет придавать своему лицу выражение всех самых возвышенных чувств? Она — убийца. Она с холодной, обдуманной жестокостью влила яд в теплую, чистую кровь невинного существа, вся вина которого в том, что оно приобрело любовь молодого человека, возбудившего в ней самой пламенную страсть. Но Богу угодно было расстроить ее планы. Он дал мне силу спасти эту жертву неслыханного злодеяния.
С удивлением, почти с испугом слушал графа аббат Рости. Он вопросительно смотрел на прекрасную женщину, обвиняемую в таком ужасном преступлении.
Антония крепко сжимала руки на груди, как бы стараясь умерить биение сердца. Ее глаза при последних словах графа впились на него с выражением испуга и ненависти, но не могли вынести его взгляда и снова опустились.
— Граф, — сказала она, несмотря на свое волнение, спокойным и холодным голосом. — Вы меня обвиняете, вы говорите со мной тоном судьи! Но я вас не понимаю, и кто дал вам право…
Сделав над собой усилие, она взглянула графу прямо в глаза.
Риверо быстро выпрямился, подошел к ней и, с угрозой занеся над ней руку, заговорил негромким, сдержанным голосом, который гулко раздавался в комнате:
— Я не обвиняю вас в преступлении, а утверждаю, что вы совершили его. Я говорю тоном судьи, потому что, если бы захотел, действительно мог бы быть твоим судьей, Антония фон Штейнфельд!
С ужасом отшатнулась молодая женщина от графа. Все самообладание ее исчезло, она в изнеможении опустилась на стул.
— Я мог бы, — продолжал граф, — быть судьей безнравственной дочери, которая убежала с актером, оставив мать, добрую, честную женщину, всем для нее пожертвовавшую. Эта дочь украла у матери все ее последнее достояние и предалась разврату, между тем как бедная старуха, не решаясь прибегнуть к суду, чтобы не сделать гласным свой стыд, жила в крайней бедности, пока наконец не умерла с горя. Я мог бы быть судьей потерянной женщины, которая падала все ниже и ниже, пока наконец не искупила двухлетним тюремным заключением нового воровства, совершенного ею у молодого человека, попавшегося в ее сети. Затем она в качестве актрисы долго странствовала по маленьким городкам Богемии и Галиции. Наконец, встретив человека, ничем не лучше себя самой, она вышла за него замуж. Он дал ей имя, положение и возможность делать в больших размерах то, что она начала на улице. Я мог бы быть судьей убийцы, которая хладнокровно и преднамеренно осудила на страшную смерть прекрасное молодое существо. Знаешь ли ты, несчастная, — продолжал он громовым голосом, — что мне стоило произнести только слово для того, чтобы сорвать с твоей позорной жизни покров лжи, которою ты прикрываешься, и отдать тебя на поругание целому миру? Знаешь ли ты, — воскликнул граф, наступая на нее, между тем как глаза его метали молнии, — знаешь ли ты, что я без малейшего угрызения совести мог бы уничтожить твою жизнь средством, гораздо более действенным, чем тот яд, который ты впустила в кровь невинной жертвы?
По мере того как граф говорил, молодая женщина все более и более теряла самообладание. Когда он кончил, она лежала у его ног, вся растерянная и совершенно уничтоженная.
Аббат смотрел на нее со смесью отвращения и сожаления.
С минуту граф стоял молча, устремив на нее грозный взгляд, затем продолжал:
— Благодари Бога, что мне удалось спасти жертву твоей ненависти, иначе моя рука без малейшего сострадания обрушилась бы на тебя со всей силой заслуженной тобою кары! Постарайся, — прибавил он после минутного молчания, в течение которого тишина в комнате нарушалась только глубокими вздохами, вырывавшимися из груди молодой женщины, — постарайся умилостивить небо, посвятив отныне на служение Богу и Церкви полученные тобой от природы дары, которые до сих пор ты употребляла только на зло. Ты должна быть моим орудием, и благодаря делу, которому ты будешь служить, тебе, может быть, со временем отпустятся твои прегрешения.
Она вопросительно на него смотрела: жизнь и надежда вернулись в ее сердце.
— Я не требую от тебя никаких обещаний, я сам буду наблюдать за твоим послушанием. Но знай, что, как бы далеко я ни был от тебя, мой глаз всегда будет тебя видеть, а рука постоянно будет распростерта над тобой. И стоит тебе только на волос удалиться от пути, по которому я тебя поведу, ты мгновенно будешь уничтожена в прах. Я тебя освобожу от всех связывающих тебя цепей, ты будешь свободна, для того чтобы вполне отдаться мне. Все силы твои должны принадлежать исключительно мне и моему делу. Но еще раз повторяю: берегись! Малейшее отступление от предначертанного тебе пути — и ты безвозвратно пропала!
Антония медленно встала и стояла перед ним с опущенными глазами, скрестив руки на груди. Трудно сказать, что происходило внутри нее, но лицо ее выражало глубокое смирение и безграничную покорность.
Граф еще с минуту продолжал молча на нее смотреть.
— Я все сказал, — прибавил он. — Если же ты забудешь хоть что‑нибудь из сказанного мною, я более не стану тебя предостерегать, а прямо буду наказывать.
Она молча склонила голову.
Тогда с лица графа сбежала всякая суровость и оно приняло свое обычное выражение спокойствия и достоинства.
— Господин Бальцер дома? — спросил он.
— Я думаю, что дома, — тихо отвечала она. — Он недавно просил у меня свидания.
— Я хочу его видеть, — сказал граф.
Дама покорно склонила голову и вышла из комнаты.
— Какая сцена! — с ужасом воскликнул аббат. — Что за женщина!
Граф, казалось, что‑то обдумывал.
— Вы думаете, она будет вам благодарна за то, что вы ее пощадили? — спросил аббат. — Вы действительно ожидаете, что она исправится?
— Не знаю, — спокойно отвечал граф. — Будем надеяться, что сердце ее смягчится. Во всяком случае, она бесценное орудие.
— Что вы замышляете? — с удивлением спросил аббат.
Граф медленно опустился в кресло и сделал знак аббату, приглашая его сесть рядом.
— Молодой друг мой, — заговорил он серьезно и ласково, — вы принадлежите к священной лиге; вы воин, сражающийся за Церковь. В вас есть ум, твердость и вера, вы призваны трудиться со мной над торжеством божественных прав на земле, над возведением обетованного храма на скале Святого Петра. Говорю вам: нам предстоит жестокая борьба, новая и тяжкая работа!
Он с минуту помолчал, погруженный в собственные размышления.
— Все, что мы до сих пор сделали и подготовили, — продолжал он, — разрушено. Мы вступаем в новую фазу. Австрия отреклась от самых первооснов своего существования. Она отреклась от Церкви, на почве которой сложилась в государство, с помощью которой до сих пор держалась и влияние которой одно могло продлить ее существование в будущем. За этим первым шагом по новому пути в силу непреложного закона логической постепенности последуют другие. С Австрией отныне наши счеты покончены. Можем ли мы еще рассчитывать на Францию — пока для меня не совсем ясно. С виду, кажется, да, но настоящее положение Франции представляет для нас мало гарантий. Господствующая там ныне сила — демонического свойства: она первая наложила руку на старинные, священные права церкви. Миру предстоит обновление, — продолжал граф вдохновенно. — Немецкая нация мало‑помалу пробуждается и растет. Кто знает: может быть, Провидение предназначает некогда распавшуюся на части Германию сделаться со временем твердым фундаментом Царства Божьего? Будущее покажет это, — прибавил он после минутного молчания. — Мы же должны быть настороже. Нам следует зорко наблюдать за всем, что совершается, чтобы быть в состоянии пользоваться событиями. Как нам предстоит действовать — пока трудно определить. Во всяком случае, здесь более нечего ни ожидать, ни делать, — здесь развалины, которые мало‑помалу обратятся в прах. Я еду в Париж, — продолжал он, поднимая голову. — Там центр готовящихся событий, оттуда мы можем обозревать нити, управляющие миром. Вы меня сопровождаете? — прибавил он полувопросительно, полуповелительно.
Аббат поклонился.
— Мне приказано находиться в вашем распоряжении, — отвечал он. — Я горжусь и радуюсь, что имею такого начальника.
— Я возьму с собой эту женщину, — сказал граф. — Я ее освобожу от здешних цепей и поставлю на почву, где ее удивительным способностям будет раздолье. Теперь, когда она вполне в моих руках, она может оказать нам важные услуги.
Аббат испугался.
— Эту женщину? — переспросил он. — Неужели мы такими орудиями станем пятнать наше святое дело?
Граф поднял свои выразительные глаза и пристально устремил их на молодого человека.
— Так и вы заражены сомнениями? — медленно произнес он. — И вы принадлежите к числу малодушных, которые желают достигнуть цели, но разборчивы в средствах?
— Разве грех может служить небу? — нерешительно спросил аббат.
Граф встал. Вся фигура его преобразилась. Он гордым взглядом смерил молодого аббата и заговорил тоном глубокого, искреннего убеждения:
— Молния, убивающая людей и сжигающая жилища бедных, разве не служит вечным целям Божиим? Да и все разрушительные силы природы разве не обращаются в руках Всевышнего в средства к совершению великих дел! В том‑то именно и состоит всемогущество Божие, что самое зло должно служить добру и содействовать достижению великих целей. Знаменитый немецкий поэт, хотя и не принадлежащий к числу верующих, и тот изображает дьявола как силу, которая желает зла, а творит добро. Мы, — воскликнул Риверо, и в глазах его сверкнул луч несокрушимой энергии, — мы воины, отстаивающие права Церкви, хотим победить врагов и упрочить славу Креста. И что же? Мы станем бояться дьявола и, признавая его силу, будем перед ней трепетать? Нет, мы должны сознавать в себе присутствие силы, которая и самого царя тьмы может заставить служить небу! Вот настоящая победа над грехом — победа не трусливого школьника, который бежит греха, чтобы не поддаться ему, а сильного мужа, который именем Божьим принуждает падшего ангела бороться за добро!
— Простите меня, — аббат все еще был в нерешительности, — но не дерзость ли со стороны слабого, греховного существа эти попытки распоряжаться злыми силами наравне с премудрым и всемогущим Провидением? Не угрожает ли нам опасность сделаться жертвами там, где мы думали управлять?
Граф строго, почти гневно на него взглянул.
— Мир, — сказал он, — борется с нами всевозможными средствами, — неужели мы, защищая святое дело, должны выступать против него с неравным оружием, которое заранее осуждает нас на поражение? Нет, тысячу раз нет! В наших руках должно быть самое острое и действительное оружие — несравненно более острое и действенное, чем то, каким располагают наши противники. Меч убивает, — продолжал он, — а заповедь гласит: не убей! А между тем сотни тысяч людей ходят опоясанные мечом и имеют задачей в жизни изучение искусства убивать по всем правилам тактики. Почему же никто не осуждает их? Зачем победоносные войска увенчивают лаврами, раз победа достигается посредством убийства сотен и тысяч невинных существ? Потому что они поднимают меч во имя честного и доброго принципа, на защиту Отечества, для упрочения его славы и величия. Но Отечество принадлежит здешнему, преходящему миру. А мы станем робеть и колебаться, мы не осмелимся действовать мечом, когда дело идет о защите вечного Отечества всего человеческого рода, о славе и величии невидимого, всесвятого Царства Божия? Те, кто обнажают меч на защиту земных благ, не имеют права ограничивать нас в выборе наших средств защиты, имеющей в виду торжество вечных, непреложных истин. Наши враги, конечно, желали бы видеть нас с тупым оружием в руках: это обеспечивало бы за ними победу, которая досталась бы им легко, если бы им удалось поселить в наших душах сомнение. Нет, молодой человек, изгоните из вашего сердца всякое колебание, иначе вы не в силах будете поднять меча на защиту Христовой Церкви!
Аббат склонил голову.
— Простите молодому, неопытному уму его колебания, — тихо проговорил он. — Я стану бороться и молиться, и постараюсь облечься в панцирь веры и послушания.
Граф ласково на него посмотрел и сказал:
— Молите Бога, чтобы Он закалил ваше сердце и не допустил его идти по пути страданий и отчаяния, по которому я долго странствовал, прежде чем пришел к полному убеждению и спокойствию.
Он приблизился к аббату и положил ему руку на плечо.
— Я тоже, — заговорил он чрезвычайно мягко, — был молод, как вы, как вы, весел и счастлив. У меня была нежно любимая жена и двухлетняя дочь, в глазах которой я видел небо. Сам я занимался медициной в Риме. Мне посчастливилось, богатство лилось ко мне рекой. Обнимая жену и дочь, я чувствовал, как сердце мое переполнялось любовью ко всему человечеству, благодарностью к Богу за дарованное мне счастье и состраданием к страждущим, которым я старался помогать всеми средствами моих сил и познаний. Был у меня еще брат, — продолжал он, задумчиво смотря перед собой. — Я любил его с детства. В качестве старшего брата мне удалось воспитать его сердце и образовать его ум. Он посвятил себя искусству, которое издавна составляло один из роскошнейших цветков в венке славы моего Отечества. Я с гордостью любовался произведениями его кисти, в которых он все более и более приближался к манере великих мастеров прошедшего времени. То была славная, счастливая жизнь! Моему брату вздумалось попробовать свои силы в изображении самого высокого и святого предмета: он захотел нарисовать Святую Деву с превечным Младенцем на руках. Жена моя служила ему моделью, а ребенок наш на ее коленях должен был служить образцом Младенца. Но, может быть, то был непростительный грех, неслыханная дерзость? Однако и великий Рафаэль рисовал своих мадонн с земных женщин, что вовсе не мешало божественному духу открываться ему с такою осязательной отчетливостью. Я радовался при мысли, что рука любимого мною брата передаст на полотне все, что было у меня самого дорогого и что из этого в то же время выйдет картина, предназначавшаяся для служения Господу. Профессия принуждала меня часто и надолго отлучаться из дому, — продолжал он мрачно. — Однажды, когда я вернулся, они исчезли. Мой брат соблазнил мою жену — или она его, я не знаю, — только они убежали, взяв с собой и невинную малютку, вероятно, для того, чтобы ее чистый взгляд не мог вливать в мою душу утешения и услаждать моего одиночества…
На последних словах голос его точно оборвался, взор сделался неподвижен, губы дрожали от внутреннего волнения. Он в изнеможении упал на стул. Аббат стоял перед ним, глубоко растроганный. Через несколько минут граф снова начал тихим, уже спокойным голосом:
— Я уже давно об этом не говорил и не растравлял словами своей сердечной раны. Но вы видите, — прибавил он с печальной улыбкой, — рана еще не зажила. Все поиски беглецов оказались безуспешными: я не мог найти никаких следов. Как описать вам мое тогдашнее состояние? На это едва ли хватит слов. Душа моя была полна отчаяния; я утратил веру в Бога и хотел положить конец своей жизни. Только надежда отыскать мое бедное дитя заставляла меня со дня на день откладывать исполнение этой ужасной решимости. Я возненавидел людей и отказывал им в помощи моего искусства, радуясь, когда умирали родители или когда они лишались детей, между тем как в моей власти было бы их спасти. Я презирал общество и весь государственный строй. Его законы и постановления оказывались бессильными отвращать или наказывать преступления, подобные тому, от которого я страдал. Если бы я мог одним словом уничтожить весь человеческий род, я бы не задумался произнести это слово и с восторгом бы смотрел на всеобщую гибель. О, мой молодой друг! — воскликнул граф, тяжело переводя дух. — То были страшные дни и еще более ужасные ночи! Я буквально могу сказать, что побывал в аду и видел все, что кипит и колышется на дне его. В моем сердце постоянно раздавался звук отрицания, страшное «нет», против создателя вселенной, против источника любви и безграничного милосердия. Но однажды ко мне явился старый священник, неутомимый борец за церковь и ее права. Он почти насильно ворвался в мою жизнь, и его пламенное красноречие подняло в моей душе страшную бурю, которая потрясла все мое существо. Но гром и молния породили свет. Под руководством такого учителя я вскоре узнал, что никакой порядок вещей ни в государстве, ни в обществе, как бы они ни были благоустроены, не может побороть греха. Вытеснить его из мира может только священная власть церкви, этого другого общества, построенного на началах божественных. Я мало‑помалу проникся истиной, что нет высшей задачи, как бороться за утверждение на земле господства церкви, которая должна докончить начатое Христом дело искупления человечества. Я понял, сколько величия в деятельности, способной самый грех заставить служить небу. Но, — продолжал он с выражением непреодолимой энергии и несокрушимой силы воли, — я в то же время видел, как сильно вооружались против Церкви ее враги, и я пришел к убеждению, что победа может быть достигнута только соединенными усилиями воли и ума, руководимыми могущественной, непреклонной рукой. Чтоб победить утвердившиеся в мире адские силы, необходимо их завербовать на служение святому делу и побудить к уничтожению самих себя. С тех пор я посвятил мою жизнь служению Церкви. Бог укрепил мое сердце и просветил мой ум. Он дал мне большую власть над людьми и над запутанными нитями их судеб. Часто имел я в своих руках страшную власть демона, но ангел мой всегда оставался при мне, и адская сила обращалась на служение небу, подобно тому как пар повинуется давлению руки человеческой. Мне ли после этого, — воскликнул он с оживлением, — предаваться сомнениям и колебаться в выборе оружия, робко осматриваться и оставлять без употребления власть, которую я приобрел над врагами? Я не страшусь ни ада, ни дьявола! — гордо и вдохновенно произнес он. — Эта рука достаточно сильна для того, чтоб подчинить их моей воле и заставить зло служить добру!
Аббат с изумлением смотрел на прекрасное, взволнованное лицо графа.
— Простите меня, мой учитель, — смиренно произнес он, — простите меня за сомнения и не отнимайте у меня вашей сильной длани, которая пусть всегда мною руководит и служит мне опорой.
Граф подал ему руку.
— И ваши силы, подобно моим, со временем закалятся в борьбе, — сказал он. — Только помните, что человеку, этому слабому, греховному существу, никогда не следует прибегать для достижения своих земных желаний и стремлений к тем средствам, которые имеет право употреблять в дело только тот, кто, отрекшись от всего, живет и умирает исключительно для Бога!
Едва он умолк, дверь отворилась, и в комнату вошел Бальцер.
Он поклонился графу с видом дружеской доверчивости и бесстыдной самоуверенности, которая была ему так свойственна.
Граф отвечал на его поклон легким, гордым кивком и холодно на него посмотрел.
— Вы желали со мной говорить, граф, — сказал Бальцер. — Чем я могу вам служить?
— Наша беседа, я надеюсь, будет непродолжительна, — отвечал граф. — Я намерен вам сделать предложение, которое вы, конечно, примете, потому что оно вас выведет из неприятного положения.
Бальцер был смущен резким, положительным тоном графа. Его самоуверенность начала ему изменять.
— Предложение! — повторил он боязливо, но затем прибавил с улыбкой: — Я охотно выслушиваю всякие предложения, и если они мне по душе, то…
— Я требую полной свободы для вашей жены, — холодно перебил его граф, — и…
— Это нелегко, — с самодовольной миной возразил Бальцер. — Чтоб получить развод, ей пришлось бы сделаться протестанткой, и скандал…
— Но она может также сделаться свободной, овдовев, — заметил граф.
Бальцер невольно от него отшатнулся.
Он со страхом оглянулся, затем с изумлением устремил глаза на спокойное лицо графа и сказал с принужденной улыбкой:
— Вы шутите, граф.
— Нисколько, — отвечал тот. — Вы будете так добры и выслушаете меня до конца, а затем, я не сомневаюсь, вполне со мной согласитесь.
Бальцер, по‑видимому, не знал, что ему думать об этом человеке, который говорил с ним с таким холодным достоинством. Движением головы он дал понять, что готов слушать.
Граф заговорил самым естественным тоном:
— Ваше положение чрезвычайно шатко. Вы не только на краю банкротства, но вы уже давно банкрот и поддерживаете ваше финансовое существование только посредством особенной системы, которая заключается в том, чтоб старые долги покрывать новыми и еще более крупными. Но это не может долго длиться, и вам предстоит полное крушение.
Бальцер с изумлением слушал графа.
— Критическая минута, — продолжал тот, — уже почти настала. В моих руках находится множество векселей, которые, если будут все одновременно поданы ко взысканию, причинят вам окончательную гибель. Но положение ваше еще более усложняется тем, что вы в последнее время, в видах спасения или только временного отдаления гибели, прибегли к фальшивым подписям…
— Граф, — перебил его Бальцер тоном, в котором обычное бесстыдство боролось с внезапно овладевшим им страхом, — я…
Граф повелительным движением руки заставил его молчать и вынул из кармана пачку векселей.
— Вы видите, — сказал он, перебирая их, — фальшивые векселя в моих руках. Если я их пущу в ход, вам не миновать тюрьмы.
С пошлой физиономии Бальцера сбежала всякая тень самоуверенности. Он со страхом слушал графа, не смея произнести ни слова.
— Вы пропали, — продолжал тот холодно, — и если в вас есть хоть капля стыда, то вы должны предпочитать смерть постыдной участи, которая вас ожидает впереди.
Бальцер с мольбой простер к нему руки.
Граф сурово на него смотрел.
— Однако я не хочу вашей гибели, — сказал он. — Я дам вам средство начать новую жизнь.
Луч радости сверкнул в глазах поверенного по вексельным делам. Он еще не вполне понимал свое положение, но начинал надеяться.
— Граф, — начал он, — приказывайте…
— Слушайте хорошенько, чего я от вас требую, — сказал граф. — От вашего безусловного повиновения зависит ваша судьба.
Бальцер приготовился слушать с напряженным вниманием.
— Вы немедленно, — говорил граф, — отправитесь в Гмунден. Оттуда вы напишете жене письмо, в котором скажете ей, что вы банкрот и решили покончить счеты с жизнью. Вы позаботитесь о том, чтобы на озере была найдена плавающей по воде ваша шляпа, палка или платок. Затем вы сбреете бороду, наденете парик и отправитесь в Зальцбург, где отыщете по данному вам адресу особу, от которой получите паспорт и пять тысяч гульденов.
Он подал Бальцеру исписанную карточку.
— Потом, — продолжал он, — вы поедете в Гамбург и на первом отправляющемся в море корабле купите себе билет в Нью‑Йорк. Там вы обратитесь к личности, которую вам назовут в Зальцбурге. Она вам окажет нужную помощь и содействие для того, чтоб начать новую жизнь. Но для этого вы должны забыть ваше прошлое, равно как и ваше имя. Помните, что за вами постоянно будут наблюдать, и малейшее непослушание с вашей стороны может навлечь на вас беду.
Лицо Бальцера, по мере того как граф говорил, принимало все более и более изумленное выражение. Затем на нем мелькнула не то насмешка, не то злобная радость, и наконец он задумался.
— Принимаете вы мое предложение? — спросил граф.
— А мои векселя? — напомнил Бальцер, искоса на него поглядывая.
— Я их купил, и они останутся в моем портфеле, — отвечал граф.
— Я согласен! — воскликнул Бальцер. — Вы останетесь мной довольны, но, — прибавил он с отвратительней усмешкой, — пять тысяч гульденов — ничтожная сумма! Вы слишком дешево цените мою жену.
— Точно такую же сумму вам вручат в Нью‑Йорке, — холодно отвечал граф, — если вы с точностью исполните все, что вам предложено.
— Я поеду, — сказал Бальцер и прибавил с плохо разыгранной печалью: — Но не будет ли мне дозволено проститься с супругой?
— Нет, — отвечал Риверо, — она должна поверить вашей смерти, я этого требую. Антония должна быть совершенно свободна перед лицом людей, как и перед своей совестью.
Бальцер повернулся, чтобы уйти.
— Я буду ожидать известий из Зальцбурга через три дня! — повторил граф и торжественно прибавил: — Да благословит вас Господь и да укажет в своем безграничном милосердии путь к новой жизни.
Он простер к нему руки, а лицо его сияло искренним чувством.
Бальцер с низким поклоном удалился.
— Теперь мы все покончили здесь, — сказал граф, оставшись наедине с аббатом. — Приготовьтесь отправиться в путь ровно через восемь дней.
Глава двадцать седьмая
Роскошный замок Шенбрунн привольно раскинулся посреди древнего парка с искусственными развалинами, аллегорическими каскадами, тенистыми чащами и светлыми солнечными лужайками. Над замком на высоте горы поднималась воздушная, легкая триумфальная арка, так называемая Глориетта, с которой великая императрица Мария‑Терезия смотрела на Вену, поднимающуюся на горизонте своей высоко выдающейся башней Св. Стефана.
Рядом с императорским замком, полным воспоминаний об императрице‑королеве и Наполеоне I, орел которого до сих пор красуется на обоих обелисках парадного подъезда, и вокруг обширного парка раскинулся мирный Гитцинг, любимое летнее местопребывание венских жителей. Виллы стоят рядами, в хорошие летние вечера сюда съезжается модный венский свет слушать концерты в больших садах «Нового света» или «Казино» и прогуляться по тенистым дорожкам Шенбруннского парка, всегда открытого для публики.
С тех пор как Наполеон I водворил свою главную квартиру в любимой резиденции Марии‑Терезии и делал смотры своей старой гвардии на ее обширном дворе, в мирном Гитцинге не было такой шумной жизни, как осенью 1866 года.
Саксонская армия стояла на биваках вокруг Гитцинга, король Иоанн жил в так называемом Стекле, маленьком дворце у въезда в большой парк, выстроенном некогда Марией‑Терезией для своего знаменитого лейб‑медика Ван‑Свитена, а ганноверский король, который сперва по прибытии в Вену остановился в доме своего посланника генерала Кнезебека, переехал в лежавшую на противоположном конце элегантного селения виллу герцога Брауншвейгского, Вилла, обнесенная высокой простой стеной, внутри здания и в окружавшем парке скрывала чудеса искусства и редкостей.
Саксонские войска, свиты государей, экипажи эрцгерцогов и австрийской аристократии, соперничавшей в сочувствии и внимании к обоим столь тяжело пострадавшим от австрийской политики королям, наполняли улицы Гитцинга пестрым и блестящим потоком, и если кто имел основание радоваться великим катастрофам 1866 года, то это, конечно, были содержатели «Нового света» и «Казино».
В одно утро этой достопримечательной эпохи в большой гостиной брауншвейгской виллы находились два человека.
Стены этой гостиной были обтянуты шелковыми китайскими обоями, вышитые фигуры обитателей срединной империи со стен спокойно и равнодушно смотрели своими аляповатыми лицами из раскрашенного фарфора, вся мебель была драгоценной китайской работы; в углу виднелись изображения пагод; китайские маты из тончайшей рисовой соломы покрывали пол; сквозь большие стеклянные, настежь открытые двери вливался мягкий воздух из парка, ухоженного с невероятной тщательностью. Но все эти редкости, придававшие комнате скорее вид китайского музея, чем светской гостиной, не привлекали ни малейшего внимания двух человек, печально и серьезно расхаживавших взад и вперед.
Один из них был гофмаршал граф Альфред Ведель, которого мы уже видели в Ганновере во время июньской катастрофы, рядом с ним топал маленький, худенький человек лет тридцати шести, бледное лицо которого с длинными светлыми усами носило выражение твердой энергии и живого ума. Он был в полковничьем мундире ганноверской пехоты.
— Да, любезный Дюринг, — сказал печально граф Ведель, — все кончено: Ганновера нет больше. Вы последний, высоко державший его знамя. Да, — прибавил он, вздыхая, — если бы наши генералы были так же энергичны, как вы, всего этого не случилось.
— Я положительно не понимаю, — сказал полковник Дюринг, — как это могло произойти — я мог следить за всем походом только по весьма неточным сведениям, но не понимаю его ни в военном, ни в политическом отношении!
— Да кто ж понимает! — вскричал с горечью граф Ведель. — Я думаю, меньше всех те, которые его организовывали.
— Неужели вы серьезно думаете, что Ганновер присоединят? — спросил Дюринг.
— Судя по тому, что делают прусские чиновники в Ганновере, сомневаться нельзя, печальная истина слишком очевидна. Однако, — прервал он себя, — нас сейчас позовут.
В соседней комнате зазвенел громкий колокольчик. Через минуту в дверях королевского кабинета появился камердинер и сказал:
— Его Величество просит пожаловать.
Граф Ведель и полковник Дюринг вошли. Кабинет, который занимал Георг V, был обтянут шотландскими шелковыми обоями, великолепное шотландское оружие было развешано по стенам, а между ним — мастерские картины, изображавшие сцены из романов Вальтера Скотта. Перед большим столом посреди комнаты сидел король. Глубокая печаль лежала на его прекрасном, выразительном лице.
— Привет вам, господа! — произнес Георг V с кроткой улыбкой, протягивая им руку, которую они оба прижали к губам. — Многое совершилось с тех пор, как я вас не видел, любезный Альфред.
— Государь, — сказал граф Ведель, и голос его задрожал от волнения, — что бы ни совершилось, мое сердце останется то же!
— Вы привезли мне известие о королеве?
— Точно так, Ваше Величество, — отвечал граф, вынимая несколько писем и передавая их королю.
Король положил их перед собой на стол.
— Здорова ли королева? — спросил он. — Как она переносит тяжелое испытание?
— Ее Величество преисполнена спокойствия и достоинства, — отвечал граф, — но глубоко скорбит и пламенно желает как можно скорее соединиться с Вашим Величеством.
Мрачная тень подернула чело Георга V.
— Когда нас Бог приведет свидеться? — сказал он. — Пока королева должна там оставаться — такова моя воля.
Граф Ведель молчал.
— Здорова ли графиня? — продолжал король.
— Всеподданнейше благодарю Ваше Величество, — отвечал граф, — она приводит дом в порядок и последует за мной при первой возможности.
— Последует за вами? — спросил Георг.
— Ваше Величество! — сказал граф Ведель взволнованным голосом. — Я здесь не для того, чтобы, передав известие, вернуться, — я приехал, чтобы остаться, если Ваше Величество не прогонит меня.
Король вскинул на него вопросительный взгляд.
— Ваше Величество, — продолжал граф, — по всему, что я вижу и слышу, Ваше Величество не скоро, очень не скоро вернется в Ганновер. Вы назначили меня гофмаршалом, и я с гордостью нес свои обязанности при вашей августейшей особе. Ваше величество в изгнании, — продолжал граф, почти задыхаясь от волнения, — и я прошу высокой чести разделить с Вашим Величеством это изгнание и продолжать исполнение моих обязанностей.
Король кусал усы, скорбная складка легла около его рта.
— Любезный Альфред, — проговорил он наконец тихо и печально, — вы только что обзавелись домом, графиня хворает… Я убежден в вашей преданности, но вы должны подумать о своей семье: вы навлечете на себя преследование. Предоставьте службу при моем дворе — дворе изгнанника, — сказал он с печальной улыбкой, — тем, кто живет одиноко и кому не о ком заботиться, кроме себя.
— Ваше Величество, — прервал короля граф Ведель, — вы меня жестоко обидите, если не позволите продолжать мою службу. Я в любом случае отсюда не уеду, и если Ваше Величество не разрешит мне остаться вашим гофмаршалом, то я все равно не оставлю вас одних в несчастье.
Лицо короля радостно просияло.
— И в несчастье есть свои радости, — произнес Георг с кроткой улыбкой. — Оно дает нам возможность познавать истинных друзей. Мы еще поговорим об этом. Ну, любезный мой полковник, — сказал он, обращаясь к Дюрингу, — я слышал о ваших подвигах. Расскажите же мне сами, как вам удалось сохранить до конца развевающимся знамя ганноверской армии, после того как я вынужден был его свернуть, — прибавил он с печальным вздохом.
— Ваше Величество, — отвечал Дюринг, — я стоял с полком в Эмдене. Значительный численный перевес неприятеля вынуждал меня к капитуляции, но я объявил, что скорее похороню себя с полком под развалинами города, чем отдам оружие. Мне предоставили право свободного отступления, я вышел и двинулся в полном комплекте своих людей к голландской границе. Повсюду ко мне примыкала многочисленная молодежь. Я старался где убеждениями, где хитростью добыть паспорта всем моим людям, приказал им уложить мундиры и оружие про запас и отправился со всеми ними в Гаагу.
— Доблестный офицер и патриот! — воскликнул король.
— Всего лишь верный слуга Вашего Величества, — сказал Дюринг. — В Гааге я нашел у министра‑резидента Вашего Величества, графа Платена, самый радушный прием. Тут дошло до меня известие о сражении при Лангензальца, и мы с восторгом отпраздновали победу. Так как после этого мы были все убеждены, что армия двинется к югу, то стали думать, как бы нам до нее добраться: не оставалось иного пути, как через Францию.
— Через Францию? — спросил с удивлением король.
— Да, Ваше Величество, — подтвердил Дюринг, — это был риск, но я на него решился. В качестве простых путешественников мы сели в вагоны отдельными группами, и все благополучно прибыли через Тионвиль, Мед и Карлсруэ во Франкфурт. Люди всю дорогу отличались повиновением, образцовым порядком и осторожностью.
— Невероятно! — вскричал король.
— Во Франкфурте, — продолжал Дюринг, — я обратился к президенту союзного совета, который доставил мне средства обмундировать моих людей: герцог Нассауский дал оружие, комитет граждан доставил белье и остальную экипировку, и через две недели весь полк был готов к бою. Но тут пришло известие о лангензальцской капитуляции… Извините меня, Ваше Величество, я ее не понял.
— Я был окружен превосходящими неприятельскими силами, — сказал король, — и не хотел бесполезно проливать кровь своих подданных.
— Я вполне понимаю, почему вы так поступили, — но я не понимаю операций, которые привели к подобному положению.
Король молчал.
— Для меня эта капитуляция не могла быть обязательной, — продолжал Дюринг, — она относилась только к армии, стоявшей при Лангензальца. Не получая никаких приказаний, я оставался под ружьем — до конца. Когда же все было кончено, я распустил всех своих людей на родину, а сам явился сюда с докладом Вашему Величеству о моей безуспешной попытке.
— Не безуспешной, любезный полковник, — сказал приветливо король. — Большого успеха для моего дела вы не могли добиться — так было угодно Богу! Вы с сложнейших условиях исполнили свой долг до конца и подали офицерам моей армии пример, который никогда не забудется.
Георг помолчал несколько минут.
— Что же вы теперь намерены делать? — спросил он.
— Ваше Величество, — отвечал Дюринг мрачно, — на прусскую службу я не хочу поступать. Говорят, что в Турции нужны офицеры. Я знаю Восток, потому как с соизволения Вашего Величества состоял два года при французской армии в Алжире, и думаю отправиться туда.
— Почему вы не хотите здесь остаться? — спросил король.
— О моем желании не может быть и речи — Вашему Величеству стоит только приказать, но… — прибавил он, запинаясь, — я должен откровенно сознаться Вашему Величеству, что праздность для меня в высшей степени тягостна.
— Да вы не будете праздны, любезный Дюринг, — сказал король, гордо поднимая голову. — Я намереваюсь безотлагательно приступить к восстановлению моих прав, и для этого нуждаюсь в людях, которые были бы в состоянии сформировать при мне армию и повести ее на неприятеля.
У Дюринга глаза загорелись.
— Ваше Величество! — воскликнул он. — И теперь, и в будущем моя сабля и моя жизнь у ног моего короля.
— Я назначаю вас флигель‑адъютантом, — продолжал король. — Так до свидания же, я вас жду в пять часов к обеду.
— Не нахожу слов выразить Вашему Величеству мою благодарность, жажду случая доказать ее на деле! — Низко поклонившись, полковник вышел из комнаты.
— Вашему Величеству угодно еще что‑нибудь приказать мне? — спросил граф Ведель.
— Королева ничего больше не поручала вам передать? — спросил король.
— Только выражала настойчивое желание, чтобы Ваше Величество последовали советам, которые доходят до нее с разных сторон, желающих вам добра, и…
— Чтобы я отрекся? — живо прервал король.
— Ее Величество полагает, что этим можно было бы сохранить корону в королевском доме, — сказал граф, — и скорбит, что Ваше Величество не прибегли к этому, конечно прискорбному и печальному, средству спасения. Королева считает, что и теперь еще не поздно…
— А что вы об этом думаете? — спросил Георг V.
— Ваше Величество, — отвечал граф Ведель, — вам известна моя личная преданность вашей особе, но если Вашему Величеству угодно выслушать мое честное и откровенное мнение, то я скажу, что если отречением вашим может быть спасена корона вельфского дома…
— Если! — повторил король с сильным ударением. Он сделал шаг вперед и, схватив графа за руку, продолжал: — Мне больно, что и вы этого толком не сознаете. Никакой упрек не был бы для меня прискорбнее того, будто бы я принес в жертву собственным интересам будущее своего дома. Я не знаю, — продолжал он, — с каких сторон и из каких побуждений твердят королеве, что мое личное отречение могло бы спасти Ганновер от аннексии, что будто бы только со мной не хотят заключать мира. Я не стану исследовать, какие мотивы двигают различными личностями, высказывающимися в одинаковом смысле…
— Граф Мюнстер, Виндгорст, — перечислял граф Ведель. — Они надеются, вероятно, под управлением кронпринца быть полновластными министрами.
— Все равно, кто бы ни был, — продолжал король. — Я понимаю, что королева, которой твердят об этом столько людей, преданных вельфскому дому, уверовала в итоге в спасительность этой меры, но мне прискорбно обнаружить людей, упрекающих меня в том, что я давно не прибегнул к этому средству спасения. Когда со всех сторон посыпались на меня увещания в этом смысле, когда королева даже по телеграфу настоятельно убеждала меня отречься, тогда я решился как можно лучше выяснить себе, в чем заключался мой долг. Если бы мое отречение от престола могло сохранить корону моему дому, — сказал он с ударением, — отречение было бы моим долгом. В противном случае я должен был бы отклонить эти предположения. Поэтому я отправил в Берлин министра народного просвещения Годенберга с поручением поставить графу Бисмарку прямой вопрос: может ли мое отречение сохранить корону моему сыну?
Граф Ведель глубоко вздохнул.
— Годенберг, — продолжал король, — имел поздно вечером продолжительный разговор с графом Бисмарком. Тот объявил ему честно и откровенно, что присоединение Ганновера — решенный вопрос, что оно признано необходимым в интересах будущей безопасности Пруссии и мое отречение не будет иметь никакого влияния. Годенберг обратил внимание, что население Ганновера воспротивится присоединению к Пруссии и наделает ей бесконечных хлопот. Граф отвечал, что он все это очень хорошо знает, но это нисколько не может отклонить его от исполнения долга перед королем и отечеством. Впрочем, — Георг прервал себя, — это уже побочный вопрос, я скажу Лексу, чтобы он дал вам прочесть отчет Годенберга в подлиннике, он очень интересен, а я прежде всего хотел сообщить вам ответ на мой прямой вопрос. Теперь скажите мне, что думаете вы?
— Ваше Величество тысячу раз правы, — сказал граф Ведель, — теперь я снова вижу, как легко можно впасть в ошибку, не зная всех обстоятельств дела.
Камердинер отворил обе половинки дверей и доложил:
— Его Величество король Саксонии.
Георг V взял графа Веделя под руку и быстро пошел через китайскую комнату. В дверях показалась немного согнутая худощавая фигура короля Иоанна, мужчины с тонким умным лицом, живыми глазами и седыми волосами. За королем шел его флигель‑адъютант полковник фон Тило. Король был в саксонском генеральском мундире.
Он быстро пошел навстречу королю Георгу и крепко пожал ему руку. Граф Ведель отступил назад. Король Георг взял саксонского короля под руку и вернулся с ним в свой кабинет. Камердинер запер за ними дверь.
Король Иоанн подвел ганноверского короля к креслу перед его столом и придвинул для себя близстоявшее кресло. Оба государя сели.
— Я приехал сообщить тебе, — сказал саксонский король, — что программа моего мира с Пруссией утверждена.
— Стало быть, ты возвратишься? — спросил король Георг.
— Нет еще. Подробности выполнения программы потребуют продолжительных приготовлений, и войска не могут вернуться до тех пор, пока все новые отношения не будут окончательно установлены.
— И ты доволен?
Король Иоанн вздохнул и сказал:
— Я доволен, что мой дом не отделен от моей земли. В сущности же, дело, за которое я вступился по убеждению, разрушено, и побежденный должен покориться судьбе.
— Моя судьба тоже незавидна, — констатировал король Георг с грустной улыбкой.
Саксонский король в глубоком волнении схватил его за руку.
— Поверь, — сказал он задушевно, — никто не может глубже и искреннее сочувствовать тебе, но, — продолжал он, — поверь также, что, если бы я следовал только личному своему чувству, мне гораздо приятнее было бы очутиться в твоем положении, нежели в моем. Лучше, гораздо лучше было бы сойти со сцены и удалиться в спокойное уединение, посвятить остаток жизни науке и искусствам, чем, как теперь, вступать в новые и чуждые, подавляющие и унизительные условия, — прибавил он с тяжелым вздохом.
Король Георг печально покачал головой.
— И, — продолжал оживленно король Иоанн, — несмотря на то, Германия все‑таки останется разделенной: вместо единой федеративной страны у нас будут две спорящие враждебные половины. О боже мой! Для Германии, для ее величия и могущества я был бы готов на всякую жертву, но разве на таком пути цель достижима?
И он глубоко задумался.
— А что скажут саксонцы насчет этих нововведений? Не вызовут ли они больших затруднений? — спросил ганноверский король.
— Саксонскому народу придется пройти через много тяжелых испытаний, — отвечал король Иоанн, — так же как мне: но если под мирным трактатом будет подписано мое имя, он будет принят безропотно и свято исполнен. Я только одного желал бы — чтобы предстоящие нам тяжелые жертвы способствовали, по крайней мере, объединению и возвеличению Германии.
— Таким путем Германия никогда не дойдет до истинного величия, — заметил ганноверский король.
Король Иоанн промолчал.
— Меня лишают моего министра фон Бейста, — сообщил он после небольшой паузы.
— Этого требуют в Берлине? — спросил ганноверский король.
— Не прямо, но намеки так прозрачны. Кроме того, его положение теперь невыносимо. Мне его ужасно жаль. Его искусство существенно облегчило бы мне переход к новым условиям. Может быть, ему предстоит более широкая карьера: император намекал, что не прочь бы предложить ему место Менсдорфа, который после всего этого не может, да и не хочет оставаться.
— Как! Бейста сюда, в Австрию? — спросил король Георг в сильном удивлении.
— Да, хотя это будет довольно трудно устроить: эрцгерцог Альбрехт и эрцгерцогиня София, кажется, сильно против. Разумеется, этот вопрос до окончательного устранения всех препятствий должен оставаться в глубочайшем секрете.
— Разумеется, — согласился король Георг. — А что же Бейст думает предпринять с Австрией? Тяжелая будет задача, тем более тяжелая, что ему придется бороться со многими враждебными элементами у себя дома.
— Он полагает немедленно договориться с одним из существеннейших элементов, а именно с Венгрией, отчужденность которой сделала невозможным в настоящую минуту продолжение войны. Он намерен немедленно предоставить венграм желаемую автономию.
— Перенести центр тяготения в Пешт, как советовал граф Бисмарк? — произнес король Георг с некоторою горечью.
— Второй центр остался бы в Вене, и из равновесия обоих возникло бы будущее могущество Австрии.
— Но как Церковь примет Бейста?
— Я избегаю церковных вопросов, — серьезно отвечал король Иоанн. — Я очень счастлив, что бытовые условия и законодательство Саксонии никогда не ставят меня в тяжелое положение выбирать между политической необходимостью и моими религиозными чувствами. Хорошие ли вести от королевы? — переменил он вдруг тему разговора.
— Благодарю тебя, — отвечал король Георг, — она настолько хорошо себя чувствует, насколько это мыслимо при существующих обстоятельствах.
— Преклоняюсь перед ее героизмом, — с чувством произнес саксонский король и, немного помолчав, спросил: — А ты здесь останешься или поедешь в Англию?
— В Англию! — вскричал король Георг. — В Англию, которая пальцем не шевельнула, чтобы меня спасти, чтобы защитить страну, даровавшую ей ряд славных королей, страну, сыны которой искони проливали кровь в английских войнах… Нет, я остаюсь здесь, в доме моего двоюродного брата — здесь я, по крайней мере, на вельфской почве и не сойду с нее, пока не минуют дни испытания.
— Ты веришь в возможность перемены теперешних обстоятельств? — спросил король Иоанн не без удивления.
— Верю! — твердо и громко отвечал ганноверский король.
— Но, — продолжал король Иоанн, — здесь, в Австрии, так жестоко обманувшей наши надежды на ее могущество, мы можем быть только в тягость, положение может сделаться невыносимым…
— Здесь, в мирном Гитцинге, — возразил король Георг, — я не могу быть в тягость политическим деятелям Вены и только разве буду служить живым напоминанием о тех обязательствах, от которых они не могут совсем отказаться.
Оба короля встали.
— Я жду моего сына, — сообщил король Иоанн, — он явится к тебе на поклон.
— Я буду очень рад его посещению, — сказал король Георг.
Саксонский король пожал ему руку, король Георг позвонил, двери отворились настежь, и оба государя вышли из кабинета рука об руку. Король Георг проводил своего гостя до подъезда и вернулся в свой кабинет при помощи графа Веделя.
Между тем в приемной появились граф Платен и Мединг. Камердинер доложил о них королю.
— Позовите кронпринца и тайного советника Лекса! — приказал Георг V.
Через несколько минут в кабинет короля вошли кронпринц Эрнст‑Август, тайный советник Лекс, граф Платен и советник Мединг. По знаку короля все уселись вокруг стола.
— Присоединение Ганновера к Пруссии решено бесповоротно, — начал король, и я стою перед серьезным вопросом, для разрешения которого желаю выслушать ваш совет, господа. Как вам известно, английское правительство предложило свое посредничество для определения имущественных условий моего дома и вместе с тем высказало желание, чтобы я снял с своей армии присягу, чем значительно облегчил бы дело. По личной моей склонности, я бы просто‑напросто желал отстраниться от всяких условий и выждать поворота несчастной судьбы. Между тем вопрос касается не только интересов моего дома, но и существования многих из моих офицеров. Что вы об этом думаете, граф Платен?
— Ваше Величество, — сказал граф, слегка кланяясь, — я того мнения, что при настоящих условиях вам следует стараться приобрести как можно более денежных средств, потому что остающиеся за вами статьи дохода весьма ограничены. Если, как я предполагаю, прусское правительство придает большое значение снятию с армии присяги, то этим средством можно многого достигнуть. Я полагаю, что Вашему Величеству следует безотлагательно приступить к переговорам, не решая вопроса о присяге, прежде чем не будет достигнут благоприятный результат.
— Прежде всего, — вступил в разговор кронпринц, — нужно постараться сохранить те из владений нашего дома, где есть охота.
— Что вы думаете, любезный Мединг? — обратился к нему король.
— Ваше Величество, — отвечал тот, — я тоже держусь того мнения, что Вашему Величеству следует немедленно приступить к переговорам, однако не разделяю мнений его сиятельства графа Платена и его королевского высочества кронпринца. Из всего, что Ваше Величество изволили высказать, я заключаю, что вам не только не угодно признать положения, в которое война поставила Ганновер, но всеми средствами отстаивать свои права.
— Конечно! — произнес король с живостью, ударив рукой по столу. — Если мое изгнание продлится двадцать или тридцать лет, я все‑таки не перестану стоять за свои права!
— Ваше Величество имеет полное на это право, — заметил Мединг. — Вам была объявлена война, но с вами не было заключено мира, стало быть, вы остаетесь на военном положении и сообразно с этим можете действовать. Но вместе с тем вы должны ожидать, что и противная сторона тоже не останется пассивной. Для нас, преданных слуг Вашего Величества, обязанности ясны, — продолжал он, кланяясь. — Так как Вашему Величеству угодно продолжить борьбу, то сообразно с этой вашей волей должны быть приняты все меры. Обладание имуществом в Ганноверском королевстве ставит Ваше Величество в полную зависимость от прусского правительства. Кроме того, каждая поземельная собственность в своих ежедневных отправлениях должна признавать авторитет местных властей. Все это не идет к положению, которое Вашему Величеству угодно занять. Кроме того, — извините, Ваше Величество, — но я не могу отрешиться от принципа, которым руководствовался мой великий учитель в политике, господин фон Мантейфель.
— Прусский принцип? — заметил кронпринц с усмешкой.
— Ваше высочество, — отвечал серьезно Мединг, — я никогда не откажусь от принципов, которым я научился на прусской службе — в силу одного из этих непоколебимых принципов я имею в настоящую минуту честь стоять возле моего короля в несчастье. Обстоятельства, долг и любовь к моему государю могут поставить меня во враждебные отношения к месту моего рождения, но отрицать и презирать его я никогда не буду.
Кронпринц промолчал.
— Вы совершенно правы! — произнес живо король. — Вы не могли бы быть мне верным слугой, если бы отрицали своего прежнего государя. Стало быть, господин фон Мантейфель…
— Говаривал обыкновенно, — продолжал Мединг, — что «умный генерал прежде всего думает об отступлении». И при борьбе, предпринимаемой Вашим Величеством, следует внимательно обсудить все шансы, и если отступление когда‑нибудь сделается неизбежным, то мне казалось бы недостойным, чтобы Вельфы сделались простыми помещиками в той стране, в которой носили корону. Да и независимый капитал мог бы послужить для приобретения новых владений в той стране, в которой, даже после потери ганноверской короны, Вельфам открывается широкая и прекрасная будущность, — а именно в Англии.
— Но неужели мы должны отказаться от всех дорогих по воспоминаниям владений нашего дома?! — вскричал кронпринц.
— Когда Ваше Величество снова возвратит себе обладание ганноверской короной, — сказал Мединг, — то вместе с ней к вам возвратятся и королевские имущества. При иных же условиях эти воспоминания были бы только лишним терзанием. Я, впрочем, думаю, что Пруссия не уступит никаких владений без решительного признания ее верховной власти.
Король в раздумье молчал.
— Ваше Величество, — обратился к королю граф Платен, — замечания господина советника, конечно, заслуживают полного внимания, но точно так же основательно и желание его королевского высочества. Можно было бы соединить оба воззрения и потребовать одной части имущества в землях — около трети, а остальное деньгами.
— Это бесконечно усложнило бы переговоры, — заметил Мединг.
— Но мы все‑таки остановимся на этом исходе, — решил король. — Что вы на это скажете, любезный Лекс?
— Я совершенно согласен с мнением графа Платена, — коротко высказался Лекс.
Мединг молчал.
— Но у вас было еще одно возражение? — заметил король, обращаясь к нему.
— Ваше Величество, — сказал Мединг, — мое второе, и самое серьезное возражение, относится к той связи, в которую граф Платен хочет поставить переговоры об имуществе с уничтожением присяги. Такая связь может быть очень важной, но я не думаю, чтобы она соответствовала достоинству Вашего Величества.
Король быстро поднял голову.
— Вы высказали мысль, вертевшуюся у меня на языке! — признался он. — Никогда, никогда и ни за что я не поставлю участи моих офицеров, моей верной и храброй армии в зависимость от вопроса об имущественном обеспечении моего дома. Я хочу, — продолжал он решительным тоном, — чтобы оба эти вопроса были совершенно отделены один от другого и чтобы об этом было сообщено английскому правительству ясно и определенно. Что же касается армии, — досказал он после недолгого молчания, — то мое решение неизменно. Я никогда не уничтожу присягу, но буду разрешать желающим отпуска, не стану осуждать тех из моих офицеров, которых недостаток средств побудит выйти в отставку и искать себе деятельности в иных государствах. Но я ни за что не хочу оттолкнуть от себя тех, кто захочет и может остаться мне верным. Я отправлю в Берлин военных комиссаров, которые вступят в переговоры в этом смысле и будут хлопотать о выгодных материальных условиях для тех офицеров, которые не захотят поступить на прусскую службу. Выработайте инструкции в этом смысле, господа, — продолжал Георг, — и подайте их мне на подпись. Но главное, чтобы судьба армии осталась в стороне от вопроса об увеличении моего состояния! Необходимо также набросать и иметь наготове протест против присоединения Ганновера для препровождения его к европейским дворам, как только аннексия будет объявлена. Кроме того, надо еще набросать план энергичного образа действий для подготовки к борьбе за восстановление моих прав.
— Изложение протеста на французском языке я уже поручил советнику посольства Люмэ де Люиню, — сказал граф Платен. — Данные для этого, подкрепленные соображениями государственного права, находятся в разосланной уже записке о ганноверской политике. Что же касается предстоящего нам образа действий, то он должен, с одной стороны, ограничиваться местной агитацией, причем необходимо следить за европейской политикой. Существеннейший шанс к возвращению ганноверской короны может заключаться только в покровительстве и добром желании тех великих держав, которые со временем могут вступить в войну с Пруссией.
— Я, Ваше Величество, держусь того мнения, — заметил Мединг, — что план предстоящей деятельности, которая не может еще быть сегодня подробно обсуждена и окончательно определена, должен быть набросан в более обширном масштабе и на более широких основаниях. Что касается агитации в Ганновере, то при этом необходима величайшая осторожность, чтобы не погубить несчастных жертв, причем мы были бы лишены всякой возможности их спасти. Главный центр тяжести, кажется, лежит не здесь. Восстановление прав Вашего Величества и ганноверской короны будет возможно только тогда, когда принцип, в настоящую минуту побежденный, — принцип федеративного объединения Германии с автономией ее племен, когда‑нибудь снова вступит в бой и выйдет из него победоносно. Но это может состояться только тогда, когда ради этого принципа монархия соединится с прогрессом, с демократией.
— Неужели вы хотите вернуть короля на престол при помощи демократии? — со значением спросил граф Платен.
— Если возвращение короля вообще возможно, — отвечал Мединг, — то единственная возможная для нас поддержка — могущество истинно разумного духа чистой демократии. Не той демократии, которая все возвышенное и из ряда выходящее втаптывает в грязную тину масс, а той демократии, которая, идя в уровень с прогрессом умственного развития народа, все более и более приближает его к участию в общественных делах. Позвольте мне, Ваше Величество, высказаться более определенно: сама по себе законная власть, как она для меня лично ни священна и ни почтенна, в общественной жизни перестала быть фактором, она больше не затрагивает народных чувств, не служит мотивом для политики кабинетов. Монархия, если она хочет вложить в свои мудрые, благодатные и вековым правом освященные формы жизненное развитие будущего, должна эти формы видоизменить сообразно с требованиями прогресса, вступить в союз со свободой. Почва, основа права должны остаться те же, которые приросли к гранитной скале тысячелетий, но на этой почве мы обязаны взрастить плоды свободы. Только при этом условии монархия может рассчитывать на продолжительность — на существование в будущем. Таков дух времени повсюду. В Германии же к всеобщей жажде свободы с особой силой присоединяется любовь к автономии и своеобразию отдельного, самобытного племени. Оба этих принципа, обе эти глубоко затрагивающие и могучие силы находятся в противоречии и борьбе с тем, что в настоящее время совершилось — насколько теперь можно видеть развитие отношений и обстоятельств. Логическим последствием будет, во‑первых, то, что автономия и свобода будут более ограничены, чем прежде. Поэтому если возможна когда‑либо перемена существующего порядка вещей, то она воспоследует только таким образом, что присущая немецкому народу жажда автономии и свободы восстанет против доведенной до крайности военной централизации. Следовательно, если Вашему Величеству угодно с успехом бороться, то Ваше Величество и ганноверское дело должны воплотить в себе именно эти национальные принципы Германии. Вы должны привлечь к себе все силы, которые двигают народом в его благородных элементах, вы должны противопоставить силе оружия силу духа. Если затем наступит момент, когда буря потрясет незаконченное здание этих дней, то Вашему Величеству представится возможность поднять знамя и призвать Германию к борьбе за федеративную автономию и независимость. Но пока с одной стороны будут делаться приготовления к нравственной борьбе, с другой стороны необходимо готовиться к настоящей войне, избирая для этого не агитации и демонстрации, а устанавливая фактическую организацию, которая со временем могла бы послужить кадрами армии. Внимательное и неуклонное наблюдение нитей великой европейской политики даст Вашему Величеству возможность выбрать надлежащий момент для действия и вместе с тем по мере сил влиять на ход событий. По моему убеждению, простая агитация и демонстрация совершенно бесцельны и бесполезны, безусловное же присоединение к политике того или другого кабинета в высшей степени опасно: ведь Вашему Величеству не было бы угодно вступить на ганноверский престол единственно из милости австрийского императора или Наполеона Третьего. Необходима полнейшая самостоятельность, нравственная и материальная, мы должны по возможности приобрести симпатии всех европейских кабинетов, не попав в зависимость ни к одному из них. Только в этой самостоятельности лежит возможность успеха. Без нее и без твердого союза с духовными силами германского народа все стремления будут бесполезны, они не будут отвечать достоинству Вашего Величества, и, — прибавил он тихим, но твердым голосом, — Ваше Величество не найдет для них средств.
Наступило минутное молчание.
— Одним словом, — продолжал Мединг, — Вашему Величеству следует вступить в борьбу с таким оружием в руках, которое будет острым и крепким, отличаясь вместе с тем благородством и достоинством, чтобы внушить к себе уважение даже врагам, чтобы, если даже все окажется тщетно, вельфский дом окончил свое существование сообразно со своим тысячелетним прошлым и чтобы история могла со временем сказать: «Они пали, но не уронили своего достоинства». Вот в общих чертах идеи, которые, по моему крайнему разумению, должны руководить нашей деятельностью. Я берусь развивать их во всех подробностях по мере надобности и желания Вашего Величества.
— Но ведь это будет ужасно дорого стоить, — заметил кронпринц.
— Можно многого достигнуть и с небольшими средствами, ваше высочество, — отвечал Мединг. — Я это знаю по опыту. Впрочем, когда на карте стоит корона, не следует рассчитывать ставку слишком робко.
Король поднял голову.
— Я совершенно согласен с вашим мнением, любезный Мединг, — сказал он. — Законное право как нельзя лучше вяжется со свободой — с истинной, разумной свободой. Я положительно не боюсь давать простор уму, и в моей деятельности не будет недостатка в моей доброй воле. Мы еще вернемся к этому вопросу, я непременно хочу исследовать его во всех подробностях.
— Конечно, было бы очень целесообразно вступить в союз с людьми народной партии, — сказал граф Платен, — и господин советник Мединг, конечно, мог бы завязать подобные отношения. Совершенно личного свойства, — прибавил он, — предоставляя Вашему Величеству возможность и свободу отказаться от солидарности…
Мединг живо прервал:
— Когда дело ведется с каким‑нибудь правительством, то могут быть случаи, где каждый дипломат должен наперед рассчитывать на то, что могут отречься от всякой с ним солидарности; но когда я буду иметь дело с органами народа, то подобное отречение побудило бы мою честь и мое убеждение стать на его сторону и сделать его дело моим личным. Впрочем, — прибавил он с поклоном королю, — я знаю, что в этом отношении со стороны Вашего Величества нечего бояться.
Король заставил пробить свои часы с репетицией.
— Пора обедать, — напомнил он, — я увижусь со всеми вами за столом. Итак, стало быть, надо готовить инструкции, а затем мы составим план нашей деятельности.
Он встал. Граф Платен, тайный советник Лекс и Мединг вышли из кабинета и вернулись в китайский салон. Здесь уже собралось общество, приглашенное к королевскому столу. Оно состояло, кроме дежурного адъютанта, из фельдмаршала Рейшаха, князя Германа Сольмского и полковника Дюринга.
Барон Рейшах говорил с князем Германом.
— Как наш прекрасный князек гордится первым порохом, которого ему удалось понюхать! — говорил он, приветливо усмехаясь. — Да‑да, славное это время, только скоро проходит! Вот такому старому, простреленному калеке, как я, не доведется больше никогда услышать пушечной музыки.
— Но, право, — возразил князь, — глядя на ваше свежее, розовое лицо, как‑то не верится в то, что вы говорите: не будь седых волос, вас можно было бы принять за молодого человека.
— Дамы в Вене называют мою голову обсахаренной земляникой, — сказал генерал, смеясь, — но эта земляника уже не манит их больше; пора войны и любви миновала, но старое сердце все еще молодо и радуется на милого князька, который там храбро дрался!
И старик приветливо потрепал молодого князя по плечу.
Подошел граф Платен.
— Что нового в Вене? — поинтересовался он.
— Ничего особенного, — отвечал Рейшах, пожимая плечами, — разве только то, что почти ваш соотечественник, мекленбуржец, увозит от нас одну из красивейших девушек.
— Кто? — спросил граф Платен.
— Барон Штилов через две недели женится на молоденькой графине Франкенштейн.
— Ах, Штилов, ординарец Габленца? — припомнил граф Платен.
— Говорят, что он перешел в католичество, — заметил князь Герман.
— Из любви к своей невесте, — уточнил Рейшах, — и из благодарности за ее спасение от смертельной опасности. Она, ухаживая за ранеными, получила заражение крови. Молодые тотчас после свадьбы отправляются путешествовать.
Гофмейстер отворил двери столовой. Вслед за тем распахнулись обе половинки дверей кабинета, и появился король в полковничьем мундире своего австрийского полка, со звездой Св. Стефана на груди, с крестом Марии‑Терезии на шее и об руку с наследным принцем.
Он приветствовал общество легким наклоном головы и направился в столовую, куда все за ним последовали.
Глава двадцать восьмая
С тех пор, как его организм преодолел кризис, лейтенант Венденштейн медленно поправлялся, и хотя еще иногда случались моменты большой слабости, то в целом выздоровление шло вперед без тревожащих колебаний, и врач подавал надежду, что в скором будущем молодой пациент будет совершенно здоров.
Но чем ближе становилось выздоровление, чем больше возвращались силы, чем яснее, веселее и тверже сияли его глаза, чем больше красок набегало на недавно столь бледное, изнуренное лицо, — тем сдержаннее становилась Елена, все чаще и чаще передавая уход фрау Венденштейн и ее дочери, а сама старалась лишь оказывать старушке всевозможное внимание и доставлять те легкие удобства, к которым та привыкла дома.
Но, в сущности, ничего этого не было нужно, так как фрау Венденштейн находила величайшее для себя облегчение и утешение в созерцании с каждым днем все более и более оживлявшегося лица своего сына.
Она и сама снова посвежела и повеселела, и с живым участием начала присматриваться к крепкому хозяйству старого Ломейера, часто выражая большое удовольствие и вместе с тем удивление порядку в богатых запасах белья, во всей прочей домашней утвари и в распределении домашних работ и тому, что со всем этим справлялась такая молодая девушка, как Маргарита. Затем мало‑помалу она стала давать добрые советы, радушно предлагая обильное сокровище своего хозяйственного опыта, и молодая девушка внимала ей с горячим участием, а старый Ломейер смотрел с глубоким благоговением на эту знатную, сановитую даму, которая так хорошо знала все хозяйственные подробности и так матерински приветливо протягивала руку его дочери — гордости его сердца.
Лейтенант, конечно, заметил, что Елена перестала сидеть у его кровати. Когда ему позволили вставать и сидеть в кресле, взгляд его часто останавливался на ней вопросительно, но он мало говорил — ему было не совсем еще ясно, были ли сладкие, пленительные картины, запечатлевшиеся в его памяти, действительностью или бредом больной фантазии.
Елена двигалась молча и задумчиво, редко поднимала глаза на молодого человека: глубокое чувство, неудержимо вспыхнувшее и вырвавшееся наружу в дни страха и опасности, снова ушло в глубь души, и внутреннюю ее жизнь подернула густая завеса девичьей скромности.
Фрау Венденштейн часто смотрела на молодую девушку с нежным участием, но не трогая ни одним словом тихого внутреннего лада и склада девичьего сердца. Она знала, что женское сердце — цветок, которому следует созреть и распуститься самостоятельно, и что каждое прикосновение может только его испугать и заставить замкнуться. В своих тихих, набожных мыслях она предала эти оба молодых сердца в руки Господа, предоставляя их его милостивому и мудрому усмотрению.
Кандидат приходил редко. Ему было некогда. Он неутомимо утешал и ободрял больных и раненых, и скоро весь город заговорил о нем с уважением и удивлением.
Между тем наступила пора возвращения в Блехов, так как лейтенант начинал уже потихоньку ходить. К радости от выздоровления сына у фрау Венденштейн примешивалось новое, глубокое горе. Присоединение Ганновера к Пруссии было решено и окончательно провозглашено, и обер‑амтман спокойным, но печальным письмом известил жену, что подал в отставку, потому что не хочет на старости лет начинать служить новому господину. Он сперва переедет в Ганновер, а затем купит имение для своего сына, лейтенанта, которого тоже не хотел бы видеть на военной службе при новых обстоятельствах, и в этом имении поселится пока и вся его семья.
Фрау Венденштейн получила это письмо накануне отъезда. Когда она читала, крупные слезы медленно текли из ее глаз. Итак, она вернется только для того, чтобы навсегда покинуть старый дом, в котором столько лет распоряжалась и хозяйничала, в котором каждый уголок запечатлен дорогими воспоминаниями ее счастливой жизни в тихой и скромной замкнутости. Но она не могла принять волю мужа иначе как безропотно, ибо привыкла во всем подчиняться ему. А когда затем подумала о предстоящей задаче устроить гнездо для сына, снаряжать дом, который будет уже не временным жилищем, подобно Блехову, а постоянным, из рода в род переходящим имением для ее детей и внуков, слезы ее высохли, кроткая улыбка заиграла на губах, и она прочла письмо обер‑амтмана своим детям довольно весело и спокойно.
Лейтенант просиял.
— О, как я благодарен отцу! Как я рад, что он позволяет мне бросить службу, — сказал он, — мне было бы слишком прискорбно изменить знаменам, за которые я проливал кровь!
И, улыбаясь матери, молодой человек подал ей руку:
— И как отлично милая моя мама устроит наш новый дом, какой он будет чудесный!
И его большие, лучистые глаза устремились на Елену, которая сидела против него, не поднимая глаз от работы. Она почувствовала его взгляд, и лицо ее ярко вспыхнуло, а фрау Венденштейн посмотрела на нее с нежной счастливой улыбкой: из горя настоящего поднималась перед нею картина светлого, привлекательного будущего.
Пока это происходило в верхнем этаже дома, Маргарита с отцом и Фрицем Дейком сидели внизу за скромным ужином. Молодая девушка искусной рукой очищала аппетитно зарумянившийся картофель. Все трое молчали; молодой постоялец сидел, нахмурившись.
— Что же вы не кушаете? — Старик покосился на тарелку гостя, хотя у него самого тоже вовсе не было заметно охоты.
— Может быть, не вкусно? — спросила Маргарита, стараясь придать вопросу тон шутки, хотя сквозь этот тон проглядывали слезы.
Фриц Дейк быстро окинул взглядом ее бледное лицо и опущенные глаза.
— Не могу! — произнес он чуть слышно, роняя из руки вилку. — Как подумаю, что завтра надо уезжать, право, хотелось бы никогда не попадать сюда! Как я дома сяду и стану думать… обо всем, что было — об этом вот столе, около которого мы так часто вместе сиживали, о том, как Маргарита все хорошо делала, и мне, наверное, ничего в рот не полезет!
Старый Ломейер с участием посмотрел на него: видно было, что и ему не легко было расставаться с добрым и честным малым.
— Останьтесь еще у нас! — попросил он. — Вы знаете, что мы вам рады.
Маргарита посмотрела блестящими, влажными глазами на молодого человека.
— Это ничего не даст, — отвечал он, — ведь придется же рано или поздно уезжать, так уж лучше поскорее покончить, чем позже, тем хуже будет.
Он глубоко вздохнул и встретился со взглядом молодой девушки.
Маргарита вздрогнула и разрыдалась. Она вскочила с места, закрыла лицо руками и, громко плача, прислонилась к большому шкафу, стоявшему в глубине комнаты.
Фриц бросился к ней.
— Боже мой, боже мой! — произнес он, стараясь отвести ее руки от лица. — Я не могу этого видеть, у меня сердце разрывается пополам!
Постояв с минуту молча перед плакавшей девушкой, опустив глаза в глубоком раздумье, он вдруг быстро вернулся к столу и заговорил твердо и громко:
— Господин Ломейер! Я не могу больше удерживаться! Я хотел было сперва съездить домой и переговорить с отцом, а потом вернуться, но так нельзя… Я не моту видеть, когда плачут — этому надо положить конец. А что отец скажет, я наперед знаю. Господин Ломейер, я не могу быть спокоен и счастлив без Маргариты! У меня есть доход, вполне достаточный для того, чтобы прокормить жену… Вы знаете, что я честный человек, — отдайте мне вашу дочь!
Маргарита не шелохнулась, не отняла рук от лица, тихий плач ее раздавался по комнате, а Фриц Дейк смотрел на старика, тяжело дыша от волнения.
Ломейер казался серьезен и задумчив. В первую минуту на лице его выразилось глубокое изумление: он мог ожидать чего‑нибудь подобного, но он все‑таки не мог собраться с мыслями, чтобы тотчас ответить.
— Я не прочь, — начал он наконец, — я вас полюбил, я вам спокойно доверил бы счастье своей дочери. Но надо спросить еще двоих: во‑первых, мою дочь…
Фриц одним прыжком был возле молодой девушки.
— Маргарита, — сказал он, — хочешь ехать со мной? — Он положил руку ей на плечо и тихо привлек ее к столу, где сидел отец.
Она опустила руки и подняла глаза, полные слез, но в этих глазах светились любовь и доверие, и, смело и прямо взглянув молодому человеку в лицо, она отвечала громко:
— Да!
— Ну, это раз, — сказал старый Ломейер, смеясь. — Второе — посерьезнее, это согласие вашего отца. Времена грозны и печальны: согласится ли ваш отец, старый ганноверец, радушно принять в свой дом невестку‑пруссачку? Преданную дочь своего отечества, которую я проклял бы, если бы она когда‑нибудь изменила любви и преданности к своему королю!
Фриц Дейк помолчал с минуту.
— Господин Ломейер, — сказал он наконец, — вы знаете, что я ганноверец всем сердцем и всей душой и что мне ужасно прискорбно, что нас всех вдруг делают пруссаками, но что я могу или что может Маргарита против этого? Мы политикой не занимаемся и переменить ее не можем, только дай Боже, чтобы Пруссия с Ганновером так же поладили, как мы с ней. Я, впрочем, — прибавил он весело, — не могу пожаловаться: Пруссия возьмет у меня отечество, зато я возьму у нее самое лучшее, что для меня может быть в Пруссии! Моя аннексия будет мирная и присоединит сердце к сердцу!
Он обнял Маргариту и взглянул на отца умоляющим взором.
Но тот все больше хмурился.
— А что скажет ваш отец? — спросил он.
Фриц подумал с минуту, потом вдруг вскрикнул:
— Постойте минуточку! — И бросился вон из комнаты. Старик посмотрел ему вслед с недоумением.
— Куда он побежал? — спросил он.
— Кажется, я знаю, — сказала Маргарита. — Он не раз говаривал, что его отец глубоко уважает фрау фон Венденштейн и что одно ее слово для него закон.
Немного погодя вернулся Фриц, сияя счастьем.
— Вас просит к себе фрау фон Венденштейн, — сказал он Ломейеру.
Тот тотчас же встал, пригладил волосы, почистил куртку и поднялся наверх.
Фриц и Маргарита остались одни.
Он сел и нежно притянул девушку на стул, стоявший возле его стула.
Что они говорили друг другу? Так мало и так бесконечно много, такое старое и, несмотря на то, такое вечно новое! Одну из тех бесчисленных вариаций вечной мелодии любви, которая звучит через всю человеческую жизнь, от колыбели до гроба, бессмертные звуки которой сливают человеческую душу с великою гармонией вечности.
Фрау фон Венденштейн ввела старого Ломейера в комнату сына, они просидели там взаперти с полчаса, и результатом этого совещания было то, что старик дал согласие на помолвку дочери с Фрицем, откладывая окончательную развязку до получения согласия от старого Дейка. А чтобы дать тому возможность познакомиться с будущей невесткой, было решено, что Маргарита поедет с фрау Венденштейн. Фрау Венденштейн взялась представить ее будущему тестю и посвятить в особенности местного хозяйства, и старый Ломейер с радостью принял это предложение, потому что привык в течение нескольких недель высоко чтить старую фрау. Он сообщил молодым людям торжественно и важно, что они «между собой все порешили с милостивой фрау фон Венденштейн», и молодые люди пришли в неописанный восторг.
Между тем подошло время отъезда. Легкий намек, сделанный фрау Венденштейн насчет уплаты издержек, в которые ввело старого Ломейера продолжительное пребывание больного в доме, так разобидел старика, что об этом не было и речи. Но в день отъезда она подарила Маргарите великолепный крест из рубинов и бриллиантов на нитке крупного жемчуга.
— Я выплакала здесь много слез, — сказала она, — об этом пусть напоминает жемчуг, милое мое дитя, но вечная любовь, которой мы поклянемся под священным изображением креста, осушила мои слезы: об этом пусть напоминает крест. И когда вам придется плакать в жизни, посмотрите на этот крест с твердой верой и глубоким упованием!
И затем она уехала, сопровождаемая тысячью пожеланий старого Ломейера, который обещал приехать, когда все устроится, и даже подумывал о том, как бы провести последние дни жизни на новой родине своей единственной дочери.
Таким образом, на той самой почве, где в кровавом бою поднялись ганноверцы на пруссаков, из семян вражды христианское сострадание и искреннее влечение двух молодых, крепких сердец взросла любовь. Это происходит по тому вечному изволению, которое всюду превращает зло в добро и на путях, куда толкают людей демоны распри и борьбы, с неутомимой заботливостью заглаживает их мрачные следы светлым лучом примирения.
Свидание с Блеховом было печально и серьезно. Обер‑амтман долго, молча прижимал к сердцу сына, вырванного у смерти, безмолвно поцеловал жену в лоб. Последовавшие дни были невеселы и серьезны.
Обер‑амтман работал с аудитором Бергфельдом, чтобы привести в безукоризненный порядок все бумаги по управлению и сдать их прусскому преемнику как доказательство точной служебной исполнительности. Фрау Венденштейн молча и грустно, но в безустанной деятельности расхаживала по дому, укладывая по сундукам и ящикам сокровища, собранные трудами почти двадцатилетнего образцового ведения хозяйства, вдвойне ценные по связанным с ними воспоминаниям, понятным только ее сердцу и взгляду. Большие, массивные дубовые шкафы имели ужасно печальный вид с открытыми дверцами и пустыми ящиками. Через весь дом пронеслось холодное и безотрадное веяние разлуки и прощания — то веяние, которое, подобно вестнику смерти, сурово пронизывает человеческую жизнь и всякий раз, касаясь нас, сжимает сердце трепетным предчувствием последней, великой разлуки навек. Каждое прощание срывает цветок с ветки, один из тех цветов, которыми весна жизни украшает наше сердце, пока наконец их все не занесет зимним снежным покровом смерти. Но каждый цветок оставляет по себе плод с зародышами более прекрасных цветов, которым предназначено распуститься под жизненным дуновением вечной весны.
Фриц Дейк составил с отцом продолжительный разговор. При первых словах сына старик нахмурился. Он любил сына, безусловно доверял ему и был твердо убежден, что он не сделал бы недостойного выбора, но ввести в дом горожанку, делать пруссачку госпожой в ганноверском, вендландском хозяйстве — было ему не по сердцу. Но он, однако, ничего не сказал и по просьбе сына отправился к фрау фон Венденштейн.
Как только старушка, которую он считал идеалом всех женских совершенств, рассказала ему о гостеприимном радушии, какое встретили в доме Ломейера ее раненый сын и они все, как только она описала ему изобилие и порядок, царствовавшие в доме отца Маргариты, когда она ласково и задушевно стала убеждать его не переносить прискорбной вражды в тихие семейные круги, он подал ей серьезно и спокойно руку и сказал:
— Да будет как желает мой сын. Он славный малый. Добро пожаловать жене, которую Фриц введет в мой дом, и да почиет на ее голове мое родительское благословение!
Тогда фрау Венденштейн отворила двери соседней комнаты и впустила краснеющую, дрожащую, но прямо и ясно глядевшую Маргариту в богатом костюме вендландской крестьянки. Она быстро подошла к старику, взяла его руку, поцеловала и уронила на эту грубую, мозолистую руку горячую слезу.
Суровое, морщинистое лицо старого крестьянина просияло кроткой улыбкой, глаза с необыкновенной нежностью остановились на стройной, сильной фигуре молодой девушки, он положил руку на ее блестящие волосы и проговорил:
— Да благословит тебя Бог, дочь моя!
Этим все было сказано — и все устроилось. Старый Дейк не любил тратить много слов, но каждое его слово было скалой, и если уж он его скажет, то на нем хоть дом строй.
Потом Маргарита пошла с ним в его дом, и когда она с удивлением увидела достаток этого старого гнезда, когда она к месту вставляла по временам замечания по поводу хозяйства, лицо старика все более и более светлело. Но когда девушка, выслав служанок из кухни, искусной рукой развела огонь и состряпала обед, накрыла на стол и все подала с таким умением и изяществом, что Фриц не мог отвести от нее восторженных взоров, когда она, наконец, принесла старику трубку, положила на нее уголек и поглядела с нежной мольбой своими большими, светлыми глазами — глаза Дейка увлажнились, перед ними восстал образ его давно умершей хозяйки.
— Спасибо тебе, что привез мне такую дочку! — сказал он, подав руку сыну.
Молодые люди в глубоком волнении опустились перед ним на колени, и он тихо проговорил:
— Благослови и сохрани вас Боже, милые, милые мои дети!
Лейтенант расхаживал молча и задумчиво. Рана его почти зажила, нервы снова окрепли, и удивительная восстанавливающая сила молодости гнала кровь все быстрее и быстрее по жилам. Он редко виделся с Еленой. Когда она приходила, они сидели вместе со всеми и мало разговаривали друг с другом. Старый, веселый и доверчивый тон, господствовавший прежде между товарищами детства, не возвращался; между ними водворилось нечто новое и странное, замиравшее на устах, когда они искали выражений в словах.
Однажды после обеда, когда обер‑амтман работал с аудитором, а фрау Венденштейн с дочерями и Маргаритой занималась печальными хлопотами, разоряя свое старое гнездо, лейтенант медленно и задумчиво отправился по дороге в пасторат.
В маленьком, хорошеньком садике уже отцвели розы и только виднелись осенние астры, да между их пестрыми головками кое‑где выглядывали большие, издали заметные подсолнечники.
Елена сидела у открытого окна и, часто оставляя работу, поглядывала на осеннюю картину; отец с кандидатом отправились по приходским делам, она оставалась одна со своими мыслями.
Вдруг она вся вздрогнула, вся вспыхнула и уронила работу на колени. Лейтенант Венденштейн показался в саду, на дорожке к дому.
Через минуту он стукнул в дверь, она с усилием произнесла: «Войдите!» — и молодой человек вошел в комнату.
Лицо его радостно просияло, когда он увидел, что Елена одна. Он быстро подошел и подал ей руку.
— Отца дома нет, — сказала она, опуская глаза и дрожащим голосом, — не угодно ли вам сесть?
Лейтенант не сел, но остался перед ней на ногах, глядя на нее с глубоким чувством. Потом он взял ее руку, поднес к губам и поцеловал.
Она вспыхнула и хотела отнять руку — он держал ее крепко.
— Я так рад, что вы одна! — сказал он. — Я уже давно хотел спросить вас о том… что для меня не совсем ясно.
Она с удивлением и вопросительно поглядела на него, хотела заговорить, но не нашла слов.
— Елена, — продолжал молодой человек тихим голосом, — когда я лежал раненый и больной в Лангензальца, не будучи в состоянии ясно понимать, измученный лихорадочным бредом, мне чудились пленительные образы и картины, я видел над собой тихого ангела, который смотрел на меня с такой любовью и нежностью… Я держал его руку в своей руке и говорил из глубины сердца: «Милая Елена!»
Она быстро отдернула руку и в сильном волнении села у окна на стул, опустив взгляд.
Он подошел к ней и продолжал:
— Скажите мне, были ли то картины моей фантазии или действительность?
Девушка сидела, не двигаясь и не говоря ни слова. Лейтенант опустился перед ней на колени и взял ее за руку, уставив на нее умоляющий взгляд.
Она наконец подняла глаза — и в этих глазах лейтенант прочел ответ. В них опять прозвучала та безмолвная речь, на которую отзывалось его сердце на одре болезни, и, как тогда, он прижал ее руку к губам, приветливо улыбнулся ей и сказал потихоньку:
— Милая, милая Елена!
Долго сидели они молча, не сводя глаз друг с друга: он не мог наглядеться на эти милые черты, глубоко запавшие ему в душу в дни смертельной опасности.
Потом вскочил, нагнулся и крепко обнял ее.
Дверь отворилась — и вошли пастор с кандидатом.
Старик с удивлением посмотрел на эту неожиданную сцену, из рысьих глаз кандидата сверкнула злая, враждебная молния, но тотчас же его глаза опустились, и на губах показалась всегдашняя угодливая улыбка.
Елена низко опустила голову в милом смущении, лейтенант быстро подошел к пастору и взял его за руку.
— Дорогой товарищ моего детства, Елена, — заговорил он решительным тоном, — охраняла и оберегала мою жизнь, когда та висела на волоске. Я умолял ее остаться добрым ангелом моей жизни — и она согласилась. Согласитесь ли вы соединить наши руки перед алтарем милой старой церкви, в которой я конфирмовался?
И он тревожно, но прямо взглянул в глаза пастору, который, казалось, все еще не мог прийти в себя.
Старик посмотрел на дочь. Взгляд, который она, робея и краснея, бросила на молодого человека, а потом с мольбой подняла на него, сказал ему, что между молодыми людьми все улажено и что Бог соединил здесь два сердца, которых человеку не след разлучать. Он любил молодого офицера и мог только радоваться обстоятельству, которое так приближало к нему молодого человека, но его мысли и планы относительно дочери были направлены совершенно в другую сторону, и пастор не мог так скоро прийти в себя от этой неожиданности.
Елена бросилась к отцу и склонилась к нему на грудь.
Старик посмотрел на племянника, который стоял с кроткой, спокойной улыбкой и с опущенными глазами.
— Любезный лейтенант, — сказал пастор, — вы знаете, как я люблю вас и всю вашу семью, и если моя дочь отдала вам свое сердце, то я, как отец и священнослужитель, могу только с благословением положить руки на ваши головы. Я, однако, должен сознаться, что все это меня крайне изумляет, я иначе представлял себе судьбу моей дочери… — И он снова серьезно и пытливо посмотрел на кандидата.
Тот подошел к нему и сказал спокойно и с улыбкой, но не поднимая глаз:
— Не вноси диссонанса в отрадную гармонию этого часа, любезный дядя. Ты знаешь, что я больше всего предан моему духовному призванию. Мирские желания, как бы они ни были дороги моему сердцу, не властны смутить духовного спокойствия моей души, и если Богу угодно устроить иначе, чем я желал и надеялся, то я могу видеть в этом только милосердное указание все более и более отвращаться от земного всеми силами моей души, чтобы посвятить всю эту силу твердому исполнению моего святого призвания. Я всей душой буду молиться о счастье кузины! Приношу вам мои искреннейшие пожелания счастья, господин Венденштейн, — прибавил он, подавая офицеру руку.
Тот схватил ее поспешно, с чувством взглянув на кандидата. Но ладонь эта была холодна, как лед, и по нервам лейтенанта пробежала невольная дрожь, когда она его коснулась и он почувствовал ее липкое, змеиное пожатие.
В последний раз старое Блеховское амтманство собрало вокруг своего гостеприимного стола друзей дома. Праздновали помолвку лейтенанта с Еленой. Обер‑амтман пожелал, чтобы на этом семейном торжестве присутствовали старый Дейк, Фриц, Маргарита и старый Ломейер. Не случайно совпал этот праздник с печальным днем отъезда. Обер‑амтману хотелось смягчить горечь расставания, хотелось, чтобы все унесли из старого дома только отрадное воспоминание о былых днях, угасающими лучами канувших в море прошедшего.
Все было уже уложено и готово к отъезду, только посуда и старинное серебро в последний раз щеголяли своей солидной роскошью на столе.
Утром приехал асессор Венденштейн и составил с отцом продолжительный, серьезный разговор. Он сообщил, что ему предлагают место в министерстве внутренних дел в Берлине, и высказал желание принять это предложение, потому что там у него появится возможность мягкой, осторожной рукой ввести свое отечество в новые жизненные условия. Но он поставил исполнение своего желания в зависимость от решения отца.
Старый амтман долго молчал, глубоко задумавшись.
— Ты молод, сын мой, — сказал Венденштейн наконец спокойно и коротко, — твоя жизнь принадлежит будущему, ты должен идти вперед, а не погребать себя в прошедшем. Король снял присягу со всех своих служащих — ты, стало быть, свободен. Воспользуйся случаем сделать карьеру и полезно приложить свои силы на общее благо. Но только не забывай своего доброго, верного ганноверского отечества, храни память о нем свято в сердце и, где можешь, старайся, чтобы к нему и другие относились с любовью и уважали его скорбь о прекрасном и почетном прошлом. Мое благословение будет с тобой на твоем новом пути.
Асессор молча поцеловал руку отца, и больше об этом они не сказали ни слова.
Серьезно и взволнованно сидело общество вокруг стола в столовой амтманства. Старый Дейк с большим достоинством располагался рядом с обер‑амтманом. Стесняясь, но сияя счастьем, Фриц с Маргаритой уселись рядышком. Глаза лейтенанта светились радостью, Елена была задумчива. На глаза фрау Венденштейн набегали порой слезы, но когда она взглядывала на счастливые парочки, слезы сменялись улыбкой, так что трудно было бы сказать, истекли ли серебристые капли на ее ресницах из горькой чаши горести или из светлого источника радости.
— Помнишь, Елена, — говорил тихо лейтенант своей невесте, — как ты мне показала раз на террасе темную тучу под серебряным лучом месяца? Взгляни, она опять тут и покоится в полном, ясном свете, и в ней уж нет больше ни молний, ни ураганов, но только счастье и благословение для сада нашей жизни!
Она взглянула на него улыбаясь.
— Кажется, — шепнула Елена, — ты нашел теперь дорогу в царство грез и детских сказок, куда не умел попасть без меня?
— А разве не ты мне ее указала? Ты подала мне руку помощи, когда я стоял на рубеже смерти, и я этого никогда не забуду!
Подали десерт. На дворе раздался рожок почтальона.
— Барон фон Кленцин, — доложил старый слуга.
— Это новый управляющий Блехова, — сказал асессор, — назначенный тебе на смену, милый папа.
Все встали.
Вошел прусский чиновник — высокий, статный молодой человек, изящный по своей внешности, ловкий в движениях.
Обер‑амтман вышел к нему навстречу со спокойным достоинством.
— Добро пожаловать, барон, в мой дом, который сегодня еще мой, а завтра сделается вашим. Вы застаете нас за семейным торжеством — помолвкой моего сына, и я прошу вас присоединиться к нам.
Он представил молодого человека жене и остальным и указал ему на место возле фрау Венденштейн. Слуга поднес гостю полный бокал шампанского.
— Я сдам вам дела завтра, — сказал старик, — и надеюсь, вы их найдете в порядке. Сегодня позвольте мне видеть в вас только гостя.
Фон Кленцин поклонился.
— Я вступаю в ваш круг чужим, — ответил он, — и чувствую, что не могу быть для вас желанным гостем. Но прошу вас, господин обер‑амтман, и вас всех здесь быть уверенными, что я в высшей степени понимаю и ценю ваши чувства. Мы знаем, что такое любовь к отечеству, и честное слово, идем к вам с распростертыми объятиями и открытым сердцем! Дай бог будущему соединить нас всех без скорби и горечи в любви к общему, великому германскому отечеству! А теперь я позволю себе выпить за здоровье жениха и невесты!
— Барон! — обратился к гостю обер‑амтман, и голос его дрогнул глубоким чувством. — Пока здесь, вокруг моего стола, собирались друзья, прекрасным и неизменным обычаем дома было пить за здоровье нашего государя и короля. Он теперь далеко, он больше не король этой страны, но вы поймете, что мне не хотелось бы в последние дни пребывания здесь изменять старому обычаю этого дома. Приходит новое время, но вспомним о старом с любовью и благословением!
Фон Кленцин взялся за бокал.
— Благословение грядущего может возникнуть только из любви к прошедшему, — проговорил он взволнованным голосом, — и сохрани меня Бог воспрепятствовать своим присутствием прощальному привету прошлому!
Все встали.
Обер‑амтман произнес серьезно:
— Здоровье короля, бывшего нашего государя, которому была посвящена вся моя жизнь! Да ниспошлет ему Господь свое благословение!
Голос изменил ему.
Глубоко тронутый фон Кленцин чокнулся с обер‑амтманом, и в тихом безмолвии комнаты прозвенели дружно встретившиеся бокалы.
Все молча их опорожнили.
То был последний тост за короля Георга V в старом Блеховском амтманстве.
Фон Кленцин задумчиво потупился.
— Славную, богатую страну мы приобрели, — прошептал он про себя. — Дай Боже приобрести и эти сердца для твердого, прочного братства!
Глава двадцать девятая
Король Вильгельм вернулся в свою столицу Берлин, восторженно встреченный народом, который не мог прийти в себя от удивления и восхищения после этого неслыханного похода в семь дней, своими поражающими результатами поднявшего Пруссию так высоко между европейскими державами и так сильно подвинувшего Германию к ее национальному объединению.
Первый порыв восхищения берлинцев миновал, все начало входить в привычную колею, по крайней мере внешне, так как во всех сердцах еще громко и сильно билась гордая радость победы.
Ранним утром король Вильгельм вошел в свой рабочий кабинет, как всегда — в военном сюртуке, с Железным крестом и орденом Pour le Merite.
— Шнейдер здесь? — осведомился он у дежурного камердинера.
— К услугам Вашего Величества.
По знаку короля вошел тайный придворный советник Шнейдер с большим пакетом под мышкой.
— Здравствуйте, Шнейдер, — произнес король с приветливой улыбкой. — Ну, все опять в старом порядке, и мы можем снова приняться за повседневную работу. Что нового в литературе? Что у вас в этом пакете?
— Ваше Величество, позвольте мне теперь, по водворении старого порядка в его права, принести мои всеподданнейшие поздравления с блестящим успехом войны. Здесь, на этом самом месте, — прибавил он с чувством, — где я стоял в последний раз пред Вашим Величеством в тот день, когда вас заботило будущее, так как от вас все отвернулись! Ваше Величество изволит снова убедиться, что прусский король не бессилен, даже когда стоит один…
— Да, с такими двумя союзниками, какие у нас были, — сказал король с кроткой улыбкой. — Бог и отечество!
Он помолчал с минуту.
Шнейдер раскрыл пакет.
— Ну, что у нас нового? — спросил король.
— Ваше Величество, — отвечал Шнейдер, — в сущности, все вариации на ту же тему: радуются победе, восторгаются венценосным победителем и его полководцами, вся пресса — один громадный дифирамб, высказывающий свои чувства кто возвышенно, кто трогательно, а кто комично. Конечно, при этом нет недостатка в добрых советах Пруссии и северогерманскому союзу. Просто невероятно, сколько прописывается диетических рецептов для политического благосостояния Германии! Не угодно ли Вашему Величеству выслушать несколько образцов?
Король задумался и молчал.
— Шнейдер, — сказал он наконец серьезно и торжественно, — люди очень неблагодарны!
Тайный гофрат с удивлением взглянул на короля.
— Ваше Величество, — отвечал он, — я не стану отрицать, что неблагодарность — очень заметная черта в характере человеческого рода вообще, но именно в эти дни хочется верить в исключения, потому что повсюду слышны выражения признательности Вашему Величеству, генералам…
— И именно в эти дни, — продолжал король тем же тоном, — я нахожу, что мир и берлинцы особенно неблагодарны. Преувеличенно благодарят меня, моих генералов, только забыли об одном, в сущности главном, виновнике великого успеха, дарованного нам Господом…
Шнейдер продолжал вопросительно смотреть на короля.
— Никто не вспомнил в эти дни о моем брате, в Бозе почившем короле! — произнес король Вильгельм слегка дрогнувшим голосом.
Глубокое чувство отразилось на веселом и спокойном лице гофрата, слезы заблестели на его глазах.
— Ей‑богу, — сказал он громко, — вы, Ваше Величество, правы, назвав нас всех неблагодарными!
— Как глубоко, как твердо носил он в своем благородном сердце величие Германии и прусское призвание! Как он заботился, насколько ему позволяли обстоятельства, об укреплении армии и государственного организма, чтобы сделать Пруссию способнее к выполнению ее призвания, как величественно и ясно рисовалось в его мыслях будущее Германии! И если бы неуклюжая рука революции не вмешалась в выполнение его планов и видов…
Король замолчал, отдавшись своей мысли.
Шнейдер с глубоким чувством смотрел на задумчивое лицо рыцарски скромного государя.
— Если нам даровал Господь, — продолжал король, — сорвать плод с дерева, следует вспомнить о том, чья заботливая рука взлелеяла это дерево, поливала его корни в дни засухи.
Король обернулся к письменному столу и взял лист бумаги.
— Я набросал тут несколько мыслей, — сказал он, немного запинаясь, — воспоминания обо всем, что покойный король сделал для усиления Пруссии, войска и государства и для объединения Германии. Мне бы хотелось, чтобы об этом была написана статья и напечатана в газете Шпенера, которую читают все германцы. Устройте это.
И он подал Шнейдеру лист.
Тот почтительно взял документ, не сводя удивленных глаз с взволнованного лица короля.
— Сейчас же будет исполнено, — поклонился он. — Не угодно ли Вашему Величеству, чтобы статья имела особое заглавие?
— Да, она должна быть заметна, — подтвердил король, — чтобы все прочли. Можно над ней поставить: «О королевском брате», — прибавил он, немного подумав. — Если его забыли все, то брат не забыл.
— Будет немедленно исполнено, Ваше Величество, — повторил Шнейдер, и прибавил глубоко взволнованным голосом. — Я сегодня унесу с собою в сердце прекраснейший образ кениггрецского победителя, посреди шумных народных ликований возлагающего половину стяжанных им лавров на скромную могилу брата!
— Мне было больно, — продолжал король, — что в этих ликованиях победы не подумали о заслугах моего брата — я только строил на фундаменте, им заложенном. Ну, теперь ступайте, — продолжал он, — об остальном завтра. А сегодня позаботьтесь, чтобы статья появилась скорее. С душой позаботьтесь — я знаю, как вы были преданы в Бозе почившему государю.
И он подал Шнейдеру руку, не допустив, однако, чтобы тот прижал ее к губам. Затем король задумчиво сел за письменный стол. Шнейдер молча вышел из кабинета.
И граф Бисмарк тоже вернулся и с присущей ему неутомимой энергией отдался бесконечным трудам по приведению в порядок вновь возникшей ситуации, так глубоко повлиявшей на все вокруг.
Граф снова сидел в своем кабинете поздним вечером перед громадным столом, заваленным бумагами, ревностно занимаясь разбором и осмыслением представленных ему проектов.
В дверь слегка постучали. Граф поднял голову. Это мог быть только кто‑нибудь очень близкий. Он сказал коротко и громко:
— Войдите!
В кабинет вошел барон фон Кейделль. Министр приветливо кивнул ему.
— Ну, что скажете, любезный Кейделль? — спросил он, откладывая в сторону бумаги, которые он просматривал. — Что случилось особенного?
— Довольно странная вещь, — сказал Кейделль, — о которой я хотел сообщить вам безотлагательно. Хансен здесь и только что был у меня.
— Хансен, датский агитатор? — удивился граф Бисмарк.
— Он самый, — отвечал Кейделль. — Но только на этот раз не в качестве датского агитатора, а в роли французского агента.
Граф Бисмарк нахмурился.
— Чего там еще хотят в Париже? — сказал он. — Неужели все еще недовольны? Ведь Бенедетти, кажется, совсем успокоился?
— Кажется, намерены сделать еще конфиденциальную попытку, и я хочу просить ваше сиятельство выслушать Хансена. Он передал мне от Друэна де Люиса верительное письмо, из которого видно, что датчанин может сообщить что‑то интересное.
— Друэн де Люис уже больше не министр, — заметил граф Бисмарк.
— Это так, — сказал Кейделль, — и министерством управляет до приезда Мутье Лавалетт, но из письма все‑таки видно, что у Хансена есть нечто, чего не хотят передавать дипломатическим путем, пока не убедятся, как мы к этому отнесемся.
— И в самом деле, — согласился граф Бисмарк, немного подумав, — отчего бы его не выслушать? Хотя мое решение по всем этим прямым и косвенным предложениям останется неизменным, — прибавил он, усмехаясь. — Где же Хансен?
— Он ждет внизу. Прикажете его позвать?
— Пожалуйста! — сказал министр. — Мы с вами еще увидимся у графини?
Кейделль поклонился. Через минуту он ввел в кабинет Хансена и сам удалился. Граф поклонился со сдержанной приветливостью маленькому, скромному человеку, и пригласил его сесть по другую сторону стола.
Светлые, проницательные глаза графа вопросительно посмотрели на умное лицо датчанина.
— Ваше сиятельство, — начал Хансен, — я вам от лица моего отечества искренне признателен за великодушное внимание, оказанное вами датской национальности в статье пятой мирного договора.
Граф Бисмарк слегка поклонился.
— Я ничего не имею против Дании, — сказал он, — напротив, я чту и уважаю этот маленький, сильный народ и горячо желаю, чтобы Германия жила с ним в мире и дружбе. От ваших соотечественников будет зависеть не обременять и не замедлять чрезмерными и невозможными требованиями практическое выполнение условий, принятых в мирном трактате за основу наших отношений к Дании.
— Я желаю быть полезным вашему сиятельству, — сказал Хансен, — и потому приехал сообщить вам несколько мыслей, на основании которых, как я убежден, деликатные отношения между вновь организующейся Германией и Францией могут быть установлены прочно и к взаимному удовольствию.
Граф Бисмарк выразил жестом, что он готов слушать.
— Осмеливаюсь доложить вашему сиятельству, что я посвящен в имевшие место переговоры.
Граф Бисмарк промолчал.
— Император, — продолжал Хансен, — в тяжелом положении. Его воззрения на самостоятельные права великих народов, на их национальное развитие вступают в серьезное противоречие с необходимостью стать во враждебные отношения к состоявшимся в Германии фактам.
Чуть заметная тонкая усмешка мелькнула на серьезном лице министра.
— С другой стороны, — продолжал Хансен, — несомненно, что значительное политическое и военное усиление Пруссии внушает серьезнейшие опасения общественному мнению во Франции — опасения, которые император, менее чем какое‑либо иное правительство, может оставлять без внимания, так как его правительство зиждется на народной воле, на выборе общественного мнения Франции. Император, — заговорил он снова, так как граф Бисмарк продолжал смотреть на него молча и задумчиво, — думал поначалу, что это общественное негодование может быть устранено вознаграждениями, которые укрепили бы оборонительные силы Франции в надлежащей пропорции к усилению наступательных сил Германии, однако он далек от того, чтобы довести до крайности вопрос, который мог бы смутить и испортить столь им высоко ценимые дружеские отношения Франции к Германии.
По лицу графа опять скользнула та же тонкая, легкая усмешка.
— Император думает, — продолжал Хансен, — что есть пути, которыми можно было бы навсегда устранить всякое противоречие. Исходя из того принципа, что две могущественные военные нации гораздо надежнее защищаются от взаимных столкновений нейтральными промежуточными странами, чем стратегическим укреплением границ, император возымел мысль, что образовать подобное Бельгии нейтральное государство на Рейне было бы лучшей мерой к окончательному мирному и дружелюбному урегулированию между Германией и Францией. Во главе этого католического государства по населению можно было бы поставить саксонского короля.
— Мир с Саксонией подписан, — заметил граф Бисмарк.
— Я не имел в виду непосредственное осуществление этой идеи, ваше сиятельство, — сказал Хансен, кланяясь — В настоящую минуту вопрос заключается только в том, чтобы это нейтральное прирейнское государство, которое Германию и Францию в одно и то же время в военном отношении разделяло бы, а в национально‑экономическом соединяло, поставить под управление князя из дома Гогенцоллернов, и таким образом, основать там династию, родство которой с прусским королевским домом устранило бы всякое недоверие в Германии.
— Княжеский дом Гогенцоллернов не в родстве с нашим королевским домом, — напомнил граф Бисмарк.
— Но все‑таки отрасль этого дома, — отвечал Хансен. — Я считаю себя вправе заверить ваше сиятельство, что как только вы выскажете одобрение вышеизложенным мной мыслям, вопрос немедленно будет перенесен на официальную почву.
Датчанин замолчал.
Граф Бисмарк задумчиво потупил глаза. Затем поднял ясный и спокойный взор на полное ожидания лицо Хансена и заговорил твердым голосом:
— Я не хочу у вас спрашивать, даны ли вам полномочия и от кого именно, сделать мне то сообщение, которое я только что выслушал. Я принимаю мысль, вами высказанную, за частное, личное воззрение и нисколько не прочь высказать вам так же ясно и откровенно свое личное о нем мнение. Германия, — продолжал он, — в результате большой, трудной борьбы сделала серьезный шаг к своему национальному устройству. Немецкая нация не имеет надобности давать в этом кому бы то ни было отчет, ей нет необходимости заботиться о том, понравится ли развитие ее национальных прав другим нациям, прежде же всего — она не намерена ничего платить другим нациям, для того чтобы купить свое внутреннее объединение. Пока я прусский министр и имею влияние на судьбы Германии, — произнес он металлически звучным голосом, — мы никому не намерены давать взяток, в какую бы форму они ни были облечены! Это мое личное мнение, и вы отсюда видите, что совершенно излишне было бы облекать в официальную форму мысль, которую вы мне высказали: со стороны прусского правительства вы получили бы точно такой же ответ, какой я вам сейчас дал.
— Ваше сиятельство, — сказал Хансен, отчасти озадаченный резким ответом графа, исключавшим всякий спор, — я вам искренне признателен за выраженное вами уважение к национальному чувству Дании, и весьма желал бы быть вам в этом отношении полезным. Но я не смею скрыть от вашего сиятельства, что, насколько мне известны положение дел и общественное настроение в Париже, если будет отвергнут этот последний базис соглашения, принимаемый во Франции чрезвычайно близко к сердцу, война раньше или позже станет неизбежной.
Граф Бисмарк встал, глаза его засветились гордо и ярко.
— Так пусть будет война! — возвестил он громко и твердо. — Я ее не боюсь и никогда не буду стараться избежать ценой достоинства и могущества Германии. Храбрая прусская армия и ее союзники, разбившие Австрию, гораздо дружнее выступят в поле против Франции, если мы будем к этому вынуждены. Вы можете повторить мои слова всякому, кого интересует моя точка зрения, но можете еще прибавить, что никто не ценит выше меня добрых отношений к Франции. Французская и германская нации гораздо больше созданы для того, чтобы дополнять одна другую и идти рука об руку, нежели воевать между собой, и я со своей стороны сделаю все, чтобы сохранить мир и дружбу — все, кроме принесения в жертву германской чести и германского достоинства.
— Прошу ваше сиятельство верить, во всяком случае, в доброе намерение, которое руководило мной в этом шаге, сделанном для согласования противоположных интересов.
— Благодарю вас за это доброе намерение, — сказал граф Бисмарк. — Оно во всяком случае поведет к прояснению вопроса.
Хансен с низким поклоном вышел из кабинета.
— Он хочет сыграть с Германией такой же фарс, как с Италией, — сказал граф, оставшись один. — Но у меня Савойи и Ниццы не найдется!
Он вышел из кабинета и отправился к жене, в гостиную.
Там опять сидели дамы за чайным столом, и с ними фон Кейделль.
Граф нежно поздоровался с женой и дочерью.
— Ты видел последний номер «Кладдерадача»? — спросила графиня, указывая на листок с известной всем карикатурой в заголовке, лежавший на столе рядом с чайным прибором.
Граф взял газету и рассмеялся, взглянув на картинку на последней странице.
Она изображала старого, расслабленного нищего, с чертами лица императора Наполеона III, со шляпой в руке просящего милостыни у дверей одного дома. Рядом с дверью было открыто окно, и из него выглядывал министр‑президент, отмахивая рукой нищего, а внизу было написано: «Здесь не подают!»
— Удивительно, право, — сказал граф, бросая листок на стол, — с каким тонким пониманием эти люди схватывают комизм положения! В этих картинках часто бывает больше смысла, чем в длинных руководящих статьях!
Он залпом выпил поданную ему большую хрустальную кружку пенящегося пива.
— У меня к вам просьба, любезный Кейделль. — Бисмарк приветливо обратился к барону. — Не сыграете ли вы мне тот похоронный марш Бетховена, помните — вы играли его раз вечером, перед началом войны?
Кейделль охотно встал и подошел к роялю.
Могучие и потрясающие аккорды гимна смерти звучно пронеслись по комнате, дамы слушали в глубоком волнении.
Граф Бисмарк стоял выпрямившись, в его серьезном, рельефном лице светилось вдохновение.
Когда Кейделль закончил, он глубоко вздохнул.
— Много героев пало, — проговорил он тихо, — но цель достигнута, кровь их пролилась недаром! Много горя принесло это время, много диссонансов будет еще впереди — да разрешит их Господь в гармонию единой, великой Германии!
Голос его звучал искренним чувством, графиня прослезилась. Кейделль в порыве вдохновения, высоко вскинув руки, уронил их на клавиши и заиграл ту воинственную песнь, в которую некогда реформатор вложил свое твердое, как скала, упование на Бога и на успех в тяжкой борьбе за свои убеждения.
Граф Бисмарк устремил взгляд вверх, взволнованное лицо его точно просияло солнечным отблеском. Он сложил руки, и губы его зашевелились, тихо повторяя про себя слова гимна:
Eine feste Burg ist unser Gott, Ein starke Wehr und Waffen![105]Примечания
1
Название происходит от немецкого слова дрошке (droschke) — легкий четырехколесный открытый рессорный экипаж на 1–2 человека.
(обратно)2
Автомедон — в древнегреческой мифологии возница Ахилла. Имя стало нарицательным для ловкого извозчика.
(обратно)3
Крупнейший немецкий дипломат второй половины XIX столетия, первый рейхсканцлер Германской империи, которую он создал путем войн Пруссии с Данией, Австрией и Францией.
(обратно)4
Германия была в то время раздроблена на ряд мелких государств и княжеств. Бисмарк понял историческую необходимость объединения страны, что вело к неизбежной войне между Пруссией и Австрией — самых крупных германских государств.
(обратно)5
Согласно древнегреческому эпосу, троянский жрец Лаокоон заподозрил, что внутри троянского коня прячутся греки, но к нему не прислушались. Пергам — другое название Трои.
(обратно)6
Имеются в виду декорации к постановкам произведений Людвига ван Бетховена.
(обратно)7
Горе побежденным! (лат.).
(обратно)8
Ландвер — ополчение, войска, сформированные из военнообязанных.
(обратно)9
Венский конгресс 1814–1815 годов завершил войны коалиций европейских государств против наполеоновской Франции. Заключенные договоры, в частности, закрепляли политическую раздробленность Германии и Италии.
(обратно)10
Термин, определяющий владение младшей ветви королевского рода.
(обратно)11
Со знанием дела, основательно (фр.).
(обратно)12
Союзный сейм — центральный орган Германского союза, заседавший во Франкфурте‑на‑Майне; председательствовала в нем Австрия.
(обратно)13
Блюдо истории.
(обратно)14
Утренняя политика.
(обратно)15
Тем лучше (фр.).
(обратно)16
«Похоронный марш на смерть героя» (ит.).
(обратно)17
Жребий брошен! (лат.).
(обратно)18
Имеются в виду тончайшей работы серебряные сервизы французского ювелира Шарля Кристофля.
(обратно)19
Амт — округ; амтман — коронный администратор округа; амтманство — местопребывание амтмана.
(обратно)20
По желанию, по собственному усмотрению, произвольно (лат.).
(обратно)21
Австрия призвана управлять Вселенной (лат.).
(обратно)22
Неожиданность (фр.).
(обратно)23
«Никакого вина, кроме венгерского» (лат.).
(обратно)24
Вельможи (фр.).
(обратно)25
Германский союз — основан в 1814–1815 годах. В нем главенствовала Австрия.
(обратно)26
Шах (фр.).
(обратно)27
Совладельцы (лат.).
(обратно)28
Паллиативный — имеющий характер полумеры.
(обратно)29
Аппетит приходит во время еды (фр.).
(обратно)30
Премьер‑министр Англии в 1855–1858 годах и с 1859 года. Его внешняя политика строилась на традиционном для Великобритании принципе «равновесия сил», то есть разделении Европы на группы враждующих и тем самым ослабляющих друг друга государств. Политика Палмерстона в отношении России определялась опасением роста ее могущества. В период Крымской войны (1853–1856) Палмерстон выступал за захват Севастополя и отторжения ряда областей России.
(обратно)31
Агломерация — скопление, слияние, присоединение.
(обратно)32
Разделяй и властвуй (лат.).
(обратно)33
Войдите! (англ.).
(обратно)34
Приемная (фр.).
(обратно)35
Лозунг (фр.).
(обратно)36
Повод к войне (лат.).
(обратно)37
Тем лучше (фр.).
(обратно)38
Что идет медленно, идет уверенно (ит.).
(обратно)39
Под обаянием (фр.).
(обратно)40
Экзерциции — военные упражнения.
(обратно)41
Медиатизация — подчинение владетельных германских сюзеренов более крупному германскому государству, например, Пруссии или Австрии.
(обратно)42
Ну что же.
(обратно)43
Золотая молодежь (фр.).
(обратно)44
Старорежимную аристократию (фр.).
(обратно)45
Все вместе (лат.).
(обратно)46
Менсдорф намекает на тяжелое поражение России в Крымской войне (1853–1856), ставшее возможным в том числе благодаря враждебной позиции Австрии.
(обратно)47
Меттерних руководил австрийской политикой с 1809 по 1848 год. Особенно значительную роль он играл в период с 1815 по 1848 год.
(обратно)48
Я презираю невежественную толпу и ставлю ей преграду (лат.).
(обратно)49
Блюдо истории (фр.).
(обратно)50
Бессмыслица, нелепость.
(обратно)51
«Тевтонскую ярость» (лат.).
(обратно)52
Герой, видимо, хочет сказать, что Австрия готова пойти на то, чтобы возвратить Италии Венецию, которой она владела до 1866 года.
(обратно)53
Освобождение от церковного влияния в общественной и умственной жизни; превращение церковной власти, имущества в светские.
(обратно)54
Италия сделает все сама, — хорошо (ит.).
(обратно)55
Революцией здесь называют движение под руководством Гарибальди, свергнувшим власть Бурбонов в Неаполитанском королевстве.
(обратно)56
Нунций — постоянный дипломатический представитель папы римского.
(обратно)57
Легитимация — подтверждение законности полномочий.
(обратно)58
Виктор‑Эммануил II — первый король объединенной Италии, поддерживал либералов (глава — Кавур) в их стремлении объединить Италию путем сделок прежде всего с иностранными державами.
(обратно)59
Австрии принадлежит право управлять Вселенной! (лат.).
(обратно)60
К вящей славе Божией! (лат.).
(обратно)61
Имеется в виду религиозный реформатор Мартин Лютер, основатель протестанства.
(обратно)62
Между прочим (лат.).
(обратно)63
Шутливые прозвища берлинских газет.
(обратно)64
Не склоняется даже пред солнцем (лат.).
(обратно)65
Ну и что же! (фр.).
(обратно)66
Слишком большой вельможа (фр.).
(обратно)67
Буквально: дипломатический мемориал (фр.).
(обратно)68
Мы совершим эту глупость (фр.).
(обратно)69
Гаштайнский договор (фр.).
(обратно)70
Промежуточное условие (фр.).
(обратно)71
Веллингтон Артур Уэлсли — английский фельдмаршал. В войнах против наполеоновской Франции командовал союзными войсками.
(обратно)72
Придворный английской королевы Елизаветы I, был казнен по ее приказу. Персонаж драмы Ф. Шиллера «Мария Стюарт».
(обратно)73
Так, так! Вот обратная сторона медали (фр.).
(обратно)74
Бог да хранит короля! (англ.).
(обратно)75
На войне, как на войне! (фр.).
(обратно)76
От франц. глагола menage — убирать.
(обратно)77
Трудности не страшат (лат.).
(обратно)78
Слуга.
(обратно)79
«Милый друг» (фр.).
(обратно)80
Помни о смерти (лат.).
(обратно)81
Учреждение, ведавшее пожалованием и выдачей орденов.
(обратно)82
Умрем за нашего царя! (лат.).
(обратно)83
Королем венгерским (лат.).
(обратно)84
Лавандового одеколона.
(обратно)85
В греческой мифологии — морское божество, обладающее пророческим даром, способное принимать облик различных существ.
(обратно)86
Точнее — клубок Ариадны, конец которого оставался у нее в руках, чтобы Тезей мог по этой путеводной нити найти выход из лабиринта.
(обратно)87
Пусть оружие уступит тоге (лат.).
(обратно)88
Футляр.
(обратно)89
Улица в Париже, на которой располагается министерство иностранных дел Франции.
(обратно)90
Пусть консулы следят, чтобы государство не потерпело какого‑либо ущерба! (лат.).
(обратно)91
В сущности, в самом деле (фр.).
(обратно)92
Палаш — длинная прямая сабля с широким и обоюдоострым клинком.
(обратно)93
Гонведы — венгерская национальная армия.
(обратно)94
Прусский орден «За заслуги».
(обратно)95
Завсегдатай (фр.).
(обратно)96
Хорошая мина при плохой игре — только и всего! (фр.).
(обратно)97
За заслугу.
(обратно)98
Имеется в виду Парижский мирный договор 1856 года, который завершил Крымскую войну, ущемлявший многие права России и поставивший ее в довольно сложную международную ситуацию.
(обратно)99
Парижский мир 1814 года восстанавливал независимость Голландии, Швейцарии, немецких княжеств и итальянских государств.
(обратно)100
Куаутемок — преемник Монтесумы, последний правитель ацтеков. Казнен испанцами.
(обратно)101
Финансовые тузы (фр.).
(обратно)102
Большая игра (фр.).
(обратно)103
«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» (англ.) — цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет».
(обратно)104
О, если бы вечно осталось цвести
Прекрасное время юной любви.
(обратно)105
Бог нам прибежище и сила, оружие и спасение (нем.).
(обратно)

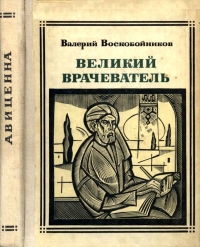


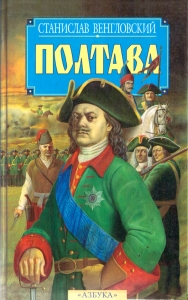


Комментарии к книге «За скипетр и корону», Грегор Самаров
Всего 0 комментариев