ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Книга «Исповедь бывшего хунвэйбина» попала ко мне случайно, я не знал о ее существовании и, естественно, не стремился найти и прочитать. Мне привез ее знакомый китаец, который сказал: «Прочитай внимательно». Меня она заинтересовала сразу: ведь я в те годы, о которых идет речь, находился на советско-китайской границе, вольно или невольно отслеживал все события «культурной революции», знаю о ней немало, часто из первых рук, знаю то, о чем у нас не писали. А это облегчит чтение, и если вздумаю перевести на русский язык, то и работу над письменным переводом. Долго раздумывать не пришлось. Уже по прочтении нескольких глав я твердо решил, что эта книга стоит того, чтобы о ней узнал наш читатель. Я вспомнил о книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Из нее люди много узнали того, о чем не писала печать, не говорили политики, либо говорили, но не во всеуслышание. А «культурная революция» не 10 дней, а 10 лет потрясала Китай и весь мир, о ней знали и говорили во всех уголках планеты, о ней много написано. Но все это ушло в прошлое, политическую литературу уже почти не читают, да и подавалось все это людьми, наблюдавшими за событиями как бы со стороны, даже если они и работали в то время в Китае. Практически они не имели прямого общения с простыми китайцами, а кому это и удавалось, то такой китаец прежде всего думал о сохранении своей жизни и не очень-то раскрывался, не говорил всю правду о своих ощущениях, своих думах, потому что в то время это могло стоить жизни, даже если перед ним был друг. Они твердили официальные точки зрения, лозунги, не признаваясь в истинных своих чувствах и мыслях. Да, был энтузиазм, был всеобщий порыв, но не у всех и не всегда, люди прежде всего думали о своем будущем, их обременяли семьи, им надо было их кормить, растить и учить детей, и далеко не всякий из взрослых, очертя голову, бросался в бой. Многих подвигал на это общий энтузиазм, а точнее, он просто не мог уйти от того, что делалось вокруг. Многие подлаживались, делали вид, что очень рады «культурной революции», а сами думали о том, чтобы она быстрее закончилась.
Так вот главная, на мой взгляд, ценность книги китайского писателя Лян Сяошэна состоит в том, что он постарался воспроизвести все то, что он видел своими глазами, что слышал, что прочувствовал и в чем участвовал, не политиканствуя, не пытаясь угадать чьи-то мнения на этот счет, не приукрашивая и не драматизируя события. Он раскрывает целый ряд черт характера китайцев, особенности быта, нравов, обычаев, норм жизни, и то, как «культурная революция» прошлась по всему этому с огнем и мечом. Он хорошо показал, что в результате всех движений, которые проводились в Китае после установления КНР и до начала «культурной революции», воспитательных мероприятий, вовлечения всего населения в кипучую общественную работу, люди стали говорить штампами, лозунгами, изречениями, цитатами из произведений Мао и щеголять этим друг перед другом. Это стало поветрием. А с началом «культурной революции» в языке стали превалировать жесткие, хлесткие выражения. Поэтому пусть читатель не обвиняет писателя в казенном языке, он лишь передает то, что было.
Следует сказать еще и о такой особенности «культурной революции». Она больше всего понравилась молодежи, даже наиболее юной ее части — учащимся и студентам, людям, неискушенным в жизни, не умеющим всесторонне оценить те или иные жизненные явления, не подготовленным в теории, но рвущимся в бой, стремящимся, по их мнению, как можно больше принести пользы революции. Их максимализм не знал границ. Они часто доходили до фанатизма, могли бездумно пожертвовать своей жизнью, хотя, если трезво посмотреть на происходившее, то можно увидеть, что в этом не было никакой нужды. Им просто надо было отличиться, показать себя или, как говорит автор, превзойти себя. Примеров таких действий в книге немало. Закончили они плохо, всех их сослали в глухие сельские районы на трудовое перевоспитание, где им давали самую грязную, непрестижную даже для сельского жителя, работу. Среди людей старших поколений таких оголтелых было немного. Эти люди были либо втянуты по обязанности и занимаемому положению, либо то были те, кто всегда рвется к власти, стремится к известности любыми путями, преследует свои корыстные цели. Но поскольку кругом бродил дух революционности, и тех, кто уклонялся от участия в «революции», «выводили на чистую воду», то с течением времени по существу все население страны было втянуто в активную деятельность. От этого нельзя было уйти. Помню, как рассказывал один перебежчик, почему он нарушил границу и перешел в СССР.
В приграничном поселке, в котором он жил, ежедневно во всех организациях, в том числе в школе, где он работал учителем, проводились собрания критики. Он никогда не выступал, никого не критиковал и никого не бил, чем обычно заканчивалась критика обвиняемого. И вот ему однажды говорят: а ты, Ван, почему молчишь, наверно, сам такой. Да прицепились так, что вывели его в круг и потребовали признания, а под конец побили и оставили в школе под охраной учеников его же школы. Дали лист бумаги и велели написать признание. Ему не в чем было сознаваться, и он ничего не написал. На следующий день он под охраной учащихся чистил поселковые уборные, а вечером критика повторилась, и ему опять дали чистый лист бумаги. Зная по опыту других, что от признания не отвертеться, он написал его, оклеветал еще двух человек. А когда хорошо подумал, то испугался своего поступка, взял свое «признание», запер в школе заснувшую охрану и перешел к нам. Из этого примера видно, почему все старались быть активистами. И часто — активистами поневоле, чтобы самому не попасть в разряд контрреволюционеров.
Писатель Лян Сяошэн, как видно из повести, в то время был 17-летним юношей (родился в 1949г.), учащимся; он вместе с такими же учениками делал «культурную революцию», что дало ему богатый материал для предлагаемой читателю книги. Потом, будучи сосланным в деревню, выполнял различные работы в производственно-строительном полку. Сейчас он известный в Китае писатель. Работает сценаристом на детской киностудии. Опубликовал 3 романа («Исповедь бывшего хунвэйбина», «От Фуданя до Бэйина», «Снежный город»), ряд повестей и рассказов. Его повесть «Этой ночью прошел буран» и рассказы «Здесь удивительная земля» и «Отец» удостоены государственных премий за лучшие произведения года.
Написание этой книги автор закончил в 1987 году, а в марте 1988 года она уже была издана Сычуаньским книжным издательством и тепло встречена отечественным читателем. Возможно, если бы тогда наш еще советский читатель мог ознакомиться с этой «Исповедью», то мы наделали бы меньше глупостей в ходе так называемой перестройки, переросшей в неизвестно что. Сейчас этому явлению даже названия нет: то ли революция, то ли демократические преобразования, то ли еще что-то. Ясно одно — в историю вписывать будет трудно и стыдно, да и «на какую страницу истории все это запишешь?» — спрашивал Лян Сяошэн, говоря о «культурной революции». Было бы хорошо, если бы она стала назиданием для потомков — таково было желание писателя. Нашим гражданам постсоветских республик такое назидание тоже нелишне. В рассуждениях автора много тем для размышлений и дискуссий, в частности, об отношении молодежи к заслугам старшего поколения с учетом того, что она сама тоже хочет проявить себя, хочет, чтобы ее дела не заслоняли те, кто навсегда возведен в ранг героев, об отношении к памятникам прошлого, произведениям культуры и другие.
Повествование автором ведется динамично, он не вдается в подробности, рисует мазками. У него одно предложение часто равно абзацу. В каждое слово вкладывается много смысла, оно должно быть не только прочитано, но и хорошо осмыслено. В то же время он немало рассуждает, анализирует, размышляет над поступками людей, причинами их возникновения. В ряде случаев чувствуется ирония и даже юмор.
То, что описано в книге, охватывает только часть «культурной революции», тот период, когда в ней участвовали хунвэйбины (два года). 28 июля 1958г. Мао вынес ему «смертный приговор», а ведущей силой объявил рабочий класс. На встрече с «вождями» хунвэйбинов высших учебных заведений Пекина Мао сказал: «Великая пролетарская культурная революция продолжается уже 2 года. Во-первых, сейчас вы не боретесь, во-вторых, не критикуете, в-третьих, не осуществляете преобразования. Сейчас рабочие, крестьяне, бойцы, население — все недовольны, и большинство студентов недовольно. Вы оторвались от основной массы рабочих, крестьян, солдат, студентов. В отдельных институтах ведется некоторая борьба против черной банды, но этого явно недостаточно. Главная причина в том, что вы разделились на две группировки, начали борьбу с применением силы. Сейчас мы обращаемся ко всей стране: тот, кто продолжает нарушать порядок, нападать на освободительную армию, разрушать средства связи, убивать людей, совершать поджоги, является преступником. Если эта небольшая группа людей не прислушается к совету прекратить подобные действия и упорно не будет исправляться, эти люди превратятся в бандитов, гоминьдановцев, их необходимо изолировать. Если они будут упорно продолжать сопротивляться, их необходимо уничтожить».
А еще через 3 месяца Мао дал новое указание: «Образованной молодежи совершенно необходимо отправиться в деревню, чтобы получить новое воспитание у крестьян-бедняков и низших середняков». Оно дало толчок движению за отправку «образованной молодежи» в отдаленные, пустынные районы, по путям, уже проторенным широкими массами кадровых работников».
Так бесславно закончился этап «культурной революции», на котором основную роль играли хунвэйбины. Они, не понимая того, сделали грязное дело: помогли Мао Цзэдуну ликвидировать либо отстранить от власти всех его противников, в большинстве случаев людей здравомыслящих, способных руководителей, людей, прошедших школу борьбы, пользовавшихся доверием народа, видевших и не воспринимавших ошибки и искривления в политике Мао Цзэдуна, пытавшихся не допустить проведения в жизнь мероприятий, идущих во вред народу своей страны, вставшей на путь нормального развития.
После отлучения хунвэйбинов от революции она продолжалась вплоть до смерти Мао Цзэдуна в 1976 году, а официально об ее окончании было объявлено лишь в августе 1977 года решением XI съезда КПК. Но этого периода мы касаться не будем, автор не пишет о том, в чем сам не участвовал.
В этой небольшой статье я не ставил перед собой задачу сделать анализ книги и событий того времени, а лишь хотел обратить внимание на отдельные моменты произведения, вкратце познакомить читателей с автором и дать некоторые пояснения по «культурной революции», литературные и другие достоинства книги читатель оценит сам.
Г. Кашуба.ГЛАВА 1
Я был хунвэйбином.
Я исповедуюсь.
В нашем общем большом дворе проживало семь семей. Дядя Лу в нем был старожилом. Наша семья и пять других как мигранты съехались сюда в последнее время из самых разных мест. Накануне Нового 1966 года все жители собрались в этом дворе и совместно отпраздновали Новый год — праздник весны. Это заложило основу для мирных дружественных отношений между нами. В тот год мне исполнилось 17 лет. Учился я в девятом классе соседней школы.
Дядя Лу был у нас «старшиной двора», как старожил он не стал отказываться и взял на себя ответственность руководить нашим большим коллективом. В десять вечера закрывал на задвижку общие ворота, в шесть утра открывал их, довольно справедливо распределил для каждого дома площадь под тамбуры для домов и навесов для угля; прогонял безнадзорных детей, приходивших по двор поиграть; опрашивал подозрительных незнакомцев, забредавших во двор; при внезапном исчезновении электричества тщательно доискивался до причин; не упускал ни единого случая для утверждения своего авторитета.
Ему было 37 лет, это значит, что он был на год старше, чем я теперь. Но тогда в моем сознании он был человеком старшего поколения. Лу участвовал в войне в Корее и совершил незначительный подвиг. После демобилизации стал работать милиционером, сопровождающим железнодорожные поезда, был доволен своим положением. От природы обладая ослиным нравом, он часто упрямо спорил по всяким пустякам, постоянно навлекая на себя гнев начальства. В конце концов был освобожден от должностных обязанностей всего лишь из-за «связи с женщиной», которая возникла по взаимному влечению. Не потрудившись изучить закон, он подал апелляцию, полагая, что, согласно закону, он ничего противоправного не совершил, не успев «войти в гавань». Его застали в ее объятиях, и не больше. Вышестоящие апелляцию отклонили и сняли с должности. Основание совершенно незаконное, зато нравственное. И ему еще повезло, что не успел «войти в гавань». А если бы вошел, то не только был бы освобожден от должности, а еще и приговорен к наказанию. Та женщина имела отношение к его непосредственному начальству: была молодой женой старого начальника отдела. Куда он только не обращался с объяснениями происшедшего в надежде найти сочувствие. Два года шумел, с трудом дело пересмотрели и его реабилитировали. Ничего не поделаешь, еще хорошо, что кое-что унаследовал от своего отца — корявого Лу — умел собирать старье под бой барабана.
Он много получил уроков у жизни, выдержал массу всяких баталий, однако сгубили его объятия женщины, в которые он попал и не смог благополучно выбраться. «Черт возьми, ведь всего-навсего побывал в объятиях! Но в объятиях именно женщины!» — часто говорил он, рассказывая об этом печальном «любовном романе», приключившемся с ним в свое время. Повторяя эту мысль, он постепенно трансформировал ее: «Черт возьми, она первой соблазняла меня. Она жена начальника отдела, не завлекай она меня, разве я осмелился бы подбить ее на преступную связь? Черт бы ее побрал, когда началось дельце, она, обливаясь слезами, сделала встречный ход. А теперь уже стала начальником отдела!» Он до зубного скрежета ненавидел женщину, испортившую ему репутацию, лишившую его перспективы на будущее. Но после каждого проклятия всегда произносил такую фразу: «Она была по-настоящему очаровательна, брови вразлет, какой мужчина не растает, будучи холостяком!» Очевидно у него еще тлело старое чувство, которое трудно забыть.
К счастью, его жена тетя Лу относилась к нему крайне великодушно, никогда не придавала значения этому приключению, не упрекала мужа. А ему тот тяжелый урок прибавил мудрости и проницательности: «Хотя домашние цветы не так ароматны, как дикие, зато они свои, когда захотел, тогда и сорвал. Срывать дикие цветы очень рискованно».
Хотя заработок старьевщика и небольшой, но в сравнении с зарплатой полицейского, сопровождающего поезда, вполне приличный. Правда, круглый год, все триста шестьдесят с лишним дней, и в доме, и во дворе валялись груды старья. Однако для тети Лу это не было помехой, она не испытывала неудобств. «Деньги получаем тогда, когда удается сбыть сырье. Важно, чтобы они пошли на дело. В нашей семье тратят их в любое время. А разве мэр города не один раз в месяц получает зарплату?» — такой рассудительной позиции придерживалась тетя Лу.
В те дни, когда дядя Лу приносил хороший барыш, она как заправский повар производила полную калькуляцию и накупала всякой всячины, семья досыта наедалась разнообразных вкусных и привлекательных блюд. Случались дни, когда дядя Лу по лености своей не хотел выходить из дома зарабатывать деньги, тогда в большом котле варили гаоляновую или кукурузную кашу, которую ели целыми днями. Женщины всего двора говорили: в семье дяди Лу на желудки не жалуются, и взрослые, и дети. Однако моя мать не считала правильным такой образ жизни, когда в первый день месяца умирает от переедания, а на пятый день — от голода, но вслух свои замечания не высказывала.
Дядя Лу после пережитого из-за неудачи на поприще любви больше уже никогда не питал страсти к «диким цветам». Стал преданнейшим мужем. Излишки денег, полученные от сбора старья, пускал на шахматные игры и вино. Если к водке у него были хотя бы соленые овощи, то двумя бутылками «старой гаоляновой» его не споишь. Он сам бахвалился, что способен выпить очень много. Однажды опьянев, он взял радиоприемник и завалился на самое горячее место кана[1] послушать пекинскую оперу. Это было проявлением седьмой стадии опьянения. Когда у него дело доходило до восьмой и девятой стадий, он громил все налево и направо. Когда наступала последняя стадия, он вытворял жуткие вещи. С кухонным ножом или топором в руках прыгал по крыше дома и выкрикивал ругательства в сторону улицы, кого-то вызывал на смертный бой, другому высказывал крайнюю ненависть и нежелание жить с ним под одним небом. В большинстве случаев тот и другой просили прошения и извинялись, боясь связываться с ним. На этой улице жили в основном старики и дети, посмел кто из них бы драться с ним или заявить, что тоже не желает жить с ним под одним небом? «Старший брат, не сердись! Это я спьяну, мы братья! Ты мой старший брат! Как я могу ссориться с тобой?..» — оправдывались они. После таких слов у него наступало облегчение и он успокаивался, подтверждая этим, что даже при сильном опьянении у него остается толика разума.
Еще до того, как жители нашего двора съехались сюда, он уже получил два прозвища: первым пользовались открыто, второе произносилось в его отсутствие. Открыто его называли Лу Эр Е,[2] что содержало в себе почтительный смысл.
За глаза — Лу Эр Люй.[3] Когда мы переехали сюда, он пытался обнародовать только первое свое прозвище, умалчивая о втором. Но в жизни получается так, что тайное всегда становится явным.
Сначала мать остерегалась его, наказывала нам: «Ни в коем случае не задевайте его. Если его затронешь, он ворвется в дом с ножом или с топором и учинит расправу. Ваш отец далеко отсюда, а мать разве может справиться с ним? Или может быть вы одолеете его?» Материнские предостережения действовали. Когда мы встречались с ним, то всегда опускали голову и обходили его подальше.
Однажды, когда на улице шел снег, он, напившись до чертиков, разделся, взобрался на крышу своего дома, потом перелез на нашу и, прыгая по ней, разразился на кого-то яростной бранью. Держа в руках лопату, он с безудержной яростью прыгал по крыше, пока часть ее не провалилась. Ругал мать и нас за то, что мы прятались дома, не осмеливаясь выйти наружу. Потом мать ходила к нему домой, прибегнув к самым убедительным аргументам и веским словам, убеждала его стать человеком.
Он растрогался и сказал матери: «Уважаемая невестка! Мне тошно! Я единственный здесь человек, который занимается сбором старья, я один здесь совершил ошибку, из-за которой снят с должности, понижен на три ступени. Из-за этого стал пить, мучаюсь от несправедливости».
На следующий день он купил две банки консервов и принес матери, чтобы загладить вину.
После этого мать сказала нам: «На самом деле вам нечего его бояться. У него незлое сердце, только ишачий характер, гладь куда шерсть лежит. Гладь по шерсти и он будет благоразумным».
Наверно, благодаря тому, что мать хорошо поняла, как с ним лучше общаться, он с тех пор стал относиться к ней очень уважительно, называл не иначе, как «уважаемая невестка». Она вела дело к тому, чтобы мы постепенно сближались с ним.
Он очень хорошо играл в шахматы. До того, как его сняли с работы, он одержал победу в соревнованиях, организованных профсоюзами на уровне провинции. То была его самая блестящая победа.
Обычно по вечерам, когда на улице под электрическим столбом он с видом человека, равных которому нет, раскладывал свою самшитовую шахматную доску и фигуры из сандалового дерева (приз первенства), он был похож на Бонапарта, готовившегося к битве и решительной победе. Фигуры снимал важно, потерю фигур воспринимал спокойно. Он с честью носил звание главы местной шахматной общины, на улице был королем шахмат. Он не имел себе равных. Не обходилось и без саморекламы, это видели все.
Самым первым установил с дядей Лу дружеские отношения дядя Цзян. Он был рабочим небольшого завода коллективной собственности, на котором трудилось всего триста с лишним человек. Новый партнер дяди Лу по шахматам, имевший счастье войти в его компанию, считал для себя это большой честью. Два человека благодаря шахматному партнерству стали друзьями. С этих пор связи между их семьями стали очень тесными.
Соседом слева у дяди Цзяна был дядя Чжан. Чжан являлся «ответственным товарищем», работал в одном районном учреждении, которому подчинялись несколько мелких магазинов, хотя к числу официальных кадровых работников не относился. В нашем большом дворе он слыл человеком, обладающим властью. Когда остальные жители двора не могли купить товары типа электролампочек, спичек, мыла, соевого соуса, соды, они нередко ходили к нему через «черный ход». Он с радостью открывал двери «черного хода» своим соседям.
Правым соседом Цзяна была семья дяди Суня. В то время Сунь был начальником мебельного цеха единственного в Харбине завода деревянных изделий «Лунцзян». В глазах многочисленных соседей общественное положение Суня в сравнении с Чжаном, естественно, было более высоким. Этот человек принадлежал к официальным властям. Широкий лоб, круглый подбородок. Он не любил разговаривать. Ни во дворе, ни на улице. Если вы по своей инициативе не поприветствуете его, он никогда сам первым не откроет рот. Все соседи считали, что он напускает на себя вид по меньшей мере начальник отдела, что на самом деле соответствовало его сущности.
Соседом дяди Суня через стену была семья Лоу. Дядя Лоу был токарем на заводе по ремонту дорожных машин. Этот завод еще меньший, чем тот, на котором работал Цзян, на нем всего 80 с лишним человек. Дядя Лоу и дядя Ма, который жил напротив него наискосок, были дружны, составляли небольшой музыкальный дуэт: у Лоу была труба, а у Ма — кларнет. По вечерам часто играли вместе. Почитателями их игры были дети нашего двора.
Не считая моего отца, самым старшим по возрасту среди мужчин во дворе был дядя Ма. В тот год ему исполнилось 50 лет. Говорили, он мечтал о среднем образовании, работал бухгалтером в угольной компании, то есть конторским работником, по внешности его считали в нашем дворе представителем интеллигенции. Сам он тоже старался выдавать себя за интеллигента. У него было четыре дочери и один сын. Сын — мой одногодок, и мы оба тогда учились в 9 классе средней школы первой ступени.
Наибольшие трудности в жизни среди обитателей двора испытывала наша семья. Многочисленные соседи часто помогали нам. Мать, будучи признательной, с благоговением относилась к ним. Хотя отец наш работал далеко в Сычуане, дома висела его почетная грамота, свидетельствуя о том, что мы — его семья — чтим славные семейные традиции.
ГЛАВА 2
На нашей классной доске наклеен портрет Мао Цзэдуна. Слева и справа от него большими иероглифами красного цвета написаны слова: «Думай о Родине, обращая взор на весь мир». Они как бы утверждали, что мысли и познания учащихся этой школы ясные и имеют очень далеко идущие цели.
Я в то время был семнадцатилетним юношей, только что пережил «стихийное бедствие» девятилетки. Ростом не дотянул даже до 160 сантиметров. Отечность, образовавшаяся у меня от употребления подножного корма, уменьшилась, но голод оставил свои отпечатки на коре головного мозга. Мои хилые, похожие на девичьи, плечи несли на себе созревшую по моим понятиям голову. В ней отложились знания по всему Китаю и даже по всему миру. Предполагалось, что она по вдохновению или душевному порыву будет выдавать все, что в ней заложено:
«Чэнь Цзяцюань установил мировой рекорд на стометровке»;
«Многотысячные массы людей из всех штатов США проводят демонстрации перед Белым домом в поддержку справедливой войны вьетнамского народа против Америки»;
«Учиться у Су Янхая!»;
«Учиться у Ван Цзе!»;
«Учиться у стального солдата Май Сяньдэ»;
«Учиться у товарища Цзяо Юйлу!»;
«Учиться у сына вьетнамского народа Жуань Вэнь Чжуя!»;
«Учиться у дочери вьетнамского народа Чжэнь Цзу»;
«Принимайте участие в митинге против японо-корейского договора»;
«Принимайте участие в митинге по случаю 5-летия создания фронта национального освобождения Южного Вьетнама»;
«Посетите музеи «Шоу цзу юань»;
«Искренне вспоминая о тяжелом прошлом и думая о сладком будущем, получайте классовое воспитание»;
«Учитесь у Дачжая!»;
«Учитесь у Дацина!»;
«Учитесь у Армии постоянной готовности к нанесению удара по американским империалистам»;
«Учитесь у Ли Сувэня!»;
«Будьте образцовыми бойцами в изучении трудов председателя Мао»...
«Вьетнам и Китай — близкие родные товарищи и братья».
«Пекин — Тирана, Китай — Албания — героические города, героические страны».
«Началось извержение латиноамериканского вулкана, приходит конец американскому империализму».
«Я — негритянская девушка, моя семья живет в Черной Африке. Черная Африка, Черная Африка, черная ночь не поглотит тебя»...
Кругом лозунги, транспаранты, объявления, призывы. А мои мысли о том, что через три или пять дней мы получим великое и святое право громко петь.
На огромной афишной доске города вижу написанную маслом картину: стоящих рядом плечом к плечу председателя Мао и Энвера Ходжа; дальше картина, изображающая искреннее рукопожатие председателя Мао и Хо Ши Мина; за ними идут транспаранты с четко выписанными текстами: «Разобьем американский империализм», «Разобьем советский ревизионизм», «Китайско-албанской дружбе жить в веках», «Американский империализм будет разгромлен, Вьетнам победит»; «Никогда не забывайте о классовой борьбе» и другие.
Жуань Вэнь Чжуй и Чжэнь Цзу сменили дорогие нашему сердцу образы Зои и Шуры.
Я вместе со своей республикой пристально следил за обстановкой в мировом революционном движении пролетариата, за борьбой против империализма и ревизионизма. И совершенно не обращал внимания на то, что нам ежемесячно выдавали всего по кусочку мяса весом в 250 граммов; не обращал внимания на то, что норма продовольствия, которую установила мне наша республика в размере 14 килограммов на месяц, была совершенно недостаточна; не придавал значения тому, что в продовольственных магазинах покупали кукурузу пополам с ботвой, а в кукурузной муке часто пригревались насекомые; не придавал значения тому, что работу приходилось заканчивать при мерцании светлячков, так как купить электролампочку было не так то просто; не обращал внимание на то, что не мог поесть пампушки из белой муки, потому что их не было в продаже; не обращал внимание на то, что наши новые дома построены женщинами во время «большого скачка», когда призывали за один день осваивать 20 лет. В них зимой холодно как в ледниках, все стены, подобно холодильной камере, покрыты инеем, а летом через крышу протекал дождь, на поверхности стен выступала сырость; не обращал внимания на все, что касалось наших бытовых условий. Наша форма воспитания в сравнении с тяжелым прошлым, показываемым в музее «Шоу цзу юань», была более конкретной и глубокой. Если добавить другие виды учебы по методу «воспоминаний о тяжелом прошлом и думах о сладком будущем», то у меня не оставалось никаких оснований для каких бы то ни было обид на республику, на свое рождение под красными знаменами, я не имел никаких сомнений насчет счастья вырасти в Новом Китае.
Меня, ученика начальной школы, а затем и средней школы, всегда ждало участие в движениях, которым не было конца. Живые и мертвые герои, образцовые личности, передовики всегда требовали от меня идти плечом к плечу вместе с ними на учебу, которой тоже не было конца. Я не переставал радоваться. Считал, что в меня вселяется истинный смысл человеческой жизни. За время учебы в начальной школе, с первого по шестой класс, из всех движений, которые врезались в память, я участвовал в трех: в движении за большую сталь — я тогда отнес в школу малый семейный котел, после чего мать в одном котле и варила, и жарила всю пищу.
Участвуя в коммунистическом движении, я и мои однокашники организовали агитационную группу, в автобусах и экспериментальных магазинах мы убеждали людей, что самообслуживание — это первый шаг к претворению в жизнь коммунистических начал. Мы задерживали и подвергали критике и воспитанию тех, кто выходил из автобуса, «забывая» опустить деньги в кассу, или, набрав в магазине продуктов, уходил из него, не торопясь расплатиться. Я ненавидел таких людей. Из-за их очень низкого сознания мы пятились назад от коммунизма, осуществление его мало-помалу становилось проблематичным. Вскоре эти экспериментальные автобусы и магазины полностью исчезли. Так как наше население радовавшееся тому, что, входя в автобус не видит кассира, продающего билеты, радовавшееся тому, что из магазина можно принести то, в чем нуждаешься, тем не менее не хотело приобретать хорошую привычку самим опускать деньги в кассу в отсутствие контролера. Несмотря на то, что мы не покладая рук пропагандировали эту привычку, способную привести их в идеальное коммунистическое царство, они в большинстве своем по-прежнему не хотели становиться сознательными. Замечательную идею создать коммунизм пришлось объявить безвременно скончавшейся. Все мы — и я, и мои однокашники — из-за этого страдали, разочаровывались, плакали от переживаний.
Движение по ликвидации куколок насекомых, в котором мы участвовали, было сражением из серии «народных войн» за искоренение «четырех зол». Все учащиеся школы, построившись в колонны, под звуки гонгов и барабанов с песней «Истребим 4 зла» огромной массой вливались в школьный сад; построенные по классам, окружали общественные туалеты и начинали «бой на уничтожение». Призыв звучал громко и воинственно: «Истребить одну куколку — равносильно искоренению глубоко укрывшегося классового врага». Это был великий призыв. Поскольку он вмещал гибкую изменчивую формулу. К примеру, если ты в письменной работе написал не тот иероглиф и сам отыскал ошибку, да еще и исправил ее, то это приравнивалось к тому, как если бы ты обнаружил классового врага и при том еще и уничтожил его. Или приравнивалось к тому, что ты уничтожил американского дьявола и тем помог вьетнамскому народу в его освободительной борьбе. Позже, когда учащихся школ направляли на работу в деревню, с ним произошла следующая метаморфоза: он призывал уже искоренять сорные травы и приравнивался к истреблению классового врага. С другой стороны, если ты срубал тяпкой рассаду, это, естественно, равнялось тому, что ты на поле боя нечаянным выстрелом убил боевого друга. Одно такое событие ярко запечатлелось в моем мозгу. Однажды во время работы в деревне одна близорукая соученица срубила тяпкой ростки рассады. Ее одноклассники устроили собрание ее критики. Она, заикаясь, объясняла: «Я была невнимательна, не сосредоточилась...» Услышав такое объяснение, все соученики наперебой стали возмущаться: «А почему ты не сосредоточилась? То, что ты сделала, равносильно убийству боевого друга в своих рядах! Ты преступница! Твоя тяпка обагрена кровью боевого товарища!»... Довели ее до того, что она два дня не ела. Держа в руках те ростки, она, обливаясь слезами, твердила: «Я была невнимательна, простите меня. Я была невнимательна, простите меня»...
Впоследствии, в годы «культурной революции», поступкам, к которым приводило такого рода мышление, не было конца. Я и сейчас помню, что верил в возможность «вырастить» поколение людей почти одной модели, для этого надо отгородиться от внешнего мира, всех детей, родившихся, например, в 1987–1988 годах подвергнуть «специальному» воспитанию в любом каком-либо избранном направлении, и через 20 лет получим поколение людей, искренне верящих в то, что им привили. И в этом не будет ничего удивительного.
К моему стыду я, учащийся средней школы, очень интересовавшийся делами своей страны и всего мира, весть о «великой пролетарской культурной революции» получил от сборника старья дяди Лу. В тот день он переступил порог нашего дома и, расплывшись в широкой улыбке, без всяких предисловий выпалил:
— Эй, слушайте, надо снова браться за дело!
Мать, я, двое младших братьев и сестра как раз сидели за столом на кане и ужинали. На столе, как обычно, у каждого была пиала кукурузного зерна, пампушка, тарелка соленых овощей, блюдце с соевым соусом, головка лука.
Мать с пиалой в руках, подняв голову, взглянула на дядю Лу, неторопливо спросила:
— За какое? Опять за санитарию?
Несколько дней назад нам из психиатрической больницы прислали счет с просьбой быстрее внести плату за лечение брата — триста с лишним юаней. Часть денег мать заняла, но нужной суммы еще не набрала; несколько дней сильно переживала, ходила хмурая, расстроенная, сама не своя.
Что касается меня, то я как школьник был занят проблемами оказания помощи вьетнамскому народу в его борьбе против Америки, а также взял на себя заботы по переустройству домашнего очага семьи Цзяо Юйлу из Ланькао после его смерти. В то же время я был на перепутье, раздумывал, как мне быть дальше: продолжать учебу в школе или прервать ее и поступить на временную работу, помогать семье. Я знал, что мать совсем без энтузиазма воспринимала требования уличного комитета о ежегодных весенних санитарных проверках.
— Уважаемая невестка, я говорю о желании многоуважаемого председателя Мао начать новое движение! Во всех больших делах в Поднебесной то, что давно едино, надо разобщить, а то что давно разобщено, надо объединить, — безапелляционно, в высшей степени торжественно, как крупный политик, заявил Лу.
— Не болтай, если люди услышат, то подумают, что распускаешь ложные политические слухи, вносишь смятение в души людей! — предостерегла его мать.
— Эх, уважаемая невестка, я человек, которого сняли с должности за ошибки, неужели я осмелюсь еще и распускать политические слухи? Я сегодня собрал кипу газет, среди них «Бэйцзин жибао» с большой критической статьей. Разве движение 57-го года начиналось не с газет?
— А-а-а, — мать протяжно вздохнула, рассеянно ответила, — если снова надо начинать, то многоуважаемый председатель Мао должен об этом позаботиться. Если он считает, что надо начинать, то пусть он и начинает.., — помедлив, она спросила, — дядя Лу, ты можешь помочь мне, занять денег? Надо уплатить твоему племяннику за лечение...
— Это ..., — Лу остановился в нерешительности, потом успокаивающе сказал, — я помогу тебе найти способ. Не беспокойся, когда телега уперлась в гору, надо искать дорогу... Я вижу, что деревушка Саньцзяцунь попала в тяжелое положение! От судьбы не уйти!
— В деревне снова стихийное бедствие? — мать опять вздохнула, с печалью в голосе спросила, — В ЦК так много кадровых работников, и что, некому внести предложение многоуважаемому председателю Мао, чтобы не начинал движение? Сначала надо справиться с бедствием!
— Да не о бедствии в деревне я говорю. Когда я говорю о деревне Саньцзяцунь, я имею в виду деревню Унаньсин, — это был кивок в мою сторону. — Какая еще звезда?[4] Разве компартия не выступает против суеверия? А может быть ты говоришь об астрологии? — разъяснение дяди Лу еще больше сбило мать с толку, напустило туману. Она с тревогой посмотрела в его сторону, полагая, что он снова хватил лишнего.
Дядя Лу действительно выпил, но я видел, что он не пьян.
— Как бы долго ты ни слушала, все равно не поймешь. Унаньсин — это человек, он написал книгу под названием «Посиделки в Яньшане». Газеты критикуют ее, считая, что она пропагандирует буржуазную идеологию... — дядя Лу пытался втолковать моей неграмотной матери, чтобы она поняла и поверила, что пора начинать такое серьезное политическое движение.
— «Посиделки в Яньшане» написаны не Унаньсином, а Дэн То, — поправил я дядю Лу.
Я уже прочитал «Посиделки в Яньшане». Читал также и «Саньцзяцуньские записки». После издания этих двух сборников публицистических статей и опубликования сборника «Найти жемчужины в океане культуры», подготовленного Цзи Циньму, они привлекли внимание учащихся средних школ вызвали множество споров, ими зачитывались, передавая друг другу. Статья «Нищета», пользовавшаяся популярностью среди учащихся, как выяснилось, принадлежала перу Ху Фэна. Но я тогда еще ничего не знал об их авторах. Не знал, что Дэн То начальник отдела пропаганды Пекинского горкома, также, как не знал, что «Унаньсин» — это псевдоним трех писателей: Дэн То, У Ханя и Ляо Моша. Я даже считал, что Дэн То и Унаньсин — это два разных писателя.
— А ты, дитя, чего вмешиваешься в разговоры взрослых? — возмутился дядя Лу из-за того, что я указал ему на его неточность.
Я не стал с ним спорить, бросил еду и, сжав пальцы в кулаки, выскочил во двор. У его дома я увидел кучу старых газет и среди них ту самую «Бэйцзин жибао», о содержании которой дядя Лу поведал нам с матерью.
Прямо на первой полосе я увидел два заголовка: «Саньцзяцуньские записки» и «Посиделки в Яньшане», две больших статьи вольготно раскинулись на целых три полосы.
Это была газета за 16 апреля.
Я моментально пробежал глазами обе статьи. Не зная, когда дядя Лу уйдет из нашего дома, я стоял перед окном дядя Цзяна, потом громко позвал его:
— Старший брат Цзян, ты читал «Бэйцзин жибао» за 16 апреля?
— Я выписываю только «Харбин вань бао», как я мог прочитать «Бэйцзин жибао»? — послышался из окна ясный ответ дяди Цзяна.
— У меня она есть, возьми прочитай!
— Нет времени!
— Старший брат Ма, старший брат Ма! Ты дома? — к окну подходил дядя Лу.
— Что там у тебя? Чего кричишь на весь двор? — тощая фигура Ма появилась у окна своего дома.
— Ты такой интеллигентный и грамотный человек, наверно, интересуешься политикой? Читал «Бэйцзин жибао» за 16 апреля?
— Читал, — спокойно ответил Ма.
— И какое же у тебя мнение? Наверно снова надо начинать какое-то политическое движение? — дядя Лу рассчитывал найти человека, который возможно разделяет его мнения. Он сел на подоконник дома Ма. Дядя Ма разочаровал его:
— Имею честь объявить вам, что вопросы политики я не обсуждаю. Дядя Лу тактично спрыгнул с подоконника. Из двери своего дома во двор неторопливо вышел дядя Чжан, шутливо спросил:
— Чего это ты, Лу Эр Е, так заинтересовался политикой?
Лу захохотал:
— А что тут такого? Что, если я старьевщик, то не могу интересоваться политикой? Если я, Лу Эр Е, благодаря заботам многоуважаемого председателя Мао после потери работы все же смог в нашей социалистической семье выжить, то не интересоваться политикой крайне неблагодарно!
Дядя Чжан продолжал шутить:
— Не прикидывайся активистом, если снова развернется какая-нибудь кампания, то тебя обязательно будут исправлять!
— Исправлять меня? — повысил голос дядя Лу, — если даже теперь я, Лу Эр Е, не считаюсь рабочим по форме и по существу, то все равно никогда не исключался из рядов рабочего класса. По крайней мере, каждый должен признать меня люмпен-пролетарием! Достаточно того, что я все еще ближе всего подхожу к рабочему классу. Многоуважаемый председатель Мао без сомнения не станет безжалостно выправлять мою голову!
— Хорошо, в твоих словах есть резон! — захохотал дядя Чжан. А вот уже и тетя Лу вышла во двор. Она взяла за руку дядю Лу и потащила домой, приговаривая:
— Пойдем домой! Пойдем домой! Выпил и слоняешься от дома к дому, ведешь пустые разговоры. Разве не докучаешь людям?
Дядю Лу увели, а я, оцепенев, стоял, как вкопанный, с газетой «Бэйцзин жибао» в руках и с досадой бормотал сам себе: «Не одного его, весь наш двор интересует политика. Хорошо еще, что наш двор назвали «двором хорошего содержания».
Дядя Цзян вслед ему крикнул:
— Ладно, хватит! Говорить о политике, не говорить о политике. Как будто ты член Политбюро! Ты бы не напивался, да не лазил по крышам домов с ножом да с топором, вот тогда был бы самым выдающимся политиком! Неси шахматы, сегодня я сражусь с тобой умом и не уверен, что не выиграю у тебя!
— Выиграешь у меня?! Ты, Цзян, слишком молод! — настроение дяди Лу сразу поднялось, он воспрянул духом.
И тогда они сели за шахматную доску.
В это же самое время из дома Ма полилась музыка кларнета и трубы: исполнялась ария из фильма «Пришелец с ледника» — «Почему такие красные цветы?».
А мое сердце наполнилось беспокойством за мать, сидевшую во дворе в компании женщин и искавшую у них успокоения и сочувствия.
Я, по-прежнему держа в руках «Бэйцзин жибао», сел на кучу старых газет дяди Лу и размышлял: что на самом деле представляет собой эта критическая статья, сигнал к действию? Выходит приближается серьезное политическое движение? Я не совсем верил предсказаниям старьевщика дяди Лу. Газета — за 16 апреля, сегодня — уже 21 апреля. И за эти дни ничего не случилось?
А ария «Почему такие красные цветы» продолжала звучать. То квартет Ма и Лоу доигрывал свою самую лучшую арию.
Что касается писателей Дэн То и У Ханя, то я тайно в душе досадовал на них. Я сравнительно раньше других узнал имя У Ханя, так как читал написанные им «Рассказы о Чуньцю» и «Рассказы о воюющих царствах». Судя по тем статьям, критика в их адрес обоснованна и аргументирована, трудно возразить. Две книги, которые я прочитал, по существу пропагандировали буржуазное мировоззрение и образ жизни. Я досадовал не только из-за того, что они ошибались, но и из-за того, что я сам оказался обманутым.
— Мат! Ты безнадежно проиграл! — вдруг послышался Радостный голос дяди Лу, довольного достигнутой победой. Дул легкий весенний ветерок. Слабо покачивались ветки вяза, отягощенные сочными зелеными плодами. Не обращая внимания на людей, светила луна, щедро разбрызгивая на наш большой двор свои лучи, подобные водяным струям. Мужчины, женщины и дети двора после зимней тоски в этот прекрасный вечер, похоже, больше не хотели сидеть дома.
Двое шахматистов снова расставили фигуры. Дядя Чжан, ожидая своей очереди, стоял рядом, выкрикивал подсказки.
Со стороны женщин донесся ясный благодушный смех матери. Я давно не слышал, чтобы мать смеялась.
Даже дядя Сунь, обычно не находивший общего языка с людьми, перешагнул порог своего дома. Сказав скорее всего самому себе: «Сегодня вечером очень весело во дворе», — снова зашел в дом и вскоре вернулся со стулом в руках. Поставив его у двери своего дома, сел, держа в руках приемник с наушниками, не зная, что бы послушать.
Два моих младших брата, младшая сестра и другие дети двора собрались у окна семьи Ма и спокойно слушали слаженную игру кларнета и трубы.
Мелодия песни «Почему такие красные цветы» привольно растекалась по двору.
Тогда мне и в голову не приходило, что тот вечер будет последним проведенным совместно. Мирным, дружеским, спокойным, радостным вечером для всех жителей двора, проведенным совместно.
Тот незабываемый вечер до сих пор стоит в моей памяти...
ГЛАВА 3
Учителем китайского языка и литературы у нас была женщина по фамилии Лун, получившая образование на факультете китайского языка в Ляонинском университете. Ей было за 40 лет, по комплекции она была несколько полноватая. На следующий день, придя на урок, она первым делом сказала:
— Поднимите руки, кто читал газету «Бэйцзин жибао» за 16 апреля.
Я посмотрел по сторонам, все сидели без движения, в нерешительности я поднял руку.
Ее взгляд остановился на мне, задержался надолго. Похоже она молча выжидала, не выявится ли еще кто-то.
Прошло несколько минут, но больше никто так и не поднял руку.
— Опусти! — наконец сказала она мне.
Лун сняла очки, вынула носовой платок и долго вытирала лицо. Глядя на коробку с медом, задумалась. Ее лицо выражало беспокойство. Как будто она предчувствовала какую-то опасность, но еще не знала, как защититься от нее.
Ее необычный вид удивил нас. Учащиеся, сидевшие рядом со мной, уставились на меня.
Наконец, она подняла голову, посмотрела на всех и тихим голосом проникновенно сказала:
— Ребята, сегодня я прежде всего хочу перед вами покаяться, признать свою ошибку. На прошлой неделе для того, чтобы дать вам направление в подготовке к написанию сочинений по публицистическим статьям, я в классе прочитала вам некоторые статьи из «Посиделок в Яньшане» и «Саньцзяцуньских заметок». Сейчас эти два произведения подвергаются критике как пропагандирующие буржуазные идеи. Те несколько статей, что я вам цитировала, являются самыми серьезными в эти двух изданиях... Я... я уже передала руководству школы письменное самокритичное признание... мое идейное сознание невысокое, у меня очень низкий уровень познания и критические способности, вплоть до того, что... на занятиях в классе непосредственно распространяла вредные идеи... Я чувствую необходимость извиниться перед вами... ощущаю угрызения совести. Я буду приветствовать, если мои ученики серьезно раскритикуют меня... Я... я гарантирую, что в будущем никогда не допущу ошибки подобного... характера. На сегодняшних занятиях публицистические сочинения писать не будем, напишите пересказ, тема любая... по вашему выбору.
Когда она закончила свой монолог, на лице выступил пот, она снова вынула носовой платок и вытерла лицо.
Когда все погрузились в написание сочинений, она потихоньку подошла ко мне и едва слышно сказала:
— Ты выйди, учителя хотят поговорить с тобой.
Я следом за ней вышел из класса, она плотно притворила дверь и сказала:
— Из всего класса лишь ты один прочитал те статьи в газете «Бэйцзин жибао» за 16 апреля, ошибка учителя очень серьезная и если у тебя есть еще какое-то мнение по поводу сегодняшней самокритики учителя, надеюсь ты сможешь сказать непосредственно учителям...
Мои успехи в языке и литературе всегда были довольно хорошие и я был одним из любимых ее учеников.
— Нет, нет! — без тени сомнения покачал я головой. Она тем не менее продолжала:
— Так уж и нет? Ты напрямую скажи учителям, все взвесь и скажи. Как бы остро ты не высказался, учителя в глубине души могут быть признательны тебе...
— Нет, учитель, честно! — от волнения я покраснел. Я никак не мог понять, почему она придавала такое большое значение своей ошибке. Об этом я узнал лишь позже. Она принадлежала к тем, на ком висел и с кого был снят ярлык «правый».
— Возможно... учителя подумают, что ты допустил ошибку... — она, видимо, почувствовала, что оказывает на меня давление, с сожалением горько улыбнулась и замолчала.
Сельские населенные пункты вокруг Харбина охватило серьезное бедствие, вызванное саранчой. Через два дня все учителя и учащиеся нашей школы отправились в северную часть реки Сунгари. Зерновые уже достигли высоты больше одного чи,[5] только что начали наливаться колосья. Зеленые личинки саранчи толщиной с карандаш и длиной со спичку, боясь солнца, в дневное время прятались под листьями растений, но продолжали пожирать их. Боже мой, как жаль!
На тыльных стенах сельских избушек, обмазанных глиной, известью написаны лозунги: «Главный путь подъема сельского хозяйства заключается в его механизации», «Добьемся высоких и устойчивых урожаев, выполним план третьей пятилетки», «Учиться у Дачжая» и другие подобные призывы. Из-за непрерывных наводнений здесь в течение двух лет не собирали никакого урожая, в этом году производственная бригада дошла до того, что уже не могла купить ядохимикаты. Имевшийся у нее старый разбитый распылитель настолько обветшал, что им уже нельзя было пользоваться. Единственная надежда на помощь в борьбе с бедствием возлагалась на нас — учащихся средних школ.
Метод борьбы у нас насколько простой, настолько и варварский. Надеваешь перчатки и давишь их пальцами. Сколько на земном шаре этих зеленых тварей! К счастью, китайцев тоже немало. Поддерживать деревню — долг учащихся.
Вначале мои соученики не осмеливались даже приближаться к месту бедствия. Особенно боялись перейти рубеж девочки. В перчатках на обеих руках они, рассредоточившись, стояли на краю поля, как на кромке обрыва, съежившись от страха. Учительница поторапливала их. Делать нечего, перепуганные насмерть, они переступали межу поля и в страхе приседали, дрожащими руками переворачивали листья. Зеленые личинки вдруг являлись их взору, приводя в трепет. Одна за другой они вскрикивали до потери голоса, подпрыгивали и убегали. Некоторые дрожали в ужасе. Другие с испугу побледнели, обливаясь холодным потом.
Мальчишки, обычно претендовавшие на храбрецов, здесь не захотели проявить свою отвагу.
Учительница тоже боялась. Но подавляя свой страх, она показала ученикам, «пример». «Пример» не имел никакого эффекта. Тогда она, посадив нас на краю поля, организовала обучение мужеству на примерах павших бойцов революции.
— Подумайте каждый, разве повел бы себя так Май Сяньдэ, если бы сейчас был вместе с нами? — Мои однокашники стыдливо опустили головы. — Подумайте еще раз, павшие революционеры не побоялись смерти от штыков контрреволюции, а мы сегодня испугались даже личинок, уничтожающих посевы. И вам не стыдно?
Наши головы склонились еще ниже, но по-прежнему не нашлось ни одного смельчака, готового подать пример.
Наконец учительница выразила свое отношение к происходящему совершение четко:
— Как бы то ни было, а этот участок поля закреплен за нами. Раньше уничтожим саранчу, раньше вернемся в школу и начнем занятия. В сравнении с другими средними школами первой ступени мы и так уже отстали, и не пеняйте потом на учителей, если вы не перейдете на высшую ступень.
Все стали поднимать головы. В душе мы лучше учителя понимали, что для нас означает перспектива не попасть на высшую ступень средней школы.
И тогда мы молча направились в поле, которого боялись.
То была «война» человека с миллионами личинок саранчи. Не знаю в какой еще стране мира, кроме Китая, в шестидесятые годы 20-го столетия такими способами боролись с саранчой. Так же, как не знал тогда сколько еще было на земле нашей республики площадью в 9600000 квадратных километров таких же деревень, которые не могли купить ядохимикаты и опрыскиватели. И тем более не знал, что права нашего поколения на продолжение учебы уже были ликвидированы.
Во время еды многих учеников постоянно рвало. Одной самой боязливой ученице в штанину залезло несколько личинок саранчи. Укрыться было негде, чтобы снять брюки и вытряхнуть их оттуда, она так перепугалась, что упала в обморок, забилась в судорогах. Но ради того, чтобы быстрее возвратиться к занятиям в школе, каждый с величайшим мужеством преодолевал страх.
Однако шаг за шагом надвигалась «Великая пролетарская культурная революция». Мы были обречены ею на одурачение, как говаривал старьевщик дядя Лу, от судьбы не уйти.
В деревне на севере реки Сунгари провели первомайский праздник. После завершения сельского труда три дня отдыхали.
В тот день, когда мы должны были снова сесть за парты, звонок на первый урок звенел очень долго, а учителя не показывались. Они находились у руководства школы, проводили какое-то «экстренное собрание».
Неожиданно из громкоговорителя, установленного справа от двери, донесся голос директора школы: «Всем учащимся школы! По решению руководства и всех учителей сегодня занятия отменяются. Слушайте главный громкоговоритель. После его передач состоится общешкольное собрание!».
Что случилось? Может быть американские самолеты и военные суда вторглись в священные пределы нашей республики? Или в войне с Америкой вьетнамский народ достиг крупных побед? Или ревизионистская группа Хрущева снова подняла антикитайскую шумиху? А может Чан Кайши опять направил на континент своих шпионов? Или представитель зарубежного ведомства нашей страны снова сделал некое торжественное заявление или решительный протест?
Весь класс шепотом на ухо друг другу пытался предугадать, что же произошло. Включили громкоговоритель. Суровый мужской голос начал штурмовать наши барабанные перепонки: «Откроем огонь по черной антипартийной и антисоциалистической банде. Председатель Мао всегда предупреждал нас: после ликвидации вооруженного врага невооруженный враг все еще будет существовать, он обязательно будет вести с нами борьбу не на жизнь, а на смерть. Мы ни в коем случае не можем игнорировать этого врага...»
Я сразу же вспомнил предвидение старьевщика дяди Лу: «Многоуважаемый председатель Мао снова намерен начать движение». После пережитого во время уничтожения саранчи я стал нервным, по ночам часто видел сны, во сне по мне ползала масса личинок саранчи и грызла меня. Да, рано было забыто предсказание дяди Лу в тот незабываемый вечер.
В конечном счете все шло так, как предсказал дядя Лу. Тот же суровый голос продолжал звучать, каждое слово все громче, каждая фраза все сильней, наполняясь чувством справедливости, всеподавляющей воинственностью. Он заставлял мое сердце стучать сильнее, а тело — наполняться волнением... Почти каждое слово, каждая фраза вызывали в моем сердце трудно сдерживаемое беспокойство.
«Классовый враг не только извне, но и изнутри изо всех сил подрывает нас, атакует нас. Главным объектом нападок всех антипартийных и антисоциалистических элементов являются наша партия и социалистический строй.
Дэн То является хозяином воровского притона «Саньцзяцунь», основанного им вместе с У Ханем и Ляо Моша, он главарь горстки антипартийных, антисоциалистических элементов... выпускает массу отравленных стрел, бешено нападает на партию, на социализм...
Дэн То и компания в такой обстановке начали действовать открыто... Дэн То и его компания, охваченная лютой ненавистью к партии и социализму, клевещут на диктатуру пролетариата, изо всех сил подстрекают против социализма... безрассудно кричат о том, что партию пора быстрее отправлять на отдых...
Нет! Вы еще не отказались от своей позиции, она очень шаткая, она основывается на буржуазной платформе. Вы нисколько не ослабили классовую борьбу, классовой борьбе вы придаете серьезное значение, но борьбе только против пролетариата...
Вы первыми открыли огонь против партии, против социализма... Мы никак не можем позволить вам это, ни за что не позволим распоясаться всякой нечисти, мы непременно откроем огонь по черной антипартийной, антисоциалистической линии, доведем до конца социалистическую культурную революцию, не достигнув полной победы, мы не сложим оружия».
Радиопередача закончилась, комната, казалось, наполнилась пороховые дымом. Полная тишина, ученики без движения сидели на своих местах. Лица лишились обычной естественной живости, на них появилась суровая, застывшая в своей неподвижности серьезность, сидели как изваяния.
Этим историческим днем было 11 мая.
То боевое воззвание, явившееся прологом к полномасштабному развертыванию «культурной революции», было опубликовано в газете «Цзефан цзюнь бао».
В класс вошла классный руководитель с этой газетой в руках. Она была еше незамужней, старше нас всего лет на 7–8. В тот год, когда я сдавал экзамены для поступления в среднюю школу низшей ступени из начальной школы, она как раз по распределению прибыла в нашу среднюю школу из Харбинского педагогического института. Она была из семьи чистокровного рабочего кандидата в члены Коммунистической партии Китая.
— Товарищи, — ее голос от волнения дрожал, — Великая социалистическая культурная революция началась! В этой суровой борьбе по искоренению буржуазной черной линии мы отстаем. Мы должны смело броситься вперед! Прорваться в первые ряды! Сейчас я прочитаю вам передовую из газеты «Цзефан цзюнь бао» за 18 число «Высоко держа знамя идей Мао Цзэдуна, активно участвовать в «Великой социалистической культурной революции»...
В этой статье подчеркивалось: «После ликвидации этой черной линии может появиться следующая черная линия, и тогда снова надо бороться». «Эта борьба будет трудной, сложной и длительной, она потребует десятков и даже сотен лет напряженного труда». «Является делом перспективы революции в нашей стране, а также делом, касающимся перспектив мировой революции».
Позже мы узнали, что это были слова председателя Мао.
— Товарищи, — сказала классный руководитель после прочтения передовой, — через некоторое время на стадионе школы для всех учителей и учащихся начнется собрание по принятию присяги для активною участия в «Великой культурной социалистической революции». — Она окинула взглядом весь класс и, наконец, остановилась на мне. — Лян Сяошэн, ты подготовь речь, выступишь от имени нашего класса, — взглянув на часы, напомнила мне, — всего на 15 минут. Не пиши очень длинную, надо коротко. Главное — вырази четкую позицию и твердую решимость! Сегодня очередность устанавливаться не будет, наш класс — класс «четырех хорошо», поэтому обязательно надо постараться выступить первым!..
Мои мысли получили крылья. Сев верхом на классовую борьбу и борьбу линий, можно свободно парить в небесах, сделать головокружительную карьеру. Вовсе не обязательно класть это на линованную бумагу.
Единственно, чего я боялся, это того, что за 15 минут не успею написать соответствующую речь, похороню возможность для нашего класса «четырех хорошо» первым выразить с трибуны свою решимость вести пламенную классовую борьбу, а потом придется просить слова, и оправдываться. В это время в класс вошла учительница китайского языка и литературы.
«Учительница Яо, — обратилась она к классному руководителю, — можно мне занять несколько минут с учащимися? Есть чрезвычайно важное дело!»
Классный руководитель нахмурилась:
— Что вы им хотите сказать?
— Я... я еще раз хочу покритиковать себя перед учащимися... за серьезную ошибку — чтение им на занятиях «Посиделок в Яньшане» и «Саньдзяцуньских заметок». Нет! Не за ошибку, за преступление! Я... — учитель языка и литературы, речь которой всегда лилась свободно, в критической ситуации стала заикаться.
— Да-а-а... у нас осталось совсем мало времени! — возразила классный руководитель.
— Учительница Яо, я... я умоляю тебя! — в голосе учителя языка и литературы появились плачущие нотки.
— Подожди окончания общешкольного собрания и поговоришь с учениками! — классный руководитель заняла твердую позицию, не соглашаясь на обсуждение.
— Но я обязательно должна поговорить с ними до начала собрания! Учительница Яо, предоставь мне такую возможность!.. — она заплакала по-настоящему.
Классный руководитель неохотно отошла к окну, молча согласившись.
— Товарищи, — сказала учитель языка и литературы, вытирая платком слезы, — товарищи, моя самокритика перед вами в прошлый раз была неглубокой! Во время прошлой самокритики я еще считала, что Дэн То, У Хань, Лао Моша всего лишь пропагандируют буржуазную идеологию, не осознавала их антипартийную и антисоциалистическую сущность..., они — черная банда, они — контрреволюционеры с головы до пят, я тоже одна из деревни «Саньцзяцунь». Нет, нет, не принадлежу к ним, однако я... но я... — чем больше она волновалась, путаясь как сказать, кто же она есть на самом деле, тем непонятней говорила. Ее речь никогда не была такой.
Я сидел в первом ряду, совсем близко от нее. Мне отчетливо были видны ее глаза, из которых непрерывно лились слезы. Носовой платок, в который она вытиралась, был весь мокрый, у меня в носу защекотало. В душе я втайне переживал за нее. Я понимал, что она не преднамеренно прочитала нам в классе антипартийные, антисоциалистические черные статьи. Она просто хотела дать нам несколько образцов статей и не больше. Я тогда еще не знал, что она давно отмежевалась от правых, из-за этого ее муж разошелся с нею, забрал единственную дочь и долго не разрешал им встречаться. Потом ее отправляли на 4 года в колхоз на перевоспитание, и только 2 года назад с нее сняли ярлык «правой», под совместное поручительство многих ее взяли в школу на воспитание. Я считал, что могу не только болеть за нее, но и сочувствовать ей.
Сколько душевных сил она потратила, чтобы поднять уровень сочинений учащихся нашего класса! Этого не мог отрицать никто.
— Лян Сяошэн! — вдруг позвала меня классный руководитель. Я от неожиданности невольно встал с места.
— Ты не успеешь написать! — с некоторым раздражением сказала она. Я тут же сел, выхватил из портфеля бумагу и ручку, но нудные мысли не приходили, в голове все перепуталось.
— Учительница Лун, нельзя больше отрывать время учащихся. — Тон классного руководителя был недовольным и жестким.
— Я... я... — Учительница Лун больше не смогла сказать что-либо связное.
Не в силах сдержать своих чувств, я поднял голову, чтобы взглянуть на нее, но увидел лишь спину. Она уходила из класса. В двери обернулась, еще раз окинула взглядом учащихся нашего класса. Она до конца осознала, что на ее голову свалился злой рок. В расстройстве, похоже, продолжала что-то объяснять нам, защищаться от чего-то. Постояв в проеме двери, она, не поворачиваясь, медленно вышла.
Все ученики смотрели на дверь класса. Воцарилась мертвая тишина.
С этого времени она больше не вела у нас уроки.
— Ли Юаньчан, — позвала классный руководитель старосту, — когда начнется общешкольное собрание, ты будешь руководить провозглашением лозунгов нашим классом.
— Провозглашать... какие лозунги? — спросил староста, запинаясь.
— Те, что я напишу, — сказала классный руководитель, подходя ко мне. Она вырвала лист из моего блокнота и стала торопливо писать. Набросав текст, через учащихся передала в руки старосты и снова скомандовала:
— Ли Юаньчан, сейчас же выводи класс на стадион! Лян Сяошэн, а ты оставайся в классе, пиши речь.
Из коридора донесся топот ног. Какой-то класс уже отправлялся на стадион.
— Быстрей, быстрей! — с раздражением в голосе торопила классный руководитель.
И тогда учащиеся, как рой пчел, бросились из класса. В коридоре снова раздался топот.
Ровно через полминуты опять зазвучали шаги множества ног.
Под их грохот я написал строку: «Откроем огонь по черной антипартийной, антисоциалистической линии!»
Я оторопело стоял несколько секунд, глядя на эту строку и припоминал, где слышал такие слова. Ба, да это же заголовок газетной статьи, объявлявшей открытую войну, точная копия. Раздосадованный я дважды перечеркнул строку, снова написал: «На кого направлен удар тех, кто выступает против партий, против социализма?» И опять замер в изумлении. В моем мозгу вертелись слова, полные воинственности, и все они из тех двух статей, что напечатаны в газете «Цзефан цзюнь бао», ни одного собственного слова. Я никак не мог сосредоточить мысли, собрать воедино нужные слова, подготовить речь.
Наконец, во всем здании школы наступила тишина.
Моя учительница языка и литературы по-прежнему занимала мысли. То, что только что произошло с ней, отзывалось болью в моем сердце.
Ручка, которую я держал в руке, была подарена мне ею. Однажды, когда мы писали сочинение, она увидела, что я пользуюсь обычной ученической ручкой, обмакиваемой в чернила, и удивленно спросила:
— Ты почему не пользуешься авторучкой?
— Потерял, — ответил я.
— Тогда купи другую.
Я одну за другой утерял две авторучки и не хотел снова просить деньги у матери. Трудно было говорить о сокровенном, выкладывать сердечные тайны, да и не хотелось объясняться, поэтому я, склонив голову, усердно писал, не отвечая.
Она видела, что я не привык к такой ручке, черточки получаются то толстые, то тонкие и молча положила мне на парту эту ручку с золотым кончиком.
После занятий я зашел в учительскую вернуть ей авторучку.
— Я слышала от учеников, что у вас в семье есть трудности. Это так? — спросила она.
Я кивнул головой.
— А этой ручкой писать удобно?
Я опять кивнул.
«Тогда дарю ее тебе. Я всегда писала ученической ручкой и привыкла к ней, авторучкой пользуюсь редко. У меня есть еще шариковая», — сказала она.
— Это же ручка с золотым кончиком, как я могу...
Она прервала меня:
— Быстро бери и уходи, не отнимай у меня время. Мне надо проверять сочинения.
Возможно из-за того, что эту ручку подарила мне она, я больше их не терял.
— Лян Сяошэн, ты почешу сидишь здесь как отрешенный? Учителя скоро обозлятся на тебя до смерти! — в класс влетела запыхавшаяся ученица, выкрикнула и исчезла как ветер.
Беда! Общешкольное собрание уже началось! Снаружи в класс долетали звуки выкрикиваемых лозунгов:
Разгромим Дэн То! Разгромим У Ханя! Разгромим Ляо Моша!
Разгромим черное гнездо «Саньцзяцунь»!
Разгромим антипартийную, антисоциалистическую нечисть !
Хотя я написал всего лишь заголовок выступления, я не посмел медлить ни минуты. Не долго думая, вырвал листок с заголовком и стремглав выскочил из класса. В один момент слетел с третьего этажа на первый и что есть силы помчался на стадион. Только там перевел дух.
На стадионе стояло несколько столов, служивших временной трибуной. За столом чинно сидело руководство школы, а учащиеся по классам сидели на земле, сложив ноги по-турецки. Представитель одного из классов как раз, держа в одной руке микрофон, в другой — текст выступления, громко с пафосом произносил речь. Несколько десятков выступающих, плотно прижавшись друг к другу, стояли в затылок выступающему, как бы боясь, что кто-то втиснется между ними. В тот день дул сильный ветер, неся песок по стадиону и покрывая всех песком и пылью.
Неожиданно передо мной возникла классная руководительница, на лице крайнее разочарование и немедленный вопрос ко мне:
— Что ты делал в классе? Написал текст выступления?
Я не посмел сказать ей, что, кроме заголовка, ничего нет, небрежно ответил:
— Написал.
Она поверила и подтолкнула меня в сторону «трибуны»:
— Иди быстрее, в речь побольше эмоций вкладывай!
Когда очередь дошла до меня, я прежде всего выкрикнул череду призывов из серии «разгромим», потом громко, быстро затараторил: «Мы, революционные учащиеся, будем решительно бороться в первых рядах классовой борьбы. Мы торжественно клянемся председателю Мао, что встанем в строй добровольцев, идущих на верную смерть в первых рядах на фронтах классовой борьбы! Нам не страшны сотни, тысячи, десятки тысяч схваток в борьбе с черной антипартийной, антисоциалистической бандой! Пока мы живы, до тех пор будут существовать социалистические завоевания! Победа будет за нами, потому что мы владеем идеями Мао Цээдуна — этим острым оружием классовой борьбы! Работая в деревне, мы своими руками уничтожали саранчу, а сейчас этими же руками удушим черную банду, несущую угрозу нашей партии и социализму!»...
Вот такую речь я с трудом сочинил в критический момент, пока в течение 20 минут ждал своей очереди для выступления. Хотя у меня и не было написанного выступления, эффект получился очень хороший, а настроение поистине стало прекрасным. Вот таким путем создавалась боевая атмосфера и ненависть к общему врагу, я уже начал полностью верить, что Дэн То, У Хань, Ляо Моша безусловно являются антипартийными, антисоциалистическими элементами черной банды, что кроме них существуют и другие антипартийные, антисоциалистические элементы разных мастей, которые пока не раскрыли свое контрреволюционное лицо. Если бы не это, то зачем бы председатель Мао стал разворачивать «Великую социалистическую культурную революцию»? Зачем газета «Цзефан цзюнь бао» одну за другой публикует критические статьи, наполненные запахом пороха? Народно-освободительная армия Китая уже отмобилизована, перешла на боевую готовность. Как мог я — человек, родившийся в новом Китае, выросший под красными знаменами, учащийся средней школы, безгранично горячо любящий партию и социализм, член Коммунистического союза молодежи — остаться в стороне от движения, касающегося жизни и смерти нашей партии и государства?!
Когда я возвратился в класс и сел, я был по-прежнему крайне взволнован. Во время моего выступления песок слепил глаза, но тогда мне было не до того, чтобы вытирать их, а здесь против моей воли слезы градом хлынули из глаз. Из-за спины подошла классная руководительница и села рядом со мной, подала мне свой носовой платок.
— Очень хорошо. Ты выступил очень хорошо. Твой энтузиазм тоже что надо! Правда, учителя рассердились на тебя, но ты не обижайся. — Она, наверно, подумала, что слезы мои идут от чрезмерного сердечного волнения.
Директор школы в своем выступлении, между прочим, отметил: «В своей речи представитель восьмых-девятых классов сказал: «Работая в деревне, мы своими руками уничтожали саранчу, а сейчас этими же руками удушим черную банду, несущую угрозу нашей партии и социализму!» Это — чувство горячей любви к нашей партии и социализму, это наш пролетарский справедливый гнев против антипартийной, антисоциалистической черной банды!»
В истории нашей школы это был, пожалуй, первый случай, когда ее директор процитировал слова своего ученика.
Классный руководитель тепло, сердечно улыбаясь, смотрела мне в глаза. Я ощущал безграничное чувство своей значимости, бесконечной гордости, наивысшего удовлетворения.
Рядом с директором школы появилась учительница китайского языка и литературы, с выражением крайнего уважения и почтения она склонилась к нам и сказала: «Уважаемый директор, я в нескольких классах прочитала учащимся ряд статей из «Посиделок в Яньшане» и «Саньцзяцуньских заметок», и хотя я уже написала письменное признание своих ошибок, однако покаялась неглубоко. Разрешите мне воспользоваться этим собранием, выступить с самокритикой.» Она говорила вблизи микрофона и мы слышали ее просьбу. Директор школы, не взглянув на нее, продолжал свое выступление: «Эта Великая социалистическая культурная революция в будущем обязательно из Пекина распространится на всю страну, из общества перекинется в наши школы»...
Учительница языка и литературы склонившись стояла подле него, надеясь дождаться конца речи, чтобы попросить слова.
Закончив выступление, директор школы даже не взглянул в ее сторону. Она снова лишилась возможности открыто перед лицом школьников самокритично признать свои «ошибки».
Когда несколько учащихся перетаскивали в здание школы столы, стулья и радиоаппаратуру, она в растерянности все еще стояла там... Начали громить словом, продолжили пером и кистью.
Все классы направили своих учеников в общую канцелярию за бумагой, чернилами, тушью и кисточками. Начали писать крупными иероглифами боевые воззвания, клеймящие «черную банду», или рисовали карикатуры.
Наш класс прежде всего написал огромный лозунг: «Решительно станем на сторону председателя Мао, поклянемся довести до конца смертельный бой с антипартийной, антисоциалистической бандой!» — и вывесил по обеим сторонам входной двери школы. Он всему обществу четко заявил, под каким флагом выступают революционные учителя и учащиеся нашей школы, а также компенсировал то, что наш класс «четырех хорошо» не смог первым выразить свою решимость на общешкольном собрании.
«Боевые воззвания» рождались исключительно экспромтом, Я написал слова: «Дэн То, У Хань, Ляо Моша», другой сразу же добавил: «Они втроем одна семья», а третья фраза родилась еще быстрее: «Они выступают против партии, против народа». Четвертую строку кто-то придумал заранее: «Ты спроси, надо убивать?» И все вместе подобрали хорошо подошедшую конечную рифму: «О чем еще спрашивать? Надо убивать!» Слова «надо убивать» решили повторить дважды. И еще добавили: «Дадим им расчет и отправим домой!!!»
Многие, стоявшие рядом, давали советы, свои дополнения. В конечном счете в коридоре приклеили свежее, с еще невысохшей тушью «боевое воззвание»:
Дэн То, У Хань, Ляо Моша, Они единая семья, Они против партии, против народа. Спроси, ты, надо убивать? Убивать надо! Убивать надо!! Дадим им расчет и отправим домой!!!Вскоре стиль стихосложения в виде «боевых воззваний» стал популярным, из школы выплеснулся за ее пределы, миллионы девочек, прыгая со скакалками, пели «революционные песни». От одних девочек они передавались другим, не смолкая долгие годы, их пели примерно до 1976-го.
Когда меня нашла классный руководитель и привела в учительскую, там уже все учителя тоже жонглировали кистями и тушью.
— Ученики говорят, что у тебя есть «Посиделки в Яньшане» и «Саньцзяцуньские заметки» — эти две черные книги, это правда? — спросила она.
У меня они были, но мне было непонятно, какой смысл вкладывала классный руководитель в свой вопрос. И как, всякий учащийся, я по врожденному инстинкту стал защищаться, сразу же отрицательно покачал головой:
— Нет, нет! Ученики ошибаются.
— А я уверена, что есть! Учителя хотят, чтобы ты пожертвовал их для учащихся. Пусть пользуются ими как материалом для критики, — сказала она.
— Может и есть... я точно не помню, когда вернусь домой, поищу, — ответил я уклончиво.
Учительница, как раз писавшая «боевое воззвание», держа в руке кисть, сказала:
— Учительница Яо, если он найдет, пусть позже передаст нам, учителям химии, мы тоже используем для критики. Никто из нас до сих пор еще не читал их, — она снова вернулась к своему занятию.
Я успел разглядеть написанное ею: «В этих двух черных книгах «Посиделки в Яньшане» и «Саньцзяцуньские заметки» заключена реакционная сущность, острие их атаки направлено на партию и председателя Мао».
В нашей школьной библиотеке этих двух «черных» книг тоже не было. Спрашивается, сколько же тогда учителей и учащихся всей школы прочитали их? Никто не знает!
Сколько человек по всей стране в таком случае прочитало их? Один из тысячи? Один из десяти тысяч? Или один из ста тысяч?
Но рабочий класс критиковал, крестьяне-бедняки и низшие слои середняков критиковали, бойцы Народно-освободительной армии критиковали, ученики и учителя младших, средних и старших классов критиковали, деятели культуры и искусства критиковали, кадровые работники учреждений критиковали. Критиковали домохозяйки, дети, старики и старушки и даже неграмотные. Каждый человек страны принялся оглушительно критиковать.
По пути из школы домой между моими приятелями сам собой возник откровенный разговор.
— Завтра и послезавтра я, пожалуй, не смогу пойти на занятия, — мрачно сказал Хань Суншань, — пропускаем так много уроков, кто потом ответит за нашу учебу, за поступление в высшие учебные заведения?
Он в нашем классе выделялся недюженными математическими способностями, всегда живо говорил о своих высоких устремлениях: «Если не поступлю в первую, третью или шестую среднюю школу, то убегу на Сунгари!» Он очень хотел попасть в одну из главных Харбинских школ высшей ступени. Зная о его уме и успехах в учебе, никто не считал это бахвальством. О Харбинской средней школе высшей ступени в те годы говорили: «Поступление в 1-ю, 3-ю или 6-ю школу обеспечивает прямой путь в Харбинский промышленный университет «Цинхуа». Учителя тоже признавали, что двери этого университета для него распахнуты.
Мой хороший друг Ван Вэньци осуждающе, заметил:
— Ты хочешь сказать, что приход этой «Великой социалистической культурной революции» принесет тебе вред? Что важнее? Жизнь или смерть партии и государства, или твое поступление в среднюю школу высшей ступени?
Он в сущности шутил, однако из-за того, что был заместителем комсорга и в будущем определенно мог стать членом экзаменационной комиссии, Хан Суншань принял это всерьез, сердито выругался:
— Катись ты к чертовой матери!
Злой, с покрасневшим лицом он готов был наброситься на него с кулаками.
Чжао Юньхэ сообщил:
— Говорят в этом году в среднюю школу высшей ступени и в институты будут принимать прежде всего тех, кто проявил активность в политике, балл будет играть второстепенную роль. Конечно же, имеется в виду в первую очередь участие в этом движении. Тех, кто не проявил активности, даже при высоком балле, отправят «немного передохнуть».
Родители Чжао Юньхэ работали в отделе образования, поэтому все догадывались, что в этих словах, видимо, много истины. Никто больше ничего не спросил, но каждый крепко зарубил себе это на носу.
Хань Суншань по-дружески, как и ранее, схватил Ван Вэньци за плечо, по-свойски сказал:
— Не сердись, я пошутил!
Вдоль улиц и дорог города все заводы, магазины, учреждения, школы, народные комитеты были облеплены «признаниями», «решениями», «клятвами»; а также «письмами с выражением преданности Центральному комитету и председателю Мао». Они появились с высокого одобрения многоуважаемого председателя Мао и благодаря положительной их оценки «дацзыбао».[6] Все предприятия, все их филиалы, все китайцы боялись, чтобы о них не подумали, что они пассивно или совсем безучастно отнеслись к классовой борьбе, названной «Великой социалистической культурной революцией». Народ всегда готов объявить войну еще одной «черной банде», которую укажет Центральный комитет партии и председатель Мао. Громить ее словом и пером. Так как народ абсолютно верит, что Центральный комитет партии и председатель Мао ни в коем случае не могут несправедливо обидеть любого хорошего человека. Как естественно, не могут потворствовать плохим людям. Следуя тезису об «абсолютной вере» можно было предположить, что если в газетах появятся сообщения о том, что видели как Дэн То, У Ханя и Ляо Моша взяли под стражу и под конвоем увели к месту казни, а там расстреляли, то на следующий день народ, разожженный страстями, обязательно хлынет на улицы и будет восторженно приветствовать великую победу в классовой борьбе. Народ настолько привык к мысли о единстве Центрального комитета и председателя Мао, что был уверен в, единстве их убеждений, допускал безразличное отношение к происходящему лишь со стороны одиночек. Эта «Великая социалистическая культурная революция» началась с опубликования двух статей не в газете Центрального комитета «Жэньминь жибао», а в газете «Цзефан цзюнь бао». Народ никак не мог предположить, что через несколько месяцев председатель Мао разделит Центральный комитет партии на два штаба: пролетарский и буржуазный, предоставив возможность каждому партийному, государственному и военному руководителю, каждому китайцу четко выразить свою позицию, т.е. определиться: на стороне какого штаба — пролетарского или буржуазного — он стоит.
ГЛАВА 4
Мать все ж таки не смогла взять взаймы недостающие деньги, и я вынужден был забрать старшего брата из психиатрической больницы. Как только брат возвратился домой, сразу не только наша семья, но и все жильцы двора почувствовали беспокойство. Возможно под воздействием общественных явлений болезнь брата усугубилась, форма депрессии перешла в форму бредовых политических фантазий.
Уже в тот день, когда мы шли с ним из больницы домой, я, внимательно понаблюдав за ним, заметил признаки такого рода изменений. Брат, проведший несколько месяцев в психбольнице, был так рад, как будто его выпустили из-за решетки. Только мы перешли мост, как на нас обрушился политический шум города. Звуки гонгов, барабанов, выкрики призывов и всякий другой шум лез в уши. Весь город был в лозунгах и дацзыбао. Машины, пропагандирующие идеи Мао Цзэдуна, и большие передвижные автомобили по борьбе с «черной бандой» курсировали по городу. Люди с красными знаменами и портретами председателя Мао на листах фанеры шли к горкому или провинциальному комитету партии с петициями и какими-то протестами, только успевала пройти одна колонна, тут же надвигалась другая. Агитотряды просвещенцев из институтов, средних и начальных школ на улицах и площадях города давали представления по разгрому «саньцзяцуньцев».
— Для чего все это?— спросил брат, вертя головой налево и направо.
— По всей стране началась «Великая культурная революция» — ответил я. — Вот появился отряд, провозглашающий призыв: «Разгромим Дэн То, У Ханя, Ляо Моша, клянемся вывести на чистую воду «саньцзяцуньцев» из Харбинского горкома!»
— Очень хорошо, очень хорошо! — говорил Брат сам себе непрерывно кивая головой, глаза его сияли. Не представляя ради чего, он пристроился в хвост колонны. Мне стоило больших усилий увести его на тротуар.
Придя домой и увидев мать, брат бросил первую фразу:
— Ма, я буду участвовать в «Великой культурной революции!»
Мать оторопело уставилась на брата. Потом обернулась ко мне с вопросом:
— Здоровье твоего старшего брата улучшилось? Что говорят врачи?
— Врачи не сказали, что ему стало лучше.
— А мне кажется — лучше. Иначе как могло появиться желание принимать участие в «Великой культурной революции»? В этом люди разобрались.
— По пути домой он уже хотел примкнуть к колонне демонстрантов.
— Слава богу, слава небу! Слава богу, слава небу! Мой старший сын не зря находился в больнице, узнал, что надо защищать председателя Мао, — с радостью на лице сказала мать.
— Ма, найди мне кисть, найди бумагу, я буду писать дацзыбао! — восторженно выкрикнул старший брат из внутренней комнаты.
— Да-а-а, мать слышит! — она достала из кармана один цзяо[7] и передала мне, потихоньку шепнула:
— Сбегай купи.
— Ма, как ты так можешь?! — упрекнул я ее. Мать глянула в сторону внутренней комнаты и, взяв меня за локоть, ущипнула.
— Тебе говорят иди купи, значит иди и купи! — мать понизила голос, боясь, что услышит брат.
Я против своей воли сходил в магазин и купил ему кисточку и несколько больших листов белой бумаги. Мать стала растирать для него тушь, а брат разложив на столе большой лист бумаги, начал писать. Он еще с начальной школы и вплоть до института непрерывно тренировался в каллиграфическом написании иероглифов, получал призы на соревнованиях в средней школе. Иероглифы писал очень красиво.
Вот он написал предложение, я сразу прочитал матери. Потом еще. Мать с каждым предложением все больше радовалась. Наконец, растроганная от радости заплакала. Потому что написанное братом было очень революционным.
Написав дацзыбао, брат подписался и обратился ко мне:
— Брат, сходи в город, расклей их!
— Не пойду, — сказал я.
— Почему не пойдешь? Ты такую занимаешь позицию по поводу моего участия в культурной революции?! — искренне спросил он.
Мать в замешательстве вытолкнула меня в наружную комнату.
Оттуда я услышал, как она советовала брату: «Сынок, по мнению матери лучше приклеить их дома. Если войдет посторонний человек, сразу увидит, что наша семья стоит на стороне председателя Мао». Брат ответил ей лишь одним словом: «Хорошо».
Мать тоже вышла в наружную комнату, открыла продовольственный ящик, достала из мешочка муки и насыпала в маленькую алюминиевую миску, сварила клейстер.
Только успела приклеить, как пришла староста улицы:
— Уважаемая семья Лян, после обеда в вашем дворе будет проходить собрание всей коммуны по выражению преданности многоуважаемому председателю Мао. Ты уважаемая хозяйка — истинный пролетарий, несколько поколений вашей семьи принадлежали к крестьянам-беднякам и низшим середнякам. Ты должна выступить в числе первых!
Мать разволновалась.
— Нет, не пойдет, я — домашняя хозяйка, к тому же неграмотная. Хотя и немало прожила на свете, но никогда не выступала ни на каких собраниях, неужели больше некому?
— Что, если домохозяйка, то нельзя критиковать буржуазию? Если неграмотная, то не смей критиковать?— вопрошала староста улицы. Лицо ее со следами трех банок на лбу посуровело. В это время появился мой брат, прямо в упор глядя в глаза старосты. Она, не в состоянии сдержать страх, отступила на шаг назад.
— Разгромим «черную банду»! — неожиданно воскликнул брат.
— Правильно, правильно! Черную Банду... конечно, надо разгромить... не оставить ни одного! — староста улицы предусмотрительно спряталась за спину матери, заискивающе улыбаясь.
— Идеи Мао Цзэдуна непобедимы! — выпалил брат еще один лозунг.
— Да, да... — срывающимся голосом подлаживалась староста.
— Староста, вы прислушайтесь, мой сын стал внятно говорить, не правда ли? — сказала мать.
— Внятно, внятно! — староста осмелела и, мельком взглянув на дацзыбао, спросила меня:
— Ты написал?
Не успел я ответить, как мать перехватила разговор: — Это написал мой старший сын, тоже хочет участвовать в культурной революции.
Староста, всмотревшись в написанное, всплеснула руками, поздравила мать:
— Это же действительно большое счастье! Написано здорово. Почему не вывесили во дворе? Приклейте там. Пусть все жители двора подпишутся. А во время собрания это будет создавать атмосферу классовой борьбы. Я как раз сокрушалась, где бы найти такие дацзыбао. Иероглифы выписаны превосходно!
— Революция себя оправдает! Критика буржуазии будет успешной! — глаза брата опять зажглись необычным блеском.
— Будет успешной, будет успешной! Будет очень успешной! — староста, вдруг осмелев, приблизилась к брату, чтобы похлопать его по плечу. Она была низкого роста и до плеча брата не дотянулась, лишь постучала ему в грудь:
— Студент истинно пролетарской семьи, отныне будешь в составе нашего народного комитета участвовать в культурной революции, нам как раз не хватает человека способного хорошо писать, — повернулась к матери и добавила, — это действительно большое счастье!
Только было непонятно, в чем она видела счастье: в том, что присмотрела человека, способного писать дацзыбао, или радовалась за мать, у которой «выздоровел» сын. Мать, конечно же, поняла в ее высказывании вторую мысль.
— Это счастье явилось благодаря многоуважаемому председателю Мао! Люди поддерживали уверенность матери в выздоровлении сына, а мать от этого ощущала радость.
Я тоже про себя думал: «Старший брат действительно выздоровел, я миллионы раз кланяюсь Вам в ноги председатель Мао, всю жизнь буду признателен за «Великую культурную революцию», развернутую Вами».
Уходя из нашего дома, староста напомнила матери:
— Ни в коем случае не забудь расклеить дацзыбао во дворе! Все жители двора должны поставить свои подписи, и скажи им, что это мое личное распоряжение.
Надо же, такая мелюзга дерзнула опрометчиво употребить слово «распоряжение». Мне казалось, что она просто вызовет всеобщее осуждение, что это оскорбляет многоуважаемого председателя Мао.
Я не стал призывать ее к ответу за оскорбление и выдворять из дома.
Что касается личного распоряжения старосты, то мать сделала «решительно так, как она велела».
Я крайне неохотно помог матери приклеить дацзыбао на дверь угольного сарая Ма. Мать позвала соседок выйти во двор поставить свои подписи.
Женщины с большой радостью сделали «решительно так, как было велено». Но они вписали не их собственные имена, а по привычке — имена хозяев домов — их мужей.
Во двор вышел старший брат, внимательно присматриваясь к их «революционным» действиям.
Из мужчин дома был только дядя Лу — этот люмпен-пролетарий. Он одобрительно сказал матери:
— Мой старший племянник приезжает как раз вовремя, вернется и сразу даст нам завоеванное звание двора «четырех хорошо».
Неожиданно старший брат на полном серьезе изрек такое, что может привести любого человека в растерянность:
— Ты на чьей стороне стоишь?
Сердце дяди Лу сильно запрыгало. Он долго молчал, подбирая слова, наконец, ответил:
— Я... стою на стороне многоуважаемого председателя Мао, — посмотрел на одну женщину, на другую... добавил, — неужели я мог стать на сторону «черной банды» ? — подняв руку, он указал пальцем на тачку, с помощью которой собирает старье, — смотрите все!
На еще не разгруженной тачке было написано: с правой стороны — «клянусь не сосуществовать с «черной бандой!», с левой — «клянусь в единодушии с председателем Мао!».
— Обе клятвы я тщательно обдумал, а не просто так написал, — дядя Лу заподозрил, что его хотят очернить.
— Ложное есть ложное! Маскировку надо сорвать! — снова хладнокровно «наступал» на него брат.
— Это... это... ты почему такое говоришь? — дядя Лу попал в сложное положение.
— Брат, уйди домой, — подтолкнул я его.
А тетя Лу уводила домой дядю Лу, успокаивая:
— Ты же знаешь, что у тебя — настоящее. Если он что-то сказал, это еще не значит, что тебя причислят к «черной банде».
Вырывая руку, дядя Лу кричал:
— На чьей я стороне, решат люди нашего двора!
Женщины в один голос отвечали ему:
— Да, да, в душе мы очень хорошо понимаем, что к чему!
Мать с улыбкой на лице тоже сказала ему:
— Ты «за», ты «за», если кто-то будет проверять, все мы во дворе подтвердим это.
Закрыв дома брата, я пошел к дяде Лу извиниться за него. Тоном обиженного дядя Лу ворчал:
— Странно, какими зелеными глазами он смотрел на меня.
Возможно, это потому, что когда прошлый раз отправляли его в больницу, ты, дядя Лу, помогал связывать его? — сказал я.
— В следующий раз, когда будете помещать его в больницу, я помогать не стану. Чтобы из-за неприязни не стать в его глазах антипартийным, антисоциалистическим элементом, — сказал дядя Лу.
— Уважаемый дядя Лу, не принимай это близко к сердцу, он только наполовину понимает, что говорит... — сказала мать и лицо ее сразу омрачилось. Беспочвенный оптимизм матери насчет выздоровления старшего брата выявится позже.
— Уважаемая семья Лян, уважаемые Ляны, выходите! — неожиданно послышался во дворе боевой клич старосты улицы.
— Пошли, пошли... — мать суетливо повернулась и покинула дом Лу. Не поняв, откуда донесся яростный крик старосты, я вышел вслед за нею. Как только староста увидела мать сразу, топнув ногой, закричала:
— Ты, ты, как ты выполнила мое распоряжение?
— Староста, в чем моя ошибка? — осторожно спросила ошеломленная мать.
— Ты еще спрашиваешь! — староста указала на дацзыбао, — почему только мужские имена? Мое распоряжение выполнено непродуманно, вами допущена ошибка! Наверно, в руководстве вами по привлечению к участию в «Великой культурной революции» я не все сделала.
Женщины двора, заслышав шум, тоже стали выходить из домов, с встревоженными лицами смотрели то на старосту, то на мать.
К старосте подошла тетя Цзян и вместо матери объясняла:
— Раньше при проведении тех или иных мероприятий разве недостаточно было имен глав семей? Мы сделали по установившейся традиции.
— Раньше?! Какие раньше были дела? Учитывали состав семей, раздавали продовольственные карточки, могут ли они сравниться с участием в политическом движении? Могут ли ваши мужья вместо вас выразить свою преданность председателю Мао? Может ли глава семьи отразить политическую позицию всей семьи? Муж не заменит жену. Родители не могут ручаться за детей, никто не может отвечать за другого. Собрание, которое мы намерены провести, будет собранием, где домохозяйки отдельно выразят свою преданность многоуважаемому председателю Мао. Придет секретарь коммуны, выступит перед вами. Быстрее найдите пол-листа бумаги, заклеим мужские имена и впишем ваши собственные! — распорядилась староста начальственным тоном. Женщины на какое-то время пришли в замешательство.
— Вы все еще не вышли из оторопи! Все еще не торопитесь сделать то, что я сказала! Не хотите отстоять славу двора «четырех хорошо» ?
— Я схожу принесу бумаги, — согласилась мать и торопливо бросилась в свой дом.
То, как староста раздраженно отдавала приказы как своим слугам, вызвало у меня неприязнь к ней, и я, воспользовавшись отсутствием матери, язвительным и предостерегающим тоном сказал ей:
— Советую вам впредь не говорить о своих распоряжениях и прекратить давать указания — это прерогатива единственного человека — председателя Мао.
Староста широко раскрыла рот, да так ничего и не сказала. Как будто хотела икнуть, но не получилось.
Мать принесла бумагу, но забыла клейстер. Я не позволил ей больше бегать туда-сюда, сам сходил за клейстером.
С помощью женщин я оторвал половину дацзыбао с именами жильцов и на это место приклеил столько же чистой бумаги. Потом снова пошел в дом, принес кисть и тушь. Женщины поочередно вписали туда свои имена иероглифами-каракулями,
Домохозяйки всей бригады, включая старушек с маленькими ножками, одна за другой, неся в руках табуретки или прижатые под мышкой складные стульчики, собрались в наш двор, человек 70–80.
Наконец, пришел секретарь коммуны. Он молча обозрел дацзыбао и, выразив большое восхищение ими, обратился к женщинам:
Домохозяйки этого двора являются образцом для всего комитета домохозяек! В «Великой культурной революции» должны активно участвовать не только рабочий класс, бедняки и низшие середняки, освободительная армия, революционные кадры и учащиеся, но и домохозяйки! Надо мобилизовать на это каждый двор этого нашего комитета жильцов, укрепить их настолько, чтобы они стали политическими бастионами!...
Староста улицы постоянно находилась впереди, поднимая руку для провозглашения лозунгов.
Вечером ко мне пришел Ван Вэньци. Он вытащил из ученической сумки прошлый номер журнала «Чжунго циннянь», подал посмотреть заднюю сторону обложки. На ней были изображены молодые члены кооператива — мужчины и женщины с мотыгами на плечах — энергично шагавшие по морю золотисто-желтой пшеницы. Тема картины — «Члены кооператива стремятся к солнцу». Я удивился, почему у него появился интерес к этой картине и в то же время не хотел испортить ему настроение, поэтому ответил банально:
— Нарисовано хорошо.
— Хорошо для задницы! — неожиданно ответил он.
Я немало встревожился и долго с недоумением смотрел на него.
— Вэньци, это очень революционная картина, как ты посмел так сказать о ней?
— Очень революционная? Да, изменяющая судьбу,[8] чтоб ей провалиться!
Я решил, что у него не все в порядке с нервами. Такая жизнь, культурная революция мало-помалу напитывают людей этим состоянием, все китайцы находятся как бы в горячечном бреду, включая меня самого.
Ко мне подошел старший брат и, тоже уставившись в картину «Члены кооператива стремятся к солнцу», стал ее рассматривать. Его взгляд не был похож на те, которыми оценивают картины, наоборот, он был похож на обозрение орудия уничтожения со следами крови.
Я поднял голову, приблизился к глазам брата и не смог сдержать холодную дрожь, пробившую меня изнутри.
Тогда я посмотрел в глаза своему хорошему другу и соученику и почувствовал, что выражение его глаз не такое, как у моего брата. Это меня немного успокоило.
— Ты почему изучаешь меня? Изучай эту картину, — встревожился он.
— После уничтожения врагов с оружием в руках все еще останутся враги без оружия![9] — неожиданно произнес брат и с холодной улыбкой удалился.
— А зачем в конце концов надо хорошо изучать эту картину? Я не вижу ее названия.
— Эта картина реакционна. В ней спрятаны контрреволюционные лозунги.
— Контрреволюционные лозунги? — я был ошарашен.
— Чан, Кай, Ши, Вань, Суй! — громко, раздельно каждый иероглиф произнес он.
— Ты с ума сошел! — прорычал я вполголоса, — у нас окно открыто, ты хочешь принести несчастье моей семье?
— Похоже ты испугался. В этой картине спрятаны те самые контрреволюционные лозунги, и конкретно «Да здравствует Чан Кайши!» — ответил он спокойным и неторопливым голосом.
Хорошо, что брат ушел в другую комнату, иначе его надломленная психика обязательно в ответ на это среагировала бы в высшей степени импульсивно.
Я взял тот журнал «Чжунго циннянь» и, внимательно всматриваясь, стал тщательно его изучать, но не находил ни малейших следов контрреволюционных лозунгов.
— Ай, твоим глазам их все равно не отыскать, — не выдержал мой друг и стал один за другим подробно анализировать иероглифы, — посмотри на этот пшеничный колос, он расположен горизонтально. Почему горизонтально?
— Потому что дует ветер. Посмотри, короткие волосы этой девушки, колыхаясь на ветру, тоже стали горизонтально, — сказал я.
— Неправильно! Что такое пшеница? Это травянистое растение. Здесь колос символизирует верхнюю часть иероглифа «трава». В иероглифе Чан фамилии Чан Кайши — что сверху? Трава. Теперь посмотри на этот стебель. Он выражает собой вертикаль, этот — тоже. Добавь пшеничный лист, вертикальную изогни. Получился иероглиф Чан. Смотри дальше. Сверху две вот таких черты: одна — откидная влево, вторая — откидная черта вправо. Плюс две вертикальные. Получился иероглиф Кай. Правильно? Или ты считаешь, что неправильно?
Хотя он все это показал мне на картине, я все равно чувствовал, что не смогу воспринять все эти пшеничные колосья, стебли, листья в виде иероглифов. В общем, что-то в этом было надуманное и ложное.
— Что ни говори, а не очень похоже, — сказал я сам себе.
— Ты все еще говоришь, что непохоже? Да? Непохоже? — он, разложив картину, продолжал просвещать меня, указывая на каждую черту предполагаемого иероглифа. — Посмотри еще раз на эту мотыгу: сама мотыга — это иероглиф «рот», рукоятка — горизонтальная черта над ней...
— А где откидная черта влево? Где? Откидной нет, но предполагается?
— Мазков кисти здесь немало. Надо только всмотреться и найдешь то, что надо, — продолжал он мне показывать их, давая пояснения. Я долго стоял молча, потом спросил:
— Ты сам обнаружил?
— Думаешь у меня такие проницательные глаза? На агитационно-пропагандистской доске на центральной улице все могут увидеть эту картину в увеличенном размере, как конкретный пример воспитания в духе классовой борьбы. Я тоже, получив урок, разглядел... — сказал он, и, помолчав, добавил — в нашем мозгу струна классовой борьбы натянута еще недостаточно, слишком мало у нас умственных способностей.
Мне стало немного стыдно, поэтому я сказал ему:
— Да, да, это хорошо, что ты сегодня зашел ко мне и сказал об этом. Иначе я остался бы в неведении; когда-нибудь пошел бы на центральную улицу да у той доски, возможно, вступил бы в дискуссию с кем-нибудь, потом пришлось бы раскаиваться из-за того, что не успел просветиться.
В связи с возвращением домой старшего брата и прекращения занятий по случаю революции я уже больше десяти дней не появлялся в стенах школы и испугался, что отстал от стремительно развивающейся «Великой культурной революции». В будущем аттестате могут записать: «Не проявил себя в пролетарской политике». Подумав об этом, я условился с ним, что завтра же вместе пойдем в школу.
В ту ночь пошел сильный дождь. Вся семья как раз сладко спала и была разбужена стуком в окно и голосом, который звал:
— Второй брат, второй брат! Быстрее вставай, помоги моему отцу! Надо укрыть дацзыбао! — это звал младший сын дяди Лу.
— Сяоэр,[10] быстрей вставай! — мать сразу же толкнула меня в бок.
Почти священный долг подхватил меня с постели в одних трусах и понес во двор. Дождь действительно был проливной, шел как из ведра. Двор на половину заполнился водой.
Дядя Лу, как и я, в одних трусах, стоя неподвижно, обеими руками держал пластмассовую крышку, защищая дацзыбао от дождя, который безжалостно хлестал его по спине.
Я быстро бросился в дом дяди Лу в поисках молотка, гвоздей и какого-нибудь материала из дерева. Его дом уже заливало водой. Я хотел сначала помочь тете Лу остановить поток воды, переливавшийся через порог, однако она сказала мне:
— Это не беда, что нас подмочило, сначала иди помоги дяде Лу защитить дацзыбао. То, что написал твой старший брат, — святыня нашего двора.
Дядя Лу и я сбили простую раму, прикрепили ее к карнизу навеса семьи Ма, сверху приколотили пластмассовую крышку, а под нее — дацзыбао.
Дядя Лу, смахнув с лица дождевую воду, как бы для меня, но похоже сам себе сказал:
— В конце концов, чтобы стать на чью-то сторону, надо посмотреть на действительное поведение человека и тогда определиться.
Не взирая на дождь, мы провозились довольно долго, но я так и не смог понять, в чем состоял смысл содеянного. Дядя Лу подтвердил, что его осмотрительность до нелепости смешна. А я слепо следовал за ним.
В этой «культурной революции» нелегко было выбрать правильную позицию, чтобы оказаться на стороне председателя Мао.
ГЛАВА 5
Движение в школе было похоже на пожар, на бедствие, его мощь стала неудержимой. Обе стены всех коридоров с первого до третьего этажа были обклеены несколькими слоями дацзыбао, толщина которых уже равнялась примерно толщине доски. Кроме того, было протянуто множество веревок, на которых тоже висели дацзыбао. Люди, как в лабиринте, бочком пробирались между ними.
Дацзыбао, критикующих «Саньцзяцуньцев», уже не было. Учащиеся с помощью дацзыбао начали разоблачать учителей, учителя тоже с их же помощью разоблачали друг друга. Уже осталось совсем мало учителей, чьи имена и фамилии не попали в дацзыбао. Один учитель математики по фамилии Ай имел трех сыновей, получивших имена Ай Го, Ай Минь, Ай Дан. Один умник из числа учителей политики провел анализ, согласно которому получалось, что если к фамилии Ай (любить) добавить чистые имена сыновей Го, Минь и Дан, то получится «любить Гоминьдан». Рядом с Этой дацзыбао висела другая, которая была подписана десятками учащихся нескольких классов и критиковала уже учителя политики: «Посмотрите на полностью обуржуазившуюся душу, он уже оделся в западный костюм, имеет сверкающий лаком велосипед марки «летящий голубь». В конце недели он со своей разряженной в свободное цветное платье вонючей старухой отправляется на танцы. Под стеклом на его рабочем столе вместо портрета председателя Мао лежит цветная фотокарточка той же вонючей старухи. В конце поставлены вопросы: может ли такой человек давать уроки пролетарской политики? Может ли он и дальше оставаться в социалистической школе? Может ли он занимать место в красной аудитории социалистической школы, базирующейся на марксизме-ленинизме и идеях Мао Цзэдуна?
Еще одна дацзыбао всего из трех строк. Каждый иероглиф величиной с пиалу. Написано: Ян Юйфэнь, ты почему всегда опрыскиваешься одеколоном? Серьезно требуем от тебя — отвечай! Отвечай!! Обязан ответить!!! Подпись: революционный учащийся. Тот же революционный учащийся как бы специально для учителя, к которому он предъявляет требование, оставил пол-листа чистой бумаги. Учитель, похоже, понял смысл и на той же половине листа красивым почерком кайшу[11] написал: «Мне очень стыдно. Из-за того, что от меня исходит запах пота, я перед тем, как идти на уроки к учащимся, опрыскиваюсь одеколоном».
Возможно из-за того, что эта дацзыбао по своему стилю отличалась от других, она привлекла особое внимание людей. Даже промежутки между крупными иероглифами были заполнены записями, сделанными авторучками, карандашами, кистями.
Я остановился и стал внимательно просматривать их. Вот они:
Доводы убедительны — можно простить.
Что касается нас, то нам запах пота не страшен, а вот запаха одеколона, который ты приносишь в класс, мы его боимся.
Отповедь изумительна!
Осторожно, не охлаждай энтузиазм! Стань на обратную сторону движения!
Направления, которые сдерживают большое движение, надо ежеминутно исправлять, чтобы не погрязнуть в мелочах!
Для внесения ясности надо дискутировать по всяким мелочам.
У меня зачесались руки и я вынул ручку из кармана.
— Что ты хочешь делать? — спросил Ван Вэньци.
— Я тоже кое-что припишу ему, ответил я и тут же написал: «Все наелись до отвала!» Только хотел поставить свою подпись, как Ван Вэньци схватил меня и потащил прочь.
— Дурак! Произойдет чудо, если тебя не схватят после того, как ты поставишь свою подпись!
— Я отношусь к известной пятой категории,[12] кто осмелится перевести меня в другую? Схватить меня — это значит повернуть вспять основное направление борьбы! — сказал я безразличным тоном, однако внутри почувствовал холодок. Осмотревшись по сторонам, я никого не увидел и только тогда по-настоящему успокоился.
В тот день людей в школе было мало, и я спросил у Ван Вэньци, что это значит. Он сказал, что все ушли в народ разжигать пламя борьбы. Вместе с ним я поднялся с первого этажа на третий, потом с третьего спустился на первый, бегло разглядывая дацзыбао.
Я вспомнил про учительницу китайского языка и литературы, спросил у Вана о ней:
— А как учительница Лун?
— Как? Считай, что у нее положение серьезное. Школа направила ее материалы в группу руководства движением городского отдела образования. Сейчас она отбывает наказание трудом, — сказал Ван Вэньци, а я увидел как из туалета вышел человек. Это была учительница Лун. В резиновых сапогах, в одной руке метла, в другой — ведро. Она сразу же увидела нас.
Не знаю почему, я сразу остановился. Ван Вэньци — тоже. Мы молча смотрели на нее. Она молча смотрела на нас. Вдруг она повернулась и снова зашла в туалет.
Ван Вэньци дернул меня за рукав, сказал:
— Быстрее пошли отсюда.
Мы поспешно, по-воровски удалились от туалета. Каждый из нас почувствовал в душе смятение, но не мог в этом признаться, даже самому себе. Отчего смятение? Страх перед нею? Она никогда не была строгой, не говоря уже о том положении, до какого ее опустили сейчас. В общем, трудно сказать. Пугало отсутствие малейшего здравого смысла.
Выходя из здания школы, мы увидели несколько десятков учащихся, собравшихся на стадионе и приготовившихся куда-то идти. Двое наших знакомых крикнули нам:
— Быстрей пополняйте наши ряды!
Когда мы проходили мимо них, Ван Вэньци спросил:
— Куда вы идете?
— В управление общественной безопасности!
— В управление общественной безопасности?.. Идете разжигать пламя?... — Ван Ваньци на какое-то время задумался. Он, как и я, в душе не хотел показать отсталость в движении в сравнении с другими соучениками, не хотел также остаться на рубеже действий, граничащих со скольжением за революцией или контрреволюцией.
— Я обнаружил контрреволюционный лозунг и организовал друзей пойти в управление общественной безопасности решительно потребовать арестовать действующую контрреволюцию, — довольный собой заявил ученик 8 класса по прозвищу Шао Гэньсян.[13]
— Контрреволюционный лозунг? В нашей школе? — испугался я.
— Нет, у меня дома!
Я испугался еще больше, предположив, что он хочет разоблачить своих отца, мать или кого-нибудь из членов семьи, чтобы получить известность человека, не остановившегося ни перед чем ради идеи. Но, судя по его довольному виду, было что-то другое.
— На календаре в нашем доме, — он вынул из школьной сумки месячный календарь и дал мне посмотреть.
На нем был изображен старик с седой бородой, обучающий девочку 5–6 лет соединению звуков в слоги. Он озвучил ей четыре слова: «Председателю Мао десять тысяч...».
— А почему он не произнес слово «лет»? — спросил Шао Гэньсян тоном следователя.
Я пожал плечами. Откуда я мог знать, почему автор не дорисовал произнесение слова «лет» ? Изобразил только «десять тысяч» и не дорисовал «лет».
Я тоже считал, что как это не объясняй, а для такого великого вождя все равно недостаточно уважительно. Однако, если взглянуть на картину, то видно, что для этого иероглифа не хватило места. А может быть был какой-то расчет не написать?
— Почему? — снова спросил Шао Гэньсян, пронзительно глядя мне в глаза, как будто я был автором картины.
— Наверно, автор, рисуя картину, не замышлял так много? — неуверенно предположил я.
— Нет!.. — Шао Гэньсян был абсолютно уверен в себе. Следует заметить, что в ходе углубления «Великой культурной революции» в разговорной речи учащихся появились слова и выражения типа «заставлять», «со всей серьезностью заявляем», «последняя дипломатическая нота», «можно стерпеть, но кто потерпит», «сообразительность Сыма Чжао всем известна», «разве вытравишь волчью натуру», «мысли пьяного старца совсем не о вине» и многие другие, употреблявшиеся раньше при построении предложений или как обороты речи лишь в письменной форме, теперь же на каждом шагу они вылетали из уст людей. Многие учащиеся как будто стали стыдиться обычного «нет», вошло в привычку «нет» с более жестким звучанием, употреблявшееся на письме.
— Ты пока помолчи, дай мне посмотреть, — Ван Вэньци считал, что у него уже есть богатый опыт изучения картины «Члены кооператива стремятся к солнцу», и он готов распознать «суть картины». С видом человека, имеющего готовый план в голове, он взял календарь из рук Шао Гэньсяна.
Бесстрашным взором он долго изучал картину, глядя на нее и прямо, и сбоку, но его так и не осенило и Ван смущенно возвратил календарь Шао Гэньсяну.
— Не к тебе претензии, а к твоим глазам, — презрительно сказал Шао Гэньсян, — Где заковыка?! Ты посмотри на косу этой девочки. Это — горизонталь. А вот это — вертикаль. Здесь узелок. Неужели не похоже на иероглиф убить».
И похоже, и нет. Меня никто не просветил так, чтобы я смог увидеть такую схожесть, а сам я никак не мог по ассоциации представить себе слово «убить». Но когда меня просветили, сказали, что там иероглиф «убить», я уже не осмелился сказать не похоже.
— Похоже, похоже! — совершенно определенно выразил свою позицию Ван Вэньци.
Я неопределенно промычал.
— Есть только иероглиф «убить», что не проясняет вопрос, — снова выразил сомнение Ван Вэньци.
— Разве вопрос не ясен? Неужели недостаточно контрреволюции в словах «убить председателя Мао»? Непременно надо найти слово «разгромить» и тогда можно считать контрреволюцией?!
— У этой дряни совсем нет чувств к председателю Мао. Это были реплики, которые высказали соученики в ответ на сомнения Ван Вэньци.
— Однако я имел в виду другой смысл! Я имел в виду другой смысл! Мой смысл... Нет у меня никакого смысла!... — совсем растерялся Ван Вэньци.
Шао Гэньсян поднял руку, остановил беспорядочные выкрики и заговорил тоном знающего дело политика:
— Некоторые наши соученики из-за того, что длительное время в их мозгу не были натянуты струны классовой борьбы, став лицом к лицу с классовой борьбой, всегда сомневаются. Пусть они в процессе этого движения воспитывают самих себя.
Втайне я невольно стал восхищаться его познаниями, тем, что этот вечный второгодник поумнел, что в его голове натянулись струны. По тому, как к нему неожиданно стали относиться другие, я увидел, что он приобрел уважение. И все это благодаря тому, что обнаружил контрреволюционный призыв, чего не увидели другие.
В душе я немного завидовал ему.
Шао Гэньсян хлопнул по плечу Ван Вэньци:
— Иероглиф «дао»[14] здесь есть. Его нет у тебя в голове, поэтому не видят твои глаза. (Мне тогда показалось, что в этих его словах заложен философский смысл). Сейчас я тебе покажу. Здесь нить волос этой девочки — это четко обозначенная вертикаль. Почему эта связка тонко выписана с завитком? Это откидная черта влево. С этой стороны эти несколько нитей волос изображают горизонталь, вертикаль и отвесную черту с крюком...
Следуя широко раскрытыми глазами за движением его пальца, я на чем свет стоит ругал себя за свое скудное воображение. В то же время кое-кто в контуре провинции Хэйлунцзян Китая видит парящего в небе лебедя с распростертыми крыльями. Но можно ли говорить о реальности такого воображения? Это скорее романтизм. Политический энтузиазм народа во время «Великой культурной революции» рождал небывалый во всем своем блеске романтизм.
— Иероглиф «убивать» я тебе показал, иероглиф «сокрушать» — тоже, что ты еще можешь сказать? — Шао Гэньсян не терпел, когда ему перечат.
— Мне нечего сказать... Чего ты нападаешь на меня, да и не я же рисовал картину!... — Ван Вэньци старался сохранять сдержанный тон.
Шао Гэньсян повеселел, положил в сумку календарь, да с таким видом, как будто приобрел патент на изобретение, а затем серьезно сказал:
— Все мы собратья по революции, заяц не ест траву у своего логова, не будем обострять отношения. Вместе с нами в управление общественной безопасности должны идти те, кто сам пожелает. Так?
— Я иду, я иду... — Ван Вэньци подтвердил свое согласие еще и кивком головы и посмотрел на окружавших его соучеников, ждавших, какую он займет позицию. Неожиданная благосклонность изумила его и дала немного радости.
Возможно, один я разглядел, насколько он был неискренним.
— Ты тоже иди! В революционном движении прибавится еще один человек, — обратился он ко мне наставительным тоном.
Я безучастно позволил ему присоединить к революции еще одного человека и непринужденно сказал:
— Конечно же, я тоже хочу пойти.
Шао Гэньсян поднял руки и скомандовал:
— Вперед! Цель — городское управление общественной безопасности! Мы строем мужественно покинули школу.
На картине «Члены кооператива стремятся к солнцу» спрятан контрреволюционный лозунг «Да здравствует Чан Кайши», в календаре замаскирован призыв «Разгромим председателя Мао». Похоже классовая борьба действительно обостряется и осложняется. Помимо воли человека струна классовой борьбы в его мозгу натягивается сильнее. Я машинально вспомнил выдержку из высказывания председателя Мао: «Использование литературных произведений против партии — это большое изобретение». Получалось, что теперь сюда, пожалуй, можно включить и живопись.
Позже я ездил в Пекин на прием к председателю Мао, просматривал дацзыбао в Центральном институте изобразительных искусств и убедился, что мои тогдашние мысли имели под собой реальные основания. Немалое число художников было причислено к контрреволюционерам из-за их картин.
А еще позже, в 1975 году, жизнь еще больше подтвердила, что я был прав. «Дело о черной контрреволюционной живописи», продемонстрированное в зале Всекитайского собрания народных представителей, еще раз сказало людям о том, что тезис об «антипартийной живописи», использовавшийся против художников тоже был великим изобретением.
Орел с кошачьей головой, с одним открытым и вторым закрытым глазом, нарисованный Хуан Юнюем разве не являл собой реакционную аллегорию, направленную «против реализма, выражавшую пренебрежение к тому, что видишь собственными глазами»?
Картина Хуан Чжоу «Два ослика» отражала революционную тему — нести большую ответственность длительное время. Но разве, несмотря на это, не содержала реакционную аллегорию, скрывающую мысль «смотреть в перспективу и не видеть выхода»?
Есть еще картина какого-то автора «Тигры гневаются», разве она не аллегория, имеющая отношение к Линь Бяо?
Не буду подробно описывать весь разнообразный энтузиазм движения, который мы видели на своем пути. Остановлюсь лишь на некоторых.
Проходя мимо райкома, мы наблюдали как перед специальным разделом дацзыбао революционные массы избивали человека. У него уже беспомощно болталась голова, а его тянули и толкали то в одну сторону, то в другую. Было ясно видно, что били его долго, он полуживой, едва держался на ногах.
Все сразу остановились посмотреть эту сцену. Немного понаблюдав за происходящим и послушав разговоры, мы уяснили суть происходящего. Стало ясно, что его били за несколько рисунков, находившихся в специальном разделе дацзыбао за его спиной.
Это были рисунки под названием «Новое издание путешествия на запад».[15] С виду нарисовано очень добротно, потрачено, видать, немало времени. Исполнено скрупулезно, блестящий замысел, рисунки исполнены тушью. Основной смысл: «В наши дни восторженно встречают Сунь Дашэна, но причина его прибытия на сей раз двусмысленна и туманна». Царь обезьян Май на всем своем пути борется с негодяями и нечистью, выступающей против партии и социализма, в многочисленных схватках добывает «трудные победы». Потом отправляется к мудрейшему высочайшему бесконечному будде Амитабе получить три совершенных канона, чтобы углубить тактику борьбы, после этого «Золотая обезьяна ощутила прилив энергии к карающему мечу. Космос очистился от пыли».
Содержание вроде бы революционное. Среди рисунков один такой: Будда Амитаба с огромным животом, важно восседая на почетном месте цветка лотоса, передает царю обезьян Май три тома совершенного канона, назначая его на важный пост. На корешке каждого тома блестящими золотом иероглифами написано: «Собрание сочинений Мао Цзэдуна».
— Ты псевдореволюционер, на самом деле ты порочишь председателя Мао!
— У тебя собачья смелость, взял да и изобразил нашего великого вождя председателя Мао в виде пузатого хохочущего будды! Да ты же заслуживаешь тысячу смертей!
— Ты думаешь, что революционные массы — дураки, не разглядят твои реакционные аллегории?
Настроение масс возбуждено, их возмущение трудно унять. Тот человек, как бы его не пинали, не смел даже рот открыть. Это был еще один конкретный пример использования живописи против партии в классовой борьбе.
Я тогда еше раз в глубине души стал размышлять: у революционных масс глаз острый, душа открытая, как стремительно они выросли на практике классовой борьбы. Этот тип настоящий контрреволюционер. Нам все понятно, что он замыслил, пусть не думает, что он такой хитрый.
— Ну и поделом тебе! Так и надо! Кто позволил тебе так нагло поносить председателя Мао!
Ван Вэньци тем не менее тихо сказал мне на ухо:
— Возможно он излишне горячо излил свой революционный пафос и не нашел пути для выхода из затруднительного положения?
— Как ты можешь говорить такое? Посмотри на каком месте он это затеял, кивнул я в его сторону.
То, что я увидел и услышал в первой половине дня, основательно пополнило мои знания о классовой борьбе, в моем сознании произошел большой скачок, теперь я уже сам мог наставлять других.
— Хватит смотреть! Нет тут ничего интересного! Столько увидели и еще не насмотрелись? Быстрей пошли! Пошли быстрей! — шумел Шао Гэньсян, собирая свой рассыпавшийся отряд.
Мы снова построились и двинулись в городское управление общественной безопасности.
Когда мы подошли к перекрестку с Центральной улицей, встретили заслон незнакомых людей. Склонившись, они стали разглядывать нашу обувь, смотрели так, что нам стало не по себе.
— Ты!... — один из вожаков показал пальцем на Шао Гэньсяна, приказал ему, — снимай обувь! — тон был настолько строгий, что, казалось, сделай малейшую попытку не подчиниться, и тебя сразу начнут колотить.
— Зачем? Что вы хотите делать? Мы тоже революционеры... — Шао Гэньсян, полагаясь на то, что нас больше, надменно кося глазами, ответил на приказ того человека.
— Пустые слова, приказывают разуться, значит разувайся!
— А если не разуюсь, тогда что?
— Посмеешь не снять свою обувь? Да на ней же контрреволюционный лозунг!
— На... обуви?!
— На обуви тоже появились контрреволюционные лозунги!
Таким образом реакционный азарт перешел всякие границы. Контрреволюционные методы действий дошли до крайностей.
Мы бестолково тратили время, глядя на то, как эти парни чистят подошвы обуви Шао Гэньсяна.
Он в нашей школе кандидат в баскетбольную команду. На нем были высококлассные красивые баскетбольные туфли новой марки «Хуэйли», недавно появившиеся в продаже.
Шао Гэньсян был человеком, который превыше всего ставит воздействие на человека палкой и окриком, он походил на решительного глиняного божка с тупым взглядом.
— Быстрее снимай! — противоположная сторона проявляла нетерпение.
— Вы несете чушь! — сквозь зубы жестко процедил Шао Гэньсян.
— Этот ребенок не слышит чему его учат!
— Революция всегда права!
Двое парней из противоположного лагеря, споря с ним, засучили рукава, бесцеремонно опрокинули его и насильно сняли туфли.
Мимо проходила группа очень рослых босоногих китайцев, один из них с горькой усмешкой сказал Шао Гэньсяну:
— Даже нас, провинциальную баскетбольную команду, разули такие же вот пацаны. Юный друг, зачем упрямишься? Здесь не разуют, так на другом перекрестке задержат, рано или поздно придется разуваться, так уж лучше раньше.
Члены баскетбольной команды провинции вприпрыжку прошли мимо нас. Яркое полуденное солнце жгло макушки голов. Асфальтовое покрытие от жары размягчилось. В некоторых местах битум расплавился. Следом за баскетбольной командой на улице остались глубокие следы очень крупных ног.
— Я считаю до трех и, если после этого добровольно не снимешь туфли, то потом пеняй на себя, мы не станем с тобой церемониться, — выставил Шао Гэньсяну «последнюю дипломатическую ноту» предводитель противной стороны.
— Раз.
— Снимай, снимай! Быстро снимай, чего опешил! — Ван Вэньци взял на себя инициативу поторопить Шао Гэньсяна.
— Как же я пойду по улице босым? — пробурчал Шао Гэньсян.
— Два.
Как только последовало «три», Шао Гэньсян мгновенно нагнулся и торопливо начал снимать обувь.
— Возьмите! — Шао Ганьсян, держа в руках туфли, со злостью повернулся к насильникам.
— Положи на землю, — ответили ему небрежно, Плечи Шао Гэньсяна выпрямились, на миг застыли, пальцы рук постепенно расслабились и пара туфель упала на землю.
Один из противной стороны, присев на корточки, взял один из них, нашел мягкое место на асфальте и, как бы ставя печать, обеими руками с силой прижал туфель к нему, выдавил оттиск подошвы и, глядя в лицо Шао Гэньсяну, сказал:
— Надеюсь тебе понятно, что на подошве есть иероглиф «Мао», — и сразу же выхватил из кармана зажигалку, брызнул на туфли бензина и поджег.
Их «революционное» действие закончилось, они ушли с независимым видом.
Мы молча смотрели как от пары туфель поднимался густой дым, скрывая языки пламени. Едкий запах горящей резины медленно расползался вокруг.
Шао Гэньсян уныло повесил голову, как будто находился на скорбной траурной церемонии по случаю кремации человека.
Жизненные условия в его семье были ненамного выше наших. Я понимал, что в душе ему очень жаль утраченные туфли. Он наверняка обул их не больше чем три дня назад. Цена пары таких туфель в тот год для учащихся была высокой — больше 12 юаней, это была известная марка «Хаохуа».
Когда туфли сгорели, все окружили кучку пепла и, присев на корточки, обсуждали какие же черты иероглифа были на них. Решили, что больше всего они походили на иероглиф «Мао». Это было странное умонастроение. Каждый прежде всего в душе решил, что на следе подошвы несомненно есть, иероглиф «Мао», а потом уже стал воображать те черты, которые составляют иероглиф «Мао». Гении фантазии могут сочинить что угодно, однако провести четкую грань между сходством и несходством очень трудно.
— Да пропади он пропадом, похож на задницу! — выругался Шао Гэньсян.
Все головы в этот момент поднялись. Все взоры обратились в сторону Шао Гэньсяна. Настроение людей вмиг изменилось, все сразу же притихли, нахмурились.
Иероглиф «Мао» из фамилии председателя Мао он назвал похожим на задницу!
Струны в голове каждого из нас рефлекторно натянулись, сообразно обстоятельствам.
Струны в голове Шао Гэньсяна в этой ситуации натянулись еще сильнее. Он потерял дар речи, был в панике и растерянности, заикаясь упрямо твердил:
— Я не говорил! Я не говорил, что похож на... Все равно не произнес тот иероглиф! — теперь это был совсем другой человек, не имеющий ничего общего с тем, который в школе мне и Ван Вэньци довольный собой демонстрировал на календаре иероглифы «убивать» и «сокрушать».
Его жалкий вид тронул наши души. Ван Вэньци примирительно сказал:
— Никто не подтвердит, что ты произнес какой-то иероглиф. Но ты, мальчик, будь внимательнее, когда говоришь, прежде чем что-либо сказать, сначала подтяни струны в голове.
Шао Гэньсян с видом несчастного человека подобострастно, как перед владыкой, твердил:
— Да-да, так точно, совершенно верно...
Несколько дней назад в целях внедрения пролетарской идеологии и искоренения буржуазной на оживленных улицах устроили перехват женщин в обуви на высоких каблуках. Снятую с них обувь тут же сжигали, мужчины, наблюдая за проходившими босыми женщинами, потешались над ними, давая волю языкам и получая утеху для взора. Женщины в свою очередь вознаграждали их советами немедленно сходить к психиатру для обследования на полноценность.
На двух улицах впереди нас происходило крупномасштабное сожжение. Густой дым поднимался на высоту 3–4-этажных зданий. Резкий неприятный запах гари лез в нос.
Люди, которые видели это, рассказывали, что в числе только что купленной в специальном магазине и еще не распакованной обуви обнаружили несколько сот пар «контрреволюционной обуви» с иероглифом «Мао» на подошве, все они были облиты бензином и сожжены.
— А можно ли было не жечь? Что ни говори, а несколько сот пар! Сколько же они стоили ? Сто миллионов юаней тоже сожгли. Видите ли никак нельзя было позволить, чтобы каждый день тысячи и тысячи человеческих ног топтали председателя Мао», — сказал торопливый пешеход и быстро удалился.
В тот день в городское управление общественной безопасности мы не пошли.
С тех пор Шао Гэньсян ни разу не поднимал вопрос о контрреволюционных лозунгах, обнаруженных в его домашнем календаре. С каждым днем, даже с каждым часом одни новости сменялись другими. Сам он о своей находке не напоминал, другие тоже об этом деле забыли.
В тот день я вернулся домой лишь в пятом часу дня. Мать только что приготовила в котле паровые пампушки и с еще не вымытыми руками стала рассказывать мне о новости, которую обсуждали соседские невестки. Они говорили, что дело о защите мною и дядей Лу революционных дацзыбао стало известно в коммуне. Коммуна об этом доложила в районный комитет. А райком специально присылал человека, чтобы выяснить этот вопрос на месте. Так как меня дома не было, он пригласил дядю Лу и беседовал с ним. Сказал также, что об этом они информируют городские власти, возможно, как пример, опубликуют в газете под заголовком: «Новые люди — новые дела в «Великой пролетарской культурной революции».
Когда мать говорила мне об этом, на ее изможденном лице широко разливалась радостная улыбка.
С тех пор как вчера вечером у нас побывал Ван Вэньци, мои нервы сильно возбудились и напряглись, я совершенно обессилел. Поэтому выслушав мать, я, не говоря ни слова, завалился на кан, закрыл глаза, пытаясь заснуть, но сон никак не шел. В моем полусонном мозгу все время всплывало красное солнце. Краски зари пронизывали мое подсознание. Мне смутно виделось, что наш дом превращается в большую литейную печь. В моем сердце накапливалось и росло тревожное чувство. Как вода, прорвавшая плотину, оно сразу заполнило кровеносные сосуды моего тела, бурно билось внутри. Мне хотелось изо всех сил рвануться вперед и выскочить из дома, но что-то причиняло боль, что-то звало, что-то в этом мире разбилось вдребезги, произошло страшное дьявольское дело, которое следует оплакивать горючими слезами. Казалось, только когда все это полностью рассеется, только тогда в мою душу вернется покой...
— Эръе, проснись, к тебе пришел дядя Лу! Мне совершенно не хотелось даже пошевелиться.
— Слышишь?! У дяди Лу есть к тебе разговор, — голос матери посуровел. Я всего лишь потянулся.
Сев на край кана, дядя Лу достал из кармана сигарету и, закурив ее, спросил меня:
— Тебе мать уже рассказала? — Я кивнул головой.
— Все, о чем они меня спрашивали и что я отвечал, я доподлинно повторю тебе, — необычно торжественно сообщил мне дядя Лу.
— Не повторяй, ведь мать рассказала же мне.
— Твоя мать не могла рассказать подробности. Я повторю еще раз в деталях, чтобы избежать недоразумений между нами по этому делу.
Я, не понимая смысла его слов, тем не менее ни разу не перебил его, пока он говорил.
— Приходила женщина, она из районной группы по руководству движением — дядя Лу затянулся сигаретой. Не знаю по какой причине, но его руки подрагивали. — Она опросила меня, что я в то время думал, то есть в тот момент когда пластмассовой крышкой прикрывал дацзыбао. Я сказал, что дацзыбао являются гордостью всех женщин нашего двора «четырех хорошо», включая также товарища У Шучжэнь. Моя жена занимает революционную позицию поддержки и уважения многоуважаемого председателя Мао. Днем секретарь коммуны выступал с докладом в нашем дворе по мобилизации домашних хозяек, призывал, чтобы они сделали свой вклад в дело «Великой культурной революции», наш двор привел в пример всей улице, рассказал, как сильный дождь промочил меня до нитки. Ну, как я ей ответил? Пойдет?
— Пойдет, ответил очень хорошо.
Он взглянул на меня, еще раз затянулся сигаретой и только после этого продолжил рассказ:
— Кроме того, она спросила меня: «Почему у вас такие глубокие чувства к председателю Мао?» Я сказал ей: «Товарищ, вы не думайте, что я один сделал это, нас было двое. Вторым был учащийся средней школы из нашего двора. Защищая эти дацзыбао, он поранил себе руку. И если ставить в пример наши действия, то надо одновременно называть нас обоих. Почему у нас с тобой такие глубокие чувства к председателю Мао? Потому что без председателя Мао не было бы коммунистической партии, не было бы нового Китая». Вот так я сказал, ничего другого. Хочешь верь, хочешь нет. При этом присутствовала староста улицы, если не веришь, спроси у нее...
Мать, резавшая на кухне овощи, в этот момент, высунувшись наполовину, сказала:
— Вот такое произошло событие.
Дядя Лу хотел непременно пересказать мне сам, долго волновался, боясь, что если об этом напишут в газете и будет названо только его имя и не будет моего, или о нем упомянут больше, а обо мне меньше, то я в душе могу подумать о нем как о корыстном человеке, присвоившем себе заслуги других.
— Дядя Лу, на самом деле ты явился зачинателем. Заслуга прежде всего должна принадлежать тебе — восстановил я справедливость. Я был очень признателен дяде Лу за то, что разговаривая с работником группы руководства движением райкома, он особо подчеркивал мою роль.
— В действительности самая большая заслуга принадлежит твоему брату, — поскромничал дядя Лу.
Из маленькой комнаты доносился громкий храп, мой старший брат в это время как раз спал беспробудным сном. Не знаю сколько снотворного дала ему мать.
— Я, честно говоря, не думал, что о таком мелком эпизоде могут написать в газете. Я — снятый с должности, сегодня сборщик старья... и вдруг мои фамилия и имя появятся в газете... ха-ха... Теперь некоторые больше не посмеют смотреть на меня свысока, да? — спросил меня дядя Лу, раскатисто захохотав.
Я видел, что внутренне он очень взволнован, поэтому рука, державшая сигарету, слегка подрагивала.
— Конечно! Кто теперь станет презирать тебя, это равносильно третированию настоящего пролетарского революционера, — сказал я.
— Сестрица Лян! Сестрица Лян! — к нам с напряженным выражением лица рвалась тетушка Мэй. Прежде всего спросила, — у тебя есть крышка для котла?
— Хочешь взять попользоваться? — спросила мать.
— Ай! Да не нужна она мне! Идет молодой человек, проверяет каждый дом, каждый двор есть ли у людей крышки на котлах. В других дворах уже проверил. Моя девочка показала мне жестами, что на крышке вашего котла, сверху, есть иероглиф «Мао». Не вздумай затопить котел. Люди, которые придут, с удовольствием расскажут об этом другим... О боже, да у меня же в котле тушатся овощи!... — не договорив, тетушка Мэй повернулась и мигом вылетела со двора.
Пока она бежала домой, успела бросить еще несколько фраз:
— Чтоб они подохли эти контрреволюционеры. Чем только могут стараются навредить председателю Мао. Они не удовлетворили свою ненависть к нему тем, что топтали его ногами! Теперь еще захотелось попарить его над котлами!
Матерью овладело душевное смятение. Глядя на клубы пара, она стояла в оцепенении.
— Быстрей снимай котел, — сказал дядя Лу.
— Дядя Лу, как Сяоэр может не верить?!
— Еще не готово, вот-вот закипит, — всполошилась мать.
— В такой ответственный момент ты еще говоришь о какой-то готовности! Если они сейчас придут, я займу их разговорами во дворе, а ты быстрей снимай котел! — сказал дядя Лу, торопливо уходя из дома.
— Начнем с этой двери и так пойдем по порядку.
Во дворе переполох. Молодой человек действительно явился быстро.
— Ма, ты еще не убрала котел, не разрешай им врываться в дом, посмотри, над котлом как раз поднимается пар, — всполошился я.
Мать в это время сняла крышку котла, да неудачно справилась с ней, и пар обдал ее руки. Она тем не менее не выпустила крышку из рук, посмотрела, вокруг и, не видя, куда ее можно спрятать, в самый критический момент увидела открытый чан с водой, быстро сунула ее в чан и закрыла; взяла нарезанные овощи, свалила лопаткой в воду на дне котла и перемешала.
Когда пар только успел рассеяться, три или четыре человека ворвались в дом.
— Где ваша крышка от котла? Дайте нам взглянуть на нее!
— Старую выбросили, а новую еще не купили!
Мать боялась поднять голову и все время помешивала в котле.
— Правда?
— Стала бы врать?
Они глазами ощупывали маленькую кухню.
— Какое у вас происхождение?
— Я из низших середняков, сейчас мы по положению рабочие.
— Извините за беспокойство, — вежливо извинились они и тут же удалились.
— Наш двор — двор «четырех хорошо»! Все в нем из рабочих. Мы все организовали первую революционную дацзыбао. И как это у нас могли быть туфли или крышки котлов с контрреволюционными лозунгами? — во дворе заверил их дядя Лу.
— Учиться у революционных масс двора «четырех хорошо»! Привет революционный массам двора «четырех хорошо»!... — искренне выкрикнули они несколько призывов и, наконец, ушли.
Мать вошла в комнату, села на край кана и схватилась руками за грудь, лицо ее стало серым.
Я с чувством беспокойства за нее спросил:
— Ма, что с тобой?
— Сердце... сильно колотится. Ох если бы они извлекли из чана... пропаренного и опущенного в воду председателя Мао... как я взяла на себя такое прегрешение, — сказала тихо мать.
На ее руках вскочили волдыри.
На следующий день в городе широко развернулись лозунги «разгромим Ню Найвэня».
Ню Найвэнь был начальником отдела пропаганды городского комитета Харбина. В эти дни непонятно каким образом из продажи исчезли сигареты «Харбин». Покупать их бросились даже некурящие. Пачки с сигаретами тут же вскрывали и рассматривали на них три иероглифа, составляющие слово «Харбин», поворачивая их так и сяк, просматривая на солнце. Лучи солнца просвечивали бумагу пачек и можно было увидеть отражение иероглифов «Харбин», однако первоначально начертанных как «император Ню Найвэнь».
Тут люди само собой вспомнили о случае из истории, когда в чреве рыбы была найдена записка со словами «император Чэньшэ», являвшимися паролем к началу восстания.
Исторический опыт следует помнить. В истории Китая во всех династиях, во все эпохи мог быть лишь один владыка. И население Китая может признать лишь одного императора как «действительного владыку, ниспосланного небом».
Естественно и новый Китай хочет иметь только одного вождя. Кто такой Ню Найвэнь? Если Ню Найвэнь император, то куда девать председателя Мао?
Дацзыбао разоблачали Ню Найвэня в том, что в разговорах с нижестоящими он всегда говорил им примерно такие слова: «Вы должны хорошо работать. Все, что вы делаете, я вижу. Запомните это. Я никогда не забываю вас».
В это время некоторые «революционные» интеллигенты стали рассказывать широким революционным массам о том, что перед восстанием Чэньшэ его единомышленники говорили: «Если станете богатыми и знатными, не забывайте друг о друге».
Вот тогда широкие революционные массы глубоко поверили, что действительно существует контрреволюционная клика Ню Найвэня, готовая на вооруженное восстание. Надо «двигаясь по плети, добраться до самой тыквы», выкорчевывать их одного за другим, брать за ушко да вытаскивать на солнышко, отправляя в дальнюю дорогу.
«Великую культурную революцию» отделяет от нас ровно 20 лет. Со временем я понял многие события тех лет. Формы и способы познания и анализа проблем китайцами в то время и логика их мышления были до смешного абсурдными. Позиция серьезного анализа, а также абсурдность происходивших тогда событий дали несравнимо богатый фактический материал нынешней китайской литературе для черного юмора и броского искусства. Единственно, что я по-прежнему не могу понять — это как можно объяснить с точки зрения физиологии и социологии проницательность китайцев почти по всем возникавшим «проблемам». Как бы я обстоятельно ни продумывал и ни взвешивал все это, все равно не могу докопаться до истины. Поэтому меня берет сомнение относительно конструкции сетчатки глаза китайца. Уверен, что она устроена не так как у любого другого человека во всем мире. Не буду говорить об иероглифе «Мао» на подошвах высококачественных баскетбольных туфель, как не стану рассуждать и по поводу этого же иероглифа на металлических крышках котлов, остановлюсь специально на иероглифах «император Ню Найвэнь», обнаруженных на пачках сигарет «Харбин». Как их только обнаружили? Оказывается их можно найти путем трех процессов — переворачивания пачки обратной стороной, опрокидывания и просмотра в лучах солнца. Случайность? Не зная этой закономерности, можно сотни тысяч раз, миллион раз, а то и десять миллионов раз крутить в руках эту пачку и не наткнуться на эту случайность. Если только перевернуть обратной стороной и не опрокинуть, ничего вы не обнаружите. Если только опрокинете, но не перевернете, тоже ничего не найдете. Если и перевернете, и опрокинете, но не направите на солнце, опять-таки ничего не достигнете. И только в случае совокупного соединения вместе всех процессов можно обнаружить упоминаемые иероглифы.
Такое стечение обстоятельств возникает чрезвычайно редко.
Да, правильно. В жизни человечества есть несколько таких примеров. Яблоко упало на голову ученого и ученый открыл земное притяжение. Ученый во сне увидел оригинальное изображение и, когда проснулся, его осенило. По ассоциации он придумал нечто Научное. Например, «обнаружил закон цепной конструкции». Но все это лишь случайности в истории самого человечества. Если яблоко должно не просто упасть на голову ученого, а упасть на лысую голову в определенный час, в определенную минуту, в один из ясных дней, такая случайность разве не станет арабскими сказками из «Тысячи и одной ночи»? Обязательно станет. В чьей голове вдруг родилось субъективное мнение о том, что на пачке сигарет «Харбин» есть контрреволюционный лозунг? Неужели существуют такие особые способности?
Не знаю, есть ли в настоящее время такого рода особые способности у китайца. Интересно, передаются ли они через ген по наследству в следующее поколение, а затем и в последующие за ним? Написав об этом, я невольно вспомнил слова писателя Лу Синя: «Берегите, берегите детей!»
* * *
Под предводительством Ван Вэньци я вместе с ним два дня шатался по городу. Везде мы видели зрелища «Великой культурной революции».
Первые несколько лет «Великая культурная революция» была исключительно бурной не только благодаря политическому энтузиазму китайцев, но еще и потому, что им нравилось смотреть на ее зрелища, как на развлечения. А зрелища любят не только китайцы, но и все человечество.
Гюго говорил: «Толпа привыкла к долгому ожиданию зрелища публичной кары».
Когда на Гревской площади Парижа проходила жестокая пытка Квазимодо, Гюго так ее описал: «Появление четырех сержантов с девяти часов утра у четырех углов дозорного столба сулило толпе не одно, так другое зрелище: если не повешение, то наказание плетьми или отсекновение ушей, — словом, нечто любопытное. Толпа росла так быстро, что сержантам, на которых она наседала, приходилось ее «свинчивать», как тогда говорили, ударами тяжелой плети и крупами лошадей... Толпа разразилась хохотом... Особенно весело смеялись дети и молодые девушки».
Прочитайте 258 страницу «Собора Парижской богоматери». Гюго пишет: «Простонародье, особенно времен средневековья, является в обществе тем же, чем ребенок в семье. До тех пор, пока оно пребывает в состоянии первобытного неведения, морального и умственного несовершеннолетия, о нем, как о ребенке, можно сказать: в сем возрасте не знают состраданья».
Если то, что написано в книге, немного изменить, то можно описать все те сцены, зрелища, которые я видел. Читаем в книге: «Во всей этой толпе не было человека, который бы не считал себя вправе пожаловаться на зловредного горбуна Собора Парижской богоматери». Применяем к нашей действительности: в толпе не было человека, который бы не считал себя вправе не проявлять жалости к «каппутистам», «правым», «реакционным авторитетам в науке», «чуждым классовым элементам»...
«Жестокая пытка, которой он подвергся, и его жалкое состояние после пытки не только не смягчили толпу, но, наоборот, усилили ее ненависть, вооружив его жалом насмешки».
Только замените слово «пытка» на слово «избиение» и достаточно. «Когда было выполнено «общественное требование возмездия», наступила очередь для сведения множества личных счетов».
Сейчас мы можем написать: когда закончилось избиение, наступил черед для сведения многочисленных личных счетов.
На площадках, где происходили избиения во время «Великой культурной революции», я не видел и не слышал, чтобы появилась хотя бы одна «Эсмеральда».
Не знаю, сохранилась ли до сих пор привычка у французской толпы наслаждаться публичными пытками. У китайцев такая привычка существует по сей день.
Еще недавно в газете прочитал: на улице в одном из крупных северных городов была донага раздета юная девушка, многие сотни собравшихся, окружив ее, в течение двух часов наблюдали это зрелище.
Что не вызывает у китайцев восторга, так это стриптиз, но они очень любят смотреть на женскую наготу.
Некоторые привычки порой делают толпу и народ страшнее шакалов и гиен.
Посмотрев два дня на зрелища, я почувствовал, что публичные избиения для людей почти не страшны. Их больше пугают молниеносные побои. Вы в тесноте идете по улице плечом к плечу с другими или среди множества людей, читаете дацзыбао и вдруг слышите, что кто-то громко выкрикивает ваше имя, потом грозным голосом вещает: «Ты буржуазный щенок!» Или что-нибудь в этом роде. И у тебя такое ощущение, как будто твое тело пронзило электрическим током в 120 тысяч вольт. Все окружающие тебя люди с шуршанием одновременно шарахаются от тебя во все четыре стороны, стараясь прежде всего отмежеваться и уйти подальше от греха, оставляя одного средь бела дня напоказ всем. Потом постепенно вокруг тебя образуется кольцо, взгляды всех обращены на тебя как на оборотня, принявшего облик человека и смешавшегося с толпой.
Может быть ты действительно «буржуазный щенок». А может быть вовсе и нет, ты, наоборот, самый что ни на есть красный. Но в тот час, в тот момент ты осмеливаешься поверить в свое прекрасное происхождение. У тебя может возникнуть сомнение в отношении самого себя. Относишься ли ты к пяти красным? Действительно ли ты уверен, что принадлежишь к пяти красным? Возможно твое происхождение вовсе и не такое уж красное как сам о нем думаешь? Если не так, то почему назвали «буржуазным щенком»?
А тот человек, который так дико и яростно крикнул, наверно твой враг. Он всегда питал к тебе ненависть, но молчал, он лишь мечтал о том, чтобы свести с тобою счеты, неожиданно, застигнув врасплох, поставив тебя в затруднительное положение и осрамив перед лицом массы людей.
Вполне вероятно, что им может оказаться твой друг, сыгравший злую шутку, чтобы пощекотать твои нервы и сердце, получить наслаждение.
Возможно, он, выкрикнув дикое обвинение, тут же скрылся, а ты взглядом ищешь его по сторонам и не находишь знакомого тебе человека. Ты строишь предположения, что слова «буржуазный щенок», которые кто-то выкрикнул, к тебе не относятся, они принадлежат человеку одинаковой с тобой фамилии и одинакового имени. Но ты средь бела дня уже засветился вместо другого. Ты хочешь, не привлекая ничьего внимания, естественно, неторопливо уйти. Но ты окружен толпой, который бы «засветил себя», не обнаружился. Осмелишься ли ты после этого, не обращая ни на кого внимания, естественно, неторопливо исчезнуть? В такой ситуации разве не станет ясно, что это касалось тебя. И если, паче чаяния, ты захочешь уйти, снова услышишь яростный выкрик: «Ты куда собрался уходить?!» Разве тебе не лучше остаться на месте в кольце окружения? Если ты тем не менее попытаешься ускользнуть, ты только подтвердишь, что у тебя рыльце в пушку.
Ты, возможно, чувствуешь абсурдность положения: как же так, твои родители относятся к разряду пяти красных, а их наследник — неизвестно к кому? Тебе хочется спросить об этом, пошутить, хочется шуткой выразить уверенность в том, что ты красный. Но в кольце окружения, на виду у всех разве ты осмелишься шутить? Лица всех окружающих тебя людей суровы или как минимум серьезны. Самые добрые лица и те разве что не будут ничего выражать. Не будет даже испуганных выражений. Они измеряют тебя, изучают, разглядывают, таращат на тебя глаза. По выражениям их лиц видно, что каждый из них про себя надеется приблизиться к тебе и начать чесать об тебя кулаки, побрить твою подлую голову, надеть на тебя колпак позора, навесить ярлык, очернить, вынудить тебя согнуться, встать на колени и покаяться... Возможно, они, как и ты, тоже хотят только увидеть какое-нибудь зрелище. Такая атмосфера давит на тебя настолько, что ты уже сомневаешься на самом ли деле ты принадлежишь к красным, где уж тут шутить?
Тебе хочется возмутиться. Но ты не осмеливаешься. Ты не посмеешь уйти, не посмеешь улыбнуться, ты можешь лишь, оцепенев, глупо стоять в кольце окружения — в неуверенности, страхе и растерянности. Твоя душа ушла в пятки, ждешь, что будет дальше. Если ты все же сможешь усилием воли взять себя в руки, не растеряешься, то докажешь, что ты очень волевой человек. А если ты человек слабой воли? Если ты не из красных, тогда из черных? Когда подвергаешься такому неожиданному нападению, когда ты попал в такое плотное окружение, скажи, ты сможешь взять себя в руки? Если не сможешь, то тогда ты обязательно волей-неволей проявишь себя как «истинный щенок». Лицо твое невольно побледнеет, также непроизвольно опустятся плечи, склонится голова, согнется поясница. Ты приготовился к тому, чтобы «честнейшим» человеком распоряжались как хотели. И тогда окружавшие тебя люди увидят в тебе именно «щенка». Они с радостью начнут избивать «щенка». Из-за отсутствия других зрелищ они очень обрадуются случаю «повеселиться». «Щенка» можно бить всегда и везде. А так как никакого более серьезного зрелища нет, то вытянут для развлечения тебя. Их поступки и действия защищены тем, что ты «щенок». А они делают «революцию». Поэтому бить тебя — значит делать революцию.
«Хороший человек бьет плохого, что ж, так ему и надо!» — говорил любимый заместитель главнокомандующего Линь. У тебя такой жалкий вид! Ты вызвал у них жалость к себе? Не тут-то было. Они совершенно не способны жалеть. Их взгляды, только что не имевшие выраженного содержания, в этой ситуации приобрели четкий определенный смысл. Их лица, только что не имевшие настоящего своего выражения, в этот момент приобрели его. По их лицам и по их глазам ты можешь заключить: для них ты не человек. Ты не вздумай пытаться защищать свое достоинство. Они вперили свои взгляды в тебя, чтобы растоптать твое достоинство. Они направили на тебя свои взоры, полные презрения к твоему достоинству. И тогда твои ноги начинают дрожать, отказываются держать свое тело.
Кажется, последствий не будет — это тебе еще повезло. Три минуты, пять минут, десять минут, даже двадцать минут никто угрожающе не кричит на тебя, вокруг мертвая тишина. Мало-помалу люди, окружавшие тебя кольцом, разошлись. И только один «щенок», мелкий персонаж остался, у них к тебе нет никакого интереса. Люди разошлись, а ты и не знаешь. Так как стоишь, согнувшись в пояснице, так как опустил голову. У тебя даже не вызвало удивления, почему вокруг тебя ничего не происходит. Почему никто не выкрикивает лозунги, почему сзади никто не выкручивает тебе руки, не давит на голову? Ты робко поднимаешь голову и только тут обнаруживаешь, что люди уже разошлись. И тогда ты торопливо спасаешься бегством. Ты прибегаешь домой, ты по-прежнему потрясен, не можешь успокоиться. Теперь ты понял, что такие же как ты «щенки» все еще прячутся по домам, не высовывая носа за ворота, где чувствуют себя в относительной безопасности.
Ты был абсолютно уверен, что ты «красный», а с этого момента у тебя возникли сомнения. Отныне в твоей душе поселилась тревога. Ты вновь и вновь спрашиваешь своих родителей насчет чистоты и незапятнанности биографии. Через родителей наводишь справки о дедушке и бабушке по линии отца и матери. Они, обращаясь к небу, дают тебе клятву в том, что в твоих венах течет только пролетарская кровь, и нет ни капли другой. Ты же не можешь легко поверить. Твое сомнение сильно повлияло на них, они также основательно усомнились в своей прекрасной биографии и происхождении. Так же как и ты они стали сомневаться в них. Даже если они не сомневаются в самих себе, то могут, как и ты, усомниться в них, усомниться в своем отце и своей матери. И тогда неизлечимое сомнение охватывает всех членов семьи, родственников, друзей. Теперь ты уже боишься выйти за дверь, среди бела дня рождается страх, в большой семье разыгрывается то, что произошло день назад. Спрятавшись дома, ты в невыносимом страхе проводишь целые дни. Ты боишься тех слов, которые слушал там, они каждый день, каждый час, каждую минуту, не давая опомниться, сотрясают твои барабанные перепонки.
Побывав несколько раз очевидцем «молниеносных избиений», возникавших по неожиданному кличу одного человека и подхватываемых «революционными массами», подливавшими масла в огонь, я тоже не избежал сомнений насчет своей родословной.
А безупречно ли мое «красное» происхождение? Можно ли утверждать, что мой отец, мой дедушка, мой прадедушка, дедушка отца прадедушки были трудящимися?
Одна моя одноклассница по фамилии Кун, самая честная ученица в классе, тоже была «красной». Отец рабочий, мать тоже рабочая. Неожиданно, в один прекрасный день была выведена на чистую воду. Оказалось, что ее дедушка по матери принадлежал к лавке конфуцианцев в каком-то колене. Еще в период «Маньчжоуго» публиковалось немало статей, в которых автор высказывал восхищение Конфуцием, всячески ему поклонялся.
После освобождения вплоть до последнего времени он много раз был членом Административного совета города. И хотя человек давно умер, однако написанные им статьи существуют. Написано черным по белому, а написанное пером не вырубишь топором. Из-за этого она стала живой мишенью для многих ее подруг. Надо отметить, что девочки критиковали коллег своего пола более жестоко и беспощадно, чем мальчишки критиковали как женскую половину, так и мужскую. Когда женский пол слишком революционизируется, он становится страшным. Если женщинам однажды понравится смотреть «зрелища», понравится создавать их, то они становятся опаснее мужского пола в несколько раз. Что уж говорить о том возбуждении, какое подняло у них «высочайшее указание» о том, что революция — это не живопись и не вышивание, она не может быть такой изящной, такой деликатной, такой мягкой и вежливой...» Тем более, что еще во время учебы в школе они в большинстве своем были энтузиастами «политической деятельности», могли «быть грозой» и полностью поступиться «живописью и вышиванием». А также никогда не были изящными, деликатными, мягкими в обращении с людьми. А тем более если говорить о «Великой культурной революции», то это не «деятельность», это «движение, связанное с изменением человека, изменением партийной окраски, с возможностью страны социализма навечно остаться красной». Та ученица по фамилии Кун боялась ходить в школу. Они все равно не оставили ее в покое. Организовавшись, пошли к ней домой и побрили голову. Кроме того, специально для нее сделали белую дощечку, на которой написали: «Отпрыск Конфуция» и заставили носить на себе, довели ее до психического расстройства, только тогда объектом «революции» сделали другого человека.
Однажды вечером, когда братьев и сестер не было дома, у нас с матерью произошел серьезный разговор.
— Ма, в отношении происхождения моего отца нет никаких сомнений?
— Нет. Конечно, нет.
— А в отношении дедушки?
— Тем более нет. Батрак. Это еще ниже, чем бедняк.
— А у тебя?
— У меня?
— Да, со стороны бабушки по твоей линии?
— Я... считай происхожу из середняков.
— Считай? Считать ближе к беднякам или к кулакам?
— Это я и сама точно не могу сказать.
Точно не могу сказать... В душе моей сразу же стало как-то тускло. Я снова спросил:
— Наша семья имеет какие-нибудь родственные отношения с Лян Цичао?
— Лян Цичао? Для чего это тебе?...
— Реформисты. Соглашательские элементы.
— Не слышала, чтобы твой отец упоминал о таких родственниках. А если даже и родственник, то, наверняка, очень дальний.
— А с Лян Чжуншу?
— Почему этот человек тебя интересует?
— Я имею в виду Лян Чжуншу из «Речных заводей».[16] Разве Ян Чжи не оказался в безвыходном положении из-за того, что сопровождавшийся им для него мрамор был у него отобран?
— Откуда мне это знать? Да и надо ли притягивать то, что было несколько поколений до нас!
Я немного подумал, но так и не вспомнил людей по фамилии Лян из числа ныне живущих и исторических личностей, которые являются или были на стороне реакционеров и, возможно, могли иметь отношение к нашему роду, и немного успокоился.
Неожиданно мать сказала такое, что и в голову не могло придти, как будто окатила меня ушатом ледяной воды. Заикаясь и глотая слова, она сказала:
— В родословной твоего отца... нет ни сучка, ни задоринки. Правда, сам он входил в секту «Игуаньдао»,[17] два раза присутствовал на проповедях. Еще до того как «Игуаньдао» стала реакционным нелегальным религиозным союзом... он оставил ее...
«Игуаньдао»! О боже, боже! Насквозь реакционный нелегальный религиозный союз!
У меня сразу закружилась голова.
«Лян Сяошэн! Ты щенок приверженца реакционного нелегального религиозного союза! Втерся в ряды «красных»! Склони свою собачью голову!..»
Эти звуки слово за словом, все громче гудели в моих ушах. Я сосредоточенно смотрел на мать, долго не мог выговорить ни единого слова.
С того дня, нет, с того момента в моей душе поселилась тревога.
Я боялся ходить в школу. Боялся обратить на себя внимание самоуверенных «красных», разоблачения своей сущности как ложного «красного». Я боялся молниеносных потасовок. Боялся всего и вся.
То была неожиданная атака других на твою душу.
Однако у меня не было оснований совсем не посещать школу. Занятия прекратили ради участия в «революции». Я должен делать «революцию». Я не могу ее не делать. Если не участвовать в «революции», потом, когда она успешно закончится, я не смогу дать ей правильную оценку. Хорошо оценить — это очень-очень важно. Не важно чем ты будешь заниматься: ходить в школу или искать работу, она все равно очень и очень важна. Активность участия человека в «Великой пролетарской культурной революции» будет водоразделом между искренним участием и ложным. Именно такой призыв издал Красный штаб председателя Мао.
Водораздел!
Я все еще боялся ходить в школу, но ежедневно ходил. Участвовал в самых различных собраниях-потасовках. С независимым видом выкрикивал «разгромим» этого, «выведем на чистую воду» того-то, «сожжем» того-то, «зажарим в масле» того-то. Гордо выкрикивая призывы, до смерти пугался сам.
«Лян Сяошэн, ты щенок последователя реакционного союза. Ты...» Сколько раз я, казалось, наяву слышал эти возгласы.
В моих ушах они стали возникать как галлюцинации.
И только когда вместе с другими гордо выкрикивал призывы «разгромим», «выведем на чистую воду», «сожжем», «зажарим в масле», только тогда мог несколько оправиться с тревогой, поселившейся в моем сердце.
Но избавиться от нее очень трудно. Ты придавишь ее, она снова выползает. Ты снова прижмешь, она опять высовывается. Каждый раз, когда она выползает, она заставляет тебя еще яснее чувствовать, что ты абсолютно никак не можешь победить ее.
Тогда я кричал громче других, с большим гневом, доказывая другим, что во мне нет тревоги.
Через несколько дней мы получили письмо от отца из Сычуани. Очень короткое, написанное неровным почерком на половинке листа, с заменой им иероглифов другими, созвучными с теми, которые должны были быть написаны.
«Сегодня я отправил письмо с единственной целью, чтобы уведомить вас о том, что я был выведен на чистую воду. Так как я вступал в секту «Игуаньдао». Я захотел честно признать вину, вы тоже должны честно за меня признать вину. Ни в коем случае не вздумайте сопротивляться движению. В заключение давайте провозгласим бессмертие многоуважаемому председателю Мао. »
Когда я прочитал письмо матери, она как будто закоченела, как это бывает при морозе в 270 градусов.
Хотя мать не умела читать иероглифы, тем не менее отобрала у меня письмо и широко открытыми глазами стала внимательно разглядывать его, ее изможденное лицо побелело, она повторяла:
— Не вздумайте сопротивляться движению, не вздумайте сопротивляться движению, мать не будет сопротивляться движению, ты тоже не сопротивляйся, если хоть один человек из нашей семьи станет сопротивляться, вина твоего отца еще больше усугубится...
Матери не было необходимости говорить об этом, я и так не смел противиться движению хотя бы в самом малом.
Я уже не смогу одолеть ту тревогу, которая тайно поселилась в моей душе. Она сидит во мне прочно. Ежеминутно точит мою грудь.
Я вынужден каждый день подбадривать себя, собираться с духом, делать вид отважно кричащего «красного» революционера, продолжать «делать революцию». Я перевидел все зрелища «Великой культурной революции» и пошел по второму.
К счастью, отец находился далеко в Сычуани, вести о его разоблачении не могли дойти до школы.
Я по-прежнему подло находился в рядах «красных», все еще никто не подозревал меня.
Под главенством рабочей группы мою учительницу китайского языка и литературы уже несколько раз избивали.
Считалось, что из числа учителей нашей школы выведено на чистую воду немного, однако каждый раз на общешкольном собрании их по одному под конвоем выводили на сцену, они становились в две шеренги, в общей сложности больше 30 человек. Хотя это и составляло половину учителей школы, однако по-прежнему твердили, что если разложить на всю страну, то получится всего 5 процентов. В некоторых школах было разоблачено две трети учителей, и тоже считали 5 процентов. Тогда где же те 95 процентов? Как будто не существуют. И в то же время как будто на самом деле существуют. А куда относить тех, кто был разоблачен ошибочно, или прошел проверку через «горнило классовой борьбы» ? Множество революционных борцов сложило головы за революцию, пролили кровь, посидели на «тигровой скамье»,[18] им прикрепили к пальцам бамбуковые бирки, выражающие неизменную преданность. И куда теперь относить тех, кто оказался подлинным революционером, тех, кто был выведен на чистую воду ошибочно, несколько раз подвергался избиениям?
Основываясь на своем познании этой революции, учащиеся надеялись, что среди учителей, которых не удалось вывести на чистую воду, можно выискать отдельных из них для предъявления обвинений. Все еще не подвергшиеся чистке учителя понимали друг друга без слов, размышляли друг о друге. Они тоже надеялись вывести на чистую воду еще несколько человек из своей среды, разумеется, исключая себя. А для этого надо раньше других объявить, что остался отряд чистейших революционных учителей. И тогда можно чувствовать себя в абсолютной безопасности, успокоить сердце и душу, избежать возможной беды в будущем и, проникшись пафосом, менять судьбы других. Только такая революция наберет силу.
У 30 с лишним учителей, выведенных на чистую воду, даже в результате избиений не выявили новых обстоятельств преступлений, и наши революционные учащиеся поняли, что кроме старозаветных фактов они ничего нового не добудут, поэтому энтузиазм переделать этих людей понемногу угас. Многие учащиеся надеялись, что придет день, когда можно будет вытащить за воротник на солнышко директора школы и надеть ему колпак позора, повесить бирку, побрить наголо его дьявольскую голову, измазать лицо, не боясь ничего, вдоволь поколотить его. За все время участия в грандиозной «Великой культурной революции» я ни разу не видел, чтобы хотя бы самый ничтожный директор школы был выведен на чистую воду и избит. Слишком уж большим доверием они пользовались у многоуважаемого председателя Мао. Нам самим тоже совершенно нечем было гордиться! А рабочая группа доверяла директору школы. И не только доверяла ему, но и опиралась на него. Каждый раз, когда проходило общешкольное собрание-избиение, он всегда сидел в президиуме. Слева от него находился председатель рабочей группы, справа — заместитель председателя, рабочая группа представляла Центральный комитет партии, она как бы находилась под защитой двух сверхпрочных покровителей. Мы хотели что-нибудь сделать ему, но ничего не смогли. Революционный энтузиазм, который падал с каждым днем, мы должны были поддерживать, перенося его на общество в надежде, что на основе старого энтузиазма удастся разжечь новый. Революционный энтузиазм настоятельно требовал стимулирования новейших целей. Постоянного наличия возбудителя. Только при революционном энтузиазме возможен непрерывный подъем. Утрата такого возбудителя отрицательно сказывается на состоянии революционного энтузиазма. Полная его утрата приводит к полному отсутствию энтузиазма. А в таком случае наша страна может начать новое политическое движение, так что, начинать снова? Или же наша партия может провести новую борьбу линий, так что, снова проводить борьбу линий? Наш народ потому всегда имел неослабевающий революционный энтузиазм, что всегда видел перед собой новейшие революционные цели. Впоследствии изменения в «Великой культурной революции» привели к шагам, которые действительно не имели той цели, ради которой можно было бы продолжать революцию, поэтому стали призывать революционные народные массы к революции в самих себе. Говорили: «Революция вспыхивает в глубине души». Все революционные народные массы должны изо всех сил бороться с эгоизмом, частной психологией в собственной душе. Если даже гнусный эгоизм всего лишь мелькнул как мысль, его надо жестоко вырывать с корнем. Через сами революционные народные массы обобщать теорию революции народных масс внутри себя. Приведу некоторые высказывания: «Эгоизм похож на вонючий доуфу: когда его понюхаешь, пахнет тухлым, когда станешь есть, ощущаешь аромат», «Чтобы определить настоящий ты революционер или мнимый, надо прежде всего посмотреть, способен ли ты изменить самого себя», «Для того, чтобы переделать себя, надо иметь дух, способный видеть множество красных кинжалов. Если ты не умер, то и я буду жить». Эти выражения впоследствии на сборищах по борьбе с эгоизмом приобрели значение «иметь смелость по-настоящему пойти против себя, вонзать белый кинжал, вынимать красный». Тогда появилось очень много настоящих храбрецов, способных вонзать в себя белые кинжалы, а извлекать красные». Потому что не такое уж простое дело на казенном бланке признать себя эгоистом, назвать себя алчным пащенком и грабителем. Горько рыдать и лить слезы, раскаиваться, публично клеймить себя. Мало только горько плакать, мало только раскаиваться, мало также публично клеймить себя. Надо не только взять на себя смелость пойти против себя, надо еще быть способным взять на себя слишком много, высказать людям убедительные доводы. К примеру: если я, один человек, в течение одного месяца на казенной писчей бумаге напишу пять писем, в каждом из которых по два листа, тогда за месяц использую десять листов казенной бумаги. А за год? 120 листов. А если так же как и я сделают все в учреждении? А если все миллиардное население страны сделает то же, что и я? Сколько надо будет истратить казенной писчей бумаги? Сколько получится, если это пересчитать в деньги? Если на них купить машины, то сколько можно купить? И сколько каждая из этих машин может за 10 лет произвести продукции? Если же закупить не обычную технику, а производящую лекарства? Сколько можно будет вылечить людей? Сколько можно спасти людей от смерти и ран...
Каждый, кто сделает для себя такой анализ, может почувствовать, что он заслуживает тысячу смертей, что нет ему достойной кары! Только умение произвести для себя такой анализ или, как кто-то сказал — вскрытие, может заставить человека задуматься над вопросом: надо ли тебе «на самом деле идти самому против себя».
Потом теория борьбы с эгоизмом, пришедшая из масс, снова перешла в массы, естественно призывая их «лучше бескорыстно сделать полшага к смерти, чем корыстно отступить к жизни».
И поэтому появился Цзинь Сюньхуа, он пожертвовал своей жизнью, защищая государственные лесоматериалы.
В общем, энтузиазм надо непрерывно возбуждать, имея при этом революционную цель. Наши огромные народные массы при наличии какого-нибудь революционного содержания могут мобилизовать колоссальный революционный потенциал. Поэтому председатель Мао учил нас: «Надо верить массам, доверять массам, опираться на массы, смело поднимать массы». Когда председатель Мао на трибуне площади Тяньаньмынь проводил смотр армии революционеров, он от одной крайности бросался к другой, часто махал рукой многотысячной армии «культурной революции», трижды восклицал: «Да здравствует народ!».
В обществе тоже не было новой цели, способной поднять нас на революцию. Некоторые личности среди нас, имевшие огромный интерес к избиениям, либо пользовались покровительством рабочих групп, либо оказывались разломленными в пух и прах. Будучи низвергнутыми другими революционными массами, они совершали огромные марши к объектам революции, мы же считали ниже своего достоинства сделать следующий шаг. Революционные действия, совершаемые вслед за другими, задевали наше самолюбие, да и не имели более или менее существенного смысла. Когда меняешь жизнь раньше других, тогда поднимается настроение.
То, что нужно было разгромить из четырех старых,[19] раньше нас развенчали другие революционные массы.
Художественная резьба, сделанная на некоторых строениях в иностранном стиле, полностью срублена.
Все ламаистские священники и монашки в нескольких монастырях были избиты.
Книжные магазины «Синьхуа», библиотеки, читальные залы были конфискованы, все принадлежащие им книги сожжены.
Компания Чурина была переименована в магазин «Красная охрана». Кинотеатр «Азия» переименовали в кинотеатр «Защитим Восток». «Пестрый рынок» стал называться «Народные торговые ряды». Персиковый переулок, на котором до освобождения были сосредоточены публичные дома, переименован в «Веселый переулок» и по-прежнему вызывал в памяти бывших посетителей публичных домов их развлечения и наслаждения, а потом, во время второй волны революции, его снова переименовали в «Переулок бурь», что несло намек на предостережение.
Иностранные улицы, с первой по двенадцатую, стали называться революционными под теми же номерами. Воплощалась великая идея председателя Мао, выражавшаяся в словах: «Не надо полагать, что после осуществления первой, второй или третьей революции, революция на этом успешно закончится».
Даже в обществе ничего не осталось из «старины» такого, что можно было бы разрушить. У всех наступило разочарование.
Неожиданно мне пришло в голову, что вблизи нашего дома есть несколько маленьких улиц с аналогичными названиями: «Гуаньжэньцзе», «Гуаницзе», «Гуанлицзе», «Гуанчжицзе», «Гуансиньцзе». Иероглифы «Жэнь», «И», «Ли» «Чжи», «Синь», входившие в их состав, являлись названиями пяти крупных служилых сословии, определенных феодальным законом будды «Пять великих», которые прославлялись Конфуцием. Иероглиф «Гуан», имеющий значение «светлый», определенно возвеличивал смысл этих иероглифов. Так неужели не пора учинить им погром?
Все сказали: очень даже пора!
И тогда мы получили импульс, принесли кисти, бумагу, тушь, ведро клейстера и под моим водительством двинулись вперед.
Утром, проходя по этим улицам, я видел, что они еще не тронуты. Однако как потом стало известно, ближе к полудню, опередив нас, их разгромили. На улицах мы увидели таблички из черной, бумаги с надписями красными иероглифами: «Гуанминцзе» (Светлая), «Гуанхуэйцзе» (Блистательная), «Гуанманцзе» (Острая), «Гуаняоцзе» (Ослепительная), «Гуанхуацзе» (Китайская).
Люди были удручены, настроение сразу как-то увяло, снова возвратились в школу ни с чем.
Один исключительно смекалистый учащийся нашей школы, не подозревая как далеко шагнуло его мышление, придумал красно-зеленый светофор.
Он говорил: «Красный цвет похож на истинную революцию, тогда что означает зеленый цвет? Естественно, настоящую контрреволюцию. Все транспортные средства на красный свет останавливаются, так неужели это не означает остановку революции, невозобновление движения вперед? Зеленый свет, наоборот, разрешает проезд, так неужели надо подчиняться контрреволюционному сигналу? Следует исправить: зеленый свет пусть делает остановку, а красный — проезд. Правильно?».
Люди смущено переглянулись, подумали. Ведь есть резон. Тогда снова появился порыв. Принесли бумагу, кисти, тушь, клейстер и отправились менять красный и зеленый свет. Но под первым же красно-зеленым светофором были задержаны автоинспектором и обвинены в умышленном создании аварийной обстановки. Ага, не разрешает нам делать революцию?! Естественно, надо открыть революционную полемику. Тогда в это дело будут вовлечены революционные массы. Нашлись наши сторонники, но часть поддерживала автоинспектора. Мы окружили его, незаконно отвлекая от регулирования движения. В результате пассажирский автобус и грузовик столкнулись. К счастью, благодаря мгновенной реакции шоферов обе машины отделались легкими повреждениями. Разве что испугались пассажиры. Они привыкли жить по-старому и, когда пришла революция, неизбежно всего путались. Из автоинспекции приехала легковая машина. Из нее вышел человек, по виду кадровый работник, вежливо сообщил нам указания премьера Чжоу Эньлая примерно следующего содержания: надо ли ликвидировать красно-зеленые светофоры? Я считаю, не следует. Они основаны на науке. В ночное время красный и зеленый цвета легче различить. Мысли маленьких генералов революционные, но надо уважать науку. Красно-зеленые светофоры нельзя уничтожать, и тем более железнодорожные.
Оказывается даже красно-зеленые светофоры люди придумали раньше нас!
Раз уж это было сказано уважаемым премьером Чжоу, мы подчинились. Теперь нам ничего не оставалось, как повернуть назад, каждый чувствовал неудовлетворение и гнев. В сущности мы хотели делать революцию, но оказались осмеянными и почувствовали скуку. Еще хорошо, что слова премьера Чжоу сохранили репутацию революционных маленьких генералов.
По дороге разговорились. Все полагали, это больше не осталось объектов, на которые можно направить революцию, не осталось «четырех старых», которые надо было громить. И, пожалуй, «Великую культурную революцию» можно завершать. Потом заговорили об учебе, повышении образования, поисках работы, на тему определения пути в жизни. Все считали, что для того, чтобы устроиться в этой жизни, естественно, потребуется одно условие: активное участие в «Великой пролетарской культурной революции», при этом твердо стоять на стороне ЦК партии и председателя Мао, вести беспощадную борьбу со всеми антипартийными и антисоциалистическими элементами, со старой идеологией, старыми силами.
Когда я возвратился домой, мать с выражением страха на лице сказала мне, что старший брат, воспользовавшись ее невнимательностью, ушел из дома и уже больше трех часов, не появляется.
Я без лишних слов развернулся и пошел на поиски. Такой большой город!
Где искать? Наугад долго бродил по разным улицам и возвратился ни с чем. А брат в это время уже был дома. Я спросил, куда он ходил, но он загадочно улыбнулся. Мать, обернувшись ко мне, только бросила красноречивый взгляд и я больше ничего не стал спрашивать.
В десять часов погасили свет и все стали укладываться спать. Вдруг снаружи в окно ударил сильный луч света, со двора донеслись звуки гудка. Оказалось во двор зашла легковая машина. Вслед послышался голос дяди Лу и слабый стук в окно:
— Тетя Лян, тетя Лян, спите? Быстрее выйди сюда... — Мать в страхе и растерянности села на кан, быстро оделась и вышла. Я тоже накинул на себя одежду и последовал за ней.
Во дворе стояли три незнакомца, среди них — седой пожилой человек. Дядя Лу представил матери:
— Они все из городского управления общественной безопасности. Этот пожилой человек — начальник городского управления общественной безопасности.
Услышав, что прибыли люди из городского управления общественной безопасности, да еще и сам начальник управления, мать задрожала.
Начальник управления сказал:
— Искренне прошу извинения за позднее посещение. Ваш сын при входе в управление общественной безопасности наклеил дацзыбао, в котором говорится, что в нашем управлении существует шпионская чанкайшистская организация, пытавшаяся подкупить его. Не сумев подкупить, применила к нему современную американскую шпионскую технику, чтобы принудить его. Дацзыбао привлекла к себе несколько сот человек, которые сейчас читают ее. Она призывает разнести в прах управление общественной безопасности... Я смею дать гарантии, что в нашем городском управлении ОБ нет никакой чанкайшистской шпионской организации, как и не было никакого к нему принуждения, — тон его высказывания вполне умеренный, выражающий сожаление за беспокойство.
Мать сказала:
— Это моя вина, это моя вина. Я виновата, что не усмотрела за ним. Мой сын психически больной.
Начальник управления общественной безопасности предложил:
— Тогда прошу вас проехать с нами в управление общественной безопасности, садитесь в нашу машину и сразу поедем. Вы четко объясните тем революционным массам, которые не знают подлинной сущности дела, и они разойдутся...
— Это... Это... — мать испуганно отступила назад.
Мать человек боязливый. Я знал, что она боится революционных масс. Боится больших сборищ революционных масс. Если эти революционные массы все незнакомые люди, возбужденные, намеревающиеся предпринять какие-то действия, чрезмерно революционизированы, она еще больше испугается. После того, как мать получила то письмо, она в глубине души ясно осознавала, что уже не принадлежит к женщинам революционных семей и психологически приготовилась к исключению из числа революционных масс. Я смело сказал:
— Я поеду!
— Ты? — начальник управления взглянул на меня, задумался. Смысл его сомнении был понятен: ты, дитя, станешь объяснять толпе, способен ли ты ясно изложить суть дела? Могут ли революционные массы поверить тебе?
Дядя Лу поддержал меня:
— Он может! Он в сравнении с матерью больше подходит! Если поедет его мать и встретится лицом к лицу с такой картиной, она только испугается и не вымолвит ни слова!
— Тогда... ладно, — кивнул начальник управления. Соседи по двору тоже всполошились. Не зная, в чем дело, тихо спрашивали друг друга. Один за другим подходили к матери, не решаясь узнать причину появления трех незнакомцев.
Начальник управления ОБ разрешил мне сесть на переднее сиденье, сами они втроем втиснулись на заднее сиденье. Машина развернулась в нашем большом дворе и осторожно выехала.
Я в душе чувствовал угрызения совести и стыд за брата, одновременно понимал необходимость этой поездки, крайне скованный чинно сидел на своем месте молча. Да и о чем я мог говорить?
Я впервые в жизни сидел в легковой машине.
Начальник управления общественной безопасности, очевидно, догадывался о моих чувствах. Вероятно, для того, чтобы ослабить мою напряженность, он первым заговорил со мной, спросил, отчего у брата психическое заболевание. Когда я сказал, что брат студент Таншаньского железнодорожного института целый год жил только за счет стипендии в 14 юаней, так как семья бедствовала из-за трехлетних стихийных бедствий, начальник управления общественной безопасности сочувственно вздохнул. Его вздох вызвал у меня симпатию к нему.
Потом он спросил, почему брат не в больнице. Я ответил, что у нас не хватает денег на оплату его содержания в больнице.
Одному из сидевших рядом с ним сотрудников он сказал:
— Завтра изучи этот вопрос в отделе гражданской администрации и психоневрологической больнице, возьми на себя задачу по устройству его брата в психиатрическую больницу, надо как следует уладить это дело. Я в душе почувствовал искреннюю признательность к этому человеку. К сожалению, вскоре он по неотвратимому злому року подвергся репрессии. Я видел дацзыбао, которые называли его имя и призывали к свержению. Но все равно не верил, что он может быть врагом народа, он представлялся мне человеком, который никогда в жизни не мог даже с кем-то поспорить.
Легковая машина подкатила к подъезду управления общественной безопасности и остановилась. Число революционных масс в сравнении с тем, о котором говорил начальник управления, беспрерывно нарастало. Дацзыбао брата были расклеены на большом протяжении. 7 или 8 дацзыбао на белой бумаге густо исписаны иероглифами. Каждый иероглиф, выписан изящно, строки ровные. Некоторые представители этой революционной массы протискивались к ним слева и справа, чтобы прочитать. Некоторые старательно переписывали их.
Взглянув на дацзыбао краем глаза, я выхватил лишь слова: «...скрытое шпионское преследование, выматывают кишки детектором лжи».
Я застыл на сиденье машины, сердце сжалось.
Начальник управления сошел с машины, открыл мне переднюю дверцу, и тогда я вынужден был выйти из машины.
Часть толпы, обнаружив нас, окружила плотным кольцом.
Кто-то выкрикнул:
— Приехал Ван Хуачэн! Начальник управления Ван Хуачэн приехал! Пусть он расскажет правду!
Тут уже толпа побольше окружала нас.
— Расступитесь! Дайте дорогу, — два сотрудника управления ОБ с силой расталкивали их, чтобы я и их начальник могли пройти.
Мы с ним с трудом смогли протиснуться к крыльцу управления.
— Не бойся, — сказал он мне вполголоса и, обернувшись к революционном массам, громко заговорил:
— Я начальник управления общественной безопасности Ван Хуачэн. Что касается этой дацзыбао, то этот маль... этот... революционный маленький генерал сейчас изложит вам чистейшую правду...
Переписывавшие дацзыбао приостановились, читавшие их перестали читать, все устремили взоры на меня, черного вороненка. Так их было много!
Набравшись смелости, я, едва шевеля губами, сказал в толпу:
— Эту дацзыбао написал мой старший брат, он психически больной! Голос у меня оказался слабым, услышали только всего несколько человек из первых рядов. Но по выражению их лиц было видно, что они не поверили мне.
— Говори громче! Мы не слышим! — выкрикнули из толпы.
— Эта дацзыбао написана моим старшим братом! Он психически больной! — выкрикнул я громко.
Революционные массы заволновались.
— То-то, чем больше я смотрю, тем больше чувствую, что все это похоже на фантастический роман! — выкрикнул один и, развернувшись, стал протискиваться из толпы. Другой тоже сообразил в чем дело и покинул сборище.
Большинство как бы не поняло моих слов или надеялось услышать что-нибудь еще. Немного поволновались, потом успокоились, с надеждой смотрели на меня.
Почему-то стоявшие позади ни с того ни с сего стали протискиваться вперед, несколько человек из передних рядов едва устояли на ногах. Толпой я был оттеснен назад и шагнул на одну ступеньку выше.
— Брехня! Как такую дацзыбао мог написать психически больной человек!
— Правильный вопрос! Это невозможно! Революционные товарищи, эта дацзыбао не выражает мыслей, в ней все шиворот-навыворот!
— Эй, ты, какие у тебя есть документы, подтверждающие, что ты младший брат написавшего дацзыбао?
— Покажи документы!
Несколько голосов ревела из толпы в мою сторону.
Документы... У меня не было с собой никаких документов, чтобы подтвердить, что я младший брат старшего брата, что он является моим старшим братом.
— Прошу у всех тишины! Вы не можете так относиться к мальч... к революционному маленькому генералу! — пытался начальник управления ОБ удержать положение в нормальном русле. Однако ту минутную тишину, что была только что, теперь уже трудно было восстановить.
— Закрой рот! Ты не имеешь права распоряжаться и приказывать нам!
— Революционные массы, не расходитесь, это, похоже, большой обманщик!
— Заговор!
— Откуда они привезли этого мальчишку, чтобы обманывать нас?
— Хотят замутить воду, заморочить нам головы! Не выйдет!
— Революционные массы, ни в коем случае не поддавайтесь обману.
— Будьте бдительны к замыслам врагов выиграть время и достичь цели.
Без остановки из толпы революционных масс доносились выкрики. Я растерялся. Глядя на эти революционные массы и то, что происходит, я вдруг понял, что в эту удушливую ночь среди них есть люди, которые, возвратившись домой, не смогут спать, не посмотрев какое-либо зрелище. Точно также, как и я, и мои однокашники несколько дней назад слонялись по всему городу, чтобы тоже посмотреть какое-нибудь представление «культурной революции» с избиением. Вряд ли они не верят тому, что я сказал. Они не хотят верить мне. Потому что, если все поверят мне, тогда они не увидят никакого зрелища. Они разочаруются. Они почувствуют, что впустую провели несколько часов перед входом в управление ОБ. Зря разыгрывали возмущение, напрасно показывая свое негодование, пытаясь повлиять на других и возбудить их энтузиазм. Это не имело никакого смысла. Поэтому как они могли допустить, чтобы я, мальчик, сказал несколько слов и так легко толпа разошлась.
Что же касается большинства людей, то они еще не определились, надо ли верить моим словам или нет. Вроде бы есть резон верить и в то же время есть основание не верить. Так же как в случае со словами «Да здравствует Чан Кайши» в картине «Члены кооператива стремятся к солнцу», как сомнительно было наличие слов «Разгромим председателя Мао» в домашнем календаре, иероглифов «Мао» на подошвах обуви и крышках котлов, иероглифов «Император Ню Найвэнь» на пачках сигарет «Харбин», вроде бы да и вроде бы нет. Поэтому самая правильная позиция — это и верить, и не верить. Верить — не верить, делать — не делать. Каждый человек может уходить или не уходить, все революционные массы могут только собираться вместе, но не могут расходиться.
Я крайне возненавидел тех нескольких человек, которые орали из толпы. Именно из-за их выкриков трудно было решить мою судьбу. И не только трудно решить, а, наоборот, пополнявшие место события люди с более сложным и богатым воображением придавали делу другую окраску.
Я почти лишился рассудка и начал кричать тем горлопанам матерные ругательства.
К счастью, начальник управления ОБ положил мне на плечо свою руку и, сохраняя полное спокойствие и самообладание, глядя на толпу, сказал мне:
— Не бойся.
Бояться? В этот момент я уже ничего не боялся. Я что есть мочи ненавидел эту революционную толпу черного воронья, маячившую перед глазами. Ненавидел до зубного скрежета.
До сих пор размышляю. Размышляю о нашей Родине, нашей нации. Не из-за того ли «Великая культурная революция» длилась ровно десять лет, что в рядах революционных масс было очень, очень много таких вот слишком горячо преданных революции людей?
Все из целого миллиарда стали критиками и политиками, в головах миллиардного населения была туго и надолго натянута струна классовой борьбы и борьбы линий. Как только государство смогло не погибнуть! Как смогла не прийти в упадок нация! Как не воцарился в Поднебесной бесконечный беспорядок?!
Пройдя через испытания «Великой культурной революции», я, как мне думается, получил намного более глубокие познания «народа» и «масс» в сравнении с прошлыми. Когда они свергали один строй и вновь создавали другие, они были Великими. Когда они раболепно падали ниц перед некими религиозными тотемами, они были ничтожными. Было прискорбно, когда они поступали как заблагорассудится по теории, оторванной от действительности. Когда делали это по собственному желанию и когда стремились, чтобы также делали их соотечественники, они были отвратительны. Когда они отвратительны, они страшны, целый миллиард народа. В миллиардном народе всегда было две силы. Только народ, сбросивший с себя железные оковы древности, современных феодальных заблуждений, является поистине великим народом! Когда приходит такое время, дети такого народа могут из глубины души воскликнуть: да здравствует народ!
Мне подали тушь и кисточку. Один из двух сотрудников управления ОБ негромко сказал мне:
— Напиши подтверждение, есть только такой выход. Я ничуть не колеблясь, жирно обмакнул кисть в тушь и на дацзыбао брата размашисто начертал:
Торжественное свидетельство
Мой старший брат является психически больным, все, что он написал, абсурдно!
Учащийся 8 класса такой-то школы Лян Сяошэн.— Не смейте уничтожать дацзыбао! — выкрикнул кто-то. Я резко повернулся и высоко поднял флакон с тушью. Среди революционных масс начался галдеж, беспорядок. Я с яростью бросил флакон с тушью на грязные ступеньки крыльца. Он разлетелся вдребезги, брызги туши заляпали одежду многих, попали на лица. Провались они, эти революционные массы!
Я бросился с крыльца, втиснулся в толпу и разъяренный побежал домой... Слезы катились из глаз. Позор...
Позор для семнадцатилетнего юноши... Позор для народа...
ГЛАВА 6
«Великая культурная революция» оказалась не похожа на ту, какой ее представлял себе я и мои соученики: мы ее видели уже на этапе завершения, а оказалось как раз наоборот, она даже можно сказать еще по-настоящему не началась. «Революционные действия», которые мы проводили или в которых участвовали, а также все, что узнали, услышали и увидели, все зрелища, которые будоражили нас, волновали, мутили наше сознание, заставляли бурлить нашу кровь — может быть на деле вся эта грандиозность была всего лишь репетицией перед игрой на большой сцене, для того, чтобы настоящий спектакль начался в атмосфере, когда приглушены гонги и не бьют барабаны. Вскоре вышло сообщение от 16 мая.
«Расформировать бывшую Группу по делам культурной революции из пяти человек, а также ее рабочую структуру, создать новую Группу по делам культурной революции».
Руководителем группы был назначен Чэнь Бода, заместителем — Цзян Цин, советником — Кан Шэн.
Линь Бяо выступил с очень важной речью на расширенном пленуме Центрального комитета.
«Основываясь на теории председателя Мао о классах и классовой борьбе при социализме, на серьезных фактах борьбы двух линий внутри партии, на исторических уроках международной диктатуры пролетариата, особенно на уроках узурпации партийной, административной и военной власти ревизионистской кликой Хрущева в Советском Союзе, он системно, точно изложил вопросы укрепления диктатуры пролетариата, пресечения контрреволюционных государственных переворотов и контрреволюционных свержений».
Он «разоблачил» антипартийные преступления группы Пэна, Ло, Лу, Яна, указав, что дела этих четырех человек взаимосвязаны, имеют много общего. Главным является Пэн Чжэнь, следующие места занимают Ло Жуйнин, Лу Динъи, Ян Шанкунь.
Он сказал: «Ло Жуйцин держит в своих руках власть над армией, Пэн Чжэнь захватил очень много власти в секретариате ЦК... На фронте культуры, идеологии командует Лу Динъи, секретными делами, средствами информации, связи управляет Ян Шанкунь... Разоблачение и решение вопросов, касающихся этих нескольких человек, является важным делом всей партии, важным делом гарантии продолжения развития революции, делом укрепления диктатуры пролетариата, недопущения возврата к капитализму, недопущения захвата руководящей власти ревизионистами, предотвращения контрреволюционного государственного переворота и свержения существующей власти. Это является мудрым, решительным планом, разработанным председателем Мао в целях продвижения вперед нашей страны».
Сославшись на слова Мао о том, что в ЦК и центральных органах, во всех провинциях, городах, автономных районах есть представители буржуазных классов, Линь Бяо заключил: «Когда контрреволюционные, ревизионистские элементы созреют, они могут попытаться захватить власть, превратить диктатуру пролетариата в диктатуру буржуазии. Часть этих людей мы уже распознали, часть еще не выявили, некоторые пользуются нашим доверием, подготовлены для замены нас, например, люди типа Хрущева, они спят рядом с нами...»
И тогда в Пекине прежде всего появились большие лозунги по разгрому «китайских Хрущевых».
А председатель страны Лю Шаоци на съезде представителей специальных учебных заведений и средних школ — активистов революции, проводившемся через два месяца новым, прошедшим исправление пекинским городским советом, сказал: «Как проводить революцию? — Я честно отвечаю вам, я отвечаю вам искренне, я не знаю. Я думаю, что многие товарищи из ЦК тоже не знают».
Лю Шаоци, конечно же, дольше всех находился в неведении, что именно на него укажут как на «самого большого китайского Хрущева». Его личная трагедия как председателя страны началась с этих слов Мао, от злого рока уйти трудно. Если бы даже он знал, все равно бы от судьбы не ушел.
То, что многие другие члены ЦК тоже не знали, без сомнения была правда. Но они, оставаясь в неведении, все равно обязаны были только повиноваться всем распоряжениям председателя Мао.
В соответствии с такими установками ЦК позиция народа страны стала более решительной.
В этой ситуации вся партия, вся армия и весь народ страны «должны высоко поднять знамя пролетарской революции, до конца разоблачить антипартийную, антисоциалистическую, реакционную буржуазную позицию так называемых научных авторитетов, до основания раскритиковать реакционную буржуазную идеологию научных кругов, деятелей просвещения, информации, культуры и искусства, издательских кругов, отобрать руководящую власть в этих областях культуры» — гласили призывы.
И тогда из Пекина отправились люди во все учреждения, заведения, органы власти всех провинций, городов, национальных районов, чтобы вывести на чистую воду «хрущевцев» всех мастей и рангов.
Во всех сферах в области культуры руководящие должности начали занимать пролетарские революционеры.
Ученых, специалистов, профессоров, деятелей литературы и искусства, всю интеллигенцию и всех деятелей культуры Китая постигло несчастье.
Газета «Жэньминь жибао» опубликовала важную передовицу, в которой говорилось: «Ты обязан выразить свое отношение к пролетарской культурной революции таким, какое оно есть у тебя на самом деле: либо ты искренне одобряешь социалистическую революцию, либо ты прикидываешься, что одобряешь, или ты вообще выступаешь против.
Кто, кроме хрущевцев, кроме обладающих властью и идущих по капиталистическому пути, кроме помещиков, кулаков, реакционеров, вредителей, правых, кроме ученых, обладающих властью, кто не мечтал или не хотел конкретными действиями доказать, что он искренне одобряет социализм?»
Искренне одобряешь? Тогда ты можешь «проявить» себя лишь в одном, один у тебя выбор — выводить людей на чистую воду, критиковать, томить, арестовывать. Другого пути у тебя нет.
Вся партия, вся армия, весь народ сделали один выбор — «искренне одобрили социализм». Каждый китаец до конца проявил себя. Доказал, какой он есть.
И тогда весь Китай забурлил и пришел в ярость, как от раскатов грома, как от урагана все содрогнулось.
В это время центральный комитет горячо поддержал дацзыбао, написанную группой из семи человек с кафедры Пекинского университета под заголовком «Так что же в конечном счете сделали для культурной революции Сун Ши, Лу Пин, Пэн Пэйюнь?», содержание которой быстро передали по радио для всего Китая и всего мира.
Потом, 5 августа, председатель Мао во дворце Чжуннаньхай написал и вывесил свою дацзыбао «Огонь по штабам!», указав, что «контрреволюционный буржуазный штаб, возглавляемый «китайским Хрущевым» — Лю Шаоци, стоит на реакционных буржуазных позициях, осуществляет диктатуру буржуазии, подавляет бьющую ключом пролетарскую культурную революцию... Лю считает, что добился цели, довольный собой приобрел величественную буржуазную осанку, в нем угас пролетарский дух, но он чувствует себя хорошо!».
После этого вся партия, армия, весь народ страны, «не жалея себя, смело стащили императора с лошади!» «Если выкорчуешь все вредные элементы, станешь непобедимым»
А дальше во всем Китае «небо перевернулось и земля опрокинулась, все возмутилось и возбудилось».
«Невиданная в истории» неудержимая сила «великой культурной революции» бешеным вихрем закрутилась по земле, как буйные водяные валы билась о берега, как река, прорвавшая дамбу, бурно устремилась вперед. Ее стремительное развитие побудило нас, учащихся средней школы — первого поколения юношей и девушек республики — кричать, орать, прыгать, преследовать, штурмовать, и в конце концов пережить позор своего падения. Мы разожгли фанатизм в десятки раз более сильный чем прежде, подняли в сотни раз более бесстрашный энтузиазм, старались показать, что в борьбе с буржуазией по-настоящему одобряем социализм...
Прежде всего мы выгнали из школы рабочую группу. Само собой разумеется, каждого из них сначала избили, оставив по себе дурную славу.
Заодно мы, наконец-то, взяли под стражу нашего директора школы, вывели его на помост для политического суда, посадили на «столб позора». Трудно было подобрать наказание директору школы, который доверял рабочей группе, проводившей «контрреволюционную буржуазную линию», и которую он тем не менее поддерживал и был для нее опорой. Только благодаря этому он столько времени продержался на плаву и, наконец, стал контрреволюционером.
Это был блистательный успех нашей классовой борьбы и борьбы линий. Мы, наконец-то, нашли новый объект революции, причем самый большой в нашей школе. С такой новейшей игрушкой, которую получили дети, очень трудно расстаться, если она попала в руки. Мы добрались до такого объекта, меняя судьбу которого, получали свежие ощущения. Взрослые давно дали понять детям, чтобы они не мечтали позабавиться этой игрушкой, им не разрешали не только развлекаться с нею, но даже прикасаться, и вот теперь, приобретя силу, они в свой интерес к игрушке вложили и месть взрослым. Анализируя и объясняя культурную революцию, мы часто берем во внимание лишь политическую ее сторону, забывая об обычной психологии, из-за чего не можем дать ей всеобъемлющего объяснения.
Директору школы мы надели самый большой колпак, повесили самую большую и тяжелую дощечку, побрили дьявольскую голову, измазали лицо, несколько раз вволю поколотили его.
Во время одного из избиений несколько «революционеров» из учащихся настолько сильно возбудились, что уже затруднялись в выборе самого «выразительного» способа издевательства, и тогда они повалили директора на пол и стали топтать ногами.
— Скажи, ты контрреволюционер?! — кричали они.
— Да! — едва оторвав голову от пола, громко, с подобострастием соглашался он, ползая по полу как черепаха с раскинутыми руками и ногами.
— Ну что, топтание помогло?
— Помогло!
Его еще несколько раз потоптали ногами.
В тот миг, когда его повалили на пол, у помоста наступила полная тишина. Что означал в тот миг, каждый человек, переживший эту сцену, вероятно, сегодня может высказать множество мыслей, которые ни в коем случае не мог поведать тогда. Такой миг с подобной сценой я испытывал несколько раз. Эта конкретная сцена вызвала в моей памяти эпизод из «Истории французской революции». «Когда 12 монархистов было выведено на эшафот, и их перед приведением смертного приговора в исполнение хотели раздеть донага, чтобы посрамить, они презрительно, высоко подняв головы глядя на толпу, выкрикнули: «Да здравствует король!».
Возмущенные французские революционные массы в этот момент молчали...
Автор резюмирует: в этот момент истинными победителями были монархисты, а не народ.
Нет, этот комментарий не верный. В это мгновение монархисты тоже не были победителями, а победили человеческая природа и гуманность.
Двенадцать монархистов после того момента мертвой тишины вовсе не испытали позора от раздевания.
Французский народ, а также человеческая природа и гуманность победили вместе. Хотя, как обычно, 12 отсеченных голов монархистов одна за другой скатились с эшафота.
После мертвой тишины, возникшей в момент, когда директор школы был повален на пол и семь или восемь ног наступили на его тело, в радиомикрофоне раздался голос соученицы, читавшей «высочайшие указания»:
«Пролетариат, борясь против буржуазии, осуществляя диктатуру над буржуазией, диктатуру в надстройке, включая все звенья в области культуры, пролетариат продолжает выкорчевывать представителей буржуазии, окопавшихся внутри коммунистической партии и под красным знаменем борющихся против красного знамени. Неужели допустим, чтобы они в этих коренных вопросах шли рядом с нами?... Наша борьба против них — это борьба не на жизнь, а на смерть... И ни в коем случае не означает равенства... например в так называемой гуманности и добродетели».
«Высочайшее указание» вызвало тишину вокруг помоста, пожалуй, даже на более короткое мгновение чем прежде.
Потом кто-то, размахивая кулаками, выкрикнул несколько потрясающих революционных лозунгов.
Тогда те несколько учащихся, которые топтали ногами директора школы, заряженные сверхреволюционными лозунгами, получившие подстрекательский, ободряющий и вдохновляющий импульс, почувствовав небывалый прилив революционного настроения, повязали вокруг его шеи веревку и, как собаку стащили с помоста, на спортплощадке стали принудительно учить ползать и лаять по-собачьи.
Он покорно, со всей серьезностью исполнял все их требования. Вероятно, потому что он не проявлял ни малейших признаков сопротивления, больше не возникало мгновений мертвой тишины.
Если бы тогда стащили с него одежду и спросили: «Ну что, помогло?», он, наверно, тоже ответил бы: «помогло». Так как его «реакционная» природа отличалась от природы двенадцати монархистов периода французской революции.
Позже эти сцены воскресили в моей памяти случаи истязания животных некоторыми детьми с ненормальной психикой. Когда они мучают мелких животных, они получают удовольствие. И чем уродливее экземпляр животного, чем он мельче, чем вреднее это малое существо с точки зрения взрослых, да и их самих, тем более жестоко и со спокойной душой истязают его. Например, мышей, разносящих заразные заболевания, бешеных собак. Может быть поэтому во время «великой культурной революции» человека прежде всего по внешнему виду относили к вредным элементам и прочей нечисти, а потом уже выискивали компрометирующие его корни зла. Человеческие души, не подвергшиеся хорошему воспитанию в области человечности и гуманности, неизбежно таят в себе жестокость. «Великая культурная революция», руководствуясь теорией классовой борьбы «не на жизнь, а насмерть» подняла наверх пороки, таившиеся в душах миллионов людей. Поэтому неисчислимы случаи, когда самые тяжелые дощечки-ярлыки на наитончайшей стальной проволоке подвязывали на грудные соски женщин.
Или специалистов, профессоров, ученых, писателей, поэтов, художников и артистов, талантливых мужчин и красивых женщин бросали на пол и топтали ногами, принося огромное удовлетворение взрослым людям с завистливой психикой. Уравновешивать психику в такого рода утешениях просто и эффективно. Некоторые мужчины, а также женщины избирались многими мужчинами и женщинами вовсе не потому, что они действительно величайшие преступники, а именно потому, что избиения вызывают большой интерес и доставляют наслаждение. А порой всего лишь потому, что они в отличие от многих других мужчин талантливы, а женщины — красивее многих других женщин. Чтобы каждый человек признал в душе талант мужчины, нужна мудрость, а красоту женщины — человеческая поэзия, необходимо терпеливое, кропотливое, длительное, напряженное воспитание. До сих пор многие мужчины по-прежнему враждебно относятся к талантливым мужчинам, а многие женщины по-прежнему сохранили дурную, почти инстинктивную привычку враждебно смотреть на красивых женщин.
Наш классный руководитель тоже не избежала горькой судьбы. Потому что была образцовым воспитателем на городском уровне, а также — «большой красной» у директора школы. Когда существовала рабочая группа, она была активисткой культурной революции.
На собрании, которое проходило в тот день, когда директора школы бросили на пол, она была некоторыми людьми с возмущением вызвана на помост.
— Учащиеся, я заявляю, что я не... — пыталась она что-то объяснить, стоя на помосте.
Ей не позволили давать объяснения.
— Ты никто! — ей надели колпак на голову. А на шею повесили ярлык. Ее лицо разукрасили чернилами.
Она сразу опустила плечи, согнулась в пояснице.
Сделать человека «дьяволом» очень просто.
Многие в этот короткий временной отрезок «превращения», по всей вероятности, говорили себе, что отныне они «дьяволы», а не люди. С этих пор могли существовать и в названии, и в поступках только в приниженном образе «дьявола».
Так как выведенных на чистую воду было много, она оказалась на краю помоста рядом с учительницей китайского языка и литературы. Учительница языка, стоявшая вплотную к другим, освободила ей место и, подав руку, подтянула к себе, боясь, что она может упасть...
Некоторые учителя, выведенные на чистую воду в период деятельности рабочей группы, и вызванные на помост по обвинению в проведении «контрреволюционной буржуазной линии», вновь обрели право стать в ряды революционеров. Все они растрогались до слез.
Часть учителей, которым во время существования рабочей группы доверяли, на которых опирались и которых ценили, вынуждены были пополнить ряды «черной банды», им надели колпаки, навесили ярлыки, вымазали лица. Они не понимали, почему еще вчера они считались революционерами, а сегодня неожиданно тоже превратились в «дьяволов».
Двое заведующих учебной частью, один из них заместитель директора школы, раньше уже были подвергнуты репрессиям, а теперь и сам директор тоже превратился в «самого большого Хрущева» нашей школы, школьная партийная ячейка была объявлена полностью переродившейся.
С учетом этого самые революционные из числа учителей и учащихся личности создали Временную полномочную руководящую группу для продолжения руководства «великой культурной революцией» в школе. Эта временная группа родилась и была утверждена под горячие аплодисменты.
Каждый наш учащийся почувствовал груз ответственности перед своей страной и нацией. «Революция еще не завершилась, товарищи по-прежнему должны усиленно трудиться!»
Студенты высших и специальных учебных заведений начали «жечь» горком, «открыли артогонь» по провинциальному комитету, взяли в свое ведение книжные, журнальные и газетные издательства и все учреждения культуры и искусства.
В корне реформированная газета «Жэньминь жибао» принесла из Пекина радостную весть — статью «О неуклонном послушании председателю Мао».
На следующий день «Жэньминь жибао» опубликовала важную передовую статью «Смести с лица земли всю нечисть». Крупный заголовок на ширину страницы, написанный черными иероглифами величиной с монету, дал всему народу страны четкую установку; любыми способами выметать всякую нечисть. Статья указывала: «Добившись власти, мы получим все, упустив власть, мы потеряем все».
На третий день на первой полосе под бросающимся в глаза заголовком «Дацзыбао семи товарищей из Пекинского университета разоблачает крупный заговор» был опубликован полный текст этой дацзыбао, отражающей призывы Центрального комитета, а также напечатана статья обозревателя «Одобряем дазцыбао Пекинского университета» и важная передовая статья под заголовком «Великая революция, затрагивающая души людей».
На пятый день поместили еще одну важную передовицу. Назвали ее «Сорвем фиговый листок с буржуазной свободы, равенства, братства» и официально опубликовали решение о реорганизации Пекинского городского комитета.
Заголовок передовой статьи на шестой день гласил: «С кем быть: с пролетарскими революционерами или с буржуазными монархистами?» В ней указывалось: «В конечном счете каждый сам должен сделать выбор на чьей он будет стороне».
В последующие несколько дней в газете «Цзефанцзюнь бао», журнале «Хунци» и газете «Жэньминь жибао» одна за другой появились важные передовые статьи под заголовками: «Высоко держать великое красное знамя идей Мао Цзэдуна, довести до конца «Великую пролетарскую культурную революцию», «Идеи Мао Цзэдуна — это подзорная труба и микроскоп в проведении «Великой пролетарской культурной революции», «Да здравствует «Великая пролетарская культурная революция?». «Революционные дацзыбао — это зеркало, высвечивающее всякую нечисть для ее разоблачения».
В среднем почти через день публиковались важные передовые статьи с высочайшими указаниями председателя Мао о «Великой пролетарской культурной революции». Их называли «самыми новыми и самыми высокими указаниями». Они побуждали народ к бунтарству, призывали его поднимать выше и ужесточать «Великую культурную революцию».
В это время председателя Мао в Пекине не было, он инспектировал южную часть страны, здесь он совершил более чем часовой заплыв по реке Янцзы, преодолев 30 китайских ли.[20]
«Цанькао сяоси» сообщала, что многие иностранные специалисты-медики, исследовавшие его, считают, что организм Мао настолько хорош, что может уверенно прожить по меньшей мере до 150 лет.
И тогда снова созвали общешкольное собрание для поздравлений Мао.
На собрании некоторые учащиеся с горячими слезами на глазах выходили на помост и выражали свою решимость от души отдать многоуважаемому председателю Мао свои молодые, полные жизненных сил, здоровые сердца. Ради того, чтобы многоуважаемый председатель Мао был еще здоровее, еще дольше жил.
Как известно, от брошенного в воду камня расходится множество кругов. Так было и здесь. Ученики и ученицы один за другим стали подниматься на помост и тоже выражать свое желание отдать председателю Мао свои молодые, богатые жизненной энергией, здоровые сердца. Предложили создать специальную комиссию по делам пожертвований сердец председателю Мао, призвали революционных медицинских работников заблаговременно взять сердца для пересадки. Слезы обладают сильным воздействием. Очень многие на помосте и около него заливались горючими слезами. Растроганный этим, я тоже шагнул на помост. Но вспомнил, что не совсем «красный» и снова почувствовал себя недостойным; пользуясь тем, что никто не обратил внимания, ускользнул с помоста.
Кое-кто с тревогой стал спрашивать, не окажет ли непосредственное влияние на великие идеи председателя Мао пересадка ему наших простых ученических сердец.
Это не могло не говорить о крайней серьезности подхода к проблеме.
И вот тогда мы — учащиеся средней школы, обладающие ничтожными знаниями по физиологии, — развернули кипучие романтические научно-фантастические рассуждения и споры. В конечном счете все это закончилось ничем...
ГЛАВА 7
— Из Пекина прибыли хунвэйбины!
— Хунвэйбины? А на них военная одежда? Какая она?
— Они не в военной форме, только с красными нарукавными повязками. Сегодня в третьей средней школе они будут выступать с революционными речами!
Ван Вэньци пришел ко мне домой рано утром и с радостью поведал мне эту новость.
Я, не завтракая, засунул в карман пампушку и следом за ним помчался в третью школу. Выступления хунвэйбинов уже начались. Нам хотелось протиснуться ближе к помосту, чтобы посмотреть, что из себя представляют прибывшие из Пекина хунвэйбины, но там поддерживали порядок, не разрешали самовольное передвижение. Хотя и с сожалением, но мы вынуждены были сесть и слушать из самого последнего ряда.
Пекинские хунвэйбины так много знали о внутреннем состояния классовой борьбы и борьбы линий, что было совершенно недоступно для нас!
Например, в письме к Цзян Вэйцину Лю Шаоци обрушился с нападками на методы изучения идей Мао Цзэдуна, как на догматизм, а также на то, что сейчас внутри партии стало много людей, догматически воспринимающих идеи Мао Цзэдуна. Кто такой Цзян Вэйцин? Я спросил Ван Вэньци, он тоже не знал.
Председатель Мао направил в уезды 39 критических материалов по вопросам литературы и искусства, среди них такие, как «Разжалование Хай Жуя», «Вечерние беседы у подножия Яньшань» и другие для подготовки и развертывания «великой пролетарской культурной революции», центральный отдел пропаганды отказался исполнять это указание, бойкотировал его.
Ло Жуйцин посетил Линь Бяо, в разговоре по кадровым вопросам он, преследуя свои цели, сказал: «Больной ведь, надо бы подлечиться. Раз больной, уступи достойно. Не мешай. Не стой на дороге.» Это были тщетные надежды понудить Линь Бяо передать военную власть этому контрреволюционному честолюбцу.
Дэн Сяопин ездил в город Дацин. Когда там руководство профсоюза докладывало как оно крепко взялось за классовую борьбу, он сказал: «Дацин отличается от других мест, классовая борьба для вас не главное противоречие».
Дэн Сяопин снял с себя маску и стал действовать открыто, чтобы поднять дух контрреволюционных элементов, он сказал: «Восхищаюсь речью Пэн Пэйюня», а также хвалил контрреволюционное выступление Лу Пина: «Позиция хорошая, мысли правильные».
Когда ответственные работники города Шанхая в Восточном Китае докладывали Лю Шаоци о работе, он сказал: «В Шанхае можно создавать трест». В компании с Бо Ибо он «постоянно торгует черным ревизионистским товаром, пропагандирует систему капиталистических трестов, пытается ликвидировать партийное руководство, проталкивает экономическую систему монополистического капитализма».
Чжоу Ян в беседе с ответственными работниками Ассоциации деятелей литературы и искусства, основных газет и журналов повел дело так, что не допустил критических выступлений масс в адрес деятелей литературы и искусства.
Лю, Дэн предъявляют обвинения движению, развернувшемуся с 1964 года, которое, критикуя «буржуазные авторитеты» в области литературы и искусства, допускает большие перегибы, создает помехи на пути «свободы творчества», «сохранения литературных сокровищ».
Дэн Сяопин стоял во главе контрнаступления на культурную революцию, начавшуюся после 64-го года, он заявил: «Сейчас многие говорят, что боятся писать статьи, агентство «Синьхуа» получает всего по две статьи в день. На сценах театров показывают только военные учения, только войну. А где взять совершенное во всех отношениях кино? Это показывать нельзя, то — тоже нельзя! Некоторые мечтают о том, чтобы прославить свое имя, критикуя других, на плечах других поднять свой престиж. Зная кое-что о человеке, могут, ухватившись за мелочь, критиковать бесконечно, прославляя себя. Не беда, что есть разные научные воззрения и педагогические подходы. Различные взгляды могут длительное время сосуществовать».
Кроме того, Дэн Сяопин сделал ряд других высказываний: «Изучайте естественные науки, если целыми днями будете зубрить «Дневник Лэй Фэна» и сборник сочинений председателя Мао, то не станете ни красными, ни специалистами! Что касается молодежи, то ей надо рекомендовать изучать лишь некоторые основные сочинения председателя, а не заниматься ими круглый год!», «В профсоюзной и молодежной работе надо внедрять более широкие знания». «Разве не говорим: председатель Мао развил марксизм? Но вы же другие книги не читаете, вы знаете что он развил?». «При изучении произведений председателя Мао, надо внедрять принцип добровольности, нельзя зажимать все намертво, нельзя действовать по шаблону, не надо заниматься формализмом, не надо вводить общественный диктат»...
Хунвэйбины, прибывшие из Пекина, были настоящими ораторами. Они рассказали о событиях, которые были в пятидесятые и шестидесятые годы, рассказали о нынешнем состоянии развития «великой культурной революции». В их головах хорошо уложилась история классовой борьбы и борьбы линий внутри партии.
Несколько тысяч слушателей с огромным благоговением взирали на них. Каждый записывал. Оказалось, что классовая борьба и борьба линий в сравнении с нашими представлениями стала более острой, более сложной, более напряженной.
«Хрущевцы» оказывается уже спали рядом с многоуважаемым председателем Мао!
— Долой Лю Шаоци!
— Долой Дэн Сяопина!
Такие возмущенные призывы зазвучали вокруг. За революционные речи мы вознаграждали прибывших из Пекина хунвэйбинов горячими аплодисментами, громоподобными раскатами оваций.
Неожиданно во двор школы ворвались большие группы рабочих, с ругательствами и злостью они бросились разгонять учащихся за выкрики контрреволюционных лозунгов.
В ответ им мы выкрикивали призывы: «Вас ввели в заблуждение, это не ваша вина! Переходите на нашу сторону. Революционные рабочие и революционные учащиеся, объединяйтесь!». Однако это не помогло, пошла в ход сила. На месте митинга возник переполох, неразбериха.
Пекинские хунвэйбины под прикрытием отряда сопровождения, добровольно организовавшегося из революционных учащихся, благополучно сели в поезд, возвращавшийся в столицу.
Высунувшись из окон вагонов, они со слезами на глазах, махая руками, прощались с нами:
— Боевые друзья! Еще встретимся на передовых рубежах классовой борьбы и борьбы линий!
Отряд сопровождения тоже махал им, утирая слезы:
— Мы вместе с председателем Мао, наши сердца бьются в унисон с ним! Боевые революционные соратники из Пекина, наши сердца с вами! Если председатель Мао позовет нас и прикажет, мы тут же будем у стен Пекина и станем сражаться! Ради защиты председателя Мао мы готовы пойти на все!
Поезд потихоньку тронулся, одни запрыгивают в вагоны, другие не соскакивают с них, крепкие рукопожатия разрываются с трудом.
Вскоре после этого в нашей школе тоже создали первую организацию хунвэйбинов. В тот день над школой реял красный флаг, целый день воздух оглашали звуки гонгов и барабанов, взрывались петарды. Кругом — атмосфера подъема и торжественной тишины.
В первой партии принятых в хунвэйбины, конечно же, были самые надежные «красные». На красной доске вывесили их фамилии. Среди них и моя.
На помосте стояла ученица и чистым голосом зачитывала приветственную телеграмму многоуважаемому председателю Мао: «Великая столица Пекин не только сердце китайской революции, но и сердце мировой революции! Великий вождь председатель Мао не только красное солнце в сердцах китайского народа, но и красное солнце в сердцах народов всего мира! Мы клянемся под водительством. председателя Мао в кровавой битве разгромить мировой капитализм, ревизионизм, контрреволюцию! Если только последует приказ председателя Мао, мы не побоимся достать черепаху со дна океана, подняться в небо и изловить дракона! Мы не побоимся пойти на последний штурм мирового империализма, ревизионизма, контрреволюции! Мы готовы сразиться с прогнившим Парижем, сравнять с землей Нью-Йорк, освободить Лондон, восстановить былую славу Москвы! Доставить в Пекин кремлевскую звезду, установить ее на трибуне Тяньаньмэнь! Захватить и привезти в Пекин ленинский мавзолей! Установить его на площади Тяньаньмэнь! Выкрасить новый мир в багряный цвет своей крови!
Когда она еще не закончила читать, у нее взяла микрофон бравая, мужественного вида ученица с короткой прической, представительница другой школы, прибывшая для поздравления. Она осудила положения об экспорте революции и потребовала переписать телеграмму.
Организаторы собрания возмутились:
— Ты кто по социальному происхождению?
— Меня зовут Уюньцигэ! Я прохожу совершенствование в педагогическом институте, монголка по национальности.
— Почему фамилия Уюнь? Судя по фамилии у тебя характер не из мягких!
Какой бы ты ни была национальности у тебя спрашивают о происхождении!
— Из крепостных!
То, как она твердо, словно утес, стояла на помосте, напомнило мне фильм «Баоэр Кэчацзинь», в котором есть незабываемый кадр, когда близкая боевая подруга Баоэр Анна также твердо стояла на помосте.
Кре-пост-ная!
Какое может быть еще происхождение, кроме крепостной, к которому можно испытывать глубочайшее уважение?
Из кре-пост-ных! Какое благородное происхождение! Если бы она сказала, что она дочь короля или президента, мы и то не смотрели бы на нее с таким благоговением.
Из кре-пост-ных! Какое высокое происхождение среди красных! Позавидует даже мертвый!
Она сразу в моем сердце стала великой.
Это поразило всех, все молчали.
— Тогда то, что ты сказала, есть измена своему классу, я торжественно объявляю, что ты не тот человек, которого следует приветствовать, прошу! — сурово, но справедливо дала ей намек удалиться ведущая собрания. Монголка осторожно положила микрофон и, высоко держа голову, сошла с помоста.
Настроение всех неожиданно было испорчено, атмосфера стала не такой жаркой, как прежде. Впоследствии факты подтвердили, что эта дочь крепостного, пожалуй, была права. Так как огромный поток отправляемых в Пекин телеграмм никогда не находил отклика многоуважаемого председателя Мао. Может быть ему не понравилось то, что мы предлагали перенести в Пекин красную звезду Кремля, а заодно и мавзолей Ленина? А может быть многоуважаемый председатель Мао считал, что условия для развертывания мировой революции еще не созрели?
Хорошо, что пришло время вручать нарукавные повязки хунвэйбинов и прекрасная революционная атмосфера восстановилась.
Подняли государственный флаг. Оркестра для исполнения песни «Алеет Восток» не было, пришлось включить магнитофон, эффект, конечно, снизился.
Один за другим безупречные «красные», сопровождаемые множеством глаз учащихся всех школ, поднимались на помост и обеими руками принимали красные повязки.
— Лян Сяошэн!
Сидевший рядом со мной Ван Вэньци толкнул в бок:
— Тебя!
Я с тяжелыми мыслями о «дьявольском отродье, с тревогою в душе поднялся на помост. Как и все предыдущие обеими руками хотел взять красную нарукавную повязку, а в ушах зазвенело: «Ты — щенок приверженца контрреволюционной религиозной секты!»...
Гневный голос накрепко приковал меня к помосту, руки, протянутые за повязкой хунвэйбина, омертвели, хотят взять и не могут.
Вручавший повязки, видя такое мое состояние, сам надел ее мне на руку.
«Посмотрите, как он сильно взволнован! В этот момент у него в душе тысячи слов, которые он хотел бы передать председателю Мао. Но он так взволнован, что не может выговорить ни одного слова! Хунвэйбин — это такая честь для нас красных! Это также организация по защите председателя Мао, в которую должны изо всех сил стремиться вступить все красные из нашего окружения!» — донесся из динамика хорошо поставленный голос девушки с богатой палитрой чувств.
Только тут я сообразил, что не было никакого гневного выкрика, это была моя слуховая галлюцинация, которая меня так взволновала и потрясла.
О, небо! Сжалься надо мною, спасибо, что это была только галлюцинация!
Я действительно был крайне потрясен!
Я разволновался до такой степени, что невозможно передать на словах. Повернувшись, я, сметенный душой, еще не пришедший в себя, дрожащими губами прокричал здравицу:
— Да здравствует председатель Мао! Пусть здравствует миллионы лет председатель Мао!
На помосте и около него мне вторили.
— Да здравствует председатель Мао! Пусть здравствует миллионы лет председатель Мао!
А через динамик той девушкой бесконечно повторялись слова песни:
Подними голову, взгляни на полярную звезду,
А сердцем будь с Мао Цзэдуном...
На помосте и около него вслед за ней уже все скандировали этот отрывок из песни.
Учащийся, руководивший церемонией вручения повязок хунвэйбина, скандируя вместе со всеми, подошел ко мне, взял меня за руку, на которую раньше надел мне повязку хунвэйбина, крепко сжал ее и поднял вверху.
И тогда снова начались возгласы и лозунги:
— Да здравствуют хунвэйбины!
— Хунвэйбины — всепокоряющи! Хунвэйбины непобедимы. Такую обстановку, такую атмосферу, такой высокий накал не мог создать даже генерал, раздающий титулы!
Я, как мелкий актеришко, больше всего боялся, что только сойду с помоста, как сразу утрачу воинственность и чрезвычайную гордость, которую мне принесла повязка хунвэйбина.
Она была прямо-таки орденом железного креста, означавшим, что ты своей славой приумножил славу своих прародителей. В то же время она для меня стала тем, что в любое время и где угодно можно потерять. Если однажды я лишусь ее, это будет равнозначно тому, что я одновременно потеряю место в среде красных, метла сметет меня в кучу «семи черных». Возможно, навсегда. Возможно, коснется моих сыновей и внуков.
Стоит подумать об этом, как человек совершенно падает духом, испытывает нестерпимую боль.
Я снова расстроился, снова стал бояться.
Я убедился, что если в западных странах средних веков за большие деньги можно было купить аристократическое звание, то в современном Китае многие охотно купят красное происхождение, даже если придется разориться или продать сыновей и дочерей, а если таковых нет, то — собственную кровь, собственные глаза.
Сколько же может стоить бедняцкое происхождение? Во сколько раз крепостное происхождение дороже княжеского?
А людей типа профессоров, учителей, писателей, деятелей искусства по семейному происхождению или по положению готовы выбросить на улицу, миллионы человек могут пинать их и никто не протянет руку.
Китайских экономистов, по существу, было немного, можно сосчитать по пальцам одной руки, и все они были разгромлены. Поэтому не нашлось человека, который, пользуясь экономическими критериями, предложил бы центральной руководящей группе по делам культурной революции вновь сформированного кабинета министров издать специальный закон купли-продажи семейного происхождения и семейных биографий, определяющий сколько стоит происхождение бедняка или рабочего, сколько стоит семейная биография чистейшего рабочего пятого или восьмого поколения. Установить государственные или согласованные цены и порядок уплаты: в один прием или в рассрочку. В многочисленных политических движениях это заслуживало бы поощрения, можно было бы выдать премию. Вот было бы хорошо! И торговля бы шла, и в процессе многих политических движений продолжалось бы вычленение контрреволюционеров и буржуазии. Разве не торговля принесла расцвет жителям побережий четырех морей и стала источником богатства для населения трех рек? Государственная казна получила бы возможность непрерывно пополняться, «революция» заботилась бы только о своих делах. Ну разве это не мечта?
Я не помню, как сошел с помоста, как вернулся к Ван Вэньци.
Только я сел, он сказал:
— Теперь ты можешь возгордиться!
Взглянув на него, я по лицу прочитал, что он очень завидовал мне, даже, можно сказать, ревновал. Он был членом комитета комсомола, моим рекомендующим при вступлении в комсомол, а теперь его политическое положение становилось ниже моего. Я прекрасно понимал его состояние. Но тут ничего не поделаешь: его отец до освобождения несколько лет занимался мелкой торговлей. Говорят, что при обсуждении вопроса о приеме его в хунвэйбины, все единодушно заявили: до освобождения широкие массы бедных и неимущих Китая не могли пойти к богатым торговцам и купить нужные вещи, только мелкие торговцы были им доступны. Его отец без сомнения эксплуатировал китайскую бедноту. Такого рода рассуждения не совсем лишены здравого смысла. Однако, принимая во внимание то, что он сам во время «Великой культурной революции» проявил себя как активист, что всегда хорошо относился к людям, со всеми был в дружбе, к нему были очень великодушны, просто включили в «особый список», оставив в рядах окружения красных.
Я сказал ему:
— Окружение красных ведь тоже красные, будешь старательно бороться и придет время, когда тебя тоже примут в организацию хунвэйбинов.
Когда он рекомендовал меня для вступления в комсомол, он говорил мне примерно такие же слова.
Осталось более десятка хунвэйбиновских повязок, на помосте главари сошлись вместе, несколько минут пошушукались и объявили, что сейчас же утвердят несколько человек для вступления в организацию хунвэйбинов.
Около помоста моментально воцарилась мертвая тишина. Все из «красного окружения», задирая головы и становясь на цыпочки, смотрели на помост, сосредоточенно прислушиваясь. Те, кто рассчитывал прямо здесь же быть принятым в хунвэйбины, естественно, находились среди них.
Кто из них не надеялся, что это счастье сейчас же свалится на их голову? Хотя это дело совсем не касалось «семи черных категорий», однако их лица тоже приняли необычное выражение. Некоторые как бы пребывали в каких-то несбыточных счастливых мечтах. Вид других был совершенно безучастным.
После того, как на помосте объявили еще одно имя, претенденты первыми зааплодировали. А вслед за ними ударили в ладоши и те хунвэйбины, которые были около помоста.
А «окружение красных» не аплодировало. Все они внутренне сдались, затаили дыхание, зависли между надеждой и разочарованием, не было настроения аплодировать. Те, которых утверждали хунвэйбинами, неожиданно бурно выражали несказанную радость, восторг. Некоторые плакали или, как и я, выкрикивали «Да здравствует председатель Мао!», клялись защищать его. Сойдя с помоста и, не чувствуя земли под ногами, напрямик мчались к рядам, на которых сидели хунвэйбины. Здесь на них устремлялись осторожные взоры «красного окружения», подобно тому, как смотрел на меня Ван Вэньци, когда я подходил к нему. Только во взгляде Ван Вэньци было меньше зависти и больше ревности.
Более четырехсот человек из «семи черных категорий» сидели на стадионе вместе, образовав свой квадрат. Квадрат «пяти красных категорий» располагался слева, квадрат «черных» — справа, взяв в кольцо «окружение красных». Классовые позиции обозначились четко.
«Черные» лозунги не выкрикивали. Лозунг «Да здравствует председатель Мао!» они тоже не скандировали. Так как однажды, когда они следом за «красными» стали скандировать его, те гневно отчитали их: «Вы тоже вместе со всеми выкрикиваете лозунг? Неужели председатель Мао красное солнце и в ваших сердцах?!». С того момента они не смели вместе со всеми произносить этот лозунг. Однако такие призывы, как «разгромим», «зажарим в масле», «сожжем», «откроем огонь» они обязаны были повторять. Больше того, они должны были кричать звонче чем «красные» и их окружение. Для этого была своя причина. Однажды на собрании они получили урок, когда вслед за ведущим не стали скандировать призывы «разгромим сыновей и внуков буржуазии!», «разгромим помещичьих щенков!». Дело дошло до того, что «красные» и «окружение красных» подняли гвалт, стали всячески поносить их:
— Ну и осмелели же вы собаки, почему не выкрикиваете лозунги?!
— Что, от революционных лозунгов становится тяжело на душе?!
— Вам становится не по себе, когда выкрикиваете классовые призывы о разгроме самих себя?!
— Когда мы выкрикиваем лозунг один раз, вы должны прокричать его три раза!
Получив два урока, положительный и отрицательный, они поняли что надо скандировать, а что — нет.
Впоследствии наша школьная организация хунвэйбинов раскололась на две, потом — на три, а затем и на четыре, и на пять. И для каждой из них было определено свое требование по скандированию лозунгов и призывов. Некоторые организации хунвэйбинов считали, что их положение не позволяет им провозглашать лозунги «Да здравствует председатель Мао!» и «Желаем председателю Мао вечного долголетия!», а другие хунвэйбины считали, что именно их организации должны прежде всего провозглашать эти лозунги, чтобы перед портретом председателя Мао демонстрировать серьезность своей вины. Споры из-за этого развернулись во всешкольные дискуссии. Каждый считал себя правым . Каждый настаивал на своем. И в конечном счете так и не доказали кто прав, кто нет. Пострадали «черные». Каждый раз перед собранием они вынуждены были четко выяснять какая организация хунвэйбинов проводит собрание. Иначе могло получиться так, что как раз, когда надо будет провозглашать лозунги организации хунвэйбинов, открывшей собрание, кто-нибудь из них не поднимет кулак кверху и не будет скандировать лозунг, и тогда ему не поздоровится. И, наоборот, может случиться, что собрание проводит как раз та организация хунвэйбинов, где им следует закрыть свои «собачьи пасти», а они поднимут руки и будут кричать, что рассматривалось как открытое сопротивление, а это не сулило ничего хорошего. Каждый хунвэйбин обычно участвовал в собрании, проводимом его организацией. Каждый из «окружения красных» участвовал в собраниях тех организаций хунвэйбинов, в которые они были намерены вступить. Каждый из «черных» должен был посещать собрания всех организаций хунвэйбинов. Если кто-либо не участвовал в собрании, то это рассматривалось как пренебрежение к этой хунвэйбиновской организации и вина его приравнивалась к вине раба, презиравшего своего владельца. Если собрания двух организаций хунвэйбинов проходили одновременно, то надо было заранее согласовать как разделить представителей «черных» на две группы в количественном отношении: половина на половину, либо две трети на одну треть, в зависимости от размеров организаций хунвэйбинов. На всех собраниях они присутствовали не как конкретные люди, а как антиподы пролетариата. Когда число участвующих «черных» сильно сократилось, совместные собрания все еще проводили лишь некоторые организации хунвэйбинов, они по-прежнему кричали лозунги и проводили шествия, но это однообразие не вызывало никакого интереса.
Говорили, что в тот день «черные» пришли в полном составе, не хватало всего одного человека. Даже по болезни ни один не остался дома. Ряды, на которых сидели более четырехсот представителей «черных», были немы, как в рот воды набрали, что их сильно выделяло на фоне хунвэйбинов и «красного окружения», где все время царило возбуждение, восторги, выкрики.
В самом начале, когда только произошло такое разграничение рядов по классовому признаку, «красным» и «окружению красных» пришлось это не по душе, остался какой-то неприятный осадок. По сути одноклассники, сидевшие за одной партой, обучавшиеся в одной группе, раньше вместе ходившие в школу, вместе возвращавшиеся домой, даже в начальною школе учились вместе и вдруг их разводят в два классово противостоящих лагеря, как расставляют шахматы перед игрой. До поры до времен красные и черные были уложены в одну коробку, но теперь их разложили в две отдельные, а когда придет время «борьбы не на жизнь, а на смерть», их расставят на политическую шахматную доску, разделив на «чужих» и «своих». Что касается учащихся средней школы, то в целом это их нисколько не обрадовало.
В первый день «красные» еще могли возвращаться домой вместе с теми соучениками, который были зачислены в «особый список», но разговаривали гораздо меньше чем раньше. Те и другие проявляли осторожность, избегали тем, касающихся политики. На следующий день обе стороны, испытывая определенное психологическое размежевание, под благовидными предлогами возвращались домой разными путями. На третий день, встречаясь в школе, лишь обменивались приветственными жестами. Повседневная близость сокращалась. На четвертый день, завидев друг друга, отворачивались, делая вид, что не заметали. На пятый и шестой день уже стали чужими. Через семь-восемь дней все ясно понимали, что прошлые отношения не вернуть, теперь вступили в силу отношения «красный» — «черный». Вскоре «красные» и «окружение красных» получили самое высочайшее и самое новейшее указание с подробным разъяснением классов и классовой борьбы, и то, что не нравилось, стало нравиться, о чем не соглашались, стали соглашаться. А еще немного погодя как домашние и дикие собаки набрасывались один на другого.
В «особых списках» оказались те, у кого красивая внешность, те, кто умен и смышлен, те, кто нравился учителям, те, у кого домашние условия жизни были получше чем у других (к сожалению, всем им не хватало красоты. Они не принадлежали к буржуазии или к мелкой буржуазии, но были «каппутистами разных рангов), высокомерные по своему характеру женщины (тоже к большому сожалению, независимо от степени высокомерия), и те из мужской половины, которых учителя и соученики всегда считали очень способными учащимися (способность сама по себе явилась злом), «особые списки» однажды дали возможность «красным» и «красному окружению» утолить жажду мести. Чем тяжелее прошлое семьи, чем беднее она была сейчас, чем больше ее прославляли, тем больше это приводило к тому, что малейшее преимущество в материальном уровне жизни вызывало величайшую ненависть. Подобная ненависть, войдя в человеческую душу, приводила к психологии, подобной классовому реваншу. Такая психология породила бездушные поступки.
Для того, чтобы учащийся средней школы мог поступить в среднюю школу высшей ступени, а, следовательно, в последующем и в высшее учебное заведение с пролетарским воспитательным уклоном, надо иметь красное происхождение, чистую семейную биографию и такой ценз , как проявление «революционности» во время «Великой культурной революции», надо получить горячую поддержку большинства учащихся средней школы. Обладание повязкою хунвэйбина было почти равнозначно получению в руки аттестата об окончании средней школы и извещения о зачислении в высшую среднюю школу. Говорили, что главари хунвэйбинов могли «от имени революции» посылать людей на учебу в престижные университеты, чтобы подготовить преемников для партийных и государственных руководителей различных рангов. Выдержать экзамен по «революции» гораздо легче и приятней чем по математике, физике, химии, языку и литературе, истории, географии. Поэтому, кроме «семи черных», все с радостью поддержали реформу образования. Почему бы и не разрушить «буржуазную теорию обучения», в которой на первое место ставились знания?..,
Немного погодя хунвэйбины давали коллективную клятву.
Я тоже вынужден был подняться с места рядом с Ван Вэньци, чтобы отправиться в лагерь хунвэйбинов. В сущности, я должен был, сойдя с помоста, прямо идти к ним. Боясь, что Ван Вэньци обидится на меня, я вернулся к нему и сел рядом. Он принадлежал к «окружению красных». Садиться хунвэйбину рядом с человеком из «окружения красных» никем не запрещалось. Если бы он был из «семи черных», тогда я бы ни за что не посмел подойти к нему. Пусть бы завидовал. Если бы из ревности он даже вздумал убить меня, то я все равно не мог бы пойти навстречу его желанию.
— Иди, иди! Не думай, что я ревную! — сказал Ван Вэньци, глядя на меня, но не прямо в глаза.
Из его слов я уловил, что его мучила ревность. Если вдуматься в ход его рассуждений, то можно найти их естественный источник: все относимся к окружению красных, все, черт побери, красные, все не совсем красные, тогда почему кто-то может стать хунвэйбином, а я нет? Если революцию не делят на впереди идущую и последующую, тогда почему сначала он, потом я? Можно согласиться с таким ходом мыслей? Кое-кто из «окружения красных» наверняка то же самое думал; и о главарях: если копнуть архивы, поглубже проверить ваше происхождение и ваши биографии, то не окажетесь ли вы всего наполовину красными? На основании чего вы стали главарями, получили право определять, могу ли я стать хунвэйбином? Лидеры масс «великой культурной революции» самых разных мастей и оттенков потому стали лидерами, что на определенном отрезке времени они сумели завладеть властью. А впоследствии они не предстали перед судом «великой культурной революции», не ответили за свои преступления перед историей, они отделались лишь тем, что бесславно закончили «карьеру» «маленьких генералов». Они не только не сумели понять, что необходим был и такой политический шаг, как «успешно отступить», но и не поняли главного: они должны были стать только духовными лидерами масс, могли и должны были «влиять» на массы только духовно. Они не постигли этой истины, хотели стать лидерами, владеющими некой властью, они также пытались, пользуясь властью, начать ставить условия массам. Кроме того, она стояли на двух противоположных позициях: на политической позиции, разработанной «великим вождем», и на позиции масс, которые не совсем принимали навязываемые им условия власти. Именно поэтому они обрекли себя лишь на трагический конец.
«Великий вождь» сказал им: «Пришло время сказать вам что вы, маленькие генералы, совершили ошибки!» Эти слова были произнесены после их разгрома. Тем не менее они не поняли своей роли, наоборот, считали, что если их не будет на сцене «великой культурной революции», то окончательная победа революции будет просто немыслима. Не представляли себя вне роли действующих лиц от начала до конца. Взяв на себя эту роль, завладели театральной сценой и кино. Режиссеры до сих пор кипят гневом, вспоминая об этом времени. Потом «маленьких генералов» пришлось отправить На природу, предоставив им широкое поле деятельности.
Ван Вэньци, никогда не страдавший припадочными болезнями или чем-то похожим на них, неожиданно вскочил с места, высоко подпрыгнул и, подняв вверх кулаки, воскликнул: «Да здравствует председатель Мао! Да здравствует председатель Мао! Многие, многие лета председателю Мао!».
Такой взрыв в его настроении как раскат грома застал всех врасплох.
Все хунвейбины, все окружение красных долго не реагировали, не сообразив, что происходит, и только потом вслед за ним дружно закричали: «Да здравствует председатель Мао! Да здравствует председатель Мао! Многие, многие лета председателю Мао!».
Вы думаете, что он воскликнул пару раз и на этом остановился? Нет, не остановился!
Могли ли остальные не последовать ему, когда он выкрикнул свое «да здравствует»? Могли ли осмелиться на такой шаг?
Возгласы «да здравствует» и «многие лета» сотрясали весь школьный двор.
Главари хунвэйбинов, находившиеся на помосте, тоже не могли молчать. Они раз за разом провозглашали один и тот же лозунг, считавшийся первейшим в мире революционным лозунгом, повторяли десятки раз. Люди, скандировавшие его, не только устали от монотонного штампа, но уже не выдерживали их голосовые связки. Я тоже не мог не кричать вместе с ними, не мог кричать меньше чем Ван Вэньци. Скандируя, я посматривал на него, видел выражение его лица. Оно скорее всего было не возбужденным, а выражало какое-то мстительное наслаждение. Я искренне сомневался, что он привлекал к себе внимание, не жалея своих голосовых связок, он хотел надорвать гортани хунвэйбинов и «красного окружения».
Однако люди, стоявшие рядом с ним, тоже не взяли на себя смелость заставить его прекратить восклицания. Ведь он же кричал «да здравствует председатель Мао», кто мог сказать ему: «Не кричи!». Что бы это могло значить для такого человека? Тебе не нравится слушать здравицы председателю Мао? А ну попробуй промолчать! Или дать понять, что надоел своим криком.
Вместе с ним скандировали все.
Некоторые из тех, кто сидел впереди нас, восклицая здравицы с поднятыми вверх кулаками, часто оборачивались к нам двоим, полагая, что мы с нам одинаково заряжены чувством вдохновения.
Как бы не так!
Главари на помосте, видя такую обстановку, понемногу стали терять терпение. Но в то же время не могли ничего поделать. Не в силах изменить положение они явно нервничали и злились. Но как не злись, а все равно приходилось скандировать вслед за ним. Причем надо было делать это совершенно натурально. Попробуй сделать ненатурально! Они на помосте, на виду, за ними следит множество глаз.
Но вот буквально в те несколько секунд, которые образовались между восклицаниями «да здравствует председатель Мао», из числа «красного окружения» вдруг поднялся человек и громко закричал:
— Докладываю! Я слышал как кто-то ругался насквозь контрреволюционными словами!
Взоры всех обратились к этому человеку.
Ван Вэньци прекратил свои выкрики и, повернувшись, посмотрел в его сторону.
Один из главарей, стоявших на помосте, указывая рукой на того человека, громко спросил:
— Как он ругался?
— Я... я не могу сказать...
— Я приказываю тебе повторить те слова!
— Повтори!
— Повтори!
— Повтори!
Эта требования беспорядочно выкрикивали со всех сторон.
Подвернулся подходящий случаи, чтобы осадить возбуждение и вызвать новый настрой.
То был с виду очень серьезный парень, способный не теряться, и не из тех, кто может наживать капитал таким образом. Он с надеждою поглядывал то налево, то направо, по-прежнему не осмеливаясь что-либо сказать.
На помосте один из главарей взял микрофон и предупредил его:
— Если не будешь говорить, значит ты намеренно создаешь беспорядок!
— Я скажу! Я скажу! Я слышал как кто-то негромко сказал: «чтоб ему провалиться»...
Вся площадка громко зашумела. Порядок враз нарушился. Все орали: как это так, в такой момент, когда прославляли председателя Мао, и вдруг кто-то выругался «чтоб ему провалиться»!
— Кто выругался?.. Сильно смелый, собака!
— Разыскать его!
— Во что бы то ни стало разыскать его!
— Разыскать и здесь же убить!
— Убить без суда!
Началось всеобщее негодование среди хунвэйбинов и «окружения красных». Негодование неподдельное. Так как в тех словах содержалось очень много разных значений и они явно были направлены на то, чтобы оскорбить и унизить тех людей, которые в это время скандировали слова «да здравствует председатель Мао». Может быть большинство делало это не от души. Даже не может быть, а с уверенностью можно утверждать, что именно не от души. Когда вслед за Ван Вэньци здравицу повторили первый и второй раз то это было в высшей степени от души, когда кричали третий и четвертый раз, искренность еще оставалась на 60–70 процентов, но выкрики по пятому шестому, седьмом и восьмому разу уже как бы были навязанными на бесконечность, и теряли свои душевный смысл. А психология публики по отношению к любому делу всегда была такой: когда она делает не от души, поневоле, она не может терпеть, чтобы видели ее неискренность.
Атмосфера на собрании принимала необычайно резкий характер.
Несколько главарей сошли с помоста. Подошли к тому заявителю, окружили его со всех сторон.
Один из главарей сказал ему:
— Если ты поднял шум из ничего, тебе не будет пощады!
Заикаясь от напряжения, он продолжал утверждать:
— Я... я точно слышал! Как бы я осмелился... не мог... не поднимал шум из ничего... было...
Другой главарь громко скомандовал:
— Все садитесь! Никто не должен двигаться! Если кто-нибудь станет уходить, значит, на него падет самое большое подозрение!
Те, кто особо сильно возбудился и вскочил с места, сразу сели, никто не посмел нарушать порядок. Кто-то из хунвэйбинов выкрикнул:
— Надо создать временный пикет, взять в кольцо окружения место проведения собрания, плотно перекрыть выходы для действующих контрреволюционеров, поносящих великого вождя и создающих беспорядки, чтобы они не смогли, пользуясь благоприятной обстановкой, ускользнуть отсюда.
Это предложение, конечно же, главарями было принято.
Заявитель об услышанном ругательстве был из числа «красного окружения», сидел в одном из ближайших к хунвэйбинам рядов. Он мог слышать левым ухом. А мог — и правым. Поэтому любой из хунвэйбинов и «красного окружения» не мог утверждать, что не является сомнительным объектом. Только все из числа «семи черных» не подвергались сомнению. Они были очень далеко от того человека, и каким бы сильным ни был его слух, он не мог услышать исходящее от них тихое ругательство. Даже громко сказанные слова не всякий мог услышать.
Таким образом получалось, что пикет можно было сформировать только из «семи черных». Такая композиция, при которой «семь черных» будут охранять хунвэйбинов и «окружение красных» была слишком не революционной, но ради разоблачения действующего контрреволюционера хунвэйбинам и «окружению красных» пришлось стерпеть незаслуженную несправедливость. Но что поделаешь, если действующий контрреволюционер вдруг окажется среди них, что скажут о них после «великой культурной революции». Каждого из такого большого числа хунвэйбинов и каждого из «окружения красных» потом будут подозревать в поношении председателя Мао. Если не выявить виновника, то для них это будет очень серьезно! Как минимум — безрадостно!
«Семь черных» благодаря тому, что получили право образовать временный пикет, не могли не испытывать радости и изумления от такой неожиданной милости. У некоторых на лице появилось злорадное выражение. Они, взявшись за руки, окружили кольцом спортплощадку, внутри которого оказались хунвэйбины и «красное окружение». Как проволочное заграждение они замкнули внутрь кучку «преступников», ждавших суда.
Главарь серьезным тоном следователя спросил того заявителя:
— Ты каким ухом слышал?!
— Кажется... кажется левым ухом...
— Левая сторона, всем встать!
«Красное окружение» ряд за рядом послушно встали. Несколько главарей, как челноки, сновали между ними, орлиным как у Дзержинского взглядом всматриваясь в лица людей, выискивали подозрительных. Или, можно сказать, каждый главарь представлял себя Дзержинским с его необыкновенно проницательным взглядом, способным насквозь видеть душу человека.
— Все вы слышали кого ищем, прошу откровенно в расчете на снисхождение признаться, сказать о своем проступке, не сознаетесь сейчас, потом не ждите ни малейшей пощады!
Проходит немало времени, никто сам не сознается.
— Тогда никто не рассчитывайте, что вас примут в хунвэйбины!
— Можно, я скажу?!
— Наверно, ты?!
— Ни в коем случае не я! Я вот что хочу сказать! Я клянусь многоуважаемому председателю Мао, что я не ругал его! Я всей душой предан ему. Если я хоть чуть-чуть обманываю, пусть меня разразит гром и молния!
— Я тоже клянусь многоуважаемому председателю Мао!
— Я тоже клянусь!
— Напрасно обижаете! Я не ругал его!.. Голоса сыпались со всех сторон, полились слезы.
— Напрасные обиды! Я тоже не поносил его!
— Председатель Мао, дорогой председатель Мао, только вы многоуважаемый можете рассудить нас!
— Председатель Мао, если я ругал, пусть моя семья умрет преждевременной смертью!
— Председатель Мао, дорогой председатель Мао, меня тоже зря обижают!
— Ей богу я не ругал Вас многоуважаемый!...
Все эти возгласы вызвали всеобщий плач и рыдания.
Ведь это были 17–18-летние школьники. Как они могли взять на себя ответственность за проклятия в адрес многоуважаемого председателя Мао, обезглавившего сотни людей и вызвавшего возмущение простого народа? Как тут не плакать?!
Под воздействием клятв с возгласами и рыданиями заявитель сам стал сомневаться в слышанном. Возможно у него появилось сострадание к «окружению красных». — Я... наверно... правым ухом слышал... — едва шевеля губами с трудом выговорил себе под нос заявитель.
Подозрение перебросилось на хунвэйбинов. Хунвэйбины возмутились еще больше.
— Этот негодник только что говорил, что слышал левым ухом, а теперь уже говорит, что правым!
— Бойцы-хунвэйбины попали в беду!
— Скажите, чему можно верить, и чему нельзя?!
— Чтоб ему провалиться, поддать ему!
— Поддать ему!
— Поддать ему!
У главарей не было своей точки зрения на этот счет, они смущенно переглядывались.
— Ну ты в конце концов, где слышал: слева или справа?! — один из главарей схватил его за шиворот.
— Я ... да не могу определенно сказать: слева или справа! Я же говорил, что кажется ... слышал, наверно... — с заявителя катил пот, — а может быть ни слева ни справа не ругали, может быть мне послышалось ... слуховая галлюцинация...
У него слуховая галлюцинация! Мы с ним товарищи по несчастью. Судя по его виду, он испугался, что влез в серьезное дело и не сумеет защитить себя, боялся стать объектом всеобщих нападок, лихорадочно думал, как бы выбраться из трудного положения.
— Какая еще слуховая галлюцинация! Тут был злой умысел! Хотел посеять вражду!
Хунвэйбины снова зашумели, требуя побить его. От этого ему сразу захотелось уйти в преисподнюю. Внезапно из-за здания школы донеслись звонкие удары о рельс, а вслед и крики:
— Пожар! Быстро всем на пожар!
— Горит куча стружек!
— Горит штабель леса!
Там, за зданием школы за тесовым забором находился небольшой лесозавод.
Густой дым моментально поднялся вверх.
Главари растерялись, перед ними встал вопрос, что важнее: сначала тушить пожар или до конца вскрывать действующего контрреволюционера, который поносил самого председателя Мао?
Хунвэйбины и «красное окружение», а также оцепившие их «семь черных», глядя на густой дым, стояли в оцепенении.
Благо, что главари при виде пожара все же додумались принять меры по его тушению.
— Хунвэйбины, окружение красных, у нас еще будет время, когда мы сможем раскрыть подлинное обличье того действующего поносителя председателя Мао! А сейчас пришел момент испытать нас. Вперед, в дым и огонь!..
Хунвэйбины, «окружение красных» прорвали ограждение «черных» и, обгоняя друг друга, бросились тушить пожар.
«Черные» поняли, что их короткая «историческая» миссия временных пикетов закончилась, и они тоже наперегонки ринулись в огонь.
К счастью, благодаря такой массе людей, навалившейся на огонь, он был быстро ликвидирован, сгорела лишь куча стружек и два штабеля леса.
Однако славы мы не заработали, со стороны малого лесозавода благодарности не получили, наоборот, нам выставили иск на сумму более тысячи юаней, потому что пожар возник из-за ранее брошенной нами петарды.
Мы, конечно, не согласились с их «необоснованной» претензией.
Главари с чувством правоты возражали: «Это требование вы выставляете Центральной группе по делам культурной революции. Мы считаем, что мы — хунвэйбины — получили право в ходе «великой культурной революции» быть избавленными от ответственности за всякие ошибки. Подумаешь: два штабеля леса, а если бы два многоэтажных дома?»...
ГЛАВА 8
Когда я с повязкой хунвэйбина на рукаве вместе с затаившим ко мне ревность Ван Вэньци возвращался из школы домой, он с тонким намеком спросил меня:
— Слушай, ты на помосте так классно сыграл свою роль, когда это ты научился? Когда научился? Самоучка! Я, насупившись, ответил:
— Не лучше ли не прибегать к такому слову, как сыграл? Каждый проявляет себя таким, какой он есть, без всякой учебы.
— Ну, будем считать, что это было проявление самого себя! Самовыражение! Не специально разыгранное! Тогда данное природой?
Мне все больше становилось это неприятным и я со всей серьезностью твердо заявил:
— Судить о проявлениях любого человека надо с учетом его постоянной классовой позиции, его идеологических пристрастий. Он с насмешкой ответил:
— Это действительно так? Или все же было притворство? Я тоже подпустил ему колкость:
— Ну, а ты бесконечно кричал «да здравствует Мао», это тоже было настоящее или притворство?
Он сразу посерьезнел:
— Отбрось подозрения! Неужели могло быть притворство?
Я тоже перешел на серьезный тон:
— Не делай другому того, чего себе не желаешь!
Больше он не стал ничего говорить.
Некоторое время мы шли молча, он глубоко вздохнул. Я видел, что он никак не может примириться с постигшей его неудачей, он не понимал, почему не мог вступить в организацию хунвэйбинов с первого раза. И, задав ему вопрос, я попал в самую точку:
— Скажи, ты немного завидуешь мне, что я сегодня надел повязку хунвэйбина, а ты — нет?
— Чертовски завидую! — ответил он.
Я никак не ожидал такого простодушия и сразу не нашелся, что сказать. А он продолжал:
— Ты не знаешь! В нашем дворе есть несколько учеников средней школы и все стали хунвэйбинами, только я один — нет. Ты не видел, как высокомерно и важно они держались передо мной! Как будто в нашей семье есть что-то такое, что подлежит осуждению. Ведь мой отец стал заниматься мелкой торговлей лишь перед самым освобождением. И я всерьез опасаюсь, что сейчас нашу семью начнут притеснять — с печалью в голосе сокрушался он.
— Ты же из красного окружения! Они не посмеют обижать тебя! — сказал я.
— Я говорил им, думаешь, они поверили?
Мы подошли к перекрестку, на котором надо было расходиться. Он стоял, опустив голову, молча негодуя. Видно было, что ему не хотелось так просто расстаться со мною.
— Почему ты так обеспокоен? Окружение красных — это же резерв хунвэйбинов, это равносильно, что быть кандидатом в члены партии, ты пройдешь испытательный срок и все! — успокаивал я его.
— Ты дай мне сегодня свою повязку надеть!
— Разве можно! Тогда я совершу политическую ошибку, для тебя это тоже будет политической ошибкой! — на самом деле сегодня я тоже мечтал войти в свой двор с красной повязкой хунвэйбина, чтобы все обратили внимание.
— Не имеет значения! Ты сначала зайдешь вместе со мной к нам в дом, но повязка будет на руке у меня. Там я верну ее тебе, и ты уйдешь домой хунвэйбином!
Он оказался достаточно проницательным, с ходу разгадал мои мысли.
Я заколебался, не мог отказать:
— Так и сделаем. Как раз было обеденное время, во дворе тишина, не встретили ни души, наверно, все обедали.
— Если бы вечером, было бы намного лучше, тогда все люди во дворе наслаждаются прохладой, — сказал мне вполголоса Ван Вэньци. Не достигнув цели, он разочаровался.
— Тогда давай хоть мать порадуй, и то ладно, — сказал я.
Он вдруг во весь голос закричал:
— Почему во дворе пахнет паленым? У кого горит какое-то тряпье?...
После его крика со всех домов и дверей повысовывались люди.
— А почему я не слышу?
— Я тоже не слышу!
— Ой, у меня у обогревательной стенки лежит куча одеял! — засуетилась одна из женщин и убежала в дом. Вскоре она выскочила во двор и объявила, — У меня дома все в порядке! Я думала, что одеяла загорелись!
Все стали принюхиваться, поворачивая головы во все стороны и говоря, что не слышат никакого запаха дыма.
Я понимал, что Ван Вэньци захотелось коварно пошутить, было желание засмеяться, да нельзя.
Ван Вэньци несколько раз притворно потянул носом воздух:
— Странно, когда мы только зашли во двор, я отчетливо услышал запах дыма горелых тряпок.
Одна старушка сказала:
— Пожар — дело серьезное, посмотрите получше! Однако взгляды некоторых уже устремились на повязку хунвэйбина.
Он нахально рекламировал себя:
— Мы, хунвэйбины, должны не только заниматься культурной революцией, но и показывать образцы в борьбе с огнем и воровством!
Люди дружно кивали головами, выражая ему поддержку.
Я со стороны присматривался к людям и обнаружил, что они взглянули на него по-новому. Никогда не думал, что повязка хунвэйбина может так воздействовать.
Его мать тоже вышла из дома. Она с первого взгляда увидела на рукаве сына повязку хунвэйбина, от радости раскрыла рот и только потом смогла выкрикнуть:
— Мой сын тоже хунвэйбин! Мой сын хунвэйбин!
До этого все школьники начальной и средней школ этого двора уже стали хунвэйбинами, только ее сын не был им, и она испытывала тяжелое психологическое давление.
Ван Вэньци между тем сказал:
— Ма, я принадлежу к окружению красных, но я не был хунвэйбином, разве это не политический анекдот? Я был им, но только сегодня мне вручили повязку, — говоря, он выразительно посмотрел в мою сторону и я подтвердил:
— Да, да, правильно! — и вслед за ним направился в их дом.
— Теперь все отлично, все подростки нашего двора — хунвэйбины! Все красные!
— Да, да, совсем недавно я размышлял, почему ваш сын Ван Вэньци не хунвэйбин?
— Вэньци, ты и в душе, должно быть, такой же твердый?
Люди стали высказывать вслух свои мысли.
— В душе я, собственно, всегда была уверена в нем! Родословная нашей семьи чистая, мне на роду написано быть уверенной! — отреагировала его мать, на их рассуждения.
Только зашли мы в дом, как вслед явилась его мать. Хозяйка, конечно, заметила, что я без повязки хунвэйбина, стала зондировать:
— Сяошэн, тебя на этот раз не приняли?
— Тетя, я на несколько дней опоздал с написанием заявления, придется подождать пока утвердят.
— У твоего отца... в Сычуани все хорошо? Она спросила с состраданием, да попала как раз в больное место. Я уклончиво ответил:
— Все нормально! В последнем письме сообщал, что здоровье очень хорошее.
— Это большая радость, что все нормально. Вэньци, ты стал хунвэйбином, когда будут принимать следующую партию, ты замолви слово за Сяошэна! На день раньше примут, и родителям раньше станет спокойнее, — очень добросердечно велела она сыну. — Конечно! Конечно! — радостным, готовым на любые жертвы ради друга тоном, ответил Ван Вэньци.
Обманутая хозяйка с радости не могла не оставить меня на обед. Ван Вэньци благодаря тому, что удачно обманул мать и соседей по двору, тоже не мог не сделать это.
Из-за такого радушия матери и сына я тоже не мог отказаться. После обеда Ван Вэньци проводил меня до самого перекрестка, там достал из кармана повязку и вернул мне, растроганный сказал:
— Мы действительно надолго задержали тебя у нас дома, но от этого большая польза.
— Неужели мог не помочь в таком пустяке?
— Знает небо, знает земля, знаешь ты, знаю я.
— Если бы я не помог тебе, то продал бы тебя.
— Мы с тобой — самые лучшие друзья, отныне я не скрою от тебя ничего на свете. Скажу тебе правду, мой отец больше года был гоминьдановским солдатом. Потом дезертировал. Это однажды вечером мой отец тихо рассказывал матери, а я тайком подслушал. Если когда-нибудь я стану «черным», тогда ты останешься моим другом?
Я никогда в жизни не мог подумать, что отец моего рекомендующего в комсомол мог иметь такие серьезные проблемы в своей семье. Никогда не думал, что он так может довериться мне, может выдать мне такой опасный для семьи секрет.
Я оторопел.
Дал повязку хунвэйбина подлинному щенку гоминьдановского солдата, создал ему условия выдать себя за хунвэйбина. Как это все серьезно!
Я ощутил внутренний страх. Почувствовал, что он втянул меня в опасное дело.
Он, очевидно, также разгадал мое психологическое состояние в тот момент.
— Если ты боишься связей со мной в будущем, то с завтрашнего дня я по своей инициативе отдалюсь от тебя. И все! В этом году никто, кроме нас, не будет задумываться над этим. Я полностью способен понять тебя, — сказал он тихо, пристально глядя мне в глаза.
Эх, Ван Вэньци, Ван Вэньци, почему ты так долго смотришь мне в глаза, да так, что пронзаешь душу?
Почему в этот революционный год все люди стали беспредельно революционными и в то же время крайне эгоистичными?
В его словах я почувствовал огромную сердечную скорбь. У меня не хватило мужества взглянуть ему в глаза.
Выражение моего лица в то время, видимо, подсказало ему, что его собственные внутренние переживания более сильные, более сложные и более корыстные, чем мои.
Он, не говоря ни слова, повернулся и пошел.
Когда он удалился шагов на десять, я справился с внутренним эгоизмом. Окликнул его, потом догнал и высказал священную клятву:
— Вэньци, ты мой друг навсегда!
Он горько усмехнулся.
— Правда! — мои чувства бурно вздымали горячую дружественную кровь, — у меня тоже есть такое же серьезное дело, о котором я тебе расскажу!
Я хотел рассказать ему о том, что мой отец в Сычуани выведен на чистую воду. Уже почти сказал об этом, но подумал, а будет ли мое доверие соотноситься с тем, что он доверил мне.
Слова «мой отец состоял в …» едва не сорвались с кончика языка, но были проглочены. Подобно тому, как рыба, выпрыгнувшая на поверхность воды, тут же уходит обратно.
Он молча смотрел на меня, ожидая, когда я расскажу ему о таком же серьезном деле.
— Мой отец подпольно состоит... в подпольной партии...
Вот такую чушь я выдавил из себя.
Несусветную чушь.
Лицо покраснело, готовое вспыхнуть.
— Как можно говорить, что дело, о котором ты сказал, такое же серьезное, как мое? — сощурившись, выпалил он с дикой яростью, уставившись на меня подозрительным, потерявшим доверие взглядом.
Тот его взгляд я ощутил как пощечину, которую он мне влепил.
Я нес околесицу, тщетно пытаясь защититься:
— Не смотри так на меня! То, что я тебе сказал, совершенно секретное дело. Моим отцом руководят непосредственно из Министерства общественной безопасности До сих пор из-за характера работы он не может открыто быть членом партии. Я не только стопроцентный красный, но надо считать еще и особым красным!
— Ха-ха-ха...— вдруг разразился он громким смехом. Потом замолк, холодно сказал:
— Особый, говоришь? уходи, уходи, с завтрашнего дня я не буду ходить вместе с тобой, чтобы между нами не было никаких отношений.
— Я...
— Катись ты к такой матери!
Я развернулся и бегом покинул место пренеприятного разговора.
* * *
На углу одной из улиц перед дверью парикмахерской, в которую я примерно раз в месяц ходил стричься, на блестящей, привлекающей взор красной бумаге было вывешено «обращение к революционным массам». Перед текстом обращения была помещена известная цитата: «Герой даже в одиночку победит тигра и леопарда, негерой испугается медведя». За нею следовал текст обращения: «Для того, чтобы идти в ногу с революцией, наша парикмахерская не делает причесок с зачесом волос назад, причесок на пробор, стрижек волос длиной больше одного цуня, не соответствующих пролетарским образцам. Не применяет бриолин, лак для волос, румяна. Мужчинам не делает челку, не сушит волос феном. Женщинам не делает горячую завивку волос и не завивает волосы на бигуди».
Внизу подпись: Парикмахерская «Хуачжицяо».
Раньше она называлась по наименованию улицы, с каких-то пор получила это новое название.
Две женщины-парикмахера, одетые в грязные белые рабочие халаты, одной около тридцати лет, второй — за сорок, одна — слева, другая — справа, ножки взавивку, подпирали дверные косяки. Они, как солдаты, сторожили вход в парикмахерскую, от нечего делать лузгали семечки, беззаботно судачили о всяких пустяках. Внутри парикмахерской полная тишина.
Парные цитаты из стихов председателя Мао уже стали поветрием революционного времени. Однако цитата, помещенная перед обращением к революционным массам, на самом деле не имела ни малейшего отношения к обращению. Она вызывает у человека ощущение, что он пришел не в парикмахерскую, а на арену, где будет происходить состязание с дикими зверями.
Закусочная, что напротив парикмахерской, раньше тоже называлась по имени улицы. А с некоторых пор на табличке написали «Закусочная Лоюянь», не без намека на душещипательное значение «Лоюянь». Это тоже из стихов Мао, такого рода названия естественно находятся под защитой революции.
Я остановился напротив входа в парикмахерскую, поняв, что сбился с пути, и тут же увидел, как из закусочной «Лоюянь» вывалила шумная толпа. 7–8 пар «лебедей», стуча в гонги и барабаны, веселой ватагой стали переходить улицу. Две парикмахерши, подпиравшие дверные косяки, крикнули внутрь парикмахерской:
— Идут сюда! Идут сюда! Люди идут! — им совершенно нечего было делать, надеялись получить желанное занятие. Многие работники парикмахерской — мужчины и женщины вышли на улицу, встретили их аплодисментами. Персонал закусочной подошел к парикмахерской, несколько человек быстро развернули большой красный лист бумаги и стали торопливо клеить рядом с «обращением к революционным массам». Еще не высохшие иероглифы слова «поддержим» врезались мне в глаза. Я окинул взглядом написанное, основной смысл его сводился к поддержке революционной работы персонала парикмахерской «Хуачжицяо».
Обе стороны взаимно обменялись лозунгами:
«Учиться у революционных парикмахеров!».
«Учиться у революционного персонала закусочной!».
«Привет революционным парикмахерам!».
«Привет революционному персоналу закусочной!».
Это привлекло внимание многих прохожих, которые останавливались вокруг, чтобы посмотреть на это мероприятие.
Я случайно остановил взгляд на пространстве перед входной дверью в «Хуачжицяо». Меня охватило чувство, которое можно назвать: «если все человечество пьяно, то я тоже пьян». Удрученный происходящим, я торопливо перешел улицу и неожиданно увидел, что на стену закусочной «Лоюянь» тоже наклеивают два больших листа красной бумаги. Не имея намерения читать их, я все же не смог подавить любопытство, остановился и стал бегло просматривать.
На первом листе было «обращение к революционным массам закусочной «Лоюянь», впереди которого размашистым почерком вписана цитата: «Золотую чашу содержи в порядке, на земельном наделе трудись изо всех сил». Эта закусочная в целях стимулирования изменения мировоззрения революционных клиентов, начиная с сегодняшнего дня, не будет убирать столы, мыть пиалы и палочки для еды. Персонал не слуги клиентов, закусочная должна обслуживать семьи. Клиенты обслуживают себя сами, только в этом случае появится самый лучший социалистический строй, в котором все люди равны...
В моих карманах никогда не было столько денег, чтобы можно было съесть блюдо в закусочной. Поэтому то, что персонал призывал клиентов также съедать всю пищу, не оставляя объедков, и в этом видел преимущество социализма, меня никак не касалось. Да и стригся я всегда только наголо или делал ученическую прическу, при этом никогда не пользовался такой услугой, как помывка головы, чтобы сэкономить один мао, поэтому и этот призыв «Хуаюцяо» ни на йоту не затрагивал мои интересы. Впрочем, любая модель каждого парикмахера, старательно делающего свое дело, неизбежно вызывала в моем сознании уважение и почтение к ним. Что касается социализма, то я про себя думал, что мы занимаемся им уже столько, сколько я прожил на свете, но все время делаем неправильно. Даже идея «служить народу» требует новых дискуссий, а все это только приносит людям разочарование. Волей-неволей чувствуешь глубокую досаду за свою республику.
Раздосадованный я продолжил свой путь домой. Проходя мимо большого желтого многоэтажного дома, я увидел, как собравшаяся перед ним толпа кого-то избивала.
Желтая многоэтажка одной стороной выходит на улицу. Моя семья жила в маленьком переулке за многоэтажкой. Она построена совместно провинциальным обществом писателей и театром песни и пляски как общежитие. Но писатели здесь почти не жили, только артисты. Дацзыбао на стене дома сменялись трижды в день. Их наслоение достигало толщины трех досок! Дацзыбао на этом доме в сравнении с другими вызывали беспредельный интерес у прохожих, а для простого населения нашего переулка поставляли богатый материал для веселых увлекательных бесед. Писатель Н. — бродяга по природе, артистка такая-то всегда была «драным башмаком», певица такая-то — любовница В.… Некий деятель из кругов культуры и искусства, как достоверно известно, обладает «дурными качествами», ведет темные дела и способен высосать из пальца все, что угодно, с помощью дацзыбао разоблачен принародно. Простые городские жители потешались вдвойне. Об этом передавали из уст в уста и переписывали, без устали отводили душу.
— На желтом доме есть какие-нибудь интересные дацзыбао?
— Быстрей пошли, посмотрим, там расписали, как живет Н.!
— Да? Тогда сейчас поужинаю, и можно будет сходить!
— Сейчас как раз кто-то наклеивает новые дацзыбао, если ты поужинаешь и потом пойдешь, то едва ли уже увидишь!
— Тогда я не буду ужинать!
Родителям живших в нескольких переулках семей не однажды приходилось хватать за руки или за уши своих детей — учащихся младших и средних школ, мальчиков и девочек — и утаскивать домой, жестоко избивая и предупреждая их, чтобы больше не читали дацзыбао на желтой многоэтажке. Боялись, что мальчики и девочки из тех дацзыбао наберутся всякой дряни. Но даже побои не приносили пользы. Мальчики и девочки после избиений с трудом меняли «дурные привычки».
Каждый раз, когда я проходил мимо желтого дома, всегда хотелось остановиться и почитать те дацзыбао. У меня семнадцатилетнего юноши, были очень смутные представления о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной вроде бы что-то знал и вроде не знал, чувствовал, что, раз это тайна, то стыдно интересоваться. В глубине сознания копошилась зависть. Так как в романах не пишут о том, что бывает между мужчиной и женщиной, а в дацзыбао пишут, и поскольку те мужчины и женщины не персонажи из романов, а персонажи, которые живут в желтой многоэтажке (к тому же, если я захочу, то, когда он или она будет входить в дом или выходить из него, могу безнаказанно крикнуть что угодно ему или ей, плюнуть в лицо ему или ей), то я могу косвенно получить моральное и даже физиологическое удовлетворение. Я часто читал их с душевным трепетом и покрасневшим лицом.
В те годы я сильно увлекался стихами. В стихах юношей, как и в их снах, часто: проявляются признаки психологии Фрейда. Я всей душой мечтал стать большим поэтом. Я начал создавать стихи, в которых боготворил красивых женщин. В дневник записывал строки, кричащие о неразделенной любви.
Я почитал одного провинциального поэта средних лет, проживавшего в желтой многоэтажке. Купил два тома его стихов. В провинции он был известен эмоциональными стихами. Он определенно был подвержен влиянию шлягеров запада, трескотни и витиеватости. Стихи о любви писал очень вульгарно. Недавно я прочитал стихотворение «Звуки, оставляемые снегом» и подумал, что лирика о любви у него приближается к этому стандарту.
Однажды на стене желтой многоэтажки появилась разоблачающая его дацзыбао. Это были копии более десятка чувственных писем к жене в пору любви, написанных в стиле лишу.[21] Бросающийся в глаза заголовок гласил: «Посмотрите на отвратительный облик поэта».
Те стихи официально не публиковались, но я несколько строк из них помню по сей день:
Я хотел бы стать струною цитры, Каждый день жить в твоем сердце, Чтобы твои ласковые пальцы Ежеминутно касались меня. Я хотел бы стать твоими туфлями, Каждый день целовать твои ноги. Когда ты сладко спишь, Я всю ночь одиноко страдаю. Я хотел бы стать твоей сорочкой, Каждый день прикасаться к тебе, Когда ты будешь одинока, Я безмолвно прильну к твоей груди.Если бы я был девушкой и сегодня какой-нибудь поэт в таких стихах выразил ко мне любовь, то наверно, тронул бы мое сердце, но в то же время не вызвал бы восхищение стихотворением, в те годы такие заурядные стихи как раз обеспечивали блестящую победу на ниве любви.
Как много его поклонников в тот день переписывало их для себя! Слово «грудь» было подчеркнуто красной жирной чертой, напоминая людям, что «отвратительный облик» вовсе не безответственная болтовня. Я тоже переписал. И тоже подчеркнул слово «грудь». В течение многих дней после этого иероглифы, обозначающие «грудь», часто вставали в моем воображении, трансформируясь из иероглифов в определенную форму. Когда я встречался с женщинами мой взгляд невольно пробегал по их груди.
С тех пор я перестал поклоняться этому поэту, однако частенько читал те стихи, переписанные с дацзыбао. Культ исчез, а психологически я не почувствовал ни малейшей потери. Наоборот, на душе стало как-то легко.
Позже, переходя улицу, я однажды встретил его. Он уже совсем поблек, лишился манер, присущих поэтам, упал духом. Когда он проходил мимо меня, я громко назвал его имя. Он остановился, повернулся, в замешательстве посмотрел на меня. Я презрительно тоже посмотрел на него. Как будто я известный поэт, а он учащийся средней школы, мечтающий стать поэтом.
Он на миг растерялся, потом понял, что это злая выходка, рассчитанная на то, чтобы унизить его, и пошел дальше А я еще несколько раз выкрикнул его имя. Он ускорил шаг, потом даже побежал. Видя быстро удаляющуюся спину, я улыбался. Если бы в то время передо мной было зеркало, и я увидел бы в нем себя, я обязательно испугался бы своей леденящей ухмылки. Возможно, в ней была еще и безжалостность.
Человечество имеет две распространенных психологии — созданную им самим психологию идолопоклонства и психологию истребления первой. Не важно как поклоняться — до предела низко или чуть-чуть. Первая олицетворяет собой относительно всеобщее духовное раболепие. Вторая воплощает в себе относительно всеобщее сознательное раболепие.
— Срезай ей волосы! Срезай волосы! — кричала женщина в толпе перед желтой многоэтажкой. Ее голос, похожий на хрипы собаки, которой веревкой передавили горло, — привлек меня к этой толпе.
Здесь избивали женщину. На ней не было еще ярлыка, пока не надели колпак, и я не смог узнать ее имя. Если судить по ее изящной фигуре, то ей никак нельзя было дать и тридцати лет. Ее избивали не хунвэйбины, не цзаофани из среды работников культуры, а домохозяйки из желтой многоэтажки. Женщины в возрасте от 30 до 60 лет — матери, бабушки. В боевых кличах их ободряли и поддерживали школьники средних и младших классов — сыновья, дочери, внуки и внучки. Это была стихийная, никем не организованная и никем не возглавляемая большая критика, явление, какие я наблюдал тогда сплошь и рядом.
Две юные девушки завернули руки избиваемой за спину, а женщина-мать среднего возраста одной рукой ухватилась за красивые, цвета вороньего крыла, длинные волосы истязаемой, а в другой держала большущие ножницы и с клацанием срезала ей волосы.
Одна женщина с огромным животом, по меньшей мере на шестом или седьмом месяце беременности, от смеха обеими руками схватилась за живот и с интересом наблюдала за происходящим. Старушке в зеленой кепочке военного образца она сказала:
— Вышла замуж, а завивку не сделала, ей захотелось подольше сохранить такие длинные волосы, иногда заплетает длинную косу. Удивительно, не собирается ли она, маскируясь под девушку, совращать молодых парней! Посмотри, будет ли она после этого рисоваться! Тогда та старушка повернулась к женщине, обрезавшей волосы, и крикнула:
— Обрезай еще короче! Обрезай еще короче! Распутница! Дура вонючая!
Клац! Клац! Клац!
Прядь за прядью черные волосы падали на землю.
Некоторые малыши стали собирать их. Взяв в руки, совали в ноздри пучки волос, изображая из себя стариков с усами, напуская на себя солидный вид и вызывая взрывы смеха у женщин.
Прекрасные волосы той женщины в мгновение ока стали короче, чем при стрижке под ежика. Только неровные.
— Снова отрастет, еще раз пострижем! С этого дня будем стричь тебя ежедневно! Ежемесячно! Ежегодно! — внушала ей женщина, которая обрезала волосы, с силой надавливая ей пальцем на лоб.
Две девушки, завернувшие ей руки за спину и державшие во время стрижки, наконец-то, отпустили их.
Она медленно-медленно поднимала голову, над которой, дав себе волю, достаточно поиздевались, не глядя никому в глаза, лишь той старушке в военной кепи. Смотрела, сжав губы, не говоря ни слова, а в глазах мало-помалу накапливались и текли слезы, и только нескоро она сказала всего одну фразу:
— Ма, я же все-таки жена вашего сына! Та тут же ответила:
— Я прикажу своему сыну завтра же развестись с тобой. Я не признаю тебя женой моего сына! Распутница! Разве не из-за того, что мой сын связан с вашей семьей, имеющей зарубежные связи, он не может вступить в партию?! А сегодня еще может подвергнуться критике?!
Старушка в новейшем военном кепи цвета зеленой травы, прижавшем к затылку прядь волос, выглядела очень комичной и смешной. Однако окружавшие ее люди, кажется, ничего не замечали. В каждом слове, сказанном невестке, вырывалась наружу ее внутренняя злобная ненависть. Как и сейчас, я тогда не мог понять, как она могла дойти до такой ненависти к жене сына только из-за того, что ее сын не вступит в партию и подвергнется критике
— Тьфу! Да у вас же в доме еще два аквариума с золотыми рыбками! — подошла к истязаемой беременная женщина, поддерживая руками свой живот, и плюнула ей в лицо липкий комок слюны.
Ее рука потянулась, чтобы вытереть слюну, да остановилась.
Слюна медленно сползала вниз по ее лицу.
— Принеси и выбрось их! — снова вскинулась та женщина, которая только что стригла ей волосы.
— Я схожу, кто пойдет вместе со мной?
— Я пойду!
И два малыша, опередив всех, а за ними еще 5–6 мальчишек бросились бегом в дом.
— Нет! Нет! — встревожилась старушка в военном кепи, а беременной женщине сказала:
— Как бы ее не били, все сойдет, а вот ломать вещи в моей квартире я не разрешу!...
Беременная женщина, окинув ее взглядом, высказала свое удивление:
— Эй, вы слышали? Она только что говорила, что не признает ее женой сына называла распутницей и вонючей дурой, а сейчас она уже заодно с невесткой! Ты знаешь, сколько мужчин она одурачила за спиной твоего сына?
— Избитая женщина еще раз, глядя на старуху, скорбно спросила:
— Ма, ты им веришь?
— Распутница! Я хочу верить и верю!
— Ты не веришь даже тому, что говорит твой сын?
— Мой сын... — и в этот момент старушка увидела, как из ее дома дети вынесли два аквариума с золотыми рыбками. Она торопливо бросилась вперед, — детки, не бросайте, ни в коем случае не бросайте! Каждый аквариум стоит больше восьми юаней! Да и за каждую рыбку отдали большие деньги!
Беременная женщина громко крикнула:
— Бросайте! Эта старуха не знает, что говорит!
Женщина, все еще державшая в руках ножницы, тоже скомандовала:
— Бросайте!
Остальные женщины беспорядочно выкрикивали то же самое:
— Бросайте! Бросайте! Почему не бросаете?!
Все дети, наблюдавшие за происходящим, тоже зашумели:
— Бросайте! Бросайте! Послушаем звуки гонга! Ударьте в гонг!
Два керамических аквариума, которые держали на руках двое малышей, мигом разлетелись вдребезги, ударившись о землю. Образовалась грязная лужа. Несколько драгоценных золотых рыбок бились о землю, подпрыгивая в этой луже. В предсмертных судорогах они раскрывали рты и усиленно работали жабрами.
Старушка смотрела на эту сцену ошалелыми глазами. Женщина, которую избивали, кажется, переживала за них больше чем за себя. Не в силах смотреть на них она закрыла глаза и потерянная, растоптанная бессильно опустила голову.
— Еще прыгают, раздавите ногами! — подстрекала детей одна из женщин.
Дети наперебой стали топтать золотых рыбок. В момент десятки ценных красивых созданий дети безжалостно превратили своими ногами в рыбное месиво.
— Еще раз разведите два аквариума золотых рыбок! Посмотрим, чем это для вас кончится! — с дикой ненавистью в голосе пригрозила беременная женщина. Как будто от ее безумной ненависти зависит, разводить ли им рыбок и сколько аквариумов. Точное указание на количество обычно заставляет человека задуматься и сделать по-другому, раз нельзя два, тогда надо один и ее ненависть угаснет.
Мальчик 13–14 лет поднял руку и крикнул:
— Посмотрите, это тоже из ее дома! — он держал в руках и показывал, изящную красную, сшитую из тонкого материала, вещь.
Женщина с ножницами отняла ее у него.
Все остальные женщины столпились вокруг нее, чтобы посмотреть на диковинную вещь. Несколько рук потянулись к ней. Это был комплект из бюстгальтера с трусиками вышитый узорами.
Взрослые женщины загалдели, прищелкивая языками всех на лицах застыло изумление, как бы выражающее единодушное мнение о порочности этой вещи. Изумлялись — как может человек надевать такую развратную вещь; попутно под настроение провели бессловесное воспитание детей, дали понять, что только очень порочные женщины надевают такие вещи.
Их сыновья и дочери, внуки и внучки — учащиеся начальных и средних школ тоже изумлялись, похоже, тоже единодушно полагали, что они, к несчастью, своими глазами увидели самую порочную в мире вещь; свое отношение к порочной вещи они перед женщинами выразили полным неприятием.
Поступая так, подняв галдеж, женщины, тем не менее, как я отчетливо уловил, выражали еще и восхищение, и зависть.
— Посмотри, с верху до низу ручная вышивка, это сколько же надо затратить труда на одну вещь!
— Ой, совсем просвечиваются, все можно видеть насквозь. Что одевай, что нет, все равно одинаково!
— Это ж каких денег стоит?
— Нам никогда таких не купить!
— Даже если и купишь, то не наденешь! Какая порядочная женщина наденет такое?
Избитая женщина безучастно слушала их рассуждения, лицо давно стало пунцовым. Ее без сомнения больше одолевал стыд не за то, что ей обрезали волосы, а за то, что принародно выставляли ее нижнее белье. Она терпела, собрав все силы и выдержку.
Одна женщина подошла к ней, дала две громких пощечины, стала грубо стыдить:
— Вонючая тварь! И ты, ложась спать, надеваешь это?
— Неужели вы никогда не носили бюстгальтеры, никогда не надевали трусы? — наконец, высказала она своеобразный протест.
Шлеп, шлеп! Последовали еще две пощечины.
— Грязная тварь! Какая же порядочная женщина наденет такое?! Да еще вышитое!
— Это мне подарила жена посла, когда я выступала за рубежом!
— Закрой свой вонючий рот! Я за год всего несколько раз выхожу на берег реки, а ты еще ездишь по заграницам! Впредь и не мечтай об этом!
— Ты китаянка или иностранка?!
— По-вашему за рубежом женщины не порядочны!
Возмущение женщин росло.
— Стригите ее, стригите!
— «Мне подарила жена посла», вы слышали, как она преуспевала?
— Стригите, стригите в полоску!
— Разве не из-за хорошего природного голоса она стала жительницей нашего дома? Не допустим, чтобы она сейчас потеряла авторитет! Пусть даже на веки останется дурная слава о нас!
И тут несколько женщин потянулись к той из них, которая клацая ножницами, безжалостно срезала ей волосы. Теперь они пучок за пучком стремительно слетали на землю.
Настроение старушки в военном кепи после того, как разбили аквариум, упало, она глубоко сожалела о случившемся. Неизвестно, какие чувства в этот момент овладели ею, с ней началась истерика, она направилась к невестке, стала набрасываться на нее и царапать.
Несколько мужчин, оказавшихся среди зрителей, не вынесли эту сцену, подошли к старушке и оттащили ее.
Она, лежа на земле, билась в судорогах и кричала:
— Не выйдет, завтра разделим имущество! В нашем доме не все вещи принадлежат той подлой распутнице!..
Женщина с ножницами, закончив свою вторую миссию, склонившись к старушке, крикнула: — Вставай! Кто сказал, что будем делить ваше домашнее имущество? Мы хотим конфисковать ее вещи. Мы можем провести такой политический акт? Старушка не вставала. Лежа на земле, ответила:
— Большинство из ее вещей куплено моим сыном! Та ее одежда, обувь — все это приобрел мой сын! На все потрачены деньги моего сына!
— Все, что куплено твоим сыном, ты отложишь и все тут, — благосклонно разъяснила ей женщина с ножницами.
— Именно так, сколько мы еще можем терпеть из-за нее неприятности?
— Наше главное направление борьбы — это она!
— Быстрее вставай! Если ты еще раз поднимешь такой шум, то помешаешь нам в осуществлении главного направления.
Женщины опять загалдели.
Тут только старушка поднялась, подобрала слетевшую с головы измятую шапчонку и снова надела на голову.
Одна из девочек с завистью смотрела на разбросанные везде осколки, похожие на красные листья, и в то же время бросала хитрые взгляды на взрослых женщин. Улучив момент, когда никто на нее не обращал внимания, внезапно подбежала, подобрала с земли осколок и тут же скрылась.
Этот поступок как бы послужил безмолвным сигналом для всех девочек, они дружно налетели, наперебой стали хватать осколки и мигом сплелись в большой клубок.
— Что вы делаете? Что вы делаете? Не смейте собирать!
— Ох, уж эти дети! С ума сошли!
— Для чего они вам нужны?
Крича, женщины растаскивали этот девичий клубок.
— Я... хотела сделать украшение на волосы...
— Я — тоже...
Девочки неохотно выпускали из рук поднятые ими осколки.
Избитая женщина бесстрастно смотрела, слушала...
Я, не торопясь, возвращался домой.
Пунцовое нижнее белье той женщины мельтешило перед моими глазами. Смутно выделялось белое тело женщины, лежавшее на кровати в различных позах.
Еще те ножницы...
Клац... Клац...
Как в калейдоскопе, беспорядочно мелькало всякое: падающее нижнее белье женщины, отрезанное ножницами, потом оно исчезло, стало похожим на человеческое мясо, сочилась кровь...
ГЛАВА 9
Наконец-то Ван Вэньци стал хунвэйбином. Он сразу же ради принципа пожертвовал своим отцом, на школьном собрании вывел его на чистую воду, как бывшего гоминьдановского солдата. Кроме того, захватив с собой группу хунвэйбинов, он отправился на место его работы и там целых полдня издевался над собственным отцом. На предприятии до разоблачения его сыном не знали, что отец Ван Вэньци служил в гоминьдановской армии, все считали, что его отец испил чашу горя в старом обществе и питает к нему лютую ненависть, что его биография незапятнанна. «Рабочий отряд красной гвардии» этого предприятия надеялся, что его отец может выступить перед ними с воспоминаниями о горьком прошлом и счастливой нынешней жизни. Его разоблачение загнало отца в «черную банду».
После того, как Ван Вэньци закончил разоблачение и избиение отца, рабочие «отряда красной гвардии» предприятия, обратившись к нему, заявили: «Ты своими революционными действиями подтвердил, что ты отмежевался от отца. Он долгое время обманывал нас, это наша беда, но не вина. Мы хотим учиться у тебя. Своими революционными действиями подтвердить, что мы тоже отмежевываемся от «черного бандита» — твоего отца, втершегося в ряды рабочего класса. Во второй половине дня мы тоже проработаем его. Ты передай домашним, что с сегодняшнего дня мы не разрешим ему ходить домой, изолируем здесь, проведем проверочную работу, до конца разберемся, что он делал у гоминьдановцев, какова степень его вины».
В тот день я вместе с ним ходил на это мероприятие. Мне никак не хотелось в нем участвовать. Не хотелось видеть сцену избиения отца, которую возглавит родной сын.
Я никак не мог понять, почему он в присутствии всех сказал мне: «Ты обязательно должен идти».
Не уяснив смысла его слов, я спросил: «Почему я должен обязательно пойти?»
Он с усмешкой ответил; «Я надеюсь, что когда я буду разоблачать своего отца, ты будешь выкрикивать лозунги и ободрять меня».
Я снова спросил: «Разве не все равно, кто будет выкрикивать лозунги?».
Он с прежней усмешкой пояснил: «Я тебе первому сказал о том, что мой отец был гоминьдановским солдатом, поэтому я считаю, что у тебя есть определенный долг пойти со мной и подбадривать меня».
Я понял, что он принуждает меня, хотел возразить его доводам, сказать, что в достоверности услышанного надо еще убедиться, но не смог быстро найти подходящие слова для возражения. И мне ничего не оставалось, как пойти вместе с ним.
Ван Вэньци сам отыскал в школе доску для навешивания ярлыка отцу — самую большую, самую тяжелую, какую в свое время повесили директору школы. Заново приклеил на нее белый лист бумаги. Собственной рукой написал: «Ван Баокунь выведен на чистую воду, как имеющий контрреволюционное прошлое». Потом собственноручно крест на крест перечеркнул фамилию отца.
Я, честно говоря, не думал, что он в то время так безжалостно обойдется с отцом.
Он также сам своими руками навесил на шею отцу подготовленную им большую и тяжелую доску-ярлык.
— Ван Баокунь, стань на колени! — рыкнул он на отца. Отец взглянул на него и молча опустился на колени.
— Ван Баокунь, склони свою собачью голову!
Отец снова взглянул на него и также молча наклонился.
После этого Ван Вэньци рассказал присутствующим о том, что он однажды ночью, притворившись спящим, слышал рассказ отца матери о его службе в гоминьдановской армии.
Сообщив об этом, сразу же спросил отца:
— Ван Баокунь, было такое дело? Отец не ответил.
— Что твои собачьи уши оглохли? Ты намерен отпираться?
Отец снова промолчал.
Тогда он подошел к нему и безжалостно наступил ему на ногу.
— Да... — заговорил он, наконец. Но голову не поднял. И, естественно, не взглянул на сына.
— Ван Баокунь, навостри свои собачьи уши и слушай! Начиная с сегодняшнего дня я не признаю тебя отцом! Я хочу одним ударом меча рассечь наши отношения на две части! Я хочу свалить тебя на пол и еще раз стать тебе на ногу!...
Раньше я бывал дома у Ван Вэньци несколько раз. Его отец никогда не относился ко мне, как к чужому. Всегда был со мной очень приветливым, очень сердечным. Когда в школе развернули подготовку ополченцев, его отец сделал две деревянных винтовки — одну для него, вторую для меня. В моем сердце его отец — это хороший отец. Правда, я немного побаивался его, чего никогда не ощущал, общаясь со своим отцом. Когда Ван Вэньци возглавил его избиение, я с неохотой участвовал в выкрикивании лозунгов, как-то язык не поворачивался. А после приказа «Ван Баокунь, стань на колени» я совсем потерял способность к восклицаниям.
Когда мы с «победой» возвращались с поля брани, Ван Вэньци холодно, в тоне допроса, спросил меня:
— Почему ты не выкрикнул ни одного лозунга?
— У меня несколько дней болит горло, — ответил я.
— Скажи — не было желания, — усмехнулся он.
Я отмолчался.
У него такая двусмысленная загадочная усмешка! От нее становится не по себе. Раньше я не замечал ее у него. Я пытался понять, какой смысл он вложил в слова «не было желания», но так и не догадался.
Как только пришли в школу, он, оставив нас, напрямик ворвался в штаб хунвэйбинов. Только вошел и тут же вышел. Не говоря ни слова, он схватил меня и свою компанию и потащил в штаб.
— Спросите у него! — сказал он главарям хунвэйбинов, указывая на меня.
— О чем спрашивать? — удивились главари.
— Спросите его, был ли я беспощадным, когда разоблачал отца?
Несколько главарей хунвэйбинов сосредоточили на мне свои взгляды.
— Был, — подтвердил я без эмоций.
Недовольный моим таким коротким ответом он сказал:
— Ты скажи конкретнее!
Я вынужден был подтвердить более полно:
— Он своими руками повесил ярлык ему на шею и приказал стать на колени, обругал своего отца собакой. Кроме того... кроме того, еще наступил ему на ногу...
После этого он обратился к главарям хунвэйбинов:
— Если вы не верите свидетельству одного человека, можете спросить еще нескольких.
Главари хунвэйбинов дружно выразили полное доверие.
— Тогда вы можете сейчас же утвердить мое вступление в организацию хунвэйбинов? — на его лице снова появилась загадочная усмешка.
Главари обменялись взглядами.
Один из них в высшей степени торжественно выбросил в его сторону руку и заявил:
— Ван Вэньци, твой революционный дух настоятельно требует принятия тебя в организацию хунвэйбинов и мы это твое чувство разделяем. Твои революционные действия полностью свидетельствуют о том, что ты имеешь полное право на вступление в организацию хунвэйбинов! Организация хунвэйбинов имеет высоко принципиальную цель — защиту многоуважаемого председателя Мао. Мы тебя испытали, надеемся, что ты можешь правильно понять. Мы горячо приветствуем твое вступление в организацию хунвэйбинов! Только настоятельное желание вступить в нашу организацию, кроме тебя, имеют многие другие, поэтому несколько позже мы проведем официальную церемонию и утвердим целую группу желающих, хорошо?
Он смотрел на протянутую ему руку, но свою для пожатия не подавал. Он плотно поджав губы, какой-то момент помолчал, потом тоном, более торжественным чем его партнер, сказал:
— Дождемся того дня и я пожму твою руку. Я могу пожать тебе руку, лишь будучи твоим соратником-хунвэйбином!
Сказав это, он круто повернулся и быстро вышел. Смущенный главарь опустил руку, спросил меня:
— Что с ним?
— Разве не понятно? Он, наверно, сойдет с ума из-за того, что его так быстро не приняли в организацию хунвэйбинов.
* * *
Через несколько дней Ван Вэньци перешел жить в школу. Его поместили в темную сырую комнату в подвальном помещении, где одиноко обитал старик завхоз. Отец Ван Вэньци покончил с собой. Мать, испытавшая такое огромное потрясение, разбитая параличом, лежала на кане. Вся семья возненавидела его. Старший брат несколько раз хватался за кухонный нож, чтобы прикончить его за то, что довел отца до самоубийства. Он боялся, да и не имел права дальше оставаться в своем доме. И вот он неуверенно вышел из подвала, как дикий зверь, долго не видавший солнечного света, вылезает из берлоги.
Один из главарей хунвэйбинов спросил его:
— Ты своими глазами видел смерть отца, тяжело на душе? Ван Вэньци как нечто драгоценное держал в руках «Сборник цитат Мао Цзэдуна», делая вид, что читает его. Но присмотревшись к Ван Вэньци, я заметил совершенно отсутствующий взгляд, хотя он действительно был направлен на книгу, однако застыл в одном положении. Он был похож на уткнувшегося в книгу слепого.
Только услышав вопрос, он встрепенулся, убрал сборник цитат, закричал:
— Нет! Нет! Нет!... — эта серия «нет» прозвучала на столь высокой ноте, что была похожа на вопль. Тон был настолько возмущенным, как будто вопрос оппонента безмерно оскорблял его.
За те несколько дней, что я не видел его, лицо Ван Вэньци побледнело, стало похоже на лист бумаги. Растрепанные волосы висели длинными космами. Людям он казался похожим на узника, сидящего в подземелье и отказывающегося от покаяния.
— Хорошо! Твой ответ хороший. Вполне достаточно одного слова. Требовался именно такой четкий ответ! Сообщаю тебе, что завтра ты сможешь надеть повязку хунвэйбина! — сказал ему тот главарь.
Я не ожидал, что это никак не отразится на его лице, у него не дрогнул ни один мускул. Люди не смогли уловить истинную работу его чувств.
— Я морально и по занимаемой мною позиции давно стал хунвэйбином, — сказал он и сел. Снова взял в руки цитатник Мао Цзэдуна, склонил к нему голову и стал молча читать.
— Твое такое прилежное изучение произведений председателя Мао должно стать примером для каждого нашего хунвэйбина, — сказал поощрительно главарь, тронутый таким ответом.
— Изучать произведения председателя Мао, слушаться председателя Мао, поступать согласно указаниям председателя Мао, стать солдатами председателя Мао! — ответил Ван Вэньци заученно, как твердят канонические книги буддийские монахи. При этом не шелохнулся, даже голову не поднял.
На следующий день на митинге, посвященном принятию присяги новыми боевыми соратниками хунвэйбинов, он, наконец, надел повязку. Вновь вступавшие в организацию хунвэйбины после того, как «старики» надевали им повязки, пожимали им руки и отходили. Только один Ван Вэньци, пожав руку надевшему ему повязку, тут же подошел к другому и тоже пожал руку. Потом он ходил по всему помосту и подавал руку всем «старикам»-хунвэйбинам. Во время рукопожатия говорил: «Бунт — дело правое, бунт — дело правое, бунт — дело правое»...
Сойдя с помоста, при встрече с каждым, у кого была повязка хунвэйбина, независимо от того, знал он этого человека или нет, он также неожиданно протягивал руку и каждому непременно говорил одно и то же: «Бунт — дело правое»... И делал это с совершенно серьезным видом. Многие, глядя на него, терялись в догадках, то ли он прикидывается, то ли все это всерьез.
Встретившись со мной, он еще больше напустил на себя важности и серьезности. Протянул руку с несколько надменным видом и как-то сдержанно, можно даже сказать — с позиции человека, занимающего очень высокое положение, провозгласил: «Бунт — дело правое!» Больше он не нашелся что сказать.
Я, съежившись от непонятного страха, пожал ему руку и сразу отпустил. И только ради того, чтобы что-то сказать, выдавил всего лишь одну избитую фразу: «Искренне поздравляю с вступлением в организацию хунвэйбинов».
С тех пор, как Ван Вэньци надел повязку хунвэйбина, он перестал быть подвальным привидением, большую часть светлого времени стал проводить наверху: действовать, «бунтовать».
Хотя оба мы стали хунвэйбинами, однако наши хорошие дружеские отношения, которые были раньше, не восстановились. Он относился ко мне равнодушно. А я тем не менее в глубине души жалел его. Я пытался сблизиться с ним, восстановить прошлые отношения, но он каждый раз своим равнодушием далеко отталкивал меня. Он знал из-за чего ненавидит меня, а я — нет. Я занялся самоанализом, честно, положа руку на сердце, спросил себя, в чем же я виноват, но так и не нашел ответа. Позже я пригляделся к нему и постепенно проследил, что он отталкивает от себя не только меня одного, но и других людей. Похоже он возненавидел всех, и больше всего — своих соратников хунвэйбинов. Я даже стал подозревать, что он так настоятельно добивался вступления в хунвэйбины, так хотел надеть повязку хунвэйбина только ради того, чтобы открыто самовыразиться, чтобы чисто психологически получить ощущение равенства с каждым из них (включая, конечно, и меня). До тех пор, пока он не надел повязку хунвэйбина, он определенно чувствовал себя тяжело униженным. Когда же он почувствовал себя равным со всеми, он как только мог выражал свою радость.
Но что это была за радость?
Какой ценой она досталась?
Однажды я, уединившись в классе, вырезал из восковки иероглифы для лозунгов, которые понадобятся на следующий день, и вдруг услышал звон разбитого стекла. Потом еще.
Удивленный этим, я пошел по коридору на эти звуки. Дойдя до конца коридора, я в последней классной комнате увидел Ван Вэньци. Он был один, держал в руке, поднятой над головой, ножку стула, готовый бросить в окно класса.
— Вэньци, что это ты делаешь? — подошел я к нему.
— Что делаю? — прищурил он глаза, косо глядя на меня, усмехнулся, — Бунт — дело правое!
__ Ты беспричинно бьешь стекло? — удивился я.
— Бью? Да, бью, пропади оно все пропадом! — В его душе, видать, давно накапливалась невыносимая тоска, которая искала выхода наружу. Толкнув меня ладонью и сцепив зубы, он продолжал выплескивать накипевшее, — Считай, что бью, ты можешь что-нибудь сделать со мной? Или кто-нибудь другой сможет? Вы уже немало разрушили, разве не так? Сколько вы разбили стекла? Сколько столов и стульев вы разнесли впрах? Кто разбил дверь в этой комнате? Вы! Не я! Говорю тебе честно, революция не устанавливала очередность, теперь пришла очередь наслаждаться мне! Разве я не надел это? — показал он на свою повязку хунвэйбина, — Отныне я никого не боюсь! Бунт — дело правое!..
Он с бешенством трахнул об пол ножку стула, которую держал над головой.
Раздался резкий треск.
Я стоял рядом с ним, понимая, что одному мне ни за что с ним не справиться, не остановить.
Цзынь! Цзынь!
Все стекла, какие еще были в этой комнате, он с наслаждением, методично колотил на мелкие кусочки.
Я только таращил глаза на происходящее.
В двери класса появился учитель.
Ван Вэньци повернулся к нему, резко спросил:
— А ты здесь зачем?
— Я... ни за чем, без дела, просто посмотреть... — торопливо, изобразив улыбку, слабым голосом ответил учитель, завидя его злую, устрашающую физиономию.
— А что здесь смотреть?! Катись отсюда! — зарычал он, и ножка стула полетела в классную доску. В доске образовалась, большая дыра.
Учитель, перепугавшись, потихоньку выскользнул из класса.
Несколько учащихся, не из числа хунвэйбинов, мальчишек и девочек, сбежались к классу, привлеченные непонятным шумом.
Он бесстрастно смотрел на них.
Они все поняли, никто даже рот не раскрыл, ничего не сказал, один за другим удалились.
Вслед за ними в класс зашли братья хунвэйбины, один из них, глянув на пол, усеянный битым стеклом, посмотрел на Ван Вэньци, спросил:
— Это ты, сынок, наделал?
— Я, — спокойно ответил он, по-прежнему сохраняя бесстрашный вид.
— Ты, видать, натворил это от нечего делать, просто так, убирайся в черную банду, может с ними найдешь общий язык?
— Я сейчас не желаю!
— Ты что, сынок, если испортилось настроение, то сразу бить, ломать?!
— У тебя, сынок, в душе раздрай? Но все равно не лезь на рожон!
Пошутив над Ван Вэньци, собратья гурьбой вышли из класса.
На лице Ван Вэньци снова заиграла та ухмылка, которую я уже видел раньше.
Как герой, покоривший весь мир, он одиноко, как бы застыв на месте, стоял посреди класса.
Наконец, послышался голос старика-завхоза школы:
— Придет зима, разве не вам самим здесь учиться ? Мерзнуть, если не застеклят?
Наверно, из-за того, что он жил у этого старика, он не стал с ним ссориться.
— Эх ты! К каким же героям ты себя причисляешь? — сказал завхоз и, покачивая головой, ушел.
Я подошел к Ван Вэньци, очень хотелось сказать ему несколько слов, чтобы понять его состояние. Однако он даже не взглянул на меня, как будто для него совершенно не существовал такой человек, как я.
Я чувствовал, что он дошел до такого состояния, что не способен понять хорошего отношения к себе, он неистовствовал.
Я возвратился в тот класс, в котором был до этого. Только сел, взял ручку и не успел вырезать ни одного иероглифа, как снова донеслись звуки разбиваемого стекла.
Цзынь!...
Цзынь!...
Этот звон мешал работе, я не смог больше вырезать хотя бы один иероглиф. Сердце заколотилось. Обеими руками зажал уши, но раздражающий шум проникал и через них.
Ван Вэньци, чтоб тебе провалиться, почему ты ненавидишь меня? Что я сделал для тебя плохого, в конце концов? Чем больше я размышлял, прикидывал все за и против, тем больше злился.
Цзынь!...
Я чувствовал, что страшная тоска, боль, скопившиеся в моей груди, срочно требовали выхода наружу. Такое смятение, как огромная летучая мышь, билось в груди. Вся она переполнилась смутным болезненным беспокойством.
Не выдержав, я двумя руками схватил стальную плиту, поднял над головой и изо всех сил запустил ее в окно.
Цзынь!...
Два стекла разлетелись вдребезги.
Если говорить об обычном человеке, то настрой на разрушение, психологическая потребность сорвать зло у него совершенно такие же, как и у трудного ребенка. Если однажды ты потерял над ним власть, то он, распоясавшись, станет своевольничать и безобразничать еще больше.
Я не смог сдержать себя, подпрыгнул, бросился в угол комнаты, схватил швабру и запустил в окно.
Цзынь!..
Срывая зло, я испытывал облегчение. Все стекло постепенно превратилось в мелкие осколки. Это обстоятельство непроизвольно, автоматически привело меня в состояние сильного воодушевления. Те звуки обладали способностью заменять музыку, да так, чтобы я слушал и хотел слушать.
Цзынь!..
Цзынь!..
Когда я измельчил оконное стекло до конца, только тогда, тяжело дыша, остановился.
Я не видел, когда пришел Ван Вэньци, он стоял в проеме двери, безразлично и равнодушно смотрел на меня.
Я тоже впился в него глазами.
Если бы в тот момент он сказал хотя бы одно неосторожное слово или сделал малейшее движение, которое могло задеть меня, я мог броситься на него и начать с ним драку не на жизнь, а на смерть, продолжая вымещать зло.
Он стоял все в той же позе, безразличный и равнодушный.
Он выпустил из рук ножку стула, она упала на пол.
Я вслед за ним отбросил швабру.
Он понял, что ничего интересного для себя в классе не увидит, и ушел.
Растерянный и опустошенный я еще немного постоял посреди комнаты, тоже не нашел в ней ничего занятного и покинул ее.
Я пошел в подвал искать комнату Ван Вэньци. В темном сыром коридоре я услышал его безутешные рыдания. От них у меня бешено застучало сердце, вскипела потрясающая душу ненависть, способная перевернуть душу.
— Не плачь, не плачь, я знаю, что у тебя творится на душе, родной отец вырастил тебя, ты же еще не отплатив ему, отправил на тот свет. Но в этом нет твоего греха! Какая польза от слез? Разве слезы возвратят его к жизни? — утешал его старик.
— Нет! Я не его оплакиваю! Я не его оплакиваю! — закричал Ван Вэньци сорванным голосом.
— Тогда кого ты оплакиваешь?
— Тебя это не касается!
Его плач вызвал новый прилив сердечного волнения.
Каждый раскаивается по-своему.
Мне не хотелось, чтобы он увидел меня, я поспешил бесшумно удалиться...
ГЛАВА 10
Хунвэйбиновские организации многих средних школ ради пополнения и укрепления своих сил стремились объединиться с организациями хунвэйбинов крупных специальных военных учебных заведений. Подобно тому, как делали в эпоху Воюющих царств, когда мелкие княжества шли в зависимость к крупным с тем, чтобы их не уничтожили более сильные.
Наша организация хунвэйбинов решила «породниться» с организацией красных цзаофаней военно-промышленного института.
Мы, больше десятка хунвэйбинов, под предводительством двух главарей по собственной инициативе отправились в «паломничество» к красным цзаофаням военно-промышленного института.
Хунвэйбиновские организации средних школ в сравнении с организациями хунвэйбинов высших военных учебных заведений тогда поистине выглядели бледно. Поэтому штаб красных цзаофаней вызвал у нас уважение к себе, заставил преклонить перед ним колени. Он размещался в массивном здании главного корпуса, сбоку от входной двери была прикреплена вывеска высотой в три чжана[22] и шириной в полтора чи,[23] на белой бумаге уставным почерком четко выписаны красные иероглифы. Все привлекало внимание, выглядело величественно. Наш школьный штаб размещен всего лишь в одной классной комнате, без вывески, просто на листе красной бумаги написаны иероглифы, а лист приклеен к стене коридора. И уж, конечно, нет поста охраны. У них же справа и слева от входной двери штаба стоит по четыре охранника, одетых в военную форму (весь их персонал института носил военную форму, а мы не могли достать хотя бы один комплект). У их охранников не было только знаков различия на петлицах и кокард на головных уборах, но в кобурах, надетых через плечо, находились пистолеты. Если бы еще на погонах были знаки различия и кокарды на фуражках, то можно было бы не сомневаясь заявить, что там размещена регулярная воинская часть или штаб военного гарнизона города.
На крыше здания — два громкоговорителя, вещающих на всю округу гимн красных цзаофаней ими же сочиненный:
Мы — красные цзаофани,
Мао Цзэдун — наш красный командир,
Бунт — дело правое,
Оно победит.
Мы разрушим все, что устарело,
Нас никому не удержать,
Мы — гора Тайшань,
Мы — Великая китайская стена.
Мы заставим империалистов, контрреволюционеров и ревизионистов
Содрогнуться и трепетать от страха...
Звуки гимна, исполнявшегося военным оркестром в темпе марша, решительно вторгались во все пустоты, отдаваясь долгим эхом в институтском саду.
Мы, хунвэйбины средней школы, считавшие себя «перекидным мостом», робко стояли у крыльца Главного штаба красных цзаофаней, не решаясь подняться на его ступени.
Один наш главарь, всегда считавшийся смельчаком, подбадриваемый всеми нами, с чувством величайшего почтения шагнул на ступени священного крыльца.
— Стой! — скомандовал часовой.
— Мы пришли, чтобы провести революционное объединение... — помявшись, едва выговорил главарь.
— Откуда вы?
— Из 29-й школы. Хунвэйбины из 29-й школы.
— Из 29-й школы? Мы не объединяемся с хунвэйбинами средних школ!
— Тогда... почему вы объединились с хунвэйбинами 1-й школы?
— Хунвэйбины той школы первыми в городе поднялись на борьбу против городского и провинциального комитетов! Мы вместе проливали кровь в тяжелой борьбе. И то, что мы объединились с ними, родилось, как боевая дружба хунвэйбинов!
Наш главарь вынужден был с унылым видом сойти с крыльца. Все окружили его, на разные лады, не стесняясь в выражениях, высказывали ему свои упреки и обвинения, считая, что он не настойчиво добивался своего, не сумел убедить своего собеседника. Он рассердился:
— Каждый из вас думает, что он умнее меня, почему вы сами не попробовали убедить его?
Все притихли, смущенно переглядывались.
— Сейчас мы все вместе упросим его, пусть только пропустит нас внутрь здания, мы готовы даже стать перед ним на колени, — сказал второй главарь.
Так и сделали.
В то время цзаофани военно-промышленного института, уже наводившие ужас на все хунвэйбиновские организации страны, в Пекине еще не имели собственного пункта
связи, там у них был только специальный представитель. Хунвэйбиновские организации университета Цинхуа, Пекинского университета и ряда других важных специальных учебных заведений страны, обладающие духом «бесстрашных цзаофаней», опубликовали «Коммюнике об объединении». Их руководители в сопровождении охраны летали в Пекин на специальных мягких спальных самолетах. Они являлись в кабинет Центрального комитета по делам культурной революции, как к себе домой. Так с кем же нам объединяться, если не с ними? Мы не могли объединиться с любой организацией хунвэйбинов какого-либо высшего специального учебного заведения, если она не доказала, что является самой нашумевшей, самой революционной организацией хунвэйбинов, как наша школа среди средних школ. Мы с великим благоговением шли на поклон к ним, но наш визит не достиг цели, не оправдал наших надежд, поскольку хунвэйбины других организаций уже каким-то образом знали или чуяли, что в ближайшее время наша организация растеряет свое величие, потерпит полное поражение, о чем не догадывались мы сами. Если бы мы тогда уже знали об этом, то наше самолюбие было бы подорвано, а решимость бунтовать основательно поубавилась бы.
Это какие же серьезные потрясения ждали нас?!
Подумав об этом, мы уже не боялись опростоволоситься, даже подвергнуться бесцеремонному резкому осмеянию и издевательству. Мы толпой бросились наверх и слезно стали умолять:
— Разреши нам войти внутрь здания, мы всеми помыслами и душой за объединение с вами!
— Если только сможем объединиться с вами, то с этого момента будем делать все, что вы прикажете!
— Мы очень хотим, чтобы вы приняли нас к себе, как мощную поддержку для вас!
— Цзаофани не делятся на первых и вторых! Хотя наша организация создана чуть позже, но бунтарский дух у нас нисколько не меньше чем у хунвэйбинов 1-й средней школы!
* * *
Совместные слезные просьбы и требования, наконец, возымели действие. Противная сторона в конце концов сдалась:
— Зайдите в бюро пропусков, там заполните бланки на прием гостей! У них есть и бюро пропусков! Надо заполнять бланки на прием! Наше уважительное отношение к этому заведению усилилось до предела! Мы вошли в здание, заполнили бланки. Там увидели вестибюль, в центре которого возвышалась исполинская статуя председателя Мао, с обеих сторон от него свисали красные знамена. На левой и правой стенах вестибюля красовались огромные транспаранты с цитатами председателя Мао. На одной из них было написано: «Марксистская доктрина сложна и запутанна, в конечном счете ее можно изложить одной фразой: бунт — дело правое». На втором — «Кто наши враги и кто наши друзья? Вот вопрос, который имеет в революции первостепенное значение». В коридоре на верхней части каждой двери висели таблички с надписями: организационный отдел, отдел пропаганды, отдел информации, отдел внешних связей, исследовательско-философский отдел, управление боевой подготовки.
Те таблички оглушили нас.
— Вы посмотрите, есть даже отдел боевой подготовки!
— Чего шумишь сдуру? Хочешь нарваться на неприятности? Одна стрелка-указатель с надписью: «штаб на четвертом этаже» была направлена в сторону лифта.
— Посмотрите, лифт второго этажа заблокирован мешками с песком! — снова с изумлением воскликнул тот парень, который только что удивлялся существованию отдела боевой подготовки в этом святом здании. ч — Чего шумишь?! — остановил его второй парень, — прочитай, что написано. Лозунг, который висел на стене коридора как раз напротив лифта, призывал: «Ежеминутно поднимайте бдительность, остерегайтесь внезапного нападения «Союза 8.8»[24] на наш штаб».
«Союз 8.8» был еще одной хунвэйбиновской организацией военно-промышленного института. Почему назывался «Союз 8.8»? Нам всем было не понятно. Он существовал наравне с организацией красных цзаофаней института. Его революционная слава однако далеко уступала той, которой обладали красные цзаофани. Хотя он и совершил ряд бунтарских подвигов, однако все же не дотягивал до того, чтобы стать монархом. Кого же он защищает, какие у него расхождения с красными цзаофанями на главном направлении, мы так и не узнали.
— Если здесь будут сильно кичиться, мы покинем этот дом и найдем «Союз 8.8», с ним и соединимся! — громко заявил еще один из хунвэйбинов, чем мог погубить всю нашу затею.
— В этом месте не смей широко раскрывать рот! — показал ему кулак второй главарь, не вымолвивший ни одного слова с тех пор, как мы вошли в здание военно-промышленного института.
Тот парень сам понимал, что сказал лишнее, такое, что в стенах этого учреждения ни в коем случае нельзя было произносить, и молниеносно скрылся за моей спиной, не подавая признаков жизни.
Два главаря вели нас вперед словно бабушка Лю[25] с интересом рассматривавшая парк, кидаясь во все стороны и в то же время держа направление на дверь с надписью «отдел внешних связей».
Один из главарей уже протянул руку, чтобы открыть дверь, но второй отстранил его и, глядя ему в глаза, сказал потихоньку:
— Постучи в дверь.
С тех пор, как мы надели повязки хунвэйбинов, мы почти нигде не соблюдали такую норму приличия, как стучать в дверь. А здесь над нами что-то довлело.
Главарь, которому напомнили о том, что тут надо соблюдать приличие, отступил на шаг, трусливо сказал:
— Иди ты вперед!
— Если мне надо идти первым, так я пойду! — бодро сказал второй главарь, готовый на подвиги в первых рядах, и несколько раз постучал в дверь — тихо-тихо.
Проходит немало времени, изнутри не отреагировали. Он снова постучал, за дверью опять не ответили. Не зная, что делать, он повернулся к нам.
— Ты стучишь слишком слабо! — сказал я.
— Тогда ты постучи! — предложил он, отойдя от двери.
Я на мгновение заколебался, потом четко, с перерывами
стукнул три раза. За дверью по-прежнему не откликались.
— Что, нет никого?... — сказал я сам себе.
— Есть! Слушайте!
Все затаили дыхание, навострили уши и уловили слабые признаки жизни. Значит, есть люди.
Я хотел снова поднять руку и постучать в дверь, как вдруг изнутри донесся голос:
— Кто там, входи!
— Дверь заперта, не войти! — громко ответил я.
Только я успел сказать, как дверь отворилась. Появилось странное, похожее на Лу Цзячуаня* существо, которое торопливо, совершенно ненатурально спросило:
— Вы... откуда?
— Из 29-й школы.
— Как вошли сюда?
— Пешком.
— Я спрашиваю, с разрешения охраны или нет?
— Мы думаем, что без разрешения охраны сюда и мышь не проскочит.
— По какому делу?
— Прибыли объединяться с вами.
— Объединяться?... Заполнили бланк на прием гостей?
— Заполнили, заполнили! — один из главарей оттолкнул меня и передал его «Лу Цзячуаню».
«Лу Цзячуань» внимательно пробежал по нему глазами, испытующе посмотрел на каждого из нас, несколько неодобрительно, а больше неохотно, сказал:
— Входите. Самое большое на беседу с вами можем уделить до 10 минут. Неожиданно для нас в комнате оказалась еще и «Линь Даоцзин»,[26] женщина приятной наружности, волосы короткие, щеки румяные (если еще надеть длинный халат, то совсем была бы похожа на настоящую Линь Даоцзин), выражение лиц тоже смущенное. Она сидела у краешка стола, держа в руках наш пропуск, и невозможно было понять, или она читает его, или смотрит на нас. Видимо, не могла преодолеть смущение, для которого была причина.
«Лу Цзячуань» не проявил к нам особой обходительности, даже не пригласил сесть, хотя в комнате стоял диван, на котором мы все бы разместились. Сами мы тоже не посмели своевольничать.
— Говорите! — сказал «Лу», садясь напротив «Линь Даоцзин».
— Мы... Мы хотели бы, чтобы ваша организация красных цзаофаней приняла нас под свое командование... Именно с этой целью мы прибыли к вам... — сказал один из главарей, предварительно перемигнувшись со вторым и получив его согласие.
— Принять под наше командование? — «Лу» вертел в руках сине-красный карандаш, обдумывая ответ, — зачем же вам принимать наше командование? Каждый хунвэйбин страны должен находиться под командованием председателя Мао!
— Правильно, правильно! Я имею в виду объединиться с вами, тогда мы сможем лучше выдержать направление в волнах революции, не потерять его, точно следовать путем, предписанным великим стратегическим замыслом многоуважаемого председателя Мао!
— Великая культурная революция — это политическая борьба. Политическая борьба очень сложна, — настойчиво вдалбливал нам «Лу». Потом добавил, — объединиться можно. Даже необходимо. Но откуда мы знаем, что вы настоящие, а не псевдохунвэйбины ? В хунвэйбиновских организациях имели место случаи, когда рыбьи глаза выдавали за жемчуг, т.е. пытались выдать фальшь вместо подлинного! А если вы монархисты? Как, например, «Союз 8.8», разве они не самые настоящие монархисты, именующие себя цзаофанями?
Второй главарь несколько заволновался, заспорил:
— В нашей школе есть только одна организация хунвэйбинов и нет никаких других!
— Что касается поставленного перед нами вопроса, то мы должны особенно серьезно проверить достоверность сообщенных вами сведений о своей организации, и только тогда сможем ответить вам! — резко сказал «Лу», — действительные цзаофани познаются в борьбе и получают признание других! Наша организация красных цзаофаней создала себе столь мощный авторитет в борьбе с «Союзом 8.8»!
— Если бы мы были монархистами, то почему не пошли на объединение с «Союзом 8.8», а пришли в вашу организацию красных цзаофаней?
— И все же мы не можем легко поверить вам! — сказал «Лу», вставая, — Если мы объединимся с организацией хунвэйбинов монархистского толка, тогда мы опозорим красных цзаофаней военно-промышленного института! На этом закончим наш разговор! Если вы действительно имеете намерение объединиться с нами, то возвращайтесь к себе, напишите нам письмо, исходя из наших целей, мы изучим его и тогда поговорим, — закончил он, давая жестом понять, что пора уходить.
Вел он себя с нами очень высокомерно. Очевидно, принял нас за хунсяобинов и хотел как можно быстрее избавиться. Это было оскорбительно. К своей «Линь Даоцзин» он, наверно, относился совсем не так, как к нам.
— Разрешите нам встретиться с вашим начальником отдела! Мы хотим поговорить с ним! — сорвалось у меня с языка.
— Правильно, разрешите нам встретиться с начальником отдела!
— Мы хотим побеседовать с ним!
— Мы не будем с тобой разговаривать! — так мои компаньоны поддержали меня.
«Лу» сдержанно выслушав наши выкрики, неторопливо, сохраняя самообладание, великодушно сказал:
— Именно я являюсь начальником отдела внешних связей красных цзаофаней. Мы растерялись и испугались.
В это время «Линь Даоцзин» важно поднялась со своего места и вальяжно, зная цену своим словам, посоветовала нам:
— Он действительно начальник нашего отдела по внешним связям, я не обманываю вас! То, что он сказал вам, вполне резонно. Нашей организации хунвэйбинов не безразлично с кем объединяться, а с кем нет, кого поддерживать, против кого выступать, кого громить. Вопрос, с кем вступать в связи — это наш самый высоко принципиальный вопрос, главнейшая позиция. Вы, как он сказал , возвращайтесь к себе, возьмите свой манифест и документ об основной цели деятельности ваших цзаофаней и принесите к нам для ознакомления, чтобы мы могли разобраться с организацией хунвэйбинов вашей школы.
Хотя в словах «Линь Даоцзин» мы почувствовали более мягкие тона, однако смысл был одинаков: во что бы то ни стало быстрее избавиться от нас.
Про себя я ругался: «Это ж надо, так неприкрыто принижать наших красных цзаофаней».
Наши главари почти одновременно скомандовали нам:
— Пошли!
И мы с негодованием покинули их.
В коридоре один наш парень, осмотревшись по сторонам и не обнаружив никого, кроме нас, быстро выхватил из верхнего кармана шариковую ручку, и на лозунге перед словами «красные цзаофани» по вертикали и по горизонтали написал иероглифы «низвергнем». А иероглифы «красные цзаофани» перечеркнул крест-накрест.
Никто из нас не воспрепятствовал ему. Все лишь наблюдали за его действиями.
Только он оторвал руку от письма, как оба наших главаря в один голос скомандовали:
— Быстрее уходим!
Мы ни минуты не могли больше оставаться в коридоре и бегом выскользнули из здания.
До входа в него оно вызывало у нас уважение, после того, как мы покинули его, оно стало враждебно нам.
— Мы не вовремя постучали в дверь.
— Почему не вовремя?
— Вы что — не видели, какое красное лицо было у той женщины ?
— Какое это имеет отношение к нам?
— К нам, конечно, не имеет отношения. Но когда мы постучали в дверь, люди, наверно, как раз что-то делали.
— А что они могли делать?
— Вы сами подумайте!
— Один мужчина и одна женщина запирают дверь, спрашивается, что можно делать в таких условиях?
— Неудивительно, что у того господина начальника отдела было испорчено настроение, и он не принял нас, как следует. Оказывается, мы помешали им.
— Черт с ними!
— Красные цзаофани — люди крепкие, поэтому должны, продолжая традиции прошлого, открывать пути для будущего.
— Ха-ха-ха!.. — все дружно засмеялись.
Неожиданно с крыши дальнего здания по громкоговорителю раздался сигнал сбора. После него голос диктора-женщины объявил: «Боевые друзья «Союза 8.8»! Немедленно собраться на стадионе, немедленно собраться на стадионе, будут проводиться ежедневные военные занятия, будут проводиться военные занятия»...
Вскоре более десятка команд, каждая в строю, выбежали с разных сторон, собрались вместе, набралось около тысячи человек. По командам, подаваемым через рупор, они начали занятия. Величаво исполняются одно за другим разные построения. Особенно заметна красота исполнения при прохождении строем: гордая осанка, бравая походка, могучая поступь, ни единой ошибки или нарушения строя.
Мы, несколько человек, стоя у края стадиона и наблюдая за тренировкой, пожирали глазами это представление и завидовали им.
Потом они бегали. На бегу выкрикивали лозунги: закалим тело, укрепим боевой дух, мгновенная готовность, отберем власть!
— Судя по всему, «Союз 8.8» очень мощный! Зачем нам объединяться с красными цзаофанями? — тот парень, которому уже прочитали нравоучения за похвалу в их адрес, своими глазами увидел боевые порядки «Союза 8.8», и вдохновившись их моральным настроем, еще раз высказал мнение о приверженности к монархистам, вызвавшее досаду у главаря.
— Ты опять несешь черт знает что, я вот поддам тебе!
— Ты, пацан, совсем беспринципный, мы ни в коем случае не можем объединяться с монархистами!
— На основании чего ты утверждаешь, что «Союз 8.8» монархический? Неужели поверили пропаганде красных цзаофаней?
— Вот именно. Красные цзаофани — это еще не Центральный комитет по делам культурной революции! Они сталкивают «Союз 8.8» на монархические позиции, а может они хотят одни захватить большую власть?
— По моему мнению, им вряд ли удастся удовлетворить свои амбиции, открыто сказать об этом. У «Союза 8.8» тоже людей не мало!
— У «Союза 8.8» в Пекине тоже есть свое агентство по связям и специальный представитель!
Слова того парня вызвали большой спор между нами.
Однако оба главаря в споре не участвовали. Они только слушали. Через некоторое время они, перемигнувшись, отошли в сторону и о чем-то посовещались.
Найдя согласие, они вернулись к нам.
Один из них сказал:
— Красные цзаофани не только отнеслись к нам пренебрежительно, но и бесцеремонно унизили нас. Поэтому мы предлагаем объединиться с «Союзом 8.8».
Второй добавил:
— Наша организация хунвэйбинов во главу угла ставит демократию. Демократия — принцип Парижских коммунаров, а также принцип нашей организации хунвэйбинов. Хотя мы оба и являемся главарями, но в данное время, в эту минуту представляем только себя. Но мы надеемся, что вы одобрите наше предложение!
Один парень тут же высказал сомнение:
— В школе есть еще один главарь, если заранее не спросить его согласия то что будем делать, если он потом решительно выступит против?
— Из трех главарей мы двое уже согласились, меньшинство подчиняется большинству!
— Если так, то я голосую за вас!
— Красные цзаофани слишком несправедливы, я тоже — за вас!
— Я воздержусь!
— Что значит воздержусь? Если ты в душе против, то так прямо и скажи, что ты против!
— Нет, не против... Хорошо, я тоже согласен!
Холодный прием у красных цзаофаней сильно ранил высочайшее достоинство каждого нашего хунвэйбина. Благодаря тому, что мы воочию увидели внушительный боевой порядок «Союза 8.8», наше предвзятое мнение о нем изменилось, мы восприняли его по-новому. Поэтому через несколько минут мы согласовали позиции всех: вместо того, чтобы примкнуть к красным цзаофаням, мы в конечном счете решили найти «Союз 8.8» и объединиться с ним.
Не повезло в одном месте, повезет в другом. С каким-то «княжеством» все равно надо объединяться. Пусть даже пзаофани будут монархистами! Кто нас уважает, чьи силы способны обеспечить нам негласную опору, поддержать нас к тому и надо примыкать.
«Союз 8.8» отнесся к нам совсем иначе чем красные цзаофани, вдохнул энтузиазм, побудивший нас принять неожиданные знаки благоволения со смешанным чувством радости и тревоги. Получилось так, что организация хунвэйбинов одной из средних школ сознательно командировала своих людей на объединение с организацией отвергнутых твердолобых монархистов, которые с радостью их приняли. Но тогда мы об этом не раздумывали. Если бы подумали, то, наверняка, меньше кланялись бы им и гнули спины, больше ценили себя.
Человек из отдела внешних связей «Союза 8.8» не только без всяких проволочек «милостиво разрешил» нашу надежду на объединение, но и по своей инициативе повел нас к своему руководителю на аудиенцию. Там он высказал мнение, что такое объединение будет иметь для них крайне большое значение.
Получить аудиенцию у руководителя столь известной в стране крупной организации хунвэйбинов было для нас величайшей честью, несмотря на то, что она считалась монархической.
По правде говоря, мы никак не могли понять, почему их называют монархистами, какого монарха они защищают, ведь «Союз 8.8» тоже по всему городу расклеил большущие лозунги, призывающие разгромить Лю Шаоци, Дэн Сяопина, партийные комитеты и правительства провинций и городов, а также всех, идущих по капиталистическому пути. Руководитель монархистов был доброжелательным и гостеприимным, с каждым из нас поздоровался за руку, предложил сесть, выпить чая, расспросил нас обо всем, что его интересовало.
Мы держались с подобострастным уважением, стараясь закрепить в памяти его наставления и указания, один за другим беспричинно глупо смеялись, ощущая свет перспективы.
Работник штаба «Союза 8.8» проводил нас с верхнего этажа вниз к выходной двери, вышел на крыльцо и на прощание пожал каждому руку.
С радостным чувством в душе, с подскоком, мы сбежали с крыльца, бесконечно восхваляя «Союз 8.8» и осуждая красных цзаофаней.
А проходя мимо штаба красных цзаофаней, один парень, повернувшись к часовому, пытавшемуся не пропустить нас в здание, крикнул:
— Эй, ты, олух у двери, сообщаем тебе, что мы объединились с «Союзом 8.8»! Когда в следующий раз войдем в ваше здание, то захватим ваш штаб и возьмем в плен его работников!
— Сопливый монархист! Перебью вас всех!
Он с лязгом передернул затвор и направил дуло пистолета в нашу сторону, изготовившись привести в действие свою угрозу. Мы с перепугу, призывая на помощь отцов и матерей, врассыпную бросились бежать.
Позади послышался взрыв смеха.
Тут мы остановились. Каждый смущен и сконфужен, каждый чувствовал себя скверно.
Один из главарей сказал:
— Мы не называем это трусостью, этим добрые молодцы не осрамили себя перед другими!
Второй главарь подтвердил:
— Правильно! Разве учитель истории не рассказывал нам о том, как Хань Синь[27] пролез между ног другого человека?
Мы всего лишь побежали от испуга, но не стали на колени и не молили о пощаде!
— Можно считать, что с испугу бежали, сломя голову! вмешался я, едва дыша от быстрого бега, сердце стучало беспорядочно.
В то время я, 17-летний юноша, испытывал слишком большой страх перед смертью. Я не боялся величественной смерти. Я поклонялся храбрости, смело смотрел смерти в лицо. Но я чрезвычайно боялся просто смерти. Поэтому, когда наша группа покинула военно-промышленный институт и вышла на улицу, а мои соратники, побуждаемые осознанием, что теперь они уже члены «Союза 8.8», смело срывали наклеенные красными цзаофанями лозунги или написанные мелом перед входом в Союз красных цзаофаней иероглифы типа «разгромим», «разобьем вдребезги», когда они перечеркивали надпись «Союз красных цзаофаней», я стоял в стороне на почтительном расстоянии, чтобы друзья считали что я веду наблюдение и охраняю их, а на самом деле смотреть по сторонам — это у меня инстинкт самосохранения. В стволе пистолета, зажатого в руке красного цзаофаня, пряталась смерть, а ведь его дуло было направлено прямо на меня.
Последующие события великой культурной революции подтвердили, что мой страх не являлся следствием хрупкой нервной системы — смерть людей приходилось видеть нередко. А вот вынужденное участие в культурной революции вызвало стойкое отвращение к моему участию в ней. Вскоре «Союз 8.8» дал нам задание — вместо них охранять склад описанного и депонированного имущества, расположенный недалеко от нашей школы.
Главари поручили мне возглавить группу из двадцати хунвейбинов для выполнения этой задачи. Ван Вэньци тоже вошел в число двадцати.
По существу, это был гараж какого-то завода. Главарь, передавая мне ключи иронически заметил:
— Расширишь свой кругозор, там есть все, кроме красивых женщин!
Когда я привел 20 своих подчиненных, открыл дверь гаража и включил свет я был поражен всем увиденным. Мои подчиненные — тоже. Его освещали две лампы, не обычные, а небольшие ультрафиолетовые, при свете которых в ночное время удобнее держать под наблюдением охраняемые вещи.
Окна склада были закрыты, однако он освещался так, что можно было ясно разглядеть каждый его уголок.
Там действительно было все!
Дорогая мебель, одежда, предметы искусства, на большом квадратном столе из красного горного кедра были свалены в кучу золотые и серебряные украшения. Один угол был занят всевозможными часами, какие я видел только в кино. Некоторые еще шли, издавая звуки разного тембра. А другой угол был завален всякими книгами.
Один подчиненный потихоньку потянул на себя выдвижной ящик стола. Хриплый голос воскликнул: «О, небо!..» Он сразу задвинул ящик, смертельно испуганный, ошалело смотрел на нас, как будто в столе увидел человеческую голову.
Я подошел и снова открыл ящик, мы опять услышали «О, небо».
Деньги! Десять юаней, пять юаней, один юань, пачка на пачке — полный ящик стола.
Все мои подчиненные окружили стол, стали разглядывать. Глаза у всех расширены, рты приоткрылись. Нам даже во сне не могли присниться такие деньги.
Я видел деньги только во сне. Видел разбросанные медные монеты. Только нагнись — и вот они твои. Но никогда не видел пачки денег в десять юаней. Пачки даже в один юань мне никогда не снились.
Я осторожно закрыл ящик стола, почувствовав, что в этот момент вся кровь во мне застыла. Я в своей жизни много раз испытывал на себе огромные огорчения и досаду из-за того, что не мог посмотреть очень желанный фильм или купить очень понравившуюся мне книгу только потому, что не было или не хватало нескольких мао. Я также прекрасно понимал, в каком неловком положении оказывалась мать, вынужденная занимать деньги у соседей. Создающие все блага для человека деньги обладают силой, способной разрушить самые высокие и благие идеи и чаянья отдельного человека. И я впервые прочувствовал это. Когда денег много, очень много, они становятся материальной силой.
Тот тяжелый ящик с деньгами навел меня тогда на такие мысли: человек, имеющий большие деньги, несомненно обладает некоей силой, однако преданность идее — это более сильное человеческое чувство. За 17 лет своей жизни меня впервые заворожило материальное богатство.
И все же большие деньги — это покоряющая сила. Даже муравьи в огромной массе способны поставить человечество на колени.
Я снова осторожно потянул на себя второй ящик — тоже деньги. Пачки и пачки, полный ящик пачек.
В третьем ящике — тоже деньги.
В четвертом ящике — опять деньги.
На складе воцарилась тишина. Все мои подчиненные как бы остановили дыхание и замерли.
Проходит много времени и тут только кто-то тихо, голосом, который может издать только пересохшее горло, спросил:
— Сколько же еще их будет?
— Сто тысяч! По крайней мере, не меньше, — ответил такой же сухой гортанный голос.
Мое горло тоже неожиданно для меня совершенно пересохло. Я с усилием смог сплюнуть.
— Слитки! — каким-то испуганным голосом воскликнул один из подчиненных, открывший ящик следующего стола.
Я и остальные члены моей команды сразу же окружили стол.
Весь ящик был заполнен чисто желтыми слитками в форме 6ашмачка. Большими и маленькими. Но не сверкающими. Были и обычные слитки. Длинные, короткие, но тоже неблестящие.
Все эти слитки вызвали у нас всего лишь любопытство. Мы не увидели в них мощной, непосредственной, всепокоряющей силы. Так как в то время человек, обладающий такими слитками, мог лишь нажить себе неприятности. Он, конечно, не боялся бы грабителей. Он боялся бы цзаофаней. А если бы кто-то вздумал обменять слитки на что-нибудь съестное, одежду или предметы первой необходимости, он нажил бы себе неожиданную беду. Поэтому, нашей точки зрения, то был редкий, но не имеющий большой практической ценности металл. Он даже был предвестником несчастья.
— Один, два, три, четыре, пять... — добросовестно вел счет один из подчиненных.
— Быстрей сюда, посмотрите!
Мы мигом облепили следующий стол. Все его ящики были забиты часами. Ручными. Карманными. Золотыми. Серебряными. Часами с календарем. Инкрустированными алмазами. Квадратными и круглыми. Толстыми и тонкими. Самых разных марок и видов.
Одна рука потянулась в ящик, взяла часы.
— Положи! — крикнул я.
— Поиграюсь, полюбуюсь! — не выпускал он их из рук.
— Правильно, надень и поиграйся!
— Я тоже возьму!
— Выбери мне с алмазом!
— Мне не надо с алмазом, я хочу с календарем!
— На кой черт они мне! Это женские! Замени, друг!
В мгновение ока каждый мой подчиненный оказался с дорогими часами на запястье. У одних только ручные. Другие, кроме ручных, успели еще и в карманы положить. Все смотрели друг на друга, все выглядели важными персонами.
— Старшой, ты тоже подбери себе, насладись!
В шестидесятые годы ручные часы были редкостью на витринах магазинов. У нас на семью из семи человек только у одного человека — отца в далекой Сычуани — были наручные часы, купленные в комиссионном магазине. Родители моих подчиненных, пожалуй, тоже могли носить только шанхайские часы. Если чьи-то родители имели импортные часы, то очень хвастались этим. Те, у кого были позолоченные или посеребренные часы, либо инкрустированные алмазами и драгоценными камнями, без конца притрагивались к ним и ощупывали.
Если говорить о каждом из нас, то поносить на руке часы действительно доставляло огромное удовольствие любому юноше.
Тогда я выбрал себе сравнительно большие, квадратные, с позолоченным корпусом и браслетом часы, по внешнему виду — старинные. Как человек, впервые надевший новый костюм, так и я неуклюже закрепил их на руке.
Прохладный браслет приятно ласкал кожу.
— Разрешаю только насладиться, не смейте тайно брать с собой! Все здешние вещи безусловно взяты на учет, если чего-то будет не доставать, мы будем обвинены все, хотя подлый поступок совершит один! — серьезно предупредил я.
— Старшой, не напоминай о честности, об этом не надо было говорить, мы и так знаем! — отреагировал один из подчиненных на мое замечание, подходя к вороху одежды. Там он выбрал европейский костюм кофейного цвета и стал примерять.
Человек, которого называли старшой, несмотря на то, что был старшим над двадцатью человеками, тоже испытывал особую радость.
— Братцы, посмотрите, как я выгляжу! — провернувшись к нам, спросил тот парень, который примерял костюм.
— Прекрасно!
— Замечательно! — раздались дружеские восклицания всей компании.
Не знаю, когда он успел сбросить с себя свою одежду и заменить ее на хорошо сидящий западный костюм, да еще по последней моде повязал галстук. На голове красовалась ровно надетая фетровая шляпа, края ее надвинуты до самых бровей. На руке, согнутой перед грудью, висела деревянная трость, покрытая лаком. Образец делового человека.
Перед нами стоял молодой джентльмен в величественной позе.
Я и вся толпа бросились к куче одежды, начали снимать с себя пиджаки, брюки, обувь, подбирать и надевать на себя по своему вкусу. Через несколько минут мы уже не были хунвэйбинами — учащимися средней школы. Все стали молодыми джентльменами. Каждый расхаживал взад и вперед, изображая грациозные манеры, пытаясь держаться свободно, с изяществом и красиво. Друг друга разыгрывали, насмешничали и без конца хохотали.
Неожиданно мне по ассоциации вспомнился рассказ «Али-Баба и сорок разбойников», представил себе, что мы не какие-то там хунвэйбины, а морские разбойники, а этот склад — тайная пещера Али-Бабы, и чтобы попасть в нее, достаточно сказать «Сезам, открой дверь!»
Здесь действительно было все.
Кроме красивых женщин.
Да еще вкусных вещей.
Безмолвно из-за шкафа вынырнул Ван Вэньци.
Он приоделся в длинный зеленый халат, из-под которого были видны только тощие ноги, покрытые густым волосом. На голове был надет неизвестно где откопавшийся парик. На тонкой длинной шее висели три или четыре цепочки.
Никто не мог подумать, что он так вырядится.
Он живо изображал уличную проститутку, которая каждому подает легкомысленные знаки, означающие готовность продаться, и привлекающие завсегдатаев публичных домов.
— Ну совсем как проститутка! — выкрикнул кто-то в изумлении.
— Чтоб ты сдох, ты из-за своих длинных ног похож на страуса! Подыщите ему шелковые чулки!
— Покопайтесь в еще не тронутых ящиках столов, посмотрите нет ли какой-нибудь помады и пудры.
— Эй , братцы, есть!
— Шелковые чулки тоже есть!
После этого все окружили его. Одни потешались над его ногами, другие — над всем его обликом, не обращая внимания на то, что на него было неприятно смотреть. Ему примеряли туфли на высоком каблуке, меняя одни за другими пытаясь подобрать по размеру.
Когда люди разошлись, мне было невыносимо смотреть на него. Его лицо было похоже на густо смазанный сметаной пряник. Губы были так раскрашены, что, казалось, он только что кусал что-то кровяное, с них капало нечто, напоминаюшее свежую кровь, пугая людей. Он странно ухмылялся, глазами давая знать, что готов удовлетворить вожделенные желания других.
— Моя! — подскочил к нему один парень, плотно прижавшись к его плечу.
— Ты не подходишь, стар! — подбежал к нему второй, пытаясь оттащить первого и завладеть им.
— Это моя любовница, я вызываю тебя на дуэль!
— Дуэль? Пусть будет дуэль!
И оба начали кулачный бой. Сражались ожесточенно, только раздавались хлесткие шлепки.
— Кто завладеет силой, тому и будет принадлежать! — подзадоривали остальные борьбу за Ван Вэньци.
— Барынька, поцелуй!
— Личико припудрено тщательно!
Ван Вэньци затолкали на кучу одежды и повалили. Всем хотелось непосредственно прикасаться к его телу.
Шум, гвалт, двое претендентов, боровшихся за Ван Вэньци, разбили стекло в шкафу. Один выбил меч у другого, притиснул его в углу и, приставив «меч» к груди, воскликнул:
— Ты мертв, признаешь, что она принадлежит мне?
— Да, мертв!...
— То-то же!
— Ай-я!...
Из-за шума и возни в свалке я не расслышал, что изрек Ван Вэньци: выругался или что-то сказал.
— Прекратите шум!
Завязался новый поединок, в свалке неразбериха, кто-то заплакал. Я вскипел, с помощью кулаков высвободил из свалки тех, кто был зажат внизу.
— Ты, желторотый птенец, совсем сдурел? — выкрикнул один из освобожденных, потирая голову, — Братцы, успокойтесь! Пошумели и хватит!... И так, потешились вволю... Наслаждение получили полное...
— Чем ты наслаждался, а? Чем наслаждался? Он — человек! Наш боевой друг хунвэйбин! Это не часы! Неужели, если бы он был женщиной, то вы действительно по очереди изнасиловали бы ее? — хотел я урезонить того птенца, все еще размахивая руками.
— Попробуй еще раз ударь, я не стану церемониться! Чего передо мною руками размахиваешь? Кто ты такой? Я разрешаю, бей, сделай одолжение! — не сдавался тот птенец.
Я знал, что не подниму на него руку, не ударю. Мой кулак действительно медленно опустился вниз.
— Стоит ли ссориться? Ведь он же мужчина! Если бы он был женщиной, разве мы могли бы так поступать? — сказал один из подчиненных, взяв трость из моей руки.
Ван Вэньци, раскинувшись, лежал на куче одежды, не вставая. Лицо было покрыто красными и белыми пятнами. Пола халата чуть откинута. У него был такой вид, как будто его изнасиловала целая сотня мужчин, даже видеть тяжело.
Я в бешенстве пнул его ногой:
— Ты встанешь или нет? Тебе непременно хочется быть женщиной в образе проститутки!
Только я успокоился, как он неожиданно подскочил, как овчарка набросился на меня, свалил на пол, сел на грудь и обеими руками сдавил горло.
Его лицо перекосилось, взгляд выражал безжалостность и злость.
Все собравшиеся думали, что он продолжает забавляться, надеялись еще повеселиться, и никто не пытался оттащить его.
Он так сжал мне горло, что я не мог дышать.
Он действительно хотел задушить меня.
Когда зрители увидели, что дело неладное, они в смятении и панике оттеснили его в сторону.
Я долго лежал на полу и, только глотнув воздух, поверил, что я по-прежнему жив, не задавлен.
Все поняли, что продолжать шабаш не имеет смысла, каждый стал реально мыслить. Один за другим молча сняли часы и возвратили их в ящики стола. Сбросили с себя одежду и свалили в кучу.
Ван Вэньци, тем не менее, не снимая своего наряда, ушел в другой угол и стал копаться в груде книг.
Я поднялся с пола и истошно закричал:
— Ну погоди, Ван Вэньци, я тебе этого не прощу! Он бросил только что взятую в руки книгу и повернулся, готовый снова наброситься на меня, но вся масса хунвэйбинов навалилась на него и не пустила, оттолкнула его на ворох книг.
Мне было совершенно не понятно, почему он так возненавидел меня. Но и я с того дня стал ненавидеть его, искать удобного случая, чтобы отплатить ему — ведь он хотел задушить меня!
С одной из сторон этого большого склада была еще и маленькая комнатка, наверно, место для гаражной дежурной смены. Но совершенно пустая, в ней не было абсолютно ничего. Мы взяли несколько ковров и перенесли в эту комнатку, застлав полы в несколько слоев. Каждый нашел себе книжку, которую собирался почитать, и, развалившись на выбранном месте, занялся ею, не обращая внимания на других.
Книг было немало. Тысячи 3–4 томов. Однако среди них невозможно было выбрать чисто «революционные», это были уже раскритикованные «черные книги», на которых стоял специальный штамп «ренегатская». Книга «Песни ранней весны» воспевала мелкую буржуазию. «Красное солнце — реакционна! «Музыка красных знамен» — реакционна! «Учредительная летопись» — реакционна! Все переводные произведения не относились к реакционным, но были помечены, как ревизионистские.
Я и мои подчиненные ясно понимали, что в том ворохе книг не найти «безвредных» , но тем не менее перекидывали их с места на место. Какую же книгу хотел найти каждый из них? Никто не сказал. Руки каждого искали прежде всего такую книгу, листы которой уже пожелтели. В этом наши точки зрения полностью совпадали. Время от времени руки двух разных человек одновременно тянулись к одной и той же пожелтевшей книге, обоим становилось немного неловко.
Я обнаружил толстую книгу в жестком переплете с очень пожелтевшими листами бумаги и до того, пока другие руки не потянулись к ней, быстренько схватил ее — оказался сборник учебных пособий к «Краткому курсу истории ВКП(б)». По оглавлению — в основном статьи Ленина и Сталина. Подготовлен научно-исследовательским кабинетом марксизма-ленинизма ЦК КПК в начале пятидесятых годов, издан издательством Просвещение. Вероятно, из-за того, что коммунистические партии Советского союза и Китая только что стали врагами, а статьи Ленина и Сталина невозможно было выделить из сборника, то они целиком попали в кучу «черной литературы».
Я не проявил к нему ни малейшего интереса. Меня не привлекла не только та ее часть, которая считалась лжемарксистской, но в равной степени и та, что называлась истинным марксизмом. Хотя страницы истинного и лжемарксизма пожелтели одинаково.
Наконец, я выбрал хорошо сохранившуюся книгу «Декамерон», она доставляла удовольствие. Эту книгу я уже читал, еще до культурной революции старший брат приносил ее домой, взяв у кого-то на время. Тогда я не дочитал ее, а брат возвратил хозяину.
Хотя в «пещере Али-Бабы» не было вкусной пиши, но я с этой книгой в руках не чувствовал голода и, отвернувшись в угол комнаты спиной к остальным, потихоньку коротал время, заодно выполняя служебные обязанности.
Не знаю, сколько прошло времени, как я вдруг почувствовал, что меня окружает удивительная тишина. Повернув голову, я увидел, что мои подчиненные так же как и я, до предела увлечены чтением. Только они читали не каждый в отдельности, а сбились группками по нескольку человек, точнее образовали четыре группы и читали четыре книги.
— Что читаете? — спросил я одного из парней.
— Обычную книжонку в твердом переплете, — ответил он.
— Интересная?
— Не очень... А ты что читаешь?
— Я?... Тоже очень обычную книгу.
— Ты так долго читал, не подавая признаков жизни, должно быть очень интересно?
— Не очень... Рассказы об освободительной войне... Вы не проголодались?
— Нет, никто не говорил, что хочет есть. А ты?
— Я тоже не хочу.
— Ну хорошо, продолжай читать!
— Когда проголодаетесь, дайте знать!
Не дослушав меня, он повернул голову к своим.
Я готов открыто полемизировать с самыми авторитетными социальными психологами и на многочисленных примерах доказать, что в то время, в те годы мы духовно и нравственно были угнетены. Политики крепко запомнили только бунтарскую деятельность хунвэйбинов, но не осмелились или не пожелали признать, какую серьезную разрушительную работу провело общество по отношению к нам за годы нашего детства и юношества. Оно почти вытравило из нас индивидуальность, смотрело на нас, как на нечто усредненное. Мы соревновались по таким направлениям, как «учащийся трех хорошо», «передовик в изучении произведений Мао», «лучший комсомолец», кроме того, мы, Юноши и девушки 18–25 лет, могли доказывать свои преимущества в силе, как будто, кроме показа силы перед другими, больше ни в чем не могли проявить себя как выдающиеся личности. А потому юношество инстинктивно приняло великую культурную революцию, как дар божий, ниспосланный небом. Вся их индивидуальность, талант, вся духовность, все стремления к самовыражению, дарованные обществу руками высокого чиновника, прорвав шлюзы, вырвались наружу.
В складе я предупредил всех самым строгим образом:
— Эти ветхие книги все до единой оставьте здесь, не уносите с собой! Это обязательно.
— Не волнуйся, — сказал один из парней.
— Мы непременно возвратим их в книжную свалку, — добавил второй. Я отпустил их домой пообедать, а сам отправился к вороху книг в надежде найти четыре маленькие Книжонки, которые были «не очень интересными». Перевернул всю кучу, но так и не отыскал их.
Я понимал, что они спрятаны в таком месте, где бы я никогда не нашел. Это еще больше разжигало мой интерес к ним. Я нисколько не поверил, что та книга из четырех отдельных частей не очень интересна. И именно то, что ее надежно упрятали, подталкивало меня к тому, чтобы ее непременно отыскать и прочитать.
В куче книг я их не нашел и продолжал обследовать другие места. И чем дольше их не находил, тем больше разжигался интерес непременно раскопать и прочитать эти четыре части. Я горячился, спешил, вспотел с головы до ног.
И, наконец, книги найдены — они были зажаты под несколькими слоями ковров.
Книжонки маленькие, немного больше словаря «Синьхуа». Листы не только пожелтели, они уже рассыпались на части, книжки разваливались. Обложки подклеены бумагой, невозможно прочитать даже названия. Я подошел к окну и, поворачивая обложки к свету под разным углом, тщательно разглядывал их. На передней стороне обложки смутно проступал один иероглиф, на другой — угадывалось всего пол-иероглифа. Я изучал их больше десяти минут, не совсем уверенно заключил, что книга, возможно, называется «Молитвенный коврик».
Тогда я удобно растянулся на коврах, один из них свернул рулоном вместо подушки. Начал подробно изучать добытое сокровище. Истрепанная книга состояла из четырех отдельных частей по названиям времен года. Первую часть, конечно же, составляла «Весна», и с нее начал чтение. Вступление на нескольких страницах было написано наполовину на байхуа,[28] наполовину — на вэньяне.[29] Оно не представляло большого интереса, и я пролистал его, не читая. Решил быстро отыскать то повествование, которое заключало основную суть книги. При этом пользовался словарем «байхуа». Все главы, кроме вступления, читались с большим интересом.
Это был сокращенный вариант романа «Цзинь, Пин, Мэй»,[30] с соответствующей раскраской и брошюровкой. Если судить более строго, то он представлял собой образец порнографической литературы. Свою книгу я отложил.
Меня целиком захватила та часть книги, где шло подробное описание секса, вульгарное, близкое к грязному изложение чувств и самого секса. С одной стороны, мне было стыдно, а с другой — я совершенно не мог оторваться, не признать его покоряющую силу.
Меня тревожило лишь то, что неожиданно могут нагрянуть подчиненные и я окажусь в затруднительном положении, поэтому закрыл обе двери на засовы, окно занавесил одеждой, и тогда лег и стал читать.
Я подумал, что к тому времени, когда вернутся подчиненные, я не успею прочитать даже одну часть, т.е. «Весну», «Лето», «Осень» и «Зиму» едва ли хотя бы пролистаю, разве не досадно? Поэтому отложил «Весну» и стал перелистывать три остальные части. Отложил «Лето», взял «Осень», Отложил «Осень», взял «Зиму», отложил «Зиму» и снова взял «Лето».
Вдруг постучали в окно и в дверь. Срывающийся голос за стеной кричал:
— Открой дверь! Открой дверь! Зачем занавесил окно? Это пришли подчиненные.
Я поднялся и одну за другой все четыре части книги засунул под ковры.
Стук в двери и окно, крики наружи усилились.
Черт бы вас побрал, подумал я, когда вы уходили домой, то все от меня спрятали, чтобы не прочитал. Я тоже спрячу, чтобы и вы поискали, если вздумаете продолжать свое занятие. А поэтому извлек их из-под ковров, разделил все четыре части и спрятал в четырех разных местах, где их трудно найти.
Когда я открыл дверь, они ворвавшись в склад, сразу набросились на меня с вопросами:
— Зачем ты запер дверь?
— Когда вы ушли мне захотелось поспать, боялся, что может что-нибудь пропасть! — ответил я.
— А зачем окно занавесил?
— От солнца! Так спокойнее спать!
— А почему ты так долго не открывал нам дверь?
— Я крепко спал, вначале не слышал шума. Они недоверчиво смотрели на меня в надежде найти уязвимое место в моих объяснениях и поведении.
Я лениво потянулся, сладко зевнул и как бы самому себе сказал:
— И чего это так тянет на сон, надо еще поспать!
Один из подчиненных подошел к столу, в котором были деньги, и вытянул ящик. Некоторое время осматривал его, потом выдвинул другой ящик. Так один за другим он открыл все ящики, внимательно осматривая их. Не найдя ничего сомнительного, он промолчал.
Видимо, именно в этом они подозревали меня.
Мне стало и весело, и смешно. О, Владыка неба и Владычица земли, мне даже в голову не пришло заниматься теми слитками в форме башмачка, золотыми слитками, дорогими именными цепочками, украшениями и пачками денег. Возможно здесь подсознательно срабатывала уверенность в том, что здешние вещи все до единой взяты на учет. А вот, что касается «Весны», «Осени», «Лета» и «Зимы», то они не выходили у меня из головы, я не находил себе места.
— Ты зачем проверял деньги? — недовольно спросил я.
— Не за чем, просто так, захотелось взглянуть! — ответил он.
Я больше ничего не стал говорить, они переглянулись и тоже умолкли. Зашли в маленькую подсобку и опустились на пол. Когда удобно уселись, один из них предложил:
— Нас четверо, возьмем по одной части «Весну», «Лето», «Осень» «Зиму» и вдумчиво почитаем!
— Правильно, воспользуемся тем, что остальные пока не вернулись, и изучим их.
Обсудив это вместе, они приподняли ковры.
Я, делая вид, что тоже собираюсь читать, взял в руки свой «Декамерон».
Они, естественно, ничего не нашли.
— Странное дело, разве мы не под ковры их положили, когда уходили?
— Да!
— Точно, я видел, как вы заложили их под ковер!
Я украдкой посматривал на них, видел, как каждый в упор посмотрел на меня.
Я спросил их:
— Какие «Весна» и «Лето»? Разве, когда вы уходили, не сказали мне, что бросили книги в общую кучу? Выходит вы и под ковры еще что-то засунули?
— Не прикидывайся незнающим!
— Друг, не дури нам головы!
— Давай обменяемся! Если ты хочешь прочитать их, подожди пока мы закончим и отдадим тебе, тогда читай себе на здоровье! — Они вплотную обступили меня.
— Обменяться? Чем обменяться? Я не поднимал ни одного угла ваших ковров!
Один из четырех схватил меня за ворот, приподнял и, сделав сердитый вид, сказал:
— Не зли меня! Ту книгу я откопал в куче! Если сейчас возвратишь, ничего не будет, в противном случае, скоро вернутся все, и тебе будет плохо!
Я видел, что постепенно они распаляются, понимал, что запираться дальше не следует, но не хотел так просто сказать им, где они спрятаны, и решил, что лучше всею пригрозить им:
— Убери руки, я не позволю вам читать эти пошлые желтые книжонки! Вцепившийся в мой ворот парень с угрозой в голосе спросил:
— Ты читал?
— Нет!
— Если не читал, то откуда знаешь, что это желтые пошлые книги? Ты парень задумал втайне завладеть этими книгами. Что, не так?
— Я... — на миг горло заклинило, я не мог ничего ответить.
Он не ошибся, я хотел завладеть ими для себя, чтобы потом на досуге почитать всласть.
— Сейчас мы его посадим на пол!
И тогда они вчетвером скрутили мне руки и ноги и с силой бросили меня на пол.
Удар задним местом о пол и нестерпимая боль заставили меня просить пощады. Я указал им место, где запрятаны «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». Таким образом, четыре части ветхих книжонок перешли в их руки. Когда прибыли остальные, они снова разделились на четыре группы и, как и до обеда, сосредоточенно углубились в чтение.
В последующие несколько дней те четыре ветхие книжонки были «духовной пищей» моих подчиненных в «пещере Али-Бабы». Пользуясь этой «духовной пищей», они ничуть не грустили, не тосковали, даже забыли о том, что за стенами этого склада идет небывалая великая культурная революция, перевернувшая небо и опрокинувшая землю. Знания спокойно валялись в углу комнаты, сваленные в одну кучу, на них они не обращали внимания. Сам я, будучи ответственным за все, для чтения мог урвать совсем немного. А «проштудировать» те книжонки тоже очень хотелось, да очередь не доходила. Мы все читали, однако все упорно избегали обсуждения содержания этих четырех частей ветхой книги. Никто друг другу даже слова не сказал. Тем более не затрагивали такие темы, как любовь и женщины. Воспитание, которое мы получили, подсказывало нам, что в этом возрасте обсуждать такие темы очень стыдно. Казалось, что в наших головах не мелькают даже мысли такого рода. В глубине души я чувствовал, что никто среди нас не относился к другим с большим презрением. Каждый прежде всего презирал себя, а потом уже и своего друга. Такая психология презрительного отношения к самому себе и к другим, исходящая из глубины сердца, в конечном счете создала среди нас особенное сознание равенства, которое еще следует хорошо изучить психологам. Похоже, среди нас находилось высшее существо, которое постоянно голосом третейского судьи напоминало нам: «поступайте честно, не лицемерьте. В сущности ваши души одинаково устремлены в сторону деградации. Все вы одного поля ягода!» Отношения между людьми такого сорта заставляют каждого из них не выставлять на показ чувство собственного достоинства, так как они знают, что в глазах своих друзей — они ничтожные эмбрионы, а также потому, что сам он смотрит на них, как на ничтожных эмбрионов, которые не имеют чувства собственного достоинства и злорадствуют над другими. Допустим, что кто-нибудь сказал приятные на слух возвышенные слова, то независимо от того, насколько уважаем тот человек, все равно кто-нибудь мог тут же с насмешкой сказать: «Какого черта изображаешь из себя благородного внука, здесь же никто никого не знает!». Тогда партнер может покраснеть, опустить голову, задуматься, не на самом ли деле он рядится под благородного внука». Это, пожалуй, еще хорошо. А то ведь и так случалось: ты и в своем сердце, и в сердцах других будешь обречен стать ничтожным эмбрионом, и не обязательно раскаиваться из-за того, что сам еще больше опустился в низы общества, как не обязательно ломать голову из-за того, что хотел показать себя немного возвышеннее.
Из школы к нам прислали человека, который сообщил, что организация хунвэйбинов одной из средних школ из-за недостатка средств планирует ограбить этот склад. Мы соответственно несколько дней были в сильном напряжении. Организовали боевое обучение. Но даже в течение тех нескольких дней никто по-прежнему не расставался с книгой. Кроме того, настойчиво убеждали друг друга, чтобы в случае, если действительно пойдет в ход сила, распределили «Весну», «Лето», «Осень» и «Зиму» и спрятали у себя на теле. Человек останется — значит и книга сохранится. А что касается золотых слитков и денег, то о них мы особо не беспокоились. Мы несколько дней зря находились в напряженном ожидании, но так никто и не явился грабить склад.
Вскоре «Союз 8.8» командировал к нам человека с поручением, чтобы мы заново взяли на учет все вещи, находившиеся в складе.
— Неужели вы не описали их? — удивился я.
Тот человек подтвердил мое предположение.
Он посмотрел в одно место, заглянул в другое, открыл ящик стола с деньгами, вынул пачку юаней, подбросил их на руке и с некоторым сожалением отправил обратно. Открыл еще один ящик — со слитками, в одну руку взял слиток в форме башмачка, в другую — продолговатый золотой слиток, одновременно подбросил их обеими руками, и тоже с неохотой вернул в ящик. Нам не удалось разглядеть, что собой представляла его нерешительность: была ли она наигранной или настоящей.
— Кто здесь старший? — спросил он, глядя на нас.
— Я, — ответил я.
— Никто из ваших людей не унес что-нибудь домой тайком? — снова спросил он.
— После проверки я возьму на себя ответственность за них! — сказал я.
— И деньги не поделите между собой?
— Если поделим, наша вина возрастет.
— Тогда я хочу поздравить вас с тем, что вы не допустили такой ошибки. Я верю вам! — сказал он, подходя к нам и торжественно протягивая руку каждому, — От имени «Союза 8.8» я благодарю вас.
В тот момент чувство собственного достоинства снова вернулось в наши души. Все мы вместе и каждый в отдельности почувствовали, что хоть и остались ничтожными эмбрионами, но не такими, какими считали себя до этого.
Он каждому из нас пожал руку, потом объявил:
— Через два дня приедет грузовая машина и увезет отсюда все веши.
— Куда увезет? Пополнять вашу казну? — спросил я.
— Нет, отправим на государственный склад. От имени «Союза 8.8» я каждому из вас выдам по 20 юаней в счет доплаты за обеды за 20 с лишним дней.
Вдруг к нам вернулось самолюбие, нам захотелось выразить более высокое благородство и душевную чистоту. Мы все заявили, что не можем взять деньги. Если возьмем их, то проявим низменные интересы. Мы также напомнили, что мы объединились с «Союзом 8.8», и все, что мы сделали, — это моральный долг хунвэйбинов, выполнение союзнического долга.
Он был очень тронут, сказал, что у нас такое высокое сознание, которое дает нам право называться настоящими хунвэйбинами председателя Мао. Поощрение нас деньгами или ценностями не разрушит наш моральный облик. Он подчеркнул, что этот моральный облик очень ценен, мы не только заслужили такое звание, но и дополнительное поощрение по 10 юаней каждому.
Как он сказал, так и сделал. Достав пачку денег, он на глазах у нас отсчитал какое-то количество, вынул из пачки и положил на стол.
— От имени революции. Каждому по 30 юаней, вы сами разделите. Оставшиеся в пачке деньги он положил в ящик стола, хлопнув ладонями, поднял руки вверх, чтобы мы видели, что в них ничего не осталось.
— Я ничего не спрятал себе в карман?
Мы молча смотрели на него, отрицательно качая головами.
— Я пошел!
И он удалился.
Когда он вышел, взоры всех обратились к столу, сосредоточившись на дополнительной плате за обеды.
Тридцать юаней! Сумма не малая для одного раза.
Основная месячная заработная плата моего отца в те годы составляла 68 юаней и несколько мао. Вдруг все бросились к столу, как будто кто-то подал команду.
Тут же моментально отпрянули от него, на столе осталось всего 30 юаней. Три купюры по 10 юаней. Я понимал, что они предназначены для меня. Я тоже ускоренным шагом подошел к столу, и купюру за купюрой взял в руки. Деньги новенькие. Настолько новые, что еще похрустывали в руках. Я сложил их вдвое и осторожно, почтительно спрятал в карман.
Впервые в жизни в моем кармане лежало 30 юаней денег.
Снова вернулся тот представитель «Союза 8.8».
— Я возьму с собой несколько книг, — сказал он, потом добавил, — в качестве образцов отрицательных примеров использую их для критики.
— Конечно, можно, — сказал я.
Он подошел к куче книг и стал выбирать. Мы тоже приблизились к нему и хотели помочь. Он сказал, что помогать ему не следует, так как мы не знаем, в каких книгах он нуждается.
Мы стояли в стороне и наблюдали, что он откладывал для себя.
Он отобрал «Что делать», все тома «Тихого Дона», «Записки охотника», «Собрание сочинений» Белинского, «К вопросу об искусстве» Плеханова, «Наше сердце», «Американскую трагедию»...
Молча он отложил более 30 книг.
Наконец, он приостановил свое занятие, сказал:
— Честно говоря, хотелось бы найти еще несколько книг.
— Ну и поищи, — поддержал я его.
— Велосипед больше не увезет, — усмехнулся он. Мы отыскали кусок шпагата и помогли ему связать эти книги, вынести наружу и привязать к багажнику велосипеда.
— Эти книги в Китае не будут издаваться очень долго, — сказал он, похлопав ладонью по кипе книг.
Мы молча смотрели, как он сел на велосипед и удалился.
В тот день в обед мы за счет дополнительной платы на обеды вдоволь наелись хлеба и красной колбасы.
После обеда мы начали инвентаризацию: все классифицировать и заносить в книгу учета. Не успели управиться лишь с книгами, уж очень много скопилось их там.
По неизвестной мне причине Ван Вэньци в те дни на склад не приходил. Один из нас подсказал, что ему тоже надо дать 30 юаней. Хотя в душе я сильно ненавидел его, но считал, что не дать ему «дополнение к обеду» будет несправедливо. В присутствии всех я вынул из ящика пачку десятиюаневых купюр, выдернул из нее три и поручил одному подчиненному передать Ван Вэньци. По примеру представителя «Союза 8.8» я, убрав пачку денег в ящик стола, хлопнул рука об руку и поднял их для обозрения.
— А где 4 части известной вам истрепанной книги? — спросил я.
Никто не ответил. Я предупредил:
— Те, у кого они находятся, могут лишь обмениваться ими! Если кто-то вздумает вынести отсюда, то всех нас втянет в большой скандал!
Мое предупреждение возымело действие, четверо подчиненных извлекли из-под маек четыре ветхие книжки.
— Сжечь! — выкрикнул кто-то.
Не знаю, какой психологический стресс пережили эти ребята, но они поддержали сожжение. Не дождавшись моего согласия, они бросили книги на пол и сожгли.
— Слишком желтая, ни дна ей, ни покрышки!
— Видать, тот, кто написал эти книги, большой бабник!
Каждый высказал свое крепкое слово.
На третий день приехали два больших грузовика и несколько человек из «Союза 8.8», которые оставили «пещеру Али-Бабы» пустой. Мы тоже возвратились в школу...
Сколько же денег и ценностей прошло через руки хунвейбинов в ходе движения по конфискации имущества?! Это невозможно подсчитать. Однако я осмелюсь констатировать, что количество хунвэйбинов, позарившихся на них, было ничтожно. Они конфисковывали имущество, они громили, они от имени революции подобно грабителям врывались в дома зажиточных людей. Но их целью не был грабеж. Не был захват. Они верили, что их действия носят революционный характер. Великая культурная революция провоцировала их на такие действия и стимулировала их. И, если уж говорить до конца, то кроме этого, они еще старались выразить себя. Показать свою революционность. И в своих «революционных» действиях они стремились проявить себя, как им казалось, именно с лучшей стороны. Но их действия и поступки отразились в кривом зеркале истории не иначе как в искаженном виде, подобном действиям Дон Кихота. Даже больше того, отвратительными, дикими, глубоко ненавистными.
ГЛАВА 11
Один из трех главарей нашей организации хунвэйбинов из-за того, что двое других без его согласия объединились с «Союзом 8.8», написал заявление о выходе из организации, изложив его в очень жестких формулировках.
Члены правления центра нашей организации созвали экстренное совещание, чтобы выработать ответные меры. Кто-то предложил рядом с его заявлением приклеить другое, объявив в нем его личностью, подобной Чжан Готао[31] и навсегда исключить из нашей организации хунвэйбинов. Кроме того, предъявить ему ряд серьезных обвинений за раскол нашей организации. Хотя это и не красило нас, тем не менее его выгнали, сделав вечным своим врагом. Он, обозлившись, предпочел остаться в гордом одиночестве, водрузил свое особое знамя, переманил к себе часть рядовых бойцов, создал другую хунвэйбиновскую организацию, назвав ее «Отрядом бесстрашных борцов». Провозгласил нам кровную войну до победы.
Потом случилось событие, которое крайне потрясло весь город. Несколько бродячих хулиганов среди бела дня затащили одну учащуюся средней школы — члена хунвэйбиновской организации в укромное место на стройке и совершили групповое изнасилование.
Все население города, независимо от принадлежности к тем или иным его слоям, и учащиеся средних школ или институтов, и организации монархистов, и хунвэйбины организаций цзаофаней — все были охвачены священным гневом. В то время все организации хунвэйбинов институтов и средних школ города, не договариваясь, не объединяясь, стали действовать совместно и провели всеобщую очень шумную и мощную демонстрацию.
Возгласы возмущения хунвэйбинов сотрясали небесную высь, в городской вышине эхом отдавались громогласно выкрикиваемые призывы.
«Даешь красный террор!».
«Искореним хулиганствующих стиляг!». «Не позволим позорить боевых друзей-хунвэйбинов!». «Отомстим за позор боевых друзей-хунвэйбинов!». «Развернем смертельные атаки против хулиганствующих стиляг!». В небе колыхались транспаранты, призывающие в карательный поход против стиляжьего хулиганья.
По рассказам, некоторые хулиганы-стиляги, эти отпетые бандиты, в тот день дрожали от страха, были перепуганы до смерти, они не смели даже шагнуть за порог своего дома, боялись, что их жизнь висит на волоске. Кое-кто с наступлением темноты тайком направился на железнодорожную станцию в надежде незаметно на поездах ускользнуть за пределы города. Однако хунвэйбиновские пикеты были заранее расставлены на станции, как сети, из которых нельзя уйти, скрыться посчастливилось немногим.
На следующий день в пределах всего города была проведена карательная операция по выявлению и захвату хулиганствующих стиляг. На этот раз все хунвэйбины как никогда чувствовали себя уверенно и смело, так как защищали правое дело, у них не было нравственных преград, они больше, чем когда-либо ощущали удовлетворение от своих действий. В этих мероприятиях были задействованы главным образом хунвэйбины средних школ. А что касается списков стиляг с адресами их местожительства или работы, то в этом вопросе не было никаких трудностей: органы общественной безопасности, отделения полиции, уличные комитеты не имели никаких оснований, чтобы не обеспечить хунвэйбинов данными обстановки, не было никаких причин, чтобы не выразить поддержку действиям хунвэйбинов.
Наша организация получила списки уголовного отдела управления общественной безопасности по одному из микрорайонов. В этом списке оказались некоторые известные во всем городе хулиганы. Патруль в составе ста человек, направленный нами по городу, останавливал машины, повсюду задерживал людей значившихся в списках.
— Вытряхивайся из машины, импортный!
— Вытряхивайся из машины, черная овчарка!
* * *
Одного за другим мы брали под стражу из машин смертельно бледных, дрожащих как осиновый лист разномастных хулиганов типа «старших братьев», «вторых братьев», «саньхэньсылэн», «девять тигров, тринадцать соколов», в прошлом кичливых местных ядовитых змей. Собирали всех вместе — и парней, и девушек — в общей сложности выловили больше тридцати человек.
Мощный ураган «красного террора» пронесся над всем городом.
Его жители, бурно выражая восторг, в то же время чувствовали себя неспокойно.
«Красный террор» взбудоражил весь город так, что он стал похож на двор, в котором кудахчут куры, бегают собаки, летают гуси.
Раз людей задерживали, конечно же, с ними надо было разбираться, виновных наказывать так, чтобы они испытали на себе, чего стоят хунвэйбины.
Помещений для индивидуальной работы по их фильтрации не было, негде было добиваться признания путем насилия. А работали так: получали сведения — сразу проверяли, проверив, арестовывали. Арестовав, допрашивали. Не давали показания — били. Побьешь — информация в руках. Есть информация — снова проверка. Проверили — еще арестовали. Чем больше задержишь, тем больше арестуешь.
В то время подвальные помещения ряда средних школ превратились в тюрьмы, концентрационные лагеря.
Тогда даже если ты был хороший и совершенно безвинный человек, но хотя бы мимолетно виделся с хулиганом, если был просто знаком, даже если совсем не встречался и не был знаком, а всего лишь был соучеником хулигана, сослуживцем, соседом, или имел родственные связи, тебя тоже запирали в подвал какой-нибудь средней школы и хунвэйбины избивали тебя ремнями до крови, у тебя невольно вырывались вопли ужаса.
Еще до культурной революции хунвэйбины всегда ненавидели хулиганов. Многие из них, видимо, уже терпели обиды с их стороны, но до поры до времени могли лишь возмущаться и не смели их тронуть. Даже больше того, не смели не только трогать, но и возмущаться. Поэтому теперь, когда те самые злостные хулиганы попали им в руки, они были с ними безжалостны.
Это зверское преступление — групповое изнасилование хунвэйбинки вызвало мстительное возмущение, особенно среди девушек-хунвэйбинов. Они были более безжалостны к хулиганам чем хунвэйбины-мужчины. Это объяснялось тем, что еще будучи ученицами средних школ, они боялись их так же, как волков и тигров. Как только они вспоминали то, что было полгода назад, их юные сердца наполнялись ужасом от того, как они тогда прятались от отпетых и особо злостных хулиганов; поэтому они считали, что эти отъявленные злодеи, без стыда и совести творившие произвол, должны, выстроившись в ряды, стать перед ними на колени и трепетать от страха; каждый в соответствии со своей виной должен стоять на коленях перед императрицами, подставив шею под нож, как раб перед смертью, покорно ждать наказания; они почувствовали себя в роли героинь-спасителей мира, карающих преступников и изгоняющих насильников, почувствовали удовлетворение и радость, совершая возмездие и отмщение.
По отношению к бродягам-хулиганам женского пола они, тем не менее, были снисходительны, сострадали им. Они не позволяли хунвэйбинам-мужчинам слишком жестоко издеваться над их личностью, добросердечно сдерживали их ремни, чтобы не наносить женскому телу тяжелых повреждений, делали так, чтобы тело девушек не испытывало сильной боли. То, что парни-хунвэйбины допрашивали, оскорбляли и добивались признания принуждением, часто вынуждало девушек-бродяг вести себя дерзко. Они защищали не свое право на хулиганство и бродяжничество, а инстинктивно оберегали обычное женское достоинство.
Если сравнить допросы, оскорбления и добывание признаний избиением девушек и парней из числа хулиганов, то в подсознании хунвэйбинов возникало особенное удовольствие, обоснование которого можно найти в теории Фрейда. Несомненно их ненависть к девушкам-хулиганкам ни в коей мере не уступала ненависти к парням-хулиганам. Однако корни психологии подобной ненависти крылись именно во внешней женской красоте. Внешность некоторых бродяжничавших девушек была, можно сказать, изумительной. Они были красивы, но в то же время опустившиеся. Благопристойность и бесстыдство. Они ненавидели такое единство противоположностей, вызывавшее у них крайнюю досаду. Эти девицы были любовницами тех самых хулиганов, с которыми они имели дело. У некоторых из них было по несколько любовников, однако предпочтение отдавали кому-то одному.
Поскольку «красивые узницы» вводили в соблазн парней-хунвэйбинов, те внутренне проявляли к ним свое пренебрежение. Это были переживания, создавшиеся в результате неожиданного столкновения их неотступных дум и представлений. Для того, чтобы изменить их социальное происхождение, которое невозможно постичь, изменить возникшие у них подсознательные переживания, от которых они не могли избавиться, они бесконечно проводили допросы, оскорбляли и избивали «красивых узниц». Естественно, для этого под разными предлогами старались избавиться от своих боевых подруг-хунвэйбинок.
В числе хулиганов, задержанных нами и содержавшихся в школьном подвале, была одна девушка из организации «девять тигров, тринадцать соколов», как говорили, самая молодая птичка. Примерно нашего возраста. К тому же самая красивая. Еще говорили, что в «тринадцати соколах» все девушки были красивые.
Этого птенца мы схватили непосредственно в «логове тигра». Раньше она училась в средней школе «Хунгуан». Школа «Хунгуан» была необычной. В нее отбирали учащихся, окончивших 6 классов и не сдавших экзамены в следующую ступень средней школы. Потом из-за того, что дурная слава о ней распространилась далеко, она даже в школе «Хунгуан» заработала очень низкую репутацию, и ее исключили из школы. С тех пор она связалась с бездомными бродягами.
Когда мы ворвались в «логово тигра», она и ее «тигр» в одних трусах как раз мирно спали на одной кровати. На ней не было даже лифчика. Мы набросили на нее «тигровую шкуру» и выволокли наружу, подняли и забросили в кузов грузовика, а «тигра» тут же ничком положили на землю.
Когда ее под конвоем привезли в школу, одна девушка из числа хунвэйбинов, учившаяся с нею раньше в начальной школе, дала ей брюки, избавив мужчин от удовольствия лицезреть ее белые ноги, сводившие их с ума.
Когда ее первый раз допрашивали, она повела себя независимо, с полным безразличием к происходящему. Кокетливо и беззаботно скосила свои большие глаза на одного, небрежно бросила взгляд на другого. Пуговицы «тигровой шкуры» даже не застегнула, лишь прижала полу ногой, руки скрещены на груди.
— Есть закурить? — спросила небрежно.
Следователи усмотрели в ее поведении попытку обольщения бойцов-хунвэйбинов, сочли это унизительным, неподдельно разгневались, стеганули ремнем так, что она взвизгнула и навсегда выбросила из головы дурные мысли. Ее уволокли обратно в подвал, бросили на холодный, мокрый и грязный пол.
На втором допросе она была уже более покладистой. Развязность исчезла начисто. Ее внешний вид вызывал жалость, она стала слишком сговорчивой. Когда кто-то из тех, кто вел разбирательство, бросал на нее взгляд, она вздрагивала всем телом. О чем ее спрашивали, то и отвечала. Страх заставлял ее не задумываться о стыде.
— Со сколькими бродягами ты развратничала?
— С пятью-шестью.
— Точнее, с пятью или шестью?
— С пятью... нет, с шестью... дайте мне подумать... Еще один был, с семью...
— Мы всех их прибрали к рукам?
— Вы задержали троих...
— Тогда где же еще четверо?
— Я тоже не знаю...
— Неправда!
— Я...
Во время обоих допросов Ван Вэньци стоял в стороне и наблюдал. Под левым глазом у него был темно-фиолетовый синяк. Кто-то рассказывал, что он однажды возвратился домой, встал на колени перед кроватью больной матери и стал горько рыдать, но старший брат жестоко избил его и выбросил из дома. Поддавал до тех пор, пока он не оказался на улице.
Он по-прежнему вынужден был жить вместе со школьным сторожем. Старик начал было несколько сочувствовать ему, а сейчас из-за его странностей, из-за того, что не смог изменить его к лучшему, стал испытывать неприязнь к Ван Вэньци.
На тридцать юаней, которые я через людей передал ему, он накупил водки и мяса, неразумно растратив такую большую сумму денег. Он уже успел занять деньги у нескольких соучеников. Занял, но не отдал. Ненависть, неизвестно откуда взявшаяся и сидевшая в глубине его души, сначала касалась только меня, потом перешла на массы. Он ненавидел всех. Он без причины и повода ненавидел даже тех людей, с которыми не общался. Однажды из-за того, что сторож сказал какие-то слова, которые он не хотел слышать, он только за это готов был наброситься на него с кулаками. У учеников одного с ним класса, у боевых друзей-хунвэйбинов одной с ним группы — у всех постепенно появилась неприязнь к нему. Людей, избегавших его, становилось все больше и больше. Он, как казалось нам, совершенно не придавал этому никакого значения.
Лишь на одну вещь он обращал очень пристальное внимание — на любимую им повязку хунвэйбина. Он бесконечно стирал ее. Была чистая — все равно стирал. Однажды он вскрыл дверь управления и проник внутрь, но прямо на месте был задержан.
Его спросили, что он хотел украсть.
Он не ответил.
Его обыскали, нашли спрятанные под одеждой несколько новейших повязок хунвэйбина.
— Зачем ты украл так много повязок?
— Носить на смену. Одну постираю, другую надену.
В его ответе был заложен определенный смысл и он не чувствовал стыда.
Так ничего с ним и не сделали. Правда, для этого была еще и другая причина, не хотели выносить сор из избы, боялись, что если об этом станет известно «отряду бесстрашных борцов», то в подходящий момент они могут использовать это для нападок и злословия по отношению к нам; поэтому без шума его отпустили. Даже вернули найденные у него несколько повязок.
После этого случая он стал еще старательней и чище стирать повязки. Без повязки на рукаве он не оставался ни часа, ни минутки. Они всегда были как новенькие, нигде ни складочки, ни морщинки, чисто красное поле, желтые иероглифы, в сравнении с другими бросались в глаза и выглядели более дорогими.
Можно сказать, что в школе он ничего не делал. И если в чем-то принимал участие, то не потому, что жил в подвале, а потому, что его вызывали. Иногда он сам изнемогал от тоскливого безделья и, покидая школу, уходил на «индивидуальную деятельность». На рукаве непременно была повязка хунвэйбина, на лацкане выделялся значок Мао Цзэдуна. В тех местах, где вывешивали дацзыбао, там, где велись споры и дискуссии, он смотрел, слушал, прохаживался туда-сюда, то в одном месте, то в другом останавливался. В этом собственно и состояла его так называемая индивидуальная деятельность.
С тех пор, как в школе стали содержать задержанных хулиганов и бродяг, у него появилось конкретное занятие. Держа в руках ремень, он в одиночку врывался либо в мужской, либо в женский подвал и, не допрашивая, не задавая никаких вопросов, с мрачным выражением лица, не говоря ни слова, наскакивал на них, размахивая ремнем, не разбирая, кто перед ним находится, сразу же обрушивал на него ремень. Настегавшись вдоволь, с ремнем в руке уходил с независимым видом. Причем занимался он этим делом в ночное время. Никто об этом не знал, кроме сторожа. Позже сторож не вынес крики и плач тех несчастных хулиганов и бродяг, и заявил главарям.
Главари сначала не придали этому значения — все равно ведь бил хулиганов, а не нормальных людей. В результате одна девушка из их числа не выдержала, пыталась покончить с собой, и только это привлекло внимание главарей. Тогда его «индивидуальную деятельность» расценили, как нарушение хунвэйбиновской дисциплины.
— Кто разрешал тебе в полночь в одиночку избивать их?
— Вам можно бить их, почему я не могу?
Кто уверен в своей правоте, у того и ответ найдется.
— Мы? Мы проводим допросы, раскручиваем и наказываем тех, кто погряз в преступлениях, бесконечно совершает злодеяния. В работе с ними мы к каждому подходим индивидуально.
— Какое вы имеете право, такое и я имею! Права хунвэйбинов одинаковы! Главари разозлились.
— Если ты еще раз побьешь их, исключим из организации хунвэйбинов, отберем у тебя все хунвэйбиновские права! — строго предупредили его главари.
Эта мера возымела действие. Похоже, что только такое внушение могло образумить его.
И в самом деле потом он больше не смел самовольно врываться в подвалы, зато, когда вели расследование, он всегда, стоя в сторонке, наблюдал. Особенно когда допрашивали девушек-бродяг, он являлся без приглашения. Никто не обращал на него внимания, он тоже не считал себя лишним. Он был похож на любопытного, которого знакомые привели на киносъемочную площадку, либо в зал театра, где идет представление; он с мрачным видом смотрел самый неинтересный, безвкусный «спектакль», пытаясь уразуметь, что происходит. Такой его вид не позволял им даже на мгновение взглянуть в его сторону. Его мрачная физиономия без сомнения пугала их больше чем следователи. Он как бы ежечасно, ежеминутно хотел нанести им раны. Они совершенно не могли понять, почему этот человек больше всех хунвэйбинов ненавидит их. Так же, как и я не понимал, почему он так ненавидит меня. Несколько раз я тайком присматривался к нему. По его холодному выражению лица я заключил, что в душе он ненавидит и этот допрос. Возможно, потому, что сам мечтал, но не имел возможности сесть за стол следователей и вести, их допрос. Об этом я мог только догадываться.
Всех кого надо было выловить, разыскали и задержали. Кого надо было наказать, строго наказали по несколько раз. Психология отмщения, проявившаяся во время допросов, нашла свое удовлетворение. Мужская и женская части хулиганствующих странников после уроков, преподанных хунвэйбинами, стали покорными как бараны и овцы. Ураган «красного террора» вихрем пронесся через души хунвэйбинов.
Тогда организации хунвэйбинов всех средних школ созвали объединенную конференцию, которая известила весь город о том, что движение «красный террор» завершилось, выполнив свою историческую миссию в процессе великой пролетарской культурной революции. Наконец, остались позади дни психологической напряженности горожан.
Будучи приверженцами идеализма, хунвэйбины хотели создать капитал путем конфискации имущества, из малолетних преступников и бродяг-хулиганов сделать новых людей социалистической формации, пропустив их через исправительные учреждения. Тех, кто проявил себя хорошо или относительно хорошо, в процессе перевоспитания передать из этих учреждений революционным массам тех единиц, в которых они находились раньше, для их дальнейшего исправления. Если они нигде не работали, то заставить уличные комитеты, где они проживают, взять их под свою ответственность, в минимальный срок обеспечить работой. Проявивших себя плохо заставить на общественных началах участвовать в труде по созданию исправительных учреждений. Когда они будут отстроены, в них разместить первую партию объектов последующего перевоспитания.
Потом провели коллективное перевоспитание задержанных бродяг, принесли свои извинения и попросили прощения за те оскорбления, которые они нанесли им, добывая сведения с помощью ремней, признали свои ошибки. Кроме того, прямо на месте огласили список тех, кто будет освобожден. Эти «перевоспитавшиеся» даже прослезились и несколько раз воскликнули: «Да здравствуют хунвэйбины!». Они уже считали, что не смогут вернуться домой живыми, преждевременно праздновали труса, поэтому были очень признательны за уроки, полученные в результате «красного террора».
Таким путем хунвэйбины сумели доказать, что все они люди очень душевные.
Бывшая ученица начальной школы, в которой училась и та «соколиха» из братства «Девяти тигров и тринадцати соколов», от имени девушек-хунвэйбинок попросила наших главарей отпустить «красивую узницу», поклялась святым именем хунвэйбина, что та вернется на истинный путь.
Эта наша защитница была командиром «агитационно-пропагандистского отряда идей Мао Цзэдуна, литературы и искусства», раньше она училась в одном классе с главарем, да не только училась, они сидели рядом, симпатизировали друг другу, были искренне привязаны. Многие не сомневались, что в будущем они наверняка образуют пару. И бунтарями они стали вместе, шли нога в ногу.
С учетом ее репутации он, конечно же, согласился.
Он даровал ей доброе имя, другие главари поддержали.
Сделав доброе дело, защитница-хунвэйбинка очень обрадовалась, рассказала, что она еще в начальной школе вместе с «красивой узницей» училась танцам в городском юношеском дворце. «Красивая узница» может петь и танцевать, у нее достаточно познаний в литературе и искусстве. Из-за того, что она не поступила в среднюю школу, родители ругали ее, братья и сестры проявили равнодушие. Воспользовавшись случаем, ее завлекли к себе плохие люди, увели из семьи, лишили возможности распоряжаться своей судьбой, шаг за шагом затянули в болото.
Слушая ее, главари горько сожалели и сочувствовали пострадавшей. Некоторые сказали, что снова сделают ее человеком, главное — должны помочь ей решить вопрос с работой. Другие уверяли, что нужно только желание, и если она исправится, то может даже вступить в хунвэйбины, это соответствует великому учению председателя Мао: «Если мы хотим революцию, надо сплотить все силы, желающие объединиться». А некоторые даже выразили мнение, что приветствовали бы ее вступление в «агитационно-пропагандистский отряд идей Мао Цзэдуна, литературы и искусства». Одну девушку из числа бродяг хунвэйбины настолько переделали, что она стала членом этого отряда, больше того, можно утверждать, что хунвэйбины имели мечту переделать не только дух, но и душу народа всего Китая.
После этого командир агитационно-пропагандистского отряда» сама спустилась в подвал и предложила «красивой узнице» вместе с нею встретиться с главарями.
Каждый из главарей был до предела галантным и почтительным в обращении с нею, все они лично, глядя ей в глаза, еще раз твердо повторили «красивой узнице» те обещания, которые были сказаны раньше, затем по-хорошему успокоили ее.
«Красивая узница» с криком рухнула на колени и беззвучно заплакала, бусинки слез безудержно лились из глаз. Она клялась, что если не оправдает их доверие, то пусть ее покарает смерть.
Главари тоже были очень тронуты, даже не могли говорить. «Красивой узнице» было неудобно возвращаться домой и командир «агитационно-пропагандистского отряда» устроила ее в маленькой комнатке библиотеки, рядом со своей комнатой, согласившись на следующий день лично сопроводить ее домой, предостеречь домашних, чтобы больше ни в чем ее не упрекали...
Но кто мог подумать, что в эту ночь разыграется трагедия. На следующий день командир «агитационно-пропагандистского отряда», толкнув дверь в ту маленькую комнату, пронзительно вскрикнула и потеряла сознание.
«Красивая узница» лежала мертвой.
Совершенно обнаженная, она, закинув голову, лежала на мокром и грязном полу. Лицо было прикрыто наволочкой. По беспорядку, царившему в комнате, можно было заключить, что перед смертью она ожесточенно сопротивлялась убийце. Солнечные лучи падали на ее тело. Утратив жизнь, оно стало необыкновенно белым. Однако следов крови вокруг не было. Наиболее смелая из пришедших к ней вместе с командиром отряда девушка шагнула вперед и сдернула наволочку с головы мертвой. Только она увидела на ее лице кровяное пятно от удара, как и ей стало плохо.
Соученицы, закрыв глаза, бросились вон из комнаты.
Та смелая быстренько накрыла наволочкой лицо покойной и, не находя себе места от страха, отступила на шаг.
Парни замерли, как загипнотизированные.
В тот момент все — и те, кто был с повязкой, и те, у кого ее не было — почувствовали атмосферу мерзкого злодеяния.
Кто-то вполголоса твердо сказал:
— Ван Вэньци!..
Эти слова прозвучали как приказ, все парни дружно бросились в подвал. Эхом отдался топот ног по коридору.
Ван Вэньци как раз стирал повязку хунвэйбина.
Когда он увидел, что в подвал ворвались люди, он прекратил стирку, медленно разогнулся, ненавистным взглядом окинул вошедших.
Они тоже угрожающе уставились на него.
Неожиданно все, как по команде, набросились на Ван Вэньци, свалили на пол, стали бить ногами, топтать.
Однако он не издал ни единого звука, молча переносил обрушившуюся на него кару.
Как выяснилось потом, убийцей действительно оказался Ван Вэньци.
В ту ночь он пытался изнасиловать ее. Она не далась. Тогда он ударил ее подставкой настольной лампы и убил. После этого наволочкой накрыл лицо, куда пришелся удар, раздел догола и изнасиловал еще теплый уступчивый труп...
Сторож, как его ни уговаривали, не захотел больше оставаться вместе с Ван Вэньци в подвале, досрочно уволился и вернулся в деревню в свой отчий дом. Перед уходом он сказал людям: я еще хочу жить. Сторож считал, что Ван Вэньци давно вынашивал намерение убить человека. На месте той девушки мог оказаться он.
— Очень жаль, такой цветущий возраст, такая красавица... и такая трагическая смерть! Это она вместо меня старика стала жертвой преступления». Глаза старика наполнились слезами и он молча покинул школу.
Я вспомнил, каким ненавидящим взглядом порой смотрел на меня Ван Вэньци и тело невольно охватила дрожь, прошиб пот, а волосы встали дыбом. Я поверил тому, что сказал старик-сторож. Возможно, он намеревался убить и меня, но не нашел подходящего случая.
Почему?
Я не знаю.
И почему все те, кто оказался на месте происшествия, как только было названо его имя, сразу без колебаний решили, что убийца именно он? Неужели все они сердцем чувствовали, что ночью он обязательно совершит убийство?
Я тем более должен был предчувствовать это, но мою душу ничто не потревожило.
Неужели он в конце концов из-за неистребимой ненависти (все мы не сомневались, что на дне его сердца она давно была зарыта) убил ее, изнасиловал ее труп? Или из-за страданий, которые родило телесное влечение и соблазн созревшего цветущего женского тела, у него мгновенно созрела преступная мысль, из-за которой он потерял человеческую природу и разум?
Никто не смог ответить на эти вопросы.
Я возвратился домой, молча раскрыл небольшой альбом с фотографиями, нашел в нем снимок, на котором был изображен вместе с Ван Вэньци, и вместе с подкладкой под него вышвырнул в огонь топившейся печи.
Безутешная скорбь так придавила сердце, что хотелось плакать. Я понял, что в душе полюбил ту красивую арестантку. Я поверил, что любовь — это прежде всего материальная сила. Красивая душа вызывает уважение, однако не всегда пробуждает любовь. Любить красивую душу — это еще не полное чувство. Любовь — это когда одновременно присутствует очарование, рождаемое внешней красотой. Душа человека стоит на втором месте. Это было причиной, почему я каждый раз оказывался там, где ее допрашивали, исключая первый допрос, когда я не предотвратил избиение ее ради дачи показаний. На втором и третьем допросах я сумел хитроумными способами защитить ее. Я не забуду, как она робко глянула на меня своим взволнованным взглядом, выражающим чувство признательности, когда я бросил ей свои старые туфли...
Я искренне надеялся, что она исправится, ей дадут работу, когда-нибудь получит право надеть повязку хунвэйбина, мечтал о том, что потом она вступит в наш «агитационно-пропагандистский отряд»...
Убийство, которое явилось делом рук Ван Вэньци, потрясло весь город.
Хунвэйбинов позорили и унижали как никогда раньше.
Тысячные толпы людей устремились к городскому отделу общественной безопасности с требованием покарать убийцу. В их требованиях мощно звучало недовольство «красным террором». Если люди еще терпели «революцию» в самых разных ее формах, то не смогли переносить любые виды террора.
Через несколько дней по всему городу расклеили обращения с требованием о вынесении приговора преступнику.
Повязка хунвэйбина не смогла спасти жизнь Ван Вэньци. Хотя в нем было и много хорошего.
Ему вместе с тем бродягой, который изнасиловал девушку-хунвэйбина, вынесли смертный приговор и в тот же день привели его в исполнение.
Последний удар «красного террора» пришелся по голове самих хунвэйбинов.
По просьбе объединения организаций хунвэйбинов ради сохранения их репутации в городе не стали проводить показательный судебный процесс. В объявлении не упоминалось слово «хунвэйбин».
В день приведения приговора в исполнение машина с преступником на борту проследовала по всем районам города, тысячи людей вышли на улицы посмотреть на него, движение городского транспорта было приостановлено.
Из-за такого преступления в нашей организации все рвали и метали, ее честь была попрана полностью, хунвэйбины сразу толпами стали покидать ее, через три дня в ней остались лишь одиночки в самом штабе, организация развалилась сама, без давления на нее со стороны.
«Отряд бесстрашных борцов», демонстрируя свою силу, захватил в свои руки всю власть в школе.
Многие соученики, оседлав велосипеды, ездили следом за арестантской машиной до самых отрогов гор Хуаншань, своими глазами видели исполнение приговора,
— Этого парня паралич еще не хватил от страха, сам соскочил с машины!
— Ему приказали стать на колени, он сразу, как полагается, стал и с интересом слушает приговор!
— Он увидел меня!
— Он на волоске от смерти, до тебя ли ему!
— Он видел меня. Увидел меня и сразу опустил голову.
— Когда вскинули винтовки, он снова оглянулся и посмотрел на меня!
— Правильно, он поворачивал голову.
Говорили, что никто из родственников за ним не явился. Его труп отвезли в больницу на экспертизу...
ГЛАВА 12
Великое шествие началось.
Зачинателем этого движения, по-видимому, должна была стать группа хунвэйбинов института морского транспорта. Они, высоко подняв знамя отряда «Великий поход», пешком выступили из города и на протяжении почти ста дней, преодолевая тяготы пути, повсюду пропагандировали идеи Мао Цзэдуна, необходимость и актуальность великой культурной революции. Когда они прибыли в Пекин, их горячо приветствовали народ и хунвэйбины столицы. Они были приняты членами Центрального штаба по делам культурной революции и председателем Мао.
Две газеты одновременно опубликовали одинаковую передовую статью, высоко оценившую «дух великого похода» маленьких генералов — хунвэйбинов. Она подчеркнула, что этот дух в ходе великой культурной революции обязательно сыграет роль «агитационно-пропагандистского отряда» и «сеялки».
Если деятельность отряда «Великий поход» и особенно воззвания хунвэйбинов проанализировать с точки зрения общественной психологии, то на самом деле они не имели никакой духовной преемственной связи, а были всего лишь зародышем духовного вызова человеческому подсознанию, смысл которого сводился к постулату: если это необходимо для истории, то мы тоже можем совершить блистательные подвиги, какие совершали наши предшественники. Больше того, это было самоутверждение и самопроверка, нирвана революционного идеализма хунвэйбинов.
Во все века, в каждом государстве, в каждой нации, в любую эпоху молодежь хотела жить только в довольстве, и что больше всего ненавидела, так это заурядность. Она жаждала жить ради потрясений, да таких, чтобы даже бесы и духи плакали. Кроме того, всегда верила, что она способна потрясти небо и землю, души покойников. Молодежь с неохотой изучала блестящую историю предшествующих поколений и не хотела с почтением взирать на мемориалы героев. Это — всеобщая психология всего человечества. И именно такая психология провоцировала у молодежи стремление во всем превзойти то, что было в истории, избавиться от ощущения беспомощности, сделать что-либо полезное для своей исторической эпохи.
Почти все поколение хунвэйбинов, можно сказать, выросло в мечтах о героизме. Эти мечты разбились о голод, возникший в результате трехлетних стихийных бедствий. Без сомнения, для них то было самой большой трагедией. И как только кукуруза и гаолян спасли их от голодной смерти, героическое сознание снова стало оживать в их головах. А как же быть с великим походом не так уж давно совершенным Красной армией? Эта страница истории была еще слишком свежа. Великих людей и героев, создавших страницы этой истории тоже еще нельзя было выбросить из жизни. Литература, кино, театр, песни, мемуары, выставочные залы, мемориалы... — все возможные средства, все возможные способы и формы были направлены на очень ясные цели — сократить и еще раз сократить расстояние между еще очень новой страницей истории и первым поколением молодежи нашей республики, как бы заставляя ее навсегда стать на колени перед прошлым и петь дифирамбы, бить земные поклоны, делая ее духовным рабом этой славы.
И вот в обстановке, когда молодежь по ее расчетам могла получить одобрение своим действиям и не встретить препятствий, она, охваченная героическим порывом, сама отправляется в свой «Великий поход», надеясь вписать свою страницу в летопись истории, чтобы последующие поколения так же, как и они, пели им дифирамбы, кланялись, стоя на коленях. По сути дела, мы сегодня, говоря о психологии противостояния людей целого поколения, можем докопаться до корней этого явления, если бросим ретроспективный взгляд на годы, предшествовавшие развертыванию великой культурной революции. Этот «духовный вызов на бой» был брошен из-за неглубокого понимания «духовной преемственности» поколений. Если бы в то время кто-либо даже и указал бы на такие устремления хунвэйбиновской психологии, как «противостояние» или «духовный вызов на бой», то, пожалуй, даже они сами сочли бы это за клевету, а поэтому возмутились бы.
Недавно в журнале я прочитал сообщение о том, что в каком-то городе Советского Союза одна из улиц была названа именем бойца Красной Армии, геройски погибшего в войне против фашистов при освобождении этого города. А сегодня, только через 50 лет, люди узнали, что он жив, живет именно в этом городе, каждый день по нескольку раз проходит по улице, названной его именем, часто видит, как молодежь отдает дань уважения его бюсту, выражает свое почтение молчанием, возлагает цветы. Однако в течение 50 лет он никому не сказал: тот бюст — мой. Впоследствии, только когда собрались сделать музей в его память и собрать туда оставшиеся экспонаты, он не смог не открыться.
Корреспондент спросил его: «Такая огромная почесть, и вы, тем не менее, не захотели достойно занять место бюста, почему?».
Он, человек уже почтенного возраста, ответил: «В чрезвычайных обстоятельствах каждый человек может заслужить почет, совершить героизм. Это — обычное дело».
Внук Трумена, только учась в первом классе школы, на занятиях узнал, что его дедушка, оказывается, был президентом США. Придя домой, он спросил мать, почему до сих пор ему не сказали об этом.
Мать ответила: «Ты гордишься этим? Среди американцев есть очень много таких людей, которые могли бы стать президентами».
Слова бойца Красной Армии Советского Союза и дочери президента США — матери американского мальчика — дают человечеству сопоставимые примеры в области психологической природы.
Все, что сделала наша республика для своих сыновей и дочерей после образования КНР и до великой культурной революции в области воспитания на революционных традициях, так это выставляла напоказ блистательные подвиги и создавала памятники. Со временем история стала владычествовать над душами, а ее величие и торжественность в действительности начали угасать. Поэтому призывы «все ставить под сомнение», «все сокрушать» как раз отвечали чаяниям хунвэйбинов. Поэтому вызов на бой, брошенный следующим поколением, осуществленный сублимированным движением отряда «Великий поход» и противоположным движением «Бунт — дело правое», можно даже сказать был неизбежным. Как у нас говорят, событие, достигнув предела, неизбежно обращается вспять.
А Линь Бяо пытался обратить историю в свою пользу, показать, что соединение двух армий в Цзинганшане произошло под его, а не Чжу Дэ командованием, по своему невежеству полагая, что переделав страницы славной истории, он усилит свою роль в своем тогдашнем положении. Это пример для иллюстрирования деградации в области психологической сущности человека.
Великий поход заявил всему миру о том, что Красная Армия Китая — это герои-рыцари.
Отряд «Великий поход» тоже провозгласил на весь Китай о том, что хунвэйбины — тоже герои-рыцари.
Брошенный в воду камень образует тысячи кругов. Герои-рыцари в лице хунвэйбинов из всех уголков страны начали свой великий поход. Высоко подняв знамена, они пели песни о себе, охваченные чувством отваги и героизма, они широким шагом направились в Яньань, Шаошань, Цзуньи, Пекин. По пути громили «четыре старых»,[32] учреждали «четыре новых», осуществляли великое «революционное шествие, раздували очаги бушующего пламени великой пролетарской культурной революции, считая, что такие и им подобные действия — это тоже «блистательные подвиги». Полагали, что они обязательно откроют новую яркую страницу истории. Считали, что они в суровый и решительный исторический момент избавят весь китайский народ от страданий и лишений и не посрамят себя игрой в революцию; в будущем народ, возможно, назовет их «великой спасительной звездой», отблагодарит их так, как благодарят всевышнего. Конечно, далеко не все хунвэйбины отряда «Великий поход» думали именно так, их цели тоже состояли далеко не в том, чтобы только стать причастными к ней, чтобы только самовыражаться, самоутверждаться, бросать вызов духу подсознания. Если история объективна и справедлива, то она должна признать и подтвердить, что все поступки и действия хунвэйбинов в самом начале культурной революции были только самовыражением, самоутверждением; всеобъемлющий выход наружу всего того, что накопилось в груди и давило ее, приводил к крайним формам героизма, к стремлению бросить вызов к пересмотру истории, к деформации ответственности общества за сумасбродные идеи. Они совершенно не разобрались, была ли нужда участвовать в этой авантюре, не осознали, что она собой представляет.
Две газеты снова опубликовали передовые статьи, четко указавшие, что непрерывный поток отрядов хунвэйбинов «Великий поход» говорит всем левым революционерам о том, что организация великого шествия, проводимого во всех уголках страны, является неотвратимой задачей левых революционеров.
Руководители Центрального комитета по делам культурной революции заявили: хунвэйбины и левые революционеры шествуют по всей стране, восхищая замечательную родную землю, и это совершенно необходимо!...
Председатель Мао опубликовал новейшие указания: великое революционное шествие — это очень хорошо.
Многие миллионы листовок с заявлениями руководителей Центрального комитета по делам культурной революции, новейшими указаниями председателя Мао, обращением председателя Мао к широким революционным народным массам, к хунвэйбинам и всем левым революционерам, дававшее ответы на их думы, распространились по всей стране.
Председатель Мао думает о нас, мы еще больше думаем о нем. Великий поход ускоренным шагом спешил в Пекин, спешил под крылышко председателя Мао. Радуя многоуважаемого председателя, маленькие генералы-хунвэйбины и все левые революционеры были душой и сердцем вместе с многоуважаемым, но слишком, слишком, слишком опаздывали.
И тогда они на востоке и западе, на юге и севере страны, на всех станциях стали перехватывать пассажирские поезда, насильно занимать их и спешно мчались в Пекин. Великий поход на полпути сворачивал свои знамена и, прибыв на поездах в Пекин, снова разворачивал их и с приподнятым настроением, геройским видом, как вихрь устремлялся на улицы Пекина. Во всяком случае, никто не спрашивал их как они прибыли: пешком или на поездах.
Поднявшись на трибуну Тяньаньмэнь, председатель Мао многократно восклицал: «Да здравствуют хунвэйбины! Да здравствует народ!».
Сегодня уже очень трудно проверить достоверность высказываний руководителей Центрального комитета по делам культурной революции и новейших указаний председателя Мао того времени. Но я для того, чтобы написать эту свою исповедь, брал слова их выступлений и новейших указаний из заимствованных у разных людей сохранившихся подлинных листовок или газет, а также из слышанных самим и запомнившихся мне слов великого вождя «да здравствуют хунвэйбины» и «да здравствует народ».
Каждый раз подолгу простаивая на трибуне Тяньаньмэнь, Мао Цзэдун постоянно прохаживался от одного края трибуны к другому, все время махал рукой, часто вместе с тысячами других людей сам повторял «да здравствует председатель Мао, пусть миллионы лет живет председатель Мао». Кроме того, он на открытой машине, естественно стоя, выезжал к многотысячным массам людей. Днем он проводил смотры, ночью вынужден был удовлетворять горячее желание миллионов людей — «мы хотим встретиться с председателем Мао». Только во время дневного смотра он часто простаивал на ногах до четырех часов. Нельзя не признать, что это вредило здоровью старого человека, которому уже перевалило за семьдесят.
Центральный комитет по делам культурной революции начал тревожиться и выражать беспокойство за состояние здоровья председателя Мао.
Было проведено восемь грандиозных смотров, люди, имевшие счастье сопровождать его, почти каждый раз менялись. Во время первого смотра некоторые из них держали в руках драгоценные красные книжицы,[33] при втором смотре они уже и не знали, что может понравиться владыке. Или карикатурные зарисовки или список «хрущевцев», опубликованный в газетах.
Политическое чутье хунвэйбинов и всех левых революционеров обострилось реагируя на все изменения в стране. Сегодня пролетарский и отдельно буржуазный штабы только распространили листовки, а завтра срочно появятся другие. Попробуй угонись. Да и положение двух решительно расколовшихся и размежевавшихся штабов Центрального комитета тоже было неустойчиво, все время находилось как бы в динамике.
Центральный комитет по делам культурной революции обратился к стране с экстренным оповещением, в котором говорилось, что количество хунвэйбинов, хлынувших в Пекин со всей страны, каждый день растет, и если даже мобилизовать население уличных комитетов города, то все равно с работой по приему их в столице не справиться. Выражал надежду, что хунвэйбины поймут трудности столицы, позаботятся о председателе Мао и, руководствуясь общими интересами, отложат поездки в столицу.
Экстренное оповещение не возымело действия.
На самом деле великое шествие превратилось уже в бесплатный туризм. Для миллионов людей это был благоприятный случай, чтобы извлечь пользу из великого шествия. Питание, жилье, передвижение — и никаких затрат, с момента образования КНР это был первый прекрасный шанс наиболее полного претворения в жизнь преимуществ социализма. Если в то время китаец мог хотя бы один раз съездить в Пекин, то это уже было вдвойне почетнее, чем один раз посетить Нью-Йорк или Париж нынешнему китайцу, то был счастливый шанс, дарованный свыше. «Открыть глаза, увидеть свет» — это слова, которые на устах каждого китайца, выезжающего сегодня за рубеж. В то время хунвэйбины ничего подобного не могли сказать. Однако такая цель несомненно существовала. И даже была преимущественно абстрактной целью революции. Что касается кинокадров, снятых крупным планом в сохранившихся фильмах новостей, где люди с горячими слезами на глазах кричат в экстазе «да здравствует», то это лишь одна сторона великого шествия, а не все ее стороны. Не следствие ли это воздействия общего настроения ажиотажа? Если бы тогда также, как и сейчас, журналист мог на месте события, держа в руках микрофон, брать информацию, и спросил бы проливающих слезы людей, почему они плачут, вероятно, многие ответили бы так: «другие плачут — и я плачу, слезы сами льются».
Если посмотреть в историческом плане, если говорить в целом, то китайская нация как раз является нацией, которой очень недостает идеала. Поэтому она рассматривала великое шествие как неизбежный результат психологии поклонения и чувства горячей любви, что на самом деле чересчур высоко идеализировано и романтизировано. Если бы им самим пришлось тратиться на питание, жилье и переезды, то люди, которые в то время прибывали в Пекин, едва ли удовлетворились бы тем, чтобы просиживать все время в доме собраний.
Вскоре нашу организацию хунвэйбинов распустили и я, не долго думая, вступил в другую. Я все время должен был состоять в какой-нибудь хунвэйбиновской организации, быть ее членом. Для меня это было очень выгодно.
В тот день наша организация тронулась в путь. Прибыв на вокзал, мы оккупировали все поезда, которые шли в сторону Пекина. Везде, включая вагоны, подновили лозунги. Они призывали «следовать указаниям Центрального комитета по делам культурной революции, беречь многоуважаемого председателя Мао», утверждали о том, что «встреча с председателем Мао — это великое счастье, а его здоровье — еще большее счастье», там было много других известных всем лозунгов и призывов.
Уже находившиеся в поездах хунвэйбины разных школ и организаций разъяснили нам права и обязанности, правила поведения, предупредили, чтобы никто не выходил из вагонов. Однако по поводу наших намерений никто не спорил, так как правда была на нашей стороне. В общении с нами они придерживались позиции «стратегического противостояния».
Потом мы часто и беспорядочно ложились на рельсы, задерживая на 2–3 часа отправление поездов. В тот день шел мелкий моросящий дождь. Ползать по промокшим шпалам и холодным рельсам не назовешь удовольствием. Сейчас, вспоминая это, понимаешь, что те строптивые поступки держались на психологии самоутверждения и самовыражения. По крайней мере, сам я был такой. Уберечь председателя Мао — это то дело, ради которого стоит разок самоутвердиться, самопроявиться. Возможностей утверждать себя, выражать себя, горячо любить председателя Мао очень мало. Но сделать это не легко. Такой случай надо ловить, так как второй раз он может не подвернуться.
Сегодня, когда социологи и политики ведут всестороннюю критику и осуждают великую культурную революцию, почти все они без меры преувеличивают вред культа личности. Психология культа китайца, особенно ханьца,[34] на самом деле лицемерна.
Когда я со своей компанией под бесконечным, неутихавшим осенним дождем лежал на мокрых шпалах и холодных рельсах, я в душе знал, что те мои действия ни в коем случае не могут не иметь положительных последствий. Я предвидел, что после завершения великой культурной революции такие мои действия обязательно получат очень высокую политическую оценку. А значит поступать так имеет смысл. Мощное желание утвердить себя, выразить себя постепенно вырастило в моем сердце ростки приспособленчества, развившиеся в неблаговидную цель.
У всех нас одежда промокла насквозь. Каждого трясло от холода, все проголодались. Некоторые уже поднялись, намереваясь уйти.
— Уходить нельзя! — крикнул я, — Держитесь стойко и мы победим! Кто хочет уйти, тот ничуть не предан многоуважаемому председателю Мао!
Вставшие снова легли.
Один наш компаньон с мегафоном в руках прохаживался по перрону вокзала, мобилизовывал хунвэйбинов, находившихся в вагонах: «Выходите из вагонов! По-настоящему следуйте указаниям председателя Центрального комитета по делам культурной революции, на деле горячо любите боевых друзей председателя Мао — хунвэйбинов. Пожалуйста, выходите! Председатель Мао может прожить 150 лет, мы всегда будем иметь возможность встретиться с ним! Был бы лес, дрова найдутся...»
Смысл последних его слов совершенно очевидно состоял в том, что если только здоровье Мао Цзэдуна позволит ему прожить долго, то нечего бояться, что не будет шанса встретиться с ним.
А часть хунвэйбинов, находившихся в поезде, в едином ритме скандировала одни и те же слова: «Мы хотим встретиться с председателем Мао, мы хотим встретиться с председателем Мао!». Кроме того, из вагона доносилось хоровое пение короткой песенки нескольких девушек-хунвэйбинок: «Подними голову, взгляни на полярную звезду, а в душе подумай о Мао Цзэдуне...». Вот такими способами пытались они выразить нам свой протест.
Однако слова нашего компаньона дали им зацепку. Они, не имевшие до сих пор аргументов, наконец, получили их. Разве можно было допускать такую ошибку? Ни в коем случае нельзя. Тот наш компаньон не должен был произносить слова «был бы лес, дрова найдутся. Это была грубая ошибка. Но, как говорится, сказанное слово — что выплеснутая вода.
— Черт возьми, вы слышали с чем сравнивает этот пацан самое красное солнце в наших душах?
— Сравнивает с дровами, поддать ему!
— Вы клевещете, я сравниваю председателя Мао с лесом, — громко оправдывался наш партнер.
— Сравнил с дровами!
— Сравнил с дровами!
Из окон вагонов начали высовываться возмущенные физиономии.
— Сравнивал с лесом!
— Сравнивал с лесом!
Дело все больше обострялось. Сравнивать с лесом или с дровами — это, пожалуй, принадлежит к области правды или неправды, носит политический характер. Мы, лежавшие на рельсах, стали подниматься с них, помогать в споре своему стороннику.
— Сравнивать с лесом тоже не годится! Можно сравнивать только с самим красным солнышком!
— Если сравнивать с зеленым лесом, то что такое каждая травинка, каждое дерево? Волосы на голове председателя Мао! Тогда, как понимать слова «дрова найдутся»?
— Да это же прожженный реакционер!
— Кто посмеет тронуть хотя бы волосок на голове председателя Мао, тот наш смертельный враг!
Обстановка принимала крутой оборот. Преимущество было на их стороне, мы оказались в невыгодном положении.
— Бей его! Бей его!
— Они преградили путь пассажирскому поезду, мешают движению по железной дороге, их преступление заслуживает самой суровой кары!
— Бейте их, бейте их!
Множество парней-хунвэйбинов через окна вагонов повыскакивало наружу и на наше стратегическое противостояние ответило стратегическим контрударом, они стали бить наших сторонников руками, толкать ногами.
Их было много, а нас — мало. Несколько десятков человек окружили нашу группу и устроили побоище.
Некоторые из нас, сломя голову, бежали, другие при избиении звали на помощь отцов и матерей. А кое-кто проявил бесстрашие, стойко сопротивлялся борясь за идею, не побежал, сломя голову и не призывал на помощь своих родителей. Они изо всех сил орали: «Да здравствует председатель Мао! Да здравствует председатель Мао! Ради председателя Мао с радостью примем смерть!», выражая тем самым готовность идти даже навстречу своей гибели.
Когда они, как горох, посыпались из вагонов, я быстро сообразил, чем это пахнет. Находчивость подсказала выход. Я подлез под вагон, перебрался на обратную его сторону и там присел, спрятавшись за колесами. Слышал плач своих собратьев, презирая себя за трусость и малодушие и в то же время радуясь своей прыти, оправдывал и прощал себя поговоркой «рыцарь не станет срамить себя на глазах у всех».
Мои собратья разбежались. Те хунвэйбины, которые «подняв головы, смотрели на полярную звезду», одержали полную победу; они подобно «непобедимым, истребившим всех вредных насекомых», один за другим важно поднимались по ступенькам вагонов.
Начальник поезда дал свисток, из трубы паровоза вырвались белые клубы пара, медленно набирая скорость, поезд тронулся.
Еще одна партия хунвэйбинов отправилась в Пекин...
Я некоторое время растерянно стоял около путей, начиная понимать, что это святое действо, в котором я участвовал, выглядело несколько комично. Оно походило на драму, на шумный спектакль. А еще больше смахивало на трагедию, завершившуюся поражением героев. В то время я еще не слышал ни о каком «Черном юморе» или «Абсурдистах». С позиций сегодняшнего дня те действия несут на себе именно такой оттенок.
Однако я все-таки не был побит. Не получил синяков на лбу, не опухли губы, не выбили зубы. Не текла из носа кровь. Ни одной царапины. По сравнению со своими избитыми компаньонами я без всяких скидок выглядел беглецом, покинувшим поле боя до начала сражения. Да и не знал я, заметили ли это мои друзья. Если только заметили, тогда я пропал. Я сгорю от стыда перед мужской частью хунвэйбинов. Мне, как минимум, будет трудно поддерживать собственное достоинство в глазах девушек-хунвэйбинок. Отныне какую бы «революционность» я не проявил, все равно будет трудно снова приобрести доверие друзей-хунвэйбинов. Это слишком серьезно! В моей душе не было покоя. Последствия, о которых страшно подумать, пугали меня больше, чем нынешние бои боксеров на ринге.
Моя мгновенная находчивость (опять мгновенная находчивость! За время культурной революции я почувствовал, что стал мудрее) подсказала мне решение — я сам нанес себе рану, пустил немного крови. Я обязан был иметь рану, я должен был пролить кровь, иначе меня не поняли бы, я не мог бы дальше оставаться вместе с боевыми соратниками-хунвэйбинами, с «революционерами».
Как раз к случаю на земле валялась дощечка длиной около чжана с вбитым в нее гвоздем, я подобрал ее.
Раньше я читал книжку для детей «Ранение Янь Суна». В ней повествуется о том, как Янь Сун ради того, чтобы оклеветать перед императором другого человека, поранил себя. Он спрятал в рукав кирпич и потом три раза подряд ударил себя по лицу, разбив физиономию так, что из нее полилась кровь. Но Янь Суна, пытавшегося оклеветать человека коварным способом, высмеял старик Коу Чжунь и оставил его в дураках. В трактате о военном искусстве есть глава под названием «коварные замыслы». Там описано, как Чжоу Юй побил Хуан Гэ по так называемому правилу «бить по-настоящему, страдать по-настоящему». А еще в трактате о военном искусстве есть главы «тактика непрерывных ловушек» и «тактика здравого расчета». Чжоу Юй избил Хуан Гэ, избил жестоко, отмерив ему 40 батогов, из-за чего у того кожа отстала от тела, а мясо потрескалось. Это называется «страдать по-настоящему» или «страданием плоти». А бедолага, описанный в повести «История семьи Юэ», для того чтобы попасть в лагерь княжества Цзинь, пытался принудить генерала Лу Вэньлуна, стрелявшего одновременно обеими руками, сдаться, в результате оказался без руки. И Янь Сун, и Гуан Дэ, и бедолага Ван Цзо — все это сделал и ради того, чтобы оклеветать, чтобы добиться победы княжества Сун над княжеством Цзинь, и их страдания оправданны. Что же касается меня, то тоже вроде бы стоило это сделать, а с другой стороны — на кой черт это надо. И все-таки было очевидно, что не пострадать нельзя. Эх! Когда следует пролиться крови, она должна пролиться! Во имя великой культурной революции! «Страдание плоти» — это не цивилизованный прием. Я взял дощечку в правую руку и несколько раз взмахивал ею, примеряясь ударить по левой руке, но так и не смог.
Тогда закрыл глаза, стиснул зубы и, скрепя сердце, наконец замахнулся. Я почувствовал, что гвоздь вонзился в тело, но... никакой боли. Открыл глаза: рука чистая, крови нет. Я думал, что нанес удар, на самом же деле он не состоялся.
Только тогда я осознал, что не хватило мужества. Подумалось, что никогда не осмелюсь на героический поступок. Я не способен на страдания.
Снова закрыл глаза, сцепил зубы, скрепил сердце...
— Н-ну!...— слегка воскликнул я.
На этот раз удача. Потому что я почувствовал реальную боль.
Но глаза я открыл не сразу — интересно, какая же там получилась рана от обыкновенного гвоздя? Опять ни капли крови.
Снова стискиваю зубы, собираю душевные силы, гвоздь не выдергиваю. Семь бед, один ответ. Рванул что есть силы, от боли задрожал всем телом. На руке образовалась большая рана длиной свыше двух цуней, на коже открылось отверстие, из него брызнула кровь.
Несмотря на боль, я был доволен. Отверстие внешне походило на рану, кровь тоже вытекала довольно бойко.
Подумав, я оторвал полрукава и забинтовал им левую руку, чтобы мои компаньоны-хунвэйбины с первого взгляда могли увидеть и содрогнуться.
Меня не беспокоила вытекавшая кровь, я говорил сам себе: чем больше крови, тем лучше.
Поддерживая правой рукой левую, я, как раненый в бою солдат, переваливаясь с ноги на ногу, одиноко ковылял к вокзалу.
Там, за вокзалом, как раз собирались друзья. Они решили, что в беспорядочной схватке меня утащили в вагон, и я находился на грани между жизнью и смертью. У каждого было неспокойно на сердце. А некоторые хунвэйбины даже всплакнули. Как только они увидели меня, сразу обрадовались, окружили, стали задавать всякие вопросы:
— Ай-я-я, как же это тебя угораздило так сильно пораниться? Девушка-хунвэйбинка выхватила сверкавший белизной носовой платок и стала меня перевязывать.
Я, слабо улыбнувшись, безразлично отвечал им:
— Не важно, не имеет значения, немного ножичком пырнули. — Носовой платок тут же пропитался кровью. А девушка, перевязавшая руку, ласково спросила:
— Сильно болит? — она сочувственно смотрела мне в глаза. Она боготворила героя. Я догадывался, что если бы мы были всего лишь вдвоем, она, вероятно, могла бы поцеловать меня. К сожалению, там собралась целая толпа.
Мое честолюбие было удовлетворено сполна.
— Даже ножи пустили в ход? Мы должны притащить сюда всех людей этого союза и сделать так, чтобы впредь не доходило до таких серьезных скандалов!
— Это, конечно, большая неприятность, в каждом вагоне натолкано, как сельдей в бочке, в этом поезде от 3 до 4 тысяч человек! Мы с вами всего лишь малая группа добровольцев, а они — крупный союз!
— Ты не разглядел на повязке того пацана, из какой он школы, какой организации?
— Надо непременно найти подходящий случай, чтобы отплатить за то, что случилось, сегодня!
Мои друзья, включая девушек-хунвэйбинок, тоже получили различные по тяжести ранения. Я сказал:
— Ладно, хватит! Сегодняшний инцидент закончился, и на этом все! Их желание повстречаться с председателем Мао тоже надо понять.
Мои слова возмутили всех моих друзей.
— А мы? Почему не может быть понята наша душевная боль о председателе Мао? Наоборот, за нее нас наказали!
— Их забота о председателе Мао — вранье! А правда в том, что, не заплатив ни гроша, они прогуляются в Пекин!
— Многоуважаемый председатель Мао не может не принять их! Как только они приедут, сразу будут удостоены великой чести приобрести политический капитал, а мы за душевную боль о председателе Мао наказаны, знает ли об этом начальство из Центрального комитета по делам культурной революции? Знает ли об этом многоуважаемый председатель Мао?
— Вот именно! Две газеты одновременно могут опубликовать сообщение о том, что хунвэйбины, днем и ночью беспокоящиеся о председателе Мао, счастливы от того, что были на смотре у великого вождя!
В словах моих друзей звучало крайнее возмущение несправедливостью, унижением, крайнее несогласие с тем нелепым положением, в котором они оказались.
Я сказал:
— Наша душевная боль о председателе Мао — это глубокое чувство к нему, исходящее из наших сердец, наши сегодняшние действия — это проявление самой конкретной, самой большой преданности председателю Мао! Так стоит ли обращать внимание на то, что нас побили, что пролилась кровь? Не надо роптать по мелочам!
На это мои друзья никак не отреагировали. Было видно, что покорил их своим политическим сознанием.
Несколько парней-хунвэйбинов с затычками в носах, сделанными из бумаги для остановки течи крови, присоединились к моим словам:
— Правильно, правильно, боль за председателя Мао необходима, пусть даже председатель Центрального комитета по делам культурной революции не будет знать об этом, однако наши сегодняшние действия будут вписаны в историю хунвэйбинов!
— Кто напишет?
— Мы сами! Честно впишем страницу в анналы истории!
И тут, похоже, все мы в том, что были побиты, получили ранения, пролили кровь, увидели великолепие, почувствовали гордость за себя, перед нами собственный образ озарился ореолом славы...
Когда я возвратился домой, мать, схватив мою раненую руку, горько заплакала. У одних спрашивала, нет ли лекарства «эрбайэр», у других просила жаропонижающий порошок, боялась, как бы у меня не было столбняка.
Она без умолку причитала:
— Каждый, кто думает о председателе Мао, пусть едет в Пекин! Председатель Мао с удовольствием разрешил им приехать, зачем же вы задерживали поезда, мешали другим людям!
— Мама, ты не права! Многоуважаемому председателю Мао уже много лет, разве постоянными смотрами он не повредит здоровью? Организм многоуважаемого председателя Мао надрывается от перегрузок, кто поведет дальше корабль китайской революции? Кто поведет весь китайский народ к коммунизму? Две трети человечества в пучине страданий, председатель Мао и для них путеводная звезда!
— Да, это так, — сказала мать, слушая меня и кивая головой в знак согласия с моими доводами, — сейчас в каждом доме, в каждой семье есть портрет председателя Мао, их можно купить на любом углу, в любом месте. Когда думаешь о председателе Мао, взгляни на его портрет, ты яснее ясного увидишь его знакомый подбородок, лоб и ту родинку долголетия. До Пекина тысяча ли, их не перепрыгнешь, приходится лишь издали смотреть на одинокую фигуру многоуважаемого, стоящего на трибуне Тяньаньмэнь. Смотр за смотром — это же тяжелый труд, разве допустима такая большая нагрузка?!
Выговорившись, мать бросила взгляд на наш домашний портрет председателя Мао, висевший на стене. В том взгляде ясно просматривался элемент заискивания. Как будто то был не портрет Мао, а сам председатель собственной персоной. И сказанные ею слова были предназначены не мне — ее сыну, а в расчете на то, что их услышит Мао.
С портрета председатель Мао нам вечно улыбался...
ГЛАВА 13
Через три дня я вместе группой друзей-хунвэйбинов сел в поезд, отправлявшийся в Пекин.
Один из друзей сказал:
— Ведь некоторые не искренне болеют о председателе Мао, и какая надобность в том, чтобы мы прислушивались к тому, что советует Центральный комитет по делам культурной революции? В конце концов, их советы — это еще не слова председателя Мао, возможно, председатель Мао сам хочет, чтобы на его смотр в Пекин приезжало как можно больше хунвэйбинов. А мы, как олухи, болея за него, на самом деле, возможно, как раз изменяем истинным желаниям председателя!
Все единодушно сочли, что в словах этого парня есть доля истины, и решили ехать в Пекин. Что касается наших революционных действий по блокированию поездов, идущих в Пекин, то об этом все молчали, как будто набрали в рот воды, не упомянули ни единым словом. Каждый счел, что был побит, получил ранение или пролил кровь по недоразумению, когда «хороший человек побил такого же хорошего».
Группа хунвэйбинов, создавшаяся из хунвэйбиновских организаций нескольких школ, так же, как и мы три дня назад, тоже легла на рельсы и стала препятствовать отправлению поезда.
Его задержали на 3–4 часа, повторилось то же, что и тогда: между хунвэйбинами, находившимися в поезде, и группой «увещевателей» сначала началось «стратегическое противостояние», которое перешло в «стратегическую контратаку». Один из группы «увещевателей» тоже допустил глупость, сказав: — Боевые друзья-хунвэйбины, Пекин — столица нашей страны, столица нуждается в покое. Председатель Мао управляет всей великой культурной революцией, днем и ночью у него масса дел, мы не должны ехать в Пекин и добавлять ему лишние хлопоты!..
— Чепуха! Председатель Мао учит нас: не надо бояться беспорядка в Поднебесной. Беспорядок — это бунт пролетариата против буржуазии, а значит — революция, только в условиях беспорядка пролетариат может отбить бешеные атаки буржуазии, добиться великой победы в культурной революции! Знаешь ли ты, что председатель Мао опубликовал это свое новейшее и высочайшее указание?
— Пекин — это арена классовой борьбы и борьбы линий, если мы не поедем, тогда кто же поедет? Слова о том, что столице нужен покой — это чисто демагогический, монархический лозунг! Не стройте нам козни!
— Ты клевещешь, говоря, что наша поездка в Пекин на защиту председателя Мао доставит ему лишние хлопоты, ты не иначе, как реакционер!
Из глав трактата о военном искусстве «Стратегическое противостояние» и «Стратегическое наступление» вытекает важное положение: выжди, когда противник начнет действовать и, выбрав выгодный момент, нанеси удар. Эта тактика почти всегда приводит к победе. Когда события еще не совсем назрели, не предпринимай активных действий, дай возможность противнику высказаться прямо и до конца. Противник успеет за это время сделать одно-два высказывания, к которым при необходимости легко придраться, за них надо немедленно ухватиться и сразу наносить ему первый удар, за которым последуют другие, с таким расчетом, чтобы противник потерял превосходство, а сам ты в невыгодном положении получил преимущество. Действуй с напором, бей до полного его поражения. Этот богатый опыт выработался «революционной» практикой в ходе великой культурной революции во время ведения полемики двух человек или двух разных течений. Когда писали трактат о военном искусстве, тогда еще не могли знать об этом и не дали своего толкования по данной конкретной ситуации. Поскольку на этот счет в нем ничего еще не записано, его надо дополнять.
Полемика сама по себе не решает вопросы. «Оружие полемики не может заменить полемику оружия, материальная сила способна разрушать, только «опираясь на материальную силу». Это известное изречение Маркса хунвэйбины знали назубок.
Хунвэйбины в то время еще не имели винтовок, обычным оружием были кулаки и ноги. Способы вооруженной борьбы находились на начальной стадии. Зрелище не величественное, но посмотреть можно.
Группа «агитаторов» точно так же, как это случилось у нас три дня назад, ведя словесную перепалку, перехватила пути движения пассажирских поездов, всепобеждающая «материальная сила» легла на рельсы, полностью остановив, движение, а потом без оглядки разбежалась во все стороны.
Поезд, тронувшись с места, набрал скорость, колеса мерно стучали по рельсам, а из вагонов лилась могучая песня на слова председателя Мао:
Под буровато-желтым небом, Под шум ветра и дождя Многотысячные отборные войска Форсируют Чанцзян. Там, где тигр присел и дракон свился, Все поднялось вверх дном, Новое побеждает старое, Грядут великие перемены...Каждый вагон был переполнен, на одно место приходилось более двух человек. Вагоны напоминали консервные банки, в которых люди, как сельди, плотно уложены и спрессованы. Ты, я, он — все стояли друг возле друга, и не просто стояли, плотно прижавшись один к другому, а слиплись в единую массу. Многие и вовсе не могли втиснуться в это скопище, стояли на сидячих местах полусогнувшись, прижавшись спинами к стенкам вагонов, ухватившись руками за стойки багажных полок, чтобы не упасть. А на багажных полках тоже сидели люди, втиснувшись в ничтожное пространство между полкой и потолком, не позволявшее им разогнуться. Они скрючили спины и пригнули головы и напоминали собой обезьян. Там, где должно было сидеть два человека, сидело четыре, на трехместной полке умещалось шесть человек. Да и не сидели они, а наполовину стояли полуприсев, образовав своего рода пирамиду и застыв в таком положении. Плотность заполнения вагона еще можно сравнить со снопом пшеницы или риса, связанным крестьянином во время уборки. Тела склонены, как минимум, на 70 градусов. Плечи и головы сжаты между собой. Люди, находившиеся на полках, вызывали большую жалость, чем те, кто находился в проходах. Те, по крайней мере, могли стоять ровно вертикально. Все окна вагонов были раскрыты настежь, но и это не помогало. Люди задыхались от запахов выдыхаемого воздуха и собственного пота.
И все-таки совсем неплохо: не истратив ни копейки, прокатиться в Пекин и встретиться с председателем Мао.
Я стоял в проходе, прижавшись спиной к спине другого человека, может мужчины, а может и женщины. Сколько часов ехал в таком положении, не знаю. Если бы я вздумал повернуться и взглянуть назад, то это было бы равнозначно совершению беспримерного подвига, я не мог повернуть голову ни влево, ни вправо. Думаю, что тот, кто стоял у меня за спиной, тоже не знал кто я — мужчина или женщина. Но спина у него была мягкая, и мне было чертовски удобно. Наверно, то был упитанный человек, не какой-нибудь там доходяга. Не важно мужчина он или женщина, главное — у меня удобная опора. Правда, на моей спине не было такого толстого мясного слоя, как у него, и мне было несколько неловко перед тем человеком. Положение для себя мы не выбирали, кого как втолкнули, тот так и стоял, застыв на месте. Будем считать, что та спина оказалась в невыгодном положении.
Лицом к лицу, грудью к моей груди оказалась девушка-хунвэйбинка. Раньше я ее никогда не видел, наверно, не из нашей школы. Был конец сентября, одеты все были легко. Ее спина упиралась в спину высокого человека. Ее полная и мягкая грудь так давила мою, что я просто задыхался. Кроме того, это вызывало смятение, смущало душу, вызывало сердечный трепет. Я чувствовал полный комфорт. К тому же, я не так давно прочитал тот порнографический «Молитвенный коврик», и в голове невольно возникали недобрые мысли, осуждаемые даосскими учеными.
Внешне она без сомнения была красива, да только мне стыдно было смотреть на нее. Такие красивые способны вызывать восхищение. Круглое, как яблоко, лицо, узкие глаза и изогнутые брови. Волос короткий, вровень с ушами, ничем не прикрытый белоснежный затылок, пунцовые щеки. Это, наверно, от жары, а может быть, от непривычки стоять, плотно прижавшись грудью к мужчине. А я, хотя и чувствовал себя очень комфортно, но в то же время и непривычно. Такую продолжительную близость к девчонке я переживал впервые в жизни. Кто-то сказал бы: наслаждался. Только с незнакомым человеком можно чувствовать себя настолько комфортно и в то же время — дискомфортно. Однако посторонний человек и придира не могли исключить возникновения в моем мозгу всевозможных недобрых мыслей. Поэтому и сам я покраснел как вареный рак. По росту мы с ней были почти одинаковы. Наши лица сблизились до предела. Если бы их еще чуть-чуть сдвинули, то они слились бы в одно. Могли ли мы в такой ситуации не смотреть навстречу друг другу, прямо глаза в глаза? Единственно, чего я тогда боялся, так это, как бы она не разглядела в них мои потайные мысли. «Если помыслы чисты, то нечего бояться». Ничего не поделаешь, в моем сердце не было «искренности», а что было в моих глазах, я и сам не знал. Для того, чтобы она не угадала мои недобрые потайные мысли, я отводил глаза в сторону в надежде скрыть их. Избегал смотреть ей прямо в глаза.
Когда на поворотах вагон клонился в сторону, спина, на которую я опирался давила на меня и мое лицо прилипало к ее лицу. В таком склеенном положении мы оставались несколько минут, она хотела увернуться, да некуда. Я тоже хотел не прилипать к ней, но ничего не мог поделать. Когда поезд делал поворот в обратную сторону, все в вагоне клонились в противоположном направлении и мое лицо начинало удаляться от нее. Ну а ее лицо, наоборот, — клониться в мою сторону. Эти прикосновения к ней для меня не были безразличны. Владыка небо и Владычица земля, то было действие инерции, но оно пришлось мне по сердцу, только не попрекай меня за это. Что касается ее, то она и смущалась, и не выражала неудовольствия. Как говорится, «грела руки на чужой беде», пользуясь сложившимися обстоятельствами, она прижималась к лицу мальчика, а я сомневался, что могу прийтись ей по душе. Я в свои 17 лет думал, что мой мальчишеский внешний вид не может заинтересовать девочек.
Наконец раскачивание поезда прекратилось. Она запрокинула голову назад и своими узкими глазами уставилась на меня, смущенно улыбнувшись, сказала:
— Так прижала тебя, извини, пожалуйста.
Я тоже ответил ей улыбкой и сразу посерьезнел — на воре шапка горела:
— Ничего, ничего, только что... но я не умышленно! Мои слова рассмешили ее:
— Разве я сказала, что ты умышленно, ты почему оправдываешься?
Я смущенно сказал:
— Да нет, не оправдываюсь, а поясняю.
— Есть ли в этом необходимость при такой тесноте? — спросила она искренне. Я тем не менее в этой искренности уловил некоторое притворство. Я тоже, делая вид, что совершенно искренен, ответил:
— Если ты говоришь, что нет необходимости, тогда будем считать, что так и должно быть.
Когда мы разговаривали, наши груди плотно прижимались одна к другой, а головы, насколько это было возможно, мы откинули назад. Шея от этого очень уставала. Что касается груди, то тут нельзя было ничего изменить. А вот отклонить голову назад как можно дальше — это был единственный способ выразить взаимное уважение. Ну найти место головам еще куда ни шло, а самым трудным оказалось разместить наши руки. Они были стиснуты между нашими и чужими туловищами так, что нельзя было ими пошевелить. Стоило чуть двинуть рукой и ты натыкался на другую, хозяин мог подумать все, что угодно.
Неожиданно с багажной полки свалилось несколько «обезьян».
— Ой, сломал шею! — пронзительно вскричал кто-то. В вагоне переполох.
— Ты все время держишь голову, откинувши назад, не устал? — спросила она.
— Устал, — ответил я.
— Я тоже, — призналась она, больше не в силах держать ее в таком положении. Качнула ею сначала влево, потом вправо.
Моя шея тоже до того онемела, что я вынужден был возвратить ее в нормальное положение и по ее примеру покачать влево и вправо, чтобы расслабить мышцы.
— Хорошо? — спросила она потихоньку. Горячие маленькие руки обхватили мою поясницу.
— Можно, можно, — сказал я, смеясь.
Мне тоже очень хотелось обвить ее талию своими руками. Они от плечей до локтей были так плотно сжаты, что уже затекли. Но я не осмелился на это. Как будто существовал нерушимый священный обет, который сдерживал меня. Казалось, если я нарушу его, то случится беда.
— У тебя нет рук? — спросила она с насмешкой.
Я, не долго думая, услышав слова поощрения, правда, чуть поколебавшись, обхватил ее талию своими руками.
Теперь наши лица снова сблизились, груди соединились, каждый обнял другого как близкие влюбленные.
Ее талия такая хрупкая! Такая мягкая!
— Вот так намного лучше.
— Да, намного лучше.
Ее облик был такой целомудренный, такой непосредственный и добрый, что я проклинал себя за то, что позволил себе подумать о ней недоброе.
Потом она разговорилась, рассказала о себе. Оказалось, что она ученица средней женской школы г. Харбина, ее отец и мать — военные. Единственная в семье дочь, она от рождения была любимой, изнеженной.
— Я тайно убежала из дома, оставила только записку, в которой сообщила папе и маме, что уехала в Пекин. Я с малых лет жила и выросла в Пекине у бабушки, дедушка и бабушка горячо любят меня! Когда я неожиданно явлюсь к ним, они будут рады до смерти!..
Она как будто снова почувствовала себя маленькой девочкой, как будто сделала меня своим старшим братом, как будто знакомство между нами началось не сейчас, а уже давно. Она не стесняясь положила голову мне на плечо, приставив губы к моему уху, без умолку говорила и говорила.
— Когда мы приедем в Пекин, ты вместе со мной тоже будешь жить у моей бабушки, ладно? Я скажу дедушке и бабушке, что ты мой соученик, они непременно тепло примут тебя! Пекин я знаю отлично, побывала во всех его уголках! Я свожу тебя на экскурсию в Военный музей, побываем в Историческом музее, сходим в Бадалин, Сяншань...
Она была прекрасна!
В душе я благодарил тех людей, которые во время посадки в вагон невольно свели нас вместе.
Поездка по железной дороге во время великого шествия оставила у меня тяжелое впечатление: кроме тесноты, была еще и жажда. От начала до конца пути я ни разу не видел в вагоне проводника. Никто не позаботился о том, чтобы обеспечить водой хунвэйбинов, отправлявшихся в столицу на прием-смотр «Бунт — дело правое», проводившийся председателем Мао. Не было никакой возможности добыть воду. Даже в сливном бачке туалета не было ни капли воды. Туалеты всех вагонов не работали, а находчивые люди, запершись в них изнутри, создали себе персональные кабинеты. Когда прибывали на станции, никто не объявлял их названия. На всем пути, как на малых, так и на больших станциях не продавали ничего съестного. Как будто хунвэйбины — это хунхузы, грабители. Не продавали даже эскимо на палочке. Казалось, они все сговорились уморить жаждой эту партию хунвэйбинов председателя Мао. На некоторых станциях были водопроводные краны, но из вагонов выскакивали, чтобы утолить жажду, лишь те хунвэйбины, которые находились вблизи от дверей. Столпившиеся у таких кранов люди наперебой подставляли рот под кран, хватали несколько глотков воды и торопливо убегали назад. Те, кто находился вдали от выхода, тоже хотели бы сойти, да не решались. Потому что сойти то сойдешь, а вот удастся ли подняться в вагон снова, было крайне сомнительно.
Я и она, прилипнув друг к другу, стояли в проходе вагона, не помышляли разъединяться. Только через окно смотрели на тех, кто выпрыгивал из вагона. Они, как куры, выращенные в инкубаторе, полуприседали, разминали шеи, проталкивались к открытому водопроводному крану, прикладывались к нему ртом и с шумом втягивали воздух, облизывая его губами.
Глубокой ночью мы приехали на станцию Чанчунь. Несколько сот человек, одетых в военную форму без знаков различия, с повязками хунвэйбинов шириной в половину чи на рукавах, четкой шеренгой выстроились на перроне вокзала. В руках — большие дубинки, на головах — ивовые каски, вид воинственный. Кроме того, на перроне стояла громкоговорящая радиовещательная машина. Через мегафон внушительный металлический мужской голос вещал: «Мы — бойцы Чанчуньской коммуны! Со вчерашнего дня мы взяли под свой контроль железнодорожную станцию. Сейчас вы должны прояснить ситуацию, объяснить, кто вы такие: «небесные» или «земные».
Было очевидно, что если мы, едущие в поезде люди, ошибемся с ответом, то нечего и думать, чтобы наш поезд пропустили через станцию Чанчунь.
Однако в поезде, похоже, ни один человек не знал, кто такие «небесные» и кто такие «земные». Или это две ветви одной партии, или противостоящие друг другу партии, и на чьей стороне стоит Чанчуньская коммуна: на стороне «небесных» или на стороне «земных»? Слава Чанчуньской коммуны нам была известна давно. Они использовали единственную в провинции Цзилинь пожарную машину с лестницей, но не для тушения пожаров, а для захвата многоэтажного здания Высшей школы. Сцена борьбы, изображенная в уведомлениях, была потрясающей. Говоря нынешним языком, потрясений и волнений было по горло. А в итоге обе стороны понесли урон, ни одна из них не добилась успеха, зато дорогостоящая пожарная машина сгорела, так же как и сгорело четырехэтажное здание Высшей школы...
Но с какого же дня и с какого часа они разделились на «небесных» и «земных»? Харбин и Чанчунь самые близкие друг к другу города, и когда великая культурная революция, вступила в этап «вооруженной борьбы», то было известно, что события стали развиваться бурно и стремительно, на городской стене едва успевали сменять имена «верховных правителей». Они мелькали, как в калейдоскопе. Сегодня «главнокомандующий» Чжан разбивает «главнокомандующего» Ли, завтра Ли побивает Чжана, послезавтра «главнокомандующий Чжан и Ли, объединившись, уже бьют «главнокомандующего» Чжао, доходило до того, что персонажи, заклейменные, как хамелеоны, иногда не успевали перекрашиваться, не успевали покинуть реакционный лагерь и переметнуться в прогрессивный, не успевали обратить оружие против своих и перейти на сторону врага.
Ни в одном вагоне не было человека, способного ответить на поставленный вопрос.
Радиовещательная машина в виде сидящего льва была похожа на сфинкса. В ночной темноте свет фар машины, как огромные глаза, пронизывал поезд, ожидая нашего ошибочного ответа, чтобы потом ринуться на него и разнести в клочья. Но особый страх нагоняли на нас те несколько сот «рыцарей», стоявших с дубинками в руках и хмуро посматривающих на нас из-под ивовых касок. Это было отборное и хорошо вооруженное войско, мы же представляли собой безоружное и неорганизованное сборище. Кроме того, мы были оторваны от родной земли, находились в пределах их территории. В случае штурма они могли быстро получить большое подкрепление, и если нас не истребят, то это будет чудо!
В нашем вагоне стояла мертвая тишина, люди в тревоге плотнее прижались друг к другу. Думаю, что и в других вагонах тоже не могли не чувствовать себя в смертельной опасности.
Даже паровоз, казалось, испугавшись, перестал пускать пары.
«Сфинкс» нетерпеливо в повышенном тоне сделал предупреждение:
— Вы должны дать ясный ответ, кого вы поддерживаете: «небесных» или «земных»? Даем вам три минуты на размышление! Если через три минуты вы не ответите, мы вытолкаем поезд со станции Чанчунь!
Она сказала мне:
— Возьми на себя инициативу, ответь им!
— А что отвечать? Я ведь тоже не знаю, на чьей стороне Чанчуньская коммуна, то ли они «небесные», то ли «земные», — ответил я, думая про себя, что пусть лучше возглавит это дело кто-нибудь другой.
— А ты не отвечай напрямую, ты прокричи, что мы решительно поддерживаем революционных бойцов Чанчуньской коммуны! — сказала она.
— Ты что, не поняла? Они требуют, чтобы мы ответили четко. Ты что, не понимаешь смысла слова «четко»? — упирался я.
А она твердила свое:
— Ты честно скажи, что боишься ввязываться в это дело!
Я откровенно признался:
— Да, я боюсь!
Она продолжала подстрекать меня:
— Ты не бойся! Ты выкрикни то, что я сказала, разве они смогут вытащить тебя из вагона?
Подумавши, я понял, что если крикнуть так, как она предлагает, то действительно мне не будет грозить никакая опасность. Однако не хотел так просто повиноваться ей, и спросил:
— Тогда почему ты сама не выкрикнешь?
Это ее рассердило, на лице обозначилось неудовольствие. Ничего не говоря, она выдернула свои горячие маленькие ручки из-за моей поясницы и отгородилась ими от меня, да еще с силой оттолкнула и энергично отстранилась сама, пытаясь отделиться от меня подальше. «Букашка захотела раскачать большое дерево, да не рассчитала силы», — промелькнула поговорка в моей голове. Легко сказать, а вот попробуй сделать. Действительно не знает свои возможности. Про себя я забавлялся этим, на короткое время забыв об опасности, которая оставалась за окном вагона в виде «сфинкса» и нескольких сот бойцов.
Вдруг поезд резко дернулся и медленно пошел назад.
В вагоне по-прежнему стояла гробовая тишина.
— Все пропало, нам нечего думать о Пекине! — сказала она как бы самой себе, многозначительно глядя на меня и давая понять, что она крайне недовольна мною.
В этот момент я наконец осмелел и что есть силы закричал:
— Мы решительно поддерживаем революционных боевых друзей из Чанчуньской коммуны!
Вслед все, кто был в вагоне так же громко прокричали:
— Мы решительно поддерживаем революционных боевых друзей из Чанчуньской коммуны!
Потом уже кричал весь поезд:
— Мы решительно поддерживаем революционных боевых друзей из Чанчуньской коммуны!
Один из бойцов, стоявший на перроне, взмахнул сигнальным фонарем, и поезд остановился. Есть надежда! Обрадовавшись, я стал выкрикивать все приходившие мне в голову лозунги:
«Учиться у боевых революционных друзей из Чанчуньской коммуны!». «Привет боевым революционным друзьям из Чанчуньской коммуны!». «Клянемся до конца жизни вести борьбу вместе с революционными боевыми друзьями из Чанчуньской коммуны!». «Вместе к победе!».
«Чанчуньская коммуна велика и могуча! Чанчуньская коммуна легко сметет с лица земли любую силу!».
«Да здравствует, да здравствует, да здравствует Чанчуньская коммуна!». Ну и льстил же я им, ну и мудрствовал, чтобы добиться расположения. Весь вагон, весь поезд следом за мной орали то же самое.
В обстановке наступил переломный момент.
Шух! Шух! Шух!
Несколько сот бойцов Чанчуньской коммуны с дубинками в руках, в ивовых касках, как бы повинуясь беззвучной команде, ровными рядами на три шага приблизились к поезду, дружно подняв руки, отдали честь. Они тотчас как бы стали специальной стражей по нашей защите или почетным караулом, приветствующим нас.
Снова заговорил «сфинкс», мужской голос, в котором недавно чувствовалось величие и непоколебимая твердость, сменился на женский голосок, полный героики, пафоса и энтузиазма:
— Самые, самые любимые боевые соратники хунвэйбины! Большое вам спасибо за поддержку Чанчуньской коммуны! Революционная справедливость на нашей стороне... и на вашей! Марксистская истина на нашей и вашей стороне! Отправляйтесь в Пекин на смотр, проводимый многоуважаемым председателем Мао, сообщите красному солнышку о нашей преданности. Великое революционное шествие в эту ночь, в этот момент соединили вместе наши сердца! Красный дождь по нашему желанию превратится в водяной вал, зеленые горы обратятся мостами! Рядом с тонущими кораблями поднимутся тысячи новых парусов, вместо больных деревьев вырастут десятки тысяч Дереьев и Весен. А теперь давайте вместе громко провозгласим следующие лозунги:
«Да здравствует революционное великое шествие!».
«Все истинные левые хунвэйбины, объединяйтесь, доведем до конца великую пролетарскую культурную революцию!».
«Разгромим «небесных»! разгромим, разгромим! Решительно разгромим!!».
«Разгромим «земных»! Разгромим, разгромим! Решительно разгромим!!». Все ясно! Оказывается они поклялись вести до конца жизни борьбу с «небесными» и с «земными»! Если бы я, проявив инициативу, высунулся с выкрикиванием призывов и ошибся, то нам без сомнения пришлось бы испытать массу неприятностей.
Еще не так давно город Чанчунь и Чанчуньская коммуна были под единым управлением. Теперь там уже верховодили три противостоящих главаря, готовых перевернуть небо и опрокинуть землю. Возможно, когда мы будем снова проезжать Чанчунь, возвращаясь со смотра у многоуважаемого председателя Мао, у них будет такая же обстановка, какая была в эпоху Воюющих царств.
Когда прекратились выкрики лозунгов, которыми с энтузиазмом руководила героиня, бравые рыцари опустили свои дубинки, в каждое окно вагонов стали забрасывать листовки, наказывая, чтобы мы ради них отвезли их в Пекин и разбросали по всем улицам столицы. Они крепко и горячо пожимали руки тем, кто стоял у окон, выражая чувства нежелания расставаться с боевыми друзьями, отправляющимися в дальний поход.
— От нашего имени передайте многоуважаемому председателю Мао наши пожелания вечного долголетия!
— Возьмите эту повязку хунвэйбина Чанчуньской коммуны и прикрепите на рукав многоуважаемого председателя Мао!
— Передайте руководителю Центрального комитета по делам культурной революции нашу непоколебимую волю к борьбе, скажите, что бойцы Чанчуньской коммуны клянутся до конца жизни сосуществовать с городом Чанчунь.
То были очень трогательные чувства. То были очень трогательные слова. Для хунвэйбинов великой культурной революции, особенно зеленых юнцов из средних школ со своими крайне искренними чувствами, было достаточно трех минут, чтобы в корне преобразиться. Пяти минут хватило для того, чтобы подъем достиг высшего накала. А за семь минут они раскалились докрасна.
Их можно сравнить с тонометром: ему была бы только рука, неважно, чья, знай накачивай резиновую грушу и ртутный столбик будет постоянно ползти вверх. Но стоит освободить руку, как этот столбик сразу упадет.
— Бойцы Чанчуньской коммуны... равняйсь! Смирно! Обе фары «сфинкса» осветили вагоны поезда. Почетный караул и «сфинкс» четко выполнили единую команду.
Наконец, состав медленно стал набирать скорость.
— Боевые друзья хунвэйбины, до свидания! Вдали от дома заботьтесь друг о друге, берегите друг друга, как близкие соседи! Позвольте нам включить для вас «Песнь хунвэйбинов»...
«Сфинкс», который десять минут назад готов был растерзать наш поезд, стал очень любезным.
Паровоз под звуки «Песни хунвэйбинов» дал длинный прощальный гудок и ускорил ход.
Мы красные бойцы председателя Мао,
В огне борьбы закаляем сердца,
Нас вооружают идеи Мао,
В вечной борьбе пойдем до конца!..
Во всех вагонах слышались слова этой песни.
Как только поезд вышел за пределы станции, парень-хунвэйбин, державшийся одной рукой за багажную полку и стоявший, как петух на насесте, громко заговорил:
— Прошу тишины! Прежде всего прекратите пение! Слушайте, что я скажу! Ни одной листовки Чанчуньской коммуны не должно оставаться в нашем вагоне! Так как следующая станция Шэньян, а мы не можем предвидеть какая там обстановка и что нас ждет. Если вдруг шэньянская группировка является смертельным противником Чанчуньской коммуны? И тоже контролирует станцию? И если они обнаружат у нас в вагонах такую массу листовок Чанчуньской коммуны, то нам несдобровать!
Все сочли, что его обеспокоенность не напрасна, поэтому без споров и пререканий собрали все листовки, которые везли для того, чтобы разбросать по улицам Пекина, и через окна вагона отправили в ночную темноту.
— А как поступим с повязкой хунвэйбина, которую они поручили нам надеть председателю Мао?
— Какой вопрос, тем более надо выбросить?
— Это, наверно, не очень хорошо?
— Почему не очень хорошо!
— Выбросить, выбросить!
— Согласны, выбросить! Она тоже полетела за окно.
— Это еще не все! — снова заговорил тот же хунвэйбин, — кто в Чанчуне возглавил выкрики? Кажется... ты? — его взгляд пошарил по вагону и, наконец, остановился на мне.
— Я, — признался я с тревогой в душе. Я боялся, что люди, которых я избавил от серьезной опасности, в то время, когда она миновала, превратят свой страх в гнев и выместят его на мне. Возможно, отплатят черной неблагодарностью.
— Ну и что, если он? Я подбила его на выкрики! — вступилась она за меня, очевидно, тоже почувствовав беспокойство, и снова так же, как и я, обхватила мою талию. Я ощущал, что она прижимается все плотнее и плотнее, как будто, если паче чаяния я попаду в беду, то она таким путем защитит меня. Я услышал биение ее сердца, оно гулко прыгало в полной, как резиновая грелка, груди.
— Тогда и твоя заслуга! — снова громко сказал все тот же хунвэйбин, — если бы не эти двое, нам бы не проехать через Чанчунь! Мы, как минимум, должны как-то отблагодарить их?
— Правильно, правильно!
— Поаплодируем им!
И тут все зааплодировали.
Могущественные, считавшие себя пупом земли, хунвэйбины вовсе не были злобными, деспотичными и жестокими смутьянами; человечность, иногда проявлявшаяся в них, тоже была очень приятна. Это правда.
Во время аплодисментов я покраснел, не смог сдержать улыбку.
Она тоже улыбалась.
Ее узкие, вытянутые по горизонтали как рыбий хвост глаза, изогнулись, приняв форму серпа луны, стали сладкими и бесовскими. Все больше прелести я обнаруживал в ее лице-яблоке.
Нас отыскали хунвэйбины из других вагонов, записки самых разных форм и размеров, сложенные и развернутые, короткие и исписанные взволнованными словами, признательности и горячей любви стали поступать к нам. Их передавали в наш вагон с головы и с хвоста поезда, они проходили через множество рук, прежде чем попадали к нам. Их было так много, что мы не управлялись принимать. А тем более прочитывать. Наконец, вообще перестали читать. Я складывал их в ее карманы, она — в мои. То, можно с уверенностью сказать, были самые счастливые минуты. По сей день, вспоминая о них, думаю, что прием, проводившийся председателем Мао, не смог принести мне больше счастливых минут.
Неожиданно, без объявления, в мои руки передали керамический кувшин с водой, который уже побывал в нескольких вагонах, воды в нем осталось меньше половины.
Вода! Водица! Какая радость!
Мой язык настолько высох, что уже не мог смачивать просившие влаги губы.
Сначала я дал попить ей.
Она с легкой усмешкой посмотрела на меня, покачала головой и тихим ласковым голосом сказала:
— Сначала ты попей.
Я настаивал:
— Если первой не попьешь ты, я глотка в рот не возьму! Она послушно откинула голову, слегка сощурила глаза и наполовину приоткрыла рот.
Я осторожно придерживал кувшин у ее губ, медленно наклоняя. Она сделала всего лишь один глоток, подержала воду во рту, не решаясь проглотить, открыла глаза, упрямо качнула головой в мою сторону.
В тот момент она еще больше покраснела. Я думаю, что это произошло не только из-за жары, стоявшей в вагоне. В ее глазах я уловил пристальный немигающий взгляд, каких я не замечал у других девушек.
Этот ее взгляд заставил мое лицо запылать огнем!
Приняв из моих рук кувшин, она также, как и я, осторожно приставила его к моим губам, медленно наклонила. Я тоже, точно так же, как и она, откинул голову, слегка сощурил глаза, наполовину приоткрыл рот.
Совершенно теплая, сомнительного свойства жидкость влилась в рот. Но все же это была вода! В таком поезде она была дороже водки «Маотай».[35]
Я тоже сделал всего один глоток, тоже подержал воду во рту, не решаясь проглотить.
Открыв глаза, я увидел, что она в упор смотрит на меня. Тот ее взгляд я не смогу забыть никогда. Даже сейчас, ровно через 20 лет, когда мне уже не 17, а 37. Для меня великая культурная революция — это как вчерашний день, она всегда в моей памяти. Особенно образ юной девушки из Харбина с лицом-яблоком, с которой я познакомился в вагоне в ходе великого шествия. Он как бы врезался в мое сердце и никак не стирается из моей памяти. Если говорить о чувствах, переживаемых человеком, то, пожалуй, самым драгоценным является, конечно, любовь. Однако чувство, которое еще недостаточно, чтобы назвать его любовью, очень смутное, основывающееся больше на опыте других и не опирающееся на свои собственные до конца понятые чувства, образует такую гамму глубоких душевных переживаний, что на самом деле обладает более длительным красивым блеском, чем любовь. Любовь — это вещь, о которой однажды сказали и начали забывать, которую однажды поняли, но не дали ей поэтического вдохновения; она как бы густой туман, петляющий между двумя горными вершинами, как плавающие по голубому небу тучки, когда туман причудливый, тогда и горы красивые, а когда туман бледный, тогда небо высокое.
Она стала экспонатом выставочного зала великой культурной революции, заключенным в моем сердце.
Я и она держали воду во рту, не решаясь проглотить, глаза каждого из нас говорили не очень ясные для нас, не очень интересные для изучения другими людьми слова.
Если бы в вагоне было не так тесно, каждое наше движение и действие рассматривалось бы слишком откровенным. Но не только мы, а все парни и девушки, знакомые и незнакомые хунвэйбины также, как и мы, были сжаты вместе. То была неразъединимая близость. Поэтому никто не смотрел на мои с нею отношения, как на что-то неприятное глазу.
Она передала кувшин другому человеку.
— Спа-си-бо, мама!.. Поблагодарив ее нараспев, он запел:
Выпей перед дорогой чарку из рук матери
И ты будешь смелым и отважным... Весь вагон покатился со смеху.
Я и она тоже не сдержались от смеха, и вода, что была во рту прыснула наружу. Она выплеснула ее мне на грудь, а мой глоток попал ей на голову.
«Обезьяны», которые сидели на корточках слева и справа на багажных полках и занимали позиции, с которых все было видно, весело загоготали.
Я протянул руку, только что державшую кувшин, чтобы удалить брызги с ее волос.
— Ой, стало лучше, как бы прохладней, — она протянула свою руку, которая лежала у меня на плече, к моей и пожала ее, потом обе руки, как клин, с силой вогнала в промежуток между нами и соседями.
Пальцы ее мягкой руки были раздвинуты, мои — тоже. Наши руки переплелись и сжались.
Поезд, проходя мелкие станции, возвещал об этом свистком и мчался дальше.
Постепенно в вагоне воцарилась тишина. Искусству поспать учиться не надо. «Обезьяны», что сидели на багажной полке, повернувшись в сторону, противоположную движению поезда, склонились в один ряд, каждый повалился на другого, как в детской игре, когда от удара по одному из кирпичей, выстроенных в ряд, все они валятся один на другой. Некоторые вскоре захрапели.
Спали даже те, кто находился в стойке журавля, подпирая спинами полки и удерживаясь за них двумя руками. Их тела в такт поезду покачивались как бы демонстрируя цирковое искусство.
Что касается нас двоих, то мы одной рукой обнимали талии друг друга, вторая рука каждого была сжата в единый кулак, головы, как на подушки, положили на плечи, ухом к уху.
Она и в самом деле заснула. Зато я не спал. Очень устал, но сопротивлялся сну. Мне было не до него — мои губы касались ее щеки. Не в силах сдержать свои чувства, я поцеловал ее бархатную щеку — глаза не открылись, я, как воришка, украл «запретный плод».
Я почувствовал, что та маленькая рука, которая была сцеплена с моей, сильнее сдавила мою ладонь. Ее лицо немного отодвинулось в сторону, как будто во сне уклоняясь от моего поцелуя, и мои губы поцеловали шею, еще более гладкую и нежную часть тела. В то же время она расслабилась, прижалась ко мне.
Я чуть-чуть приоткрыл глаза и увидел, что на ее губах застыла сладкая, чистая улыбка. Кажется, она спала безмятежным сном.
Однако ее маленькая ручка снова сильнее стиснула мою руку.
В вагоне было тихо-тихо. В вырезе платья я увидел ту часть тела, которая находится между грудями и которая волнует мужчин, а также краешек цветного лифчика.
Я сразу закрыл глаза.
Мне представилась маленькая тихая комната, уютная кровать, обнаженная юная девушка — вроде она и в то же время не она. Какой-то юноша стоял перед нею на коленях, целуя ее обнаженное тело. Тем юношей был я, и вроде бы не я. Такая картина, которая возникла в моем мозгу, наверно, прежде родилась в сознании. А может быть сознание здесь вовсе не причем, то была картина, описанная в каком-нибудь произведении иностранного автора и зафиксированная памятью? Даже можно утверждать, что такое могло быть только в зарубежном произведении. И уж никак не в китайском: такое описание почти всегда считалось порнографическим и порочным. Ничего подобного я не встречал в прочитанных мною в те годы китайских книгах. Любовь революционеров и других героев в романах, вышедших из-под пера китайских писателей до шестидесятых годов, была священна и чиста. Никаких чувств и страстей как бы не было. В их изображении любовь — это поцелуй, объятие, пожатие руки.
По прошествии многих лет я снова перечитал «Овода» и, наконец, понял самого себя, каким я был в то время. Когда Феличе узнал Джемму, он душой и телом пережил самую мучительную ночь, и тогда встал на колени перед кроватью той девушки-цыганки, с которой сожительствовал, и у него случился нервный стресс, он долго целовал ее руки. Она очень любила «Овода», но он ее не любил. Хотя иногда испытывал потребность в ее теле, как ребенок, нуждался в ее любви. То были крайние себялюбие и жестокость героической личности.
Я, кто в ту ночь великого шествия стремился добраться на поезде до Пекина, тогда хотел быть выше «Овода» в сотни раз. Так как все мои неправильные поступки, бесчестные похотливые мысли целиком и полностью появлялись потому, что я незаметно по уши влюбился в ту девочку, которую держал в своих объятиях — хунвэйбинку средней школы с короткими волосами, лицом-яблоком и узкими чистыми глазами.
Я не считал, что мои поступки выходят за пределы правил. Я никогда не раскаивался в них. Но сейчас признаю, что тогдашние мои мысли по отношению к ней в действительности были похотливыми. Они не ограничивались рамками спокойной комнаты, уютной кровати, поцелуями обнаженной девочки. Они безнаказанно ширились, разбивая узкие рамки, все сливалось в единый поток: тысячи видений, сотни ситуаций, безумные действия, все хаотично, все без купюр. Их можно сравнить с большим эротическим представлением, смонтированным специалистами. Выдержки из эротических описаний в «Молитвенном коврике» прошли перед моими закрытыми глазами...
Только недавно я узнал, что те четыре желтых брошюры, которые были найдены в куче конфискованных книг и, как величайшее богатство тщательнейшим образом прочитывались каждым из моей команды братьев-хунвэйбинов, относятся к одной из четырех так называемых великих литератур Китая.
Если мои мысли, которые возникли по отношению к ней, сравнить с моими действиями, то эти действия можно отнести к разряду сдержанных, целомудренных и скромных, когда обнимая девушку, мужчина остается спокойным. Для молодого семнадцатилетнего юноши, если он, как я, «имел счастье» во время великой культурной революции от корки до корки прочитать один из четырех шедевров китайской литературы, если он, как и я, прижимал к себе молодую, свежую, как вишенка, девушку, а она понимающе нисколько не возмутилась моей близости, а, наоборот, почувствовала некую радость, переживания этих действий были в десятки, в сотни раз сильнее греха, родившегося в мыслях!
Я сильней и сильней сжимал ее разгоряченную кисть. Все плотнее обнимал ее гибкую, как тростинка, талию. Моя грудь все теснее сдавливала ее полные шары на груди.
Если бы позади меня не было жирной спины человека, о которую я опирался, как о стену, мне кажется, что я ни за что не выдержал бы испытания и рухнул от такого мощного напора. Если бы в вагоне были только я и она, я думаю, что способен был бы, как разбойник, силой лишить ее целомудрия, если бы она даже сопротивлялась.
А теперь хочу поговорить о полах. Поговорить о взглядах на моральные принципы и нравственные нормы хунвэйбинов насчет противоположных полов во время великой культурной революции.
В условиях всеобщей смуты в стране, когда хунвэйбины с помощью Цзян Цин получили поддержку председателя Мао, став «маленькими красными солнышками», в дни, когда хунвэйбины еще почти ничего не сделали, чтобы претендовать на место в истории, взгляды на традиционные китайские моральные принципы и нравственные нормы твердо сохранялись в неизменном виде, будучи прочно законсервированными со времен создания двенадцати заклинаний. Несмотря на то, что весь мир бурлил и клокотал, а пять материков сотрясали громы и молнии, они почти ничуть не пострадали. Они целиком и полностью сохранились и жили в головах поколения хунвэйбинов. Если бы у кого-то родилась мысль о страстном желании и его оправдании, то большинство, в том числе и я, способны были задушить эту «греховную» мысль и вынести себе строгий приговор. Нашлась сила, которая опрокинула хунвэйбинов как героев, не имеющих себе равных на земле, но никто не набрался смелости запустить руку под корсет девушки, которую он любит и которая любит его. Это было бы похоже на то, как без суда и следствия тащат человека к месту казни и расстреливают, как за вопиющее преступление. В этом деле хунвэйбины по отношению к своим боевым друзьям были тверды и бескорыстны. В дни самой блестящей славы хунвэйбинов я не слышал о их причастности к каким-либо любовным событиям, кроме случая с моим соучеником Ван Вэньци.
Представим себе, какое огромное число юношей и девушек хунвэйбинов отправилось в великое шествие по всему Китаю, сколько им пришлось сидеть, соприкасаясь коленями, преклонять головы на плечи других, чтобы подремать, а уж кивков, рукопожатий было несравнимо больше чем сейчас, и тем не менее случаи «схода с рельсов» возникали крайне редко. Я не знаю, была ли в этом деле какая-то взаимосвязь между строгим соблюдением канонов хунвэйбинами и их вдохновением, которое росло с каждым днем.
Однако одно явление все же существовало. В то время, когда хунвэйбины бунтовали, как одержимые, как бешеные проводили культурную революцию, те бродяги и стиляги, которых они враз разгромили, снова постепенно сгруппировались, распоясались и от души занимались развратом. Чем глубже развивалась культурная революция, тем больше хунвэйбинам приходилось распылять «революционные силы» на проведение карательных операций против них. Некоторые многоэтажные дома, сожженные огнем артиллерии во время великой культурной революции, стали пристанищем для бродяг и стиляг. Им не было никакого дела и они совершенно не интересовались «делами государства», нисколько не задумывались над предназначением великой культурной революции. В своих райских кущах они бесшабашно проводили свое время, любовные свидания, там удовлетворялись любовные страсти. Дни, когда хунвэйбины громили старые обычаи и законы, уже ушли в прошлое, теперь им нечего было бояться. Особенно в больших, средних и малых городах, где и революция была на подъеме, и половая жизнь шла своим чередом. Одни — хунвэйбины — как роботы, не наделенные половым инстинктом, клялись довести до конца революцию, а другие — обладающие этим инстинктом — подонки человечества — неслыханно веселились и наслаждались. Позже хунвэйбины принесли свой макрокосм традиционные китайские моральные принципы и нравственные нормы в том виде, в каком они существовали со времен создания двенадцати заклинаний. Эти неизменные принципы они сделали своими. Они боялись нарушать их так же, как и родоначальники человечества, боялись божьего наказания. Если они среди своих людей выявляли нарушителей то могли так же, как говорил Лэй Фэн, воспитывать их «в духе весеннего тепла», воздействовать морально. Но если между двумя людьми возникали половые связи, то независимо от того, кто они — или уже давно полюбившие друг друга — или те, у кого это случилось как моментальный порыв — все равно их рассматривали, как носителей неизлечимой заразы. Обычно их ждала всеобщая изоляция и презрение. Только обладая огромным мужеством, сильным характером, они могли выстоять в условиях такой отверженности, изоляции, равнодушия и презрения к себе. Поколение хунвэйбинов в своих взглядах на пол было само верховным владыкой Неба по отношению к своим «Адамам» и «Евам», всегда были более строги и беспощадны чем библейский всевышний. Некоторые «Адамы» и «Евы» за то, что тайно вкусили «запретный плод», поплатились жизнью. Я не собираюсь давать этому толкование, пользуясь учением Фрейда. Сегодня многим это кажется очень модным. Я лишь хочу сказать, что самая радикальная революционная теория и самый феодальный взгляд на пол как бы связаны одной нитью, связаны с помощью струны, находящейся в голове хунвэйбинов.
Работать в деревне мне пришлось недолго. Там, в одной из рот,[36] которая находилась недалеко от нашей произошел такой случай. В ней в Харбинском отряде «Дагуй» находились хорошо знающие друг друга парень и девушка, закончившие второй класс высшей средней школы, одноклассники 5 Харбинской средней школы, оба боевые друзья-хунвэйбины. Перед отъездом в деревню главы их семей встретились и вместе проводили их, договорились, что взаимоотношения между ними будут строиться, как у возлюбленных. Их родители считали, что уехав в Бэйдахуан на подъем целины, они со временем образуют бэйдахуанскую пару, став мужем и женой, на все лады уговаривали их поддерживать отношения между собой, любить друг друга и помогать друг другу. Надеялись, что при благоприятных обстоятельствах они быстрее поженятся, создадут семейную ячейку и будут жить в мире и согласии. А они — родители — перестанут терзаться за них, обретут душевный покой. Их одежда и домашние вещи перевозились вместе.
Когда приехали в роту, естественно, пришлось разделиться. Масса строгих правил, специально созданных для знакомых, — атмосфера армейской жизни с ограниченным крутом деятельности сделали их жизнь такой, что они не смели открыто проявлять свои любовные привязанности.
В течение дня они имели возможность увидеться всего один раз — на утренней зарядке. И то — издалека и молча. Только после ужина они могли тайно встретиться в укромном местечке, если не было каких-либо общественных мероприятий.
Местом для их тайных свиданий стал берег речушки под названием Гунбилахэ, протекавшей в половине ли от роты.
Если хочешь, чтобы тайна оставалась тайной, о ней должен знать лишь ты сам. Это очень правильные слова. Несмотря на то, что место встреч было выбрано в скрытом уголке, придуман очень остроумный способ связи, в конечном счете все равно «способные» соглядатаи обнаружили «вопрос», тайно выследили, высмотрели, прошли за ними следом по пятам, увидели, как они там обнимались и целовались, до чего они «развратились и опустились», и обо всем этом доложили руководству роты.
Инициативные надзиратели, соглядатаи, сыщики, доносчики — все это грамотная молодежь, бывшие школьные друзья-хунвэйбины. Это те, кто в дни своего могущества вместе громили дьяволов, были неподкупны с любой стороны. И тем более интересно то, что никто не ставил им эту задачу. Никто из них не был также подлым, мелким человеком. Они, боевые друзья, решили, что хунвэйбины изменили принципам морали и добродетели. По их взглядам революционная молодежь должна быть как бы бесполой. Любовь — это демонстрация сексуального влечения. А секс и революция несоединимы также, как вода и огонь.
В роте, конечно же, придали очень большое значение «разврату и падению» двух грамотных молодых людей. «Буржуазные» замашки и настроения со временем могут превратиться в бедствие, результаты которого невозможно представить.
И тогда надзирателей, соглядатаев, сыщиков и доносчиков поставили в пример и объявили им благодарности.
А пару влюбленных подвергли критике. Критика была строгой и суровой.
От слов «тайные свидания», «объятия», «поцелуи» осведомленные женщины опустили головы, демонстрируя свою безгрешность. Осведомленные мужчины реагировали бурно, доказывая свое благородство. Особенно стыдно было паре влюбленных, они чувствовали себя хуже, чем бандиты. Потом искаженные слухи о грамотной молодежи стали быстро распространяться, первыми они дошли до нашей роты, так как она отделялась от той, где находилась эта пара влюбленных, всего лишь рекой и была хорошо видна. Вскоре эти слухи расползлись по нескольким окрестным ротам. А еще немного погодя о них уже трезвонили в каждой роте полка.
Позже в каком бы месте не появлялись любовные парочки, это непременно были те места, где находилась грамотная молодежь, как будто на их одежде были написаны иероглифы «красный».
Такие парочки влюбленных оказывались в центре внимания общественности, которая, как стихийное бедствие, обрушивала на них свои воспитательные меры по вопросам морали и нравственности.
Местные старые рабочие и служащие в большинстве своем не доверяли «искаженным слухам», придерживались очень великодушной позиции, даже сочувствовали им и переживали за них. Простые люди про себя думали: но ведь это же парни и девушки, боевые друзья-хунвэйбины, которых мы хорошо знаем.
За время, прошедшее с тех пор и по сей день, я часто задумывался над таким вопросом: почему китайские самые феодальные и самые ханжеские взгляды на половой вопрос в среде самого «революционного» поколения — хунвэйбинов — сами по себе развились до аскетизма? Почему в возрасте, когда в их собственных сердцах пышно расцветают чувства любви, они, можно сказать, не мученически переносили духовную пытку, а почти осознанно выполняли обет аскетизма? Не была ли их враждебность к людской любви своего же поколения и ее попрание подсознательным сопротивлением, что в те годы они сами не могли понять? Если это увязать с традиционной культурой, то это будет притянуто за уши. Если заключить, что то была хунвэйбиновская верность, то будет слишком метафизично. Возможно им выпала такая доля: с одной стороны, все громить, а с другой стороны, — жестоко обращаться со своим поколением? Они были похожи на «затравленного волка», талантливо созданного литератором Хай Саем, не так ли?
Образ «затравленного волка», созданного Хай Саем, как я думаю, будет как раз то определение, которое больше всего соответствует китайскому поколению хунвэйбинов. Воплощенная в них человеческая природа на самом деле проявилась в крайне жестокой революционности поколения хунвэйбинов, воплощенная в них волчья свирепость явилась именно той человеческой натурой, которая в искаженном виде вошла в поколение хунвэйбинов. Все перевернулось. Вроде бы божества и вроде нет, вроде люди и вроде нет. Слова Хай Сая «затравленные волки» можно полностью заимствовать для того, чтобы приблизительно обозначить эпоху хунвэйбинов. Хунвэйбины считали, что они богохранимое воинство, призванное спасти человечество, но их пуповина оказалась связанной с грешным миром, которую они не сумели разорвать. Хунвэйбины также считали себя истинными людьми, обладающими семью чувствами и шестью страстями, то есть всеми человеческими эмоциями, но великая культурная революция подняла их так высоко, что они уже пошли по ложному пути, им самим уже трудно было спуститься вниз с легендарной нирваны. Заставить самих осознать, что пора им стать обыкновенными людьми, было труднее, чем уговорить море успокоиться. Сами они уже не были способны сделать это. Только потом жизнь помогла им отступить.
Финал любовной пары, о которой я говорил, оказался трагическим. Девушка воспользовавшись родительскими связями, перевелась в Дацин, но сердце не зарубцевалось и в конечном счете нервы сдали. Она выбросилась из окна второго этажа больницы, пытаясь покончить жизнь самоубийством, однако насмерть не разбилась. Позвоночник раздробился на несколько частей, но она не умерла, живет по сей день, только стала живым трупом, ее тело в нескольких местах скреплено трубками.
А того парня еще до ее отъезда с командира взвода разжаловали до рядового бойца и послали разнорабочим в столовую. Когда она уехала, он каждый день ходил, как в воду опущенный, похоже у него помутилось сознание, он замкнулся, онемел, как камень.
Во время уборки урожая в роту приехала партия знакомых из Пекина. Одну из девочек этой группы определили в столовую. Ему часто приходилось работать вместе с ней. Он раскатывал тесто, она делала пампушки. Но при этом почти все время молчали. Ему ни с кем не хотелось разговаривать. Она, видя его хмурое лицо, боялась первой заводить с ним разговор.
Однажды они вместе работали в ночную смену, готовили пищу для трактористов и комбайнеров.
Он молча, с удрученным видом, раскатывал тесто, да так нажимал на скалку, что стол раскачивался, казалось, что он хочет развалить его. На глазах у него были слезы, они капля за каплей падали на стол.
Он тогда получил из дома письмо и узнал о несчастье своей подруги.
Та девочка из Пекина встревожилась и испугалась, как можно осторожнее спросила его:
— Что с тобой?
И вот тогда, обхватив голову руками, пряча лицо, он излил свое горе.
Он рассказал ей о своей любви...
Она высказала ему свое глубокое соболезнование...
В ту ночь он нашел человека, который смог понять его. Он очень нуждался в таком человеке...
Он доверил ей свой дневник. В нем он писал о своей любви, о позоре и унижении, которые она ему принесла, о ненависти ко многим людям, которые его опозорили....
С той ночи отношения между ним и пекинской девочкой улучшились. Всего лишь улучшились и не больше. Кроме нужды в понимании и получении этого понимания, кроме необходимости сочувствия и получения сочувствия, кроме сострадания, никаких других более сложных взаимных отношений у них не возникло. По его мнению, понимание, сочувствие и сострадание честной девочки было достаточной точкой опоры для того, чтобы жить дальше. Она, по ее представлениям, уяснила, что все это важно для него, и, будучи по природе честной, с превеликим удовольствием играла роль святой Девы Марии.
При людях они по-прежнему никаких разговоров не вели. Когда один раскатывал тесто, а другая лепила пампушки, они тайком обменивались записками. Она писала ему успокаивающие слова, он в своих записках выражал слова благодарности. И все. И больше ничего.
Потепление в их отношениях и заметили, и обратили на это внимание, и взяли под наблюдение, и донесли о них.
Прежде всего руководство роты вызвало ее на беседу, указало ей на то, что у него плохое поведение, что он совершил «ошибку в жизни». Вынуждали ее разоблачить его и донести на него. Она не согласилась ни разоблачать, ни доносить. Тогда они провели с ней «трудную» идеологическую работу и критику с целью «излечения и спасения» человека. Она плакала. И в конечном счете вынуждена была отдать им дневник и записки, которые он ей писал...
На общеротном собрании принародно огласили выдержки из его дневника. «Растленные» настроения буржуазной беспомощности, которые тогда увидели в дневниковых записях, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы встречаем сегодня в программах телевидения, — всякого рода фестивалей, песенных конкурсов в исполнении новых красивых девиц.
Но в те годы это было неопровержимое доказательство идеологического преступления. Достаточное для того, чтобы любого человека превратить в «подлого подонка» с мерзкой душой.
Она принародно рассказала о том, как была втянута в процесс перетягивания ее на свою сторону и тлетворного влияния на нее...
Так святая Дева Мария продала того парня...
Нам не к чему еще раз давать оценку методам работы руководства роты. А вот что касается всей грамотной молодежи этой роты, а именно: позиции боевых друзей-хунвэйбинов, которые в школьные годы плечом к плечу вели совместную борьбу, то здесь есть особая необходимость показать ее читателям, пусть их возмущение поднимется до высшего предела. Они считали, что его мораль деградировала до такой степени, что ее уже невозможно излечить никакими лекарствами. Они считали, что он опозорил само слово «хунвэйбин». Их ожесточение в критике дошло до того, что его называли не меньше, как модными в те годы словами «идущим по капиталистическому пути». На самом деле, то уже была не критика, а объявленная ему война, его разили живым словом и пером.
Под мощным давлением боевых друзей-хунвэйбинов, плечом к плечу с которыми он в те годы вел борьбу, в роте публично объявили ему наказание, которое полагалось за самый большой проступок...
В тот же день, во второй его половине, у входной двери в столовую он колуном зарубил ту девочку из Пекина...
Военный суд полка приговорил его к смертной казни...
В моей роте одна знакомая из Шанхая однажды во время послеобеденного отдыха соседке по кровати шепнула: «Вот бы сейчас полежать в объятиях молодого паренька!».
Эти слова, конечно же, были доложены.
И, конечно, было проведено собрание критики. После этого, когда знакомые парни, встречали ее, они не хотели смотреть ей в глаза, а тем более разговаривать с нею. Ее выбросили, как рваную туфлю. Я тоже относился к ней так же, как и остальные.
Однако после работы, сменив на усталом теле рабочую одежду на свою, часто подобно ей, думал: «Эх, как было бы хорошо сейчас прижать к себе какую-нибудь девушку!».
Это было естественное желание.
Каждый раз, когда невольно возникали такие мысли, я чувствовал страх от того, что душа моя пришла в упадок. Проклинал себя за «грязные мысли». Презирал себя так же, как ту знакомую из Шанхая.
То было искреннее презрение.
То не было раздвоением личности. Как раз, наоборот. То было единство двух реальностей. Так называемое раздвоение — это болезненное состояние психики. Туман и плесень аскетизма в мозгах хунвэйбинов — это многоцветье их мечтаний и стремлений. Это был тип поколения людей, стремившихся «превзойти самих себя». Такое сознание, идущее в разрез с первородным грехом, в те годы на самом деле уже постепенно ослабевало и отмирало. Если бы не произошел драматический поворот в событиях периода великого шествия, они, наверно, на всю жизнь остались бы в положении «не то святой, не то человек», превратившись в многомиллионную свору «затравленных волков». В те годы головы всех китайцев окутывал туман аскетизма. Он стал моделью для каждого человека, мечтавшего честно, от души воспитать в самом себе революционную смену, стремящуюся «быть лучше себя». Природная человеческая поэзия и первородный грех в те годы могли зародиться в сознании только тех людей, у которых недоставало «революционных идеалов».
События 13 сентября прежде всего политически пробудили подавляющее большинство китайцев. «Революционные идеалы» враз разрушились, вслед за этим развеялся туман аскетизма. Поколение хунвэйбинов слетело с высоты своего положения, превратившись в прах, проснувшись от иллюзий «культурной революции», оно, наконец, по-новому, под человеческим углом зрения взглянуло на движение, которое вначале расценивало, как движение, обладающее эпохальным значением, и в которое оно бросилось очертя голову. Только тут хунвэйбины поняли, что не благодаря своим усилиям они взобрались на такую высоту, а огромный шар, имя которому «культурная революция», вознес их в высь поднебесную. Только когда они увидели кровоточащие, рвущиеся наружу людские души, только тогда импульс природного вдохновения и первородного начала заставил их снова понять, что главным из главных является человечность. Впоследствии, когда между «породнившимися» людьми возникали интимные отношения, приводившие, по их понятиям, к падению морали и нравственности, они, проводя в жизнь примитивный «революционный идеализм», давали им бой, компенсируя потери, которые они понесли, не удовлетворив свои плотские желания.
Ну ладно, хватит об этом, позвольте мне — хунвэйбину тех лет оставить сегодняшнюю исповедь и оторваться от рассуждений о половых нравах, вернуться в поезд, направлявшийся в Пекин с участниками великого шествия.
Поезд прибыл на станцию Шэньян, где мы увидели совершенно иную картину. Неизвестной нам принадлежности хунвэйбины расставили на перроне станции три длинных ряда столов, на которых лежал хлеб, стояли напитки, возвышались горы фруктов. Держа в руках мегафоны, они перед каждым вагоном выкрикивали:
«Боевые друзья хунвэйбины, счастья вам! Выходите, пожалуйста, из вагонов, перекусите, попейте, возьмите с собой! Все бесплатно! Надеемся, что подкрепившись пищей и утолив жажду, вы с приподнятым настроением явитесь на смотр к многоуважаемому председателю Мао!..»
В нашем вагоне все нуждались и в хлебе, и в напитках, и в фруктах. Мы уже давно жаждали попить и поесть.
— Боевые друзья хунвэйбины, выходите пожалуйста, выходите! Мы для вас приготовили и махровые полотенца, туалетное мыло, зубную пасту, зубные щетки, установили несколько десятков кранов с водой! Вы можете чисто умыться, освежиться и взбодриться, прогуляться, размять суставы и вернуться в вагоны! Мы гарантируем, что все, кто сойдет с поезда, до его отхода возвратятся в свои вагоны!..
Эти слова для девушек-хунвэйбинов, находившихся в поезде, особенно слова о хлебе, напитках и фруктах, были очень заманчивы, вводили в соблазн. Тела всех, находившихся в поезде людей, потевших в жаре и духоте, выделяли соленый запах. От прикосновений рук к лицам на них остались отпечатки. В складках суставов пальцев скопилась грязь. Полотенца, мыло, зубные щетки, зубная паста... ах как это кстати! Ну прямо чествование и вознаграждение воинов, с триумфом возвратившихся домой!
Так хороши шэньянские хунвэйбины! Так растрогали нас! Так... Наши глаза были полны слез! Можно ли было не прослезиться, сравнивая увиденное с тем, что было в Чанчуне по приходе поезда?
— Да здравствуют шэньянские хунвэйбины!
— Шэньянские хунвэйбины — наши родные братья!
— Шэньянские хунвэйбины — наши родные сестры!
— Самый родной нам человек — это председатель Мао, вторые — шэньянские хунвэйбины!
— Даже на краю света не забудем шэньянских хунвэйбинов!
Выкрикивая слова признательности за прием, люди, находившиеся в поезде, через двери и окна, стремясь быть первыми, бросились выходить и выпрыгивать из вагонов. Устремились к столам, к местам, где были установлены краны с водой...
Я и она, совершенно без собственных усилий, были вынесены общим потоком на перрон.
Она прежде всего захотела сходить умыться и в туалет. Я сказал, что должен быстренько запастись для нас двоих пищей и питьем.
За время пути мы уже стали неразлучной парой. Обстановка у мужских и женских туалетов была намного сложнее, чем толкучка, какая обычно возникает у касс кинотеатров. Головы людей были все время в движении. Выбирался один, вместо него втискивалось десять.
Жаль было смотреть на девушек-хунвэйбинок. Некоторые из тех, кто находился около туалета, сдерживали себя до слез. Другие, не дождавшись пока войдут в него, подмокли. Чувство неловкости и стыда, растерянность друг перед другом. Те, кто постарше быстро сообразили и уже семь-восемь, а то и десять человек собирались вместе, образовывали круг, спинами внутрь, лицом наружу. В круг прятали одного человека, превратив перрон в общественную уборную. Вначале некоторые парни, не разобравшись, что делают девушки, пытались через головы заглянуть в круг. Конечно, это им не удавалось. Девушки стойко охраняли свое достоинство, не унижаясь до объяснений, они приняв надменный вид, не давали никаких пояснений. Дождавшись, когда заключенная в кольцо девушка вполголоса скажет: «все», они размыкали кольцо и выпускали ее. Только увидев на земле «воду», парни-хунвэйбины догадались, в чем дело. Неизбежное ощущение стыда, неловкости. Заглянув в круг девушек и расширив свой кругозор, они старались, как ни в чем не бывало, обратить свои взоры в другом направлении и не смущать девушек, оберегая их достоинство.
Неожиданно непонятно откуда, точнее можно сказать — со всех сторон, нагрянуло несколько отрядов хунвэйбинов. Как водяной поток, они бросились к дверям и окнам вагонов, карабкались внутрь, валом взбирались наверх, воспользовавшись суматохой, оккупировали поезд.
По существу шэньянские хунвэйбины по отношению к хунвэйбинам поезда осуществили план «выманить тигра с гор».
Это было очень похоже на басню «Лиса и петух», которую изучают в начальной школе на уроках литературы.
Их сладкие медовые речи как раз были похожи на ту песенку, которую лиса пропела петуху:
Петух, петух, как ты красив, Красный гребешок, синий хвост, Посмотри в окно, Склюй кукурузное зерно!Обманутые и сошедшие с поезда хунвэйбины, как бы очнувшись от глубокого сна, обнаружили, что их оставили в дураках, но уже было поздно!
Я выронил из рук две булки хлеба и бутылку напитка, добытые на перроне, еще толком не сообразив, что делаю, как бешеная собака, пренебрегая всем, бросился к поезду. Проталкиваюсь, вдавливаюсь, ввинчиваюсь, толкаюсь, не выбираю средств, все направлено на решение судьбоносной задачи. В конечном счете, я снова в поезде, радуюсь удаче. Большинство обманутых не успело снова войти в вагоны. Каждое освобожденное ими пространство внутри вагонов было оккупировано «родными, как братья и сестры» шэньянскими хунвэйбинами. Снова занять свое место им было труднее, чем взобраться на небо.
Каждый из оставшихся на перроне раскаивался и возмущался так, что невозможно ни пером описать, ни как-то изобразить. Бутылки с напитками и булки хлеба, как ураганный огонь обрушились на стены вагонов.
Часть стекол была разбита бутылками, их осколки поранили лица людей. А кое-кому досталось даже по голове, пролилась кровь. В вагоны влетали и целые бутылки с напитками, потом многие приспособились ловить их двумя руками, как в баскетбольную корзину, и завладевали ими. Обладатели их весело радовались, как драгоценной находке.
В сравнении с пешим передвижением отряда «Великий поход» путешествие в поезде тех, кто отправился в великое шествие, не несло в себе никакой романтики. Даже голод и жажда, которые мы не раз переносили. Не затратив ни копейки, рассчитывать добраться до Пекина, встретиться с великим вождем председателем Мао, вовсе не воспринималось, как урвать у государства выгоду. А сколько средств потратило государство только на это? Миллионы? Десятки миллионов? Жаль, что тогда не нашлось человека, который осмелился бы подсчитать эти материальные затраты.
Через несколько минут под веселые песни поезд тронулся с вокзала...
Только снова оказавшись в поезде, я вспомнил о той девушке. Не было сомнения, что она отстала от поезда и осталась в Шэньяне.
А я даже не знал ее имени. Не спросил. Она сама тоже не сказала. Без копейки в кармане, без знакомых — как ей удастся втиснуться в какой-нибудь поезд и доехать до Пекина? А может она снова встретит такого же, как я, парня ? Она, наверно, плачет от расстройства. Подумав об этом, я стал переживать за нее, на сердце навалилась тоска. Я сразу скис, едва не заплакал.
Лицом к лицу, грудь в грудь со мной опять оказалась девушка-хунвэйбин. На этот раз — из числа шэньянских.
Взглянув на мою повязку, она смущенно спросила:
— Ты из Харбина?
Я услышал сильный неприятный запах, исходивший от ее лица цвета сушеной хурмы. Кроме того, на лице были веснушки. Да и нос был крючком. А, может быть, в действительности вовсе не было никакого запаха, да и нос не был крючковатым, просто немного заострен и все.
Однако я ощущал сильный запах. Ощущал, чтобы про себя злорадствуя, удовлетворить чувство ненависти. Я смотрел прямо ей в лицо и с неприязнью, и принюхиваясь к ее дыханию. Я ничего не ответил ей, поднял обе руки до уровня плечей и уперся ей в грудь локтями. Такое положение моих рук пришлось ей не по вкусу, однако, чтобы отомстить за любимое лицо-яблоко, брошенное на шэньянском вокзале, я надавливал ей на ребра, причиняя боль.
Она потребовала:
— Ты не мог бы опустить руки?
— Ты думаешь, что мне доставляет удовольствие вот так их держать? Ты освободи мне место и я опущу их, — отпарировал я сердито.
— Твои локти упираются мне... — сказала она, постеснявшись произнести последние слова.
Я же знал, куда именно упираюсь локтями. И поделом ей!
Она ясно понимала, что ей это не вынести. Сделав огромные усилия, она отвернулась от меня.
Тем лучше. Теперь я был избавлен от необходимости смотреть ей в глаза и с неприязнью глотать выдыхаемый ею дурной запах.
Не знаю, куда исчезла та широкая жирная спина, о которую я удобно опирался раньше, как о спинку кресла. Чья-то застежка, вероятно, одетого в военную форму человека, терла мне спину, заставляя бессовестно плотно прижиматься к спине той шэньянской девушки-хунвэйбина. «Тот, кто способен понять дух времени, тот выдающийся человек».
Постепенно в вагоне водворилась тишина. Постепенно стал появляться храп.
Когда я проснулся, уже рассвело.
Я все-таки оказался в объятиях другой девушки-хунвэйбина, к которой прижался сам.
Та девушка с лицом цвета сушеной хурмы, скрючившись, устроилась под сиденьем, ее голова, как на подушке, возлежала на моих резиновых туфлях марки «Цзефан», в которые я был обут. Она лежала на спине, лицом кверху, спала беспробудным сном...
ГЛАВА 14
Чарующие лучи утреннего солнца постепенно стали проникать в вагон, хунвэйбины также начали оживать. Чем ближе подъезжали к Пекину, тем выше поднималось настроение. То здесь, то там стали напевать известные «цитаты». Враждебность к шеньянским хунвэйбинам за ночь выветрилась, она больше не существовала.
Та шеньянская хунвэйбинка, которая спала, положив голову на мои ноги, выползла из-под сиденья, намереваясь пробраться в туалет. Она, как стало видно, обладала способностью преодолевать препятствия с любыми барьерами. Ухватившись за багажную полку, наступая ногами на спинки сидений, переступая через множество человеческих голов, она добралась до двери туалета; работая кулаками и ногами, пробила стену человеческих тел и спустилась на пол, но не смогла одолеть дверь «крепости». Разгневанная, она, шагая прямо по головам людей, возвратилась назад и снова забралась под сиденье, как ни в чем не бывало положила голову на мои ноги. Да еще и начала передвигать их, чтобы было удобно лежать. Мне не захотелось оказывать ей такую любезность, и она не смогла поставить мои ноги так, как ей хотелось. Удовлетворилась тем, что я позволил ей положить на них голову. Хотя на самом деле, она вызывала у меня сострадание, ведь она терпела запахи воздуха, пропитанного мочой, и всем, чем угодно, лежала под полкой, свернувшись, как самка крокодила и, если бы я не разрешил ей опустить голову на мои ноги, то куда бы она ее девала?
Наш поезд, не доходя до станции Пекин, остановился на станции Фэнтай.
Сердечный голос диктора-женщины передал слова типа приветствия председателя Мао прибывшим гостям, потом предложил быстро сойти с поезда.
Мы с такими трудностями добрались до Пекина и вдруг нас не пускают на его станцию, высаживают в Фэнтае! Это больно ранило самолюбие каждого хунвэйбина.
— Если мы гости, прибывшие по приглашению председателя Мао, то почему нас не довезли до станции Пекин?
— Многие предыдущие партии хунвэйбинов высаживались на станции Пекин, мы тоже хотим, чтобы нас доставили туда же!
— Все хунвэйбины председателя Мао равноправны!
— Не доехав до станций Пекин, мы не выйдем из поезда! Не доехав до станции Пекин, мы не выйдем из поезда!
Настроение масс закипало, они такими выкриками пытались протестовать.
— Я сойду! Я сойду! Я сойду! — закричала шэньянская хунвэйбинка, вылезая из-под сиденья, и стремглав бросилась к окну.
— Ренегатка!
— Иуда!
— Засуньте ее под сиденье!
— Не позволим ей расшатать нашу решимость!
На ее голову обрушилась брань, а кто-то преградил путь к окну.
— Мне надо сходить в туалет! — вскипела она, ее вид выражал готовность отчаянно драться с теми, кто не пускал ее к окну.
— Ей действительно нужен туалет, вы же видели, что она только что пыталась прорваться в него в вагоне, но не смогла! — не выдержав, вступился я за нее со стороны.
Человек, который загораживал окно, быстро посторонился и помог ей через него выбраться наружу.
Она, выскочив на перрон, что есть мочи, как на соревнованиях по бегу на стометровке, бросилась к туалету. Вышла она оттуда не скоро. Появившись на перроне, крикнула тем, кто был в поезде:
— Пока не привезут нас на станцию Пекин, мы не выйдем из вагонов! — освободив мочевой пузырь, она кричала намного жизнерадостней.
Инициативу нашего вагона, его лозунги никто не поддержал. Радиостанция тоже молчала.
Неожиданно поезд снова тронулся, во всех вагонах раздались крики радости, мы думали, что победили. Но поезд только дернулся и сразу остановился. Паровоз отцепился от состава и ушел.
Наконец все поняли, что не видать нам станции Пекин, надо выходить из вагонов.
Несколько тысяч пассажиров вышло из поезда, сгрудившись на перроне вокзала. Только через 4 часа ожиданий туда подошло несколько временно реквизированных автобусов, нам объявили, что по частям всех нас доставят в Пекин. Толпа в несколько тысяч человек окружила автобусы...
Протолкавшись на перроне с часу дня до восьми вечера, я кое-как с последней группой втиснулся в старенький разбитый автобус. На половине пути он заглох. Водитель очень долго возился с ним, пытаясь отремонтировать: то выходил из него, то снова забирался в кабину, но так и не смог справиться с поломкой, сказал, что не работает двигатель. Все стали давать ему полезные советы, пытаясь уговорить попробовать еще раз заняться ремонтом.
Водитель, похоже, и сам злился на свою старую развалюху, стащил с рук пропитанные маслом и грязью перчатки и швырнул на капот, тяжело вздохнув, сказал:
— Все вы гости председателя Мао, который давно позвал вас в Пекин, если бы этот автобус мог сдвинуться с места, разве я посмел бы обманывать вас?
Все мы, услышав его слова переживания за случившееся, почувствовали, что это правда. Поверили, что он не позволил бы себе обманывать нас, пришлось признаться в невезении. Подавленные, мы вышли из автобуса и каждый в одиночку стал останавливать все другие проходящие машины, кроме легковых. Я вместе с компанией в несколько человек остановил грузовую машину. Забрались в кузов, но шофер не знал, куда нас надо везти.
Одни говорили:
— Довези до Пекина — и ладно! Другие уточняли: — Вези прямо на площадь Тяньаньмэнь! Третьи предлагали свое:
— Нет, вези в дом собраний народных представителей! Как будто в доме народных собраний уже расставили столы с прекрасными деликатесными блюдами, а многоуважаемый председатель Мао с руководителями комитета по делам культурной революции стоят в готовности устроить нам банкет.
Водитель, поколебавшись, сказал:
— На площади Тяньаньмэнь и перед домом собраний народных представителе остановка грузовых машин запрещена. Я отвезу вас в парк Храм Неба, там есть пункт приема хунвэйбинов.
Все ответили:
— Хорошо!
* * *
В парк Храм Неба мы приехали глубокой ночью. Водитель с большой теплотой и желанием повел нас искать пункт приема хунвэйбинов. Он оказался прямо на аллее под фонарем освещения. Это был канцелярский стол, за которым находились два столичных хунвэйбина в накинутых на плечи ватных военных куртках. Парень и девушка. Он стоял, она сидела. Вели пустые разговоры.
К нам они не проявили никакого интереса. Даже больше того, мы почувствовали полнейшее равнодушие.
Девушка — столичная хунвэйбинка — сидела без движения.
Парень — столичный хунвэйбин — сказал всего три слова:
— Идите за мной!
И мы пошли следом за ним. Тогда была очень темная ночь. Мы ничего не видели, кроме толстых корней огромных сосен. Если бы мы не знали заранее, что находимся в парке, то скорее всего можно было предположить, что мы идем по окрестному лесу.
Открытое небо. Голая земля. Некоторые участки парка огорожены новейшими циновками. Около одного из них столичный хунвэйбин, который вел нас, сказал:
— Пришли, — и тут же , повернувшись, стал уходить. Мы переглядывались, недоуменно смотрели друг на друга. Все это было очень-очень далеко от того, что мы себе вообразили.
— Э-э-эй! Ты не уходи! Разве здесь можно жить? — позвал один из нас столичного хунвэйбина.
— Жить? — он был очень недоволен тем, что его позвали, — кто из начальников Центрального комитета по делам культурной революции утверждал, что вы будете здесь жить? Есть такой документ?
— Разве в этих примитивных условиях можно пробыть хотя бы одну ночь?
— В примитивных условиях? Когда Красная армия форсировала заснеженные горы, пробиралась по мокрым степям, она не имела таких прекрасных условий, какие приготовили для вас!
— А что делать, если пойдет дождь?
— По прогнозу погоды сегодня ночью дождя не будет!
— А если прогноз не оправдается?
— Тогда вы пройдете процедуру революционной мойки!
— Как ты можешь говорить такое? Мы все же гости, которых пригласил сюда многоуважаемый председатель Мао, разве твое отношение к нам не должно быть несколько помягче?
— Гости председателя Мао? Председатель Мао прислал приглашение каждому из вас? Покажите мне, я посмотрю! Центральный комитет по делам культурной революции издал документ, требующий, чтобы хунвэйбины из разных мест направляли своих представителей в Пекин поочередно и периодически. Почему вы не подчинились требованиям Центрального комитета по делам культурной революции?
— Кто не подчинился требованиям Центрального комитета по делам культурной революции?
— Я — именно представитель! Выбран один из десяти!
— Я — тоже!
Столичный хунвэйбин вывел всех из терпения, споря с ним, наши хунвэйбины окружили его со всех сторон. Кое-кто засучил рукава, собираясь поддать ему.
Одна из девушек-хунвэйбинок, находившихся среди нас, неожиданно горько заплакала от незаслуженной обиды. Этот ее плач побудил и других девушек, а их было несколько десятков, подключиться к ней. Тогда все мы во весь голос запели элегию:
Подними голову, смотри на полярную звезду, А про себя думай о Мао Цзэдуне, Про себя думай о Мао Цзэдуне...Скорбный плач и песнь-элегия переросли в негодование, оно, как дьявольское наваждение, кружило по парку Храм Неба. Столичный хунвэйбин совсем растерялся.
— Боевые друзья, боевые друзья, революционные боевые друзья-хунвэйбины, я плохо обошелся с вами, я приношу вам извинения! Однако условия на этом пункте приема только такие, и я не в силах что-либо изменить!.. — сказал он.
Никто на него не обращал внимания. Плакавшие продолжали плакать, поющие продолжали петь. Никто из нас раньше не отлучался далеко от дома. Все прибыли в Пекин впервые. Все были голодны и хотели пить. Одетые в легкую одежду, оказавшись без крова над головой в такую прохладную осеннюю ночь, мы изрядно продрогли, у нас не было теплого уголка, где можно было бы приклонить голову. Как тут не плакать, как тут не петь, как не думать о Мао Цзэдуне?
Мао Цзэдун, Мао Цзэдун, Ты вечно незаходящее солнце в наших сердцах, Днем думы о тебе укрепляют боевой дух, Ночью думы о тебе указывают путь...Чем больше мы плакали, тем больше одолевала обида. Чем больше пели, тем больше ранило душу. Я и пел, и плакал. Знай я раньше, что попаду в такое незавидное положение, я ни за что не поехал бы в Пекин. Я тогда на самом деле думал, что председатель Мао способен услышать наш плач и песни, проснуться от глубокого сна, спросить телохранителя: «Что, дети плачут? Что, дети поют? Не наши ли это маленькие генералы-хунвэйбины?..» Потом он сядет в открытый автомобиль «Красное знамя» и приедет к нам, спросит сыты ли, не мучит ли жажда, тепло ли нам или холодно, скажет нам слова, от которых сразу станет тепло, и мы почувствуем себя счастливыми, заберет нас всех с собой в резиденцию для гостей...
Председатель Мао, конечно же, не услышал нас. Нас услышала столичная девушка-хунвэйбин. Она быстро пришла к нам.
— В чем дело? В чем дело? И плач, и песни! Как будто вас здесь подвергли контрреволюционной буржуазной обработке!
— Они недовольны примитивными условиями на пункте приема. Оба столичных хунвэйбина посоветовались между собой, потом девушка обратилась к нам:
— Боевые друзья, перестаньте плакать. Перестаньте петь. Наш приемный пункт установили только сегодня. Поэтому прошу вас, боевые друзья, будьте снисходительны! Сейчас мы сразу же сходим на узел связи и потребуем немедленно перевести вас в другой пункт приема!
Они оба ушли.
Через полчаса с лишним она одна вернулась к нам и назвала пункты приема, в которые можно нас перевести, один из них находился в Институте геологии.
— Поедем в Институт геологии! Все слушайте меня, едем в Институт геологии! Обязательно все слушайте меня!
Это подал голос находившийся среди нас громкоголосый мужчина, который явно выделялся среди всех остальных: интеллигентный вид, очки, возраст в пределах сорока. До этого никто не обращал на него особого внимания. В то время вместе с хунвэйбинами совершали «великое шествие» многие революционные учителя. Его возраст ничуть не удивлял нас.
Неорганизованные массы как раз нуждаются в организаторах, способных смело вступиться за них, в представителях, выступающих от их имени. Все выдвинули и избрали его временным «предводителем», согласившись подчиняться ему.
Столичная девушка-хунвэйбин снова убежала звонить, обещала найти транспорт для нас.
Через час мы сели в гостевую машину с тюлевыми занавесками на окнах, говорили, что она специально предназначалась для представителей национальных меньшинств, прибывших в Пекин. Все почувствовали, что отношение к нам улучшилось, мы были довольны тем, что смогли добиться своего.
Столичная хунвэйбинка, сходя с машины, приветливо попрощалась с нами, помахав рукой.
Наконец появилось приятное чувство от того, что о нас стали заботиться, что она бегала, хлопотала. Каждый высказывал ей слова благодарности.
Когда мы выехали из парка Храм Неба, наш предводитель громко сообщил нам, кто он такой: учитель одной из средних школ, раньше был телохранителем у Хэ Чангуна, поэтому настойчиво советует им всем вместе с ним идти на приемный пункт в Институт геологии.
Кто-то спросил:
— А кто такой Хэ Чангун?
Другой с улыбкой ответил:
— Вы даже не знаете, кто такой Хэ Чангун? Ветеран Красной армии! Старый революционер периода Великого похода! Есть его мемуары под названием «Реют красные знамена»!
«Предводитель» дополнил его:
Уважаемый Хэ сейчас министр геологии. Если в Институте геологии к нам отнесутся невнимательно, тогда я сам пойду к уважаемому Хэ и попрошу покритиковать их! В сущности я мог бы остановиться на квартире в семье уважаемого Хэ. Но поскольку мы с вами незаметно стали боевыми друзьями по несчастью, то как я могу поступить бессердечно и оставить вас? Я учитель, революционные учителя — союзники хунвэйбинов, вы для меня то же, что и мои собственные ученики.
Он говорил очень искренне. Это растрогало нас.
Девочка, с виду 12–13 лет, наверно, ученица начальной школы, с наивной простотой спросила «предводителя», намерен ли он, также, как и она, по прибытии в Пекин всего лишь своими глазами увидеть блестящий образ многоуважаемого председателя Мао, поучаствовать в смотре, который будет проводить лично многоуважаемый председатель Мао, поймать случай, чтобы пожать руку многоуважаемому председателю Мао, лично ему провозгласить здравицу «да здравствует председатель Мао»?
«Предводитель» спокойно и торжественно сказал нам, что он приехал в Пекин? с теми же намерениями, что и мы, но не только. Он, кроме того, взял на себя особую и святую миссию — от имени массовых народных организаций, в работе которых он участвовал, с помощью уважаемого Хэ довести до многоуважаемого председателя Мао истинную обстановку с великой пролетарской культурной революцией на местах, просить председателя Мао сказать несколько слов в поддержку тех массовых организаций, от имени которых он выступает.
— У нас там верховодят правые организации, левые — подвергаются гонениям! Черные тучи, готовые разрушить город, сгустились над нами, на город может обрушиться кровавый дождь и зловоние. Несколько тысяч наших сторонников из числа революционных масс оказались между молотом и наковальней! Если я не выполню эту миссию, то тысячи революционеров могут быть разгромлены контрреволюцией, осуждены и посажены в тюрьмы! Тогда и я ни за что не вернусь обратно. Если я не добьюсь победы, то перед памятью погибших революционных борцов я тоже погибну за правое дело! Солдат хочет отдать свою жизнь и кровь для того, чтобы везде росли цветы революции.
Из его глаз выкатились мужественные слезы.
Мы растрогались до предела. Мои глаза наполнились слезами. Сам же идеальный, образцовый «предводитель» из Сычуани сразу вырос в моих глазах и душе, засверкал героическим ореолом, стал человеком, достойным воспевания и оплакивания.
Я прочно запомнил две строки из одного стихотворения: «Солдат хочет отдать свою жизнь и кровь для того, чтобы везде росли цветы революции!».
В те годы очень многие злоупотребляли стихами. И в спорах, и в речах, и в агитационных выступлениях без стихов почти не обходились, если уж ты открыл рот, то обязательно подавай стихи. Правда, они не имели таких блестящих успехов у публики, как известные артисты Пекинской оперы у заядлых театралов, чьи выступления были вершиной совершенства. Однако их трескучие стихи прославляли исполинский, бесстрашный героизм и способны были так растрогать людей, что те плакали в три ручья, не в силах сдержать слезы. Если же говорить о хунвэйбинах, то на их долю выпала эпоха, когда даже сам воздух был пропитан революционным героизмом, и они жили этим. Точно также, как нынешнее поколение молодежи не может обойтись без современных популярных песен. Я даже считал, что если «предводитель» не смог выполнить свою миссию так, как задумал, но пожертвовал собой, то он оказался более выдающимся, и отважным героем, чем те, о которых говорится в упоминавшихся двух строках стихотворения. О, как трагично и мужественно все это было! Эх, если бы я тоже мог быть похожим на него! Если бы, как он, получил поручение тысяч людей выполнить святую миссию и должен был бы пожертвовать собой! А если не выполнил ее, то должен был бы избрать его путь — героически пожертвовать собой, принять трагическую, но благородную смерть! Такая смерть — это редкое счастье, это — величайшая слава. Жаль только, что перед отъездом в Пекин никто не уполномочил меня на какую-нибудь миссию. Впрочем, мать просила во что бы то ни стало купить фотографию, на которой изображены вместе председатель Мао и заместитель верховного главнокомандующего Линь. Тогда в Харбине их невозможно было достать. Ни в одном доме я не видел блестящего образа заместителя верховного главнокомандующего, это всегда вызывало некоторое беспокойство в душах людей. Так что никто не давал мне таких важных поручений, ну да и ладно. Некоторые просили призвать к ответу, а кого — не сказали. Если, предположим, поднатужиться, то в Пекине можно достать ту фотографию, но разве можно говорить в таком случае об ощущении выполненной «миссии». Сердце все время напоминало о какой-то священной «миссии», а вот ее то и не было. Не выпадало случая проявить свое величие, героического не предвиделось. Если не куплю фотографию, то не выполню настойчивую просьбу всего лишь одного человека — матери. Похоже, это не тот случай, когда жертвуют собой ради памяти о погибших героях. В душе я чувствовал скрытую досаду. Лучи революционного героизма даже в те годы не могли пробиться ко мне через огромную толпу.
Когда мы подъехали к Институту геологии, водитель, устало зевая, поторопил нас быстрее выходить.
Как только мы сошли с машины, из пункта приема вышел человек и громко крикнул водителю:
— Ты зачем их сюда привез? Где размещать? Ясно, что в глазах этого человека мы не были гостями председателя Мао, и какая ему польза предоставлять что-то кому-то нежеланно. Водитель проворчал:
— Они вынудили меня везти их сюда!
— Садитесь в машину, садитесь в машину, все садитесь в машину! — кричал он, как на скот, снова загоняя нас в автомобиль.
Мы везде встречали холодный прием. Каждый из нас, что бы не накипело у него на душе, молча устремил взор униженного человека в сторону «предводителя», никто не осмелился поднять шум. Под взглядами людей он на какое-то время опустил голову.
Потом, посмотрев вперед, заявил:
— Я — их руководитель, я...
Тот человек нетерпеливо перебил его:
— Ты тоже садись в машину, поменьше разглагольствуй! «Предводитель», повысив голос, с сердцем заявил:
— Раньше я был телохранителем у уважаемого Хэ!
Тот человек быстро взвесил сказанное и, как бы сомневаясь, спросил:
— Правда?
— Я пять или шесть лет ходил у него за спиной, вся его семья прекрасно знает меня! — с достоинством ответил «предводитель». Тот человек поверил ему, громко крикнул:
— Действительно много дорог исходил ты, где только не побывал, зря время не тратил! Тогда ты никуда не уезжай, оставайся здесь, будем разоблачать антипартийную деятельность Хэ Чангуна! — повернув голову в сторону приемного пункта, крикнул, — бывший телохранитель Хэ Чангуна, проводите его к двери, возьмите под стражу!
Тут же мгновенно выскочило несколько хунвэйбинов Института геологии, торопливо затараторили:
— Кого? Кого?
— Где он? Где он?
А мы в это время, наконец-то, обнаружили наклеенные на стены здания обрывки дацзыбао. При свете ртутного фонаря удалось прочитать угрожающий призыв: «Разгромим самого крупного каппутиста в Министерстве геологии Хэ Чангуна!». Три иероглифа Хэ, Чан и Гун повалились набок и свежей краской перечеркнуты крест-накрест.
Мы про себя посочувствовали нашему «предводителю».
Тот человек указал на него пальцем:
— Вот он!
Однако «предводитель» все еще не обнаружил дацзыбао с призывом и, приняв военную осанку и выпятив грудь, он сказал:
— Правильно, это я.
Они без всяких разговоров взяли его за руки и ввели в комнату бюро связи.
Мы остолбенели.
— Вы почему все еще стоите, как болваны? Мы толпой послушно бросились в машину.
Тот человек сказал водителю несколько слов и машина тронулась.
На этот раз нас привезли в музей Министерства геологии. Уже брезжил рассвет. В музее по обеим сторонам коридора выстроились витрины с коллекциями разных пород руды, а в нескольких метрах от них были разостланы соломенные подстилки, циновок не было. Помотавшись всю ночь из конца в конец, мы настолько устали, что веки сами слипались, а мы, пошатываясь, подходили к соломенным подстилкам и падали на них, для нас уже было все равно: хоть небо обвалится, хоть потоп случится, нас ничто не касается, лишь бы быстрее приклонить голову и заснуть.
Как только мы отключились, так сразу как бы провалились в бездну и беспробудно проспали до трех часов дня, даже больше. А проснувшись, в первую очередь пошли искать краны с водой. Найдя их, жадно пили до отвала. Дождавшись своей очереди, я хотел умыться и ополоснуть рот, но обнаружил, что ночью где-то потерял полотенце, мыло, зубную щетку и пасту. В туалете я снял пропитанную потом майку, имея в виду использовать ее вместо полотенца. Побольше открыл кран и подставив под него голову, стал мыть лицо. К счастью в раковине обнаружил несколько маленьких кусочков мыла, оставленных другими до меня. Обрадованный, я схватил майку, как мог, намылил ее и наскоро выстирал, полагая, что начисто удалил и пот, и запах. Выйдя из туалета, повесил ее на окно просушиться.
Потом надел на голое тело грязную рубашку и вышел в конец переулка, который пересекала улица. уходить далеко я побоялся, сворачивать куда-либо тоже опасался, чтобы не заблудиться. Поэтому направился на запад, перешел улицу и вернулся обратно. Хотя в кармане были припрятаны пять юаней, в продуктовый магазин тем не менее заходить не стал. Единственно из-за боязни истратить их, соблазнившись на что-либо вкусное.
А проголодался я так, что не было сил терпеть, а нужно. В половине шестого обещали организовать ужин. Побродивши до назначенного времени, можно будет досыта поесть, не затратив ни копейки. На ужин нам дали пампушки, соленые овощи, рисовую кашицу. Пару пампушек на одного — это превосходно. Но как двумя пампушками можно утолить голод, накопившийся за два дня и две ночи? К счастью, рисовой кашицы можно было есть сколько хочешь. Поэтому я решил, что лучше сначала подкреплю силы, заполнив желудок кашицей. Глаза устремились на ведро. Я заметил, что некоторые хунвэйбины, отпив из пиалы половину кашицы, снова становились в очередь, заканчивая остаток на ходу. Когда пиала опустошалась, снова подходила очередь. Это следовало перенять. Кроме того, увидел, что кое-кто, откусывая пампушки, съедал их вместе с другой пищей, это тоже следовало взять на вооружение. Позже, овладев опытом других, я не голодал в течение всего великого шествия, которое затянулось больше, чем на месяц: с севера на юг, по семи провинциям и восьми городам.
Наевшись, я с оставшейся пампушкой и кусочком другой в руке направился к выходу. Я не предполагал, что у Двери стоит страж, который не разрешал выносить пищу с собой: надо съедать на месте. Знай об этом раньше, я съел бы эти две пампушки полностью и не набивал желудок какой-то кашицей. Не в силах расстаться с ними и отправить их в корзину, стоявшую у двери, я вернулся к столу, чтобы съесть их, но желудок не принимал. Я быстренько засунул за пазуху оставшиеся пампушки, досадуя на себя за то, что не сделал это раньше.
Возвратившись в зал музея, я, усталый, не раздеваясь, бросился на пол и снова завалился спать.
Проснулся лишь утром на следующий день. Больше полчаса пришлось простоять в очереди, чтобы умыться.
После завтрака посмотрел на себя в зеркало, стоявшее в зале: одежда на мне была грязная и помятая, волосы в беспорядке. Стыдно было видеть такое чучело. Я похож был на несчастного бродягу. Как с такой физиономией показаться на улицах Пекина? Как идти на смотр к многоуважаемому председателю Мао?!
В голове долго боролись всякие мысли, наконец, решил истратить оставшиеся пять юаней, купить полотенце, зубную пасту и зубную щетку, мыло. Все это закупил и хотел уже возвращаться, чтобы, воспользовавшись солнечным днем, выстирать одежду, но неожиданно встретил одного соученика, вместе с которым ехал в поезде. Вид у него был ничуть не лучше моего.
Он рассказал, что остановился в одной из начальных школ. Прошлую ночь спал на двух спаренных партах.
— Мы, человек 200–300, все спали на партах, подстилали циновки, укрывались шерстяными покрывалами, — сказал он, растирая лопатку, — парты, черт бы их побрал, очень узкие, за ночь три раза падал на цементный пол!
Когда я сказал, что мы остановились в музее министерства геологии, он был несказанно восхищен и тут же спросил, не могу ли я помочь ему перебраться туда же.
Я, конечно, обрадовался встрече с соучеником, однако ничем не мог ему помочь — для входа в музей нужен был «пропуск в общежитие».
Он до крайности расстроился.
А я, наоборот, позавидовал ему, потому что у них были шерстяные покрывала.
Он предложил мне вместе сходить в Военный музей.
Меня смущало то, что туда очень далеко, боялся, что вернемся поздно, не успею на ужин и придется голодать. И в то же время не хотел испортить ему настроение, поэтому предложил сходить вместе на площадь Тяньаньмэнь.
— Вот глупец! Ведь мы же все равно будем проходить через площадь Тяньаньмэнь во время смотра, который будет проводить председатель Мао. Если мы побываем там раньше, то впечатление, которое оставит смотр, не будет столь глубоким! Надо сделать так, чтобы осталось самое сильное впечатление! Это — огромное событие, которое должно войти в историю также как и китайская революция, история тоже нуждается в том, чтобы ее писали — резко возразил он против моего предложения.
Я внимательно обдумал его слова, нельзя сказать, что в них не было резона, и согласился вместе с ним сходить на экскурсию в Военный музей. Покраснев от стыда, я высказал ему свою просьбу — купить для меня билет на автобус. Так как денег у меня совсем немного и скоро понадобятся — ведь еще придется покупать фотографию, на которой изображены вместе председатель Мао и заместитель верховного главнокомандующего Линь, и неизвестно, сколько денег потребуется для этой цели.
— Дурень! Ты самый настоящий дурень! Кто мы с тобой? Мы гости Пекина, приехавшие по приглашению председателя Мао! На поезде ехали бесплатно, а в автобусах надо платить? Смешно! — пристыдил он меня.
На самом деле все произошло так, как он сказал: при входе в автобусы и выходе из них кондукторы совершенно не интересовались, есть ли у нас билеты. Столица тех лет была похожа на ту, какой ее знали во время оккупации ее объединенной армией восьми государств (1900–1901 гг.), или какой она была при нашествии маньчжурских войск: хунвэйбины, приехавшие за тридевять земель, заполонили все улицы города. Везде развевались «княжеские» боевые знамена. Машины различных течений, пропагандировавшие идеи Мао Цзэдуна, сновали, как челноки. Они транслировали торжественные заявления, дипломатические ноты, серьезные предупреждения, энергичные протесты. Неизвестно, сколько сот или тысяч громкоговорителей было установлено во всем Пекине. «Алеет Восток», «В открытом море не обойтись без кормчего» и многие другие революционные песни, воспевавшие председателя Мао, изречения Мао, стихи и песни самого председателя целыми днями оглашали улицы Пекина, а вечером устремлялись к млечному пути. Наверно, кроме председателя Мао, ни один монарх страны, нации или династии не вынес бы таких шумных, таких горячих торжеств, а потом, оставшись один на один с самим собой, довольствовался бы своим одиночеством.
В Пекине все стены выкрасили в красный цвет и исписали бросающимися в глаза «высочайшими» или «новейшими» указаниями. Каждая улица Пекина превратилась в подлинно красную. Пекин потонул в «красном море». Пекин стал огромным лагерем хунвэйбинов, съехавшихся со всех уголков страны. Пекин стал штабом главного командования бунтарей всей страны.
А главнокомандующим был председатель Мао.
«Ты прекрасно знаешь историю, ты можешь успешно руководить многочисленным войском» — говорят, что эти слова написаны были тогда самим председателем Мао для любимого заместителя верховного главнокомандующего Линя. Так ли это — сейчас уже трудно проверить. Во всяком случае хунвэйбины верили и переписывали их друг у друга.
Под многомиллионным войском, конечно же, подразумевались хунвэйбины. На груди огромного числа хунвэйбинов, прибывших в Пекин за многие тысячи километров, висел иероглиф «преданный», сделанный в форме сердечка. Маленькие — величиной с ладонь, большие — с тарелку. Некоторые сделаны грубо, не радуют глаз. Другие — тоже грубо, но красиво, вышиты серебряной и золотой нитями, смотрятся прямо-таки как произведения искусства. Группы братьев и сестер хунвэйбинов из числа национальных меньшинств на широких улицах города с песнями и плясками выражали чувства радости и счастья в связи с прибытием в Пекин на смотр к многоуважаемому председателю Мао.
В Военном музее море народа. Некоторые хорошо известные людям картины и экспонаты были сняты с показа для переделки. А в обновленном варианте картины «Соединение войск в Цзинганшане» председатель Мао пожимает руку уже не главнокомандующему Чжу Дэ, а Линь Бяо, который в то время был всего лишь командиром роты. Новейший вариант картины «Председатель Мао отправляется в Аньюань» говорит нам о том, что действительным руководителем Аньюаньского восстания был не Лю Шаоци, а Мао Цзэдун.
Снаружи военного музея в разделе критики расклеены карикатуры. Я уже не помню их, забыл. Но одна врезалась в память и сидит в голове по сей день.
На ней Лю Шаоци, стоя в лодке и отталкиваясь шестом, переправляется через реку. Пэн Дэхуай стоит на берегу в прощальной позе, машет рукой и поет:
Прощай, Владыка, плыви на тот берег, Чувства любви к тебе никогда не пройдут, В бурном море веди свою лодку, Пока ты вернешься, я власть удержу...Пэн Дэхуай изображен уродцем. Лю Шаоци — тоже. На картине «Гнусная сотня» уже появился Дэн Сяопин, правда, пока еще на втором плане, всего лишь позади Лю Шаоци.
Многие из нас старательно срисовывали карикатуры для себя. Мне, как и другим ученикам, тоже хотелось сделать несколько зарисовок, с блокнотом в руках я протиснулся в первые ряды. То были картины не простого любительского уровня, а шедевры, в них была видна рука знатока определенного жанра. Правда, трудно утверждать, но в те годы великая культурная революция вырастила не только большую плеяду «народных лидеров», «теоретиков», «полемистов», «ораторов» и «поэтов», но также и множество «карикатуристов». Карикатура — это наиболее острое оружие большой критики. А поскольку это оружие, то люди хотели сами овладеть им, пользоваться им. Только во время великой культурной революции простые люди могли произвольно глумиться над своими бывшими вождями.
Карикатуры типа «Прощай, Владыка» я скопировать не смог. Для этого необходимы определенные навыки карикатуриста. Нарисовать «Гнусную сотню» несколько легче, однако пришлось сократить количество голов.
Возвратившись из Военного музея в Музей геологии, я поужинал и с мылом чисто выстирал одежду и брюки, потом развесил их на шкафу с образцами руды внутри зала. Оставшись в одной майке и трусах, одиноко сидел в углу зала, сложив ноги по-турецки, от безделья смотрел по сторонам.
Кто-то то ли преднамеренно, то ли нечаянно разбил стекло в одном из выставочных шкафов. Тут же толпа хунвэйбинов с криком набросилась на шкаф, хватая образцы руды — лучшего памятного подарка не придумаешь. Услышав шум, я бросился туда же и запустил руку в шкаф. В ладони оказался небольшой кусок черного вещества, на котором поблескивали яркие точки. Не знаю, что это было, возможно золото, может быть серебро, может быть и медь или цинк. Так я приобрел очень хороший сувенир, нечего говорить — на душе стало радостно, спрятав его, снова от нечего делать смотрел на все, что происходит вокруг.
Ночью от холода я свернулся в комочек, никак не мог заснуть. Видел, как старик-сторож перед закрытием двери пошел осмотреть зал, увидел тот, выставочный шкаф с разбитым стеклом. Он был совершенно пуст, в нем не осталось ни единого кусочка. Он сердито ворчал: «Я всю жизнь прожил в Пекине и ни разу не видел многоуважаемого председателя Мао! Вы — гости многоуважаемого председателя Мао, а раз гости, то и вести себя должны, как гости. Разве вы приехали в Пекин заниматься воровством? Зачем растащили экспонаты? Это — достояние министерства геологии! Разве легко было геологическим партиям разыскать эти образцы руды? Они прошли через тысячи лишений! Кто взял, тот должен по-хорошему вернуть! Если не вернете, с завтрашнего утра не станем кормить!».
Никто этого не слышал. Все спали мертвецким сном, и его внушения не дошли до их ушей.
Поворчав, он понял, что ничего он с них не возьмет, с негодованием пошарил руками под несколькими соломенными подстилками в надежде найти разворованное. Мельком взглянув на меня, жалко свернувшегося калачиком, он подошел ко мне и, глядя в глаза, спросил:
— Ты брал?
— Нет. Не будь я человеком, если бы взял и не сказал! — ответил я.
— А ты почему раздетый лежишь? Руки и ноги голые, — снова спросил он.
— Рубаху и брюки постирал, — пояснил я ему.
— Днем было хорошее солнце, почему тогда не постирал?
— Днем ходил на экскурсию в Военный музей.
Он хмыкнул, снял с себя пальто и накинул на меня:
— Накройся, потом вернешь! Не сбеги с ним, казенное!
Я растрогался и не знал, что сказать, несколько раз повторил:
— Обещаю вернуть, обещаю вернуть, клянусь самому многоуважаемому председателю Мао, что верну...
Под старым, колючим, но зато теплым рабочим пальто я с комфортом моментально уснул.
От сна нас пробудил свисток. Кутаясь в пальто, я, не понимая, что к чему, сел; продрав глаза от сна, увидел, что сидят все. Несколько человек военных стояли перед нами, все чрезвычайно суровы.
Я решил, что это старик-сторож привел армейских следователей, чтобы провести обыск в связи с исчезновением экспонатов музея. Сердце бешено заколотилось.
Молодой, низкого роста боец обратился к нам:
— Дорогие маленькие генералы-хунвэйбины, сейчас командир батальона сообщит вам известие, которое вы с нетерпением ждете днем и ночью! Командир батальона, обратившись к нам лицом, сказал:
— Маленькие генералы, самый счастливый момент для вас наступил! Завтра... — он бросил взгляд на часы, поправился, — сейчас уже половина третьего, поэтому следует сказать: сегодня председатель Мао, заместитель верховного главнокомандующего Линь и Центральный комитет по делам культурной революции, а также партийные и государственные руководители пролетарского штаба с трибуны площади Тяньаньмэнь проведут смотр!
Если бы даже он этого не сказал, мы и так уже обо всем догадались со слов маленького бойца.
Все сразу возбудились, закричали:
— Да здравствует председатель Мао!
Военные, подняв руки с цитатниками Мао, тоже прокричали здравицу.
После многократных выкриков командир батальона заговорил снова:
— Для обеспечения безопасности многоуважаемого председателя Мао объявлю несколько правил: первое, кроме цитатников председателя Мао, которые надо иметь при себе, у каждого из вас ничего другого не должно быть!...
— А съестное тоже нельзя брать с собой?
— Это, конечно, исключено.
— Тогда фрукты можно?
— Можно.
— А нож для фруктов?
— Нельзя! Все металлические вещи брать нельзя! Если спрячете и обнаружат, то наказание будете еще строже!
Маленький боец сказал:
— Успокойтесь, не мешайте, говорить комбату! Потом командир батальона продолжил свои разъяснения:
— Во-вторых, можно скандировать следующие лозунги: «Да здравствует председатель Мао, да здравствует, да здравствует! Бессмертия, бессмертия председателю Мао! Заместителю верховного главнокомандующего Линю желаем доброго здоровья, здоровья на века! Да здравствует великая пролетарская культурная революция! Да здравствует пролетарский штаб! Разгромим Лю Шаоци! Разгромим Дэн Сяопина! Вместе с великим вождем председателем Мао доведем до конца великую пролетарскую культурную революцию!»...
В общей сложности он назвал 29 революционных лозунгов. Каждый зачитанный лозунг мы записали для себя на бумаге. Было очевидно, что все эти лозунги не придуманы командиром батальона НОАК,[37] вероятно они прошли через цензуру Центрального комитета по делам культурной революции. В завершение своего выступления он сказал:
— А теперь все немедленно одевайтесь, стройтесь и вслед за нами пойдете в столовую получать продовольствие. С этой минуты я буду вами командовать, все вы должны подчиняться моим распоряжениям!
— Все мы должны подчиняться только распоряжениям председателя Мао и Центрального комитета по делам культурной революции, — проворчал кто-то.
Командир батальона строго посмотрел на него, но ничего не сказал. А кто-то громко спросил:
— Мы, что — обязаны уложиться в минимально короткий срок, всего за полчаса? Нас так много, разве за полчаса до построения нам успеть?
Маленький боец ответил совершенно четко:
— Одевайтесь и немедленно отправляйтесь в столовую получать еду. Получите и сразу выходим. На умывание времени нет!
Еще кто-то проворчал:
— Председатель Мао учит нас: человек обязан каждый день умываться, если не умывается, накапливается пыль...
Командир батальона, не дослушав его, отпарировал тоже словами же из цитатника Мао Цзэдуна:
— Необходимо еще раз напомнить о партийной дисциплине: первое, каждый отдельный человек выполняет указания организации; второе, меньшинство подчиняется большинству; третье, нижестоящие организации подчиняются вышестоящим; четвертое, вся партия подчиняется Центральному комитету. Кто нарушает дисциплину, тот подрывает единство партии.
После этого больше никто не имел возражений, разобрались по группам, во главе каждой стал военный. Общее руководство возглавил командир батальона.
Он скомандовал:
— Сейчас возьмите в руки цитатники, а карманы курток и брюк выверните! Все дружно исполнили приказ.
Военные, возглавлявшие группы, проверили каждого в отдельности, ни у кого нарушений не обнаружили, и нас повели в столовую. Моя одежда высохла лишь наполовину, но я вынужден был надеть ее, сверху набросил пальто.
Работники столовой, видно, встали гораздо раньше, они уже подготовили и завернули для каждого из нас сухой паек: по две булки, по одному вареному яйцу и куску колбасы. Поскольку этот день был самым счастливым в нашей жизни, поэтому дали по две булки на каждого вместо одной пампушки. Да еще и по вареному яйцу. Да по куску колбасы.
Когда они вручали нам свертки, каждому говорили: «Поздравляем вас со счастьем!».
Можно было видеть и воспринять ухом, что то были искренние поздравления. Военные разделяли наше счастье. Скрытое недовольство, возникшее у некоторых из нас из-за слишком ранней побудки, после услышанного исчезало. Я должен признать, что одним из этих «некоторых» был и я. Полусырая одежда, которую я натянул на голое тело, стала дополнительным раздражителем, но эта их искренность вызвала у меня большее чем у других счастье, ярко отразившееся на лице.
Над поздравлениями пришлось задуматься. Они — это люди, которые живут в Пекине, а ни с чем не сравнимое счастье быть принятыми председателем Мао, в первую очередь досталось нам, а не им, к тому же они должна нас обслуживать. И они ничуть не ропщут, а мы из-за того, что нас подняли немного раньше, стали ворчать, не смогли воспринять это с пониманием. Когда едут на ярмарку, встают куда раньше! Подумав так, я успокоился, почувствовал себя счастливейшим человеком. Хотя на теле была сырая одежда, однако сердце переполнилось счастьем. Боюсь, что в этой жизни не будет второго случая поучаствовать в смотре, проводимом председателем Мао! Разве только, если он развернет вторую великую культурную революцию.
Когда построились и вышли из столовой, я увидел старика-сторожа музея, он стоял на крыльце и, подняв обе руки, молча махал нам на прощание. Интересно, завидовал ли он нам?
ГЛАВА 15
Небо непроглядно черное. Так называемая предрассветная темень и тишина. Холодно. По моим воспоминаниям, зима в тот год в Пекине пришла особенно рано. К счастью, у меня было пальто. Иначе я в своих мокрых куртке и брюках, наверно, умер бы от холода в те предрассветные часы.
Пекин, весь день шумевший и кричавший, только в этот момент, когда ночь одолела день, затих. То была обычная тишина. И в то же время, казалось, — очень даже не обычная. Когда мы дошли до конца переулка, я увидел, что по обеим сторонам улицы на небольшом расстоянии друг от друга стояли вооруженные военные.
Построившись в колонны, мы под командованием командира батальона направились в Пинъань, а из Пинъаня — в Дунсы. Там тоже чуть ли не вплотную один к одному по обеим сторонам улицы стояли шеренги солдат Народно-освободительной армии. Колонна за колонной под командованием военнослужащих НОА из разных улиц к нам выходили хунвэйбины и вливались в наши ряды. Колонна становилась все мощнее и мощнее. Постепенно выстроилось войско, которому не было ни начала, ни конца. Перед одним из перекрестков ввели ограничения. Видимо, для того, чтобы к нам не могли присоединяться те хунвэйбины, которые не должны были участвовать в смотре. Немного погодя командир батальона приказал нам сделать перекличку в группах и впредь не допускать в них посторонних, чтобы предотвратить проникновение в наши ряды классового врага. Командир нашей группы сказал, что, со слов того маленького бойца, он и их командир батальона уже несколько раз водили хунвэйбинов на прием и смотр к председателю Мао и ни разу ничего не случалось, за что они получили благодарность от Центрального комитета по делам культурной революции.
С этой минуты мы стали смотреть на него другими глазами.
Вместе с потоком наша колонна зашла в один из переулков вблизи Дунсы. Сейчас припоминаю, что то был все-таки не маленький переулок, а длинная улица. Огромное войско заполнило всю эту улицу, как бы укрывшись в ней. Поток остановился. Маленький боец сказал нам, что здесь мы будем ждать до рассвета.
Потом мы наблюдали, как прояснялся день. Казалось, чем дальше, тем медленней тянется время. Наконец, рассвело — было всего шесть часов утра. Маленький боец сообщил нам, что смотр начнется только в 10 часов. Он посоветовал нам набраться терпения. Еще ждать 4 часа — как много надо иметь терпения! В моей памяти не было случая, чтобы я выдерживал такое длительное испытание. После этого случая мое терпение тоже ни разу не подвергалось такой продолжительной пытке.
В ходе вынужденного ожидания и проверки способности на долготерпение мы съели все, что у нас было. Желудки заполнились. Сырая одежда на мне высохла. Поднялось солнце. Люди немного согрелись, громко, с подъемом запели революционные песни. Пели повсюду. Несколько военных с успехом поднимали настроение: руководили пением, запевали песни, в такт песни размахивали руками и хлопали в ладоши, как только могли подогревали настроение людей. Песни непрерывно возникали то здесь, то там. Один мотив накладывался на другой, одни старались перекричать других, пели с большим энтузиазмом.
Жители обеих сторон улицы не могли выйти из дворов, не могли войти в дома. Во всех домах к окнам прилипли лица людей, разных по возрасту и по полу, жадно смотревших на нас. Иные из нас, захотевшие пить, просили у них воды. Те тут же открывали окна и подавали стаканы с кипятком или чаем. А если кто-то просил поесть, то и эта просьба удовлетворялась с великой щедростью. Этот кто-то благодарил их, они отвечали «не стоит благодарности» и говорили, что прием хунвэйбинов, прибывших в Пекин из других мест, — это долг жителей столицы. В те годы часы на руке хунвэйбина были редкостью. У многих военных Народно-освободительной армии тоже не было наручных часов. Правда, комбат был с часами, но никто не хотел спрашивать у него время, боясь, что ему не понравится наше нетерпение. Поэтому мы часто стучали в окна жителей столицы и спрашивали у них. Они терпеливо отвечали на вопросы. А некоторые старики и дети сами открывали окна и периодически сообщали время.
— Восемь тридцать!
— Девять часов!
— Девять двадцать пять!
— Девять сорок пять!
— Ровно десять!
И тут вся улица всколыхнулась, подхватила:
— Ровно десять! Ровно десять!
— Наконец-то наступил самый счастливый для нас момент!
— Да здравствует председатель Мао! Да здравствует, да здравствует председатель Мао!
Когда выкрики прекратились, движение колонн еще не началось. Хунвэйбины на улицах забеспокоились.
Военные с трудом сохраняли порядок. Они сообщили, что им сейчас передали весть о том, что сегодня многоуважаемому председателю Мао нездоровится, что время смотра, возможно, отодвинется.
Будто ушат холодной воды вылили на головы людей, настроение хунвэйбинов на улицах вмиг упало. Все опасались, что из-за недомогания председатель Мао может не подняться на трибуну Тяньаньмэнь и в этот день смотр не состоится.
Ждем не дождемся. Только в одиннадцать тридцать под руководством военных, наконец-то, началось движение нашего разношерстного войска, теснившегося на той длинной улице.
Улица Дунсы (а может быть и Дундань) была оккупирована непрерывным потоком колонн хунвэйбинов, как вода катившихся по ней. Шеренги по 30 человек беспрерывно, без конца и начала шли вперед перебежками: то останавливаясь, то делая рывок вперед.
Послышались могучие, восторженные звуки песни «Алеет Восток».
Погода выдалась как на заказ. Хотя ночью веяло прохладой, зато днем ясное небо уходило в бесконечную даль, яркое солнце висело прямо над головой.
Когда повернули на улицу Тяньаньмэнь, из шеренг в 30 человек перестроились в шеренги по 60 человек. Потоки со всех улиц слились вместе, звуковые волны «да здравствует», как воронье карканье, донеслись до первых рядов:
— Да здравствует председатель Мао!
— Да здравствует председатель Мао!
— Да здравствует, да здравствует председатель Мао!
Все это напоминало стоны доносившихся издали морских волн.
Эти возгласы как бы звали нас, они заглушали централизованные команды военных. Колонны смешались. Строй сломался. Образовался общий людской поток, он неудержимо устремился вперед.
Наконец, я увидел Тяньаньмэнь!
Наконец, я приблизился к трибуне Тяньаньмэнь!
Трибуна пуста. А где же председатель Мао? Почему председателя Мао нет на трибуне?
Оказалось он уже больше часа простоял на трибуне Тяньаньмэнь, проводя смотр. Он, старый человек, устал. Он, многоуважаемый, должен отдохнуть.
Те, кто уже увидел Мао, хотели еще раз взглянуть на него. Те, кому не удалось посмотреть на него, были недовольны тем, что не увидели. Поэтому перед трибуной Тяньаньмэнь сгрудились миллионы хунвэйбинов! Действительно миллионы!
— Да здравствует председатель Мао!
— Да здравствует, да здравствует председатель Мао!
— Мы хотим видеть председателя Мао!
— Мы хотим видеть председателя Мао!
Скандировала, кричала, плакала многомиллионная масса хунвэйбинов. То была картина безумного фанатизма, какого не видело человечество за всю историю своего существования!
Людское море, образовавшееся из миллионов хунвэйбинов, слившихся вместе, бурлило и клокотало в водовороте на площади Тяньаньмэнь. Каждый человек в отдельности, как песчинка, крутился и бился в этом огромном водовороте. Не поднимался. Не тонул. Его поворачивало к площади Тяньаньмэнь то лицом, то спиной, и он непроизвольно вращался только в том водовороте.
Снова взвилась песнь «Алеет Восток».
На трибуне Тяньаньмэнь появились люди. Два диктора центрального народного радиовещания — мужчина и женщина — прямо с места события возбужденным до предела голосом сообщили: «Маленькие генералы-хунвэйбины, наш великий вождь председатель Мао, самое красное, самое красное солнышко в наших сердцах, чуточку отдохнув, сейчас снова поднимется на трибуну Тяньаньмэнь вместе с самым близким боевым соратником, нашим самым, самым уважаемым заместителем верховного главнокомандующего Линем! Он, многоуважаемый, полон энергии, в приподнятом настроении, бодр, лицо в улыбке!»...
Людское море шумело. Страсти кипели. Над площадью Тяньаньмэнь бесконечно плыли звуки «да здравствует, да здравствует, да здравствует».
Площадь купалась в лучах полуденного солнца.
Возможно, из-за того, что я был на большом удалении, а может быть от того, что трибуна поднималась слишком высоко над нами, во всяком случае я увидел лишь верхнюю половину туловища председателя Мао, появившегося перед моими глазами. Многоуважаемый оказался не таким уж высоким, как мне представлялся раньше. Больше того, нам, тянувшим головы кверху, он показался очень маленьким. А стоящий рядом с ним заместитель верховного главнокомандующего выглядел прямо-таки крохотным. Мао в сравнении со всеми, кто был на трибуне, был самым высоким, поэтому я с первого взгляда определил, кто среди них — многоуважаемый. Кроме того, как только они взошли на трибуну, все, кроме него, прислонились к задней стенке и стояли неподвижно, снизу были видны только их головы. Поэтому в действительности миллионным массам хунвэйбинов, задиравшим головы кверху, из числа тех, кто поднялся на трибуну, были видны лишь председатель Мао и «самый близкий боевой соратник» многоуважаемого, заместитель верховного главнокомандующего Линь.
Председатель Мао, очевидно, был в очень приподнятом настроении: то он шел к восточной части трибуны, то возвращался к западной, то подолгу находился в центре, под гербом. Он все время передвигался. Приветствуя хунвэйбинов, он непрерывно махал им рукой. Порой, подавшись вперед, вглядывался вдаль, как будто рассматривал памятник народным героям, находившийся на противоположной стороне площади Тяньаньмэнь. Иногда, наклонившись, смотрел вниз, как бы желая передать какие-то чувства хунвэйбинам, смотревшим на него снизу вверх с трибуны для почетных гостей. Заместитель верховною главнокомандующего Линь, не отрываясь ни на шаг, кругом следовал за ним.
Если председатель Мао отправлялся в восточную часть трибуны, он следом шел в восточную часть. Если председатель Мао пошел в западную сторону, он тоже не отставал от него. Если председатель Мао останавливался, он тоже останавливался. Если Мао смотрел вдаль, то он тоже устремлял свой взор туда же. Если Мао склонялся перед трибуной, он тоже склонялся. Если председатель Мао махал рукой, он махал цитатником. Мы могли видеть верхнюю половину туловища председателя Мао, а у него — только голову и плечи. Несмотря на большое расстояние, несмотря на то, что председатель Мао стоял высоко над нами, он все же казался относительно высоким, а «самый близкий боевое соратник» выглядел коротышкой.
Неожиданно председатель Мао снял свою военную фуражку, еще раз склонился к западному углу трибуны Тяньаньмэнь, сделал широкий жест рукой, потом еще раз, и с сильным хунаньским акцентом крикнул: «Да здравствуют хунвэйбины!».
Заместитель верховного главнокомандующего Линь тоже снял военную фуражку, тоже два раза махнул рукой, но из-за тою, что мал ростом, не одолел балюстраду трибуны, и взмах не получился, он снова попытался так же как и Мао широко взмахнуть рукой, но вышло не так, как подобает человеку столь высокого ранга.
Он тоже крикнул: «Да здравствуют хунвэйбины! Да здравствуют, да здравствуют хунвэйбины!»
Миллионами хунвэйбинов овладела какая-то одержимость. Миллионы голосов слились в единые для всех выкрики:
— Да здравствует председатель Мао!
— Да здравствует председатель Мао!
— Да здравствует председатель Мао!
Миллионы рук размахивали миллионами драгоценных книжек.[38] Как в стихе:
Красный дождь по воле людей превратился в морские волны,
Если небо имеет чувства, то небо испытывает то же.
Диктор центрального народного радиовещания снова начал передачу: Маленькие генералы-хунвэйбины, ради здоровья многоуважаемого председателя Мао просим продолжать движение, пожалуйста, проявите высокую революционную сознательность, дайте возможность маленьким генералам, находящимся позади, беспрепятственно пройти через площадь Тяньаньмэнь, получить счастье увидеть блестящий образ многоуважаемого председателя Мао, пройти смотр у многоуважаемого председателя Мао!»...
Диктора-женщину сменил мужчина, который повторил то же самое. Людской поток, как лавина скопившейся сели, прорвавшей дамбу, с шумом и грохотом устремился на площадь, вытесняя тех, кто там был до этого, создавая критическую ситуацию.
Эта людская лавина подхватила меня и вынесла к зданию телеграфа, только оттуда я смог двигаться на собственных ногах и в выбранном направлении.
Только покинув площадь Тяньаньмэнь, только выбравшись из водоворота, люди, как бы очнувшись от сна и грез, все и каждый в отдельности начинали осознавать действительность, приходили в нормальное состояние, торопливо растекались в разные стороны. Люди почувствовали, что исполнили долг — прошли смотр. Они желали это и теперь на самом деле выполнили «задачу», которую раньше жаждали осуществить. Выполнив эту «задачу», они могут покинуть Пекин и отправиться в Шанхай, либо в Гуандун, поехать в Фуцзянь или Сиань, побывать во всех городах и местах, которые они хотели посетить. Южане имели желание направиться на север, северяне — на юг.
Теперь они могут удовлетворить все свои желания, все, что захотят. Они испытывали счастье, а точнее — чувствовали себя вольготно, они расслабились.
У очень многих хунвэйбинов обувь истопталась. У некоторых настолько, что обе ноги выглядывали наружу, ведь откуда только они не пришагали в Пекин, а еще надо было возвращаться назад. Часто «великие босоногие святые» старались привлечь к себе всеобщее внимание и пустить пыль в глаза. Одни демонстративно несли изорвавшиеся туфли в руках, другие, наоборот, не снимали с ног, чтобы выглядеть экзотичнее и комичнее. Те, кто не пострадал, смотрели на них с насмешкой, издевались над их стремлением повеселить публику.
Я вернулся в музей Министерства геологии босиком вконец расстроенный тем, что лишился своих наполовину новых туфель марки «Цзефан». Я особенно печалился из-за того, что хотел съездить в Сычуань навестить отца. Он очень давно не присылал домой писем. Мне хотелось своими глазами увидеть, как он там живет. А если постигло несчастье, то я решительно настроился остаться у него, разделить его одиночество, поддержать морально. И вот, оставшись босиком, я никак не мог предстать перед отцом в таком виде, от которого он придет в еще большее расстройство.
Я был вне себя от тоски и печали. И тут ко мне подошел один шанхайский хунвэйбин и посоветовал взять у него новые матерчатые тапочки в обмен на мой кусок руды.
Но то для меня был прекрасный памятный подарок. Хотя и обменять его на новые тапочки было очень выгодно. Смущало то, что они были слишком велики на меня. И я, и он долго раздумывали как быть.
Под вечер я услышал, что на столичном стадионе (а может быть и на другом, точно не помню) выставлено множество всякой обуви из числа той, которая была утеряна во время смотра, и можно опознать и получить свою.
После ужина я босиком отправился на стадион. На поле большого стадиона в несколько десятков кругов была расставлена обувь в пределах 2–3 тысяч единиц, по крайней мере, не меньше. И действительно многие хунвэйбины опознавали свою и забирали.
Уже стемнело. Я прошел вдоль всех кругов, начиная с наружного и вплоть до внутреннего, но свою пару туфель так и не нашел. То была эпоха освобождения, поэтому многим изделиям присваивали марку «Цзефан» (освобождение). Среди туфель, выставленных на опознание, половина была именно этой марки. Да и как мои туфли могли оказаться вместе и стоять рядом в одной паре? Это немыслимо. Я и сам бы их не опознал.
Один «земляк» председателя Мао рассудил так:
— Ищи не ищи, где найдешь пару одних и тех же, обувай, какие подойдут, и все тут! Хунвэйбины в Поднебесной — одна семья, ты обуешь мои, я обую его! Мы все вместе идем к единой цели, никакой разницы!
Просветившись у него, я стал натягивать на ноги пару за парой, перемерил больше двух десятков и, наконец, обул обе ноги в примерно одинаковые туфли, обе марки «Цзефан». И притом новые. Старые заменил на новые, оказался в выигрыше. Задерживаться не стал, боялся, что кто-нибудь из тех, кто придет позже, узнает на мне свои туфли, поэтому быстренько удалился.
Перепутав транспорт, снова приехал на площадь Тяньаньмэнь. Смотр уже закончился, а людей по-прежнему было немало. У красной стены заметил какое то оживление. Подошел и увидел, что все, кто там был, ладонями и пальцами стирали со стены красный порошок, потом прижимали ладони и пальцы к блокнотам. Без вопросов стало понятно, что это тоже был способ, как оставить для себя своеобразную память. Человеческие руки уже добрались до следующего слоя краски на стене, терли так старательно, что появился нижний слой другого цвета.
Я тоже протиснулся к стене. Намазал руку красным порошком и тут вспомнил, что я не захватил с собой блокнот. Интерес пропал, и руки негде помыть, даже носового платка не было (я в свои 17 лет еще не понимал, что носить с собой носовой платок — это признак хорошего воспитания), поэтому подобрал с земли клочок грязной бумаги и вытер руку.
Вдруг увидел, что вблизи люди быстро кого-то окружили. Любопытные тут как тут. Сразу вокруг них образовалась стена, все хотели видеть, что там за ней. Как оказалось, Это были две юные монголки. Люди, которые окружали их, выяснили) что они — это юные героические сестры степей», те, что в течение дня и ночи героически боролись со снежной стихией ради спасения отары овец. Им беспрерывно подавали блокноты и носовые платки с просьбой расписаться на монгольском языке для памяти. Они не понимали по-китайски и не могли говорить, но сообразили, что от них хотят люди, от души ставили свои автографы на монгольском языке, удовлетворяя желания всех. Кто-то из толпы громко выкрикнул:
— Они вовсе не «юные степные сестры», в журнале «Жэньминь хуабао»[39] я видел снимок «юных героических сестер степей», они по росту совсем не такие как эти!
Его слова вызвали возмущение людей. Все считали, что они — это подлинные «степные сестры», а он по-прежнему утверждал обратное. Всем испортил настроение, чтоб ему пропасть!
— Это — они! Точно они!
— Пусть не врет!
— Перестань мутить воду!
— Ты настоящий хунвэйбин или примазавшийся?
Под шумное возмущение толпы он, обескураженный, предусмотрительно быстро удалился.
Тот, кто портил настроение массам, тот становился врагом масс. Если даже мудрые массы обманывали людей и себя, все равно ни в коем случае не хотели признаться в этом. Если признаешься, то не получится хорошего финала. В те годы широкие революционные массы большую часть времени не только наслаждались, но и радовались самообману и обману других. Потому что этот способ мог превратить некоторые незначительные дела в дела, имеющие смысл и значение. В те годы широкие революционные массы умели находить различные явления и события, которые, как они полагали, заслуживают внимания. К примеру, некоторые из них считали, что там, где есть высказывания Мао Цзэдуна, независимо от того, как они написаны, от руки или напечатаны, и где помещены, на бумаге или на стене, в любом случае около них должен быть блестящий портрет головы многоуважаемого председателя Мао. Только тогда они будут нести организующее начало. Они выгравировали на твердом картоне и вырезали массу различных портретов головы председателя Мао, с ведрами краски в руках прошлись по всем улицам и закоулкам, и там, где обнаруживали его изречения, изображали голову председателя Мао. Кроме того, они прислали открытое совместное письмо в газету «Жэньминь жибао», в котором предлагали в верхнем углу первой колонки газеты, где печатаются изречения Мао, помещать изображение его головы. И тогда во всех провинциальных, городских, уездных и местных газетах, а также боевых листках и листовках хунвэйбиновских организаций тоже появились изображения головы председателя Мао. Если все это не делать постоянно, рассуждали они, то революционные массы постепенно почувствуют, что великая культурная революция пошла на спад.
Я не захватил с собой блокнот, однако не хотел упустить благоприятный случай, быстро сработала изобретательность. Сбросил с себя куртку и жестом руки показал «степным сестренкам», чтобы они сделали запись на майке. А чтобы им стало понятно, что надо написать, я показал на трибуну Тяньаньмэнь, подняв руки, дважды подпрыгнул, пытаясь объяснить им, чтобы они написали «да здравствует председатель Мао!».
Не знаю поняли они, что я хочу или нет, но они кивнули головами.
И тогда я повернулся к ним спиной.
Почувствовав, что они закончили писать, я все же не успокоился, спросил соседа:
— Они уже написали?
— Написали! Быстрей отваливай, пусть мне напишут! — ответил он, оттолкнув меня.
Охваченный радостным чувством от того, что сделал неожиданное приобретение, я надел куртку и, боясь снова перепутать автобусы, пешком вернулся в музей Министерства геологии.
Перед сном снял майку, оголив свой торс, и держа ее перед собой обеими руками, любовался ею и восторгался.
Написано было крупно, отчетливо. Монгольское письмо выглядело красиво, все его завитушки походили на цветы.
Шанхайский хунвэйбин, находившийся недалеко от меня, подошел и спросил:
— Кто это тебе написал? Что написано?
— «Степные сестренки» написали! Да здравствует председатель Мао! — хвастливо ответил я, сияя от радости.
Его глаза загорелись завистью и он тут же спросил:
— Где ты их встретил? Пусть они мне напишут, если можно!
— Перед трибуной Тяньаньмэнь, но они согласятся написать только при условии, если у тебя есть повязка хунвэйбина! — сказал я.
А ты снова пойдешь на площадь Тяньаньмэнь? Тогда я тоже пойду, готов хоть сейчас! По дороге купим несколько носовых платков и попросим их написать на них! — сказал он, поднявшись в готовности немедленно отправиться в путь.
— Братишка, не ходи! Ты думаешь, что они могут до сих пор ждать тебя у трибуны? Давно ушли оттуда! — сказал я.
— Правда? — усомнился он.
— Зачем мне тебя обманывать? Я долго бродил по Тяньаньмэню прежде чем встретил их. Смотрю и думаю: кажется их видел где-то! Внезапно вспоминаю: да это же «юные героические степные сестренки»! Сразу остановил их, спрашиваю: «Одна из вас Лунмэй, вторая Юйжун, да?». Они ответили: «Да, а ты откуда знаешь?». Я им сказал: «Журнал «Жэньминь хуабао» помещал ваш снимок, он остался в моей памяти!». Младшая из них говорит: «Правильно!», а старшая предупредила: «Тогда ты не шуми, иначе вас окружат со всех сторон и будут просить оставить автографы на память!». Я моментально поднял куртку и попросил их сделать запись на майке. Написав, они сразу же ушли! Во всем Пекине нет второго человека, который мог получить на память такую надпись!
Слушая меня, он держал перед собой мою майку, никак не налюбуясь завитушками монгольского письма, не в силах выпустить ее из рук.
Я был на седьмом небе от успеха. И сам не знаю, зачем мне понадобилось сочинять ложь, обманывать его.
— Давай посоветуемся! — сказал он тихо.
— Снова хочешь предложить обменять на свои матерчатые тапочки? Хватит, я уже обулся!
— Да не обменять, купить у тебя! — понизив голос, сказал он полушепотом.
— Купить? — растерялся я.
— Назови свою цену, — сказал он.
Я размышлял: еще надо съездить в Сычуань, а поговорка гласит: «дома будь бережлив, а в дороге денег не жалей», деньги — это то, чего мне больше всего недоставало. Поэтому спросил:
— Сколько ты хочешь дать?
Он вытянул руку, растопырив пальцы.
— Пять юаней?
Он кивнул головой.
Я вырвал у него майку.
— Все, хватит! Отдавай мою майку или добавляй два юаня!
— Да она у тебя скоро порвется!
— Зато как сувенир она бесценна! Слова из пяти иероглифов «да здравствует председатель Мао» написаны по-монгольски! Написаны самими «юными героическими степными сестрами»! Ты подумай, купишь ли ты один иероглиф за один юань? Пять иероглифов в словах «да здравствует председатель Мао» не стоят этих денег? А их росписи отдать тебе даром? Не уступлю ни на фэнь! Через 10–20 лет создадут какой-нибудь музей «Великой культурной революции», и эта моя ветхая майка станет реликвией! — С этим я согласен, согласен! А сколько ты все-таки просишь за нее?
Он не спускал взгляд с моей майки, смотрел на нее так, как смотрят специалисты-антиквары на редчайшую в мире антикварную вещь.
— Хунвэйбины обязаны соблюдать «три принципа дисциплины и восемь правил поведения».[40] Мы оба хунвэйбины, купля-продажа должна быть справедливой. Я тоже запрошу не много, дай мне пятнадцать юаней! — сказал я.
Он колебался.
— Меньше чем за пятнадцати юаней я ни за что не продам! Кто не мечтает, возвратясь с великого шествия, привезти с собой несколько важных памятных вещиц? Только хорошо понимая твои чувства, я соглашаюсь... — я стыдился произнести слово «продать» и искренне, но в то же время хитроумно продолжал, — я не в силах подарить тебе бесплатно. Я могу поменяться с тобой, но только не отдать бесплатно, ты тоже должен понять мои чувства...
Он по-прежнему колебался.
Видя его нерешительность, и, боясь, что «обмен» не состоится, достал из-под соломенной подстилки тот самый кусок руды и положил на майку. Голосом, каким говорят, когда жертвуют самым сокровенным, сказал:
— Пятнадцать юаней, и оба дорогие для меня памятные сувенира отдаю тебе! Наконец он разомкнул уста и вытолкнул всего одно слово:
— Хорошо!
Я завернул кусок руды в майку и положил ему на ногу. Одновременно протянул ему руку.
Он тоже сразу же вынул из кармана кошелек. Денег в его кошельке было не мало, причем не десятиюаневые, а по пять юаней, поэтому пачка получилась толстая, наверно, больше ста юаней. Мы всей семьей на сто юаней жили два месяца. А он имел возможность взять с собой в великое шествие такую большую сумму, просто завидно! Все говорили, что шанхайцы скряги, теперь я в этом убедился. Имея столько денег, он хотел обойтись всего пятью юанями! Знай я раньше, что он «стоюаневый богач», я бы пожестче надавил на него! Пришлось с опозданием раскаиваться, чуть ли не рвать волосы на себе. Будь у меня опыт, выдержка, я бы, вероятно, ни в коем случае не добавил еще и кусок руды. Или за руду запросил бы, отдельную плату и мог сбыть дороже на 5–8 юаней.
Когда он отдал мне деньги, спросил:
— А нет ли у тебя еще каких-нибудь памятных вещиц?
— Нет. Только эти две, теперь ты можешь не раз похвастаться своими сувенирами.
Он радостно улыбался, взял мои майку и руду, вернулся к своей постели, положил в чемоданчик и запер его на замок.
Пришел наш старик и объявил, что каждый из нас может жить в музее только три дня. Через три дня все мы должны уехать, так как многоуважаемый председатель Мао уже провел нам смотр. А они начнут прием следующей партии хунвэйбинов, которая прибудет в столицу.
Я возвратил ему пальто.
Он сказал, что я могу по-прежнему надевать его и укрываться по ночам, а когда буду уезжать, чтобы вернул ему.
ГЛАВА 16
На следующий день я втиснулся в поезд, направлявшийся в Чэнду.
Изучив «передовой опыт» шэньянской хунвэйбинки, я, как только забрался в вагон, сразу же заглянул под сиденья. Я думал, что только мне одному известно об этом хитроумном способе проезда в поезде, но оказалось, что таких умников много.
Под сиденьями уже образовался свой отдельный мир; охотников располагаться этажом ниже было не мало. Причем, они заранее приготовились к этому: запаслись и водой, и сухим пайком. Хунвэйбины всей страны — братья.
Благодаря их заботе и поддержке я утолил голод продуктами, которыми они со мной поделились. Я всю дорогу пил дарованную мне воду. Можно сказать, что весь путь до Чэнду я не очень голодал и не испытывал особой жажды. В то же время я и побаивался есть и пить вволю — опасался, что придется часто бегать в туалет. Сидя под полками вагона, мы вели разные разговоры, а когда нечего было обсуждать, спали.
Через три дня и четыре ночи мы благополучно добрались до Чэнду. Хотя в сравнении с обычным графиком движения мы ехали в три раза дольше, зато обошлось без приключений и неприятностей, можно сказать, доехали благополучно.
Первое, что мы почувствовали, как только ступили на перрон станции, так это атмосферу террора — несколько десятков хунвэйбинов как раз наклеивали дацзыбао на противоположной вокзалу стене. Они были написаны красными чернилами, живым, выразительным почерком, скорописным способом. Более десятка плакатов с множеством иероглифов на них облепили всю стену. Без особого интереса я подошел к ней, стал вникать в содержание. Разобрал лишь заголовок: «Кровавый инцидент в Чэнду». Треть стены, оклеенная белой бумагой, была оставлена незаполненной и издалека бросалась в глаза.
Я только увидел, как один из хунвэйбинов, держа в руке камышовую кисть с двухметровой рукояткой, разболтав содержимое ведра, как великий каллиграф, обмакнул в него кисть.
Второй хунвэйбин добавил в ведро полтаза клейстера, резко размешал палкой.
Тот, что держал кисть, стараясь не уронить достоинство, с напускной важностью поднял ее высоко над собой, легко мазнул черту с откидной влево, затем начертал вертикальную, за ней изобразил изогнутую линию и еще две вертикальных и все это подчеркнул горизонтальной прямой — получился устрашающий иероглиф «кровь», «обагрять кровью».
Написав, он отбросил кисть, отступил назад несколько шагов, вытер руки, оценивающе посмотрел на свое творение. Его партнер поднял ведро и изо всех сил, как делают при тушении пожара, выплеснул содержимое на стену, которая вмиг обагрилась «свежей кровью». Смесь клейстера и красных чернил вязкими струйками лениво сползала вниз.
И ведро, и таз, и кисть уже не нужны. Побросав все, хунвэйбины с независимым видом отправились по своим делам, а встречные старались не попадаться на их пути, держались от греха подальше.
Я, охваченный страхом, какое-то время стоял на месте. Было такое ощущение, что над этой «обетованной землей» кругом витает смерть, что она таит в себе зло и опасность для жизни.
Призвав на помощь мужество, собравшись с духом, я двинулся в неизвестность. Про себя, думал: ведь я тоже могущественный хунвэйбин, а испугался какого-то там иероглифа «кровь», «обагрять кровью».
Неожиданно стал встречать людей, бегущих в одном и том же направлении. Из расспросов узнал, что там цзаофани будут принародно расправляться с «женщиной — главарем банды». Тогда я по ассоциации вспомнил, что в одной из прочитанных мною книг гоминьдановцы называли коммунистическую партию «коммунистической бандой», а коммунисток — «бандитками». А затем вспомнил «старушку с пистолетами в обеих руках», вспомнил «девушку Хуан Ин». Неужели из Сычуани вышел целый отряд контрреволюционеров, да еще и во главе с женщинами?
На душе стало сиротливо и страшно, надо было как-то разобраться с обстановкой, поговорить с людьми. Расспрашивать мужчин я не осмелился, — они мне показались жестокими. Поэтому заговорил с молодой снохой, продававшей жареный арахис. Уже одно то, что молодая замужняя женщина в свои годы не пошла бунтовать, а занималась делом — продавала арахис — выдавало в ней хорошую хозяйку, ее не отнесешь к таким, как «вторая сестра Сунь» или «старшая сестра Гу».[41] Для того, чтобы разговорить ее, прежде купил арахис и только потом, смущаясь, стал задавать вопросы.
Она рассказала, что в Чэнду есть массовая организация, которую противостоящая ей группировка объявила бандитской и намерена истребить до основания.
Кроме того она добросердечно, посоветовала:
— Браток, ни в коем случае не лезь в чужие дела! В Чэнду царит смута и заваруха, ты еще молодой, лучше тебе здесь долго не задерживаться!
Я поблагодарил ее за добрый совет и, жуя арахис, отошел от нее. Не собираясь смотреть зрелище: расправы с «бандиткой», я тем не менее не совладал с неодолимым любопытством, ноги сами понесли меня вслед за толпой.
И вот что я увидел. В тот момент, когда я оказался у места события, цзаофани готовились к расправе над женщиной с виду старше 30 лет, ее руки были заведены за спину, а связывавшая их веревка обмотана вокруг шеи. Один из цзаофаней принародно зачитал вменяемые ей преступления: шпионка, рваная туфля, пользуясь внешней красотой, разлагала настоящих левых революционеров, настраивала одни народные массы против других, распространяла ложные слухи о Центральном комитете по делам культурной революции... короче говоря, обвинялась во всех смертных грехах, не хватит бумаги, чтобы все описать.
На улице стоял большой котел с растопленной в ней смолой. Когда было закончено перечисление обвинений, несколько цзаофаней подняли женщину и бросили ее в котел. Часть смолы выплеснулась из него. Люди наблюдали издали, наблюдали молча.
Женщина сделала в котле резкий рывок, дернулась корпусом, но будучи связанной по рукам и ногам, встать не смогла. Ее туловище изогнулось вдоль верхней кромки котла и в таком положении оставалось, превратившись в черный комок. Однако с начала и до конца мучений оно билось в конвульсиях, непрерывно ворочалось, не издав при этом ни единого стона или крика. Я подумал, что это был человек исключительной стойкости, но из высказываний людей, стоявших рядом, узнал что ее рот был туго забит ватой...
Цзаофани, оставив ее, заскочили в свою грузовую машину и уехали.
Она по-прежнему билась и дергалась в котле.
Вдруг откуда-то выскочил мужчина, который бежал к котлу. С ним было две девочки, одну он держал за руку. Почти точно можно было догадаться, что то был ее муж и две дочери. Муж плакал. Девочки тоже плакали. Все они плакали и бежали.
Сначала они не осмелились опрокинуть котел или подхватить ее и вырвать из него. Но когда своими глазами увидели жену и мать, они изо всех сил бросились спасать ее. Мужчина и две девочки обеими руками обхватили котел снаружи, но, видно, обожгли руки и отпрянули.
Один китаец, продававший соевый соус, человек средних лет, издали кинул им металлический крюк. Этим крюком мужчина стремительно опрокинул котел и выплеснул смолу...
Из всех потрясающих сцен, какие я видел своими глазами, эта была самой жестокой, самой бесчеловечной. Впоследствии я слышал много страшных историй, возникавших в ходе «великой культурной революции». Например, во Внутренней Монголии для получения признания у членов партии «Нэйжэньдан» применялись всевозможные чудовищные истязания, а в одной из провинций для того, чтобы казнить человека было достаточно половины голосов Высшего суда крестьян-бедняков и наименее состоятельных середняков, причем применялось отсечение головы, это называлось «экономно заниматься революцией». В то время говорили, что пуля стоит три мао и семь фэней. Сейчас деньги обесценились и, наверно, такой суммы не хватит. Позже Верховный суд бедняков и низших середняков доказал свою несостоятельность и был запрещен центральным комитетом по делам культурной революции. Если детально просмотреть выступления начальников из Центрального комитета по делам культурной революции тех лет, то можно найти исторические обоснования для такого запрета.
Если, конечно, материалы всех их выступлений тех лет по-прежнему хранятся в целости и сохранности. Были примеры, когда к соскам груди женщины на тонкой проволоке привязывали куски свинца, когда в глаза людям направляли мощные лучи киноаппаратов пока у человека не появлялись искры в глазах, жестоко избивали в кромешной темноте — именно так погиб известный сценарист Хай Мо, работавший на Пекинской киностудии... но все это в конечном счете слухи, а не свидетельства очевидцев.
А вот тут я оказался очевидцем, у меня поистине волосы встали дыбом, от страха душа ушла в пятки.
Неожиданно снова пришла грузовая машина, с нее перепрыгнула уже другая группа людей — тех, кого называли «бандитами». Они вытащили из смолы их «боевую подругу», вернули ей доброе имя, объявив, что их «стальной боец», их «сестра Цзян», их гордость, образец для подражания... После этого они громко провозгласили серию лозунгов:
«Зуб за зуб, око за око, кровавый долг вернется кровью!». «Полетят головы, прольется кровь, клянемся не покориться до смерти!». «Пока будем живы, наши красные сердца никогда не изменят председателю Мао!».
И так далее, и тому подобное.
Закончив с лозунгами, они разбросали листовки, подняли на борт машины своего «стального бойца» и запели песнь «Умрем за правое дело», взятую из героической эпической поэмы «Алеет Восток»:
В кандалах отправляемся в дальний путь, Прощаемся с родными и земляками, Мы не боимся потерять свои головы, Только бы верной была идея. Если, сраженный, погибну я, На смену придет волонтер, что стоит за спиной...Машина медленно удалялась, звуки песни эхом возвращались к нам... После обеда я устроился на жительство в метеорологической школе города Чэнду. Теперь уж и ни вспомнить все то, что там было пережито.
День тогда был очень хмурый. Под вечер пошел дождь — мелкий, моросящий, казалось не будет ему ни конца, ни просвета. «Осенний дождь, осенний ветер, тоска съедает человека».
Поместили меня в учительскую. Через бетонный пол комнаты пробивалась трава. На траве — циновка. Пол — мокрый. Трава — сырая. Циновка — тоже сырая. У стенки — одноместная кровать с ватным матрацем на ней. Вата тоже сырая. Неизвестно, сколько человек на нем переспало, он уже был продавлен и потерял всякую форму, его кое-как скатали в рулон и бросили на кровать. Через окно величиной с аршин у самого потолка комнаты со стороны улицы пробивался свет и виднелся клочок неба. Хотя Чэнду — это уже юг, но даже там ночь показалась, как и везде, холодной.
Я свернулся калачиком, подтянув к животу голову и ноги, и всем телом ввинтился в логово, образованное из матраца, как мышка в норку. Учительская освещалась не лампами дневного света, а обычной электролампочкой. В ту ночь в ней были только я и один хунвэйбин средней школы, прибывший из Баоцзи. Он тоже не мог заснуть от холода и вытащил меня из матраца, чтобы я подставил ему плечо и помог опустить ниже лампочку. Я повиновался ему. Мы вместе распрямили и вытянули электропровод, подвязали на бечевку. Когда опустили ее пониже, она оказалась в полуметре от пола. Сразу почувствовалось, как от лампы-двухсотки пошло тепло. Он подтянул поближе ко мне свою подстилку и циновку, теперь лампочка висела между нами и мы оба почувствовали, как стало немного теплее. Он сообщил мне, что на следующий день на площади Жэньминьнаньлу состоится многолюдное собрание по борьбе с Ли Цзинцюанем и Ли Дачжаном. Я спросил его, кто такие Ли Цзинцюань и Ли Дачжан. Он с усмешкой, подчеркивающей мою неосведомленность, сказал что один из них самый большой «каппутист» на юго-западе страны, а второй — самый большой «каппутист» в Сычуане, и пригласил меня вместе с ним поучаствовать в собрании. Меня это не заинтересовало и в то же время, не желая испортить ему настроение, я с неохотой согласился и заснул.
Разбудил меня он. Проспал я до половины следующего дня. Он принес и положил мне на циновку две пампушки, завернутые в листовку, поторопил, чтобы я быстрее ел и вместе с ним шел на площадь Жэньминьнаньлу. Я увидел, что за окном по-прежнему шел дождь и идти расхотелось. Но как было отказаться, если с вечера дал согласие, к тому же человек заранее встал и обеспечил тебя завтраком. Я в спешке съел пампушки, сбегал на первый этаж умыться и в его сопровождении отправился на площадь. Когда мы пришли туда, площадь уже была забита людьми. Это были главным образом рабочие и крестьяне. В те годы «революционную задачу» по разгрому «каппутистов» в первую очередь выполняли рабочие, крестьяне, военнослужащие, учащиеся и работники торговли. Если рабочий не участвовал в общественном движении, у него вычитали деньги из зарплаты. Такие понятия, как «главное — это деньги» или «материальный стимул» уже давно были раскритикованы и оплеваны; в то время премии уже не выдавали, передовиков производства награждали лишь грамотами. Могли без причины уменьшить заработок. Удержание из зарплаты для рабочего смерти подобно, поэтому они не могли не пойти на собрание; если не будет участвовать крестьянин, ему срежут выработку, а это значит, что рис второй очереди он получит в следующем сезоне, поэтому он тоже вынужден идти на собрание. Если нет транспорта, чтобы подвезти их, то люди поднимутся еще до пяти часов утра и 30–40 ли, а то и 50–60 оттопают пешком и вовремя будут в городе. Они приходят раньше всех, и большинство из них сидит ближе всего к помосту, терпеливо ожидая начало собрания, на котором будут громить «каппутистов». Они, пожалуй, даже более дисциплинированны, чем рабочие. Так как они не являются «руководящим классом» в «великой культурной революции», а лишь «надежным партнером» на вторых ролях. Поэтому их дисциплинированность — это проявление традиционного хорошего воспитания, их роль сводится к роли гостей: шуметь, не подавляя голоса хозяев.
Хунвэйбины высших учебных заведений в этих многолюдных сборищах по борьбе и критике были разработчиками планов мероприятий и организаторами их исполнения непосредственно на местах событий. В такой атмосфере торжественности и величественности всегда очередь не доходила до хунвэйбинов низших и высших ступеней средних школ, чтобы они могли самовыразиться. И так было повсюду: на востоке страны, на западе, на юге, на севере и даже в центре. Хунвэйбины средних школ могли лишь с милостивого разрешения хунвэйбинов высших учебных заведений получить счастливый шанс погреться в лучах чужой славы и выразить себя. Например, выдвинуть одного-двух главарей посидеть за почетным столом вместе с руководящими хунвэйбинами вузов, получить право направить одного-двух человек на помост, где зачитывается обвинение критикуемым, оказывать поддержку выкрикиванием лозунгов...
Я вместе с хунвэйбином из Баоцзи сидел очень далеко и не мог разглядеть «лица людей, находившихся на помосте, хотелось узнать, но не у кого было спросить, удостоили ли чести хунвэйбинов средних школ быть приглашенными на помост в тот день.
Меня удивило то, что среди агитационных машин высших учебных заведений Сычуани и г. Чэнду оказалась агитмашина красных цзаофаней военно-строительного института города Харбина. По слухам они уже давно своими лозунгами объявили: «Там, где есть «каппутисты», там и мы — красные цзаофани!». «Там, где идет самая опасная классовая борьба двух линий, там наши бойцы идут в наступление один против десяти!». Однако же я никак не мог предположить, что их агитмашина может появиться в Чэнду, за несколько тысяч от Харбина.
Показав на машину, я не без гордости сказал тому хунвэйбину из Баоцзи:
— Посмотри, это агитмашина из Харбинского военностроительного института!
Однако своим ответом он удивил меня еще больше:
— Я в Баоцзи видел ее, именно эту машину.
Я не поверил. Тогда он назвал мне ее номер.
Я подумал: болтает, что попало.
Он протянул руку, показал ее мне. На передней части машины я увидел тот номер, который он назвал. Люди не очень то верят, что они такие бесстрашные в бою. А я в душе восхищался ими. Чувствовал себя неполноценным из-за того, что родился слишком поздно. Хунвэйбины вузов считались выдающимися личностями, обладающими огромной властью, способными потрясти небо и заставить плакать даже духов и бесов. Поэтому в будущем блистательные исторические деяния «великой культурной революции», пожалуй, полностью будут отнесены на их счет! Спросят: кто на необъятной земле возглавил великие перемены? Ответ ясен — они. И уж никак не мы. Мы — хунвэйбины средних школ — были представлены всего лишь как пионерские организации! Как говорится, подмога.
Меня тот парень из Баоцзи и так по существу притащил туда насильно, а когда мне в голову пришли такие мысли, то и совсем отпало желание участвовать в том многолюдном сборище по борьбе и критике. Я продолжал размышлять: предположим, что я тоже был бы руководителем хунвэйбинов вуза, то в этот момент сидел бы на помосте, имел бы сотни, тысячи, десятки тысяч подпевал! Это положение даже выше, чем было у каких-то Ли Дачжана и Ли Цзинцюаня, трудовые дела которых несравнимо богаче, чем у многих других личностей, они стояли бы передо; мной с опущенными головами, согнувшись в пояснице, и твердили бы: «виноват, виноват», «чтоб мне сдохнуть, чтоб мне, подлецу, сдохнуть». Где же их достоинство? Что можно чувствовать в таком положении? Наверно, даже в таком случае все равно надо оставаться человеком!
Когда я мыслями все еще парил в облаках, вдруг услышал три мощных залпа, донесшихся с помоста. Следом зазвучала песнь «Бунт — дело правое»:
Марксистские истины Сложны и запутанные Конечный их вывод простой: Бунт — дело правое, Бунт — дело... правое!Тощий высокий хунвэйбин подошел к помосту, махнул длинной рукой вверх и вниз, повернул проигрыватель в сторону толпы (в те годы еще не было магнитофонов, проигрывались граммофонные пластинки).
И тогда рабочие тоже запели. Запели и крестьяне. Слова этой песни, исполнявшейся с сычуаньским акцентом (особенно крестьянами, сидевшими у самого помоста) безбожно искажались, мотив тоже был не совсем тот, каким надо было петь. Неправильно выговаривался звук «к», «сюй» произносили как «цзюй», слова «бунт — дело правое» слышались, как «в поджаренной пище имеется рис». От начала и до конца пели как бы под барабан. Недоставало уверенной и смелой боевитости, в избытке был местный песенный колорит.
По окончании пения распорядитель объявил о начале собрания критики и борьбы.
Он сказал:
— Три залпа салюта возвестили о том, что исполнилось три месяца с того момента, как родились хунвэйбины. Мы хотим под звуки салюта, приветствующего рождение хунвэйбинов, под звуки песни «Бунт — дело правое» начать яростное наступление против горстки людей внутри партии, облеченных властью и идущих по капиталистическому пути, решительно уничтожать все старое, прогнившее! Никакой снисходительности! Введите на помост Ли Дачжана, Ли Цзинцюаня и других!...
И тогда под выкрики хунвэйбинки из высшего учебного заведения «разгромим!» на помост вывели под стражей пятерых преступников для критики. У каждого на голове высокий колпак, на груди — большая табличка. До них было очень далеко и я хотел встать на ноги, чтобы разглядеть, кто из них Ли Дачжан, а кто Ли Цзинцюань, хунвэйбин из Баоцзи резко дернул меня за край куртки, тихо сказал: «Сиди спокойно, не накликай беды!». Я быстро глянул во все стороны, кругом были хунвэйбины из отряда по поддержанию порядка, и не осмелился приподняться.
— Ли Дачжан, встань на колени!
— Ли Цзинцюань, встань на колени!
Как только раздались строгие команды, два человека из группы критикуемых встали на колени.
Я подумал, что они и есть Ли Дачжан и Ли Цзинцюань. Но нет. Так как на помосте снова скомандовали:
— Ли Дачжан, встань на колени!
— Ли Цзинцюань, встань на колени!
— За мной нет вины, я не встану, — громко ответил один из трех оставшихся стоять критикуемых. Не знаю, кто то был: Ли Дачжан или Ли Цзинцюань.
— Сопротивление «великой пролетарской культурной революции» приведет вас к очень тяжелому финалу!
— Итак, реакция не сдается! Что ж, тогда будем истреблять ее!
Все та же девушка-хунвэйбин из вуза пронзительным голосом выкрикнула серию лозунгов со словом «разгромим».
Трое «каппутистов», стоявших на ногах, по-прежнему не опустились на колени они лишь склонили головы, согнулись в пояснице, но вопреки ожиданиям не побоялись ослушаться команды. Несмотря на то, что они все же согнули спины и опустили головы, можно считать, что они держались молодцами. Юноши всегда уважали таких людей, я тоже про себя восхищался ими. Даже очень восхищался, и не скажу, что не сострадал им.
По рассказам, ходившим среди людей, когда хунвэйбины столицы по наущению Цзян Цин критиковали и вели борьбу с Чэнь И, тот маршал не согнулся, не опустил голову, наоборот, даже попросил дать ему стул, вступил в полемику с хунвэйбинами, предложил им обратиться к сборнику цитат Мао, сказав:
«Прошу вас, маленькие генералы, открыть 271 страницу. Председатель Мао учит вас: Чэнь И — хороший товарищ!»...
В самом первом сборнике цитат Мао, изданном Главным политическим управлением Народно-освободительной армии Китая, было всего 270 страниц.
Хунвэйбины решили, что он хочет посмеяться над ними, и спросили, не он ли сочинил такой сборник цитат Мао.
Чэнь И с невозмутимым видом ответил: «Уважаемый Верховный Чжу, а также премьер Чжоу знают и могут подтвердить, что председатель Мао сказал обо мне такие слова. Отныне вы должны накрепко запомнить их и включить в сборник цитат Мао».
Хунвэйбины, конечно, не верили ему, но благодаря созданной им благожелательной атмосфере и важному чину маршала, никто не посмел даже прикоснуться к нему.
Кроме того, он сказал: «Если вы не верите, можете спросить председателя Мао, уважаемого Верховного Чжу и премьера Чжоу! Я, Чэнь И, и председатель Мао разговаривали с глазу на глаз! Если председатель Мао скажет, что я вру, вы можете смешать меня с грязью, затоптать меня тысячами ног!».
Маршал держался с достоинством. Прекрасные манеры министра иностранных дел заставили людей относиться к нему почтительно и уважительно. Он как бы по-прежнему с достоинством выполнял роль полномочного представителя Китайской народной республики; отвечающего на вопросы иностранного журналиста. Поэтому даже во время «культурной революции» он рассказывал хунвэйбинам захватывающие истории.
В те годы это был наглядный пример несгибаемой стойкости даже перед угрозой силы.
А вот еще один пример. Он касается стратегии и тактики маневрирования, соответствует идее председателя Мао о том, что в то время, когда враг силен, а ты слаб, уклоняйся от столкновения с ним, сохраняй свои военные силы. Здесь главное действующее лицо не маршал и не «уважаемый Верховный», а мастер сатирических скетч-диалогов некто Хоу Баолинь.
Во время процедуры борьбы и критики он не дал, чтобы надели колпак позора, согнувшись под 90 градусов, он беспрерывно твердил: «Я сам, я сам, не смею утруждать маленьких генералов, сам сделаю!» А сам в это время выхватил из-за пазухи самодельный колпак высотой всего лишь в половину чи и надел себе на голову.
Хунвэйбин, не обращая на него внимания, сказал, что он самый большой реакционный авторитет среди представителей эстрады, и должен надеть самый высокий колпак.
Он снова согнулся под прямым углом и продолжал лепетать: «Не торопись, не торопись, в спешке делают ошибки. Председатель Мао учит нас: марксисты, рассматривая ту или иную проблему, должны видеть не часть ее, а всю проблему в целом. Вот посмотрите!».
Он своей рукой дернул за колпак и тот вдруг стал вытягиваться вверх, поднялся на высоту больше метра. По мере того, как он выдвигался появлялись иероглифы, из которых составилась надпись: «Реакционный авторитет среди представителей эстрады Хоу Баолинь». Разные по величине иероглифы выстроились по вертикали в виде башни, а колпак приобрел форму головного убора с острой макушкой и расширенным низом. Черные иероглифы ярко выделялись на белой бумаге.
С почтительным видом, уважительным тоном он разъяснял хунвэйбинам:
— Реакционность это моя вина, поэтому я написал об этом самыми крупными иероглифами, бросающимися в глаза. Я, Хоу Баолинь, перед лицом маленьких генералов — лишь ничтожнейшее существо, поэтому мои фамилия и имя написаны самыми мельчайшими иероглифами. Они скособочились, что свидетельствует о том, что после критики и борьбы, проведенной маленькими генералами, они нетвердо стоят на ногах, едва не падают. Если еще несколько раз поддать, то уже упадут и, не встанут...
Он болтал как заведенный, говорил очень искусно. Хунвэйбины слушали самодовольную быструю речь, а он таким путем оттягивал телесные страдания. Революционные массы, видя то, что происходит на помосте, не собирались смеяться, но и не могли настроиться на серьезный лад. Собрание по борьбе и критике превратилось в балаган, велось ради соблюдения проформы, лишь бы как-то довести до конца.
А Ли Дачжан и Ли Цзинцюань, один — не Чэнь И, второй — не Хоу Баолинь — не могли вызвать у хунвэйбинов почтительного отношения к себе, как не могли и развеселить их, зато были очень непреклонны и разве не напрашивались на неприятности?
Не я один несколько сочувствовал им, некоторые даже определенным образом переживали за них.
Как я и ожидал, на помост запрыгнуло несколько хунвэйбинов, отстегнули поясные ремни и начали их стегать.
Они стояли не двигаясь, молча переносили побои. Не уклонялись. Не опустились не колени.
Крестьяне в какое-то время бывают милосердны. Именно в какое-то время.
Причем не все крестьяне и не все время бывали милосердными. Нет правила, определяющего, в какое время они выражают милосердие.
Во всяком случае в тот день крестьяне, сидевшие у самого помоста, проявляли много милосердия.
Они поднимали черные-пречерные руки и восклицали:
— Надо бороться вежливо, незачем грубить!
— Надо трогать души людей, не надо прикасаться к телу!
— Решительно отстаиваем 16 тезисов![42]
Тогда один из хунвэйбинов, находившихся на помосте, тоном уважаемого дедушки Сунь Цзинсю[43] начал поучать их:
— Товарищи бедняки и низшие середняки, сейчас я расскажу вам басню «Крестьянин и змея»...
Крестьяне, находившиеся у помоста закричали:
— Нам не до басен!
— Мы поднялись в 5 часов и с полночи добирались сюда не для того, чтобы слушать басни!
— Мы не разрешаем вам нарушать 16 тезисов!
А хунвэйбин даже ухом не повел, как ни в чем не бывало продолжал:
— В давние времена жил один крестьянин. Зимой он увидел замерзшую змею. Ему стало очень жаль ее, и он подобрал змею, засунул за пазуху. Она отогрелась, проснулась и безжалостно укусила крестьянина. Змея отравила его своим ядом, а он перед смертью, раскаиваясь, сказал: «Я пожалел ядовитое существо, действительно, как говорится, сам сотворил, сам и получил»...
Хотя те крестьяне в основном были неграмотные, а древняя басня не представляла собой высоко изящной глубокой аллегории, они поняли, что это сатира на них.
Возможно, основное намерение тех хунвэйбинов вовсе и не состояло в том, чтобы с помощью басни посмеяться над ними, а всего лишь просветить их и дать урок классовой борьбы.
Но крестьяне возмутились. Если они однажды возмутятся, то становятся очень страшными. Председатель Мао в «Докладе об обследовании движения крестьян в Хунани» подробно описал ужасы, которые творили возмутившиеся крестьяне. И Хунаньские, и Сычуаньские крестьяне — это крестьяне китайские. В способах выражения их возмущения большой разницы нет. Более того, их бунты в те годы были самыми показательными. Множество способов бунтарских действий хунвэйбинов было заимствовано у них.
Крестьяне один за другим запрыгивали на помост. Схватили того «просветителя» и стали безжалостно колотить по чем попало.
Его боевые друзья, видя, как избивают их собрата, конечно, не могли оставаться безучастными.
И тут они пошли в контратаку. На помосте началось публичное представление пьесы на военную тему.
— Отдельный герой одолеет тигра и леопарда, а негерой испугается даже медведя. Цветение сливы мэйхуа, застилающее небо как падающий снег, радует глаз, замерзающая муха никого не удивляет! — снова раздался пронзительный голос той же хунвэйбинки. Громкоговоритель разнес ее слова на все четыре стороны.
Еще больше крестьян возмутилось.
Еще больше их выскочило на помост.
Они перевернули стол, разбросали стулья, несколько человек, уцепившись за того хунвэйбина, учили его уму-разуму.
Двое «каппутистов», стоявших на коленях, пользуясь суматохой, ускользнули с помоста.
Ли Дачжан и Ли Цзинцюань что есть силы кричали:
— Маленькие генералы хунвэйбины, товарищи бедняки, низшие середняки, не надо драться!
— Если вам хочется кого-нибудь побить, то бейте нас! Никто не обращал на них никакого внимания. Крестьяне, что находились внизу, криками подбадривали тех, кто взобрался на помост.
— Бедняки и середняки, проучите хунвэйбинов, чтобы поумнели!
— Пусть они ответят, кто тигры и леопарды, а кто — медведи? И кто такие мухи?!
— Не ответят — бейте до смерти!
«Руководящий класс», видя, что крестьяне сцепились с хунвэйбинами, совершенно сбитый с толку, не знал на чью сторону стать. С одной стороны — маленькие генералы, с другой — их «союзники», какую сторону ни поддержи, на какую ни напади, все равно совершишь позиционную ошибку. К тону же, они не знали, какова их роль в этой схватке, и стали скандировать песнь на слова из цитатника председателя Мао:
Мы должны верить в массы, Мы должны верить в партию — Это два основных принципа. Если мы будем сомневаться в этих принципах, То не справимся ни с каким делом.Закончив скандирование, они начинали снова. Потом еще и еще. В этой обстановке они по существу «не справились ни с каким делом», все, что они сделали, так это несколько раз прокукарекали известную цитату.
Бедняки и середняки, проучив как следует хунвэйбинов, пососкакивали с помоста. Оставшиеся на помосте хунвэйбины один за другим поднялись с пола, собрались вместе, взяли друг друга под руки и хором, чеканя слова, запели:
В вечерние сумерки на горной вершине Встает пред глазами большая сосна, Как прежде спокойно и даже лениво Плывут дождевые над ней облака; У самой вершины в природной пещере Живет небожитель иль просто святой, Ему с неприступной горной вершины Открыта дорога в бескрайний простор!Бедняки и середняки снова возмутились.
— Раз... Два... Раз... Два... Раз... Два! — выкрикивали крестьяне. По этой команде они раскачали и развалили помост, сколоченный из стволов бамбука.
Итак, место действия исчезло. Произошло точно то же, что сделали с лобным местом добрые молодцы и что описано в романе «Речные заводи».
— Не дадим провести это собрание!
— Расходись по домам! По домам! Пошли убирать урожай!
— Поносить бедняков и низших середняков — значит поносить революцию!
Разрядившись таким образом, возмущенные крестьяне стайками стали расходиться в разные стороны...
Рабочие, понимая, что их скандирование прошло впустую, не сыграло никакой роли, больше упражняться в нем не стали. Потихоньку тоже разошлись...
В это время большой отряд хунвэйбиновского войска, подняв свое знамя с надписью «Главный штаб цзаофаней», прикатил на место события. Это были хунвэйбины Сычуаньского медицинского института (а может быть и пединститута города Чэнду, точно не помню), которые, прослышав о случившемся, приехали разрядить обстановку.
В числе побитых оказались главным образом красные цзаофани Харбинского военно-строительного института. Их агитмашину крестьяне перед уходом перевернули.
Хунвэйбины медицинского института помогли им поставить машину на колеса, со слезами на глазах сжимали их в своих объятиях, успокаивали: «Боевые друзья незаслуженно пострадали, мы чуть-чуть не успели»; «В борьбе бывают всякие перипетии, но окончательная победа будет за нами»; «Ваши раны отдаются болью в наших сердцах».
Кроме того, они передали им... дощечку с горизонтальной надписью «Красная крепость».
Хунвэйбиновский корреспондент непрерывно снимал потрясающие кадры, много раз сфотографировал разрушенное место собрания, чтобы увековечить в истории и получить подлинные доказательства для разоблачений виновников.
Когда я вместе с хунвэйбином из Баоцзи возвращался назад, он спросил:
— Ну как, не зря сходили?
— Не зря, — ответил я.
— Это стоило посмотреть.
— Да, стоило.
— Видимо, Ли Дачжан и Ли Цзинцюань немало натворили.
— Они не причастны к сегодняшним событиям. Разве мы не видели это собственными глазами?
— Они не причастны? То, что мы видели, это только внешняя сторона дела. Председатель Мао говорил: там, где возникает вооруженная борьба, там непременно за кулисами ее провоцируют «каппутисты»!
— Но к сегодняшнему делу они действительно не причастны! Разве они не старались изо всех сил предотвратить это побоище? Ты не слышал, что они выкрикнули: если надо кого-то побить, то пусть бьют нас?
— Это их обычный прием! Фальшь есть фальшь, маску надо срывать. Точно как у многих артистов, привыкших играть отрицательные роли, положительные не удаются. Дорогой брат, похоже, тебе надо хорошенько изучить цитатник Мао!
Я больше не спорил с ним. А про себя подумал: черт возьми, я наткнулся на передовика «творческого изучения и творческого применения»! Получилось так, как будто я даже не открывал цитатник Мао. Как-то сама собой появилась некоторая неприязнь к нему. Но я не собирался осуждать его. Как-никак мы жили вместе. Он был единственным человеком, с которым меня свела там судьба. Правда, необычайно горячим. В городе, где «царили смута и беспорядок», как говорила молодая сноха, продававшая жареный батат, лучше иметь компаньона, чем оставаться одному. Если обидишь его, тогда будет совсем неприятно жить вместе в одной учительской, косо поглядывая друг на друга.
Он оказался человеком тактичным, с пониманием, сумел увидеть, что мне сказанное им было не по душе и постарался восстановить мое расположение к нему, предложил съесть по пиале рисовой каши. Наверно, его и мои взгляды совпадали, он как раз тоже боялся обидеть меня.
И тогда мы отправились искать место, где можно было бы поесть рисовой каши. У него при себе денег оказалось даже меньше чем у меня, поэтому я пригласил его за мой счет. Каждый из нас съел по две пиалы риса. После этого мы сблизились. Назвали друг другу свои фамилии, адреса, настойчиво просили в будущем регулярно поддерживать переписку, сожалели, что до тех пор не были знакомы. Его звали Бао Хунвэй.
На следующий день весь город заполнился транспарантами:
«Ли Дачжан и Ли Цзинцюань спровоцировали бедняков и низших середняков на избиение маленьких генералов хунвэйбинов, что привело к нехорошим последствиям!».
«Ли Дачжан и Ли Цзинцюань — главные преступники вчерашнего побоища, им не избежать ответственности за содеянное преступление!»
Оправдались предсказания Бао Хунвэя.
Я оставался в Чэнду не ради того, чтобы узнать чем закончится дело Ли Дачжана и Ли Цзинцюаня, а все время думал об отце, хотелось немедленно отправиться в Лэшань.
Отец работал в организации «Дасаньсянь», на конвертах он не писал точный свой адрес, а лишь почтовый. Ну приеду я в Лэшань, а что дальше, где искать? Прикидывал и так и сяк, решил сначала съездить в почтовое отделение, узнать конкретный адрес.
В почтовом отделении отказались сообщить мне адрес той организации, в которой он работает, сославшись на ее секретность, так как она как раз вела сооружение военного объекта и находилась в ведении армии. Как я не умолял, как не убеждал, все сохраняли тайну. Согласились лишь передать отцу телеграмму о моем желании встретиться с ним, дав мне слабую надежду на нее. В подавленном настроении — я вернулся в свое жилище.
Бао Хунвэй увидел, что на душе у меня что-то неладно, стал расспрашивать, в чем дело. Искренне пообещал, что поможет найти выход из положения, как бы это ни было трудно.
Тогда я рассказал ему, в чем дело. Выслушав, он успокоил меня:
— И чего ты загрустил? Если уже отправлена телеграмма, а ты тоже прибыл в Чэнду, то разве может твой отец не повидать тебя?
— Боюсь, что он не сможет приехать! — ответил я.
Посмотрев внимательно мне в глаза, он снова спросил:
— У твоего отца... есть какие-то проблемы? Я отрицательно покачал головой:
— Нет, нет, ничего нет, он — обычный рабочий!
Больше он ничего не спрашивал, но было видно, что не поверил мне.
Наступил третий день, а дождь все еще не прекратился. Он явно портил настроение людям.
Бао Хунвэй снова стал уговаривать меня съездить на экскурсию в усадьбу помещика-самодура Лю Вэньцая. Я сказал, что чувствую себя усталым, а дорога дальняя, несколько часов езды на автобусе, поэтому не хочется. Он стал убеждать меня, сказал, что едва ли еще когда-нибудь представится такой случай получить воспитательный урок о тяжелом прошлом, надо обязательно воспользоваться благоприятной возможностью.
Я тоже считал, что это необходимо. Ведь это вопрос самосознания. Если я вернусь а Харбин и меня спросят, почему ты, побывав в Сычуани, не посетил усадьбу Лю Вэньцая, упустил удобный случай получить воспитание на примере тяжелого прошлого, что я им отвечу? Все же лучше съездить. А может быть потом представится случай выступить перед всей школой с докладом!
В те годы я просто страстно мечтал о такой возможности.
И тогда мы оба сказали: ехать, так ехать. На станции на дальние рейсы было очень много пассажиров, и почти все намерены были ехать в Даисянь на экскурсию в усадьбу Лю Вэньцая. Тогда туристов к памятным местам старины было намного больше чем сейчас. Очевидно, стало гораздо больше людей, прошедших воспитание на примерах тяжелого прошлого, и сознание стало выше. Даже с других дальних маршрутов машины временно переключали на Даисянь, чтобы удовлетворить желания революционных масс.
Я с трудом втиснулся в один из автобусов, но Бао Хунвэя в нем не обнаружил. Автобус тронулся, я громко, на весь салон прокричал его имя, но никто не откликнулся. Я понял, что он не влез в автобус.
Через несколько часов автобус добрался до Даисяня. От долгого стояния на ногах ныла поясница, онемели ноги, кружилась голова. Только вышел из автобуса, как меня стошнило. Да так, что все кишки перевернуло, а на теле выступил холодный пот.
Меня очень обеспокоило то, что я потерял Бао Хунвэя. В отличие от меня, не повидавшего света, он был как бы человеком, горячо стремившимся познать все за пределами родных мест. Он всюду брал на себя обязанность заботиться обо мне, а я ощущал действительную потребность в его помощи. Особенно в сложившейся ситуации. Поэтому я не смел отходить далеко от автостанции, с нетерпением под холодным дождем ждал, когда придет следующий автобус.
Наконец он прибыл. Здесь Бао Хунвэя тоже не оказалось. С надеждой жду новый рейс. Когда, наконец, он подкатил к станции, я по-прежнему не обнаружил следов Бао. Ожидая каждый новый рейс словно манны небесной, я пропустил уже пять или шесть автобусов, и все напрасно.
Но, как говорится, «не посмотрев на дерево утун, не увидишь феникса».[44]
На станции не было никакого укрытия от дождя и я промок с головы до ног. С ним, наверно ничего не случится, подумал я, он сам умеет о себе позаботиться. Оглядываясь на каждом шагу, я уходил со станции; шлепая ногами по грязи, отправился в сторону усадьбы Лю Вэньцая. Непроглядный дождь сплошным пологом покрывал землю. И вот усадьба помещика-душегуба, ее серые ворота, серые жилища и ограда явились нашему взору, как могильник истории, совсем не похожий на бастион нашей нации, каким я представлял его, начитавшись книг западных писателей. Вопреки моим представлениям усадьба оказалась небольшой, можно сказать, ничтожной, и сразу вызвала... брезгливое отношение.
Жестокая эксплуатация и угнетение крестьян классом помещиков в истории Китая почти ничем не отличались от гнета и эксплуатации помещиков Запада. Однако, пожалуй, одна разница была: последние в разгар страстей даже в бесстыжих наслаждениях все время искали что-то самое повое, а первые, бесстыдно блаженствуя, испускали бившее в нос зловоние разложения.
Я своими глазами повидал «водную темницу».[45] Экскурсоводом здесь была женщина-крестьянка, счастливо уцелевшая в этой темнице и ставшая волостным кадровым работником. Я сам видел тот колодец, в котором подручные Лю Вэньцая по его приказу утопили ребенка крестьянина.
Я видел своими плазами различные орудия пыток, с помощью которых Лю Вэньцай истязал людей. Забив им кляпы в рот и в нос, через задний проход накачивал воздухом кишечник и желудок настолько, что кишки в брюшной полости вздувались и лопались и человек умирал. Такие доподлинные способы чудовищной жестокости убийства людей вызвали у меня мощную классовую ненависть.
С одной стороны — кровь и слезы, с другой — крайняя роскошь и безмерное мотовство. Если бы Лю Вэньцай по-прежнему был жив, я бы вместе с другими экскурсантами забросал его камнями и превратил в мясную подливу.
Эта экскурсия — единственное из того, о чем я не сожалел в ходе великого шествия. Она помогла мне, 17-летнему юноше, понять, что значило слово «освобождение» для всего китайского народа.
Китайская революция, осуществленная под руководством Коммунистической партии Китая, была не имеющей себе равных в истории Китая великой революцией! Я и сегодня по-прежнему не могу отречься от этого убеждения. Никогда не отрекусь.
Однако то воспитание на примерах прошлого тем не менее в моем сознании сыграло еще некую иную роль. Оно усилило рождавшиеся сомнения и колебания. Родилось другое сознание.
«Эта «великая пролетарская культурная революция» совершенно необходима, очень своевременна. В противном случае Китай в будущем может изменить свой облик, вернуться в капитализм, миллионы человеческих голов слетят с плеч» — так сказал председатель Мао.
Будучи на экскурсии, я невольно вспомнил это высказывание Мао Цзэдуна. Все экскурсанты, наверно, в тот час тоже подумали о ней. Я про себя занимался самоанализом, размышлял, достаточно ли активно я проявил себя в «великой культурной революции», решил, что остался в большом долгу перед ней, тяжелое раскаяние надавило на сердце. Как хотелось немедленно дать кому-либо высокую клятву, взять на себя обязательство впредь активно и самоотверженно отдавать себя делу «великой культурной революции», и таким путем облегчить душу.
Рядом с усадьбой стояли корзины крестьян с всевозможной едой: продавали чай и яйца, лепешки из рисовой муки, рисовую кашу, новогодние пельмени. Я проголодался и хотел пить, поэтому пошел с ним в надежде подкрепиться.
Попросил несколько лепешек из рисовой муки, две пиалы рисовой каши, такой, какую ел с Бао Хунвэем — она показалась мне вкусной. Когда стал доставать деньги, обнаружил, что мой карман пуст, в нем нет ни гроша. Помнил, что еще вчера вечером пересчитывал их, я тратил те 15 юаней, которые выменял в Пекине у шанхайского хунвэйбина, плюс два юаня, оставшихся от прошлых денег, в общей сложности пропало 17 с лишним юаней! Где потерял?
Сегодня во время езды в автобусе дальнего следования? Маловероятно. Деньги были спрятаны во внутреннем кармане одежды, карман застегнут! В автобусе было тесно, даже искусный карманный воришка и то не смог бы, просунув руку в карман через воротник, вытащить деньги и застегнуть его! Да и я нисколько не был похож на человека, спрягавшего в кармане немалые деньги, чтобы привлечь внимание воришки! К тому же, за время великого шествия не находилось смельчаков, отважившихся красть у хунвэйбинов. Обычный карманный воришка не осмелился бы даже подумать об этом.
Как бы то ни было, а деньги исчезли! Делать нечего, пришлось состроить продавцу притворную улыбающуюся физиономию. Из пиалы, которую я взял в руки, я уже успел через край отпить пару глотков рисовой кашицы. Продавец, конечно, был недоволен, что-то ворчал.
Я тоже понимал, что одной улыбки недостаточно для того, чтобы продавец удовлетворился таким исходом дела, поэтому схватил с головы легкую кепку цвета хаки и, покраснев, спросил, хватит ли для расплаты, если я оставлю ему кепку.
Продавец, посмотрев на меня, сказал: «Ты съешь до конца, что мне с ней делать?».
Я торопливо доел из пиалы рисовую кашицу, оставил ему кепку и панически бежал.
Я всеми фибрами души возненавидел Бао Хунвэя. Если бы не его сладкие уговоры приобщиться к воспитанию «на примерах тяжелого прошлого», разве могли бы потеряться деньги, а я остаться без гроша за душой?
Расхотелось продолжать воспитываться; повесив голову, в прескверном настроении дошел до станции и сел в автобус, чтобы быстрее возвратиться в город. С досадой в душе, в подавленном настроении я приготовился к встрече с Бао Хунвэем, хотелось сорвать на нем зло.
Вернувшись в свое жилье, я не обнаружил его там. Куда он уехал? Удрученный, я одиноко просидел до темна, но он не возвратился. Тупо глядя на стену, я обнаружил, что висевшая на ней сумка исчезла.
Моментально сообразил, что деньги украл не кто иной, как этот самый Бао Хунвэй, тот, о ком я говорил: жаль, что не встретил раньше.
Стремительно сбежал вниз, спросил о нем в приемной, где сказали, что он уже уехал.
Еще поинтересовался временем его убытия и тут прозрел окончательно: да ведь он, наверно, воспользовавшись тем, что я крепко спал прошлой ночью, выкрал мои деньги, а сегодня, пораньше обманом избавился от меня. Увидев, что я втиснулся в автобус, он возвратился, забрал свою сумку и сбежал.
Какой хитрец! Оставил мне несколько юаней, как плату за классовые чувства.
Спрятавшись в углу одной из комнат, я вдоволь выплакался.
В ту ночь я заболел, поднялась высокая температура, бредил. Через три или четыре дня жар постепенно спал.
В тот день утром я, хотя и проснулся, но лежал с закрытыми глазами и услышал, как кто-то легкими шагами в обуви на каблуках вошел в комнату, в которой я жил. Чэнду — это не Пекин, хунвэйбинов, прибывающих в порядке великого шествия, совсем не много. А число живущих в метеорологическом училище, было совсем ограничено. С тех пор как убыл Бао Хунвэй, я в той комнате оставался единственным жильцом, один как перст.
Только когда вошедший человек подошел ко мне, я с трудом открыл глаза: передо мной стояла девушка, держа в руках пиалу с лапшой. Она присела на корточки. Волос короткий, худощавое спокойное лицо, в очках для близоруких, одета в голубое, идеально отстиранное платье, на ногах старые матерчатые туфли с застежками, носки туфель обтянуты черной кожей, без чулок. По внешнему виду она на 3–4 года старше меня. Я спросил:
— Старшая сестра, эти несколько дней ты ухаживала за мной? Вспомнилось, что во время сильного жара кто-то приподнимал меня, давал лекарства, поил водой, кормил. Еще вытирал лицо и руки горячим носовым платком. Подумалось, что это и была она.
Услышав мои слова, она опустила голову, слабым голосом сказала:
— Не называй меня старшей сестрой, я — дочь «каппутиста». От ее слов у меня сильно запрыгало сердце, даже не знал, что ей ответить.
— Открой рот, — сказала она.
— Я сам буду есть из пиалы! — препирался я.
— Пиала горячая, лучше я тебя покормлю.
Я, как грудной ребенок, слушая ее, открыл рот.
Она с помощью палочек для еды порцию за порцией вкладывала лапшу мне в рот, потом обхватила меня так, что я оказался в ее объятиях, и стала наклонять пиалу, чтобы я выпил бульон.
После этого она положила меня на спину, опустила голову и, глядя в глаза, спросила:
— Наелся? Боли нет, то я схожу в столовую и принесу еще пиалу.
— Наелся.
— Правда?
— Правда.
— Ты знаешь, какая у тебя была температура ?
— Я был в бреду, как я могу знать?
— Два дня непрерывно температура держалась на отметке 39,2! И только на третий день снизилась на градус с лишним.
— Старшая сестра, как мне тебя благодарить? — хотя она и была дочерью «каппутиста», я в душе не мог не ощутить прилива чувства признательности.
— Ты снова называешь меня старшей сестрой! Если они услышат, могут раскритиковать тебя за потерю классового чутья! — сказала она очень серьезным тоном.
— А я назло им буду называть тебя старшей сестрой, — ответил я. Она едва заметно улыбнулась, но ее улыбка моментально сбежала с лица, не оставив даже следа, снова спросила:
— На самом деле ты и не должен благодарить меня. Это они приказали мне ухаживать за тобой. Если бы отказалась, моя вина возросла бы. Так что скажи им спасибо.
— А кто они? — спросил я.
— Хунвэйбины из приемной комнаты.
— А какая за тобой вина?
— Разве я тебе не сказала? Я — дочь «каппутиста». Мой отец прежде был кадровым работником в правительстве провинции.
У нее был тихий голос, а может быть она обязана была говорить ровно, спокойно. В то же время в нем не слышался даже намек на самоуничижение. Возможно, она привыкла к положению дочери «каппутиста»? Во время «великой культурной революции» некоторые дочери «каппутистов» показали железный характер. Независимо от того, к кому проявлялось бессердечие, к нему или к ней, оба, и он, и она, сохраняли выдержку, были тверды. Как будто в его или в ее душе жила неиссякаемая вера, не умирающая надежда. Что же это за вера и надежда? Следует напомнить, что, исходя из тогдашней обстановки, он или она, казалось, никогда не смогут встать с колен. Мне было трудно понять, на чем держалась их стойкость. Проникнувшись уважением к ним, я в то же время не смел высказать этим изгоям на вечные времена хоть чуточку своей признательности.
— Тебе сколько лет? — спросила она.
— Семнадцать.
— Ты ровесник моему младшему брату.
— Он выпускник низшей ступени средней школы 66-го года?
В ее печальных глазах промелькнула тень. Она кивнула головой, сказала:
— Мой отец выпрыгнул из окна дома, чтобы покончить жизнь самоубийством, но остался жив, получил тяжелое сотрясение, помешался умом. Моя мама отвезла его в деревню к бабушке.
Я сожалел, что задал ей последний вопрос.
— А теперь я пойду принесу тазик с горячей водой и хорошенько умою тебя! — сказала она, повернулась и пошла. Вероятно, ей показалось, что она слишком много выложила сведений о себе какому-то хунвэйбину.
— Я сейчас встану, сам умоюсь, — сказал я.
Она остановилась, повернула голову, теплым взглядом посмотрела на меня.
— Ты, похоже, еще очень слаб, все же пока позволь мне умыть тебя.
— Тогда ты разреши мне называть тебя старшей сестрой.
Она какой-то миг смотрела на меня, в уголке рта мелькнула горькая улыбка, ничего больше не сказав, она ушла.
Вскоре она принесла таз горячей воды, опустилась передо мной на колени, стала оттирать мое лицо и руки.
— Голову ты давно не мыл?
— С тех пор как уехал из Харбина, всего лишь один раз в Пекине.
— Сильно пахнет! Лицо не обязательно мыть до блеска, а вот голову.
И не обращая внимания на то, понравится это мне или нет, склонила ее, намылила и тщательно ополоснула.
— Посмотри, какая грязная вода! Давай повторим! — сказала она и выплеснула ее.
Она опять ушла и вскоре вернулась, еще раз промыла голову.
Своим полотенцем насухо вытерла мне волосы, лицо и руки, несколько секунд внимательно приглядывалась к моему лицу и, усмехнувшись, сказала:
— Ты вот хунвэйбин, но нисколько не похож на учащегося 9-го класса, ты похож на большого мальчика лет 14–15!
Когда она подняла таз, чтобы унести его, я спросил ее:
— Старшая сестра, ты еще навестишь меня? Она обернулась ко мне и снова усмехнулась:
— Если я еще понадоблюсь по какому-нибудь делу, скажи им, они могут приказать мне прийти к тебе.
— Я хочу, чтобы ты пришла не по делу. Мне очень тоскливо. Я хотел бы, если у тебя будет свободное время, просто поговорить с тобой.
— Это исключено. Они не разрешат мне общаться с чужим хунвэйбином. И уж тем более беседовать с ним. Если бы ты так тяжело не болел, они ни за что не разрешили бы мне ухаживать за тобой. Не говоря уже о том, что мне трудно выкроить свободную минуту, сейчас я сразу же должна идти убирать туалет и мести двор!
Она внимательно посмотрела мне в глаза (я почувствовал, что именно внимательно) и торопливо вышла.
Я в одиночестве какое-то время сидел, бездумно скучая, потом почувствовал, что меня снова стало знобить, вероятно, опять поднялась температура, и я лег в кровать. Завернувшись в ватное одеяло, тоскливо и рассеянно застывшим взглядом смотрел за окно.
Дождь перестал. Небо очистилось. Солнце на ярком небе Чэнду еще ласкало глаз своим теплом. А у нас на севере это уже был период, когда кончается осень и начинается зима.
Погода повернула к лучшему и мое настроение тоже как бы приподнялось. Острота переживания, навалившаяся на меня из-за утраты денег, благодаря теплой заботе той девушки угасла больше чем наполовину.
Неожиданно вспомнил об отце. Он уже должен был получить мою телеграмму. Ведь Аэшань совсем рядом. Прикинул на пальцах, сколько дней прошло с тех пор, как известил его. Пора быть письму или телеграмме. Больше лежать я не мог. Поднялся, покачиваясь, сошел вниз и сразу почувствовал слабость в ногах.
В почтовом ящике в бюро пропусков я нашел то, что ожидал. Вскрыв телеграмму, сразу увидел три иероглифа — «срочно возвращайся Харбин».
Я в такую даль за тысячи километров приехал в Чэнду с единственной целью — повидать отца, и вдруг от ворот поворот! Хотел уяснить, какая у него там обстановка. Никак не думал, что в ответ получу отказ! Эти три иероглифа как бы говорили мне о том, что дела у него плохи. Эх, отец, отец! Почему ты не хочешь понять душевное состояние твоего сына? По моему сердцу как бы прошел жернов. Я, едва переступая с ноги на ногу, плелся обратно а глаза неотступно смотрели на непреклонные и безразличные ко всему три иероглифа, из глаз, как из фонтана, бурно капали слезы.
В метеорологическом училище держали несколько десятков ульев пчел. В те дни, когда шли дожди, их куда-то убрали. А как только небо прояснилось, их вытащили наружу и расставили по обе стороны дорожки. Пчелы ползали туда-сюда, то выползая из ульев, (то возвращаясь обратно, вероятно грелись на солнце. А может быть были заняты каким-то другим серьезным делом.
С незаслуженной обидой, с камнем в груди я шел, не разбирая дороги, пока не наткнулся на улей. На его крышке плотно, целым слоем сидели пчелы и я задавил много маленьких существ.
Они всполошились, зло загудели и целым роем набросились на меня. Вслед за ними возбудились пчелы сразу нескольких десятков ульев. Они тоже с жужжанием поднялись вверх и пополняли ряды тех, которые шли на меня « карательным походом».
Я бросился наутек. Бестолково метался в разные стороны, но не мог найти ни укрытия, ни прибежища. Пчелы неотступно наседали на меня, оседлали всю шею, нещадно жалили.
— Быстрей закройся! Затаись я не двигайся! — кричал кто-то мне. Это была дочь «каппутиста», которая ухаживала за мной.
Я не затаился, а помчался к ней. А в голове одна думка: в этот сложнейший момент только она может спасти меня, отвратить опасность.
Она тоже, отшвырнув метлу, бежала ко мне. Когда мы встретились, она сразу же набросила на меня полу платья, накрыла мою голову и плотно зажала в свои объятия.
— Не шевелись! — приказала она, взяла мои руки и тоже прижала к груди, прикрыв их сверху своими.
Вокруг наших тел и голов стоял сплошной гул. Когда он стал стихать, я решил, что пчелы отстали от нас, но только шевельнулся, как сразу услышал ее голос:
— Говорила тебе не шевелись, ты опять начал! Они все сидят на нас! Только ты не бойся, они улетят, — она еще надежнее укутала мою голову. Я лицом прильнул к ее груди и не смел шелохнуться, наверно, был похож на младенца, спящего на груди матери и посасывающего молоко.
Не знаю, сколько еще прошло времени, когда она осторожно откинула полу платья и потихоньку отстранила меня.
Я, возбужденный, поднял голову, ее лицо было пунцовым, она молча застегивала пуговицы своего платья.
Приведя себя в порядок, сказала:
— Ты без причины раздразнил пчел. Зачем?
— Я вовсе не дразнил их, — ответил я.
— Ты их не дразнил и они без повода покусали тебя? — она подняла руки, приставила их к губам и стала сосать. Ее руки были искусаны во многих местах, где образовались красноватые вздутия.
Я заплакал с подвыванием.
— Видишь, я же говорила, что ты большой ребенок, так оно и есть! Но я не осуждаю тебя! — улыбнулась она.
— Мой отец не разрешает мне навестить его. Но ведь я же совсем рядом с ним. Если я не увижу его, я не успокоюсь! — сказал я, чувствуя себя неловко из-за слез и подавая ей телеграмму.
Она мельком взглянула на нее, спросила:
— Твой отец работает в Лэшани? Я кивнул головой.
— Ты приехал в Сычуань именно ради того, чтобы повидаться с отцом? Я снова кивнул.
— Ты его очень любишь?
— Угу.
— И ты не хочешь позволить ему позаботиться о себе?
— Угу.
— Тем не менее ты обязан послушаться отца, как можно скорее возвратиться в Харбин, не надо одному болтаться по всей стране с этим шествием. За кем ты шествуешь? И кто шествует за тобой? Я упрямо твердил свое:
— Во всяком случае, не повидав отца, я никак не могу уехать из Чэнду!
— В Лэшани идет жестокая бойня, погибло много людей, каждые несколько дней возникают кровавые события, и правильно делает твой отец, не разрешая ехать к нему! — сказала она.
Хотя я ничего не возразил, однако до конца она меня не разубедила. Она заметила это и, осмотревшись по сторонам, убедившись, что никто за нами не наблюдает, сказала:
— Ты подожди здесь немного, я сейчас же вернусь и принесу тебе одну вещь.
Еще раз оглянувшись, она стремительно удалилась.
Не зная, что она хочет мне показать, я послушно стоял на месте и ждал.
Она появилась минут через 10, но с пустыми руками. Сначала подобрала с земли метлу, потом, подметая, стала приближаться ко мне. Когда подошла совсем близко, выхватила из кармана тяжелый сверток, так, чтобы не видели другие, быстро передала мне.
— Возьми, прочтешь, когда будешь в своей комнате. Если кто-нибудь спросит, ни в коем случае не говори, что я дала!
Работая метлой, она удалилась.
Я смотрел на нее, несколько озабоченный тем, что произошло.
Возвратившись в учительскую, в которой временно жил, я запер дверь, сел, опершись спиной о стенку и стал лист за листом просматривать содержимое свертка. То были листовки и маленькие по формату газеты. В них, быстро написанных от руки, передавалась «подлинная картина» нескольких вооруженных столкновений, происшедших в Лэшани за последние несколько дней, были среди них и фотографии с мест событий с убитыми и ранеными, заставлявшие людей содрогаться при их рассмотрении.
Бао Хунвэй тоже рассказывал мне о некоторых вооруженных событиях в Лэшани.
Так, к примеру, один из водителей грузовой машины в пути был остановлен группой цзаофаней, которая забралась в кузов и заставила водителя везти их к главному штабу противостоящей группировки для нападения на него. А тот водитель как раз оказался «непоколебимым» бойцом той противостоящей группировки, но не показал виду, он хорошо помнил героический поступок шофера из кинофильма «Ленин в Октябре», но не повез их в обратном направлении, не проколол шилом колесо, а направил машину с «врагами» прямо в ущелье, и все вместе погибли...
Второй случай. Одна группа подорвала две какие-то огромные цистерны, кажется, на электростанции. Горячая вода как горный поток хлынула из них, прошла по палаткам, в которых временно жили рабочие, и всех их потопила в горячем океане...
Или такое выдающееся событие. Группа удальцов, завладев оружием отряда «военного контроля», организовала «красный партизанский отряд», ушла в горы, создала революционную базу, чтобы развернуть с нее партизанскую войну...
Я тогда думал, что Бао Хунвэй кормит меня слухами, хвастается своей осведомленностью и, слушая его, не очень-то верил. Те листовки и газеты подтверждали сказанное им. Через несколько лет мой отец подтвердил, что все те события действительно имели место. Телеграмма, как оказалось, была отправлена не отцом. Он не получал от меня никакой телеграммы. Вместо него ответ дал его хороший друг по работе, имея благие намерения.
Когда я прочитал листовки и газеты, я пришел в смятение. Если бы паче чаяния я поехал в Лэшань, я все равно не встретился бы с отцом, меня могла постигнуть трагическая судьба.
Вечером она снова пришла повидаться со мной.
— Читал газеты и листовки?
— Читал.
— Ну, все еще хочется поехать в Лэшань?
— Пожалуй, не поеду.
— Это правильно. Ты обязательно должен слушаться отца, завтра же возвращайся в Харбин!
— У меня нет ни копейки денег... — со злостью сказал я.
— Я догадывалась об этом. Хотя мне, как дочери «каппутиста» по окончании учебы не дали работу, а направили в училище проходить идеологическое перевоспитание, получить наглядные уроки, дающие эффект, мне все же дают на пропитание по 15 юаней в месяц... — она выхватила из кармана 10 юаней и подала мне, — возьми, не стесняйся. Не обижайся, что мало. Я могу дать тебе только 10 юаней. Тысяча километров — путь далекий, ты всегда должен иметь при себе хоть какие-то деньги!
— Нет, ты же получаешь всего 15 юаней в месяц, нет... я уверял ее, что не соглашусь взять нисколько…
Она насильно втолкнула деньги мне в карман. Потом встала, со строгим видом внушала:
— Ты только не обманывай меня, не вздумай, не побывав в Харбине, уехать куда-нибудь в другое место!
— Клянусь, что ни в коем случае не обману тебя! Завтра прямо с утра я уеду в Харбин! — пообещал я.
Она радостно засмеялась.
— Тогда дай мне твою телеграмму. Когда ты уедешь, я отравлю ее твоему отцу, пусть он успокоится.
Я отдал ей телеграмму.
Она аккуратно спрятала ее за пазуху, внимательно посмотрела на меня.
— Завтра я провожу тебя. Они не разрешают мне самовольно выходить за пределы училища. Я буду подметать около ворот и смогу проводить тебя глазами... — казалось она хотела еще что-то сказать, но немного помолчав, так ничего и не сказала.
Она дружески и в то же время с оттенком печали слегка улыбнулась мне и быстро ушла. Похоже, раньше она была человеком веселого нрава, любила посмеяться. Мне же, к сожалению, не довелось видеть ее смеющейся. Насколько стремительно она появлялась, настолько же быстро и уходила...
В душе у меня родилось чувство глубокого обожания к ней. Я всегда больше всего досадовал, что у меня не было старшей сестры. Я с детства завидовал тем детям, у которых были старшие сестры. У некоторых из них было даже но нескольку старших сестер. Какая прекрасная судьба дарована им! Ко мне судьба была несправедлива. Самая старшая сестра... Вторая старшая сестра... Третья старшая сестра... Моя самая старшая сестра... Моя вторая старшая сестра... Моя третья старшая сестра...
Как приятно произносить эти слова, говорить на эту тему с другими, чувствовать наисчастливейшим себя человеком.
Я на самом деле мечтал о том, чтобы она могла стать моей старшей сестрой, несмотря на то, что была дочерью «каппутиста»! Я этому не придавал значения.
Так думая, я про себя сказал ей, уже оставившей меня одного: «Добрая моя старшая сестра, через сколько месяцев, через сколько лет доведется нам снова встретиться?»
* * *
Утром следующего дня я покидал стены метеорологического училища города Чэнду. У ворот училища я и вправду увидел ее. На плече висела нейлоновая сетка, она делала вид, что усердно подметает, я сердцем понял, что она поджидает меня.
Я быстро подошел к ней, сказал:
— Старшая сестра... я всегда буду помнить, что в Чэнду у меня есть старшая сестра... — мои глаза замутились.
— Я тоже буду помнить тебя, харбинского младшего брата... Она сняла с плеча сетку и повесила на мое плечо. В сетке было два больших бумажных свертка.
— Это тебе питание на дорогу... — она приподняла голову ко мне. Не в силах сдвинуться с места я по-прежнему стоял перед нею.
— Ну, иди... — тихо сказала она и принялась работать метлой. Я боялся, что не сдержусь и заплачу, круто повернулся и пошел.
Отошел довольно далеко, и тут мои ноги невольно стали замедлять ход, наконец, остановились, не в силах двигаться вперед, голова нерешительно обернулась назад.
Она стояла в воротах Метеорологического училища, опершись обеими руками на метлу. Ворота училища были как бы рамкой художественного портрета, а очертания ее туловища — инкрустированным в нее портретом богини.
«Богиня» долго смотрела мне вслед.
Обернувшись, я помахал ей рукой.
Она ответила тем же.
Моя рука была поднята высоко-высоко.
Ее рука поднималась лишь до уровня груди.
Двадцать лет пролетело, как один день. История — что дым. Прошлое — что сон. Каждый раз, когда приходилось с кем-либо говорить о Чэнду или слушать разговоры других о нем, я всегда вспоминал ее...
В то время я был настолько непрактичным, что даже не спросил ее имени.
У меня не было старшей сестры, поэтому это была тем более одной из самых досадных ошибок в моей жизни.
И в то же время у меня была старшая сестра. Была в Чэнду. В дни великого шествия, в дни, когда царила смута и заваруха.
Всего несколько дней я общался с нею. Нет — несколько раз. Причем, каждый раз находились вместе самое большое десять минут...
Однако я считаю, что у меня была старшая сестра. Я не забыл ту ее дружескую с оттенком печали, теплую улыбку. Не забыл...
Добрые дела, добрые люди, пусть даже в лихое время, пусть даже в годы, когда серьезно деформирована природа простого человека, все равно могут оставить глубокий след и человеческой памяти.
Доброта, несмотря на то, что зло ее подавляет, тем не менее в сравнении со злом — благо для человечества, погрому оно во все времена отдавало ей предпочтение. Она вечное желание человечества.
В 1984 году я написал заметки об этом этапе великого шествия и поместил в двух газетах — «Чжунго циннянь бао» и «Чэнду вань бао». Один материал в двух разных изданиях поместил, естественно, не ради более высокого гонорара, а в надежде получить от нее какую-нибудь весточку.
Моя надежда не оправдалась.
Может быть она не видела мои заметки? А может быть ее уже нет на этом свете? Во время «великой культурной революции» погибло много людей, а ведь она была дочерью «каппутиста». Кто знает, какой злой рок мог подкараулить ее потом.
В нейлоновую сетку были упакованы два плода ароматных пампельмусов. Этот необыкновенный запах сопровождал меня в поезде, мчавшем на север.
ГЛАВА 17
В Чэнду сесть в поезд оказалось намного труднее, чем в Пекине. Все новые партии хунвэйбинов продолжали рваться в столицу на смотр к председателю Мао. Этот бешеный вал еще не прошел. Даже, можно сказать, возрос многократно. И это — несмотря на то, что погода северной части страны с каждым днем становилась все холоднее и холоднее. Уже пришла зима.
Я уцепился за окно и стал карабкаться в вагон, когда колесо под ногами уже начало вращаться. Какой-то наглый тип, стоявший у окна, боясь, что для него не хватит места, если я влезу в вагон, одной рукой схватил меня за волосы и стал выталкивать назад мою голову, а второй рукой, сжатой в кулак бил меня по рукам, которыми я держался за нижний край окна.
Поезд набирал скорость. Мое туловище висело за окном вагона, дело принимало опасный оборот.
Я умолял того наглого грубого субъекта:
— Пусти, я влезу внутрь, пусти, я влезу внутрь, не выталкивай меня, а то разобьюсь насмерть!
Он с холодной улыбкой сказал:
— Смерть людей сейчас не редкость! — а сам по-прежнему отталкивал мою голову и бил по рукам.
Две девушки-хунвэйбинки, занимавшие рядом двухместное сиденье, одновременно вскочили. Вероятно сочли, что действия того типа оскорбительны для человека, а может быть встревожились тем, что я и впрямь попаду под колеса поезда.
Одна из них дала ему звучную пощечину и оттолкнула от окна.
Вторая схватила меня за руки, что есть силы напряглась и, как мешок, втащила в вагон.
У того субъекта на руке тоже была повязка хунвэйбина. Он никак не рассчитывал, что прилюдно получит оплеуху от девушки-хунвэйбина. Когда я твердо стал на ноги, он, разъяренный, набросился на девушку, которая ударила его.
— Ты... ты осмелилась ударить меня?! Я — член могучей организации цзаофаней «Дин тянь ли ди»![46] Ты должна примести мне извинение, иначе...
— Что иначе? — девушка, ударившая того парня, презрительно посмотрела на него.
— Иначе узнаешь, на что я способен! — выходил из себя от гнева тот тип, засучивая рукава и как бы давая помять, что свои намерения он готов исполнить сейчас же.
Перепуганный всем происходящим, я слабеньким голоском предложил компромисс:
— Мне неприятно, мне неловко, что такое случилось, можешь мне дать несколько оплеух и делу конец!
— Не вмешивайся, ты что, хочешь, чтобы тебя избили? — та девушка-хунвэйбин, которая втащила меня в вагон, посадила меня на свое место, и с презрительной миной на лице стала высмеивать моего обидчика.
— Небо какого класса ты подпираешь головой? На земле какого класса ты стоишь? Подпираешь головой небо, ногами стоишь на земле? Действительно не стыдно похвастаться! Слушай и запоминай! Мы из столичной организации «Совместные действия»! В этом поезде нас больше 300 человек! Стоит мне слово сказать, и нам не придется марать руки, есть люди, которые вышвырнут тебя в окно!
Девушка, давшая ему оплеуху, продолжила воспитание:
— Неважно, из какой ты провинции, города или движения, отправляйся к своему главарю и скажи, чтобы отныне больше не именовали себя «Дин тянь ли ди»! Сколько у вас человек? Вы настоящие цзаофани или липовые? Видно, по глупости назвали себя «Дин тянь ли ди»? Ни одна организация хунвэйбинов столицы не додумалась до такого названия!
Обе девушки сели рядом со мной, не обращая больше ни малейшего внимания на того субъекта.
Мощь столичной организации «Совместные действия» в то время была известна повсюду, ее английский вариант названия распространился очень широко, приняв мистическую окраску. Робкие люди, встречая человека из «Совместных действий», прятались, как мыши от кота. Эти две хунвэйбинки из «Совместных действий» остались в моей памяти «женщинами-рыцарями», как те 13 сестер времен золотого века бугэнов[47] и огромных перемен, когда они в период «Великой революции» мыкались по всему свету. Я и уважал их, и боялся, и стыдился, и был признателен им. Мог ли парень, встретив героинь, не стыдиться? Я сжался в комочек, душа ушла в пятки. Сидел между ними, не смея шелохнуться.
Субъект из организации «Дин тянь и ди» сразу сник. Он понял, что не представляет интереса, зло фыркнул и протиснувшись в общую массу, униженный, незаметно исчез.
Хунвэйбинки из «Совместных действий» перемигнулись и громко рассмеялись. Проявляя такт, я быстро встал, чтобы они могли сидеть свободней, робко, угодливо поблагодарил их.
Они были одеты в военные кители из чистой шерсти, пошитые специально для женщин, в военные брюки из лавсана цвета хаки, обуты в туфли на среднем каблуке, не сковывающем движение. До «великой культурной революции» такую военную форму одежды разрешалось носить лишь старшим офицерам. Во время «культурной революции» ее вдруг стали одевать артисты агитбригад художественной самодеятельности воинских частей во время выступлений. Военная форма одежды из лавсана в войсках появилась недавно, и то, что они могли носить такие лавсановые брюки, а не диагоналевые, говорило о том, что, очевидно, в войсковой части они находились на особом положении.
На голове у них были новейшие мужские военные кепи. Волосы были заправлены под козырек так, что не высовывалась ни одна прядь. «Эволюционная мода», которой жаждали девушки-хунвэйбины тех лет, выражалась словами: «не люби красную одежду, любя военную одежду». Иначе говоря, в те годы они не могли даже про себя подумать о «красной одежде», все материальное и духовное, включая красное одеяние, принадлежало к «буржуазной» категории. Эти две хунвэйбинки из столичной организации «Совместные действия», одетые во все военное, выглядели особенно героически, браво и изящно. В них сочетались элегантность и надменность, вели они себя необыкновенно темпераментно.
Они были просто прелестны и очаровательны. Кожа белоснежная. Лица чистые, как яшма. Особенно замечательны были руки: изящные пальцы, ногти заострены, как нежные луковицы или ростки бамбука, только что вылезшие из земли. Если бы они были одеты не в военную форму, а в красное платье, их можно было бы выпускать на сцену в амплуа молодых героинь. А если бы их взяли на киносъемки, то сыграть роль интеллигентной, знатной, образованной женщины для них не составило бы труда: выбросить руку, выставить ногу, нахмуриться или улыбнуться — все это могло у них получиться самым естественным образом. Короче говоря, им шла любая одежда: и красная, и военная. Я про себя догадывался, что они студентки либо театрального, либо кинематографического института, а нарочно выдают себя за хунвэйбинов организации «Совместные действия», чтобы тем самым запугать грубого и наглого субъекта из организации «Дин тянь ли ди». Не исключено, что презрение, иронические насмешки, наставления, которые они высказали тому типу, были всего лишь игрой, возникшей спонтанно. Такие догадки в какой-то степени вернули мне чувство собственного достоинства хунвэйбина-мужчины.
Увидев, что я встал, услышав, как я робко и угодливо поблагодарил их, они перемигнулись и громко расхохотались.
Они смеялись совершенно свободно, ничуть не стесняясь, даже несколько излишне развязно. Окружавшие их люди по-разному отнеслись к ним. Но было очевидно, что они вызвали исключительный интерес многих. Взоры некоторых так прилипли к ним, как будто их тела были намазаны клеем. Благодаря их привлекательной внешности? Или потому, что они были одеты не так, как все? А может быть благодаря их исключительно бравому и героическому виду? Или потому, что были элегантны и надменны, необыкновенно темпераментны? Откуда мне знать! В вагоне, похоже, не было их сторонников, а те, кто оказался рядом, не определили свои симпатии или антипатии к ним, либо не придавали значения происходящему.
— Мы же выручили тебя из беды, а ты как будто боишься нас? — спросила одна из них, та, которая дала пощечину типу из организации «Дин тянь ли ди», с состраданием глядя на меня. Ее скорбный тон, ее любовь и жалость, сердечная боль были такие, как будто они вырвали юного отрока из лап бандита.
— Я не боюсь, я не хочу, сидя между вами, стеснять вас! — сказал я.
— Это не имеет значения, садись! Не сядешь ты, скоро заявится кто-нибудь толстый и попросит чуточку уступить места, как мы ему не уступим?
Я подумал, что, наверно, так и будет. Если действительно придет толстяк и сядет между ними, то разве он столько займет места, сколько занимаю я. Свято место пусто не бывает. Если сяду, можно считать за добро отплачу добром.
И тогда я сказал:
— В таком случае вы сядьте вместе, а мне немного места оставьте с краю! Два цуня[48] — и хватит!
— Два цуня? Ты считаешь, что ты настолько тонкий?
— Чертенок-хунвэйбин, брось ты показывать нам манеры юного джентльмена, лучше, золотце мое, слушай нас, садись в середину! Мы будем охранять тебя слева и справа!
— Мы с удовольствием станем для тебя « женщинами-рыцарями»!
— Старшие сестры-хунвэйбины не откажутся охранять чертенка-хунвэйбина! Они откровенно подсмеивались надо мной, одна из них, взяв меня за руку, как мать непослушного ребенка, подтащила к полке и посадила посередине между ними.
Я стал объектом их шуток, покраснел и не смел что-либо сказать, боясь снова изречь какую-нибудь глупость, позволил им от души повеселиться.
— Откуда везешь такой аромат?
— И в самом деле! Чертенок-хунвэйбин, что за особенную вещь ты принес в вагон?
— Это два помпельмуса в моей сетке так сильно пахнут, — ответил я.
— Помпельмусы? Ты почему раньше не сказал? Мы изнываем от жажды!
— Этот красивенький книжник оказывается обо всем подумал, не то, что мы, а? А мы и не догадались прихватить с собой несколько пампельмусов!
— Красавчик! Чем ты так привлекаешь к себе людей? Ты посмотри, он покраснел!
— О-о-о! Белый красавец стал красным! Какой он благовоспитанный да застенчивый, он скорее похож на юного странствующего сюцая![49]
Еще один раскат хохота.
Я раздумывал: а может быть я им понадобился на полке между ними не только из-за боязни, что их может потеснить какой-нибудь толстяк, а еще и потому, что они сразу увидели, что я, как чертенок-хунвэйбин, доставлю им развлечение?
В конце-концов я тоже хунвэйбин! Хотя по возрасту моложе их на несколько лет. Неужели, по их мнению, мое чувство собственного достоинства ничего не стоит?
Первоначальное мнение, которое сложилось у меня по отношению к ним, резко пошло на убыль. Какое же они имеют преимущество перед хунвэйбином председателя Мао? Дочь «каппутиста» в метеорологическом училище в Чэнду относилась ко мне по-родственному и с любовью, как старшая сестра. А они, черт возьми, подобно избалованным отпрыскам, даже насмехаются, как над ребенком! Неужели они считают, что если они втащили меня в вагон, отчитали того типа из организации «Дин тянь ли ди» и дали мне место, то имеют право выставлять меня на посмешище, потешаться надо мной, как им захочется?
У меня в душе росла неприязнь к ним. Или точнее будет сказать — огромное желание дать отпор.
Я снова поднялся с полки с намерением побыстрее уйти от них, перебраться в другой вагон.
— Ты куда? Не уходи! Что, боишься, что мы съедим часть твоего помпельмуса?
— Ты сильно рассердился? У нас как раз во рту пересохло, если сейчас не полакомимся, то когда еще придется? Успокойся, юный книжник, если останешься с нами, всю дорогу будешь избавлен от голода и жажды!
Уговаривая меня, одна из них взяла за руку, подвела к полке и посадила, а вторая, взяв нейлоновою сетку из моих рук, вынула из нее оба помпельмуса, издававшие аппетитный аромат, достала из кармана маленький складной нож и начала на крохотном столике разрезать помпельмусы на части. Оба поделила на несколько долек.
Потом, не стесняясь, они начали есть их. Не буду рассказывать, как мне стало жаль помпельмусы, когда увидел, что они с аппетитом жуют это чудо. Сам я раньше твердо решил, что какая бы жажда не мучила меня в пути, до возвращения в Харбин ни за что не стану их есть. Я хотел привезти их домой, чтобы мать посмотрела, что из себя представляют помпельмусы. Чтобы мать, братья и сестры попробовали, какие они сочные и ароматные. А когда они будут наслаждаться, думал я, расскажу им какую прекрасную старшую сестру я встретил в Чэнду.
Но они разрушили мою красивую мечту!
Я почему-то все еще испытывал какую-то необъяснимую робость перед ними. Я мог в душе негодовать, но я не смел что-либо высказать вслух. Даже гнев подавлял внутри себя, внешне демонстрировал щедрость, как бы совершенно не придавая значения тому, что они едят.
— Ему совсем безразлично, чем мы лакомимся! Ты тоже присоединяйся к нам! Это же твое, если ты не будешь есть, нам ведь тоже будет неудобно!
— Не собираешься ли ты показать нам свое юношеское джентльментство? Будет правильно, если ты присоединишься к нам!
Они ели и по-прежнему подшучивали надо мной.
«Я, что просил вас есть, — подумал я. — Если я не съем ни дольки, это будет им выгодно. Тогда я буду полным идиотом!». И тут я схватил дольку помпельмуса и стал есть. Ел очень быстро, почти с жадностью. Два укуса и дольки нет. Старался опередить их. Если я этого не сделаю, то потом буду злиться на себя, —мелькнуло в голове.
Увидев, как я жадно ем, они, перемигнувшись, засмеялись, но не так раскатисто, как прежде, так как их рты тоже были заняты делом.
Одна из них, проглотив пищу, с издевкой сказала:
— Это ты так демонстрируешь джентльментство юноши? Не годится, надо разделить, иначе ты один все уничтожишь! Еще оставалось четыре дольки. Мы выделили каждому по одной. Она сказала:
— Я ела очень культурно и, естественно, отстала от вас. Лишнюю дольку оставьте мне!
Она придвинула ее к себе.
Вот так мои два помпельмуса были ликвидированы ими как бы с моего согласия. Полакомившись моим добром, они отплатили тем, что больше не называли чертенком-хунвэйбином, между нами установилось некоторое равенство. Больше не употребляли слова «красавчик», «юный книжник», «юный сюцай», появились слова «юный боевой друг», «уважаемый юный брат».
Я понемногу начал ощущать, что они — самые близкие спутники и вовсе не похожи на развязных, способных унизить человека людей, как я считал до этого.
Сок помпельмусов очень густой и липкий. Он склеивал им руки. Достав носовые платочки, они пытались оттереть их, но ничего не получалось. Мои руки тоже были липкими. Только я не придавал этому значения.
Поезд прибыл в Синьду. Стоянка больше 10 минут. Я добровольно отважился на трудное дело — добыть воды. Взяв их чайную чашку, через окно вылез из вагона и побежал по перрону к крану за водой. Туда уже сбежалось немало жаждущих. Я протолкнулся между ними, набрал чашку воды и стремглав побежал обратно. Они через окно протянули мне свои руки, а я тонкой струйкой поливал им из чашки, давая возможность начисто вымыть их очаровательные ручки. Потом побежал еще раз, с силой втиснулся в кучу стоявших у крана людей, набрал чашку воды и снова, как ветер, примчался назад. Опять медленно стал выливать воду на их красивые цветные носовые платки, а они их стирали. Зазвонил колокол отправления поезда. Оставшуюся воду я вылил в рот, выплеснул на руки и помыл, их. Мигом бросился к окну, ухватился за него, они втащили меня в вагон.
Мои добрые услуги, сделанные от души, закрепили то равенство, которое уже установилось между нами чуть раньше.
Их охватил какой-то странный, непонятный мне интерес к разговору со мной, говорили о чем попало, перескакивая с одного на другое, спрашивали меня обо всем. Это походило на интервью, которое брали две западных журналистки у человека, прибывшего из какого-нибудь туземного становища. Именно такого рода интерес я уловил в их вопросах.
Меня окрыляло и воодушевляло то, что люди проявляли ко мне интерес, и не просто люди, а такие бравые, героические, в высшей степени раскованные и изящные, элегантные и надменные, необыкновенно темпераментные, старшие по возрасту и разные по полу со мной девушки, и мне было не до того, чтобы углубляться в характер вопросов.
Они задавали короткий вопрос, а мне хотелось ответить на него поразмашистей. Они спрашивали про восток, а я, как говорят в Китае, рассказывал о востоке, попутно говорил и о юго-востоке. Они спрашивали о западе, я заодно рассказывал и о западе, и о северо-западе.
Когда они спросили, чем занимается мой отец, я рассказал даже о том, как раньше мой дедушка на рынке «Бацзаши» в Харбине работал сапожником. О проблемах в биографии отца я, конечно, не сказал ни слова. Это могло сильно испортить хороший настрой беседы.
— Я — сын рабочего-строителя, наследник истинного пролетария! Мой отец принимал, участие в строительстве дома народных собраний! — не без гордости сказал я им. При этом они обменялись только им одним понятными взглядами и улыбнулись, слегка, не засмеявшись. Я воспринял это как большое поощрение и болтал без умолку.
Они просили, чтобы я рассказал о своей учебе в начальной и средней школе. Я, взахлеб рассказал им о трехлетием периоде стихийных бедствий, о том, как в компании с несколькими одноклассниками ходил в деревню воровать овощи, как мы были изловлены крестьянами, обруганы и побиты.
Они выслушали и снова, перемигнувшись, улыбнулись. В тот час они вели себя, как наивные молодые девушки, слушавшие самовосхваления 17-летнего юноши, похожие на истории из «Приключений Робинзона Крузо».
— Я еще ел дикие травы, листья деревьев, семена трав, «пушистых собачек» и отстой доуфу! — я чувствовал, что это то, чем можно поразить их. Потому что я уже понял, что они такого не пережили. А я, кроме этих, как мне казалось, оригинальных испытаний пережил много такого, что вызывает уважительное и почтительное отношение к человеку.
— «Пушистые собачки»? Что это такое?
— Отстой доуфу? Это что мелко истолченный соевый сыр? Они с крайним любопытством стали спрашивать меня. Оказалось, что они в жизни повидали куда меньше, чем я. Я хвастливо стал выкладывать свои познания:
— «Пушистые собачки» — это распустившиеся на иве пушистые сережки, по форме напоминающие китайский финик. А отстой или выжимки доуфу — это не размельченный соевый сыр, а жидкость, которая остается в мастерских после изготовления и отстоя доуфу.
— Разве нежные молодые почки не вкуснее «пушистых собачек»?
— Когда человек голодный, он не станет ждать пока распустятся почки!
— А почему не питаться плодами вяза? Плоды вяза вкуснее. Тот маленький герой фильма «Пастушок уходит в армию» ел именно плоды вяза, а не ивовые почки!
— Плоды вяза, конечно же, вкуснее ивовых почек и «пушистых собачек»! Ивовые почки — и горькие, и терпкие, а «пушистые собачки» еще трудней есть! Но плоды вяза люди сметают сразу же как только они распустятся!
— А ты не слышал, говорят, есть искусственное мясо? Неужели искусственное мясо хуже утоляет голод, чем «пушистые собачки»?
— Искусственное мясо? Оно делается из осадка в воде после промывания риса. Но его выдают по талонам. По два ляна[50] в месяц на одного человека.
— Выжимки от доуфу нужны для скармливания свиньям! Если люди будут есть выжимки доуфу, то что же останется свиньям? Неудивительно, что те несколько лет было мало свинины, свиньи, наверно, умирали от голода?
— Свиньи? Тогда люди умирали без счета, кто мог интересоваться, что едят свиньи?!
Я понимал, что они говорят невероятные глупости, как будто в те годы они не жили на территории Китая площадью около 9,6 миллиона квадратных километров!
Наконец, я истощился, я больше не мог чем-либо похвастаться перед ними, надоело ублажать их, стал, осторожно зондируя, сам задавать вопросы. Я не мог все время вести разговор с анонимами, ничего не зная о чих.
— Моя фамилия Чжан, — сказала одна из них, — зовут Чжан Сань.
— Чжан... Сань? — я не поверил, что ее могли назвать таким простонародным именем — Чжан третья. Она разъяснила:
— Не тот сань, который входит в счет «и, эр, сань» (один, два, три), а Сань, который входит в слово «коралл»!
Я мгновенно покраснел. Ну как я мог подумать, что ее назвали Чжан третья! Конечно же Сань — это часть слова «коралл». Только такое красивое имя могли дать этой особе!
— Ее фамилия Яо, а имя У, — сказала она мне, показывая на вторую девушку.
— Яо... У? — у меня нечаянно вырвалось сожаление в голосе, чем я выдал свое отношение к имени второй девушки. Я о У засмеялась, не разжимая губ.
— Ты не подумай снова, что У — это счет пять! У — это часть слова «танец». Яоу — это красивый танец, ты посмотри какая у нее грациозная фигура! В танце она парит в воздухе, разве не появляется желание двигаться, когда услышишь это имя?
Я торопливо оправдывался:
— Я не подумал, что У — это пять. Ее имя очень поэтичное! Яо У прыснула со смеху, прикрыв рот рукой. Однако я не понял, отчего она засмеялась.
— Мой отец, — сказала Чжан Сань, — работает контролером в кинотеатре «Шоуду» («Столица»), ее отец... — она взглянула на Яо У, загадочно усмехнулась, — пусть она сама скажет тебе!
Яо У пожала плечами и медленно, раздумчиво дополнила Чжан Сань:
— Мой отец... у входа в кинотеатр «Шоуду» продает эскимо... — глядя на то, как она замялась, можно было подумать, что она стыдилась сказать о таком мелком занятии ее отца.
— Тогда все мы — дети трудового народа! — воскликнул я.
— Именно так, именно так, — сказала Чжан Сань.
— Говоря вашими словами, все — наследники пролетариата! — подхватила Яо У.
Я почувствовал, что мы еще больше сравнялись, надо только проявить инициативу для дальнейшего закрепления отношений такого равенства.
На всем пути я везде обслуживал их: через окно выбирался на перроны станций и покупал им еду, протискивался через несколько вагонов, чтобы передать их «боевым друзьям» устные послания, «жертвовал» собственными плечами, чтобы их головы, опираясь на них, могли подремать.
Перед приходом поезда в Сиань они, посовещавшись, решили в Сиани сойти с поезда и несколько дней провести в этом городе. Стали подбивать меня остаться вместе с ними.
Я совершенно забыл о своем обещании, данном в Чэнду девушке, которую называл старшей сестрой, но имени не знал. Я могу лишь сказать, что тогда меня черт попутал. Я без малейших колебаний, обласканный ими, даже изъявил желание сопровождать их в любое место.
Они тоже обрадовались. Не трудно было заметить, что они хотели иметь такого, как я, маленького спутника. И вот я снова, протиснувшись через несколько вагонов, передал их «боевому другу» их решение.
Поезд прибыл в Сиань.[51] Многие пассажиры вышли из поезда и решали на станции свои дела. Я же вместе со своими покровительницами неторопливо покинул вагон и в прекрасном настроении зашел в вокзал.
Они привели меня в приезжую воинской части. Им дали комнату на двоих. Меня определили в казарму батальона вместе с солдатами. Я недоумевал, как им удалось остановиться в приезжей воинской части.
Чжан Сань быстро разрешила мои сомнения:
— Об этом не следует спрашивать и ты не спрашивай. Знай себе, что нас хорошо устроили и ладно!
Яо У, которая была ближе ко мне чем Чжан Сань, пояснила:
Здесь заведующим приезжей работает мой дядя, вы оба благодарите меня! В те дни, которые мы провели в Сиане, они иногда брали меня с собой в свои развлекательные походы, но в большинстве случаев совершали прогулки сами. Когда они ходили отдельно от меня, я тоже самостоятельно уходил куда-нибудь развлечься, а если; хотел, то спал в казарме батальона.
За все время великого шествия в эти дни я блаженствовал как никогда. Кроме того, Яо У передала мне комплект трикотажного белья. Я обещал ей, что как только вернусь в Харбин, так сразу перешлю его обратно. Она велела не возвращать. Когда я надел то наполовину новое белье, мне стало намного теплее. Я уже не ощущал холод, который с севера добрался до Сиани. Помимо этого, я мог через день вместе с солдатами мыться в бане. Питался я тоже в солдатской столовой, никакой нормой меня не ограничивали. А мои дамы устроились где-то отдельно.
Кроме того, я сходил в парикмахерскую, сделал себе ученическую прическу. Правда, один доморощенный умелец — младший боец вызвался показать на мне свое мастерство, но я отказался. Подумал, что он хочет потренироваться на моей голове, чтобы приобрести навык, и может так постричь, что родная мама не узнает.
Я очень чисто выстирал свое белье и верхнюю одежду, своим местным способом с помощью чайной чашки, заполненной кипятком, выгладил куртку и брюки, да так ровно, как это делала мать. Даже повязку хунвэйбина постирал и выгладил. Когда я надевал на себя чисто выстиранную и выглаженную верхнюю одежду, она плотно прилегала к нижнему белью, которое подарила Яо У, и мне казалось, что мое тощее тело становилось полнее, что весь я подрастал.
Однажды утром, идя в столовую, на завтрак, я встретил их.
Они с удивлением осмотрели меня с головы до ног.
Уже прошло два дня, как я не встречал их. Когда у них возникали дела, для выполнения которых требовалась моя помощь, они посылали ко мне какого-нибудь юного боевого друга. Если такая просьба не поступала, то я не ходил к ним, чтобы не мешать. Я прекрасно понимал, какая роль мне отведена.
Когда они детально изучили мою внешность, Яо У с серьезным видом сказала:
— А ведь и правда!
В ее словах я уловил похвалу и очень обрадовался.
А Чжан Сань добавила:
— Ты такой славный. Люди могут влюбиться в тебя. Под «людьми» она явно подразумевала самих себя, это я тоже понял. Радости прибавилось еще больше.
— Позавтракаешь, приходи в нашу комнату, я хочу подарить тебе кое-что,— сказала Яо У.
Они многозначительно обменялись улыбками и легкой грациозной походкой отправились дальше.
Позавтракав, я сразу же побежал к ним.
Подойдя к их комнате, я услышал разговор. — Ты, кажется, влюбилась в этого харбинского младшего брата? — Это был голос Чжан Сань.
— Да что-то есть. Этот юноша очень миловидный, не так ли? — это голос Яо У.
— Красавчик писаный, правда, очень стеснительный, похож на девочку! Тебе это нравится?
Я же тебе сказала: да, что-то есть! Возможно, мне как раз нравится эта его девичья стеснительность!
— Слушай! А что бы ты хотела услышать от меня?
— Ты скажи всего пару слов, не разочаровывай меня!
Яо У восхищена мною!
Пусть даже всего чуть-чуть влюбилась, все равно какая неожиданность, какая несказанная радость! Я — 17-летний юноша — до сих пор не знал, что могу нравиться какой-нибудь девушке. А тем более такой, как эта! То, что я нравлюсь пусть даже немного, для меня уже большое счастье! Если бы я своими ушами не услышал то, что она сказала, как бы я осмелился надеяться, как посмел бы поверить? До того я и думать не мог о них! Они, конечно, были не такие, как «лицо-яблоко», которую я встретил в поезде Харбин-Пекин! В их облике было величие, было видно, что они смотрят на окружающих свысока, как будто они подарили им этот мир. Это чувство превосходства да красивая внешность, в которую они уверовали, очевидно создали некую более важную психологическую основу. Она, как невидимая вольтова дуга, окружала их со всех сторон. И если кому-то приходило в голову приблизиться к ним, то он обжигался, как от электрического тока.
Но мне теперь незачем было беспокоиться об ожоге!
Неожиданная радость как бы окутала меня толстым куполом.
Я затаил дыхание в надежде услышать еще что-нибудь о себе.
Однако они замолчали.
Я долго успокаивал себя и только потом постучал в дверь.
— Входи, маленький бесенок! — крикнула Яо У. Как мне послышалось, ее голос был теплый и мягкий. Два слова «маленький бесенок» уже больше не казались мне пренебрежительными, а содержали оттенок шутливости.
Я открыл дверь и увидел, что обе они сидели на кроватях, откинувшись назад на свернутые одеяла и свесив ноги. Чжан Сань, глядя в зеркало шкафа, расчесывала волосы. Чжан Сань взглянула на меня, потом — на Яо У, сделала движение губами в мою сторону, пожала плечами и продолжала расчесываться.
Яо У рывком поднялась, с улыбкой на лице сказала мне:
— Проходи, маленький чертенок!
Я робко подошел к ней. Представ перед нею, я еще больше оробел.
Она, внимательно глядя мне в глаза, спросила:
— Ты почему покраснел?
— Я не покраснел, — промямлил я, заикаясь.
— Не покраснел? Покраснел как помада! Я ничего не сказал в ответ.
— Полон бодрости и энергии! — сказала Чжан Сань и посмотрела на меня, строгим тоном спросила, — Ты сейчас за дверью не подслушивал, о чем мы говорили?
— Нет, нет! — отрицал я растерянно.
Яо У, ничего больше не говоря и откровенно смеясь, взяла меня за руку и притащила к зеркалу, оттолкнув от него Чжан Сань.
— Может ты отойдешь?!
— Хорошо, хорошо, я отхожу! — Чжан Сань тоже засмеялась и отступила к своей кровати, села на край, открыла кожаный чемоданчик и стала любоваться находившимися в нем различными значками с изображением Мао. Она собрала ту коллекцию за время поездок.
Яо У открыла дверцу шкафа, сняла с вешалки китель военно-воздушных сил со срезанными петлицами с эмблемами командующего Мао, почти новый, затем закрыла платяной шкаф.
— Дарю тебе! — сказала она, — сейчас же надень, чтобы мы посмотрели!
— Мне не надо, ты же дала мне трикотажную нижнюю рубашку и трикотажные кальсоны. Если я возьму еще, то...
— Когда тебе дают, значит ты должен взять. Не можешь не взять! Я вынужден был принять его, в полном замешательстве надеть на себя. Она снова откинулась на кровать, опершись спиной на свернутое одеяло, скомандовала:
— Повернись!
Я послушно повернулся лицом к ней.
— Пойдет! Не мал, не велик, как раз впору, в нем у тебя настроение поднимется, — резюмировала она не то мне, не то кителю. Ее восхищенный взгляд был обращен то ли ко мне, то ли к кителю.
Чжан Сань однако даже не посмотрела в нашу сторону.
Яо У снова скомандовала:
— Развернись, маленький бесенок, посмотри на себя в зеркало!
Я четко исполнил ее команду.
В зеркале я действительно смотрелся очень солидно.
Лежа на кровати, она спросила:
— А как ты сам чувствуешь себя в нем? Маленький бесенок!
Я был в крайне затруднительном положении, застенчиво улыбнулся.
— Эй, мы, пожалуй, выйдем отсюда. Ты как, пойдешь вместе с нами? — объявила она Чжан Сань.
— Извини, сегодня я никуда не пойду! — лениво ответила Чжан Сань, по-прежнему перебирая в чемодане значки с изображением Мао. Она даже не подняла голову и не посмотрела ни на меня, ни на нее.
Яо У беззвучно засмеялась, обратилась ко мне:
— Тогда ты составь мне компанию, сходим в Хуацинчи! Там в свое время Чжан Сюэляном и Ян Хучэном был арестован Чан Кайши, стоит сходить! — она тут же сорвалась с кровати, оделась и, схватив меня за руку, вытащила из комнаты и отпустила руку только тогда, когда мы вышли из здания.
Настроение у нее было выше всякой нормы.
Когда мы возвратились из Хуацинчи, время шло — к вечеру. В пути туда и обратно она всячески проявляла знаки внимания, дружбы и старалась показать свою близость ко мне. Предложила пирожки с мясом, все время покупала мне минеральную воду, мороженое. Я, как опьяненный, вежливо, с радостью принимал ее дружбу и близость. В то же время сомневался: а не сон ли все это? «Великая культурная революция» — ведь это тоже сон. Великое шествие — тоже сон. Хуацинчи — это место из мира моих грез. Она — человек из мира моих сновидений. Все, все — сон.
Чжан Сань в комнате не было.
На столе лежал лист бумаги, на котором было написано: «Я, вероятно, возвращусь очень поздно. Желаю тебе сегодня хорошо развлечься».
Она взяла его, взглянула мельком и отложила.
В коридоре тишина. На всем этаже здания жили всего лишь они вдвоем.
Она по привычке легла на кровать, опершись спиной на свернутое одеяло, ноги свесила вниз, сказала сама себе:
— Я немного устала.
— Тогда я пойду, а ты отдыхай! Тебе не выключить свет? — спросил я.
— Не уходи. Подойди сюда, ко мне поближе, — попросила она.
Я тихонько подошел к ней.
Она, лежа без движения, не сводя с меня глаз, едва внятно спросила:
— Как по-твоему, мы сегодня хорошо провели день?
Меня почему-то охватил душевный трепет, я смог ответить всего одним словом:
— Хорошо.
Яо У усмехнулась и снова скомандовала мне:
— Закрой глаза!
Я послушно закрыл.
— Пока я не скажу открой глаза, ты не открывай! — ее голос стал еще ласковей.
— Я не открою, пока не разрешишь! — пообещал я. Ее руки обхватили мое лицо. Они были так нежны, так мягки, как вата! Они ласкали лицо, шевелили волосы. Я не открывал глаза.
У меня появилось ощущение, что вот-вот потеряю сознание! Вдруг она притянула меня в свои объятия. Обе ее руки крепко сжимали меня. Ее губы прочно впились в мои, она, как сумасшедшая, целовала меня, долго-долго не отрывалась от моих губ, казалось, что хочет всосать в себя мое сердце, мою кровь. Она так крепко держала меня в своих объятиях, что я едва не задохнулся...
В то время я думал, что потеряю сознание в ее объятиях.
Такой шквал разнородных чувств я тогда, семнадцатилетний юноша, выдержать не мог.
В глазах пошли круги, я с закрытыми глазами сносил то, что она мне подготовила...
Я не знаю, сколько времени продолжалось мое головокружение в том бешеном вихре ее чувств, который, как взрыв, вырвался наружу. Наконец, она оттолкнула меня.
Я по-прежнему стоял с плотно закрытыми глазами.
— Открой глаза, — тихо произнесла Яо У.
В тот момент, когда я открыл глаза, я увидел, что она стоит с закрытыми глазами и вытянутыми руками, а грудь то высоко вздымается, то опускается, едва дышит.
Не открывая глаз, она сказала:
— Теперь уходи.
Я неслышно вышел из комнаты.
Меня охватило ощущение счастья и в то же время чувство, как бы сильно отличающееся от счастья, с которым я и возвратился в свое жилище. Я лег на свою постель и с головой укрылся одеялом, беззвучно заплакал. Я чувствовал, что плачу от счастья, и в то же время — не совсем от счастья. В тот момент я еще не мог понять...
Следующие несколько дней Чжан Сань всюду прогуливалась одна.
Если только Чжан Сань не было в комнате, когда я приходил к ним, мы с Яо У никуда не ходили. В их комнате мы устраивали свидания. Она не говорила мне о чувстве любви. Она полностью отдавалась любви. То нежилась около меня, то вдруг загоралась шквальным огнем. То позволяла мне, закрыв глаза, прильнуть к ней, как крепко спящему ребенку, а сама в это время гладила мне щеку. То вдруг предлагала встать перед ней на колени, как это делали рыцари, описанные в классических западных любовных романах, то сама, подложив под колени подушку, протягивала ко мне руки и взлохмачивала мои волосы. Ее любовь растрогала меня до глубины души. Растрогала так, что слезы катились в два ручья. Я был так счастлив, что смеялся сквозь слезы.
Я целиком погрузился в романтические грезы, забыв о «великой культурной революции», перевернувшей небо и опрокинувшей землю, возмутившей и возбудившей время. Хотел, чтобы такие грезы продолжались бесконечно. Забыл о доме. Как будто у меня, не было семьи. Даже не подумал о том, что мать возможно дни и ночи с тревогой думает обо мне.
Я на самом деле так увлекся ею, что забыл о возвращении домой. Однажды, когда она снова со свойственной ей горячей страстью, как ураган набросилась на меня, я не в силах был больше притворяться сладко спящим ребенком или играть роль покорного и мягкого в обращении благородного рыцаря. Я взыграл как молодой бычок. Мне захотелось обладать ею, а не бесконечно позволять ей по ее желанию делать со мною все, что ей заблагорассудится.
Я бросился в такое дикое наступление на нее, о котором стыдно реально писать...
Желание получить огромное удовлетворение от ее тела, о котором я мечтал, пришло так неожиданно, так мощно!...
Однако Яо У освободилась от чувств, которые ее охватили, неожиданно для меня вернула себе рассудок.
Она дала мне гулкую оплеуху!
Ее брови, похожие на листочки ивы, нахмурились, глаза зло в упор смотрели на меня.
— У тебя слишком разгорелся аппетит! — выкрикнула она, — катись отсюда!...
Я закрыл лицо, онемел.
— Убирайся отсюда! — Яо У указала рукой на дверь комнаты.
Я, напуганный всем, что произошло, тут же повернулся и покинул ее комнату...
Из-за отвратительного чувства и переживания мне очень хотелось получить от нее пощечину.
Через два часа ко мне явилась Чжан Сань.
С деревянным выражением лица она сказала:
— Пойдем со мной, я хочу тебе что-то сказать. С тревогой в душе я пошел следом за ней, остановились в укромном месте.
— Сегодня ты должен покинуть Сиань! — ледяным голосом предупредила она, презрительно глядя мне в лицо.
Я глухим голосом попытался узнать причину:
— Почему?
— Ты сам знаешь, почему! — ее голос стал еще холоднее, настолько, что мое сердце ушло в пятки. Я умолял ее:
— Скажи ей, что я... я хочу встретиться с нею... глядя ей в глаза... попросить прощения...
— Выбрось это из головы, она не может больше видеться с тобой!
— Не увидевшись с нею, я никак не могу уехать отсюда!
— Не валяй дурака! Если будешь поднимать шум, тебе же будет хуже! — сказала Чжан Сань и, резко повернувшись, пошла.
Я задержал ее, не отпуская от себя, слезно умолял. Наконец, кажется растрогал, она подала мне надежду, лукаво усмехнулась:
— Разве она не говорила тебе? Ее отец перед входом в театр «Шоуду» продает мороженое. Если ты еще мечтаешь увидеть ее, то поезжай в Пекин, там разыщешь ее отца! А найдя отца, что — не повидаешься с нею?
Пока я оставался в состоянии оцепенения, она удалилась от меня.
Потом остановилась, повернула голову в предупредила: — Ты сегодня же должен уехать из Сианя! В противном случае, если даже найдешь ее отца в Пекине, не надейся на встречу с нею!
* * *
Вечером с единственной надеждой в душе снова когда-нибудь увидеть ее, переживая из-за того, что не удалось добиться прощения, я втиснулся в поезд, отправлявшийся в Пекин...
Прибыв в Пекин и подыскав место для жилья, я сразу побежал к кинотеатру «Шоуду».
В первый день я не нашел человека, который продавал бы эскимо.
На второй день тоже не обнаружил того, кого искал.
На третий день по-прежнему никого с эскимо не было.
Я подумал, что можно разыскать отца Чжан Сань и, может быть, таким путем найти ее в Пекине.
Тогда я зашел в кинотеатр и спросил, нет ли среди швейцаров человека по фамилии Чжан.
Мне ответили, что у них ни одного Чжана нет. У них всего два швейцара. Один — по фамилии Чжао, второй — Чжоу.
— Должен быть один человек по фамилии Чжан. У него есть дочь, ее зовут Чжан Сань. Мы познакомились в поезде, со слов Чжан Сань, ее отец работает в кинотеатре «Шоуду», — пытался я доискаться до истины.
Тот человек, с которым я разговаривал, рассердился:
— Говорят — нет, значит, нет! Зачем я буду тебя обманывать? Чжан Сань?
Или Ли Сы?[52]
Я нарвался на неприятность, но не отказался от задуманного, и на следующий день снова отправился туда же. В общем встретил продавца цукатов, правда, не мужчину, а женщину — толстую старуху лет за 60.
«Наверно,— это ее мать, на день заменила отца, — подумал я, — Человек, продающий эскимо, продает цукаты чего ж тут удивительного». Я подошел к ней и как можно ласковей спросил:
— Тетушка, у вас фамилия не Яо?
Она косо взглянула на меня, ответила:
— Нет, я не Яо.
Я торопливо поправился:
— Ой, я не правильно спросил. У вашего мужа фамилия Яо? Она снова скосила глаза в мою сторону:
— Мой муж тоже не Яо!
— Тетушка, вы не подумайте, что я просто так пристаю к вам! У вас есть дочь по имени Яо У? Она рассердилась:
— У меня вообще нет дочерей! Только три сына! Каких-то там пятых Яо или шестых Ванов ищи в женских семьях! Цу... каты!...
Яо пятая, Ван шестая?
Вчера до моих ушей долетели слова того человека в кинотеатре «Шоуду»:
Чжан третья? А может быть Ли четвертая?
Чжан третья. Ли четвертая, Яо пятая, Ван шестая... Чжан Сань... Чжан третья...
Яо У... Яо пятая...
Я вдруг прозрел! Какой я дурак! Было вполне очевидно, что они с самого начала дурачили и разыгрывали меня, а я принимал это за правду!
А она?...
Я ненавидел ее!
То не было любовью!
Они показали себя во всем блеске, доказали, что они совсем из другой среды, куда мне до них. Но я тем не менее не придал этому значения и ничего не разглядел, это было какое-то наваждение. Додумался сказать им: все мы сыновья и дочери трудового народа!
Я ненавидел себя за свою слепоту!
Я вспомнил, как они бесконечно разыгрывали меня и смеялись, вспомнил, как добровольно исполнял роль служки, вспомнил ее «любовь» ко мне... и так одно нанизывалось на другое, пока я не возненавидел самого себя и не почувствовал огромный стыд за самого себя!
И это — хунвэйбины! Оказывается хунвэйбин может обманывать хунвэйбина! На каком основании?!
Они всего на несколько лет старше меня, все выросли в одинаковых условиях, некоторые стали дочерями «каппутистов», но по-прежнему бескорыстно сочувствовали другим и даже болели душой за них, часть из них выбилась в «героини» среди хунвэйбинов, но их души остались такими же пустыми, такими же мерзкими! Почему?
Я все еще был одет в подаренную ею одежду.
Я решил, что должен найти ее в Пекине, вернуть одежду. Я также должен сказать ей в лицо, что мы — дунбэйцы — третьим Чжаном называли волка! Что между ними и волками нет никакой разницы! Я навсегда запомнил их.
После этого я в течение нескольких дней метался по всему Пекину с единственной целью — найти их! Найти их!
Однажды вечером я услышал, что организация «Совместные действия» штурмует министерство общественной безопасности, хочет вызволить арестованных «боевых друзей». Идя навстречу холодному ветру, я добрался до министерства общественной безопасности. Я предполагал, что они уже вернулись в Пекин и такое событие без их участия не обойдется.
Бойцы Народно-освободительной армии в вестибюле министерства общественной безопасности, взявшись за руки, в несколько рядов плотно преграждали вход.
Хотя людей из «Совместных действий» собралось не мало, однако их многочисленные атаки не могли проломить стену и ворваться внутрь.
Стемнело. В беспорядке бродила масса людей. Их в этой толпе я не обнаружил.
Я по-прежнему был обут в летние резиновые кеды и окоченевшие ноги ломило до боли…
Только собрался уходить, как неожиданно увидел подходившую машину — джип с брезентовым тентом. В машине стояло несколько человек. Среди них — одна женщина. Она была одета в суконное военное пальто, выглядела величественно. С первого взгляда она показалась мне похожей на нее, хотелось убедиться и я протиснулся вперед. Да, так и есть, то была она.
Бойцы организации «Совместные действия» закричали:
— Главари прибыли!
— Посторонись, главари прибыли!
Она командно-приказным тоном объявила:
— Будем считать, что сегодня была первая репетиция. Через несколько дней будем прорываться!
Машина развернулась и ушла.
И тогда собравшиеся там отряды из организации «Совместные действия» разошлись.
На прежнем месте остались только я и некоторые зрители...
Наконец-то я снова встретился с нею.
В тот вечер я снял с себя дарованный ею китель ВВС со срезанными петлицами и повесил на голую ветку дерева, стоявшего у дороги...
На следующий день я покинул Пекин.
В голове вертелось всего два слова: назад домой... назад домой!... назад домой!!... назад домой!!!
В поезде встретил одного хунвэйбина из нашей школы.
Он одолжил мне свое пальто.
Взяв пальто, я зашел в туалет, снял с себя трикотажное белье, которое она мне подарила, и выбросил за окно вагона.
То, в чем я нуждался и должен был привезти домой, я не мог и не должен был везти, решительно от него отказался.
Мое великое шествие завершилось...
ГЛАВА 18
Снег!..
Только когда я через окно вагона увидел бескрайние заснеженные просторы, я всем существом понял, что вернулся па свой Север.
У меня — сына Севера — к снегу такие же чувства, как к родной матери. Он обратил мои мысли к семье, вызвал острую тоску по дому. Не прошло и двух месяцев, как я оставил семью, а было такое ощущение, как будто я не видел ее целых два года.
Харбин — Пекин — Чэнду — Пекин — Харбин. За два месяца я не написал домой ни одного письма. Не знал, как моя мать дни и ночи со страхом переживала за меня. Великое шествие — это моя первая дальняя поездка. Оно дало мне возможность собственными глазами увидеть подтверждение словам, что в «Поднебесной творится беспорядок». Тогда говорили, что беспорядок — это хорошо, он способен выявить классовых врагов, закалить левых революционно. Тогда думалось, что лично я — семнадцатилетний подросток — несомненно прошел большую школу жизни. По крайней мере я понял, что с людьми типа Бао Хунвэя ухо надо держать востро. Не следует связываться с такими дамами, как «Чжая Сань» и «Яо У». Ну а что касается беспорядков, то боюсь, что их не следовало пугаться, так как создавали их сами. Все мы примерно в одинаковой степени пережили перипетии «культурной революции» как люди одного поколения, независимо от того, был ли ты хунвэйбином или нет.
«Великая культурная революция», великое шествие были «учебными сборами» целого поколения людей нашей республики, которым никто не мешал. Они сформировали это поколение совершенно непохожим на молодежь восьмидесятых годов ни по моральной стойкости, ни по темпераменту. Кое-кто назвал целое поколение хунвэйбинов «затравленными волками». Эта точка зрения вполне удовлетворяет злорадные чувства ненависти, но не совсем правильная. В конечном счете они тоже оказалась пострадавшими в этой революции. Нет никаких убедительных аргументов и логики в том, чтобы все огромные злодеяния взвалить на их плечи. Хунвэйбйны, взяв на себя все испытания, своими действиями доказали, что «культурная революция» была бессмысленна. Те люди в Китае, которые серьезно проводят контридею «культурной революции», хунвэйбинов выделяют особо. Основные претензии они предъявляют к их главарям за жестокость.
Когда пассажирский поезд выскочил на мост через реку Сунгари, я невольно прильнул к стеклу и стал смотреть за окно вагона. В тот год Сунгари замерзла поздно. Остров-отмель посередине реки был покрыт неправдоподобно чистым белым снегом. На воде не было ни малейших волн, казалось, что медленно ползет готовая вот-вот застынуть магма. Хлопья снега, коснувшись воды, исчезали, не оставляя от себя никакого следа.
Отпечатки ног на берегу реки очень редки, он выглядит совсем заброшенным.
Мне показалось, что там чего-то недостает и спросил об этом хунвэйбина нашей школы, который заимствовал мне свое пальто:
— Ты взгляни на берег реки, тебе не кажется, что там чего-то не хватает?
Он тоже прижался к оконному стеклу, стал смотреть на реку и подтвердил мое предположение:
— Действительно что-то исчезло.
И тогда многие из пассажиров, прильнув к окнам, стали всматриваться вдаль.
— Что исчезло? А где скульптуры лебедей, которые стояли перед дворцом молодежи?
— Да, пропали все скульптуры, которые были на берегу реки!
А какие они были изящные и как украшали берег!
За два месяца, пока мы — харбинские хунвэйбины — скитались на чужбине, все скульптуры на берегу реки были разбиты и сброшены в воду.
Это не оставило никого равнодушным, все оживленно стали обсуждать это событие.
— Черт возьми, это точно сделали не наши хунвэйбины!
— А ты видел? Вполне возможно, что именно наши же харбинские друзья и уничтожили их!
— Если харбинские хунвэйбины могли поехать в чужие земли, то почему хунвэйбины из других мест не могли приехать в Харбин и учинить погром? Нам отплатили той же монетой!
— Можно громить «четыре старых», но не все же подряд! Скульптуры лебедей отнесли к «четырем старым»?
— А те гуанчжоуские «пять козлов» считаете тоже относятся к «четырем старым»? Разве их тоже не разбили вдребезги ?
— Черт возьми! Несколько хубэйских хунвэйбинов при расставании со мной наказывали обязательно сфотографироваться на фоне скульптур лебедей и прислать им снимки! Разбили! Где теперь сфотографируешься?!
— Это называется: «не разрушишь — не создашь!».[53]
Поезд уже проехал мост, а в вагоне по-прежнему шли пустые дебаты. Выходило так, что если бы только эти люди в то время были в Харбине, то они решительно не допустили бы, чтобы те красивые скульптуры лебедей были разбиты и сброшены в Сунгари. А я думаю, что если бы эти парни в то время были в Харбине, то все равно прекрасных скульптур не миновал бы злой рок. Возможно, они расколотили бы их своими, руками. Слова «бить», «громить», «разбивать» во время «культурной революции» повсеместно отражали настроение людей. Можно сказать были основным мотивом революции. Не бить или мешать другим людям бить, наоборот, могло рассматриваться как «отсутствие усердия». Любая вещь только потому, что она красивая, в те годы в большинстве случаев была несовместима с понятием «революция». Всегда умели отыскать самые правильные «революционные» обоснования, чтобы уничтожить ее. Даже рисунки и скульптуры цветов и птиц, насекомых и рыб.
Четыре иероглифа в словах станция Харбин уже были заменены на иероглифы «город Алеет Восток». Поезд под музыку песни «Алеет Восток» вошел в город «Алеет Восток», что, как известно, всегда вызывает у людей определенные чувства и эмоции. Мои эмоции были предельно просты — они отражали те чувства, которые испытывает человек, возвратившийся домой, независимо от его названия — станция Харбин или город «Алеет Восток».
На перроне вокзала развевалось два флага. На одном было написано «Союз 8.8.», на другом «Организация красных цзаофаней». По обеим сторонам перрона в ровном строю стояли почетные караулы этих двух организаций, посередине их разделяла временная священная разграничительная линия «мирного сосуществования». Как только поезд остановился, оба почетных караула одновременно заиграли гимны своих организаций.
Мы несказанно удивились и не могли понять, почему две взаимоисключающие друг друга крупные организации так высоко подняли на щит нашу разношерстную армию, возвращающуюся с великого шествия и так торжественно встречают нас. Из окон одна за другой стали высовываться головы и принимать неожиданные знаки благоволения со смешанным чувством радости и тревоги.
Однако мы напрасно растрачивали чувства. Встречали вовсе не нас, а каждая группировка — своих представителей, вернувшихся из столицы с переговоров. Мы — разный сброд — просто оказались в одном поезде с представителями двух прославившихся на всю страну организаций, ездивших в столицу на переговоры, и радость встречи перепала и нам.
Представители обеих группировок, конечно, не стали смешиваться с нами — разношерстным сбродом. Они занимали отдельные вагоны, каждый из них обладал комфортабельным спальным местом. В Пекине они вели переговоры, главным образом, с премьером Чжоу Эньлаем. Говорят, что за два дня они трижды встречались с ним. Рассказывали также, что в присутствии премьера они друг перед другом стучали кулаками по столу. Разозлили премьера. Потом он тоже в гневе стукнул кулаком по столу. В то время главарем организации «Союз 8.8.» был Мао Юаньсинь. А одним из тех, кто ездил в столицу на переговоры от «организации красных цзаофаней», был один из главарей этой организации Фэн Чжаофэн сирота погибшего воина. Говорили, что он приемный сын премьера. Главари двух прославившихся на всю страну разноликих группировок и их представители на переговорах в столице были не из числа заурядных людей, поэтому неудивительно, что среди множества срочных дел премьеру Чжоу пришлось выкраивать время, чтобы лично самому вести с ними переговоры.
Представители обеих группировок вышли из занимаемых ими вагонов и каждый направился к своему почетному караулу, каждому из состава караула пожали руку и сообщили:
— Мы победили! Мы победили!
— Уважаемый премьер Чжоу поддержал именно нас!
— Премьер Чжоу от имени председателя Мао и Центрального комитета партии заверил, что общий курс нашей борьбы в конечном счете правильный!
Они говорили примерно одинаковые слова и невозможно было узнать какую же из группировок в конце-концов поддержали председатель Мао и Центральный комитет партии. Удовлетворяют ли их в конечном счете результаты переговоров?
Если сказать, что удовлетворяют, то, судя по их поведению, взаимная враждебность ни на йоту не уменьшилась, осталась прежней, совершенно очевидно, что за столом переговоров в Пекине они так и не достигли согласия о единстве и тем более перед лицом премьера Чжоу не пожали друг другу руки о мирном исходе дела. Если сказать, что переговоры провалились, то, слушая их слова, можно подумать, что они крайне удовлетворены результатами переговоров.
Из здания вокзала выбежали корреспонденты газет каждой из группировок, окружили своих представителей — у каждого в одной руке блокнот, в другой— ручка — засыпали их вопросами, быстро записывали.
— Как вы представляете себе обстановку в последующей борьбе?
— Перспектива светлая, путь — извилист.
— Как вы считаете, существует ли острая борьба в Центральном комитете по делам культурной революции?
— Затрудняюсь сказать.
— Может ли наша «Организация красных цзаофаней» пойти на большую коалицию с «Союзом 8.8.» в осуществлении революции?
— Этот вопрос следует задать им, тогда будет правильно! Мы — «Организация красных цзаофаней» — ни в коем случае не пойдем на большое объединение с организацией, твердо стоящей на монархических позициях. Это — принцип борьбы, от которого мы никогда не сможем отказаться! Если они изберут новую платформу, мы будем обеими руками приветствовать их возвращение в лагерь истинных левых революционеров!
На одной стороне перрона отвечали на вопросы, на другой — выступали с речами:
— Мы — «Союз 8.8.» — ни в коем случае не станем на иные позиции. Так как наша платформа — это клятва довести до конца «великую культурную революцию». Кроме этой единственной позиции, мы никакой другой не приемлем! В отношении тех, кто приклеил нам ярлык монархистов, долг велит быть стойкими монархистами. Защитим председателя Мао! Защитим Центральный комитет по делам культурной революции! Защитим пролетарский штаб, возглавляемый председателем Мао! Это не позор для «Союза 8.8.», это большая честь для нашего союза!..
Одна сторона в чистейшей манере дипломатов наносила удар из-за спины. Выдающиеся говоруны другой стороны с воодушевлением сыпали словами. Беспрерывно сверкали вспышки фотоаппаратов обеих сторон. Мы, оставшееся в поезде разноликое войско, узнали, увидели и услышали такое, что нас ничем ужи нельзя было удивить. Мы испытывали глубочайшее уважение к обеим сторонам за их ум, смекалку, напористость. Мы узнали, что цзаофани сняли себе купейный вагон и съездили в Пекин, где на уровне премьера Чжоу при личной встрече с ним доказали, что тезис «бунт — дело правое» следует считать правильным!
Все вагоны, кроме двух, в которых ехали с переговоров представители противостоящих группировок, были заперты. Проводники, похоже, заранее подготовились к этому, они закрыли на ключ все двери и не открывали до тех пор, пока караулы, встречавшие представителей своих группировок, и журналисты шумной толпой не покинули перрон.
Разношерстная публика, толкаясь и напирая друг на друга, со всех ног бросилась из вагонов и направилась к воротам станции в расчете на то, что удастся посмотреть, что будет происходить за ее пределами, какие шумные представления дадут им две группировки.
Я тоже вместе с толпой устремился вперед.
Известный итальянский кинорежиссер Антониони в одном поставленном им фильме, воспользовавшись обстоятельствами одного события, показал психологию людей, собирающихся на такие шумные представления: молодой мужчина — главное действующее лицо — преследуя убийцу, врывается на место увеселений — подмостки, где модные певцы, как помешанные, как сумасшедшие в тряске ноют песни. Один из певцов так размахивал гитарой, что она рассыпалась на части, и он выбросил ее в, толпу, а толпа, как обезумевшая, стала расхватывать обломки, люди дивили друг друга, ногами наступали на руки — столпотворение невообразимое. И тогда главный герой, захваченный такой атмосферой, забыл о поиске убийцы, тоже бросился добывать кусок гитары, вырвал из массы тел верхнюю ее часть, с трудом вырвался из окружения и побежал. Толпа бросилась изо всех сил догонять его. Наконец, он оторвался от нее и, едва дыша остановился, глянул на обломок гитары, беспорядочно подергал струны. Не понимая, зачем он в тот момент, как сумасшедший, бросился вместе с другими завладевать бесполезной поломанной вещью, он размахнулся и выбросил ее. Оказавшийся перед ним человек, напрасно стремившийся что-либо найти, с радостью наклонился и, как драгоценность, схватил ее. Но, осмотрев, тоже попил, что тот обломок ему совершенно не нужен, и, размахнувшись, выбросил его. Он попал под ноги прохожему, тот отшвырнул его в канаву...
А на площадке для увеселений по-прежнему продолжалось буйство, толпа все еще боролась за обладание обломком гитары...
И только когда они покинули ту увеселительную площадку, освободились от той атмосферы, только тогда смогли осознать, как они были смешны, как нелепо себя вели...
Психология тех людей, которых показал Антониони, именно такая, какой была психология у меня и огромного разношерстного войска в тот момент.
Мы, как лавина, прорвались через ворота и выбежали на привокзальную площадь. Она практически превратилась в каток. Поверхность образовавшегося на ней льда была пригодна для катания на любых коньках: обычных, хоккейных, гоночных. На площади перед вокзалом были вморожены в лед лозунги и транспаранты. Это было «изобретение» и «творчество» хунвэйбинов города «Алеет Восток». Зимой сама природа благоприятствовала занятию революцией, позволяла прятать дацзыбао и лозунги под корку льда, активисты этого дела, прогуливаясь по городу всего лишь с пустым ведром, найдя подходящее место, шли к крану, заполняли ведро водой, выплескивали его на землю или стену, накладывали дацзыбао или лозунг, и через минуту-две они уже примерзали. Потом обливали сверху и замыкали текст под лед, который охранял его, как защитная пленка, и будучи прозрачным, давал возможность читать. До наступления весеннего тепла он сохранится. А если кто-то захочет уничтожить, то это будет трудно сделать, разве что с помощью горячей воды.
Вся привокзальная площадь была покрыта квадратными плитами и оказалась идеальным местом для дацзыбао и лозунгов. Никто не знает, сколько людей туда приходило и сколько слоев дацзыбао и лозунгов слоями уложено на ней. На лед падал снег, — образовывалась корка, на которую наносили черные иероглифы, ярко выделявшиеся на белом фоне. Эта ровная поверхность стала «специальной рубрикой».
В тот день огромный заголовок дацзыбао, вмороженный в лед на привокзальной площади, гласил: посмотрите на контрреволюционную физиономию саморазоблачившегося Лю Ханьюя.
Лю Ханьюй?...
Кто он? Мужчина? Женщина? Служащий? Из народа? Из какой организации? Никто не знал. В те годы контрреволюционеров было великое множество. Наверно, никого это уже не интересовало. Тогда любого человека, порой самого обыкновенного, могли за одну ночь очернить по всему городу, в каждом дворе и каждом доме. То были годы, когда и революционер и контрреволюционер мог в мгновение ока прославиться.
Представители «Красных цзаофаней» и «Союза 8.8.», ездившие в столицу на переговоры, уже сели в большие пассажирские автобусы и, не торопясь, стали разъезжаться в разные стороны. Караулы обеих сторон расчищали путь для своих автобусов. Стоя на грузовиках, они исполняли гимны своих организаций. За автобусами шли боевые друзья обеих группировок, прибывших на вокзал для их встречи. С каждой из сторон было больше тысячи человек, получилась грандиозная демонстрация. Это называлось «показать волю и решимость уничтожить врага».
Часть нашей разношерстной публики устремилась за колоннами демонстрантов, встречавших своих представителей, а другие, оставшись на площади, ползали на коленях по льду, и опустив головы, читали дацзыбао, вмороженные в лед. Их на площади было очень много, по меньшей мере тысяч на двадцать иероглифов, занявших площадь 300–400 квадратных метров.
Такой способ чтения дацзыбао в южных городах страны не увидишь: каждый склонил голову и постепенно отодвигается назад. Если хочешь прочитать все с самого начала, то подходи к стене, которую образовали люди.
— Извините, отодвиньте, пожалуйста, ногу! — она закрывала иероглифы. Не зная, можно было подумать, что те, кто читал дацзыбао, молча скорбят по усопшим.
— У кого чистая подошва? Сделай одолжение! — в некоторых местах лед был затоптан грязной обувью и иероглифы не видны Тогда чьи-то сапоги с чистой подошвой расчищали поверхность льда. Тот участок становился прозрачным, иероглифы просматривались яснее чем написанные на яшмовой доске. Те, кто горел желанием сделать одолжение, приносили большие куски снега и разбрасывали по льду. Поверхность льда, протертая снегом, становилась не только прозрачной, но и блестящей.
Такое чтение дацзыбао, можно сказать, действительно доставляло удовольствие.
Памятник погибшим советским воинам, установленный на площади, сверху донизу, тщательно задрапирован брезентом.
Я был обут в резиновые кеды и, как только сошел с поезда, пальцы ног окоченели. Я подумал, что если в таких легких кедах буду ждать автобус, то непременно отморожу все пальцы.
Я дал волю ногам и побежал домой. У меня не было теплой шапки, чтобы надежно защитить голову, а северо-западный ветер, как ножами, резал уши и щеки. Закрыв лицо руками, я немного пробежал, пальцы на обеих руках замерзли до ломоты, пришлось, не обращая внимания на уши, спрятать их в рукава и пробежать еще некоторое расстояние. От бега так задохся, что не мог перевести дыхание, но боялся остановиться. И в то же время не мог идти. Ноги одеревенели от холода, я их уже совсем не чувствовал, бежал, как на протезах.
Бежал быстро, трусил мелким шагом — и так около часа. Сломя голову влетел в дом.
Когда я открыл дверь, мать, сидя на корточках, растапливала печь. Увидев меня таким, решила, что за мной кто-то гонится, моментально изменилась в лице, схватила меня и зажала в своих объятиях, намертво сцепив руки, а сама уставилась на дверь в готовности задержать любого моего преследователя и защитить меня.
Я поторопился успокоить ее:
— Ма, никто за мной не гонится.
Только после этого мать не спеша вытолкнула меня из своих объятий и неожиданно дала мне пощечину. Да такую, что лицо запылало.
Она тут же отвернулась и заплакала.
Я в растерянности стоял возле нее, не зная, что сказать.
За два месяца я не написал ей ни одного письма, хотя бы коротенького сообщения о том, где нахожусь. Я понимал свою вину.
Ноги начало ломить, как будто их кололи иглами, как будто они горели в огне.
Я, подбирая слова, чтобы точнее выразить свое состояние, сказал:
— Ма, мои ноги...
Мать обернулась ко мне и, увидев, что я обут в резиновые кеды, еще больше испугалась:
— Поделом! Так тебе и надо! Чтоб ты их совсем отморозил! — она втолкнула меня в комнату, посадила на край кана, осторожно сняла с меня обувь, носки, откинула полу халата и прижала мои ноги к теплой груди.
Тут только я получил ощущение покоя и безопасности.
У меня выступили слезы.
Я беззвучно плакал.
Хоть Китай и велик, но лучше всего дома. Нет никого лучше матери.
Я глубоко понял значение слов: «сыновья и дочери — плоть от плоти матери».
Когда мать сняла примерзшие к ногам кеды, появилась такая боль, как будто ногти стали отделяться от тела, а пальцы рук от прилива крови кололо, как иголками. Мать взяла в рот кончики пальцев и потихоньку сосала. А я, свалившись на кан с прижатыми к груди матери ногами, заснул.
ГЛАВА 19
Я даже сам не знаю, сколько времени проспал, прежде чем мать осторожно разбудила меня. Только раскрыв глаза, я обнаружил, что она сняла с меня одежду, и я спал, пригревшись под ватным одеялом.
На краю кана сидела тетушка Ма.
— Тетушка Ма пришла повидаться с тобой, — объявила она.
Я глуповато ей улыбнулся.
Тетушка Ма стала напористо расспрашивать меня:
— Ты встречал нашего Го Хуа?
Я непонимающе посмотрел на мать.
Она пояснила:
— Го Хуа следом за тобой тоже отправился в великое шествие и до сих пор не вернулся, также как и ты, не прислал домой ни одной весточки. Твоя тетя Ма каждый день так волнуется, что не может ни есть, ни спать...
— Мы же не вместе уехали, как я мог встретить его? Тетушка Ма снова стала допрашивать:
— Ты не слышал, не было ли несчастных случаев на железной дороге?
Мать поспешила вмешаться в разговор:
— Кругом люди говорят, что на железной дороге случилось несколько аварий, это правда? — она подмигнула мне.
Однако я не понял намеков матери и ответил, как есть:
— Совершенно точно! На железной дороге произошло много аварий. В нескольких поездах по 3–4 вагона в горных тоннелях разлетелись в щепки, погибло много пассажиров, почти все они хунвэйбины, отправившиеся в великое шествие! Да и не только на железной дороге, на шоссе тоже немало несчастных случаев! А еще перевернулось судно, так тоже утонули хунвэй...
— Не болтай! Несешь, что попало! — мать уставилась им меня, сердито прервав мой рассказ.
Тетушка Ма расплакалась, подвывая. Сквозь слезы приговаривала:
— Наш Го Хуа точно погиб! Если бы не это, разве он мог не прислать ни единого письма! В роду Ма ни в одном поколении не было такого сына! Как было хорошо! За что же мне такая кара!
Мать успокаивала ее.
Чем больше мать успокаивала, тем сильнее она плакала. Под конец обняла мать и в доме разразился дикий рев, мать тоже заголосила в паре с ней.
Видя эту сцену, я пожалел, что сказал правду, молча отвернулся к стене и залез под одеяло.
Тетушка Ма плакала очень долго и, совершенно убитая горем, с трудом отправилась домой. Когда она ушла, мать отругала меня на чем свет стоит...
Я обморозил обе ноги. Сначала они покрылись волдырями. А затем появился озноб, пузыри начали лопаться.
Я почти целый месяц не сходил с кана. Ван Вэньци не было, его расстреляли. Ни один из других одноклассников не навестил меня, не рассказал о делах в школе и обстановке в общественном движении. Хотя Ван Вэньци и погиб от пули пролетарской диктатуры, однако каждый раз, вспоминая о нем, я всегда думал о нашей дружбе в течение трех лет совместной учебы. Даже подумал о том, что надо бы сходить на его могилу, помянуть человека. Однако вспомнил, что его тело больница прямо с места казни увезла на вскрытие и где оно теперь неизвестно, даже нет могилы, куда можно было бы пойти и отдать дань уважения. Пришлось поскорбить о нем дома.
По отрывочным рассказам матери я узнал об изменениях, которые произошли в бывшем «дворе хорошего содержания» за два месяца моего отсутствия. Дядю Ма вывели на чистую воду в своей организации: образованный человек несомненно принадлежит к вонючей интеллигенции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мать сказала, что даже она, неграмотная, тоже может быть выведена на чистую воду революционными массами, потому что ее родословная идет от помещиков. Дядю Чжана тоже постигла та же судьба, так как он считался руководящим работником, хотя на самом деле был всего лишь временным заместителем в районном учреждении, которому было подчинено несколько магазинов. Еще хорошо, что не состоял в партии, а то приклеили бы ярлык «члена партии, обладающего властью и идущего по капиталистическому пути». Поэтому, когда громили «каппутистов», он отделался лишь тем, что за компанию с другими постоял со склоненной головой и согнувшись в пояснице. Как я и предполагал раньше, был выведен на чистую воду и дядя Сунь. Когда мать сказала мне об этом, я ничуть не удивился. Начальник цеха — это одна из 19 официальных государственных ступеней кадровых работников, да еще и состоял в партии — как же могли его обойти? Рассуждая об этом сегодня, я задаюсь вопросом, сколько же осталось невыведенных на чистую воду во время «великой культурной революции» начальников отделений, бюро, отделов, контор, управлений, министров и кадровых работников рангом повыше, а также всяких мелких столоначальников? Наверно в общей сложности не больше трех единиц на всю страну.
И дядю Лу тоже вывели на чистую воду, о чем я никак не мог даже подумать. Ему выдвинули обвинение: «контрреволюционер, пойманный с поличным».
Когда мать рассказала мне об этом, то так испугала, что я даже подпрыгнул.
Как только я услышал квалификацию «контрреволюционер, пойманный с поличным», сразу догадался, что это ему подстроили. Дело обстояло так: однажды некто в его тележке со старьем обнаруживает разбитый гипсовый бюст председателя Мао. Естественно, подвергают допросу: зачем разбил бюст председателя Мао? Почему, разбив его, положил на тележку вместе с вторсырьем, да еще и перемешал? Неужели в его сердце бюст многоуважаемого председателя Мао и рухлядь — это одно и то же, и он мог обменять его на деньги, как старье?
Он им ответил, что у него в доме никогда не было гипсового бюста председателя Мао. Ранним вечером, когда он поставил тележку во дворе, на ней еще не было никаких осколков, вероятно кто-то преднамеренно разбил бюст председателя Мао и ночью положил на тележку со старьем, чтобы сделать ему пакость. Люди судачили, строили всякие предположения, интересовались.
Из-за незаслуженной обиды и горячности он однажды в гневе закричал: «В нашем доме никогда в жизни не было таких безделушек! Если появятся деньги, то лучше куплю бутылку и выпью. Да и на заготпункте гипс не принимают, а раз та игрушка разбита, то она и гроша ломаною не стоит!».
Разве после таких заявлений могли не состряпать обвинение типа «контрреволюционер, пойманный с поличным» ? И кто бы он ни был — Лу Эр Е или Лу Эр Люй — все равно его в два счета сделали контрреволюционером. Тем более, что сам он не принадлежал к чистым пролетариям, то есть был люмпен-пролетарием, лишь с одного края пристал к рабочему классу. Хотя и не допускал каких-либо реакционных высказываний, все равно железная метла «культурной революции» нещадно смахнула его. В те дни он испытал на себе пролетарскую диктатуру, пополнил ряды уличной «черной банды». Говорили, что будет осужден.
За два месяца моего отсутствия в нашем дворе произошли качественные перемены. «Двор хорошего содержания» превратился в «черную банду». Исчез висевший на воротах почетный флаг. Главы четырех семей выведен на чистую воду — как тут не назовешь его «черной бандой»?
Наш большой двор стал совсем не таким, каким был раньше, дощатый забор растащили, не оставив ни щепки. Все это сделали дрянные людишки ночью, когда нормальные люди спят. Да, если бы унесли и среди бела дня, все равно никто из жителей двора не осмелился бы оказать сопротивление хотя бы словом. Тех людишек сдерживало лишь то, что их знают на улице, неудобно было делать это днем. Одну из двух створок ворот украли. Ворота были сделаны из хороших досок, вероятно, их разворовали на поделку ящиков, шкафов, столов. Мало того, что разворовали и разграбили, так еще стали выплескивать помои и выбрасывать мусор в наш двор. Наверно, дети. Но нельзя нисколько исключать, что так поступали, и взрослые. Помойная яма — в конце переулка, а свалка мусора — еще дальше. Декабрь по лунному календарю — месяц холодный, не хочется по морозу делать длинные прогулки, а так проще — не надо далеко ходить, экономия сил. Однако не видят то безобразие, которое представляется глазам.
Однажды ночью меня разбудили доносившийся снаружи скрип, я включил свет, сел на кан.
Мать тоже проснулась, но лежала без движения, прислушиваясь,
— Ма, что это? — спросил я.
— Ты еще спрашиваешь, это кто-то срывает доски с нашего забора! — ответила она.
— Так можно ошибиться! Я схожу выясню! — горячился я, набрасывая на себя верхнюю одежду и слезая с кана. Мать одернула меня:
— Не твое это дело! Не смей выходить из дома! Взрослые боятся а что ты, малое дитя, можешь сделать? Попробуй только вмешаться, как тут же ночью крышу в доме вскроют!
Понимая, что мать напугана до смерти, я вынужден был сдержать себя, успокоиться.
Каждый день перед сном мать промывала мне соленой водой язвы на ногах. Через месяц больные ноги пошли на поправку, я смог передвигаться за пределами кана.
Впервые после болезни я вышел из дому, постоял во дворе, которого не узнал. Вторая створка ворот тоже исчезла. Все остававшиеся на заборе доски были сорваны, утащили даже крышу туалета и ширму, которая служила вместо двери. Весь двор покрылся грязным льдом, на нем перемешались все цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой и коричневый. В лед вмерзли куски ткани, бумаги, занесенные водой во время дождей. Туалет со всех сторон окружали горы мусора.
А что касается соседей, то они вели себя по отношению к жителям нашего двора так, как будто ничего не случилось. Встречаясь, они по-прежнему кивали головой, делали приветственный жест рукой, спрашивали: «Покушал?[54] Уже на ногах?». Ночью творили грязное дело, а днем выказывали нам крайнюю любезность, как будто оно сделано вовсе не ими, а мерзким дьяволом. Эти люди были безмерно лицемерны.
Однажды я навестил школу. Из-за отсутствия угля школьная котельная давно погасла, во всех классах стоял жуткий холод. Не говоря уже о тех помещениях, в которых побили стекла. Никто в школе не занимался революцией. Заглохла та бурная, шумная, горячая деятельность, которая кипела в школе. Как будто все хунвэйбины ушли на зиму в «подпольную борьбу». Побывав там один раз, я больше туда не ходил.
Во всем городе не хватало угля. Шахтеры тоже занимались революцией, недостаток угля считался делом естественным. Из-за его нехватки в городе Харбине... нет, в городе «Алеет Восток» в эту зиму было особенно холодно. Однако мелодии песни «Алеет Восток» каждый день по-прежнему носились над городом «Алеет Восток».
Рядовые жители города Харбина в тот год для отопления своих домов заготовили дрова и уголь. Каждой семье на месяц полагалось 60 цзиней[55] дров, в среднем два цзиня на день. На каждый сезон отпускали полтонны угля, в среднем ежедневно можно было сжигать всего одно маленькое ведро. Дрова были сырые. После их просушки практически оставалось от сорока до пятидесяти цзиней. Дома их кололи на тонкие поленья и раскладывали для сушки вокруг очага, только после этого они годились для растопки. Простым жителям продавали так называемый антрацит. У него только название было «уголь», на самом деле то была угольная пыль, образовавшаяся при его добыче, которая скопилась на шахтах за долгие годы. Таким углем люди не умели приготовить пищу и обогреть жилище. Когда его засыпали в топку, большая часть проваливалась в зольник. Порой приходилось мучиться не меньше часа, чтобы разжечь его. Температура в нашем доме в сравнении со школьной была более сносной. Но дров из месяца в месяц не хватало. Да и антрацит надо было каждый день сжигать в пределах нормы. Если сегодня перебрал, то на следующий день сожги меньше.
В ту зиму я занимался двумя важными для дома делами: днем, зажав подмышку мешок, с топором за поясом шел на лесозавод собирать древесную кору. На завод посторонних не пускали, приходилось тайком перелезать через забор и таким же путем уходить с него. Если повезет, то можно принести домой больше десяти цзиней коры. Если не повезет и охрана завода задержит, то не только пропадут даром собранная кора и потраченные на это силы, но и отберут мешок и топор, да еще могут задержать самого на целый день. А если проявишь малейшую непокорность, то могут и побить. Хотя меня несколько раз наказывали, однако я все равно ходил за корой. Если бы я не приносил ее, то и наш домашний очаг постепенно погас бы, как та школьная котельная. По вечерам я занимался другой работой — скатывал в шарики угольную пыль. Каждый день делал больше ста шариков величиной с куриное яйцо, раскладывал их по краям печи со всех четырех сторон, зарывал их в горячую золу. На следующее утро вынимал их оттуда и раскалывал на части, после чего их можно было сжигать. Благодаря тому, что я взял на себя два этих важных дела, наш домашний очаг хоть и с трудом, но все же теплился, не угасал.
Как и прежде, топливо выдавалось в расчете на семью. Продовольствием и солью снабжали по карточкам из расчета на каждого члена семьи. Мукой и каустиком — тоже по карточкам. Жители города все время в чем-то нуждались, если могли приобрести одни вещи, то не было в продаже других. Совершенно исчезли электролампочки. Рабочие электролампового завода жаловались, что нет стекла для изготовления лампочек. Рабочие стекольного завода говорили, что нет сырья для производства стекла. Рабочий класс всех производственных предприятий занимался революцией.
Мы всей семьей, закончив ужин, даже не убирая посуду, торопились расстелить матрацы и быстрей забраться под одеяла, погасить свет и лечь спать. На самом деле мы не спали, а лежали в темноте, продлевали жизнь единственной лампочке. Из двух, имевшихся в доме, одна уже давно сгорела. Оставшаяся висела в дверном проеме между внутренней и наружной комнатами, освещая одновременно и ту, и другую, давая обеим свет и держа их в полумраке. Волосок лампы дрожал, казалось, в любую минуту может оборваться. Он был солнцем для всей нашей семьи. Он пугал нас так, что душа уходила в пятки. Не было в продаже не только лампочек, не было и восковых свечей. Если лампочка когда-нибудь погаснет, то это будет означать, что семья лишится единственного источника света в темное время суток.
То было бурное развитие «Великой культурной революции», годы наитруднейшей жизни народа.
Даже в ночь на Новый год мы не слышали взрывов хлопушек.
Зато из Шанхая передали радостное сообщение о важной победе «великой культурной революции».
Прежде всего газета «Жэньминь жибао» и журнал «Хунци» в новогодней передовой заявки: «... 1967 год явится годом развертывания всесторонней классовой борьбы в масштабе государства», «годом развертывания всеобщего наступления на лиц, обладающих властью в партии и идущих по капиталистическому пути».
Захват власти — это важнейшая организационная часть «великой культурной революции». Новогодняя передовая статья — это приказ и сигнал к мобилизации на захват власти цзаофанями во всей стране.
Более 20 организаций цзаофаней Главного штаба революционных цзаофаней рабочих города Шанхая — первый удар принимали на себя, 2 января был создан подготовительный комитет по свержению шанхайского горкома. 4 января Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюань в качестве обследователей малой руководящей группы Центрального комитета по делам культурной революции срочно вернулись в Шанхай, приняли участие в разработке плана действий по захвату власти. В тот же и следующий за ним дни цзаофани захватили власть в шанхайских газетах «Вэньхуэй бао» и «Цзефан жибао». Чжан Чуньцяо немедленно принял представителей Главного штаба революционных цзаофаней — рабочих, довел до них указание: « Главное — это захватить руководящую власть, вывести на чистую воду лиц, обладающих властью в партии и идущих по капиталистическому пути, низвергнуть их». Пункт связи революционных цзаофаней органом шанхайского горкома вместе с другими организациями цзаофаней сверг шанхайский горком, путем критики и побоев проработал главных руководителей шанхайского горкома Чэнь Писяня, Цао Хоцю и других, захватил власть в горкоме города Шанхая.
Председатель Мао вполне определенно назвал январь ураганным. Тогда он обнародовал свое новейшее указание: «Великая пролетарская культурная революция», в сущности, является продолжением длительной борьбы китайского народа под руководством Коммунистической партии Китая против гоминьдановских реакционеров. Она является продолжением длительной борьбы рабочего класса против буржуазии, борьбой не на жизнь, а на смерть за свержение одного класса другим, является великой революцией. Революционные силы Шанхая, поднимайтесь, у страны есть надежда на будущее. Она не может не влиять на Восточный Китай, не влиять на все провинции и города страны».
9 января газета «Жэньминь жибао» и Центральная народная радиостанция опубликовали и передали по радио «Обращение к народу Шанхая».
11 января газета «Жэньминь жибао» напечатала, а Центральная народная радиостанция передала по радио телеграмму, подготовленную Центральным комитетом по делам культурной революции, в которой от имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Государственного совета, Центрального военного комитета и ЦК по делам культурной революции были выражены горячие чувства к Главному штабу революционных цзаофаней рабочих и тридцати организациям Цзаофаней города Шанхая. Они одобрили их обращение ко всему городу о захвате власти, как очень хорошее, а избранный ими путь и предпринятые действия — как совершенно правильные. Призвали всю страну изучить опыт шанхайских пролетарских революционных цзаофаней по захвату власти.
После этого журнал «Хунци» и газета «Жэньминь жибао» опубликовали передовые статьи, призывавшие «к объединению всех пролетарских революционеров страны, к развертыванию борьбы за всеобщий, немедленный, полный и всесторонний захват власти у кучки лиц, обладающих властью в партии и идущих по капиталистическому пути».
Линь Бяо публично выступив с речью, заявив: «Брать власть надо на всех уровнях, как на высших, так и на средних, и на низших. У одних — раньше, у других — позже», «Или снизу вверх, или сверху вниз, или — вместе у тех и других». «Войска должны решительно, большими силами поддержать борьбу пролетарских цзаофаней за захват власти».
Чжан Чуньцяо в своем публичном выступлении сказал: «Великая пролетарская революция» от начала до конца — это захват власти», «мы должны захватить всю власть».
Под шум боевых кличей о борьбе за власть в «великой культурной революции», под шум триумфальных маршей народ Харбина, нет не Харбина, а города «Алеет Восток», напуганный и притихший, вступал в тот новый год, в мертвой тишине провел праздник весны. Тот год был трудным и для партии.
Простые жители Харбина на праздник Весны по карточкам могли купить лишь половину цзиня мяса-свинины на одного человека, полцзиня рыбы, полцзиня яиц. Мясо брали из того запаса, что много лет лежал в морозильниках, рыбу импортировали из Кореи — какой-то там минтай, совершенно безвкусный.
Праздник Весны в тот год, в моей памяти остался, как праздник без веселья и праздничного настроения.
Рано утром на третий день праздника дядя Лу, совершенно босой и в изорванных брюках вернулся домой, сбежав из уличного изолятора «черной банды». Сначала он постучал в дверь своего дома. Тетя Лу, увидев через окно растрепанного и грязного мужа, пришла в полное замешательство, ей стало ясно, что он сбежал и она побоялась открыть ему дверь, чтобы не взять на себя вину за «укрывательство контрреволюционера», испугалась так, что не посмела впустить в дом мужа; дрожа всем телом, собрала детей на кане в одно место и, рыдая, упрашивала его возвратиться в изолятор «черной банды», честно признать свою вину и получить более мягкое наказание.
Не попав к себе в дом, он развернулся и давай стучать к нам, стучать и кричать:
— Невестка Лян, невестка Лян! Будь милосердна, открой дверь, впусти в дом, я спрячусь, они хотят приговорить меня к смертной казни и расстрелять! Если бы я не убежал, они через несколько дней лишили бы меня жизни!
Мать через занавеску выглянула в окно и, увидев его страшный облик, мигом задернула ее, тоже не посмев открыть ему дверь. «Укрыть пойманного с поличным контрреволюционера» — да кто же возьмет на себя такую ношу?!
— Невестка Лян, невестка Лян, я встану перед тобой на колени! — громко умолял за дверями дядя Лу, заливаясь слезами.
Мать волчком кружилась по дому, скрепя сердце, не подавала голоса. Я приоткрыл занавеску, выглянул за окно, и увидел, что он действительно стоит на коленях перед дверями нашего дома, ноги от холода покраснели. Я не мог перенести этого и с тревогой в голосе попросил мать:
— Ма, да он же босиком прибежал, открой дверь, пусть зайдет погреется, немного отойдет и мы отправим его, это не будет считаться укрывательством преступника...
Мать в ответ на мои слова подошла к двери, уже совсем было хотела открыть ее, но отдернула руку.
— Нет! — твердо сказала она — Если только впустим его в дом, то это расценят, как преступление! Возьми утепленные резиновые сапоги брата и через окно передай дяде Лу... А еще посоветуй ему, пока люди не хватились, что он сбежал, побыстрее возвратиться обратно. Потом обстановка улучшится, авось еще и отменят исполнение смертного приговора...
Я не имел ни малейших оснований осуждать ее за трусость и нерешительность. Я более четко чем она представлял себе, что значило для нашей семьи открыть дверь и впустить его в дом.
Я молча достал из разбитого ящика утепленные резиновые сапоги, открыл форточку, крикнул «дядя Лу», и как раз, когда приготовился выбросить их ему, увидел, как несколько парней ворвались в наш двор.
— Вот он!
— Закройте ворота, не дайте ему сбежать!
Несколько молодцов с засученными рукавами, потирая ладони и кулаки, давая знать, что готовятся к бою, с криком бросились к нему, чтобы схватить и арестовать.
Он рывком вскочил на ноги, как дикий кабан, окруженный со всех сторон охотничьими собаками, выпучил на них глаза, развернулся и с силой ударил по лицу одного из них, а сам стал прокладывать себе путь к побегу. Они с криками угрозы старались не выпустить его из окружения. В беспорядочной схватке между ним и теми парнями Лу вырвался из их рук и выбежал со двора. Они устремились за ним.
Я с сапогами в руках, оцепенев от всего виденного, стоял у окна.
Мертвенно-бледная, как парализованная, мать сидела на полу.
Несколько человек взрослых и детей из других домов, напуганные происшедшим, все же выскочили наружу и побежали за ворота посмотреть чем это кончится.
Теперь уже и тетя Лу с детьми вышла из дома; плача, причитая, крича, она бросилась вдогонку за другими.
Жители переулка приняли этот шум за разбойное нападение бандитов.
Выйдя из оцепенения, я не торопясь оделся и тоже выбежал за дверь дома, потом — в переулок.
Толпа любопытных уже убежала в конец переулка.
Я бросился догонять их.
Мое отношение к событию отличалось от других. Они находили в этом развлечение. Я видел совсем иное. В конце концов с семьей Лу мы были близкими соседями. Дядя Лу всегда был для меня как родной человек. Мне казалось, что я могу спасти его. Хотя на самом деле, что я мог сделать? Фактически я так же, как и любители развлечений, слепо бежал за ними.
Дядя Лу где-то подобрал два кирпича, в каждой руке держал по одному. Когда его нагнал один из парней, он остановился, резко обернулся назад, пожирая его глазами, давая понять, что готов драться не на жизнь, а на смерть. Несколько парней с голыми руками не осмеливались приблизиться к нему когда над их головами висела смертельная опасность.
Тогда он снова побежал.
Любителей зрелищ становилось все больше.
Его загнали в тупик улицы.
Не видя пути, куда можно убежать, он заскочил на территорию начальной школы.
Несколько парней тоже, преследуя его, забежали туда же.
Я вместе с толпой любителей зрелищ вбежал в школьный двор, но увидел, что дядя Лу, хватаясь руками за металлические прутья лестницы дымовой трубы котельной, уже добрался до ее середины.
Люди, окружив дымовую трубу и запрокинув головы кверху, смотрели на него.
Парни кричали ему:
— Эй ты, закоренелый контрреволюционер, пойманный с поличным, слезай!
— Если не слезешь, то как ты снимешь с себя ответственность перед пролетарской диктатурой?
— Ты в плотном окружении широких революционных масс! На небо для тебя дороги нет, двери на землю тоже закрыты! Ты, что — действительно не слезешь, будешь до конца сопротивляться?
Он не слез. И выше не полез. Он смотрел вниз на «широкие революционные массы», которые вызывали страх. И не удивительно, что он боялся. Раньше я видел, как он взбирался на крышу дома и ругался на всю улицу, однако не видел, чтобы залезал так высоко. Да и не сравнишь дымовую трубу с крышей дома, там все-таки есть площадка, где можно ходить.
Он, как геккон, плотно прижал тело к трубе и не двигался.
Те парни обратились к его жене и детям:
— Вы до сих пор не уговорили его слезть? Если уговорите спуститься вниз, то это зачтется вам, как заслуга!
— Правильно! Искупайте вину!
— Мы гарантируем, что вы не будете нести ответственность вместе с ним!
Тетя Лу встала на колени.
Вслед за матерью дети один за другим непроизвольно тоже опустились на колени.
— Отец детей наших, посмотри им в лицо и спускайся вниз... — сказала тетя Лу, вознеся голову вверх, и навзрыд заплакала.
— Папа! Папа! Спускайся вниз!
— Папа! Спускайся, не торопясь! Мы боимся, что ты можешь разбиться насмерть!
— Папа! Папа!
Его дети тоже подняли рев.
Один человек из числа «революционных масс» посоветовал тем парням под шум толпы разбросить сеть внизу трубы на тот случай, если он бросится вниз, решив покончить жизнь самоубийством, отказавшись от социализма, отказавшись от народа.
Один из парней недовольно сказал:
— Не галдите тут что попало, где в этот момент найдешь сеть?
Плач жены и детей, кажется, растрогал дядю Лу, он спустился на несколько ступенек, но увидел, что те парни собираются вместе, чтобы схватить его и сразу поднялся выше.
Другой представитель «революционных масс» выдвинул свою идею, причем преподнес ее, как плод глубокого раздумья, как самый верный совет: толпе, взявшись за руки, сомкнуться, найти длинный бамбуковый шест и с его помощью столкнуть его сверху.
Сеть не нашли. Столь длинный бамбуковый шест тоже не добыли. И эти остроумные идеи были отвергнуты.
Какой-то миг поколебавшись, я сказал парням:
— Я взберусь наверх, посоветую ему спуститься вниз, возможно, уговорю. Они оценивающе посмотрели на меня, главный из них недоверчиво спросил
— Он может тебя послушать?
— Попробую, мы соседи с ним, — ответил я. Некоторые от души предостерегали меня:
— Может быть, ты никогда в жизни не лазил на такую высоту? Ты доберешься до его ног, а он столкнет тебя. Такая огромная высота, такая каменистая земля, если не разобьешься насмерть, то станешь калекой!
— На меня он все же не рассердится, — сказал я.
— Ты полезай уговаривать его, но это твое личное дело, никто тебя не принуждает и все последствия нас не касаются, — сказал старший из парней.
— Да, конечно, вы к этому непричастны! Я полез на трубу.
Поднимаясь по лесенке, я громко говорил ему что-то в том смысле, что «сопротивление до конца — это путь к смерти». Только так я способен был уговаривать его спуститься вниз, ничего другого не мог придумать.
Он ничего мне не ответил.
Я продолжал карабкаться вверх, он тоже. Он поднимался все выше и выше, а я следовал за ним. Прежде я очень редко бывал на высоте и тем не менее на этот раз не чувствовал ни малейшего страха.
Холодные металлические прутья обжигали ладони, пальцы деревенели. А его руки должны были замерзнуть уже давно, — подумал я, — поэтому он и лезет медленнее меня. Постепенно я догнал его, оказался у самых ног. В то время он действительно мог одним толчком сбросить меня, но ему, очевидно, и в голову это не приходило, он продолжал взбираться вверх.
Наконец добрался до верхнего края трубы высотой более тридцати метров. Я тоже приблизился к его ногам.
Он, склонив голову, смотрел на меня.
Я, подняв голову, смотрел ему в лицо.
— Ты без перчаток, руки замерзли? — спросил он и усмехнулся, да как-то странно.
— А у тебя? — спросил я.
— Только что мерзли, а теперь нет.
— Дядя Лу, спустись вниз!
— Спущусь, а потом что? — поинтересовался он.
Я не знал, как поступят с ним те парни, если он попадет к ним в руки.
— Спущусь, а что дальше? — казалось, что он больше спрашивает самого себя.
— Посмотри, как горько плачут тетя Лу и дети, стоя на коленях! — сказал я.
— Несчастные!
У меня не было подходящих слов, чтобы убедить его.
— Я хочу справить малую нужду, — неожиданно заявил он.
— Как же ты, стоя на такой высоте, сможешь помочиться? Спустись вниз, там и выпустишь все!
— Я не могу терпеть! Ты поверни лицо вправо, ветер дует влево, может попасть тебе на лицо, — говоря, он как цирковой артист, играющий роль высотника, одной рукой ухватился за прутья, другой — расстегивал брюки.
Мне пришлось отвернуться вправо.
Преследовавшие его парни и «революционные массы» не могли разглядеть, что он делает. И только когда скопившаяся в мочевом пузыре жидкость сильной струей, как дождевой заряд, ударила сверху вниз и забрызгала лица людей, смотревших на него, они разбежались во все стороны, возмущенно ругаясь:
— Мстить «революционным массам»? Ну, погоди, ты получишь под завязку!
— Сожжем «контрреволюционера, пойманного с поличным! Зажарим в масле эту контру!
Я услышал, как он у меня над головой весело захохотал. Я снова попытался упросить его:
— Дядя Лу, сойди! Мои руки так замерзли, что скоро не смогут держать меня!
— Я не сойду! Стою высоко, вижу далеко, перед глазами весь Китай, весь мир! — воскликнул он.
Дядя Лу уходил от прямого ответа. Я решительно заявил:
— Если ты не сойдешь, то и я не сойду! Скоро мы отморозим руки и вместе свалимся вниз и разобьемся.
— Лао Эр,[56] ну, зачем ты так?
— Я хочу растрогать тебя так, чтобы ты спустился вниз!
— Я давно растроган! Я знаю, что ты хорошо относишься ко мне. Скажи своей матери, что я не виню ее.
Эти его слова не принесли мне чувства удовлетворения, захотелось плакать.
А он продолжал:
— Я слышал от людей о народном средстве лечения психических болезней. Для этого надо ежедневно съедать мозги одной живой рыбы. После этого выпивать снотворное и ложиться спать. Сырые мозги есть неприятно, но и не вредно. Пусть твоя мать попробует покормить твоего старшего брата.
— Хорошо, — ответил я,
— Скажи своей матери, что я не в обиде на нее.
— Скажу. На этом он закончил разговор и снова стал взбираться вверх.
— Ты опять полез, хочешь забраться на небо? — крикнул я.
— Да вот доберусь до неба, и все! — отвечая мне, он приподнялся на руках, влез в трубу, прокричал «да здравствует председатель Мао» и с головой скрылся в ней...
Труба закачалась перед моими глазами, казалось вот-вот рухнет.
Я не помню, как спустился с нее, но как только ноги коснулись земли, я потерял сознание.
Тетя Лу лишилась рассудка.
У матери тоже с того дня рассудок помутился, она часто про себя бормотала: «я должна была открыть ему дверь, я должна была открыть ему дверь»...
Однажды вечером мать пошла к угольному сарайчику за углем. Через минуту-две она перепуганная влетела в дом. На ней не было лица, закричала:
— Перепугал насмерть, перепугал насмерть; я видела привидение твоего дяди Лу, он слонялся по нашему двору, оскалив зубы в мою сторону, смеялся. Мать так перепугалась, что даже ведро с углем оставила во дворе.
Я не верил в привидения и нечистую силу. Особенно не верил тому, что после смерти нечистый дух умершего может куролесить, вытворять всякие штучки. Я бесстрашно вышел из дома, остановился среди двора всматриваясь во все темные уголки.
Нигде никакого привидения я не обнаружил.
По двору разливался яркий свет луны, отражаясь серебром на ледяном поле двора. Северо-западный ветер шевелил ветки голого дерева позади нашего дома, которые издавали всхлипывающие звуки, чем-то напоминающие плач души умершего.
— Мое сокровище Лу! Ты так трагически погиб!...
Это из дома Лу донесся возглас жены, да такой, что волосы стали дыбом.
То была истерика сумасшедшей женщины. Потом все погрузилось в тишину.
Сначала душераздирающий крик, потом — полная тишина. Казалось, даже ветви деревьев совсем притихли.
Хотя привидение я не обнаружил, однако во дворе стояла тревожная атмосфера.
Я вернулся в дом, успокоил мать:
— Ма, никакого приведения там нет, это чистая мистика.
— Я видела его совершенно отчетливо! Он смеялся, оскалив зубы! Не понимаю, что означал его смех, — стояла она на своем. Очевидно, мои слова не сняли страх с души матери.
— Дядя Лу перед смертью велел передать тебе, что он ни в чем тебя не винит, — сообщил я ей.
Мать стала допытываться:
— Что? Он действительно велел тебе перед смертью объявить мне это?
— Да, действительно велел сказать тебе, что не винит ни в чем, — подтвердил я.
Мать закрыла глаза, все 10 пальцев рук приложила к груди и самозабвенно бормотала молитву.
Я понимал, что невозможно разубедить мать в том, что нет на свете никаких привидений и лучше пусть она молится, а сам снова вышел во двор, чтобы принести ведро угля.
Я пока так и не рассказал матери о народном средстве, о котором говорил дядя Лу. Я не верил, что путем употребления живой рыбы можно вылечить душевно больного человека. К тому же ежедневно добывать живую рыбу в Харбине, да еще зимой, так же трудно, как вознестись на небеса.
Вечером двумя днями позже я отправился в туалет и неожиданно встретил то же самое «привидение».
Только я перешагнул порог, оно сразу встало, испугав меня так, что я даже вскрикнул, а волосы встали дыбом.
«Привидение» странно засмеялось, оскалив ярко-белые зубы. Собравшись с духом, я спросил его:
— Ты человек или привидение?
Оно стояло в туалете и не выходило, брюки у него не были спущены. Наверно, оно не испражнялось, а всего лишь сидело на корточках. При свете луны я видел черное, как крыло ворона, лицо, его глаза, казалось, лучились.
—Я не человек, я привидение! — снова сказало оно, — я на самом деле преобразился, кем меня назовешь, тем и стану, стараюсь превратиться в человека.
Похоже было, что то все-таки не привидение, а человек.
— Ну-ка немедленно убирайся отсюда, не занимай место, если не за нуждой пришел! — крикнул я, — я — хунвэйбин, если сейчас же не уберешься отсюда, то я не стану с тобой церемониться!...
— Пощади, хунвэйбин! Пощади, хунвэйбин! Я ухожу... — бормотал он, переступая порог туалета, затем метнулся со двора.
Я только потом догадался, что то был сумасшедший с улицы напротив. Его за что-то обвинили в подрывной деятельности и каждый день по месту работы запирали в туалет, где он сидел под стражей и осознавал свою вину. Там он и помешался. А теперь, как только приходил вечер, он вымазывал лицо черными чернилами, находил туалет и добровольно занимался «самоанализом». В нашем дворе не было ворот и он присмотрел его для себя, стал ходить в наш туалет заниматься «самоанализом», сидя на корточках. Его семья ничего не могла с ним сделать.
Во время «культурной революции» очень многие стали «привидениями». А много было и таких, которые из «привидений» превращались в сумасшедших. Среди них находились и такие, которые сомневались в том, что к понятию «культурная революция» надо добавлять слово «великая». Только на близлежащих улицах было 6 или 7 сумасшедших из бывших «привидений».
В один из тех дней к нам пришел староста улицы и уведомил мать о том, что моего старшего брата необходимо вернуть в психоневрологическую больницу. Предупредил, что если в установленный срок не отправим, то они разместят его сами.
Мать пыталась защитить моего брата:
— Старший сын не причиняет дома никаких хлопот, не делает зла, да и не часто выходит из дома, так ли необходимо возвращать его в больницу? Староста улицы, поставленный в затруднительное положение, ответил:
— Это — указание свыше, нельзя не выполнить!
— Что — улица не нуждается в его помощи писать дацзыбао? — спросила мать.
— Нуждаться то нуждается, однако как быть с указанием сверху, как я должен его выполнять? Мы должны выполнять все указания председателя Мао, как те, которые понимаем, так и те, которые в данный момент не понимаем![57] — ответил староста.
Мать больше не нашла доводов в пользу старшего сына и замолчала. А я спросил:
— Если не отправим его в психбольницу, то куда его могут определить?
— Вы все же подумайте, как его вернуть в психоневрологическую больницу. Если не вернете, то я тоже не знаю конкретно, куда его могут определить. Обычно помещают не в лучшие места! — ответил староста.
Когда он ушел, мы с матерью приуныли.
Однако старший брат, высунув голову из своей маленькой комнатки, сказал:
— Мама, брат, вы не печальтесь. Я вернусь в психоневрологическую больницу. Мне дома совершенно нечего делать. В психбольнице есть человек, который организует изучение цитат, преподает пение цитат Мао, ведет танцы преданности, там лучше чем дома.
Услышав слова старшего брата, я и мать почувствовали, что он очень трезво мыслит и все прекрасно понимает. В те дни, несмотря на то, что по всей стране продолжались беспорядки, наша семья тем не менее в условиях крайней бедности изо всех сил сохраняла «стабильность и сплоченность», и все мы старались, чтобы старший брат не подвергался внешнему влиянию. Поэтому его психическое состояние нормализовалось.
Мать заплакала. Ее беспокоило то, что за короткое время не удастся собрать столько денег, сколько необходимо для уплаты за проживание в больнице. Меня это тоже волновало.
На следующий день мы с матерью вскрыли все ящики, выбрали из них всю одежду, которую можно было продать, и завернули в один узел.
— За эти вещи много денег не возьмешь, давай продадим еще и радиоприемник, — предложил я.
Мать молча кивнула головой и вдобавок сняла со стены часы — то был ее свадебный подарок. Единственная память, оставшаяся после женитьбы отца и матери.
Мы жили бедно, в доме даже не было велосипеда. А если бы он и был у нас, то в тот момент пришлось бы продать. Из-за отсутствия транспорта (к тому же я не умел им управлять) все вещи, предназначенные для сдачи в комиссионный магазин — узел с одеждой, старый радиоприемник, старые настенные часы пришлось разделить на три части и перенести на себе.
Денег все равно не хватило. Тогда мать обошла всех жителей своего двора и переулка; пуская в ход самые лучшие слова, просила занять деньги, и в конечном счете кое-как набрала сумму, необходимую для уплаты за лечение.
Я сам побежал в психбольницу, чтобы выяснить обстановку, и вернулся разочарованный. Психоневрологическая больница давно была переполнена, не было свободных мест. Я умолял их со слезами на глазах, только не становился на колени и не бил поклоны, но чего нет, того нет.
Брата «определили» без нас. Ситуация оказалась похожей на ту, которая была в городе несколько лет назад, когда объявили «движение по истреблению собак». Группы людей с повязками на рукавах «ополченец общественного порядка», как волки и тигры под руководством старост улиц заходили в каждый двор, каждый дом, брали под стражу и уводили душевнобольных, связывали их веревками и садили и повозку для арестованных. Некоторые из них вели себя очень беспокойно, рыдали, что есть мочи. Из-за того, что па прилегающих к нам улицах психически больных было много, на них происходило настоящее столпотворение.
Когда взяли брата, он не проявил буйства, только сильно испугался и спросил мать:
— Ма, а куда они меня увезут?
— Дорогой мой сынок, тебя увезут в больницу! — сказала мать со слезами на глазах.
— Тогда зачем меня связали? — спросил он. Один из числа ополченцев сказал:
— Боимся, что не связанный убежишь!
— Я не убегу, — сказал брат.
— Убежишь, не убежишь, все равно надо связывать! Ты сумасшедший, как мы можем тебе поверить?
Брат скромно дал себя повязать, и его, как преступника, увозимого на эшафот для расстрела, втолкнули в арестантский фургон.
Они должны были повязать и тетю Лу. Она спряталась под стол. Дети в смятении, как перепуганные котята, попрятались по всему дому.
Жители всего двора просили за тетю Лу, объясняли, что если ее арестуют и увезут, то дети останутся одни, некому будет за ними присмотреть. Те люди решили, что надо проявить милосердие, и тетю Лу оставили дома.
Перед отъездом арестантской повозки мать попросила их:
— Только вы не бейте моего сына! Один из них грубовато спросил:
— Который твой сын? Мы не знаем его!
Мать отдала им несколько пачек сигарет, которые припасла заранее, сказала:
— Тот, которого вы только что посадили в повозку.
— Если только он не будет буянить, мы не тронем его, — успокоил он мать.
— Не бейте его совсем, если он и забуянит! — повторила мать свою просьбу.
— Если станет буянить, тогда мы не гарантируем, что ему не поддадут! Вдруг один из сумасшедших, находившихся в повозке, душераздирающе заорал:
В безбрежном море не обойтись без кормчего, Благодаря солнцу живут все существа...
Под сумасшедший, путающий людей вопль песни фургон отправился дальше...
ГЛАВА 20
В середине февраля студенты-цзаофани основных известных в стране высших учебных заведений города Харбина, нет — города «Алеет Восток», таких как Военностроительный институт, Промышленный университет, Инженерно-строительный институт, Хэйлунцзянский университет, Харбинский педагогический институт, объединились с пролетарскими цзаофанями нескольких крупных заводов — подшипникового, измерительных и режущих инструментов, паровых котлов, Первого машиностроительного — и захватили всю руководящую власть на всех уровнях в провинции и городах. После «январского урагана в Шанхае» это был второй в стране случай создания «революционного комитета трех сил».[58] Журнал «Хунци» и газета «Жэньминь жибао»— опубликовали передовые статьи, горячо приветствовавшие «новую звезду Северо-востока». Руководимые председателем Мао Центральный комитет партии, Политбюро, Государственный совет, Центральный военный комитет, ЦК по делам культурной революции прислали ему одинаковые поздравительные телеграммы. Но в то время Политбюро ЦК означало пустой звук, оно номинально существовало, а на деле никакой силы не имело, в действительности всеми делами заправлял Центральный комитет по делам культурной революции.
Председатель «Революционного комитета трех сил» провинции Хэйлунцзян Пань Фушэн одновременно был политкомиссаром военного округа Хэйлунцзян. Первым заместителем председателя был командующий военным округом провинции Ван Цзядао. В состав постоянного комитета входил всего один представитель от студенческих цзаофаней — Фань Чжэнмэй из Харбинского педагогического института. Благодаря тому, что он положил начало «школе кадровых работников в Люхэ», Фань Чжэнмэй пользовался авторитетом среди студентов всей страны. Председатель Мао высоко оценил «новое явление» в «великой культурной революции», как «великий почин». Журнал «Хунци» и газета «Жэньминь жибао» выступили с пространной статьей, призывавшей распространить по всей стране богатый опыт «школы 7 мая».
Мао Юаньсинь, первоначально состоявший в «Союзе 8.8.», после переговоров в Пекине с «красными цзаофанями» харбинских рабочих и военных объявил о своем выходе из состава «Союза 8.8.» и вступлении в организацию «красных цзаофаней». Одновременно Мао Юаньсинь публично огласил содержание переговоров с председателем Мао, основной смысл которых сводился к таким требованиям: не становиться в позицию, противостоящую «великой культурной революции», не становиться на сторону монархистов, твердо стоять на стороне истинных революционных цзаофаней, вместе с истинными революционными цзаофанями вести борьбу с «каппутистами»...
Переход Мао Юаньсиня на сторону противника был сильнейшим ударом по «Союзу 8.8.». От этого удара «Союз 8.8.» не оправился. Все объединявшиеся с ним организации и течения отошли. Вскоре под давлением Центрального комитета по делам культурной революции «Союз 8.8.», находившийся на равных с «красными цзаофанями», объявил о своем роспуске. Знамя пало, войска разбиты. Город «Алеет Восток» объединился под единой властью «красных цзаофаней».
Поэтому можно полностью утверждать, что захват власти в провинции Хэйлунцзян и в городе «Алеет Восток» был осуществлен «красными цзаофанями» бескровно. У власти они поставили Пань Фушэна — революционного кадрового работника».
Пань Фушэн приехал в провинцию Хэйлунцзян на должность заместителя председателя народного комитета провинции накануне «великой культурной революции», а когда разразилась революция, он «заболел», поэтому среди руководящих работников провинции он оказался единственным, кто не был обвинен в каких-либо серьезных преступных деяниях. Он также не подвергался никакой критике и избиению. Когда понадобилось создать «революционный комитет из трех сил», цзаофани, захватившие власть, вспомнили о его существовании. Не имея ни одного представителя «революционных кадров», «союз трех сил» не мог создать самого себя, руководимый председателем Мао пролетарский штаб не утвердил бы рождение такого революционного комитета». Поэтому цзаофани в спешном порядке, как украденную невесту, втолкнули Пань Фушэна в паланкин революционного комитета, под духовой оркестр вытащили из-за политической кулисы, представили его «новой звездой Северо-востока», которую даже трудно сравнить с сияющей орхидеей.
Отважные воины, захватившие власть, изначально рассчитывали выдвинуть Пань Фушэна только в роли марионетки в тройственном союзе, и не больше. А настоящая большая власть несомненно должна была находиться в их руках. Выдвигая его, они давали ему вторую политическую жизнь и разве он мог не испытывать к ним чувство благодарности? Мог ли он не понять их умом и сердцем, не прислушаться по-хорошему к их советам? Осмелится ли он не понять их намеки? Председателем «революционного комитета трех сил» по их расчетам должен был стать Фань Чжэнмэй, так как он внес исторический вклад в «великую культурную революцию», указав стране путь к «школам 7 мая» в виде школы для кадровых работников в Люхэ, он близкий и родной человек председателю Мао. Его знали в ЦК по делам культурной революции. Кроме того, он мог стать человеком, который будет представлять их интересы.
Они не придали значения тому, что действительность часто не совпадает с желаемым, поэтому выдвинутый ими Пань Фушэн, похоже пользовавшийся благосклонностью ЦК по делам культурной революции, вопреки всем ожиданиям сел в кресло главы «революционного комитета». А их старший брат Фань стал всего лишь членом постоянного комитета. Кроме того, в постоянном комитете было всего одно место для представителя студенческих цзаофаней. Они почувствовали себя обиженными, обманутыми, одураченными. Они возмутились. В тот день, когда было объявлено о рождении «революционного комитета трех сил» провинции, они по всему городу расклеили огромные лозунги с призывом «дать артиллерийский залп» по новому ревкому. Некоторые из них я четко помню до сих пор:
«Дадим залп тысяч орудий по псевдореволюционному комитету двух сил!». В нем высказывалась мысль о том, что студенческие цзаофани оказались вытесненными из него.
«Пань Фушэн прибрал к рукам результаты побед, завоеванные цзаофанями!».
«Слава «новой крысы Северо-востока» недолговечна!».
«Развернем решительную борьбу за второй захват власти! Клянемся бороться до полной победы!».
* * *
Вскоре после этого сформировалась группировка под названием «Артналетчики».
Если говорить объективно, то следует заметить, что когда Пань Фушэн был приглашен ими во власть прямо из больничной палаты, он был не только признателен им, но и принял неожиданные знаки благоволения с чувством радости и тревоги. Прежде он считал, что его политическая жизнь уже завершена. Хунвэйбины не дали ему никакой серьезной острастки, разрешили продолжить «лечение» в палате для высоких кадровых чинов, и он тогда очень хорошо понял, что ему здорово повезло. Когда цзаофани появились перед ним, он склонил голову и согнулся в пояснице, все его тело задрожало в страхе, он не смел смотреть им прямо в глаза. Когда они сказали ему, что хотят вступить в союз с ним, тогда он еще больше не поверил им, полагая, что они пришли, чтобы предварительно выяснить, есть ли у него честолюбие, и трусливо, упавшим голосом сказал: «Я не гожусь, я не подхожу, я не питаю несбыточных надежд...» Когда они в конечном счете убедили его в необходимости такого крутого поворота судьбы, у него от волнения за капали слезы, и он клятвенно заверил их в том, что отныне и навсегда будет дышать одним с ними воздухом и испытывать общую судьбу, всегда будет плечом к плечу вместе с ними вести борьбу, до конца своих дней служить одному с ними делу.
Пожалуй, он сам не думал и не гадал, что его не только возьмут в союз по их инициативе, но и сделают председателем революционного комитета.
Как только он сел в первое кресло председателя ревкома, он сразу же отвернулся от них, стал твердой рукой наносить им серьезные удары. Он собрал вместе всех тех из числа учащихся, кто осмелился «открыть артиллерийский огонь», объявил их «контрреволюционерами, пойманными с поличным», отдал приказ задерживать и арестовывать их, относиться к ним и содержать как опасных преступников. Себя он считал председателем революционного комитета, которого утвердил пролетарский штаб, возглавляемый председателем Мао. Чувствуя за спиной поддержку, не знал страха и сомнений.
Будем справедливы, он определенно хотел видеть покой и порядок во всей провинции, стабильную политическую обстановку. Это — мечта любого человека, который стал бы председателем революционного комитета. К тому же он не имел права пренебрегать чаяниями народа.
Однако «Артналетчики», несмотря на давление, не покорились. Они еще сильнее возмутились. Им хотелось своими глазами увидеть, как он, вторично получив власть, второй раз буквально через день упустит ее. Они от открытых «артналетов» перешли к подпольной деятельности, везде призывали к сочувствию, везде искали союза с военными, выискивали подходящий случай, чтобы возродиться, воспрянуть духом. Они и презирали его, и ненавидели.
Член постоянного комитета Фань, которого братья цзаофани раньше называли «старший брат Фань», став всего лишь членом постоянного комитета, а не председателем расценил это как поражение, и затаил недовольство по отношению к вновь созданному ревкому. Под тем предлогом, что Пань Фушэн подавляет «новых звезд Северо-востока» — бойцов-цзаофаней, совершивших ратные подвиги в кровопролитных боях, он вышел из «революционного комитета», заявив о полном разрыве с «комитетом Паня», обвинил его в политической непорядочности, в том, что он совершил грязное дело, поступил по отношению к революционным бойцам-цзаофаням коварнее, чем со сторонниками контрреволюционной буржуазной линии, что он исчерпал себя.
У Пань Фушэна не хватило смелости, арестовать такого человека, как Фань Чжэнмэй, не имея на это санкции ЦК по делам культурной революции. Он срывал зло на других, не знал, что делать, проявлял нерешительность. В действительности его авторитет был несопоставим с авторитетом Фань Чжзнмэя. И тем не менее ЦК по делам культурной революции решил назначить именно его председателем «революционного комитета», только потому, что было решение председателя Мао о революционных комитетах, указывавшее, чтобы возглавляли их старые революционные кадровые работники: средними и молодыми должны руководить старые. ЦК по делам культурной революции даже толком не знал, что из себя представляет Пань Фушэн. Поздравительная телеграмма, присланная от имени ЦК партии, Политбюро, Государственного совета, Военного комитета, была подготовлена только ЦК по делам культурной революции.
Действия Фань Чжэнмэя, направленные на разрыв отношений, заставили Пань Фушэна задуматься: ему только что пришла в руки удача, «получил власть, и вдруг удар из-за угла, да такой, что закружилась голова. Когда его политический мозг проснулся, он моментально начал заигрывать с ним, высказал мысль о том, что намерен сам направить в ЦК по делам культурной революции письмо с просьбой передать кресло заместителя председателя «революционного комитета» Фань Чжэнмэю, совместно с ним держать власть, совместно решать большие дела. Однако опоздал!
«Старый цзаофань» Фань Чжэнмэй в душе презирал Пань Фушэна. Он считал, что стоит громко заявить о себе, и кресло хозяина провинциального ревкома будет твоим. Должность заместителя председателя не удовлетворяла ни его политические устремления, ни политические амбиции. Он предпочел идти ва-банк. Или успех, или гибель за правое дело.
Основной силой «Артналетчиков» в большинстве своем были старые цзаофани, люди без роду и племени, самые шумные и голосистые, боевые друзья до гроба честолюбивого Фань Чжэнмэя. Они поистине никогда не знали, что такое страх. Во время «великой культурной революции» они, кипя гневом, все крушили и предавали смерти, не знали преград, сметали все препятствия на своем пути. И вдруг какому-то никому не известному, ничтожному человеку Пань Фушэну приходит в голову сумасбродная идея — враз истребить их. Как они могли проглотить такое? Старший брат Фань снова встал рядом с ними, так кого им еще бояться? Они помогли и без того сильному хищнику воспрянуть духом, поднять воинственность, умножить уверенность, чтобы наброситься и одним махом проглотить только что родившийся революционный комитет, который пришелся им не по вкусу, и таким образом остудить их ненависть к нему. Они от подпольной деятельности перешли к открытой, создали огромную угрозу «новой звезде Северо-востока».
Все организации, которые не решили свои политические цели в революционном комитете и почувствовали, что потерпели неудачу, одна за другой становились под знамена «Артналетчиков», укрепляя их могущество. Над новорожденным революционным комитетом разразилась гроза, он затрещал по всем швам.
«Артналетчики» второй раз захватили власть, враз заняли несколько институтов и крупных заводов, создав на них свои опорные пункты (базы), провели многотысячный митинг приведения к присяге сторонников «Артналетчиков», создали «Главный штаб артналетчиков».
Пань Фушэн для того, чтобы спасти положение, укрепить свое кресло, от имени политкомиссара провинциального военного округа отдал приказ войскам взять под вооруженную охрану все революционные комитеты.
Главари «Союза 8.8.», распущенного по приказу ЦК по делам культурной революции, видя, что представился благоприятный случай собрали разного рода старые свои силы — и создали «Главный штаб по защите трех революционных сил», перешли на сторону провинциального революционного комитета, поинтересовались мнением председателя Паня насчет возможных перемещений в руководстве.
Пань Фушэн страдал от того, что массовые народные организации не поддержали его. Он лично принял участие в собрании по созданию «Главного штаба по защите трех сил», приветствовал его рождение и торжественно признал, что прежнее его заявление о том» что он дышит одним воздухом с «Артналетчиками», делит с ними одну судьбу, было вынужденным политическим выбором. Из-за этого «Артналетчики» без труда снова захватили власть и заодно с монархистами подавляют истинных левых революционеров. Но даже если бы и не это, все равно лишь одними войсками невозможно противостоять «Артналетчикам», ликвидировать затаившуюся преступность. С помощью «Главного штаба» — этой массовой народной организации — можно помериться силами с «Артналетчиками» и в конечном счете — разобраться в истинном положении дел.
Из-за того, что Пань Фушэн оказался непримиримым к «Артналетчикам», а развалившуюся организацию монархистов поддержал, он стал смертельным врагом «Артналетчиков», а они настолько возмутились, что скрежетали зубами, решили довести до конца кровавую войну с ним.
«Великая пролетарская культурная революция» подошла к такому этапу, когда цзаофани целиком и полностью были вовлечены в водоворот борьбы за власть. Как у «Артналетчиков», так и в «Главном штабе» ядро вело борьбу за так называемую политическую власть, а массы людей — за так называемую справедливость.
Политическая власть и справедливость — это не идентичные понятия.
В связи с тем, что появились призывы и подстрекательства к справедливости, из-за того, что в формах борьбы произошли коренные изменения, и теперь уже не миллионные массы боролись с одиночками, идущими по капиталистическому пути, а миллионные массы боролись против миллионных масс, большие воинские части противостояли другим крупным воинским частям, шла поистине борьба не на жизнь, а на смерть, разыгрывался спектакль, который можно назвать исторической драмой. Эта никому не нужная борьба приобрела псевдовеличественную окраску.
«Новая звезда Северо-востока» не успела дать городу «Алеет Восток» хотя бы лучик света, «Артналетчики» и «Главный штаб» создали в городе царство беззакония, полную неразбериху.
Гибель дяди Лу, умопомешательство тети Лу, исчезновение единственного сына у супругов Ма, хлопоты, связанные с возвращением старшего брата в психбольницу отвлекли меня от городских дел, я, хунвэйбин — все еще не определил свое место в «культурной революции». Я в то время сочувствовал хунвэйбинам-монархистам из «Союза 8.8.»,а теперь еще стал симпатизировать «Артналетчикам».
Вскоре я вступил в организацию «Артналетчиков» средних школ и стал верным и убежденным ее членом.
У меня, семнадцатилетнего парня, хотя нет, в тот год мне уже исполнилось восемнадцать, конечно же, не было никаких честолюбивых мыслей, вступление в ряды «Артналетчиков» тоже совершенно не преследовало никаких политических целей, меня абсолютно не волновало, кто сидит в первом кресле провинциального ревкома, кто — во втором, кто — в третьем и кто — в четвертом. Если бы определяли место каждого так, как это делали герои Аяншаньбо в романе «Речные заводи», то до меня очередь не дошла бы.
Присоединиться к «Артналетчикам» меня побудило не чувство справедливости, а моя трагическая сущность.
Сам человек часто считает, что трагическая сущность — это ценное состояние души. Героическую личность постоянно ждет трагическая судьба. Трагическая сущность быстрее всего проявляется в мозгу романтических зеленых юношей, стремящихся продемонстрировать высокие душевные качества. Заставляет их делать опрометчивые поступки, толкает на глупости, даже на самопожертвование.
В тот день, когда «Союз 8.8.» был распущен, на стадионе собрался многолюдный митинг. Руководитель Харбинского «Союза 8.8.» зачитал, последнюю дипломатическую ноту ЦК, по делам культурной революции, изложенную в жестких формулировках. Зачитал и беззвучно заплакал.
От себя он сказал всего одну фразу: «Я прошу всех извинить меня, прошу быть великодушными».
И тысячи людей залились слезами. Сплошной гул плачущих уходил в небесную высь.
Я тоже плакал. Плакал, как ребенок от незаслуженной обиды, когда некому пожаловаться. Тысячи людей плакали и пели:
Дикий лебедь, летящий вдаль, Захвати с собой письмо в Пекин, Бойцы «8.8.» думают о Мао Цзэдуне, День и ночь помнят о нем...В тот день я прочувствовал трагизм, нависший над стадионом. Может быть я прочитал слишком много художественных произведений о трагическом героизме и они незаметно оказали влияние на мою чувствительную личность. Я благоговел перед героизмом трагического духа российских декабристов, итальянских карбонариев, английских вигов. Трагическая сущность — это постоянное душевное состояние героев, потерпевших поражение или обреченных на поражение. Во время небывалого в истории фарса, каким была «великая культурная революция» я, как надрессированная собака, идущая по следу, вынюхивал, где есть драгоценный запах трагического духа, чтобы найти применение охватившей меня психологии самопожертвования.
«Союз 8.8.» превратился в «Главный штаб по защите трех революционных сил» и, наверно, испытывал радость от того, что избавился от давления своего старого штаба, сам стал давить на других и отплатил за позор, который пришлось перенести, почувствовал гордость за себя. Однако для меня он из-за этого утратил трагическую сущность. Одновременно он лишился притягательной силы, ради которой я стал бы бороться за него.
Это можно хорошо показать на примере схватки двух кулачников. Я по своему душевному состоянию никогда не мог стать на сторону победителя, разделить «с ним радость победы. Но и став на сторону поверженного, не хотел разделять его участь. Кроме того, я никогда не имел привычки представлять себя победителем в какой бы то ни было жизненной ситуации, всегда был готов потерпеть поражение. Страдания потерпевшего в сравнении с радостью победы как бы обогащают мой внутренний мир. Я даже считаю, что все глубокие чувства рождаются именно в переживаниях. Боль поражения сама по себе означает глубокое чувство. Они — близнецы-братья с глубоким смыслом. Для того, кто не пережил поражения, все победы, гордость за них, удовлетворение успехом, воодушевление, радость окажутся обыденными, бесцветными. Я никогда не поверю, что такие победители могут дать глубокую оценку чувствам и мыслям.
Выбирая между «Главным штабом по защите трех революционных сил» и «Артналетчиками», я предпочел примкнуть к лагерю последних.
«Главный штаб по защите трех революционных сил» представлял священную и неприкосновенную власть, «Артналетчики» защищали тех, кто не покорился. Именно потому, что первые были священны и неприкосновенны, обладали большой силой, а вторые бросили им вызов на бой, поэтому они выглядели в моих глазах особенно смелыми и неустрашимыми, были окутаны героическим ореолом. Конечное поражение «Артналетчиков», можно сказать, изначально было очевидно, так как их героизм с первых шагов нес в себе трагический дух. Бесстрашный и дерзновенный героизм вместе с безоглядным трагизмом прямо-таки соответствовал моей натуре. Я добровольно пошел за ними на смерть, понимая, что такая смерть в нравственном плане ценится очень высоко, без сомнения рассматривается, как достойная.
Институты и заводы, занятые «Артналетчиками», были окружены. Все органы власти, которые контролировал или которыми монопольно распоряжался «Главный штаб по защите трех революционных сил», не только осуществили «диктатуру пролетариата», но и принесли немало зла семьям «Артналетчиков».
Магазины перестали обеспечивать семьи «Артналетчиков» продовольствием.
Больницы прекратили оказывать им медицинскую помощь, не принимали их на лечение.
Начальные школы не пускали их детей на порог.
Уличные комитеты могли не выдавать семьям «Артналетчиков» талоны на покупку товаров. Не производили обряды бракосочетания сыновей и дочерей «Артналетчиков». Не выдавали новорожденным свидетельства о рождении.
Революционные комитеты — эта новейшая пролетарская политическая власть — по отношению к «Артналетчикам» прибегла к политике блокады, какую проводили чанкайшисты по отношению к «коммунистическим районам».
Громкоговорящие машины «Главного штаба» целыми днями разъезжали по городу «Алеет Восток», демонстрируя силу, запугивая непокорных:
Кучки бандитов засели на базах, Они не меняют сути своей, Ночью и днем они точат ножи И думают снова о власти; Так будем готовы дать им отпор, Клянемся мы новой власти...Боевые песни «Главного штаба» каждый день разносились по городу «Алеет Восток».
«Артналетчики» прибегли к стратегии «сострадания к воинам», они периодически по ночам делали вылазки отрядами особого назначения, забирали из домов своих детей и укрывали на базах, вместе с ними переносили невзгоды.
И вот тогда-то значительная часть населения города постепенно стала сочувствовать «Артналетчикам». Революционный комитет и его «Главный штаб» лишились симпатий людей.
«Артналетчики», получив сочувствие, от «стратегической обороны» перешли к «стратегическому контрнаступлению».
Главный штаб «Артналетчиков», расположенный на Первом машиностроительном заводе Харбина, часто посылал своих бойцов отряда особого назначения для добывания себе и своим семьям продовольствия, угля, дров, медикаментов, овощей, литературы для чтения детям. Так как Первый машиностроительный завод производил военную технику, то отряд особого назначения выезжал на операции на танках и броневиках.
Когда танк или броневик подъезжал к какому-нибудь продовольственному магазину, угольному складу, овощному рынку или больнице, хитрые и шустрые здоровяки из отряда особого назначения культурно и вежливо, и в то же время энергично и жестко требовали руководителя, которому говорили: «Для пропитания стариков, женщин и детей мы берем у вас взаймы продовольствие». Или: «Берем у вас взаймы уголь», или дрова, или овощи, или лекарства...
Они также, как в свое время ополченцы 8 Армии, действовали с пистолетами за поясом, чтобы видели, с кем имеют дело. Скажите, кто осмелится не занять?
Трусливые моментально, кивая головами и низко кланяясь, с готовностью отвечали: «Благодарю за добрые слова, сколько хотите взять взаймы, столько и берите! У вас хватит людей? Если мало, я пришлю несколько человек на подмогу!».
Те, кто посмелее, могли, набравшись храбрости, спросить: «Когда вернете? Или: мне надо бы связаться с высшим начальством».
«Когда вернем? Подождите пока мы захватим власть, тогда и вернем!» — примерно так отвечали им бойцы.
Кроме того, с нарочито деловым видом они заполняли и давали им расписку о займе такого содержания:
Сегодня в ........ магазине взято взаймы 100 (или другое количество) мешков муки (или риса, сахара и т.п.), 2 ведра масла соевого (и т.п.) После победы революции вернем полностью.
Отряд особого назначения «Артналетчиков» « » (числа) « » (месяца) 1967 годаВ заключение торжественно ставили печать красного цвета Главного штаба «Артналетчиков».
Перед уходом напутствовали: «Смотри, не потеряй, береги ее. Когда мы возьмем власть в свои руки, по ней найдешь нас!».
Естественно, 100 мешков, 2 ведра — это только цифры, необходимые для расчета при возврате займа.
Однако в их действиях было и такое, что вызывало уважение: не били, не ругались, все было похоже на заем. В расписках указывалось сколько взято взаймы. Не было стремления загрести как можно больше. В расписках о займе они указывали, сколько взяли, сколько увезли.
Уехав, они оставляли о себе очень хорошее впечатление. Некоторые даже считали, что «Артналетчики» — это дисциплинированная, строгая и справедливая «железная армия». Беря взаймы, они оставляют расписки! Разве это не удивительная организация «великой культурной революции», какие редко встретишь.
Отряды особого назначения нисколько не подпортили репутацию «Артналетчиков». А атаки «Главного штаба по защите трех революционных сил» на бандитов-артналетчиков усиливали их легендарную славу. Населению нравились необыкновенные личности, пусть даже они и «бандиты», все равно их по-прежнему любили. Легендарный ореол в конечном счете смягчал жесткость классовой борьбы. Об отрядах особого назначения в городе возникла масса всяких новых легенд. Население проявляло живой интерес к такого рода легендам. Тем для разговоров хватало на все свободное время. Простой народ излагал все это своим бытовым языком, обогащая своей фантазией и стилем изложения.
Иногда, когда «Главный штаб по защите трех революционных сил» не мог предсказать возможные действия «Артналетчиков», они выходили со своих баз, собирались вместе и устраивали демонстрации. То бывали величественные зрелища: идущие впереди танки и броневики прокладывали путь колоннам, они же замыкали шествие. Иногда выходило 3–4 единицы техники, а иногда и 5–6. Даже громкоговорящая установка участвовала в таких вылазках. Высоко поднятые черные стволы танковых орудий, казалось, в любую минуту готовы выпалить «снаряды гнева». Стволы пулеметов на броневиках постоянно поворачивались вперед и назад, вправо и влево, подобно тигру вглядывались во все стороны в готовности растерзать и съесть жертву. Хотя «Главный штаб по защите трех революционных сил» и имел превосходные винтовки, выданные провинциальным военным округом, однако у него не было ни броневиков, ни танков. В самом провинциальном округе их тоже не было. Поэтому, когда «Артналетчики» проводили демонстрации, «Главный штаб по защите» затаивался, никоим образом не вступал в прямое противостояние с ними. А население толкалось на улицам наблюдая за шествием, рукоплескало их военной мощи. В душах простых людей тогда уже повсюду возникло отрицательное отношение к «культурной революции». Они часто говорили друг другу: «хоть при левых, хоть при правых, все равно беспорядки, в любом случае беспорядки, так пусть уж будет беспорядок «Артналетчиков», чтоб ему пропасть! Наверно, китайский беспорядок когда-нибудь подойдет к тому дню, когда уже нельзя будет его продолжать, и «великая культурная революция» закончится! Не может быть, чтобы не закончилась!»
Наша школа находилась под властью «Главного штаба по защите трех революционных сил». И всего несколько десятков человек поддерживало «бандитов-артналетчиков». Мы боялись разоблачить себя и в то же время обязаны были участвовать в работе «Главного штаба». Мы считали себя подпольщиками, постоянно наносили мелкий вред деятельности «Главного штаба». Например, на доске срочных уведомлений тайком исправляли время проведения мероприятий, прятали их знамена, выкрали их официальную печать, срывали их дацзыбао, плакаты и лозунги, нарушали их радиовещательную сеть, от имени отряда особого назначения «Артналетчиков» рассылали их главарям письма с различными угрозами... Вот такими делами мы занимались. По картинам нашего революционного кино у нас сложился образ подпольщиков коммунистической партии, как людей бесстрашных, изобретательных в своих действиях и мы им подражали, у нас было ощущение, что мы в условиях белого террора ведем выдающуюся работу.
В то же время нам казалось, что во всем том, что мы делаем пока еще недостает героического, нет на счету таких дел, какие делали пионеры в период антияпонской войны. Мы еще не испытали даже тех тягот и лишений, какие достались маленькому солдату Чжанга.
Мы стремились в огонь и в воду, жаждали настоящего героизма.
Однажды мы собрались на совет, наш героизм нам казался мелким, все считали, что мы должны вступить в отряд особого назначения «Артналетчиков».
Мы представляли себя на подножках броневиков с пистолетами за поясом, засунутыми так, чтобы были хорошо видны, в приподнятом настроении, стараясь привлечь к себе всеобщее внимание, появляемся в каком-нибудь месте, с пристуком кладем на стол расписку, грозно объявляем: «От имени революции! Мы берем взаймы...» Или таким же грозным тоном предупреждаем: «Вы не должны с неоправданным упрямством идти вслед за «Главным штабом по защите трех революционных сил»! Мы, «Артналетчики», все равно возьмем в свои руки политическую власть!»...
В чем же заключался тот энтузиазм?
Когда мы подумали обо всем этом, каждого из нас прямо-таки потрясло. И главным оказалось не то, кто возьмет власть, возьмут ли ее «Артналетчики». Нас совершенно не интересовало, какая будет власть. Нам было абсолютно безразлично, в чьих руках она в конечном счете окажется. Для нас важно было другое: мы не только хотели вступить, в отряд особого назначения «Артналетчиков», но и как можно больше проявить себя, показать, какие мы железные ребята. Отряд особого назначения гремел больше всех среди организаций цзаофаней.
Тогда каждый из нас прокусил себе палец, и мы кровью написали письмо с просьбой принять нас в отряд особого назначения, письмо спрятали за пазуху. В ту ночь я оставил дома записку: «Мама, я и мои боевые друзья уходим на нашу базу. Мы должны быть готовы своей кровью отстоять нашу базу! Если я не вернусь, сразу же, вы ни в коем случае не переживайте. Я, взрослый мужчина, вправе принести личное в жертву общему. Желаю вам долгих лет жизни, если герой погибнет и не вернется домой, то считайте это моей предсмертной клятвой и клятвой моих друзей!».
Я тихо покинул дом, соединился со своими друзьями и мы больше двух часов пробирались по городу, пока не подошли к Первому машиностроительному заводу, нащупали линию блокады «Главного штаба по защите трех революционных сил», через канализационную трубу по грязной сточной воде, доходившей до груди, проникли за ограду завода.
Первая база «Артналетчиков» находилась в положении боевой готовности №1. Четыре броневика и три танка выстроились перед главными воротами в две линии, чтобы ринуться за ворота по первому сигналу. Несколько тысяч человек в ивовых касках на голове, с дубинками в руках были готовы к действиям. Более трехсот боевиков из отряда особого назначения с винтовками в руках и комплектом боеприпасов были рассажены на 5 или 7 грузовиках, лица суровы, напряжены, как у камикадзе, пальцы рук, казалось, лежат на спусковом крючке в ожидании команды на открытие огня.
В самом начале деятельности «Артналетчиков» один из их отрядов особого назначения выполнял свои особые операции, подвергся нападению бойцов «Главного штаба по защите трех революционных сил» и был полностью захвачен в плен. По «агентурным» данным их уже несколько дней содержат в подвальном помещении одного из институтов, часто избивают.
И теперь они намерены были вызволить своих боевых друзей.
Как только мы вылезли из канализации, нас сразу же обнаружили и под охраной препроводили к женщине-вожаку.
Внешне она выглядела приятной, вид бравый, живая, порывистая. Одета в мужскую теплую военную форму без знаков различия и без кокарды на шапке.
— Зачем вы явились сюда по канализации? — спросила она. Мы в один голос ответили:
— Настойчиво просим включить нас в отряд особого назначения!
— Но ведь вы еще даже не «Артналетчики», а уже просите включить в отряд особого назначения, что вы там будете делать? — снова спросила она. Мы разноголосо сказали ей, что мы «Артналетчики».
— А кто утвердил ваш прием в «Артналетчики»?
— Никто не утверждал, мы вам сочувствуем, мы сами зачислили себя в «Артналетчики»! — безапелляционно ответил один из нас.
Она улыбнулась, повернулась к своим подчиненным и громко спросила их:
— Вы слышали? Даже эти учащиеся средней школы сочувствуют нам. Выходит, люди не равнодушны к нашему положению, оно благотворно сказалось на их сознании.
Однако никто из ее подчиненных даже не улыбнулся, в один голос они проскандировали:
— Или мы, или враг! Или мы, или враг! Готовиться к кровопролитной войне! Жизнь или смерть! — так они выразили свою твердую волю.
Она снова повернулась к нам и, преисполненная глубокой веры в свою правоту, с улыбкой сказала:
— Вы тоже поняли? «Артналетчики» нисколько не нуждаются в жалости и сострадании!
Мы беспорядочно, перебивая друг друга, сказали ей, что именно потому, что «Артналетчики» под давлением силы оказались несгибаемыми, мы относимся к ним с уважением! Раз уж мы пришли искать прибежище у «Артналетчиков», то ни за что не уйдем! Мы хотим бороться вместе, побеждать вместе!
Мы показали ей наше письмо, написанное кровью.
Она прочитала и, как нам показалось, сильно разволновалась, передала для прочтения другому человеку.
Тот, прочитав, передал третьему.
Вся шеренга «Артналетчиков» по очереди просмотрела наше написанное кровью письмо.
Вдруг один из стоявших в строю стал выкрикивать лозунги:
«Долой Пань Фушэна! Высвободим наших боевых друзей!».
Дубинки, как лес, поднялись над головами и множество голосов одновременно закричали:
«Освободим наших боевых друзей! Долой Пань Фушэна! Долой Ван Цзядао! Долой «Главный штаб по защите трех революционных сил!».
Наша ватная одежда пропиталась грязной канализационной водой и только когда один наш парень так озяб, что потерял сознание, они заметили это.
Вожак моментально приказала одному из своих:
— Отведи этих маленьких бесенят в бассейн, пусть выкупаются, и найди им ватную одежду, пусть переоденутся!
Тогда нас отвели в бассейн Первого машиностроительного завода
Пока мы купались и мылись в подогретой воде, пока нам искали теплую детскую одежду, пока мы вышли из бассейна, за это время двор опустел, не осталось ни одного человека.
Мы с удивлением спросили, куда же все исчезли?
Парень, который сопровождал нас, ответил:
— Все отправились выручать наших боевых друзей. Сегодня у нас крупное событие, мы серьезно предупредим Пань Фудэна. Мы допытывались, почему не подождали нас.
— Это не детская игра, это смертельно опасно! Руководители приказали не разрешать вам следовать за ними! — пояснил он.
Мы искали там прибежище именно ради того, чтобы идти навстречу смертельным опасностям и подвернулся как раз такой случай, а нам не разрешили участвовать в операции вместе с ними. Мы и досадовали, и возмущались, допытывались, кто из руководителей так решил.
— Невестка Пань приказала! — ответил он совершенно серьезно.
— Невестка Пань? Это не та ли «черная, высокая» невестка Пань?
— Это не та ли невестка Пань, которая перед входной дверью провинциального ревкома собирала пожертвования для семей «Артналетчиков»?
— А женщина-вожак, которая недавно разговаривала с нами, это не она ли?
Он сказал нам, что то была именно она.
Мы встречались с невесткой Пань! И даже разговаривали с ней! Каждый из нас почувствовал, что был удостоен огромной чести! Это немного компенсировало досаду от того, что, мы упустили случай проявить готовность самоотверженно пожертвовать собой.
«Невестка Пань» вошла в наши сердца героиней, более умной и храброй чем невестка Ацин.[59]
«Невестка Пань» — было ее прозвище. Она была студенткой литературного факультета Хэйлунцзянского университета. Незамужняя. Почему боевые друзья из «Артналетчиков» называли ее «Невестка Пань», мы так и не узнали.
Однажды в многолюдном районе города встретились радиовещательные машины «Артналетчиков» и «главного штаба по защите трех революционных сил». Как говорится, «когда враги сталкиваются нос к носу, у них слишком краснеют глаза». Но в тот раз между ними развернулась не вооруженная война, а война умов.
В радиовещательной машине «Главного штаба по защите» сидел мужчина, державший в руках толстый набросок радиовещательного текста, который он озвучивал. А в радиовещательной машине «Артналетчиков» находилась «Невестка Пань» с пустыми руками.
На одной стороне мужчина, на другой — женщина, у одного в руках текст, у другой — пустые руки, казалось, что преимущество целиком и полностью на стороне «Главного штаба по защите».
Хотя у «Невестки Пань» не было никаких заготовленных материалов, тем не менее она подавляла своей непринужденностью, умело вела горячую полемику, обладала живым выразительным языком, была красноречива, говорила, как по писанному, с издевкой и едко, умело отвечала на вопросы, логично и четко, с язвительной насмешкой и юмором, с полным знанием дела пользовалась трудами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, классическими примерами прошлого и настоящего. В дебатах, длившихся более трех часов, «Главный штаб по защите» был признан побежденным. Городские жители стоявшие на тротуарах и наблюдавшие представление, аплодировали «Невестке Пань». Радиовещательная станция «Главного штаба по защите» ретировалась в конец улицы, повернула за угол и ушла.
С того дня прозвище «Невестка Пань» распространилось по всему городу, стало популярным, о ней заговорил почти весь город «Алеет Восток». Даже многие из «Главного штаба по защите» упоминали ее имя с большим уважением, не могли не признать, что во всем городе не сыскать человека, который мог бы состязаться с нею в дебатах.
Говорили, что Пань Фушэн на заседании постоянного комитета провинциального революционного комитета тоже сказал: «Такие личности, как «Невестка Пань», встречаются редко! Если кому-то удастся переманить ее на нашу сторону, то это будет равно тому, что он совершил подвиг во имя нашей новой политической власти! Если только она согласится покончить с темным прошлым и начать новую жизнь, я, Пань Фушэн, гарантирую ей место члена постоянного комитета провинциального ревкома. Если даже она захочет стать заместителем председателя ревкома, то мы тоже можем подумать!».
И ходили слухи, что действительно кто-то пытался переманить ее на свою сторону, но она категорически отказалась.
Она осталась до конца твердо преданной «Артналетчикам».
Позже «Невестка Пань» ездила по всему городу с отрядом особого назначения, везде произносила речи, выступала с докладами, собирала пожертвования для «Артналетчиков».
Однажды я издали слышал ее выступление во время сбора пожертвований:
«Граждане, я — «Невестка Пань»! Я протягиваю к вам свои руки, прося о поддержке! Дух справедливости витает надо мной и над вами, он молча наблюдает за мной и каждым из вас. У кого из вас нет отцов, матерей? У кого нет жен, сыновей, дочерей? «Главный штаб по защите» заблокировал нас «Артналетчиков», надеется обречь нас на скорую гибель! Можете не любить и не жалеть нас «Артналетчиков», но в чем вина жен, сыновей и дочерей бойцов отряда «Артналетчиков», в чем вина их отцов и матерей? Их безвинные жены и дети, безвинные отцы и матери на грани голода и гибели от холода, доведены до крайней нищеты, так как братьям рабочим, входящим в состав «Артналетчиков», уже давно не выдают зарплату...»
Как только «Невестка Пань» начинала говорить у какой-нибудь автобусной остановки, оказавшиеся поблизости горожане, у которых были при себе кошельки с деньгами, независимо от того, как они относились к «Артналетчикам», все невольно засовывали руки в карманы и доставали деньги.
Вот такими способностями обладала «Невестка Пань»! Выражение ее лица, ее голос могли растрогать любого! Она как бы обладала некоей волшебной силой.
Рядом с нею бойцы отряда особого назначения носили большую корзину, каждый человек подходил к ней и бросал деньги. Даже дети. Каждый раз она набирала полную корзину денег.
Простой народ Китая во время «великой культурной революции» жертвовал последним во имя справедливости. Аюди повсеместно жили намного беднее, чем сейчас, однако не в пример нынешним сберегали копеечку. Это было одним из условий, почему «Невестка Пань» в те годы успешно собирала пожертвования. Если бы сегодня десяток «Невесток Пань» послали на сбор пожертвований на цели, которые могут вызвать возвышенные нравственные проявления людей, то боюсь, что за 10–15 дней они едва ли собрали бы одну корзину. На ремонт и восстановление Великой китайской стены, в китайский детский фонд, на помощь голодающим африканцам люди с зарплатой свыше двухсот юаней выбрасывали всего по 1–2 цзяо.[60] Если бы государственные казначейские билеты распространяли не путем вычета из зарплаты, то из 10 человек, наверно, 8–9 их не купили бы.
Теперь все не так, как было тогда.
Головы китайцев теперь не так просты, какими были во время «культурной революции», они стали сверх меры хитроумными. Поэтому пожертвования во имя справедливости тоже ныне не те, что были прежде. Иногда я даже задумываюсь: а может быть это идеология наизнанку? Я теряюсь в догадках...
В то время «Артналетчики» говорили: теория старшего брата Фэна, ораторский талант «Невестки Пань», организаторские способности командующего Фэна. Командующий Фэн — это Фэн Чжаофэн. Всех их почитали как троицу выдающихся личностей.
Разве мы могли не чувствовать, что нам выпала большая честь.
Когда «Невестка Пань» собирала пожертвования, «Главный штаб по защите» не раз имел возможность задержать ее, однако поговаривали, что Пань Фушэн имел указание без приказа революционного комитета провинции не арестовывать «выдающуюся троицу бандитов-артналетчиков». И тем более не разрешалось причинять им какой-либо вред.
Надо отдать справедливость Пань Фушэну в том, что он питал слабость к талантам. Он, как мне кажется до последнего строил иллюзии склонить их к капитуляции. Само собой разумеется, то были только его мечты.
Однако «Невестка Пань» не разрешила нам, школьникам, написавшим кровью письмо с просьбой дать прибежище на базе «Артналетчиков», участвовать в крупном мероприятии по освобождению боевых друзей несомненно из-за того, что не могла подвергнуть нас смертельной опасности. Проявилось женское добросердечие.
В период «культурной революции» трудноописуемые бездумные террористические и ненавистнические, разумные и совершенно неоправданные поступки и действия порой блистали ореолом порядочности и человечности. Эти поступки, в конечном счете, показывали, что их осуществляли люди, а не сумасшедшие. Люди творили безумие.
Человек, который сопровождал нас на помывку, отвел нас туда, где жили семьи «Артналетчиков», каждому определил место для сна. Семьи «Артналетчиков» размещались в нескольких цехах, в каждом больше 10 семей, это значит — несколько десятков человек. Во всех цехах было очень холодно.
Женщины плакали, дети кричали — то были семьи людей, которых арестовал «Главный штаб по защите».
Когда я увидел все это своими глазами, у меня сразу закипело в груди, заболела душа за их судьбу, я почувствовал, что пришел деспот-угнетатель, появилось желание бросить клич на бой с деспотией. Как же могло так случиться, что притесненными оказались «Артналетчики» и их семьи? Не получилось ли так, что больше 99 процентов людей оказалось под тираническим правлением и одновременно тиранили других? Нельзя сказать, что деспотом был «новая звезда Северо-востока», деспотия была курсом тех сил. которые усиленно добивались стабилизации. Деспотом была сама «великая культурная революция». «Главный штаб по защите» и «Артналетчики» были всего лишь неизбежным порождением той деспотии. Кто из них обоих был прав, а кто — нет, не имеет значения.
Вдруг раздался сигнал тревоги. Прибежал человек и растерянно сообщил, что полчище «Главного штаба по защите», воспользовавшись тем, что основные силы большого лагеря отсутствуют, развернуло наступление. Они заявили, что хотят захватить упрямый бастион «Артналетчиков» на Первом машиностроительном заводе Харбина.
Обстановка обострилась. Женщины заплакали еще громче. Дети стали громче кричать.
Несколько десятков бойцов, оставленных для обороны лагеря собрались вместе.
Один из них, обернувшись в сторону женщин и детей, во все горло заорал: «Перестаньте плакать! Перестаньте кричать! Сколько бы вы не кричали и плакали «Главный штаб по защите» все равно никого не помилует! Только мы, оставшиеся здесь для защиты вас, обеспечим вам безопасность, не допустим, чтобы они вошли к нам!».
Несколько десятков старых рабочих тоже добровольно организовались в группу, каждый подыскал себе какую-либо вещь, которую можно использовать как оружие для борьбы. «Они объявили: «Мы вместе с вами будем защищать главные и тыльные ворота! Сегодня дорог каждый человек, а два — тем более! Каждого погибшего заменит наш человек! Если умрем, наши люди отомстят за нас! Мужчины и женщины, стар и млад, если ублюдки из «Главного штаба» действительно пойдут в атаку, никому не дозволено стать негодяем! Мы родились «Артналетчиками» и ими погибнем!».
Одна из женщин, гордо расправив плечи, выкрикнула: «Сестры, мы тоже займемся этими молодчиками, пожертвуем собой в борьбе с ублюдками из «Главного штаба»!».
И тогда женщины, вместе с подростками, подогревая друг друга, стали каждый для себя искать оружие, готовясь к отпору.
Я так растрогался, что хотелось плакать. Какая картина героизма разворачивалась передо мной! Драматический подъем духа и героизма, которые я жаждал изведать, полностью завладели мною.
Я отыскал себе длинный металлический прут, крепко сжал в руках.
Потом все ринулись во двор.
Включилось несколько прожекторов, стало светло, как днем.
Часть людей бросилась к главным и тыльным воротам, часть несла охрану у всех четырех высоких стен.
Мне даже представилась картина после захвата Первого машиностроительного завода: как попало валяются тела мужчин и женщин, стариков и детей; погибшие по-прежнему плотно сжимают в руках окровавленное оружие. Представил себе ребенка, прижатого телом матери, которая укрывала его до последней минуты своей жизни, потрясающий до слез плач ребенка. Я представил себе, как я сам должен погибнуть, чтобы выглядеть наиболее мужественным и героическим, какие лозунги надо прокричать перед смертью. По моим представлениям или еще, можно сказать, по моим желаниями должен погибнуть после того, когда погибнут все. Тогда я пойду прямо навстречу окружившим меня многочисленным врагам из «Главного штаба по защите», в последний момент брошу на них яростный взгляд, прежде поломав оружие, чтобы не отдать в руки врагам. Правда с оружием могла выйти заминка: мой длинный металлический прут можно было ликвидировать только в топке доменной печи. Было бы лучше, если бы у меня была винтовка. Перед самой смертью я сделал бы так, чтобы она не попала в руки врага. А еще было бы лучше, если бы в руках оказалась подрывная шашка! Тогда можно было бы погибнуть вместе с врагами. Пример с оружием показал, что вообразить можно много: и героизм, и смелость, и драматические ситуации, однако совершенно очевидно, что невозможно все осуществить в деталях. Только выкрикивание лозунгов можно продумать в полную меру заранее. Я вспомнил французского кавалерийского капитана, описанного в произведении Гюго, когда он в битве Наполеона при Ватерлоо погибал в бою. Знаете, что он крикнул англичанам, окружившим его со всех сторон? Правильно, он крикнул всего одно слово — «дерьмо»! То слово, конечно, несет презрительный смысл. Но могли его понять в «Главном штабе по защите»? А если они не читали «93-й год» Гюго? Или читали, но забыли того Французского кавалерийского героя-капитана? Он не главный герой книги, а всего лишь безымянный персонаж, показанный Гюго. Тогда придется снова кричать «да здравствуют «Артналетчики»!
Дерьмо.
Да здравствуют «Артналетчики»!
У героев достаточно героизма! Смелым не занимать смелости! Кажется, немного недостает трагизма...
Правильно, правильно, нельзя не прокричать «да здравствует председатель Мао!» Сражаться и умереть за председателя Мао, а он там в Пекине даже не будет знать об этом, разве это не драма? Конечно, будем сражаться и умрем за председателя Мао! За кого и для кого же еще я и многие другие будут что-то делать, если не за и не для многоуважаемого председателя Мао?
Надо прокричать всего три лозунга. Больше не успеть. Наверно, перед тем, как героически, доблестно будешь погибать, можно успеть прокричать три лозунга. Третий не обязательно заканчивать, можно докричать до «да», а «здравствует» останется на устах широко раскрытого рта, а твое тело медленно опустится на землю. Не надо падать ничком. Надо обязательно откинуться назад и упасть. Причем — обязательно широко расставить ноги. Падая, непременно распластаться, широко раскинув руки; медленно, не сгибаясь опуститься до земли. Мертвое тело должно иметь вид иероглифа «большой, великий»[61] и свалиться на землю, залитую алой кровью...
Как раз когда я напрасно витал в облаках, несколько броневиков и танков выехали из гаража. Они были готовы оборонять лагерь.
Громкоговоритель «Главного штаба по защите» за высокой стеной вещал:
«Бандиты-артналетчики, слушайте! Мы знаем, что вы прибегаете к тактике «заманивания», быстро открывайте ворота и сдавайтесь! В противном случае мы атакуем вас, тогда вам не будет никакой пощады!...
На внутренней стороне стены тоже заговорил громкоговоритель: «Крысиное войско, слушай! Если у вас хватит смелости, то атакуйте! Единство народа несокрушимо, мы смело пойдем навстречу смерти!».
Главные и тыльные ворота растворились.
Атакующие «Главного штаба по защите» с криками бросились вперед, но обнаружив перед собой броневики и танки, отхлынули назад.
Броневик выпустил несколько очередей в ночное небо.
После этих выстрелов внутри ограды и за ней воцарилась тишина.
Боевики «Главного штаба по защите» бесшумно отошли.
Броневики и танки «Артналетчиков» тем не менее, как надежные сторожа, по-прежнему блокировали входы в главные и тыльные ворота. Пока что все были начеку, не расслаблялись. Боялись, что «Главный штаб по защите» делает ложный маневр, чтобы снова пойти в наступление. Только женщинам, в которых не было особой нужды, посоветовали забрать детей и увести их спать.
Перед рассветом большой отряд «Артналетчиков» возвратился в лагерь. И не просто возвратился, но и привез с собой освобожденных боевых друзей — одиннадцать человек живыми и шесть трупов. Четверо были забиты до смерти, два человека не смогли вынести пытки и покончили жизнь самоубийством, выбросившись из дома с большой высоты.
По слухам среди спасенных был и командующий «Артналетчиков» Фэн Чжаофэн. Его не только жестоко избивали, но еще и заживо закапывали в землю. Закапывали по грудь, принуждая, чтобы он признал, что «Артналетчики» реакционная организация и от имени командующего объявил бы во всеуслышание о ее роспуске. Он не покорился. Он предпочел смерть позору. Вероятно, потому, что он был командующим «Артналетчиков», «Главный штаб по защите» не осмелился закопать его по-настоящему, его извлекли из ямы... В тот вечер людей было слишком много, царила сумятица, и мы не сумели толком разглядеть этого непокорного командующего Фэна.
Сплошные горькие рыдания женщин в лагере, ярость мужчин создали атмосферу ненависти и ожесточения.
Вожаки немедленно открыли собрание и за каких-нибудь минут десять выработали решение — провести торжественные похороны. Тут же все завертелись, как белки в колесе, стали делать носилки, венки, писать траурные полотнища, готовить траурные повязки.
В девять часов утра несколько тысяч демонстрантов вышли с Первого машиностроительного завода Харбина. Как всегда, впереди шли броневики и танки. На головном броневике укрепили крест, перевязанный траурной лентой, на его перекрестье прикрепили огромный, величиной с таз идеально белый бумажный цветок. На танк накинули белое покрывало. На этот раз в путь двинулось четыре броневика и четыре танка. Знамена в этот раз не брали. Были подняты лишь погребальный полог из белой ткани и белый погребальный флажок. Объявили, чтобы соблюдался порядок, чтобы не выкрикивали лозунги и не пели песни, чтобы все действия выполнялись только по командам. Претворялась в жизнь продуманная «тактика скорби по воинам». Подлинная скорбь по погибшим воинам. Шесть мертвых тел положили на носилки и покрыли белым саваном, несколько десятков крепких парней по очереди несли их. На белом погребальном пологе черной тушью крупными иероглифами было написано: «Отомстим за погибших, отдавших жизнь за справедливое дело, кровь за кровь!». У каждого на груди был прикреплен белый бумажный цветок, на руке — траурная повязка. Огромное величественное войско торжественно молчаливо, полное скорби, безбрежным потоком продвигалось в город.
Как только вступило в городской район, из радиовещательной машины полилась траурная музыка. Под звуки ее мелодий колонна неторопливо текла по улицам. Движение транспорта по городу приостановилось, несметное число горожан выходило к демонстрантам, как бы повинуясь всепокоряющему шествию.
«Тактика скорби по воинам» оказалась очень грамотной. Она не могла не вызвать сочувствие окружающих.
Когда демонстранты подошли к зданию провинциального революционного комитета, стволы танковых пушек не торопясь поднялись вверх и взяли его на прицел. Говорили, что ревком провинции предчувствовал, что в тот день события примут серьезный оборот, и как раз заседал по этому вопросу. Увидя через окна колонну демонстрантов с танками и броневиками, они поодиночке в растерянности срочно покинули зал заседаний, сели в свои персональные машины и поспешно укатили. Государственные служащие, которые не могли ни сбежать, ни спрятаться, прикрепив к бамбуковым палкам свою белую рабочую одежду, выставили ее из окон и беспрерывно размахивали ею.
Пусть подойдет к окну Пань Фушэн!
Это был голос «Невестки Пань», донесшийся с радиовещательной машины.
Одной и той же кистью не напишешь два одинаковых иероглифа «Пань». Говорили, что они из одной семьи. Классовая борьба не признает компромиссов. Действительно получается по поговорке: наводнение ворвалось в храм бога дождя. Родственники не признавали родственников. В конце концов какой класс представлял Пань Фушэн и какой «Невестка Пань», неизвестно, даже сегодня никто не может четко ответить на этот неясный вопрос. В общем, дело это темное, а погибшие оказались невинно пострадавшими. Цзян Цин сначала провозгласила «культурное наступление и вооруженная защита — это дело правое», позже она сказала: «что касается людей, погибших в борьбе, то туда им и дорога, их жизнь не стоила даже воробьиного перышка». Но не станем вспоминать, что она говорила. Что сказала, то и сказала. А что сказала, то было правильно. Невинно погибшие вызывали печаль и страдание, но еще большее страдание вызывали их жены, сыновья и дочери, отцы и матери. Те, кто погиб в вооруженной борьбе, в большинстве своем были люди среднего возраста.
Те госчиновники, которые выставили в окна «белые флаги», чтобы продемонстрировать капитуляцию, стали кричать:
— Пань Фушэн давно уехал! Все члены ревкома разбежались!
— Ни в коем случае не стреляйте! У меня дома жена и куча детей!
— Да здравствуют «Артналетчики»! Да здравствуют, да здравствуют «Артналетчики»!
Не стреляйте. Но разве могли «Артналетчики» кончить миром?
Бух!..
Бух!..
Бух!..
«Артналетчики» все же обстреляли «Новую звезду Северо-востока».
Сделали 6 выстрелов подряд — выпустили в воздух 6 тренировочных снарядов.
Если бы постоянный комитет ревкома находился в здании, то не исключено, что в каналы стволов они заложили бы боевые снаряды.
Через некоторое время они снова выпалили еще 6 снарядов.
Сколько лет после залпа об освобождении Харбина люди не слышали праздничных салютов. Население, наверно, решило, что стреляли из полевых орудий, а на самом деле били танковые пушки.
Некоторые снаряды попали в башенки на крыше здания. Несмотря на то, что стрельба была тренировочной, все равно башни снесли.
Из здания вырвались женские вопли ужаса...
Очень кстати в окружавшей нас толпе оказался дядя Цзян. Он увидел меня и вырвал из рядов «Артналетчиков», приказал:
— Пошли домой!
— Нет, я хочу вместе с «Артналетчиками» добиться победы! А если потерпим поражение, то тоже вместе! — ответил я,
— А ты подумал о матери?! Твоя мать скоро сойдет с ума от волнений, ты об этом знаешь? — спросил он.
— Дядя Цзян, ты возвращайся домой и скажи моей матери, что я, Аян Сяошэн, взрослый мужчина и могу сам распорядиться своей жизнью. Герой скорее погибнет, чем вернется домой!
Он со злость залепил мне в ухо. Благодаря тому, что я был в шапке-ушанке, ее клапаны защитили мое лицо, ослабили удар и боль. Хотя удар был такой, что я отлетел в сторону.
Из рядов «Артналетчиков» вышло несколько молодцев, окружили его и стали кричать:
— Ты почему ударил нашего человека?! Ты уже не юноша, почему поднял руку на ребенка?!
Дядя Цзян своим густым шаньдунским басом ответил:
— Я его дядя, я его дядя... — а сам, видно, струхнул. Тогда те парни обратились ко мне:
— Он на самом деле твой дядя?
— Твой родной дядя?
Дядя Цзян, не ожидая моего ответа, выпалил:
— На самом деле, на самом деле, родной дядя, родной дядя...
— Не тебя спрашивают! — прикрикнули они.
— Да, дядя, родной дядя... — не знаю почему, я признал родство с ним. Дядя Цзян расплылся в улыбке:
— Он вчера вечером не вернулся домой, его мать так разволновалась, что вот-вот сойдет с ума! Вы позволите мне увести его домой?... Тогда те молодцы сказали мне:
— Возвращайся домой, не ходи с нами!
Дядя Цзян, не дожидаясь пока они договорят, поблагодарил их:
— Большое спасибо, большое спасибо!
А сам схватил меня за руку и потащил за собой.
— Не спешите уходить!
Нас снова окликнули те парни. Один из них подошел к нам.
Дядя Цзян робко, как можно деликатнее спросил его;
— Разве не вы разрешили нам идти?
— Если его в таком виде встретят люди из «Главного штаба по защите», то едва ли он окажется дома! — сказал он, указывая на мою грудь, где был прикреплен белый цветок. Он снял с груди цветок, с рукава — траурную повязку и положил в свой карман.
* * *
Придя домой и увидев мать, я испугался. Нас разделяла всего одна ночь, а она так изменилась, что ее почти невозможно было узнать. Голова не причесана, глаза опухли, лицо бледное — ни кровинки, не умытое. Постарела, как минимум, лет на десять.
Меня мать тоже как будто не узнала. Ее глаза впились в мое лицо и неотрывно смотрели на меня. Не била. Не ругала. Ничего не сказала. Только смотрела.
Я невольно опустил голову.
После долгого неоступного разглядывания она сказала:
— Дядя Цзян, отпусти его, пусть идет. Пусть идет, куда ему нравится! Он не мой сын! Дядя Цзян обратился ко мне:
— Обещай матери, что больше никуда не уйдешь!
— Ма, я обещаю, что... никуда больше не уйду... — заверил я мать упавшим голосом.
Однако мать выталкивала меня за дверь, не давая мне возможности оправдаться.
— Уходи, уходи! Не обещай мне! Я не мать тебе, а ты мне тоже не сын! Дядя Цзян вышел следом за мной, продолжая наставлять на путь истинный:
— Ты посмотри до чего ты довел свою мать! Если из-за тебя она тронется умом, то у вас в семье будет двое сумасшедших, как вы будете дальше жить? Будет ли чиста твоя совесть перед отцом? Будет ли чиста, твоя совесть перед младшими братьями и сестрой? Тебе пора окончательно образумиться! Если еще раз посмеешь уйти, то я сам вместо отца проучу тебя! Перебью тебе ноги!
Вразумив меня, он пошел в дом успокаивать мать.
Вскоре ко мне вышел младший брат, в руке он держал ключ от угольного сарая, с ненавистью сообщил мне:
— Мама велела мне закрыть тебя на замок в угольном сарае. Я послушно молча следовал за братом, покорно позволил ему запереть себя в сарае.
Я присел на корточки в углу, защищенном от сквозняка, погрузился в тоскливые думы.
За два месяца великого шествия и ночи, проведенной у «Артналетчиков», я действительно шаг за шагом подталкивал мать к умопомешательству. Бедная мать, как она страдала, мне было жаль ее. Жаль было матерей, страдавших из-за «культурной революции»! Только в полночь младший брат выпустил меня из сарая. Как только я вошел в дом, мать сразу скомандовала:
— Становись на колени!
Я встал перед нею на колени, боясь поднять голову.
Ты осознал свои ошибки или нет?
— Ма, я осознал ошибки...
— Действительно осознал или лжешь?
— Ма, я действительно осознал...
— Тогда не обижайся на меня! Лаосань,[62] принеси ножницы! Клац! Клац! Клац!
Мои волосы, срезаемые ножницами, отлетали от них и клочек за клочком падали на пол.
— Разувайся!
Я снял свои единственные утепленные резиновые кеды.
Мать взяла их и срезала задники — получились утепленные шлепанцы...
На следующее утро, шаркая; по полу своими шлепанцами, я подошел к треснувшему зеркалу и взглянул на себя, увидел перед собой бесенка с неровно обрезанными волосами, тощую физиономию юноши, на которой застыло выражение растерянности. В душе в это время поднималось истинное осознание трагикомедии...
Наконец «Артналетчики» привели в ярость и ЦК по делам культурной революции.
ЦК по делам культурной революции напомнил Хэйлунцзянскому ревкому: «Все то, что реакционно, само по себе не исчезнет, пока ты не нанесешь ему удар — это выдержка из высказываний великого вождя председателя Мао, которая по-прежнему сохраняет свою силу».
Однажды глубокой ночью всех жителей нашего двора разбудила начавшаяся стрельба.
Тетя Лу, прижав к груди самого маленького ребенка, как перепуганная обезьяна, беспомощно металась по всему двору и истерически кричала и выла:
— Пришли! Пришли!
Стрельба участилась. Трассы пуль полосовали ночное небо. Это как раз были годы, когда напряженность в отношениях между Китаем и Советским Союзом достигла наивысшей точки, и в любое время могла взорваться, поэтому все в нашем дворе решили, что войска Советского Союза без объявления начали войну против Китая. Степень растерянности невозможно описать — люди просто не знали, как им поступить: то ли спасаться бегством, то ли хранить свои очаги.
Весь переулок превратился в разворошенный муравейник. Староста улицы в сопровождении военного появилась в нашем дворе. Сдержанным голосом она успокаивала людей:
— Не волнуйтесь, не бойтесь! Ничего страшного не произошло, успокойтесь, не волнуйтесь! Сегодня ночью, будет разгромлено логово «Артналетчиков»! Это последние залпы к достижению окончательной победы «великой пролетарской культурной революции»! Все выходите со двора и собирайтесь вместе, попросим разъяснений у работника провинциального военного округа Ли...
Жители нашего двора вышли в переулок и вместе с другими отправились к перекрестку. Люди со всех прилегающих улиц тоже собрались на открытом месте у перекрестка и внимательно выслушали совместное уведомление провинциальных военного округа и революционного комитета, зачитанное работником военного округа Ли. В нем говорилось: 1. «Артналетчики» — это чистейшая контрреволюционная организация. 2. Все, кто участвовал в деятельности организации «Артналетчиков», должны в течение трех дней добровольно явиться с повинной в свои учреждения, организации или уличные комитеты. 3. Главари «Артналетчиков» понесут наказание как чистейшие контрреволюционеры, пойманные с поличным. Разоблачители их будут поощрены. Те, кто задержит кого-то из них и передаст властям, заслуживают большого поощрения. Сочувствие им является преступлением, покровительство и укрывательство — большим преступлением, такие дела рассматриваются так же, как и дела контрреволюционеров, пойманных с поличным...
Оружейная и артиллерийская пальба, известившая о появлении «Новой звезды северо-востока» в городе «Алеет Восток», постепенно стихала.
В ту ночь отряды бойцов общей численностью около 10 тысяч человек атаковали и разгромили базы «Артналетчиков» на Первом Харбинском машиностроительном заводе, в Харбинском педагогическом институте и в других местах. Они были сформированы из отряда неустрашимых «Главного штаба по защите», заводских учеников, пригородных крестьян и бойцов провинциального военного округа. Крестьянам из пригородов Харбина, участвовавшим в разгроме, выдали по 10 юаней на каждого и пообещали выдать еще по 5 юаней позже. Заводских учеников досрочно зачислили в штат. Какие конкретно преимущества и награды получили бойцы отрядов неустрашимых «Главного штаба по защите» и бойцы провинциального военного округа — осталось тайной. То была настоящая война. Были настоящие винтовки, настоящие орудия, настоящие патроны и ручные гранаты. Предварительно была проведена настоящая разведка. Членами постоянного комитета провинциального ревкома, штабистами отдела боевой подготовки провинциального военного округа был разработан подробный план боевых действий.
Первый Харбинский машиностроительный завод в ту ночь был взят штурмом.
Харбинский педагогический институт в ту ночь был взят штурмом.
Все базы и опорные «Артналетчиков» в ту ночь были взяты штурмом.
Были погибшие от пуль у оборонявшихся.
Были погибшие от пуль и у наступавших.
Погибшие из числа наступавших были отнесены к павшим героям, их семьи получили льготы, причитавшиеся семьям погибших героев.
Погибшие из числа оборонявшихся даже своей смертью не искупили совершенных преступлений, их семьи были отнесены к семьям преступников, которые носили название «семьи контрреволюционеров, пойманных с поличным».
Некоторые говорили, что в, ту ночь погибло в общей сложности больше 10 человек. Другие утверждали, что погибло не больше десяти, а несколько десятков. Сколько погибло на самом деле, никто точно не знает. Однако не было сомнений, что потери понесли обе стороны.
В ту ночь «Артналетчики» вывели все броневики и танки в готовности учинить полный разгром, воевать не на жизнь, а на смерть. Через какое-то время несколько вожаков решили объявить о безоговорочной капитуляции.
Объявляя о ней, они заявили: «Мы совершили преступление, позвольте нам, нескольким человекам, взять на себя всю историческую вину за эту вооруженную борьбу! Пусть только суд истории рассудит и осудит одних нас»!
«Артналетчики» вынуждены были, высоко подняв руки, дружно сдаться, над каждым из них навис меч возмездия, не исключая женщин...
Фань Чжэнмэй и Фэн Чжаофэн тайно покинули город «Алеет Восток» и бросились в столицу с повинной, где от имени «Артналетчиков» убедительно просили ЦК по делам культурной революции не применять диктатуру в отношении широких масс «Артналетчиков», сделать им снисхождение.
«Невестка Пань» в тот же день была схвачена и посажена во временную тюрьму. Через несколько дней состоялся общегородской показательный судебный процесс, на котором было объявлено об отсрочке исполнения смертных приговоров за преступления, подпадающие под определение «контрреволюционер, пойманный с поличным».
Говорили, что во время показательного судебного процесса «Невестка Пань» держалась достойно, не была высокомерна, и в то же время не низкопоклонничала, все предъявляемые обвинения признавала, не выкручивалась. Как и прежде, она превосходно подискутировала, пополемизировала. После объявления приговора с большим подъемом пыталась выступить в защиту широких масс «Артналетчиков», но сказала всего несколько слов и ее увели...
Провинциальная и городская радиостанции передали записанные на пленку на месте событий сообщения о большой победе — разгроме банды «Артналетчиков» и о показательном судебном процессе и вынесенных на нем приговорах. Провинциальные и городские газеты опубликовали важные передовые статьи и уведомление о взятии на учет бывших «Артналетчиков» и их тщательной проверке.
Наш радиоприемник старший брат сдал в скупочный магазин и из-за отсутствия денег он еще не был выкуплен. Поэтому я слушал радио у дяди Цзяна. Не дослушав до конца, я убежал домой, бросился на кан и, обхватив руками голову, горько заплакал.
Меня, естественно, не подвергали тщательной проверке. Я, восемнадцатилетний парень, понимал, что мне повезло, и в то же время было стыдно. Если бы я вместе с множеством других «Артналетчиков» был осужден на показательном процессе, возможно мое сердечное страдание было бы несколько слабее.
Но если бы такое случилось, то мать могла этого не вынести и сойти с ума.
Героизм и трагикомизм, на что меня так страстно тянуло, отныне был похоронен в глубине моего сердца.
Тогда я плакал долго-долго.
Я один раз тайком от матери побывал на Первом машиностроительном заводе, побывал, чтобы отдать дань уважения героизму и трагикомическому духу, свойственным моей натуре, и к чему меня так сильно тянуло.
Получилось так, что ни одной идеи, ни одной духовной цели, к осуществлению которых стремился не достиг.
Все окна в зданиях Первого машиностроительного завода были разбиты. Кругом валялись осколки стекла, разбитого пулями. Какие-то дети собирали пули. Рассказывали, что в первый день, кое-кому из них удавалось насобирать по полному ведру пуль и от их продажи заработать несколько десятков юаней.
На всех стенах зданий были выбоины. В одном цехе я сосчитал их, набралось больше сорока!
* * *
Сейчас все это ушло в прошлое, стало историей. То, что оно ушло в прошлое, сомнений не вызывает. Но стало ли оно историей на самом деле? На какую страницу истории все это записать? Ни на какую страницу не хочет вписываться. Однако «великая культурная революция» доподлинно вошла в анналы истории. Может быть из-за того, что она была развернута все-таки великим человеком? Если она не сможет излучать яркий свет, то не сможет тысячи лет предостерегать современников. Однако надеюсь, что моя «исповедь», возможно, станет дополнением к истории, станет выражением соболезнования тем, кто сложил свои «головы во время «великой культурной революции», а также послужит некоторым «назиданием» для многих миллионов простых китайцев...
Пань Фушэн уже умер. Какие по нему были сделаны выводы, я не знаю.
А где Фань Чжэнмэй?
Где теперь Фэн Чжаофэн?
Где «Невестка Пань»?
Если они уже вышли из наших временных пролетарских тюрем, если их не приговорили к пожизненному заключению за деяния в годы «великой культурной революции», если они приобрели свободу слова, то я желаю им хороших жен или мужей, каждому теплого семейного очага, истинно нормальной спокойной жизни...
Все десятилетние бедствия эпохи героев ушли в прошлое.
Всем нам теперь уже за сорок.
Конфуций говорил: 40 лет — возраст зрелый.
«В истории было много выдающихся личностей, но самые выдающиеся те, которые живут сегодня».
* * *
Когда на моей голове бесенка отросли волосы, уже пришло тепло; меня охватило ощущение опустошенности, полного крушения всего, к чему стремился и чего не смог осуществить, и я за 15 юаней в месяц пошел мести улицы...
А в следующем году меня отправили в деревню...[63]
Пекин 25.02.1987 г.Примечания
1
Кан — отапливаемая лежанка, сделанная из кирпича или глины.
(обратно)2
Лу Эр Е — имеет значение «Второй господин Лу».
(обратно)3
Лу Эр Люй — переводится на русский язык как Лу Второй осел, т.е. ишак.
(обратно)4
«Какая еще звезда?» — последний иероглиф в названии Унаньсин (звучит син) имеет значение «звезда». Вероятно мать автора не расслышала первую часть слова, а лишь его концовку, поэтому задала такой неожиданный вопрос.
(обратно)5
Чи — мера длины, равная ⅓ метра.
(обратно)6
Дацзыбао — газета, написанная большими иероглифами на бумаге, фанере, на стенах, заборах и т. п.
(обратно)7
Цзяо (мао) — денежная единица, равная 10 фыням или [1]⁄10 юаня.
(обратно)8
Изменяющая судьбу — слово революция состоит из двух иероглифов. Один имеет значение «изменять», второй — «судьба, жизнь». Здесь игра слов.
(обратно)9
...враги без оружия — известная выдержка из произведений Мао.
(обратно)10
Сяоэр — второй сын.
(обратно)11
Почерк кайшу — нормативный почерк, образцовое письмо.
(обратно)12
Пятая категория — рабочий класс.
(обратно)13
Шао Гэньсян — прозвище Шао Гэньсян имеет смысл «человек со слабо натянутыми струнами в голове», иначе говоря недотепа.
(обратно)14
Иероглиф «дао» (повалиться, опрокинуться) вместе с иероглифом «убить» образуют слово «разгромить».
(обратно)15
«Путешествие на запад» — фантастический роман китайского писателя У Чэнэня (1500–1582 гг.), одно из ряда классических произведений периода Минской династии, к которым не утрачен интерес китайцев и в настоящее время. Сунь Дашэн — герой этой книги.
(обратно)16
«Речные заводи» — популярный древний роман.
(обратно)17
«Игуаньдао» — реакционная религиозная буддийско-даосская секта. 28.08.1946 г, организовала мятеж в г. Харбине.
(обратно)18
Тигровая скамья — орудие пытки
(обратно)19
Четыре старых — старая культура, старые обычаи, старые привычки, старые верования.
(обратно)20
Китайское ли — или китайская верста, мера длины, равная 0,5 км.
(обратно)21
Стиль лишу — стиль делового письма.
(обратно)22
Чжан — мера длины, равная 3,33 метра.
(обратно)23
Чи равно ⅓ метра.
(обратно)24
«Союз 8.8» — название получил по времени создания 8 августа (1966г.)
(обратно)25
Бабушка Лю — персонаж романа писателя Цао Сюэциня «Сон в красном тереме».
(обратно)26
Лу Цзячуань, Линь Даоцзин — персонажи из романа «Песнь о молодости», выведенные, как заматерелые бюрократы.
(обратно)27
Хань Синь — человек, который ради достижения цели согласился пролезть между расставленными ногами другого человека.
(обратно)28
Байхуа — простонародный язык.
(обратно)29
Вэньянь — древний языковый стиль.
(обратно)30
«Цзинь, Пин, Мэй» — роман 16 века, автор Ван Шичжэнь (1526–1593 гг.)
(обратно)31
Чжан Готао — после образования компартии Китая входил в состав ЦК, был секретарем ЦК, за серьезные ошибки и отступления от линии партии исключен.
(обратно)32
«Четыре старых» — старая идеология, старая культура, старые нравы, старые обычаи.
(обратно)33
Красные книжицы — цитатники Мао.
(обратно)34
Ханьцы (хань) — основная нация КНР (около 94% всего населения страны). Термин «китайцы» применяется ко всем народам КНР.
(обратно)35
Водка «Маотай» — известная в Китае водка, которая готовится особым способом и много лет выдерживается в погребах.
(обратно)36
Рота — здесь имеется в виду сельскохозяйственная рота. Такие роты были созданы на селе для трудового перевоспитания в них интеллигенции, руководящих работников и других. В них же потом направляли хунвэйбинов.
(обратно)37
НОАК — Народно-освободительная армия Китая.
(обратно)38
Драгоценные книжки — цитатники Мао. Небольшие книжки в красной обложке.
(обратно)39
«Жэньминь хуабао» — иллюстрированный журнал, издающийся в КНР.
(обратно)40
Три принципа дисциплины — эти принципы существовали в 8 Народной армии в отношении населения, командира и несения службы. Восемь правил поведения — правила, применявшиеся в НОАК.
(обратно)41
«Старушка с пистолетами в обеих руках», «девушка Хуан Ин», «вторая сестра Сунь», «старшая сестра Гу» — персонажи китайских книг.
(обратно)42
16 тезисов — 11 пленум ЦК КПК в августе 1966 года принял решение о «великой культурной революции», известное также как 16 тезисов.
(обратно)43
Дедушка Сунь Цзинсю — известный китайский детский писатель.
(обратно)44
Не посмотрев на дерево утун, не увидишь феникса — согласно мифологии, феникс жил на дереве утун (бот. фирмиана платанолистная).
(обратно)45
«Водная темница» — тюрьма-подземелье под водой.
(обратно)46
«Дин тянь ли ди» — дословно: головой подпирать небо, ногами стоять на земле, что образно означает: великий и могучий.
(обратно)47
Бугэн —почетный титул за заслуги в династии Цинь (221–207 г.г. до н.э.)
(обратно)48
Цунь — мера длины, равная 3,2 см.
(обратно)49
Сюцай — студент, (талантливый) ученый, (начитанный) человек; интеллигент, начетчик.
(обратно)50
Лян — мера веса, равная 50 граммам.
(обратно)51
Сиань — один из древнейших городов Китая (основан в 12 веке до н.э.). До 770 года до н.э. являлся столицей Китая, сейчас — административный. центр провинции Шэньси.
(обратно)52
Чжан Сань, Ли Сы — Чжан третий и Ли четвертый — это образное выражение, здесь намек на вымышленные имена.
(обратно)53
«Не разрушишь — не создашь» — слова Мао Цзэдуна.
(обратно)54
Покушал? — форма приветствия, употребляется вместо слова «здравствуйте».
(обратно)55
Цзинь — мера веса, равная 0,5 килограмма.
(обратно)56
Лао Эр — второй из братьев.
(обратно)57
...которые в данный момент не понимаем — имеется в виду статья в газете «Цзефанцзюнь бао», которая призывала без рассуждений выполнять все указания Мао, как те, которые понимаем, так и те, которые в данный момент не понимаем.
(обратно)58
Три силы — под тремя силами во время «культурной революции» в Китае подразумевались части НОА, революционные кадровые работники, хунвэйбины.
(обратно)59
Невестка Ацин — персонаж классической Пекинской оперы, допущенной для показа на сцене во время «культурной революции».
(обратно)60
Цзяо — денежная единица, равная 0,1 юаня или 10 фэням.
(обратно)61
Иероглиф «большой, великий» имеет форму, напоминающую туловище человека с широко расставленными ногами и раскинутыми в стороны руками.
(обратно)62
Лаосань — третий сын (по возрасту, начиная со старшего)
(обратно)63
Меня отправили в деревню... — в 1968 году миллионы хунвэйбинов были высланы в глухие сельские районы на трудовое перевоспитание.
(обратно)




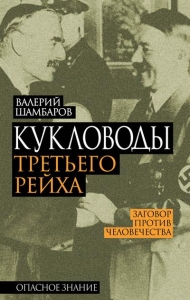

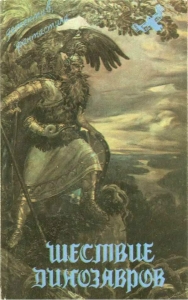
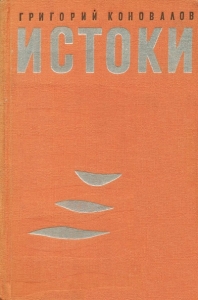
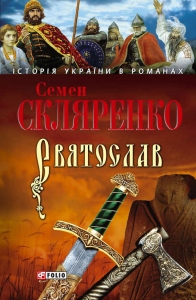

Комментарии к книге «Исповедь бывшего хунвэйбина», Лян Сяошэн
Всего 0 комментариев