Николай Зарубин Духов день
Знак информационной продукции 12+
© Зарубин Н.К., 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Сайт издательства
Мокрый луг
Надюшкина наука
Лёгкая, после ещё совсем недавно закончившейся осенней пастьбы, дремала Майка в своём загоне, медленно, будто смакуя, перекатывая языком пахнущую луговым сеном жвачку. Сухого сена бросила в ясли хозяйка Катерина – ровно столько, чтобы не чувствовать голода и дожиться до следующей порции. А там и с подойником явится, поднеся к Майкиным мокрым губам краюшку хлебца, чтобы та могла поначалу втянуть ноздрями этой хлебной сладости, потом уж дать втолкнуть себе в рот. Так происходит в её жизни который год, и который год слизывает она с хозяйкиной руки оставшиеся после краюшки малые крохи, вполне довольствуясь тем, что есть, и ничего более для себя не требуя. Потом хорошо чувствовать, как облегчается плоть от вызревшего внутри теплого молока, от сильных и умелых прикосновений рук Катерины, от сознания, что ты, корова Майка, часть этой семьи людей, в которую приняли тебя как родную лет восемь – нет, лет десять назад.
Майка дремлет на ногах, и ложиться ей не хочется. Да и с чего было пристать? С осенней жидкой травы ни веса, ни молока не нагуляешь – сберечь бы то, что скапливается в полупустом, мотающемся промеж ног вымени. Потому весь долгий, проведённый в стаде день грезилось корове ведро тёплой, сдобренной картофельными очистками водицы, за которым и чего другого перепадало: ботвы свекольной, листа капустного, навильник сухого сенца.
Правда, в потайных кладовых её большого чрева, где-то подле самого сердца, уже вызревает, отягчая плоть, нечто, чему она пока не придаёт значения, но что со временем прибавит усталости, и надо будет чаще ложиться отдыхать. Это нечто станет её главной заботой, а потом и болью – пронзительно-нестерпимой и сладостной одновременно.
Телков Майка приносит каждый год – лобастых, настырных, норовящих дотянуться до сосков, но приходят хозяева и телка уносят, чтобы вернуть в стайку через несколько дней. Однако к матери его уже не пускают почитай до самой весны. А когда сходит с земли снег и яркое солнце начинает надоедать своими чересчур теплыми прикосновениями, однажды утром открывают калитку загона, и это означает только одно – можно идти на волю, к таким же, как и она, коровам.
Выгоняют и телка, следом за ним идёт, пощёлкивая бичиком, хозяйский сынишка – этот приставлен доглядывать, пока глупый ещё Майкин детёныш не попривыкнет ходить в стаде.
Время это особенно любо корове: разминая застоявшуюся кровь в ногах, передвигается Майка не спеша, с достоинством, но так, чтобы не отставать от себе подобных, иначе бока испробуют длинного пастухова бича. Нехитрая наука сия усвоена ею давно – с молодых лет. Да и обличье коровы – красное, с белыми пятнами – слишком приметно среди в подавляющем большинстве чёрно-пёстрых сородичей.
Молодость свою Майка почти не вспоминает – голодная и холодная была та молодость.
Народилась она от матери доброй, удойной, а вот хозяевам они достались никудышным. Бросят в ясли какой-никакой клок сена и – кормись целый день. Бывало, что и не бросят, потому как нечего бросать-то.
В ту памятную зиму и вовсе поставили на бескормицу – Майка как раз затяжелела вторым по счёту телком. Тряслись от голода ноги, промеж которых тряпицей висло пустое вымя.
И однажды, когда уже пропало невыразимо гнетущее чувство голода, а тощий живот, казалось, навсегда присох к костям позвоночника, явились две чужие женщины – старая и молодая. Старая молодую называла Катериной, молодая старую – теткой Надюшкой. Молодая стояла в сторонке, а старая оглядывала, ощупывала обеих коров – мать и дочь. Майка поняла, что одну из них эти женщины собираются увести. И, собрав силы, она негромко и жалобно взмыкнула, будто хотела сказать, даже, может быть, крикнуть: «Заберите меня отсюда поскорее! Нет мочи терпеть бескормицу!»
– Катерина, – обратилась старая к молодой. – Берём красную. Ежели откормишь как надобно, то добрая будет тебе ведёрница, и тётку свою не раз помянешь добрым словом.
Тогда в своей короткой коровьей жизни она ещё ничего не знала о жизни людей. Не знала, что женщин к её прежним хозяевам привели две вещи – случай и нужда. У Катерины с мужем Капитоном и свекровью, бабкой Настасьей, были и корова, и вдосталь заготовленные на зиму корма. Но сломала ногу коровёнка, и пришлось забить её на мясо. Деньги за него выручили небольшие, а других в семье не водилось.
Совсем остаться без кормилицы означало перебиваться с хлеба на воду. И все бы ничего, да в семье помимо взрослых пара малых ребятишек – доченька и сыночек. Как с ними-то быть?
По деньгам смотреть – сытую да удойную корову не купить, а такую вот отощавшую – в самый раз. И набросили верёвку на рога, и повели дорогой длинной, улицей широкой, мимо народа любопытного, на слова скорого, слова беспощадные.
Еле-еле тащились женщины со своей покупкой до места, где проживала молодая. А люди оглядывали Майку, щерились, одни провожали взглядами молча, другие отпускали шутки:
– И де вы таку собачонку отыскали?.. Гляди, верёвку порвёт да к помойкам убежит жир нагуливать…
Катерина отворачивала залитое краской лицо, тётка Надюшка материлась:
– Вот гады, таки-сяки, не мы ж с тобой, Катька, до такого срама довели коровёнку…
Посреди пути не выдержала, вырвала силой конец верёвки из рук племянницы и пошла передом, наказав той идти по другой стороне улицы, будто сама по себе.
– Иди, будто не знашь меня. С меня ж, старой, как с гуся вода. Пускай щерятся…
При своём небольшом росточке и столь же маленьком, собранном, будто в кулачок, личике тетка и впрямь могла дать отпор любому. Оторопь брала всякого, на кого взглядывала Надюшка своими не по росточку большими пронзительно-чёрными глазами, а уж ежели открывала рот – старались поскорее повернуться к ней спиной и уйти от греха подальше. И здесь всё дело было в голосе – низком и необычайно звучном, никоим образом не подходящем к тёткиной неказистой на вид женской конституции. Оттого, наверное, и считалась она колдовкой, могущей навести порчу на всякого, кто встал по какой-либо причине у нее поперёк дороги. И на людях Надюшка появлялась чаще в паре со своей горбатой от рождения дочерью Раисой, в просторечьи Горбушкой, имеющей напротив материного голос тихий, с легкой хрипотцой, манеры обращения с людьми мягкие, даже вкрадчивые. Любила Надюшка выпить, но не допьяна. В такие минуты голос её обретал певучесть, доходящую до неприятной слуху приторной слащавости.
Но если сторонние люди могли только предполагать в ней способности к колдовству, то близкие о том ведали наверняка. Потому и было в родне её издавна заведено так, что никакая большая покупка, никакое большое дело не затевалось без участия в том Черепанихи, как промеж собой называли Надюшку за глаза родственники. Дело же затевалось непременно через особое приглашение – прийти, обговорить, обсоветоваться, а уж потом и принять решение.
Для случая такого накрывался стол, на который загодя выставлялась зеленоватого цвета поллитровка, появление старухи окружалось особыми знаками внимания.
По своему значению корова для семьи могла сравняться только с крышей над головой. Крыша – это кров, тепло очага, обустройство быта, место, где обитает семья. Корова – это то, что определяет продовольственный достаток семьи. С молока и производных от него продуктов и сами хозяева розовощёки, и детки их растут как на дрожжах, и поросёнку какому можно плеснуть простоквашки или обрата, получив в итоге увесистого, полнотелого кабанчика, у коего сало – в ладонь. При корове в хозяйстве, как сказывали в старину, и коты ленивы, и псы спесивы. При доброй же – тем паче: от такой-то на время запуска хозяйка и молочка наморозит, и маслица собьёт, и творожников налепит. А растелится, дак пир на весь мир. Водой льётся молоко в дому, не перестаёт гудеть сепаратор от частых перегонов.
Издавна в крестьянстве первостепенное значение придавалось искусству правильного выбора коровы при покупке. Трудно было не ошибиться, даже если перед тобой корова после третьего, пятого отёла, но еще трудней, если молодая или вовсе нетель.
Бывало даже, покупал сосед у соседа корову, которую хорошо знал не один год, приводил во двор, задавал корму как положено, являлась хозяйка с подойником, а молочка-то и нет. Приглашали прежнюю хозяйку, и та ничего не надаивала. Побьются-побьются и сведут на базар, где сбудут с рук долой за бесценок.
В чём тут дело? Ломал голову крестьянин, приглядывался и примечал неладное: на деревне ли, на селе непременно проживала своя «черепаниха». Если на момент сговора крутилась тут же или просто пробегала мимо усадьбы – отказывайся от сделки, выжди время, не торопись приобретать животину. Про иных даже передавали такое. Предположим, телится у кого-то коровёнка в стайке, а колдовке будто стук в дверь. И голос: «Мол, у такой-то во дворе корова телится, не припоздай…» Встаёт тогда такая-то «черепаниха» и торопится к избёнке, где ожидают приплода. Успеет ежели, то и телёнок потом квёл, и молока нет вволю, и не в корову корм.
Передавали и другое. Проживало будто на деревне, на селе ли сразу две таких-то «черепанихи». И стук в дверь был обеим, и голос слышался также обеим. Встают обе с постелей, торопятся к месту, и ежели наперёд успевает та, что с худыми намерениями, то корову со двора можно сводить хоть завтра, хоть немножко погодя. Но ежели опережала другая, то любые наговоры и наслания колдовские уже не имеют ни малейшей силы, а хозяева получали и приплод добрый, и молока вволю, и корм животина поедала с удовольствием и пользой.
Но самое лучшее было ублажить такую-то. Дать чего с уважительностью, пригласить ли в дом попотчевать. В то время, о котором идёт речь в нашем повествовании, ещё придавали значение подобным тонкостям, а в доме Катерины право первого голоса безоговорочно было отдано Настасье – свекрови, от неё и услышала сноха однажды поутру следующее:
– Ты бы сходила к тётке своей Надюшке, пригласила к нам в дом для совету: може, она и подможет нам с покупкой коровёнки-то, а, Катерина? Сбегай, милая, уважь тётку-то. Сказывали мне, будто знат она толк-то в подобном дели. Ты ж понимашь, нельзя нам ошибку допустить, нет у нас в дому лишних деньжонок-то…
Задала задачу невестке, а сама, едва прибравшись, побежала в Никольскую церковь, где долго стояла на коленках, просила Господа не обойти милостями своими семью её сына Капитона. Затем снова молилась, но уже пред иконками покровителей коров – святого Власия и Патриарха Иерусалимского Модеста.
К вечеру в доме был собран стол. Явились и Черепаниха с Раисой. Сидели, вели беседу. Черепаниха соловело напевала бабке:
– Я, сватьюшка, от мамыньки своей покойной усвоила эту науку. Умная была женщина, с норовом и своим порядком в душе. А та – от бабки своей, Милентьевны. Потом и сама кумекала-примечала. Будет вам с Катькой ведёрница. Не обижу я племянницу, одна она у меня здесь из сродственников-то…
У печки свою беседу вели две сродные сестрицы – Катерина с Горбушкой.
– Я, Катя, чего таскаюсь-то с маманей. Без тормозов она, знашь. Не успешь оглянуться, а её уже утащили – и рюмку в руки. И – запьянела. И – понесло её. Выступат тогда, мелет всяку ересь. Наутро мается с похмелья, меня гонит то за рассолом капустным, то бражки просит на опохмелку. А дом – стой. И всё на мне, всё на мне. Устала я от такой жизни.
– Да она ж вроде и немного выпиват-то, – возражала Катерина. – Не видела я её пьяной.
– Не видела и не увидишь. Не валятся она и не шататся. Только здоровья уж нет у мамани. Не дай бог, помрёт – чё я-то делать без неё буду?..
На другой день, пока племянница с тёткой ходили по указанному людьми адресу смотреть корову, маялась Настасья мукой нестерпимой, обо всём передумала, всё перебрала в памяти. И к окошку сунется, и за ворота выйдет, и делать чего почнёт, да не идёт в руки работа. И села на стульчик у печки, прижав спину к прогретым кирпичам.
Но вот вроде стукнула щеколда калитки, вот вроде говор послышался бабке, и встрепенулась, вскочила с табуретки, дёрнулась к окошку и – верно: растворяет невестка калитку, а в ней и Надюшка с концом веревки в руках. Накинула на плечи фуфайчонку, сунула ноги в обутки – и в двери, а там, в сенцах, и соль, приготовленная заранее, и пояс ременной, и водица, освященная в Никольской церкви.
Корова была уже во дворе, как раз напротив крылечка, с которого и ступила Настасья навстречу желанному. И, боже ж ты мой, обомлела-обмерла, только глянув на покупку: доходяга! Завыть восхотелось, мол, и де ж вы такую отыскали доходягу-то… И какого ж молочка ожидать от такой коровёнки-то…
Всплеснула руками, отпрянула назад к крылечку.
– Будет тебе, сватья! – опередила бабкины причитания Надюшка. – Откормите, обиходите – и молочка обопьётесь. Будет вам ведёрница – попомните тада тётку Черепаниху.
И будто сняла тяжесть с бабкиного сердца – вот уж, видно, не зря «колдовкой» обзывают Надюшку. Стерпела, не сказав ни слова, обделала всё, что положено в подобных случаях, когда обзаводятся люди коровой. Проводила в стайку, бросила в ясли клок сена, вернулась в дом за ведёрком с тёплой водицей, какую пришлось зачерпывать чашкой с отогнутыми краями и подносить к губам животины, чтобы отпила хоть сколько-нибудь. И так весь денёчек ныряла к коровёнке, оглаживала за шею, за отощавшие бока, шептала что-то, понуждая к кормёжке.
Помаленьку-потихоньку Майка стала тянуться и к сенцу, и к ведёрку с водицей. Прибежит Катерина с работы и первое, о чём слетит с языка, так это о Майке: как там наша коровёнка? И свекровь докладывает, мол, выправляется коровёнка-то, веселей глядит против прежнего.
И пошла Катерина с подойником к Майке. С превеликими сомнениями ожидала невестку Настасья, с неутешными мыслями в голове: «Что ж это будет?»
И – первые тонюсенькие струйки голубовато-белого молочка брызнули на донышко ведёрка. И ещё брызнули. И погодя чуток омыли закруглённые бока посудины.
Вернулась в дом, бережно притворив за собой двери, молча подала ведёрко Настасье.
– Ну, Катерина, – произнесла та, глянув. – И впрямь будет у нас ведёрница. И никакая она не доходяга, а заморенная нерадивыми хозяевами животинка.
И опустилась у стола на лавку, закрыв ладошками сморщенное своё лицо. Рядом присела невестушка, обняла свекровь за плечи, и поплакали они вдосталь слезами светлыми и сладкими. За все лишения, что оставлены позади, за все горести, что ещё предстоят. И будто очистились-облегчились, как очищаются и облегчаются дождиком перегруженные хмарными тучами небеса.
Капкина школа
С первого того гранёного стакана молока и стала Майка входить в свою коровью силу. На глазах пухло в размерах вымя, все звончее и сильнее ударялись струи молока о внутренности подойника. И вот уж спрятались под красной шкурой рёбра, выровнялась спина, прояснели Майкины глаза.
Повеселели и хозяева. С непокрытого клеёнкой, скобленного ножом стола в прихожей не сходило молоко. На жестяном листе в сенцах стыли сладкие творожники, там же на полочке стояла банка-другая густой сметаны.
Молодые хозяева и их детки пили молочка вволю. Старая Настасья заваривала крутой кирпичный чай в своей эмалированной кружке, в него добавляла когда молочка, когда сметанки, а когда и маслица. К чалдонскому[1] питью этому приучена была с юности ещё в доме родителей своих – Степана Фёдоровича и Натальи Прокопьевны, проживавших в селе Афанасьеве, где и упокоили они свои косточки на недальнем сельском погосте.
Чаще, чем обычно, сидела теперь Настасья на излюбленном месте у печки, глядя по своему обыкновению куда-то вперёд и улыбаясь каким-то своим пробегающим в голове мыслям. Тихо и светло было на душе у бабки: малого просила она для себя, но многого желала своим единокровным домочадцам.
Избёнку имели они небольшую, старую, но тёплую. Внутри – две самоделошные кровати: на одной спят Капитон с Катериной, на другой – она с внучкой. Малец пока болтается в подвешенной к потолку зыбке. Ещё – стол: крепкий, сработанный хозяином на совесть. И – тяжелющий, о чем лучше других в семье известно Катерине, так как ей приходится заниматься побелкой, а достать до потолков можно только с этого стола. Ну и лавки в количестве двух штук – их также между делом изготовил Капитон.
Печь похожа на сторожевую башню – огромная, занимающая четверть жилой половины и сложенная добрым печником на многие года вперед. Печь, понятно, русская, откуда всякую субботу бабка Настасья вынимает то какие-нибудь попекушки, то какие-нибудь ватрушки или калачики. Бывает, что и дюралевый чугунок, в котором томятся парёнки из брюквы – изделие сладкое, ведомое каждому уважающему себя крестьянину. А Настасья и есть крестьянка: крестьянского роду-племени, крестьянствовавшая в небольшом сельце, что недалеко от городка под названием Тулун, в котором нынче и проживает своей семьей при сыне Капке, невестке Катерине и внучатах.
Капка же её – глухонемой. Сызмальства без языка и слуха. Она со старшими, Петькой и Клашкой, в поле хлесталась, а Капка был один, брошенный в дому. Выполз на крылечко – и прохватило сентябрьским ветром. Думала, помрёт, как перемёрла до него четверня малолеток, но он выжил, и кто ж знает, на беду ли ей, матери, на беду ли собственную.
Когда уже начал входить в года, подсказали Настасье люди, что в далёком Иркутске есть для таковских-то школа и там будто бы грамоте учат, к ремеслу подвигают. Запали те слова в душу женщине, и повезла она Капку по железке в Иркутск, где сошли на вокзале, чтобы пойти туда, не знамо куда, искать то, не знамо что. Трое суток маялись, пока не указали люди адресок и не предстала крестьянская матерь со своим чадом пред очи директора той чудной школы. А представ, упросила того человека взять на обучение её сыночка. И шесть годков минуло. И получил её Капка специальность фрезеровщика при заводе Куйбышева. И приехал домой в Тулун, где Капитонова специальность оказалась в большой чести.
Но что лучше всего, что полезней и благостней – проявились в сыне Настасьином черты специалиста вдумчивого, дотошного, трудящегося много и с удовольствием. И это было отмечено начальством, уважено другими мастерами, разнесено языками по другим производствам. Стал Капитон перед большими советскими праздниками в порядке премии приносить в дом то отрез какой-никакой материи, то мешок какой-никакой крупицы, то ещё чего. А однажды принёс в дом и поставил на стол лампу-восьмилинейку – с таким видом поставил, что сомлело сердечко Настасьино, и впервые, может быть, обозначилась в голове мыслишка: не за даром, знать, помучалась она с ним, помаялась. Не ушли её слёзыньки материнские в песок зыбучий. И пала на коленки пред иконкой Святителя Иннокентия, забормотала молитвы, вкрапляя в них передуманное за многие годы и всё одно неслышимое сидящим теперь у стола сыном.
Видела, понимала, маялся Капка, как только оказывался без дела. Покудова были заняты руки, голова, покудова двигался, то ещё ничего себе. Но как только присаживался или приостанавливался, темнел лицом, призадумывался и нет-нет да вырывалось бессвязное, составленное из тех слов, что усвоил, затвердил, повторяя многожды в своих попытках прорвать темноту ненавистной немоты. Слова произносил на свой лад, коверкая, переставляя ударения, путая склонения, обрывая окончания.
– Плёхо… Не слишю… – твердил. – Галява – у-у-у-у…
И крутил пальцем у высокого лба, что означало, видимо, какое-то особое состояние его мыслей, кои вращаются вкруг одной, заглавной, и эта заглавная пожирает все другие, не давая покоя голове, душе, телу.
Надо сказать, что сын помаленьку вырывался из своей немоты. Слов произносил всё больше и больше и многие так, как они и произносятся всеми нормальными людьми. Складывались предложения, даже законченные картины – короткие по количеству слов, но необычайно точные в описании предмета, событий, состояния душевного. Произносимые слова как бы закреплял маханием рук, мимикой лица, издаваемыми звуками, как это делают все глухонемые: раздувал щеки, выпучивал глаза, пыхтел, стремясь таким вот манером передать и чувства собственные, и движение, например, паровоза, и форму предметов, и состояние погоды. Ежели на душе у Капитона было хорошо, то гладил ладошкой по своей груди, сообщая выражению глаз предельную умильность. При изображении паровоза энергично двигал поочередно руками и пыхтел; сообщая о чем-то большом, разводил руки, будто собираясь кого-то обнять, округлял глаза и вытягивал вперёд губы; о ветре на улице также сообщал по-своему, раздувал щеки и прищуривал глаза, будто выдавливая скопившийся в груди воздух.
Сравнивала Настасья сына с другими глухонемыми, которых нередко приводил в дом, и примечала: обращаются они к нему, вроде как ребятня к человеку взрослому – уважительно, глядя снизу вверх. А мужики приходили в годах, покрупнее фигурой, основательные в поведении. Примечала и дивилась: «Отчего бы такое?»
И соображала – учёностью берёт её Капка. До войны, в войну и после неё далеко не каждый заканчивал шесть классов и обычной-то школы, а глухонемые и вовсе расписывались крестиком. У Капитона к тому же за плечами было ФЗУ, а это уже почиталось образованием серьёзным, и в среде рабочих мало кто имел такое-то.
Опять же глухонемые перенимали язык свой друг от дружки, а иных и вовсе было не понять – бестолковое махание и мычание. Капка же своему языку обучался в специальной школе: в коробочке с документами хранилась карточка с азбукой, где изображалась рука, обозначающая разные буквы, из которых потом можно было сложить слова, какие-то названия, имена людей.
Накроет мать на стол, сядут вкруг него немтыри – и ну махать. Помашет-помашет один – и загогочут-затрясутся смехом сдавленным, каким-то вовсе невесёлым, потому как и посмеяться-то не умеют по-людски. Одно слово – безголосые немтыри. И вот уже другой замахал – и снова сдавленное мычание. А то вдруг заспорят, насупятся-набычатся и, кажется, вот-вот в драку полезут.
Всё у них не так и не эдак.
Глядит на них Настасья, глядит, и скатится слеза по щеке: так больно сожмётся сердечко в груди, так муторно станет на душе, что отдала бы, верно, и жизнь саму, чтобы не знать, не видеть сынка единокровного таким вот, Богом ушибленным.
Шесть дён ведь было Капке от роду, когда убили отца его, Семёна Петровича, в Тулунской тюрьме. Знакомый железнодорожник Иван Транькин принёс ту весть о смерти мужа. Как сейчас помнит Настасья пересказ о кончине Семёновой, каждое словечко запало-залегло в самую серёдку памяти. Взошёл в избу с заранее, ещё за порогом, снятой шапкой в руке. Остановился, переминаясь с ноги на ногу и хмуро глядя перед собой.
– Ну, говори, чего молчишь-то? – выкрикнула обомлевшая и опавшая телом несчастная женщина.
– Я вот чего, Настасья Степановна, – молвил хриплым голосом мужик. – Вот чего я-то сказать зашёл… Твой-то Семён Петрович помер сегодня в тюремной больнице в двенадцать часов ночи от побоев. Сильно били его колчаковцы цепями, все, видно, косточки измолотили. Кричал, сказывают, шибко перед кончиной-то…
Несколькими днями позже тот же Иван Транькин рассказал ей, что Семёна и ещё двоих мужиков охранники тюрьмы сбросили в яму вниз головами и, прежде чем зарыть, залили известью. Произошло это подле ограды старого Тулунского кладбища. А ещё позже показал и место захоронения. А уж откуда он про всё это прознал – не спрашивала.
О каком тут здоровье народившегося дитёнка и сказать-то можно после всей маяты её, после всех хождений и метаний вкруг тюремного высокого заплота в поисках хоть какой-нибудь щелки, хоть какого-нибудь знака, поданного с той, запретной, зазаплотной стороны, от муженька разлюбезного, Богом данного, но, как видно, бесталанного и потому без времени сгинувшего не своей – насильственной лютой смертушкой? Может, и не ветер сентябрьский виноват в немтырности Капкиной, ведь по малости дитёнка она и не успела услыхать от него ни единого словечка?
Иной раз потопчется по избе старая Настасья, потопчется и сядет на своё излюбленное место у печки. Сядет и призадумкается. И всколыхнётся-взбунтуется внутри её прошлое, которое не забыть, не отвести рукой, будто прядь давно поседевших, выбившихся из-под косынки волос.
Тосковала мать по находящемуся в чужой стороне сыну. Точила неотвязная мысль о том, что, может быть, и не надо было определять Капку в ту чудную школу в Иркутске. Терзала себя словами беспощадными, кляла за суровость и поспешность своего решения. С нетерпеливостью и мукой душевной ожидала окончания осенних страдных дел, чтобы по первому снежку протопать от Афанасьева до железнодорожного вокзала десяток верст, сесть в поезд и помчаться под его парами навстречу сыну.
А перед тем были сборы. Выменивала у кого из односельчан позажиточней добрый кусок сальца, прикладывала посвежее яичек, в погребке ожидала своего часа брусничка в глиняной посудине, в такой же – маслице сбитое, отдающее луговым разнотравьем. В самый канун поездки затевала большую стряпню, на которую была мастерица. Увязывала затем собранное в мешковину, прилаживала к ней лямки и выносила в сенцы до дня следующего. Ворочалась ночь без сна на родительской перине, что выделена была тятей и мамой в приданое, поднималась с постели засветло, растапливала печь, заваривала чай. А там садилась у небольшого окошечка, подперев ладошкой щеку, глядела в него невидящими глазами, грезила.
Не бывает большего счастья для женщины, чем выношенный под сердцем дитёнок. Чем первый его послеутробный крик. Чем первое произнесённое им слово. Чем первая его попытка подмочь родительнице.
Но и не бывает, наверное, большей беды для женщины, чем первое обнаружение матерью непоправимой калеченности этого дитёнка. Смириться с подобным, сжиться и свыкнуться она не может уже до конца своих дней. Потому и вся последующая жизнь таких матерей при таком-то дитёнке, где безоговорочно принимает она на себя роль восполнения собой недостающего, недоданного природой ли, Создателем ли. И уже ничем не сбить ее с избранного пути: даже ежели принимает единожды какое-то поворотное решение, то исключительно во благо обойдённого Богом чада.
Вот и Настасья приняла такое решение, изматывая себя все шесть годков: а так ли надобно было поступить?
Капитон за эти шесть лет обратился в ладного парня. Бежит, бывало, по длинному крашеному коридору, улыбается во весь рот, запыхается, растопырит руки – и падает в объятия материны. Потом сядут они на лавку к большому окошку, гладит её щеки ладошками, трогает волосы, прижимается, выдавливает из себя отдельные слова, будто производит тяжёлую работу.
Привозит Настасья деньжонок, чтобы прикупить сыну какую-нибудь рубашонку, катанки новые – отпихивает Капитон обновы, маячит, мол, есть у него всё это, не надо, мол, мама…
И этому радуется мать: знать, понимает, как трудно ей приходится одной. Как изработалась, износилась, извелась в разлуке.
Однажды – на пятом ли, на шестом ли году пребывания Капитонова в той чудной школе – пригласил её к себе для разговора директор.
Вошла Настасья робко в довольно просторное помещение, где стоял большой красивый стол, шкаф с книгами, стулья гнутые, мягкие. Попросил присесть, и присела она на краешек указанного стула, глянула в глаза человеку средних лет, хорошо одетому, с приятной улыбкой на чисто выбритом лице.
– Я вот о чём хотел бы поговорить с вами, Настасья Степановна, – молвил негромко. – Я вспоминаю сейчас, каким вы привезли к нам сына своего, Капитона, и не могу не отметить смелости вашей, большой к нему материнской любви. Ведь далеко не всякая мать смогла бы найти к нам дорогу в большой город, а тем более – отдать его под попечительство чужих людей на долгих шесть лет. Признаться, принял я тогда решение о зачислении вашего сына с большими сомнениями. У нас ведь в интернате в основном дети жителей Иркутска. Из сельской местности – единицы. И какое же было моё удивление, когда мальчик ваш спустя какое-то время стал показывать незаурядные способности к учебе…
Настасья не понимала, что означает это слово – «незаурядные». Она только чувствовала, полагаясь на теплоту в голосе, с какой говорил этот человек, что слово хорошее. Что хочет он сказать ей нечто особенное, чего и ей самой, может быть, кто-то давно должен был сказать, да некому было.
Она напряглась, готовая слушать дале, наклонилась вперед, застыла всеми членами тела и вдруг, к ужасу своему, осознала, что плачет – молча, без слёз и звуков, истекая внутри себя то ли слезой солёной, то ли кровью алой.
– Да успокойтесь вы, уважаемая Настасья Степановна, – видно, понял её состояние этот добрый человек. – Я ведь ничего плохого о вашем сыне не говорю. Скорее наоборот. Капитон ваш, будь он, как мы с вами, и слышащим и говорящим, многого мог бы, по-моему мнению, достичь в жизни, если, конечно, для того сложились бы благоприятные условия.
И закончил даже с некоторой торжественностью в голосе:
– Ваш Капитон, если хотите, в школе нашей один из первых воспитанников. Он хорошо усваивает материал, прекрасно овладевает ремеслом на заводе имени Куйбышева и будет, надеюсь, востребован как специалист. Всё это, я думаю, поможет ему занять достойное место в обществе и не так остро ощущать свой природный недостаток. И вам как матери будет спокойней за его судьбу.
«Во-от как, – обозначилось в её мозгу. – Знать, Господь меня, грешную, надоумил… Не-ет, есть Бог на свете. Е-есть».
Зарубинский колхоз
Другая беда оказалась еще неисполнимей: взрослому мужику нужна хозяйка в дому. А где ж её сыщешь?
Приводил себе усладу: поначалу одну немушку, затем другую. Да не ужился, чему Настасья была искренне рада, так как первая оказалась воровкой, вторая – все одно что без рук: за что ни возьмётся – ничего не умеет делать. Отвалились и – слава богу.
Бог-то, видно, и надоумил обратиться к родному племяннику Косте, по прозванию «Маленький», с просьбой подыскать Капитону подходящую для жизни женщину. Этот, среди сродственников самый кипучий пройдоха, в каждую щель проползёт. И надыбал же Костя в недальней от Тулуна деревеньке Заусаеве молодайку из большой и бедной семьи. Как сговаривал, неведомо было Настасье, но повёз Капку на смотрины. В другой раз уже Капка и сам с охотой попёрся. И ещё поехали, тут уж сынок отрез материи с собой прихватил, что дали на производстве в виде премии к очередному празднику. И заладил: прибежит с работы, переоденется – и в Заусаево. Так, верно, с месяц было. Потом и маячит матери, мол, сегодня приведу тебе невестку.
Часу эдак в восьмом стучатся.
«Ну, – забеспокоилась мать, – привёл кого, что ли? Шибко уж Сыщик рвётся с цепи…»
Пошла, открыла засов. Вошли в дом: Капка-то передом, молодайка за ним, эдак бочком через порог переступила.
Глянула – и обомлела, батюшки святы! На молодой-то юбчонка – портяная, с заплатами напротив коленок. Вот уж послал Господь оборванку!
Погодя стала приглядываться уже спокойней и не столь придирчиво. Молодая и телом крепка, и лицом ладна. Сидит на краешке табуретки – ни жива ни мертва. Краска – в обе щеки.
Это вот Настасье шибко понравилось, сама завела разговор с нею.
Спросит об чём, та – слово иль два в ответ и молчит. Спросит и опять та же волынка. И не выдержала:
– Ты чё это, милая, без языка али с языком во рте?
– С языком, – отвечает.
– Ну дак чё помалкивашь-то, сказать неча?
– А чё говорить…
– Кто такая, откудова, из каковской семьи, чё делать умешь?
– Катерина я…
– Катерина дак Катерина. У меня племянницу, Кости Маленького жену, так же прозывают.
И подбодрила:
– Ты уж без хитростей: понимаю, что неспроста за немчуру нацелилась идти замуж. Я его хвалить не буду, но и в обиду не дам, потому как Богом обижен. Ведаю и то, что и карахтер у него не сахар. Но работник он добрый, и ежели ему подстать хозяйку, то жить можно не хуже людей. А к тебе, вижу, присох, раз каждый день по столь вёрст бегал до твоей деревеньки, как полоумный. И я не злодейка какая-нибудь, ко мне с добром, дак и я тем же отвечу: и подмогну, и утешу, и прикрою, ежели в том случится нужда. Капке-то не всё знать полагается, а во мне, как в могиле.
И закончила:
– Раз уж явилась своей волей, то давай поладим и вместе покумекам, как нам жить-поживать да добра наживать.
Катерина в работе оказалась подлинно ломовой лошадью. Быстренько выправила паспорт. Устроилась на работу на нефтяную базу заправщицей масел. Работа такая ей по нутру оказалась – всю войну ведь мантулила на тракторе-газгенераторе и в маслах, понятно, кое-чего смыслила.
Прибежит и – в стайку, на огород, на покос. И всё у неё в руках горит, будто метла метёт. Выбелила избёнку. Вычистила, выскоблила все углы, отмыла окошки, отскоблила стол, скамейки, разогнала кипятком тараканов, которых в избёнке наплодилась прорва, ведь бабке-то с ними не сладить. И всё в самые первые дни их совместного проживания с Капитоном. Настасье это понравилось. И решила про себя старая: нет, такую-то невестку от себя отпускать нельзя.
И Катерина поняла, может, и почуяла бабьим своим нутром, что в свекрови нашла и защитницу, и утешительницу, и советчицу, ежели в том возникнет надобность. И надобность возникала, не могла не возникать, ведь наново строилась-созидалась семья трудящихся людей, где каждый несёт свою меру ответственности друг перед дружкой, а заодно и перед сродственниками, соседями, перед всем честным миром. Потому что так на свете этом поставлено, так устроено и слажено-сотворено самым верхним, стоящим над всеми Создателем.
И покатились деньки под гору, будто саночки, изогнутые кренделем. Освоилась в новой роли Катерина, а Капка и вовсе не отпускал её от себя, когда были оба в доме. Старался, что-то мастерил, сучил дратву, подшивал валенки, стучал молотком во дворе.
В праздники ходили в гости к кому-нибудь из родни. К себе приглашали. Родне Настасьиной Катерина также понравилась. Даже удивление выказывали: и где это Капитон такую молодайку подыскал?..
Удивительным было и то, что каким-то только ей ведомым образом, сошлась Катерина и с закадычными друзьями мужа – глухонемыми Колей Смоляком, Володей Шиловым, Толей Сапожниковым. Сошлась и с их глухонемыми жёнами – Марусей, Клавой и Раей. Сойдутся друзья в доме, машут руками, усевшись вкруг стола, а она с немушками пристроится. И они ей чего-нибудь балакают – машут руками и мычат по-своему.
За происходящим наблюдает Настасья и тоже дивится: понимает невестка немушек, нет ли? Вроде головой кивает, что-то пытается отвечать, а те отвечают ей.
«Я-от сколь лет живу при Капке и ничегошеньки не понимаю, – думает бабка. – А эта надо же: без году неделя, а к ним уж приноровилась. С немтырями речь ведёт, будто сама немушка».
– Ты, Катя, прикидывашься аль впрямь язык немых понимашь? – спросила как-то.
– Я, мама, и сама не знаю, отчего это у меня, – отозвалась та по простоте душевной. – Может, от того, что в войну с трактора-то не вылазили. А он тарахтит, гудит, чадит, и, бывало, чё-то сказать надо было друг дружке, вот на пальцах и показывам. Уж потом встренимся и будто век не видались – наговоримся вдосталь.
– Так-так-так, – тянула своё свекровь. – А я-то, дура старая, сижу тут в своём угле и гадаю: с чего бы это? Вроде недавно в доме, а будто давно. Я-от и родила его, а ничё не пойму: махат-махат, а чё махат?..
Так Настасья толковала невестке, про себя соображая другое: ко двору пришлась Катерина. Душевная. Всем хочет угодить. Даже немушкам этим. Но не приспособленка. Нет в ней ни хитрости, ни корысти. Простодырая. Натерпелась, знать, и бедности, и работы лошадиной на дядю чужого. И одинокости. Своего собственного восхотелось – пусть и некорыстного, но своего.
Понять подобное немудрено, и Настасья понимала. Сама намоталась по чужим углам. Сама хлебнула мурцовки. Сама изработанная, изъезженная, как тот конь Савраска, которого пришлось свести в колхоз. Последнего от хозяйства, нажитого с муженьком.
Настасья на своей тумбочке будто прозревает всю свою прошлую жизнь. В такие, ставшие нередкими, минуты она отдаляется от хлопот по скотине, от топтания в кути, от всего, что во дворе за окошком, останавливая свой полуслепой взгляд исключительно на ребятне – не залезли бы куда да чего не понаделали. До мелочей, до отдельно обронённых слов припоминает Настасья своё прошлое. И ежели б спросить, в тягость али в сладость ей те наново переживаемые мгновения – не сказала бы ничего вразумительного. Ведь это была её жизнь: с мужем и без оного, с прибавляющимися в семействе ребятишками и с потерями невосполнимыми, когда те умирали. С дырами и прорехами, бедами малыми и бедами большими.
А у крестьянина, известно, все беды и радости со скотиной связаны. Потому помнит Настасья каждую коровёнку, каждую лошадёнку, курёнка, поросёнка, ягнёнка. И вот кажется ей: закрой глаза (что бабка иной раз и проделывает) – и пред внутренним взором твоим чередом пройдёт вся, какая ни была в жизни, скотинка-животинка. И с каждой связана какая-то история: грустная ли, вовсе ли печальная, может, и совсем трагическая. Сердце женщины-крестьянки прикипает ко всякой – за каждой ходила, каждую оглаживала, на каждую молилась.
Вот и с конём Саврасым своя история связана.
Явился закадычный дружка муженька Ларион Белов и говорит:
– Сбываются предсказания твоего Семёна – царствие ему небесное. Колхоз организуем. Тебе как вдове пламенного революцанера первой надобно пример подать. Давай в колхоз твоего Саврасого, весь скот, всех лошадей будем сгонять в одну общую кучу, чтоб всем миром трудиться на благо новага сацалистическага общества.
– Взнуздывай, – обронила Настасья глухо. – Всё одно, горлопаны, отымете…
Крякнул Ларион, потоптался у порога, добавил:
– Я, Настя, буду стоять на том, чтоб колхоз назвали именем Семёна.
– А мне всё одно – хоть горшком, тока меня боле не тревожьте.
И – назвали. Правда, горлопанили долго, благо не подрались. А могли бы. Председателем выбрали Лариона.
– Ты, паря, был нашему Сёмке самым ближним дружкой, значица, много чего от него перенял и со слов, и из книжек, да и грамоту знашь. Вот и правь.
Ларион и правда не отставал от Семёна, слушал, спрашивал, кое-как обучился от приятеля складывать в слова печатные буквы, осиливая порой до страницы непонятного ему текста в тех книжках, какие давал на некоторое время свой доморощенный Афанасьевский «революцанер». Пытался в отсутствие оного и сам проповедовать, но Лариона крестьяне уже слушали в полуха, потому как Белов только пытался повторить слышимое им от Зарубина. Да и какой, к ляду, грамотей из Лариошки, ежели из Афанасьева в своей жизни выезжал только до Тулунского базара и назад, в деревню? Неоткуда было взяться ни знанию, ни уму – про то кумекали уже промеж собой. Но другого не имелось, кого можно было бы назвать председателем. Этот хоть, может, не пропьёт обобществлённое, в трудах нажитое добро, ведь новая большевистская власть иного выбора никому из них не оставила: не отдашь – придут и отнимут силой.
На первое, общее уже колхозное собрание, назначенное в предоставленном ещё при Колчаке афанасьевским богатеем Демьяном Котовым и оборудованном в сельскую избу обширном амбаре, притащились даже слепые и глухие старухи. Против своей воли, больше с чувством стыда, чем неловкости, пошла на то собрание и Настасья – её накануне особым манером пригласил Ларион, принарядившийся, обутый в хромовые, промазанные дёгтем сапоги, значительный и, верно, довольный своим новым званием председателя.
Не нравилось ей и то, что Ларион в своей речи то и дело кивал, будто приглашая в свидетели, на готовую провалиться сквозь землю вдову.
– Мы с вами, уважаемые посельщики, будем ныне жить иным, большевистским, порядком, – разглагольствовал Лариошка. – Её вот, Настасьи Степановны, супруг сложил в Тулунской тюрьме за этот порядок свою голову и нам всем велел собрать под единую обобществлённую крышу и коровёнок, и лошадёнок, и может, даже хохлатых курёнков, коли возникнет в том нужда.
– На курёнках-то пахать, что ль, будем, а косачи будут у их надсмотрщиками?.. – донеслось из толпы собравшихся крестьян.
– Может, и так, – не потерялся Лариошка. – Мужеское косачье дело в том и состоит…
– Значица, тока бабы будут робить в колхозе, а нам, мужикам, в красных рубахах над ими стоять с бичиками в руках и похлёстывать по их широким спинам, чтоб не ленились? – продолжал доставать за живое всё тот же исполняющий роль острослова Тимка Дрянных.
– Так-так, бабы у нас двужильные, – посмеивались в бороды одни.
– Сдю-ужат… – поворачивались, будто примериваясь, к тут же сидящим своим половинам другие.
– Вот тебя, Тимофей, над косачьим племенем и поставим, а с бабами ихние мужья управятся, – нашёлся что сказать и Ларион Белов, понимая, что так-то и собрание сорвать недолго.
– Ну-ну, по-оглядим…
– Гляди, да не прогляди, а то не пришлось бы в кутузке свой век доглядывать. – Это уже сказал со своего места уважаемый в Афанасьеве крестьянин Павел Долгих, сродный брат Настасьи, который избирался посельщиками на съезд Советов, проходивший в Тулуне в 1922 году, и потому считающийся подкованным политически. Не торопясь прошёл к столу, накрытому красной тряпицей.
– Ларион Фролыч не для того нами избран председателем, чтоб над им пересмешничать. А пересмешничать над председателем – всё одно что над советской властью. Большевики идут по правильному рабоче-крестьянскому пути и колхоз – наше общее спасение от разрухи и от таких вот… (хотел сказать «кровососов», да воздержался) вроде Тимки. Хозяйствовать прежним манером, единолично уже никто не даст, так что давайте ближе к делу. Жись меняется, и от её правды нам с вами, посельщики, уж никуда не деться.
И далее, в немногих словах, представил свои соображения. Бригады в колхозе должно быть две – одна занимается выращиванием зерна и кормов, другая ходит за скотиной. Комсомольцы организуют на деревне разные «кумпании» вроде антирелигиозной, а в целом, чтобы полегче и веселее протекала жизнь молоди, потому как молодь и нарастающая в каждом дому ребятня полной грудью и новым революционным сознанием впитали в себя дух государства Советов.
Собрание закончилось тем, что избрали наиболее настырных активистов, кои и должны были под председательством Лариона Белова определить всю дальнейшую линию колхозного хозяйствования.
Глядела на всё это и Настасья, слушала и думала свою думу.
С ума сошёл народишко-то. Слетел с катушек. То в одну крайность кинется, то в другую. За годы Гражданской войны и вслед за нею НЭПа поля стали зарастать березняком. Тятенькины, что располагались на Угорье, и те взялись дерновиной, примялись от времени, от беспризорья и разлада людского. Беспризорья бездельного, богопротивного, ни в кои веки крестьянину не свойственного.
Крестьянин-то во все времена хлебопашествовал. Били людишки друг дружку, хлестали почём зря, проливали кровушку свою алую, но крестьянин землицу обихаживать не переставал. На лошадёнках, на быках, на коровёнках, а то и на себе тащил сошку-то, а землицу поднимал и задавал ей работу извечную – хлебушек растить. И питала она соками своими зёрнышки, взращивала ржаные колосья, поднимала выше к солнышку головками, и разрешались те колосья другими зёрнышками, кои срезал человек в снопы упругие, увесистые, высушивал, обмолачивал и заполнял сусеки амбарные тем хлебушком, а от того хлебушка внове плодилась и множилась жизнь на свете.
Немудрёную крестьянскую ту задачу Настасья усвоила ещё девчонкой в дому родительском, потому и поглядывала с превеликими сомнениями на копошение Афанасьевских горлопанов вроде Лариошки Белова, пялившего глаза на её муженька разлюбезного, когда тот в кругу мужиков сказки сказывал про жизнь райскую, обобществлённую…
Но жизнь действительно менялась. Это Настасья видела и по своим входящим в года Петьке и Клашке. Петька бредил комсомольскими починами. Крепкий, коренастый телом, настырный характером, воротил в дому за взрослого мужика, а как только выдавалась минута, бежал сломя голову в сельскую избу, где собиралась деревенская молодь и горлопанила почище, чем Лариошка со своими активистами.
Клашка вовсю, на виду у деревенских, хороводилась с Тимофеем Травниковым – мужиком уже зрелым, но не женатым, понюхавшим пороху в германскую войну. С этой и вовсе не было сладу: чуть что, так и норовила скользнуть за дверь на свиданку с разлюбезным. И ругала её Настасья, и «халдой» обзывала, но толку не добилась. И отступилась, обронив как-то в сердцах:
– На кривую дороженьку вступила, доченька моя ненаглядная. Не так-то девке надобно себя блюсти. Не та-ак… Не вешаться на шею взрослому мужику, а тихохонько дожидаться свово щастья. Работать, матери подмогать, Богу молиться. Да за такое-то поведение тятенька мой семь шкур бы спустил с тебя, с халды. Э-эх, нет на вас отца – сгинул в тартарары ни за грош, ни за понюх табаку…
Не по сердцу было и занятие Тимофеево – охота. Придёт зима, и он – в тайгу. Бродит там два-три месяца, чего-то добудет, а выйдет из лесу и – продаст добытое. Потом лодыря гоняет. Не по-христиански это. Мужик должен трудится – в поле, на покосе, во дворе, а этот… Тьфу, прости господи…
Не занозой саднящей – жердью вострой сидела в женщине память об рано погибшем муже. Семьёю обзаведшемся, но мало жившем с семьёй-то – с женой любящей, детками единокровными. Павшем, обильно полившем землю дождём, напитавшим до времени покоившиеся в ней сухие зёрна иной, незнамой прежде жизни. Жизни сторонней. Не нужной ни ей самой, ни её деткам. И прошла мимо ума и сердца Настасьиного его правда, за которую и сложил без времени свою бесталанную головушку. Во-он сколь всего наворотили последыши политики Семёновой. Коммунии, колхозы и что-то ещё будет впереди, с чем и посреди чего доживать ей свой вдовий век. Горло дерут на сходах, толкают наперёд себя разных активистов, а крестьянствовать будто бы и разучились напрочь. За что ни возьмутся, всё через пень-колоду. Обобществили скотину, лошадей, собрали с народа прицепной инвентарь. Радовались показно, да загубили и скот, и лошадей, а инвентарь годами гнил на обобществлённом дворе. Благо крестьяне хоть по одной коровёнке оставили себе на проживание, с них и огребали в виде налогов то молоко, то маслице, то ещё чего. И попробуй не снеси в положенный срок – пойдёшь арестантом по Московскому тракту иль повезут тебя по железке в запечатанном вагоне. И – сгинешь.
Скоро после того собрания случилось у неё дело на Мавриной заимке, что располагалась в верстах полутора от Афанасьева.
Шла не торопясь по лесной дорожке, которую знала и помнила до каждой впадинки, до каждого пня, до берёзины и колдобины.
Заимка Маврина была у жителей афанасьевских на счету особом – за близость и местоположение, за дремотные леса вокруг и за луг, что примыкал с южной стороны, прозванный людьми «Мокрым». Этот Мокрый луг зачинался как раз от Мавриной, изгибался дугой в сторону заимок Кулики и Сатай.
В старину каждый сметливый хозяин старался иметь собственную заимку, да не каждому это было под силу. Однако многие напрягали жилы: корчевали мелколесье, а то и кряжи вековечные, ставили избы, амбары, стайки, огораживали жердями выгоны и поскотины, обустраивались и обживались на десятки лет вперёд. Близ заимок были поля. Иной хозяин и сам проживал на заимке безвыездно, но чаще селил там работников или безлошадную родню.
Весной, как только оголялась земля и начинала проглядывать молодая поросль, перебирался глава дома с семьёй на заимку и проживал здесь вплоть до завершения всех сельских работ, отлучаясь лишь по крайней необходимости, когда возникала нужда куда съездить, чего прикупить, поднанять какую пару рук для ускорения заготовок. Да и некогда было разъезжать: с самой весны и до поздней осени работал крестьянин в поте лица, изматывая и себя, и домочадцев, добывая пропитание, из которого и слагалось потом хозяйство. Больше добыл – больше и продал. Больше продал – больше и приобрел. Больше приобрел – больше захватил земли. А земля для него была всем: кормила, обувала и одевала, обеспечивала прирост семьи, а когда изнашивался телом, забирала к себе на вечный покой.
По левую руку от Мавриной заимки Мокрый луг ограждался огромными елями, будто доросшими до своего отпущенного им природой предела и замершими на месте так-то на многие века вперед. Ежели смотреть от заимки в сторону этих елей, то взору открывались сплошные заросли кислицы и иван-чая. В пору летнюю горел Мокрый луг огнями стародубов, жарков, саранки, голубел головками васильков, зеленел высокой густой травой, какой произрастало здесь в изобилии. Жалко было губить ту красоту человеку с косой, но делать было нечего, и ложилось богатство лесное тугими валками, сохло до времени, сгребалось и укладывалось в копны. А там и новая поросль поспевала, правда, не дорастая до потребной высоты и спелости. Тем Мокрый луг и славился, что можно было здесь собрать два укоса при любом лете, мокротном или засушливом. Гадали афанасьевские жители, в чём тут закавыка, да ничего придумать не могли. Высказывалось предположение, что близ верха земли, где нарастает дерновина, а из неё и разнотравье, будто бы лежит плоская водоносная жила, как бы ослабевающая в своей упругости и течи в дни затяжных дождей, и обретающая силу в жару. Но как бы там ни было, Мокрый луг во всякий год приносил обильный урожай сена.
Здесь же любили афанасьевцы собираться на гулянье в Христовы праздники, по случаю свадьбы, по какому другому заделью. Сюда же любила вечерами приходить молодёжь, за которой, как водится, увязывалась и мелкотня.
Памятен Настасье Мокрый луг тем, что здесь состоялся её первый сговор с Семёном, с чего и почались её девичьи грёзы, томление тела и обмирание души.
Годов пятнадцать ей было, когда в ватаге такой же, как и она, молоди притащилась на Мокрый луг доглядывать за теми, кто уже хороводился, распевая и приплясывая под разливистую гармонь. Выглядывала из-за кустов и берёзин, таращила глазёнки на то, как парни и девки то сходились в танце, то расходились, притопывая.
«А мы просо сеяли, сеяли…» – задирали девки.
«А мы просо вытопчем, вытопчем…» – настаивали парни.
Хотелось туда же, да года не пускали. Подрасти надо было. Тут и тронул девчонку за плечо кто-то.
Вздрогнула, обернулась, а то стоит Семён, который был старше Настеньки годов на десять.
– Ну что, душа моя, – спросил. – Тоже тянет попрыгать?
– Тянет, – прошептала, как заворожённая.
– А пойдём прогуляемся по лесу, я тебе сказку расскажу.
– Пойдём, – чуть выдохнула.
И пошли. Он степенно, с хорошей улыбкой на смуглом лице, она чуть в сторонке – растерянная, притихшая.
Семёна Зарубина она знала. С парнями деревенскими он мало в чём сходился, дружил только с Ларионом Беловым. С этим его только и видели.
Не слыл ленивцем и забиякой, не был замечен в чём худом, а вот с книжкой – замечен. Всё читал, к дьячку местному хаживал, разговоры всякие вёл. И дома у Настеньки о Семёне по-доброму отзывались, особливо тятенька, который вообще-то скуп был на слова. Зато уж ежели скажет, дак золотом сыпались те слова, хоть собирай – да на базар в Тулун поезжай за обновами.
– В деда, – говаривал родитель. – Не в тятеньку-балабона. Дед-то его, Степан Пименович, знатный был християнин. Умел работать, землю понимал. Энтот – в него: и обличьем, и повадкой.
Слышала, да не слушала девонька слухом сторонним, потому как мала была. А тятенька нет-нет да помянёт Степана Пименовича:
– Сказывали, секрет он какой-то знал, будто бы переданный ему одним пришлым стариком. Оттого и рожь родилась, и скот вёлся, и птицы был полон двор. А помер – поделили хозяйство-то детки и расфуговали нажитое, ни с одного толку нету.
И договаривал в раздумье:
– Може, внуку передал секрет-то, любил он Сёмку, всюду за собой таскал…
Оказавшись с Семёном наедине, вдруг вспомнила те тятенькины наговоры да возьми и ляпни ни с того ни с сего:
– Секрет ты будто бы знашь, про то тятенька сказывал. А секрет тот дедушка твой, Степан Пименович, тебе передал…
И выскочила наперёд, встала пред ним, заглядывая в глаза Семёновы снизу вверх.
– А хочешь, расскажу тебе, душа моя, и о деде своём Степане Пименовиче, и о секрете его?
– Сказывай! – подскочила Настенька на месте.
– Слушай же… Отсед
Рассказ Семёна
Были мы в то лето с дедом на заимке. И раз как-то отворяются двери в избу – и входят трое стариков. Все разные обличьем. Первый представился Богданом – высокий, седой, костистый, с большими руками и видно, что сильный. Другой, пониже и пошире в плечах, назвался Насыром – татарин, значит. Третий и вовсе маленький росточком, кругленький такой и глаза – совсем щелочки. Звали они третьего промеж собой Тофиком. Из тофалар он оказался, это народ такой в горах Саянских проживает, что от Афанасьева вёрст с пятьсот будет.
Заговорил Богдан, и так заговорил, будто откуда-то сбоку, со стороны. Вот как будто кликнешь в лесу, а чуть погодя – отзыв, так и его голос показался мне. Богдан этот и говорит:
– У тебя, хозяин, худо было в избе. И сейчас-то худо здесь.
Пошёл к одному из углов избы, порылся и несёт мешочек, развязывает и высыпает из него, как сейчас помню, какие-то корешки, пёрышки птичьи, волосы человечьи, косточки какие-то.
– От этого и худо тебе, – говорит. – А хочешь, я сделаю так, что недруги твои сами сюда прибегут?
– Не надобно энтова, – отвечает мой дед. – Пускай себе живут.
– И правильно, – согласился Богдан. – Я сейчас нечисть эту зничтожу.
И пошёл прямо в баню. А чуть погодя будто слышим крик, какой-то писк, будто кто-то кого-то гоняет да мучает.
Возвращается Богдан и спрашивает моего-то дедушку:
– Ну, теперь сказывай, что у тебя стряслось-то…
Степан Пименович и поведал о том, что помер сын у него в цвете лет, только полгода как женился. Поехал в поле и вдруг ни с того ни с сего упал на землю, и кровь пошла горлом. Истёк кровью-то.
– Это сосед твой по наущению брата своего напустил на сына твоего порчу за то, что не женился он на его дочке. Сказывай дальше.
– А дочь моя померла в Тулуне в больнице. Захворала, бедная, вот и свёз я её в Тулун, тамоко и померла от неведомой болезни. Привёз я её без волос и бровей.
– Это соседа же дело рук, потому как решился он весь род твой свести под корень, – вставил своё слово Богдан.
– Тут и старуха моя сковырнулась, – продолжил Степан Пименович. – С вечера говорит мне, что, мол, помру я, Стёпушка, чую – помру скоро…
– И эта беда из того же угла, откудова вынул я мешочек.
И подытожил Богдан:
– Следом и другие твои корешки поотмирали бы, да теперь ничего не бойся – живи и здравствуй.
Присели они за стол, покормил их дед-то мой, а я тут верчусь, стараюсь не пропустить ни единого словечка.
Откушали, и Насыр с Тофиком подались спать, Богдан со Степаном Пименовичем остались. Богдан-то и сказывает:
– Подрядились мы тут недалече дрова заготавливать, а ночевать негде. Строить какую землянку – только время терять. Ежели ты не супротив, то мы у тебя ночевать будем. Уходить будем рано, приходить поздно и никоим образом не помешаем тебе.
– Живите сколь хотите, – отвечает мой дед. – И я возле вас какого знахарства наберусь, вижу, люди вы непростые и с добром ко мне.
– Ну, уж никак не обидим и не стесним, – отвечает Богдан. – А так как человек ты сторонний и добрый, то хочу я облегчить душу свою рассказом о своей жизни, ежели нет от тебя возражения, то послушай меня, старика…
И начал сказывать издалека, с самых молодых своих лет.
Жил будто бы в далекой Беларуси, в Могилевской губернии, старик, и было у него три взрослых сына. Старику тому будто бы дано было от самой Земли некое Знание. И жил будто бы рядом помещик, который ведал о Знании старика и всякими правдами и неправдами использовал его.
Помещик богател не по дням, а по часам, забирал под себя всё больше земли и зорил крестьян. Крестьяне также ведали о Знании старика, и когда кто-то из них имел большие долги перед помещиком, шли к старику и просили подмочь выпутаться из долгов. Старик приходил к ним на полосу, ложился животом на землю и будто бы вёл с землёй разговор. Потом вставал, нагибался, брал в пригоршню землицы и долго дышал ею, будто спрашивал, чего ей надобно, чтобы родила. Далее наказывал крестьянину, когда пахать, когда сеять, как сеять и чем сеять, с какого боку-конца заходить и с какого заканчивать. И получал крестьянин такой большой урожай, что рассчитывался с помещиком за свои долги и самому оставалось прожить до следующего урожая.
Помещику это не нравилось, а так как был он уже сильно богатый, то и решил обойтись без Знания старика и извести его со свету. Взять старика силой не мог, да и вышний закон нарушить было боязно, тогда решил он стравить на него цепных кобелей, которых держал тьму-тьмущую и которые могли порвать человека мгновенно.
Предчувствуя скорую кончину, призвал будто бы старик своих сыновей и говорит им: «Скоро, детушки, смерть моя придёт. А помру я от злодейской руки помещика. И никакого нет спасения. Но я не могу унести с собой своё Знание, данное мне от пращуров. Вот две бараньи мошны, а в них наша родная земля. Одну я вешаю на шею старшему сыну Богдану, другую – младшему, Петру. Средний сын Иван останется здесь, при земле, так как женат он и детей имеет, а вы ступайте по миру и обойдите весь свет. Но землю не вздумайте потерять. В конце своей жизни принесите её на Родину – так вы и сохраните Знание, которое вам откроется».
Пойти братья должны были на следующее утро, а вечером помещик призывает к себе старика. Тайком за ним следом пошли и сыновья. Как только старик приблизился к усадьбе, помещик на него спустил своих кобелей. Но только они подбежали к старику, тот их остановил и уговорил, потому что знал нечто и мог вести разговор с любой животиной и птицей. Тогда помещик спускает на старика двух голодных матёрых волков, которых держал про запас. Волки и напали на беззащитного человека, этих уже ничто не взяло. Напали, повалили и стали рвать. Тогда выскочили сыновья, и так получилось, что младший оказался проворней старших и добежал до волков первым. Одного успел задавить, другой порвал ему нос и пожевал руки. Подбежавшие братья убили волка, но отца уже спасти не могли.
Помещик в своей озлобленности вызвал исправника, и сыновей арестовали будто бы за намерение ограбить. И судили: средний получил помилование, старшего и младшего решено было отправить этапом в Сибирь.
Погнали пешим ходом через Беларусь, через всю Рассею, и долго так они шли, причём Богдану пришлось почти тащить на себе Петра, так как тот ещё не успел оправиться от ран и был слаб. За Уралом отпустили их из-под надзора, наказав ни в коем разе не возвращаться своей волей назад до истечения назначенного срока.
Ещё некоторое время шли братья, и вот под Красноярском, когда остановились в какой-то деревне, младший упросил старшего оставить его здесь долечиваться. И уговорились они непременным образом найти друг дружку, а потом уже возвернуться в Беларусь, на Родину, так как земля, которую носили у себя на шее, могла быть возвёрнута только в обеих мошнах, как и завещал им отец.
Богдан шёл только зимой, весной останавливался в какой-нибудь деревне и жил там до поздней осени, пока не будет убран урожай. И там, где он останавливался, земля у крестьян родила, как никогда доселе. Народ обогащался за одно только лето, и люди понимали, что имеют дело не с простым человеком. Просили его остаться, поселиться в деревне навсегда, но Богдан не соглашался и уходил. Снова шёл зиму, а весной задерживался в какой-нибудь другой деревне.
Так-то остановился он у одного чалдона, а у того была дочь по имени Аксинья, молодая девушка. И полюбила она Богдана, хотя Богдан был уже мужиком в зрелых годах. Понравилась и она ему. Но жениться не мог, так как тогда надо было бы остаться в деревне навсегда и не выполнить наказ отца. Как обычно, осенью собрался он в дорогу, и между Аксиньей и Богданом состоялось объяснение. Богдан честно признался, что девушка ему по сердцу, но жениться на ней он не может. Аксинья ответила, что ежели требуется, то пойдёт за ним хоть на край света. Но Богдан не мог увести дочь крестьянина, который дал ему кров и пищу, потому на следующее утро ушёл потихоньку, когда все в доме спали.
Прошло несколько дней, и как-то Богдан приметил, что следом за ним кто-то идёт. Притаился и видит: за ним увязалась Аксинья. Тогда он вышел к ней, и они объяснились. Богдан дал слово, что женится на девушке только тогда, когда найдёт своего брата. Аксинья согласилась.
И пошли они так-то до гор Саянских. Долго шли, питаясь то ягодой, то кореньями, то рыбой, то дичью – всё это добывали сообща, а добра этого в те года в горах Саянских водилось в изобилии. Ночевали в шалашах, зимовьях охотников и просто где придётся. И так случилось, что нарушили они данный друг дружке обет, и Аксинья забеременела, хотя они и не были венчаны.
Однажды наткнулись на человека, который лежал со сломанной ногой и не мог передвигаться самостоятельно. Человек назвался чалдоном, а в горах Саянских промышлял старателем, добывая золотишко. Богдан мог лечить людей и помог чалдону, чернявому молодому парню. Пожили они некоторое время на одном месте, пока не зажила нога у чалдона, а когда стал ходить, то повёл Богдана и Аксинью на прииски.
Добрались до места, где соорудили наскоро избушку, и стали мыть золотой песок. Аксинья оставалась в избушке, так как день ото дня тяжелела всё больше и больше.
Богдан был уверен в любви к нему со стороны Аксиньи и потому не замечал, что чалдон тайком пялит на неё глаза. Аксинья же ничего о том не говорила Богдану и – кто ж скажет – может, ей также нравился чалдон.
Однажды чалдон сказал Богдану, что в этот день он с ним не пойдёт к ручью, так как плохо себя чувствует. Богдан не стал возражать и пошёл на работу один, а когда вернулся к вечеру, то ни чалдона, ни Аксиньи в избушке не нашёл.
Долго звал их, долго ходил вкруг места, где они все жили и добывали золото, и наконец понял, что его бросили. Тогда решил во что бы то ни стало догнать беглецов и наказать за измену. А чтобы не промахнуться и догнать наверняка, окольными тропами быстро ушёл далеко наперёд, где выбрал такое место, что мимо него беглецы уже никак не могли пройти. Пока ждал, построил избушку, причём соорудил в ней трое нар: для себя, для Аксиньи и для чалдона.
Прошло сколько-то времени, и появились беглецы. Увидели Богдана и присмирели. У Аксиньи был уже большой живот, и вся она сменилась с лица. Чалдон похудел, и видно было, что им недоставало пропитания. Может, и мучились от своей измены, ведь Богдан спас чалдона от неминуемой смерти, а Аксинья видела от него только заботу и ласку.
Посмотрел на них Богдан, посмотрел, сердце у него дрогнуло, и решил отказаться от мщения. И сказал им будто, мол, прощаю вас обоих, а так как зима на носу, то идти вам дальше не следует, и будем жить вместе до весны – к тому же и не мог отпустить от себя Аксинью, которая носила под сердцем его ребёнка.
И жили они так-то некоторое время. И повадился ходить к избушке медведь-шатун. Подойдёт – днём ли, ночью – чего-нибудь сломает, пошумит и уйдёт.
Опасно стало выходить на охоту, а жить чем-то надо было, и решил Богдан добыть того медведя-шатуна. Изготовил рогатину, выстругал поострее кол, наточил на камне нож, который всегда носил при себе, и стал ожидать появления зверя. И зверь пришёл. Заманил его Богдан в такое место, где тот наскочил на приготовленный им кол, прижал рогатиной к лесине и подобрался с ножом, чтобы убить. Нож успел воткнуть зверю в то место, где у того должно находиться сердце, но, видно, слишком близко подобрался к шатуну и тот успел хватить Богдана по голове лапой, отчего Богдан упал, обливаясь кровью.
Сколь так лежал в беспамятстве, не знает. Очнулся и видит себя в избушке, а рядом двое неизвестных ему мужиков – татарин и тофалар. Они-то и рассказали, что нашли его лежащим около мёртвого медведя, и часть волос вместе с кожей было у зверя на когтях. Перенесли Богдана в избушку, а в ней лежит мёртвая женщина, которая должна была родить, но не смогла. Больше в избушке никого не было. Женщину они похоронили, а Богдан пролежал ещё несколько дней в беспамятстве.
С тех самых пор три этих человека и ходили вместе, пока не оказались у нас на заимке.
– И вся сказка? – прошептала Настенька.
– Не ведаю, душа моя, сказка то или быль, но слышал я это от старика Богдана в ту ночь, когда сидели они с моим дедом Степаном Пименовичем и пили чай. Я же притаился на печке и всё слышал.
– А чё было потом?
– Потом, когда Богдан у нас появлялся, я все старался быть к нему поближе. Старик также меня приветил и часто со мной говаривал.
– И не страшно было?
– Чего ж страшиться?
– Дак верно колдун был этот Богдан… Тятенька с маменькой завсегда говаривают, что ко всякому делу с молитвой Божьей надобно подступаться, молитвой же и спасаться.
– Молитва молитвой, душа моя, да на свете не всё так просто. Ежели бы от всякого зла можно было откреститься Божьим словом, то на земле всей давно был бы рай, а мы бы с тобой не пешим порядком передвигались, а летали, вроде воробушков, ангелами. Есть и другое…
– Ди…диавольское? – внутренне трепеща, наступала Настенька.
– И это также. Но я вот прочитал в одной книжке, что со времён сотворения мира – вот как початься белому свету – народилось на земле некое Знание, и Знание это будто бы вложено было в неких редких людей, которых можно по пальцам руки пересчитать. Не подвластно оно ни Богу, ни чёрту – само по себе будто.
– Как это? – ахала девушка.
– Передаётся то Знание будто бы от человека к человеку на смертном одре иль перед тем, как человеку помереть, и тяжельше его ничего нет на всей земле. Будто бы во спасение и в наказание сей крест – это глядя по человеку, потому что со временем то Знание каким-то образом попало в руки к худым людям, и те худые люди обернули его во зло. Поделились будто бы те владеющие Знанием люди на две половины. И происходит меж ними вечная, для простого человека закрытая, война не на жизнь, а на смерть. Света и тьмы. Чёрного и белого. Добра и зла. Я вот думаю, что Богдан – от воинства светлого, а те, кто взялся извести род Степана Пименовича, – от тёмного. Я и сам в этом пока мало чего понимаю, но чую, что далеко не всё гладко и ладно на белом свете…
Помолчав, со вздохом добавил:
– Я жалею сейчас, что мало понимал тогда, да и грамоту не знал – не читал книжек. Мне б сейчас поговорить с Богданом-то…
– А ещё об чём сказывал Богдан-то? – донимала ничего не понявшая из объяснения Семёна Настенька.
– О разном, но больше о земле. «Чтобы понять землю, – говаривал, – надо больше дышать ею, больше жить её горем и радостью и чаще как бы просить у неё совету, ибо земля – матерь всему и всем». Будто бы это человек живой, земля-то… Вышний человек, стоящий над всеми – и малыми, и старыми, и крестьянами, и людьми чиновными, даже духовными. «Это вот, – говаривал, – и есть главная наука о земле». И деду моему говаривал: «Знаешь, – показывал на меня, – малец больше увидит, а мы с тобой успеем помереть. Вот ему, может быть, откроется, как земля будет помирать – точно так же, как помирает человек. Слишком у неё короткий век, потому что люди ополчились на свою матерь, оторвались от неё и не чувствуют беды – это вот самое страшное. Земля ведь рождена со своим нутром, со своим телом и со своей болью. Она – живая, а люди решили, что они хозяева над ней, и не хотят служить своей матери. Вот почему, – говаривал он дальше, – так много зла вокруг? А дело в том, что плохие люди помирают, а зло оставляют здесь, и его, зла то есть, слишком много накопилось, и стало оно как бы перевешивать добро».
– Но добро также оставляют?..
«Всё добро растворено в земле, – говаривал о том Богдан. – Но оно не может жить и поступать, как живёт и поступает зло, потому и бывает побеждено добро-то». Вот ты, Настенька, бываешь на праздниках и видишь, как один кто-нибудь драку учинит, а праздник испортит всем, будто над всеми имеет власть. Но это не человек имеет власть, а зло, которое он содеял. Отсюда и поговорки, приметы народные, как например, «ложка дёгтя испортит бочку мёда». Ну и другие.
– Чё ещё говаривал? – дёргала за рукав рубахи Настенька.
– Много чего. Вроде как бы одно по одному, но разное. Понял я только, что люди должны всё добро в себе, какое есть, собрать в кучу и жить общим порядком. Иначе все погибнут и земля с ними.
– И ты, и я погибнем?
– Все погибнем: и ты, и я. Главное же зло, будто бы, в охватившей людей жадности и зависти, отсюда жажда всё захватить, поглотить, никому ничего не оставить. Вот вроде идёт человек в гору, стремясь к самой вершине, и вроде вот-вот дойдёт, а она от него всё дальше и дальше. А пока идёт, много зла приносит и людям, и земле. А земле надо помогать. И друг дружке надо помогать. Вот и выходит, что людям поврозь нельзя. Только вместе.
– Но мы и так вместе: тятенька, маменька, сестрёнки, братки…
– Это семья. Надо же, чтоб вся деревня, все деревни, все города. Вся земля. «А пока, – говорил он, – надо начинать с малого и жить деревней, как живёт семья. Потом чтобы другие деревни так же, и волости, уезды, губернии, Россия».
– Не захотят же все, шутка ли – все волости и губернии? – шептала, неведомо чего пугавшаяся девушка.
– А чтобы так случилось, надо примером своим показывать, как надо жить и блюсти землю. Надо до самоотречения, до самого что ни на есть конца идти, не сворачивая. Любить людей и ближних. Всяких людей: плохих и хороших.
– Про то ж и в Писании сказано. И тятенька с маменькой мне то ж говорят…
– Ты, Настенька, сказки знаешь? – спрашивал Семён.
– Всякие знаю.
– А помнишь, как в сказках-то говорится? Скоро, мол, сказка сказывается, да нескоро дело делается… Так вот. Богдан и говаривал, что мечту о счастливой жизни люди исстари в себе носят и в сказки её перекладывают. Но сами и не верят, что можно так-то жить въяве. А надо, чтобы сказка стала былью. Чтобы стала былью сказка-то, надо всем вместе захотеть так сильно и так настырно, что уж никакое зло не могло бы тому помешать. Многим поступиться надо заради общего благоденствия, как поступился в своей жизни Богдан. Да хоть как Христос поступился. Богдан ведь, при его знании, мог жить припеваючи. И Аксинья, видать, того же от него хотела, да поняла нутром своим женским, что никакая её любовь не способна изнутри переломить Богдана, чтобы он стал другим и жил с нею семьёй, как живут муж и жена. Потому, видать, с отчаянья решила она сговориться с чалдоном и уйти к другим людям, которые живут, как все, а вовсе не потому, что разлюбила Богдана или хотела изменить ему с чалдоном. Богдана-то как раз и невозможно было разлюбить, потому что человек он был редкостной красоты и силы. Ради ребёнка, что в себе носила, ушла. В общем, от неверия это в ней. От невозможности понять, ради чего Богдан по земле мечется, какую правду ищет и что ему надобно…
– Чудно так-то, – не понимала Настенька. – Ну, а дальше-то чё было? Куда Богдан-то делся?..
– А тут своя история. Как-то вижу я: сидит старик у речки нашей, Курзанки. Чужой старик – седой весь, кудлатый. Подошёл я к нему и вижу: нос поковерканный, руки какие-то скрюченные. На шее на веревочке что-то болтается. И смекнул, что это брат младший Богданов. Подбираюсь к нему и говорю: «Пошли, – мол, – дедушка, к нам в избу: чаю попьёте, отдохнёте…» Он и пошёл. А как взошёл в избу, то Богдан сразу его и признал – был он как раз у моего деда. Признал, вскочил с места, побежал навстречу, пал на коленки перед Петром и говорит: «Прости, брат, что не нашёл я тебя…»
И Петр пал пред ним на коленки. И оба они заплакали. Обнялись и простояли так-то долго ли, коротко ли – не знаю: мы с дедом Степаном Пименовичем вышли во двор, чтобы им не мешать. А когда возвернулись, Богдан и говорит: «Ты, Степан Пименович, проводи нас завтрева до Тулуна – будем пешим ходом возвращаться к себе на Родину, в Беларусь».
«Да возьмите моего коня», – предложил им дед.
«Нет, – ответил Богдан. – Как явились на вашу землю пешими, так и должны уйти».
Утром и убрались. И знаешь, Настенька, сколь лет прошло с тех пор, а я всё мучаюсь думой: ведь неправильно, когда один богатеет, а у других – тараканы по сусекам ползают. Все должны богатеть одинаково – в том, мне думается, и заключено Вышнее Знание, каким владели старик с его тремя сыновьями. К этому, по моему разумению, и должен человек прилагать усилия…
История Катерины
Первого своего дитёнка Катерина рожала по-старинному – в бане. Принимала роды Настасья. Капитон топтался за дверями, не слыша ни крика бабьего, ни голосочка народившегося дитяти.
Морозы стояли январские, и дело было перед самым Крещением. Вынесла бабка завернутого в одеяльце маленького человечка – и в натопленную заранее избу. За ней приплелась уставшая невестка.
Капитон – тут же. Развернули одеяльце, он глянул и «показал спину». Так ни разу и не взял на руки доченьку, потому как ожидал сына.
Поведение такое будто ножом полоснуло по сердцу даже Настасью, а уж о молодой матери и говорить нечего. Тут-то и понадобилось впервые участие и забота свекрови: плакала потихоньку невестушка, горевала вместе с нею и свекровушка. Катерина высказывала свою обиду женскую, Настасья о своей доле материнской печалилась, выговаривая, как ей трудно и было, и есть, и ещё будет с немчурой – наказанием Божьим. Говорить можно было не таясь – всё одно не слышит, но отчего-то шёпотом, с оглядкой поверяли друг дружке заветное.
Капитон топтался тут же, посматривая в их сторону и, видно, догадываясь, что речь о нём. Потому вдруг подошёл к матери, наклонился к ней, произнёс по своему обыкновению, коверкая слова:
– Хытрая… Хочешь делать?
Повернулся и отдалился.
Настасья сжалась в комок, посерела лицом, заохала-запричитала:
– Ах ты, такой-сякой!.. Дитёнок-то он – всякий дитёнок… Немушку бы тебе, растакой-рассякой, чтоб оголила, да по миру пустила… Ишь, не нравится, что девонька народилась!.. Доченьку не нада ему, немчуре… А ты, невестушка, не печалься и слёз напрасных не лей – сгодятся они тебе ещё… – промолвила напослед.
И снова затяжелела Катерина. И разрешилась, но уже мальчиком.
Никогда не видела Настасья своего Капку в таком возбуждении: силился выговаривать членораздельное, из чего можно было разобрать только одно:
– Малчык… Хоросё… Хоросё… Малчык…
И гладил себя ладошкой по груди, сообщая лицу выражение крайней умильности.
Ещё быстрее забегал по своим заботам мужик, ещё больше работы взвалила на свои плечи Катерина.
С рождением детей семья обретала черты семьи крепкой, даже в чём-то заживающейся: справили обновы хозяйке, купили хороший костюм хозяину. К тому времени прекратились всякие пересуды соседей по поводу соединения глухонемого и женщины здоровой, какая могла бы стать парой кому угодно, да не стала, обретя своё кровное рядом со старухой и её сыном-калекой.
Из родни к концу сороковых в Тулуне у Катерины осталась только тётка Надюшка и её дети. А большая семья Юрченкиных, из которой она выпала, снялась и в полном составе уехала на остров Сахалин по вербовке. Бежала уж в который раз от нищеты беспросветной в поисках счастья, какое никак не давалось этой большой трудящейся семье.
Перед самым отъездом побывала в гостях у дочери мать её Фёкла, которую Настасья встретила со всем к ней уважением. День был будний, хозяева на работе, потому сгоношила бабка чего получше на стол, вскипятила чай.
О чём толковали тогда две сватьи – никто не ведает, но мать свою прибежавшая на обед Катерина застала распотевшей и расслабленной – в том состоянии, в каком бывает удовлетворённая увиденным и услышанным всякая мать. А через некоторое время Катерина с Капитоном ушли провожать семью Юрченкиных на железнодорожный вокзал, где посадили на поезд, и отбыли Юрченкины в дальние дали, как оказалось, навсегда.
– Ужинать будешь? – спросила Катерину Настасья.
– Нет, мама, не могу я сёдни. На душе муторно…
Поглядела на неё Настасья, поглядела и подумала горестно, что теперь уж точно никому не даст её в обиду – ни сынку собственному, ни варнаку какому чужому.
Всякое видывала на своём веку. Бывало, чужой человек ближе единокровного, а единокровный – хуже разбойника с большой дороги. Разденет и разует, а тебе бросит какую-никакую обдергайку на бедность. И её, Настасью, обирали так-то свои же, на кого и не подумаешь.
Часто сидела она у печки, припоминая то одно, то другое. И получалось, что враги вкруг её падали, как снопы. То один сковырнётся, то другой окочурится. А она живёт себе, не изменяя родительским заветам: не зарься на чужое, не трогай того, что тобой не положено, держи язык за зубами, живи своим прибытком, не давай в своем хозяйстве упасть и соломинке, делись с ближним, коли тот попал в беду.
Невестка оказалась как раз такой, о какой грезилось матери для своего калеки-сына. И в том виделся перст Божий: за страданья её, знать, послал Господь таку невестку. И коровой одарил он же: без животины в семье не бывает прибытка.
С того стакана молока Майка стала заметно оправляться и округляться. Катерина бегала к ней чуть ли не каждую свободную минутку, веселея вместе с набирающей силу коровой. А та уже разборчиво ворошила мордой сено, выискивая сладенькое: листочки подорожника, траву зверобой, корзинки ромашки, головки клевера, стебельки пырея, верхушки иван-чая и многое из того, о чём знала только она одна.
С песенкой входила Катерина в загон к Майке, с загодя приготовленными ласковыми словцами, порой лишёнными мало-мальского смысла, но исходящими из самой глуби её женской сути. Да ведь животинка, коровёнка – тоже женщина. Тоже сотворена прародителем для продолжения своего коровьего рода. Всё и вся кругом заплетено-завязано в единый животворящий клубок. Всё и вся, истекая из одного, перетекает в другое, дабы явить миру здоровое и красивое своей душевной и телесной наполненностью потомство.
Майка никогда не ложилась в мокротное. Воды пила вволю. В стайке не гулял колючий зимний ветер.
В доме гудел старинный сепаратор, и то было уже хозяйство бабки Настасьи. Сепаратор был её приданым от родителей, когда ещё много лет назад засобиралась девкой красной замуж за своего демобилизованного из царского флота унтер-квартирмейстера Семёна Зарубина.
Гудел сепаратор, держала бабка за ручку крепкой хваткой, сообщая машине, требуемое вращение его внутренностей. Рядом скакали внуки, ожидая окончания дела, чтобы слизать приставшие к вороночкам сливки, когда Настасья зачнёт разбирать уставшую машину.
Сливки затем превращались в маслице, и его сбивала она же по старинному крестьянскому способу – в четверти.
Просепарированное молочко обращалось в творожок, простоквашку, сыворотку и всё это добро расходилось, обретая своё место в окрошке, сырниках, блинчиках, всякой стряпне, томилось в чреве русской печи и улегалось затем в желудках членов этой работящей семьи, высветляясь в чистых розовощеких лицах больших и малых человеков.
И как тут было не холить Майку, как тут было не помнить о часе, минуте, когда надобно идти к ней: сенца бросить, напоить, порадеть о сухом и чистом месте для её отдыха.
Ещё только хлопнет входная дверь в избу, а корова уже знала, кто к ней сейчас пожалует: Настасья или Катерина. Шевелила ушами, перебирала ногами, поджидая с нетерпением, будто оголодала.
Бабка иной раз топала к ней под собственное же ворчание, выговаривая про себя то, от чего воздержалась в доме. Войдя к корове, досказывала накопившееся уже Майке.
– Ишь, о чём балакают, оглашенные… Дом строить гоношатся… А на меня, старую, бросят и деток, и хозяйство – вороти, как вол… Не наработалась ишо я, не нахлесталась, не намоталась…
Спустя какое-то время говорила уже другое:
– Оно, канешна, дело хорошее… Дом-от свой, что крепость: каждому уголок определится… Каждого обогрет… В старину-то изб чужих не покупали – сами излаживали. Отдельно жили семейством, каждый сам по себе хозяйствовал…
Вздыхала, призадумывалась, застывала, положив руку Майке на шею, забывая, зачем и шла-то к корове. Потом спохватывалась, исполняла требуемую работу и уходила восвояси.
Знала корова и поступь молодой хозяйки. Эта неслась, как угорелая, всё куда-то торопилась, всё боялась куда-то не поспеть. Бывало, что мурлыкала себе под нос песенку, бывало и молчком – не в настроении, значит. Песенки Катеринины Майка слышала не один раз и, видно, они ей нравились. Во всяком случае, как повернёт в сторону хозяйки уши, так они и торчат повёрнутые.
Забывала в такие минуты Майка о жвачке, поворачивая голову к калитке только тогда, когда скрипела железная ось щеколды и в просвете калитки скрывалась фигура молодой женщины.
Но и у Катерины было за душой такое, чего не пересказывала никому и о чём печалилась, кручинилась.
Народилась она сразу после Гражданской в семье крестьян-малороссов. После неё от родителей, Игната и Фёклы, дети появлялись, как на заказ, строго раз в год. Потому уже в пятилетнем возрасте определено ей было место няньки. Трясёт зыбку, в коей кривит ротик последний по счёту, а за драное платьишко хватаются предыдущие. Звенит в ушах няньки от многих голосов братьев и сестрёнок, и нет никакой возможности зажать те уши рученьками, потому как рученьки те заняты. Подводит живот Катькин от голода, а положить в рот нечего, так как бедно живёт семья Юрченкиных.
В начале тридцатых и вовсе стало жить невмоготу – тогда, сказывают, в Малороссии и детишки приготовлялись на прокорм людям. Решили родители спасаться за Уралом. И поехали. Долго ехали, коротко ли – остановились в неком Хилке, что в Читинской области. Место безлесое, с горами каменистыми, да ещё река по прозванию посёлка – Хилок.
Стали жить. И однажды уехал Игнат в Читу, где готовили рабочих для обслуживания железной дороги. Время было летнее, августовское, дождливое, потому река возьми и выйди из берегов.
Глянул кто-то из домочадцев Юрченкиных в окошко, а в огороде – вода. И будто кто распирает ту воду изнутри, и она все полнится и полнится, заливая впадины, скрывая под бурлящей гладью всё что ни попадя. И вот уже стронулся с места парник огуречный: поднялся тот парник с наросшими овощами и – поплыл. Следом подняла вода сруб колодезный, и он так же поплыл в неведомое далёко.
Немножко погодя видят Юрченкины – поднимается западня подпола, будто кто толкает её снизу. Сбилась в кучу семья, завыли детишки, охватила их руками Фёкла на сколько хватило рук и говорит:
– Ну, ребятки, спасаться надо. Полезем на крышу дома, авось перемогём беду.
И полезли, где уселись на драньё, и плачут в голос: тогда в семье Юрченкиной было только детских голов пятнадцать, да сама хозяйка на сносях – вот-вот рожать Фёкле.
Двое суток сидели, не шелохнулся дом под напором воды, хотя вкруг них плавало всякое: срубы домов, колодцев, доски заплотов, сортиров, скарб людишек.
Спустя двое суток подплыли к их дому мужики на лодках, сняли детишек, а мать забрали в родильный дом. Вода стала спадать и наконец ушла в свои берега – видно, другой нашла выход.
Между тем пронёсся слух в народе, будто скоро надобно ожидать ещё большей воды, и стали люди строить плоты, так как полагали, постройки их, на которых спасались, другого напора не выдержат.
Но вода так и не пришла. Фёкла же между тем родила девочку, и нарекли её Августой.
Вода принесла семье Юрченкиных и прежнюю бедность. Снова поехали, на этот раз в Иркутскую область, где и остановились в деревне Заусаево.
Колхоз небогатый, но всё ж землица под окошком, а на ней и картошка, и морковочка, и зелень какая-никакая произрастает. В лесу за огородами – грибы, ягоды, трава луговая для скотинки. Ещё речка Курзанка, а в ней – рыбёшка неказистая, а где рыба, там и люди. Селясь у речки, старые люди смекали по-своему разумно, соображая: не родит землица, так рыбка пойдет в дело – не пропадут.
Работы же в колхозе – видимо-невидимо. Только поворачивайся.
Тут и Катерина пошла робить: поначалу свинаркой, а затем и дояркой на скотном дворе. В войну – страшную, проклятую – трактористкой.
А почему та война страшная и проклятая, так это потому, что взят был приглянувшийся ей паренек, с которым обменивались взглядами на вечёрках, да так и не сказали друг дружке потаённого, что в сердечках их зародилось. Взяли на войну и – убили.
Тошно стало девоньке от того известия, да не одна она подпала под каток войны – всем её сверстницам было тошно, потому как гибли их женихи тысячами на той страшной и проклятой бойне, и почти каждую ожидало впереди мыканье горемычное – вовсе ли без мужа, с мужем ли, но нелюбым и постылым.
Её подружка разлюбезная – Иришка Салимонова – так та никогда и не вышла замуж, а она вот, Катерина, пошла за калеку, но о том будет сказ ниже.
В смутную, тяжёлую весну сорок третьего года пахали они своим звеном из трёх тракторов землицу под посевы. И случилось так, что в чьей-то взбалмошной начальственной голове родился план – поднять болотную залежь. Очень кому-то хотелось, видно, выслужиться, и на Никитаевскую МТС пришла разнарядка. Начальник отряжает трёх трактористок, в числе коих и Катерина. Прибыли на место на своих газгенераторах, попробовали пахать землицу, но плуги увязают, машины натужно гудят – и ни с места. Попробовали взять мельче, но получается одно ковыряние. Бросили такую работёнку: сидят, ждут с моря погоды.
Наехало начальство с проверкой, ругалося – и саботажники они, мол, и вредители. И осудили их звено в полном составе, дали срок заключения по четыре месяца на каждого. А там и вагон вонючий, и колючая проволока лагеря, что находился под самым Иркутском.
Два месяца мантулила Катерина бок о бок с такими же, как и она, угодившими за колючую проволоку за пустяковину, – лопатила землю, таскала на себе брёвна, кирпичи. И надо же было выпасть случаю: делал обход лагеря начальник его, Александр Борисович, как выяснилось, с целью подыскать себе в дом работницу взамен освободившейся, и выбор его пал на Катерину Юрченкину.
Привели к нему в дом за пределы лагеря и оставили. Тут уж и вздохнула она свободной грудью, переделывая работёнку домработницкую с песнями, будто играючи: ходила за скотиной, полола грядки на огороде, мыла, скоблила, стирала, гладила, вытирала сопли единственному отпрыску хозяев, которого обучал игре на скрипке мужчина, тоже из заключенных, но на долгий срок, бывший музыкант откуда-то с запада. Отъелась, нагуляла бока, обрядилась в платьишко новенькое, сшитое на руках из переданного ей хозяевами отреза ситечного.
И минули те два месяца, как один день. И надо было возвращаться в деревню.
Вернулась, и в первый же день побежали за ней местные сорванцы, обзывая каторжанкой.
Тошно стало девахе и так восхотелось бежать из деревеньки сломя голову куда глаза глядят. Ведь хоть и в заключении побывала, да увидела-познала иную жизнь, в которой и война не война, и не надо думать о том, что в рот положить, да и чужие люди к тебе с добром.
Уж опосля, засыпая, часто грезила о том, как бы вырваться из Заусаева, поехать-полететь в незнаемые дальние края – не видеть и не ведать этой деревенской безнадёги.
На работу пошла прежнюю – и потекли денёчки тягучие, как смола, и такие же прилипчивые то одной прорехой, то другой дырой.
И закончилась та страшная и проклятая война. И возвернулись в деревеньку три калеки с фигой в придачу. А таким, как Катерина, уж по двадцать пять годков от роду и всё «в девушках». И тоска гремучая, безнадёга неминучая.
Тогда-то и объявился в Заусаево племянник Настасьин, Костя Маленький. Поспрашивал местных, пронырял по деревне, заявился на вечёрку. Приглядывался, принюхивался, задевал словами, производя впечатление человека ловкого и приживчивого.
Приступился и к ней.
– Я, слышал, Катериной тебя зовут?
– Так вроде звали до сих пор, а тебе чё надобно? – недобро глянула в глаза непрошеному гостю.
– Да вот… – мялся, представившийся Костей. – Купец у меня есть в сродственниках, но без хозяйки в дому…
– И чё он сам-то с тобой не приехал?
– Да есть одна закавыка в ём…
– Стеснительный шибко аль калека какой? – спросила в упор.
– Не стеснительный и не калека: при ногах и при руках, не горбатый, не кривой…
– Ну, дак чё ж тогда?
– Глухонемой он, Катя. От рождения глухонемой. Но ладный из себя, при деле, избёнка у него с матерью имеется. Пошла бы за него, бросила бы к чертям собачьим свой колхоз и жизнь эту каторжную, а?..
– Нет уж, – поднялась Катерина с лавки. – По мне лучше уж калека, чем немтырь.
– Да ты подумай, девка, сейчас мужика днём с огнём не сыщешь, а я днями подъеду уже с ним… – крикнул во след.
Запечалилась-закручинилась девка, сама не понимая отчего. Да и какая девка в двадцать пять лет? Перестарок, почти вековуха. Девки-то до годов осьмнадцати, и те уж торопятся, абы суженого не проглядеть. Хороводятся и хорохорятся, в окошки, где парни живут, посматривают. Ворожбу затевают на Святки, да так заиграются, что обо всём на свете забудут. Смехом звонким, надрывным заливаются. Каждая боится припоздниться с этим вопросом, к каковскому, видно, на свете всё сводится.
И она, Катерина, хороводилась – все известные на деревне гадания на жениха испробовала. Считала попарно принесённые с морозу поленья, бросала катанок за ворота, зажигала моченую в проруби лучину. И то выходило – замуж идти, то выпадала какая-нибудь нелепость. Скажем, катанок ложился носком в сторону какой-нибудь избёнки, в коей проживали старик со старухой. Иль моченая в проруби лучина и вовсе не хотела зажигаться, а надо, чтобы зажглась и потухла вперёд других, какие в руках у сбившихся девонек. Тогда и замуж идти. Что до поленьев, тут считай не считай, всё одно толку никакого: на дню-то охапок шесть надобно принести, и то попарно сойдутся, то хоть лоб разбей о печь – одному пары не будет.
Но на балалайке тренькать не переставала, песнями изводилась, томилась и маялась, как и её подруженьки-сверстницы. На парней посматривала, примечая, что и как. Взгляды ловила ответные, обмирала и опадала чувствами. Ни в чём не бывала плоше других-то – в работе, в песнях, в гулянках. Но не сложилось у Катерины чего-то: то ли бедность беспросветная тому виной, то ли работа от зари до зари, то ли норов казала, да парни обегали со страху перед незнаемым, – кто ж поймёт.
А ей нравился один. Любовалась она им на сходах молоди. И ничего вроде не было в нём особенного, но млело сердечко, мечталось и думалось об нём же. Даже было – раза два провожал до дому. На лавочке сидели. И она ему глянулась – видела то Катерина, чуяла тем местом в девке, коему нет названия ни на каковском языке.
Робкий был парнишка, несмелый с девками. Не лапистый и не горластый. Она потом сколь ни пыталась, сколь ни силилась, не могла даже припомнить, об чём спрашивал, да и спрашивал ли? Затянулось, будто паутиной столетней, заросло мшистым покровом, закрылось наглухо створками ставень то заветное, единственное, несказанное.
Взяли его в первые дни войны, и в первый же год пришла похоронка, мол, пал смертью храбрых под Москвой.
– Мама, – оборотилась к Фёкле Катерина, когда уже посуду убрали со стола и помыли. – Был сёдни тут один из городу, сговаривал за немтыря, сродственника своего, идти замуж.
– Чё это ещё за немтырь? – отозвалась Фекла.
– Не калека, говорит, и не голь перекатная. Работник хороший и домик есть, где он с матерью-старухой проживат. Хозяйка, мол, ему нужна….
– А, девка, смотри, как сама знаешь. Сидеть тебе с нами уж дальше некуда – замуж давно пора. Смотри, а я тебе не советчица.
Походила по избе, добавила:
– Насоветую чего неладное, потом будешь меня клянуть до конца дней своих…
И приехали. Взошёл в дом один Костя, позвал на улицу вроде как на смотрины и для знакомства.
– Да у меня и одеть-то нечего, – сорвалось с языка Катерины. – Пусть уж сам в дом входит, поглядит сам, какую богачку хочет сговорить в жёны.
– Вижу, что не богачи, да и кто нонече-то богат? – настаивал сводник. – Но послушай, чё скажу: иди себе на вечёрку, и мы там будем, вот и поглядишь на брата моего сродного Капитона. Да лучше гляди, а завтра мы опять заявимся и уже в дом к вам пожалуем.
Приволоклась ни живая ни мёртвая к месту схода деревенских, уселась одеревеневшая на лавочку, оглядывая украдкой собравшихся, и чуть ли не прямо перед собой, шагах в пяти, увидела Костю, а с ним того самого, что прочили ей в мужья. И ведь готовилась к худшему, а тут мужик как мужик: в хорошем полушубке, в доброй шапке и валенках, с завернутыми голяшками. Улыбается, смотрит осмысленно и твёрдо.
«Разыгрывают меня, чё ли? – ворохнулось в голове. – Где ж немтырь-то?»
Огляделась вкруг себя снова и никого более не нашла из чужаков – только эти и есть.
Разглядывала уже в открытую, не стесняясь, теша любопытство женское.
Лицо чистое, приятное. И фигура в полушубке проглядывается ладная. Держится свободно, уверенно, будто бывать на вечёрках – дело для него и знаемое, и привычное.
И тот её разглядывает. Улыбается во весь рот.
Сколь так-то продолжалось – нельзя сказать. Но вот Костя вроде что-то махнул руками Капитону и тот кивнул головой. Глянул в сторону Капитон-то и будто бы чуть поклонился ей, вроде как прощался. И она, Катерина, кивнула в ответ, чувствуя притом, как заливается лицо краской. Повернулись и пошли мужики к привязанной поодаль лошади.
Ночь эту Катерине уснуть не привелось. Лежала, подложив под затылок ладошки, думала, вспоминала, грезила. Вся жизнь её пробежала перед глазами – от детства, которого у девки не было, до дней сегодняшних. И сколь ни пыталась, сколь ни выдавливала из себя такого, об чём подумалось и пожалелось бы как о невозвратно потерянном и потому дорогом и желанном сердцу, ничего не могла найти. Всё у неё было и в бедности беспросветной, и в работе ломовой.
«Да разве ж для этого на свет-то рождаются? – думалось горестно. – Да что это за судьбина моя горькая такая?» – жалела самоё себя.
А под утро наплакалась вдосталь и решила твёрдо: «Пойду за немтыря. Брошу этот колхоз треклятый, а там, может, и от немтыря сбегу…»
С тем и подалась на работу.
Вечером явились Костя с Капитоном. Прошли в избу, поклонились. Капитон прошёл к столу и положил на него отрез яркой с цветами материи. Обернулся к Катерине.
– Это, Катя, тебе на платье от моего брата. Шей и носи на здоровье, – сказал за Капитона Костя.
Прошёл к столу и сам, вынув из кармана полушубка пол-литра водки. Поставил, поклонился Фёкле, произнёс:
– Вы, уважаемая, не обессудьте мужиков: без чинов мы и к вашей семье со всем нашим уважением. Хотим вот сосватать дочку вашу Катерину за молодца Капитона Семёновича. Он хоть и не без изъяну, но и работник отменный, и специалист лучший у себя на производстве, и хозяин в дому хоть куда, и мужик справный. За им Катерина не пропадёт. И на её мы поглядели, и хорошо знаем, какая она у вас и работница, и любящая родителей дочь. И красавица писанная: приоденется, приобщается, будет на загляденье и на зависть всем.
Капитон и в самом деле оказался мужиком хоть куда. Очень скоро молодая убедилась, что руки его ко всякой работе приспособлены: табуретку ли изладить, шкаф ли посудный, щеколду какую на ворота, ведерко жестяное, заплот поставить ли, стайчонку ли срубить.
Въедливость его в работе порой раздражала Катерину: семь раз отмерит, прежде чем отрежет. А ты стой рядом, смотри и жди, когда надо будет поддержать чего-нибудь, подсобить там, где одному несподручно. Ну, уж после, когда дело сделано, в радость – обнова в доме ли, во дворе ли, в стайке ли. На многие года излажено и добротно подогнано, чисто отфуговано, красиво и со вкусом сработано.
С настроением и желанием суетился мужик – это видела молодая женщина, не слепая ведь она и не бесчувственная. И стала прикипать она душой к этой чужой для неё ещё недавно семье, а со свекровью Настасьей Степановной сошлась сразу же, как, почитай, в дом вошла.
– Ты, Катерина, поспи лишку, – скажет иной раз Настасья. – Не спеши вставать, намаялась, чай, за неделю-то на работе своей, да в дому работёнки – только поспевай. А я, старая, и скотинку обихожу, и завтрак сготовлю, и деток досмотрю. Отдохни…
Или так-то:
– Ты, Катерина, примай Капку таким, каков есть, и ему ведь несладко таковским-то жить. А ежели с добром, дак горы свернёт Капка-то. Немчура он, канешна, все навыворот понимат, всё с другого какого боку. Ти-ир-пи-и-и, милая. Чё уж тут боле…
Терпеть приходилось непомерную ревность мужика. Идут, скажем, улицей к кому в гости, ты – рядом ступай, да не приведи господи на мужика какого встречного глянуть – пыль до неба подымется: засверкает глазищами, замахает ручищами, того гляди кулаков испробуешь.
Или, скажем, чуть припозднилась на работе, а он уж и прибег к воротам нефтебазовым и затаился где неприметно, ожидая, когда покажешься и с кем покажешься рядышком.
Всю эту науку познавала не разом и не в один день. Через ругань домашнюю, через замахи и выкрики мужиковы. А с годами Капитон осваивал слов всё больше и больше, выделяя из них самые жалкие и потому до слёз обидные, ею, Катериной, незаслуженные. Обучился и подзаборным матюгам.
– Врёщ-щь! – кричал. – Обманываешь! – напирал, делая ударение по-своему на предпоследний слог. – Разговариваешь! Хочешь делать!
Страшно становилось от того крика и угроз. И что там говорить: выскакивала в окошко, в чём была. Пряталась в картошке. Ночевала у соседей.
Отходил от припадков.
Отыскивала её свекровь, уговаривала, и снова переступала она порог избы. И продолжалась жизнь дале – до припадка следующего.
Свой угол
Давно обжилась и обнюхалась стайка. Прясла выгона, скрипучая калитка, ясли, в коих не убывало корма, – вся жизнь Майкина здесь. Стоит себе, поглядывая немигающими глазами вперёд себя, перекатывая в голове жернова своих коровьих дум.
Приходит к ней бабка Настасья, прибегает невестка её, Катерина, заглядывают подраставшие детки хозяев: бросают сенца, ласкают за шею, заглядывают в глаза, что-то лопочут на своем ребячьем языке.
Время от времени ворочает лопатой и молчаливый хозяин – долго, старательно, после него не остаётся ни свежего, ни застаревшего навоза – вычищает после лопаты под метлу, и это Майке нравится. От него, от хозяина, зависят и корма, хотя хозяйка ни в чём не уступает хозяину: косит, гребёт, подгребает и подбирает за Капитоном, а уж он укладывает заготовленное в копны, в зароды, доставляя всё это добро на усадьбу, и тут же укладывает самолично. Это ему Майка обязана тем, что сено никогда не отдаёт прелостью, сберегая в себе до самой весны все запахи, свойственные жаркому месяцу июлю.
В какое-то время хозяйка стала забегать к ней реже, хозяин и вовсе позабыл про корову. Работу Катеринину переделывала бабка Настасья, работу Капитонову – подросшие ребятишки, каковых в семье было уже четверо.
Дело же оказалось в простом: хозяева строили собственный дом. Дело хлопотное, нелёгкое и не всякому посильное. Но её, Майкина, семья могла это себе позволить, к тому же под строительство государство давало ссуды, и семья взяла в рассрочку семь дореформенных тысчонок.
Поехали в лес и навалили сосен на сруб. Привезли и ошкурили, перекатав в штабель, чтобы проветрились и обсохли. В мае месяце собрались друзья хозяина, сродные братья и принялись за сруб. Сам Капитон трудился над брёвнами, доводя до требуемой чистоты и гладкости каждую лесину. Другие подымали те лесины, вырубали паз и углы и укладывали на заготовленный ещё зимой длинный болотный мох, который выпиливали из вечной мерзлоты ножовками, а затем подрубали топорами, и получались кубы неправильной формы. Работёнка, понятно, тяжёлая, зато мох, на славу, укладистей и теплее любой пакли.
Где-то к августу сруб уже стоял, выпирая в небеса стропилами, но не было дранья на крышу. Договариваться насчет дранья в деревню Кокучей ездила Катерина. Она вообще и ходила, и ездила всюду, где требовался язык и слух, и чего, понятно, не мог проделать Капитон по причине отсутствия оных.
В Кокучее драньём промышлял некий старик, имя которого давно забылось – с ним-то и сговаривалась Катерина.
К осени сруб стоял под крышей – над ней колдовал муж старшей сестры Капитона – Лёня Мурашов, вернувшийся с войны с покалеченной ногой.
До крыши настелили потолки, и всю зиму до первых весенних денечков на стройке обитал или один Капитон, или вместе с хозяйкой своей Катериной: подгонял, подконопачивал, подпиливал, подстругивал, подбивал, подстукивал. В общем, работа находилась на каждый день, а вот дней этих недоставало.
Помимо всего, в местной столярке выстругивались и вырубались косяки, изготавливались рамы, двери, плинтуса, опанелка и обналичка.
Готовились доски на полы. Пилился штакетник, строгались доски на заплоты, на навес, на прочие нужды. Зимой же заготовлен был лес на стаечный сруб, а сама стайка рубилась всё в том же мае – это уже для Майки, её телков, для поросят и курей.
– Сами измотались и меня, старую, измучили, – ворчала иной раз бабка Настасья. – Прибегут с работы, как ошалелые, и на стройку: хлещутся тамако, хлещутся, а возвернутся к часам десяти-одиннадцати вечера, похватают-похватают еды какой – и падают замертво на постель.
Но более всего, сокровеннее всего выговаривалась, сидя с подойником меж коленок, под Майкой.
– Ишь, – бормотала Настасья, – строить вздумали. Хорошо-то как, ведь угол свой иметь – это душе радость, да ещё какая. Хлещутся оглашенные, бьются, как рыба об лёд, на стройке и мне, старухе, радость. Може, и Капка одумается маленько, не станет цепляться к жене с ревностью. Заживут своим домишком ладненько, и мне будет где косточки сложить.
Майка ворочала ушами, вздыхала шумно, пыталась оглянуться на старуху, отчего слегка сдвигалась со своего места.
– Стой, тебе говорят! – одергивала её Настасья. – И чё с тобой, окаянной, поделалось, не стала стоять на месте…
И грозила:
– Я вот тя понужну счас чем ни попадя!
Майка успокаивалась, а Настасья далее наговаривала во след за своими старческими думами:
– Сливочек сёдни выгоню свеженьких, блинчиков напеку к обеду. Вечером тесто поставлю на печечку, поутру завтрева попекушек настряпаю, пряничков… Ребятишки небось с родителями пойдут на стройку прибираться. Щепок небось да стружек всяких – вороха немеряные. Ну а я уж в дому управляться. Мне не впервой с хозяйством. Явятся уставшие, вспотевшие, а у меня в чугунке – картошечка с мясцом упаренная, молочко в криночке, прикрытой блюдечком. Хлебец нарезанный под полотенчиком. Огуречек малосольненький. Славно покушают, работнички, да меня похвалят, старуху. Ох-хо-хо-хо-хо-о-о…
И суетилась Настасья, силёнки ещё были в бабке. В воскресный день, если позволяли переделанные и не переделанные дела домашние, торопилась в Никольскую церковь – помолиться за души умерших сродственников. За настоящий день, чтобы всё в нём складывалось как надобно. За день завтрашний, чтобы был, как у людей, с прибытком и приростом.
В церкви отдыхала душой и телом, не замечая времени. Высоко вздымались голоса певчих, ещё выше летела её душа к тому, кто был выше всех.
В этой церкви она и венчалась со своим унтер-квартирмейстером. Здесь крестили старшего, Зиновия, а за ним – ещё шестерых. Только жить осталась тройня: Петька, Клашка да Капка.
Умилялось сердечко Настасьи, глаза оглядывали старинные образа. За всех молилась – за близких, за недругов, за вовсе незнамый люд сторонний. Хотя как тут скажешь – сторонний… Вот когда лежали они с Петькой в тифу, сторонние-то и спасали. Ходили за ними, прикладывали на головы холодные тряпочки, кормили с ложечки, пичкали лекарствами. А своя-то невестушка, братки Гани жёнушка, коровёнку-то и умыкнула. Пошла утром в стайку – нет коровёнки. Обегала все местечки окрест, нет родимой. И как тут жить? Голод был повсеместный, убогость и шатание в людях. Детишек нечем кормить, с себя последнее сымали, чтобы только выжить. Тогда-то и снесла на базар медаль золотую, что от мужа осталась: на самое необходимое потратила – на пропитание и отрез материи, чтобы было из чего мальчонке штаны изладить, а Клашке – юбку какую – о себе-то и не думала. А медаль ту Семёну Петровичу дали за свершённый подвиг на войне с японцами в Порт-Артуре, вроде как спас от смерти какого-то высокого начальника.
Жалко было расставаться, да делать нечего – спасаться надобно было, себя и деток спасать.
Спустя какое-то время подсказали соседи, что, мол, в ельнике шкура и голова коровы лежат. Пошла посмотреть – и точно, выпотрошили, злодеи, Белянку-то. Пала тогда Настасья животом на землю, обхватила руками ту шкурёнку и пролежала безгласная, не помня себя, может, час, может, и два. Лежит и чует – кто-то дёргает её за подол юбки. Повернула голову, глянула из-под руки, а то Капка дёргает. И встала на ноженьки-то, а они дрожат, будто под кулями ходила. Прижала к коленкам Богом обиженного мальчонку, и стояли они так-то неведомо сколь времени.
И дальше стали жить. Без коровёнки-то собственной пришлось в батрачки наниматься – на чужих людей косить, чтобы перепала какая кринка молочка.
Вовсе тяжко пришлось Настасье. Скотинка для неё – всё одно что живой человек, с коим и поговорить можно, и время убить за работой, и с пользой силы употребить, ведь недаром говаривают – у коровы молоко на языке. Уход, кормёжка и словечко ласковое – в том вся мудрость и заключается.
Ведь чем бывает человек зависим от другого человека? Хлебом насущным бывает зависим. Вкалывает на чужой полосе – вот и зависим, потому как вырабатывает себе на кормёжку. Вкалывает где-нибудь на «железке» – и тут зависим, потому как получает казённую зарплату, которая опять же пускается на пропитание. Свободным человек бывает только при собственном продукте, потому в жизни этой всему голова – живот. А с полным животом можно и на печи лежать, да в потолок поплёвывать, можно куда поехать, можно и ворога какого ломить.
Не-ет, для Настасьи скотина во дворе – почище сторожевой башни с пушками, ведь ежели от чего и ограждаться человеку, так это от праздности. А трудящемуся человеку нечего опасаться. Он всё пересилит, от всякой напасти спасётся и других подле себя спасёт.
Правда, кроме всего прочего, есть ещё злые люди, которые плохо спят, ежели кому-то сегодня какую пакость не сделали. Ничего не пропустят мимо себя, всё узрят и всему учинят свой суд.
После того как схлынула гражданская междоусобная бойня, в которой одни горлопанили, другие шли стенка на стенку, а третьи под шумок перебивались разбоем, крестьянину пришло некоторое послабление, и многие добрые хозяева возвернулись к земле. Много было поднято и восстановлено пашни, а по деревням в пору утреннюю, росную побрели неспешно, пощёлкивая бичиками, пастухи – стала, значит, разводиться во дворах и скотинка.
Но в каждой деревне наряду с хозяевами, кои хотели жить своим трудом, было двое-трое таковских, что не оставили мысли о сладком житье-бытье за счёт других. Таким при новой власти оказались открыты все двери. Засели в сельсоветах, комитетах, перерядились в активистов и атеистов. И то коммуну какую-нибудь организуют, то ещё чего. Проедят-пропьют обобществлённое, не ими нажитое добро и снова думают думу: «Как, где и чего прибрать к рукам?»
Когда пошли колхозы, то тут уж и вовсе осатанели. Лучших хозяев повыдернули из деревень да угнали неведомо куда. А те, что поплоше достатком, поневоле оказались в колхозниках.
Ларион Белов недолго ходил в председателях – не угодил чегой-то новой власти. На его место прислали из Тулуна вовсе пришлого с чужой стороны человека. Этот по деревне ходил в брюках-галифе, кожаной тужурке, с наганом на боку. Называл себя «полномоченным». Тут же пояснял:
– Я полномоченный партии. Гнил в царских тюрьмах, проливал кровь, борясь с врагами трудового народа, теперь вот веду вас всех в новую жись, где не будет хозяев-богатеев, а где будет советская власть плюс еликтрификация всей страны.
Последние слова про «еликтрификацию» произносил с особым нажимом и значением. И каждый, кто посмекалистей, понимал – ради этих слов «полномоченный», которого деревенские зубоскалы живо переиначили в «подмоченного», и затевал свои речи. Очень уж, видно, хотелось тем самым то ли унизить деревенского неуча, то ли подчеркнуть собственную роль положенца.
Пошла к уполномоченному с делом – корова поднялась, к быку обобществлённому надо бы. Глянул, не поворачивая головы, эдак с боку, буркнул себе под нос:
– Тебе самой ишшо быка надобно…
– Ах ты, такой-сякой! – налетела на него вихрем. – Быка мне надобно, говоришь? Я вот тебя счас…
В руках откуда-то взялись вилы, и, ежели б не сбёг, то запорола бы на смерть.
Дня через два деревенские комсомольцы собирают собрание, и Петька там же. Встаёт секретарь Гришка Татарников и говорит:
– Повестка нашего собрания одна – об утере комсомольского билета Петром Зарубиным.
– Как это об утере? – вскочил со своего места Петька. – Я свой билет не терял – с чего это вы взяли? Счас принесу.
Кинулся домой, где в сундуке, на самом его низу, с другими документами, хранился комсомольский билет. А там его и нетути!
Долго шарил Петька в сундуке, все тряпки перетряс, но билета так и не нашёл.
Получалось, кто-то из посторонних побывал в избёнке, из посторонних, но не чужих. Лишь через несколько лет выяснилось, что билет, по наущению председателя Гаврилова, выкрала та же Ольга с пьяными дружками. Она же зачала травить обобществлённых коров, а указали на попавшего в опалу Петьку – будто это он подсыпал чегой-то в корм. Спасти от тюрьмы могло только бегство из колхоза. Бежать пришлось, оставив и домишко, и скотину во дворе, всему немногочисленному семейству. И пошли мыкаться по чужим углам уже в Тулуне. Она-то в Тулуне, а сыну Петьке пришлось выехать и вовсе куда подальше. Хорошо хоть картошку подмогли люди добрые вызволить из деревни, не то и вовсе ложись помирай. Картошка и спасла от голода: ею рассчитывалась за постой у чужих людей.
Потому у Настасьи и к картошке особое отношение. Когда чистить садится, повторяет про себя слышимое в родительском доме: «Матушка-картошечка, нет тебе поста…»
Любит Настасья ту пору летнюю, когда картошка в земельке наливается сладостью через обращённую к свету крепкую, кустистую ботву. Чаще, чем когда-либо, ходит она тогда в огород, подолгу стоит, прислонившись к пряслам коровьего загона. Оглядывает простор огородний слезливыми глазами – глаза-то у неё видят худо, и тому тоже есть причина.
В самый разгар войны потчевала как-то внучек своих, деток Клашкиных. А чем можно было потчевать, кроме картошки?
Пришёл Капка на обед – ему поставила на стол приготовленное. Откушал, сел на порог покурить. Долго чего-то сидел, а ей, старой, привиделось, будто на работу с обеда опаздывает. Возьми и ткни пальцем в сторону ходиков, что висели на обеленной заборке, мол, времени уж много, пора на работу шагать…
А немчура чего-то озлился, подскочил к матери, подвёл грубо к самым ходикам и тычет, мол, гляди, старая, сколь времени ещё, он и сам знает, когда ему на работу придёт пора отправляться. Настырно так тычет. Хотела она сбросить руку его с плеча, и надо же было неловко ворохнуться, что растопыренные пальцы свободной Капкиной руки угодили ей прямо в оба глаза.
Одному-то маленько досталось, так как, видно, палец был согнутый, другой почти что выколол.
Долгонько потом мучилась, никакие примочки не помогали, и потеряла зрение, считай, наполовину. Один глядит вроде ничего, другой – муть одна.
С Настасьей в огород тащатся и дитёнки Капитоновы. Колька – тот ещё сорванец растёт. Зайдёт в картошку, станет на четвереньки и спрячется. И вот зовёт его бабка, вот надрывается.
– Здесь я, баба, – откликнется мальчонка, показав голову из-за ботвы.
Она к нему, а он снова нырнёт в ботву и отползёт в сторону.
– Тута я! – опять кричит.
Покудова не наиграется со старухой, не выползет из картошки.
Или с соседским парнишкой раздерутся, а она ходи их унимай. Много в те годы рожали ребятни бабы.
Будто горох, высыпят из барачных клетей – головы светлые, потемней и вовсе тёмные. По головам только и разберёшь, где свои. Залетит в дом, кусок хлеба схватит, только его и видели. Рта не успеешь открыть, мол, поешь, внучек, приготовлено ведь…
Хлопотно с ними, но в радость. Болезни бы не привязывались.
Бабка Настасья то и дело крестится, вздыхает, что-то припоминает, о чём-то печалится. Вспоминает…
В пору, когда только что купленная корова Майка стала в силу входить, – заболел старшенький. Болезни посыпались, будто кто куль развязал с болезнями-то. Одна, другая, третья, а мальчонка уж в былинку превратился. Обескровился личиком, истончился ручками и ножками. День и ночь: кхы да кхы, кхы да кхы…
Пришёл фельдшер Ян поутру, глянул и даже укол не поставил. Покосился в сторону сидевших к столу спиной Катерине и Настасье, пробормотал, будто про себя:
– Если до обеда доживёт, то хорошо…
Повернулся к двери и вышел.
Поднялись мать с бабкой, молча придвинулись к сундуку, откуда вынули чистую простынку, длинную белую рубашонку мальчонкину.
Настасья принесла в тазике тёпленькой водицы. Отёрли тельце влажной тряпочкой, обрядили, положили дитё всё на тот же сундук, который стоял в избе как раз под образом Святителя Иннокентия, вернулись на прежнее место к столу.
Сколь так-то сидели, дожидаясь мальчонкиной смерти, – никто не знает, только вдруг и говорит свекровь невестке:
– Слышь, Катерина, чего я подумала? А не сбегать ли тебе в «Заготзерно» к бабке Варваре?.. Может, она чё поладит?..
Без слов выскочила Катерина на улицу и всю-то дороженьку летела, земли не касаясь. До этого «Заготзерно» – километра с три будет. Влетела в Варварину избушку и чуть ли на колени не пала перед старухой – выручай, мол, баушка…
Та чего-то прихватила с собой, и пошли они теперь уже длинной дороженькой, ведь Варвара не смогла бы угнаться за молодой отчаявшейся матерью.
Держит под руку старуху Катерина и всё как бы норовит убыстрить шаг. А старуха, будто придерживает молодую, приговаривая:
– Не торопи меня, милая, всё одно смерть нас не перегонит…
И дошли так-то до барака, где проживала Катерина с семьей.
Взошли, и Варвара приказывает – подать чистой воды, а сама наклонилась над мальчонкой, ощупывает тельце, чего-то нашептывает. Потом вынула из-за пазухи свечку, чиркнула спичкой и подожгла ту свечку. Подождала, пока соберётся воску подле фитилька и опрокинула тот воск в посудину с водицей. Помедлила чуток и запустила в посудину пальцы – вынула остывший воск и глядит на него, оборотясь к окошку.
Потом повернулась к хозяевам и говорит твёрдым голосом:
– Будет жить ваш мальчонка. Счас у него самый чижёлый момент, но вижу: болесь пошла на спад. Очнётся скоро, тада попоите травой, кою запарите по моему указу. Попоите трижды со словами: «Ты болесь, ты немочь, ты хвороба окаянная, ты уйди откудова явилась. Ты забудь дорожку к нашему дитёнку…»
Подала траву в мешочке, наказала, сколь сыпать и как парить. Перекрестилась на образ и – только её и видели. Своими ногами пошла без подмоги сторонней. Спохватились занятые своими мыслями и заботами хозяйки, а Варвары уж и след простыл.
Всё, как наказывала старуха, сделали. И одыбал мальчонка. На глазах стал выправляться. Головка стала держаться на плечиках. Ручками, ножками стал шевелить. Голосок проявился.
Подошло время, и забегал по избе мальчонка и то к одному окошку сунется, то к другому прильнёт – хочется ему на улицу, а домашние не пускают. Придвинет к окошку табуретку, взгромоздится и подышит на стеколку: потрёт-потрёт пальцами и глядит на заснеженную дорогу, на покрытую вздувшимися сугробами поляну. И снова заиндевеет стеклина. И снова подышит и потрёт.
Так-то однажды и выдавил стеколку. Соскочил с табуретки, забился в угол за сундук и примолк.
Походит Настасья по избе, потопчется и начинает соображать, что неспроста малец скрылся с глаз – вытворил чего-нибудь. Чего – не поймёт. Только спустя какое-то время и разглядела – вроде пар исходит от окошка. Подошла – батюшки! Стеклина-то выдавлена.
Заохала-заахала да пошла по соседям справиться, может, из мужиков кто дома, дак подмогут раму вынуть, стеколку вырезать да вставить. Пугалась Настасья Капитонова гнева, не разбирал тогда он, кто перед ним: мать ли, жена ли, дитёнок ли. Вынимал из брюк ремень, замахивался всей мужицкой силой, бил нещадно, пока женщины не выхватят мальца из-под ремня.
На счастье старухино, сосед, что проживал через стенку, столяр Петро Яковлев, как раз по какой-то причине пребывал дома. Он-то и справил работёнку и успел ко времени: только за дверь, а тут и Капитон на обед явился. Следом подошла и Катерина: ей-то Настасья и пересказала о случившемся.
– И чё это, думаю, Колька-то притих, за сундук спрятался. Топталась-топталась по избе – и на тебе! Стеклина-то выдавлена! Хорошо хоть Петенька в дому оказался, он-то и вставил. Оклеить теперича бы…
– Ты, мама, – озираясь на сидящего за столом мужика, отвечала ей Катерина, – пойди пока в куть и замеси клестера, а я бумаги пошарю. Капитон за дверь, а я быстренько и заклею окошко-то.
Так и сделали.
Года с два не пускали мальца к одногодкам – всё боялись повторения болезни. А вырвался Колька и показал прыть: явился домой застывший, с растопыренными ручонками, и бабка скорей воды холодной в тазик наливать, чтобы ручонки застывшие пихал в воду, оттаивать. Кричит во весь голосочек, а руки не вынимает – бабка тут же стоит, надзирает, костеря его на чём свет стоит:
– Ах ты, наказание Господне! Носят тебя черти окаянные по улице, скорей бы уж в школу пошёл, всё бы меньше носился, как Савраска!
Оттаивали руки, утихал малец – садила к столу. Это было уже в радость бабке: каждый у неё кушал, что пожелает. Этому вот – картошечки. В разных видах: и толчёной, и круглой со сливками, и пережаренной на сале. Намнётся – и снова гонять.
Трепетала сердечком Настасья от того, что складывается иль сложилась уже семья у её Капки: хозяева – на работе, старшая внученька в школу пошла, Колька вот-вот за ней потопает, третий своими ноженьками переступает, а в зыбке – четвёртая качается.
Всё свершается своим чередом. Старшая, Галинка, прибежит из школы – и за уроки. Колька тут же крутится, просит сестру показать буквы. Отмахивается сестра, но потом и начинает калякать, называя буквы, кои Колька повторяет за ней, будто эхо.
Сколь уж там времени прошло, а уж стал слоги выговаривать: глядит в книжку и будто читает писаное – верно, повторяет затвержённое. Известно ведь: память детская прицепчивая.
Так думает бабка, посматривая из своего угла и улыбаясь пробегающим в голове мыслям.
Летом, как водится, ходят по домам учителя, записывают детей в первый класс, и, зная о том, тянет Настасью за юбку Колька, упрашивая сквозь слезы:
– Баб, а баб, скажи, что мне семь лет… Баб, а баб…
Юность Настасьи
У тятеньки жилось покойно и надёжно. Пока ещё не появилась на свет божий, а уж готов был окованный ребристыми железными полосами уёмистый сундук с замысловатым замком под приданое.
Таковский род был Долгих, что человеку ещё народиться, а уж хозяин молвит хозяйке:
– На базар нонече еду в Тулун. Може, куплю чего… – и поглядывал на вздувшийся живот супруги. – Сепаратор али машину швейную – деньжонки-то сёдни при мне, а завтра – кто ж его знат, чё ждёт?.. На беду не напасёшься, на радость не наберёшься, а вещь, она завсегда в цене. Хошь продай, хошь одари чадо любимое… По мне так лучше при себе держать до сроку.
– Так, так, – кивала во всём согласная Наталья Прокопьевна. – Поезжай.
Шла в куть то ли для того, чтобы скрыть накатившее ни с того ни с сего волнение, то ли в самом деле чего забыла сделать, да вот вспомнила кстати.
И купил однажды Степан Фёдорович сразу и сепаратор, и машину Зингерова изделия. Так в нетронутом смазанном состоянии и определили поближе к божнице, прикрыв бережно чистой холстиной.
– А часы кому же? – спросила как-то вернувшегося из Тулуна супруга, глянув на отливающее лаком резное изделие со стрелками и цифирью по кругу, которые Степан Фёдорович бережно, будто дитёнка малого, запеленал в чистую тряпицу.
– Все, какие ни есть, деньжонки спустил. Не пожалел нажитое непосильными трудами. Больно приглянулись мне часики. Смотри, какая благость… – умилялся, поворачивая часы то одной стороной, то другой.
– Так кому же? – переспросила, не удержавшись, Наталья Прокопьевна.
– А тому, кто после нас с тобой хозяйство поведёт по тореной дорожке, – торжественно объявил мужик. – Висеть им на своём месте до скончания века, а может, и после скончания.
– Чё эт за диво за такое – до скончания? И какого века? – снова не удержалась ничего не понявшая из сказанного хозяйка.
– А пока жись на свете будет проистекать. Пока деревня наша будет стоять. Пока детишки будут нарождаться. Пока земля будет хлеб родить.
После таких слов Наталья Прокопьевна только и смогла развести руки да рот в удивлении раскрыть.
– Дивись, дивись, жёнушка, часы – германские, фирмы «Юнгханс», изготовлены в 1896 годе. С музыкой и боем, – показывает пальцем на жестяную табличку сбоку часов, на которой выдавлено иностранными буквами название фирмы: «Junqhans». – Ты ж знашь, что я давно хотел приобрести часики. А тут сусед Травников Евдей толкует мне, что, мол, в метелёвский магазин часы привезли диковинные. Я прямо мимо базара в магазин-то и поехал. И верно: приказчик и показыват мне, как он выразился, «гансики» – так он часы называт. Фирма, говорит, такая – «Юнгханс», ну, вопчем, «гансики». До этого, говорит, были такие-то, и быстро покупатель нашёлся. Мы, говорит, ещё парочку заказали, и вот остались одни. Бери, говорит, не пожалешь. А мне они так поглянулись, так поглянулись, что выложил все, какие были с собой деньжонки, и не жалею.
И поднял к небу палец.
Изделие германское и впрямь было на зависть соседям. Резные точения по краям, снизу и сверху, три гири золочёные в виде увесистых капель воды, колечки цепочек, а на самом верху – конь, также резной, деревянный.
«Конь – это хорошо, – отметила про себя Наталья Прокопьевна. – Знать, и на неметчине народ христианский проживает, ежели лошадиное племя на часы прилаживают. Значит, чтят скотинку-то. Опять же, купленная ранее швейная машина тож немца Зингера изделие и тож вещь хорошая».
Потопталась со своими мыслями, потопталась и принялась на стол гоношить, решив про себя: «Гансики» дак «гансики», лишние в дому не будут. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-о-о…»
Часы обрели своё место на одной из солнечных стен избы, и самые первые звуки, что раскатным гулом разошлись по углам, заставили домочадцев замереть на своих местах, а затем разом повернуться в сторону новой покупки. Разом в сей момент посетила каждого одна и та же мысль: живой человек поселился в доме, который будет за всеми и за всем доглядывать, всему и всем давать свою собственную оценку, обо всём напоминать, обо всех печалиться.
Бой часы имели низкий, протяжный, музыка же звучала только два раза в сутки – в полдень и в полночь. Был то царский гимн «Боже, царя храни», чем Долгих Степан Фёдорович чрезвычайно гордился.
– Вот покупка, дак покупка, – горделиво оглядывал домочадцев. – Батюшка царь – Божий помазанник, и его надо чтить так же, как Всевышнего и Преблагого Господа нашего Иисуса Христа.
К часам скоро привыкли, как привыкают к петушиному крику, к взмыкиванию народившегося телка, к лаю подрастающего щенка.
Подрастала и Настенька. Нет-нет, да потянет матку за юбку:
– Чё это, маменька? – тянет в сторону горки прикрытых холстиной вещей.
Не противилась Наталья свет Прокопьевна, позволяла подвести себя к той горке, но холстины не дозволяла коснуться ни себе, ни дочери.
Стояла, вглядываясь в широко раскрытие глазёнки подрастающей невесты и начинала сказывать степенно, с чуткой проникновенностью в голосе, сказку будто:
– Вот трудимся мы с тятенькой твоим, всяку работу делам, а для чего?
– Для чего? – словно эхо, отзывалась Настенька.
– А для того, милая моя птичка-невеличка, чтоб щастье и твоё, и твоих сестрёнок с братиками устроить.
– А зачем? – ещё шире раскрывала глазёнки Настенька.
– А затем, чтоб, когда войдёшь в года и восхочется-возжелается замуж идти, мы, твои родители, должны будем честь соблюсти – оделить тебя приданым. А приданое то должно быть по достатку нашему и не хуже, чем у людей, чтоб, знамо, прынс не сумлевался в нашей к тебе родительской ласке и участии.
– Для чего – замуж? – продолжала допрашивать.
– Все замуж идут. Потому что жись так устроена. Девкам – прынс, ребятам – прынцеса. Всякому своё и по достатку, и по месту в деревне. И на небесах своё место.
– Как это – на небесах?
– Больно любопытна ты, – ответствовала маменька, которой начинали надоедать расспросы дочери. – Тебе на небеса ещё нескоро, так что не торопись, а там – и сама узнашь, что и почему.
Маменька говаривала и так и сяк, а интерес дочерний не иссякал, покуда не стала приходить в года и сама не начала кумекать и про приданое, и про прынса, и про небеса.
А «гансики» отстукивали своё, и каждый домочадец, прежде чем куда направиться, взглядывал на часы и так же, когда возвращался в дом, то спешил к ним же.
Поглядывала на часы и Настенька, а пока что она и в церкву с маменькой ходит, и за скотиной доглядывает, и с подружками хороводится, а всё норовит пробежать мимо зарубинской, стоящей посреди деревни, избы. А столкнётся иной раз с ихним Семёном – парнем много старше её – и будто устыдится и своего малого росточка и неполных шестнадцати лет. Девка не девка, но уже и не подросток.
– Ты чего? – глуховатым голосом спросит он Настеньку.
– А ты чего? – тихо спросит она Семёна.
Ничего более не скажут, а обоим ясно: неспроста встретились, неспроста сломился голос парня, неспроста потишел голос девки.
Помнутся-помнутся на месте – и всяк в свою сторону.
Влетит в избу, сядет к окошечку и призадумкается.
Помалкивает маменька, помалкивает и тятенька.
– В года девка-то входит, – пробует иной раз говорить мужу Наталья. – Присмотрела кого, али её высмотрели. Не сглазили б девку-то, надо бы в Тулун, во храм Покрова свозить.
Степан Фёдорович обыкновенно помалкивает, слушает, что дальше скажет во всем покорная ему супруга.
– Прослышала я, будто Сёмку Зарубина отличает, – продолжает своё Наталья, – мужик давно, а бобыль. Не ровня наша-то ему.
– Ровня не ровня, а с головой парень, – подает наконец голос мужик, – не в батьку родного, балабона.
– А как сватов зашлёт? – будто испугавшись, подступает Наталья. – Как схватит да уводом уведёт?
– Не на чем…
И слышит в том ответе она усмешку, и успокаивается на мужниной руке, какая кажется мягче и теплее любой подушки.
«И впрямь, – размышляет Наталья Прокопьевна уже про себя, – на чём везти? На гнедом али на рыжем? Обе лошадёнки зарубинские – хуже некуда. Ни живые и ни мёртвые противу излишне суетливого хозяина. Не лодырь вроде, не пьяница, а всё валится из рук, всё бы языком трепать. Бабу ли встретит, мужика ли – не обойдёт. И так тебя вертит, и эдак. Сызмальства вить такой-то», – припоминает отца Сёмкиного Петра, которого знала чуть ли не с рождения.
Да и кто его не знал – быстрого, всюду успевающего, но ничего не наживающего балабона. А сын ей нравился, напоминая чем-то собственного мужа. Характерный, праздно не шатающийся, лишнего себе не позволяющий.
Прикидывала мысленно дочку к нему, ставила рядом, и всё вроде выходило – пара.
«Тьфу ты, наваждение какое-то, – переворачивалась на свою половину кровати. – Глаза смежить не даёт, такой-сякой…»
Начинала приглядываться к дочке, строгость на себя напускать, а та, будто угадав мысли родительские, и у божницы подольше задержится, и с вечёрки раньше обычного придет. Иной же раз залетевшим за ней подружкам эдак притворно-равнодушно ответит:
– Ой, не хочу я чтой-то… Вечор третьего дня мне так не пондравилось, думала с тоски помру.
Отмягчает материнское сердце, и, жалеючи дочь, сама начинает гнать из избы, дескать, девичий век короток, шла бы поразвеялась-поразвлеклась.
Степан Фёдорович наружно ни во что не вмешивается, полагаясь на здравый ум хозяйки своей, но, видно, тоже держал на сердце думу, и Наталья свет Прокопьевна о том знала, полагаясь в свою очередь на последнее слово мужа.
Не им, Долгим, за кого попало отдавать Настасью. И жнейка есть, и молотилка. В работе не последние. Брусникины да Дрянные чуть опередили, так от жадности непомерной. У них же три девки, парни – Иван да Гаврила. Девки – мал мала меньше. Каждой приданое припасай, рви из себя жилы.
Но и за Устинку Брусникина не отдали бы в вечные рабы, не говоря уж о Тимке Дрянных. Этот и вовсе крученый.
В другую какую деревню отдать – и того жальчее.
«Даст Бог – обойдётся», – успокаивала себя, ещё больше страшась за старшую.
– Присмотреть бы заранее, за кого отдать Настасью-то, – не выдержала как-то Наталья. – Всё спокойней было бы…
– Цыц, баба, – нарвалась на грубое слово, – придёт время – увидим. Не запрягай лошадь позади саней.
– Чё ты, чё ты, родимый, – поспешила успокоить мужа, – так это я с глупу…
Видно, самой девке решать, за кого идти, и вопрос этот у Долгих больше не обсуждался.
Сёмка тем временем подался в работники в деревню Манутсы, о чём Степан Фёдорыч заметил, что «мерин кобыле не пара». И нельзя было понять: Семёна с его отцом имеет в виду или Настасью с Семёном. Скорей всего, первое, потому что спрашивал, как бы меж делом, наехавшего свата из Тулуна о деревне Манутсы, в которой никогда не был сам, и о том, справно ли хозяйствует некто крестьянин Распопин и как обходится с работниками.
Сват в самом деле знавал Распопина и отозвался с одобрением.
– Плата у него така, – говорил, – год пробыл в работниках – и хошь хлебом бери, хошь корову веди, хошь лошадь взнуздывай. И земелька имется, и масло бьёт, и кузня своя. Но особливо лошадей любит. Самые справные лошади у его. С десяток держит…
– Ну-ну, – молвил на то Степан Фёдорыч. – И я бы подразвернулся, да девки, вишь, одне… Помрёшь и не будешь знать, на кого нажитое бросить…
– Тебе, Фёдорыч, хныкать-то не пристало, могешь жить. И парни у тебя есть. А девки?.. Ну что ж, коли судьба. Тоже золото, ежели от добрых родителев.
Выпили сваты по рюмочке на высокой ножке с серебряной насечкой по стеклу – старинные, дедовские. Сидят, толкуют неспешно.
Настя тем временем раз пять мимо пролетела, и, верно, не без умысла.
– Ты чего, егоза, леташь, юбками шуршишь? – прикрикнул было отец. – Во дворе бы чего поделала…
И улыбнулся своей редкой по красоте улыбкой – короткой, но которая ложится в память надолго, потому что в ней – весь человек. Неустанно трудящийся, живущий достойно и потому знающий себе цену. Привлёк к себе дочь, погладил по голове, легонько подтолкнул к дверям.
Со своей приговоркой всякое утро встаёт Степан Фёдорыч: «Рано встанешь, по двору пройдёшь – рупь найдёшь. Ещё пройдёшь – и ещё найдёшь». От того и хозяйство его крепкое.
Наталья Прокопьевна и того раньше поднимается с постели. Никогда в их избе не знали вчерашних щей, каши, чаю. Только с пылу с жару. Про гостя какого и речи не могло быть – за позор бы сочли поставить на стол несвежее. И в этом тоже сказывалось уважение и к себе, и к людям.
Нанимали Долгие работников, кормили от живота, платили за работу, чтоб без обиды.
В работе сами подавали пример. И земля родила. Как ей не родить, ежели, пока через поле идёшь, все ноги надсадишь – так вспахана, проборонена, обихожена. И скотина водилась, тучнея. В своё время приносила приплод.
Хорошо жилось Настасье, а на сердце неспокойно. Бегает мимо зарубинской избы чаще, чем прежде, бывало, когда Семён с родителями жил.
Говорили, будто в свободное от работы время к дьячку в соседнюю деревню учиться грамоте ходит. А, может, высмотрел кого?.. Вот бы приехал скорей, вот бы налетела да за чуб его чёрный… И сладкое, и горькое, и радостное, и гневное накатывает единовременно, и ничегошеньки ей с собой не поделать.
И набежала эдак-то на Семёна в рождественские захлёсты, всеобщие разгульные дни. Испугалась даже. На месте замерла. Под согнутой дугой Семёновой руки – книжка.
Откатило сомнение от сердца. И верно, книгочеем стал.
– Читашь? – спросила чуть с придыхом, будто умаялась бежать. – Псалтырь? Молитвы Божьи?..
– Да что ты, – выдохнул глуховатым голосом из себя парень, тоже как будто летел со всех ног. – Сочинитель граф Толстой это. Книжка называется «Война и мир».
– Какая война?.. Расскажи!.. – ухватилась за рукав полушубка и с боку начала ловить глазами его глаза.
И сами того не замечая, пошли они за край деревни, за кладбище, к скованной холодами речке Курзанке. Туда, где их уже никто не мог видеть. Знать, приспело время Настасьино, как давно уже приспело время Семёново.
– Душа моя, Настенька, – шептал на ухо. – Только одна ты такая в Афанасьеве.
– Только в Афанасьеве? – переспрашивала не без лукавства.
– Да что ж это я, – краснел парень. – Ты единственная на всю Тулуновскую волость, а для меня – дак и на весь уезд, а то и на губернию.
– На губернию? – ахала.
– На Рассею и на весь белый свет.
– Ну уж, скажешь тоже, – сомневалась. – Чудно это – на весь белый свет…
Сидели, обхватив друг дружку руками на коряжинах. Бродили узкими тропиночками вдоль речки Курзанки. Сидели на крутом бережку, глядели на белый в снежных кружевах лес, да не видели ни деревьев, ни речного изгиба, ни тальника – ничего.
Не заметили, как придвинулись сумерки. Спохватившись, бросилась со всех ног Настасья до избы своей, страшась гнева родительского за долгое отсутствие своё.
Трудился теперь Семён у Распопина с большим напряжением, потому приезжал чаще, бывал в Афанасьеве дольше.
Не осталась их связь на деревне незамеченной, толки пошли, пересуды. Дошли и до уха родительского, проникнув через заплоты и стены усадьбы Долгих.
– Чем Устин-то с Тимофеем хуже парни?.. – осмелела Наталья Прокопьевна. – Уж по работникам-то не скиталась бы…
Притворно прижала конец платочка к глазам. Как водится, нарвалась на редкую, но чувствительную грубость мужа:
– Цыц, тебе говорю! Звери они, а не люди. Хищники! И род их весь льстивый да хищный. За Сеньку лучше отдам Настёну и знать буду, помирая: за хорошим человеком она. Верным! А в силу он войдет, я чую, во-ой-дё-от… Хватка есть хозяйска. Совесть… По правде будет жить. По сердцу.
И заскулившей супруге примирительно:
– Ладно тебе. Не потаскуха ж кака наша Настасьюшка, – пускай погулят, поневестится. Там поглядим, за кем ей быть.
Ничего не сказали ей родители, а пересуды отпали сами собой.
И ещё год минул. И стал собираться Семён на службу царскую, заручившись словом девичьим, ждать его до срока.
А когда съехал до Тулуна, где должен был погрузиться с другими новобранцами на гремучий поезд, Степану Фёдоровичу пришлось прикрикивать и на девку, и на бабу. Да без толку. Не остановил его окрик воя женского, и хлопнул дверью, оставив прижавшихся друг к дружке дочь и мать.
Настасья и Устин
В первый день Рождества пришёл братка Ганя. Поставил кринку молока на стол, потрепал за волосы Петьку, сунул в руку Клашке леденец. Словом да лаской выпроводил на улицу.
– Чё не разболакашься-то? – спросила из кути.
– На минутку я, Настасьюшка, – гости должно наедут.
– Кто же?
– С Заводу кум с кумой.
– Чё там Ольга не управится? Посиди уж, я счас стопку поднесу в честь праздничка.
Гаврила засопел, начал раздеваться. Она тем временем давай на стол собирать. Из курятника достала четверть самогона почитай годичной давности. Налила в ковшик, чтобы четверть не ставить.
Села напротив. Налила брату, себе.
Гаврила выпил, по-хорошему крякнул, вытер усы.
– Крепка, зараза, – потянулся за огурцом, – у тебя только такая, нигде боле.
– Не подговаривайся, братец, вижу – с новостями пришёл…
– Не спрашивай, сестрица, дай закусить мужику, окосею – баба ухватом с избы понужнёт.
– Ну, так что ж, тебе не впервой косеть.
– Ладно тебе, хватит поминать прошлое.
– Прошлое ли? – засомневалась Настасья. – Давно ли пузырил, шляясь по деревне с пьяными дружками?
– Было, да сплыло, – отозвался грубоватым баском. – С семьёй живу, работаю, ни у кого на шее не сижу.
Не спросясь, налил себе ещё, так же молча выпил. Не закусывая, полез за кисетом.
– Ты, Настасьюшка, вопче-то, угадала – с новостью я, – перевёл разговор в другое русло. – С кумовьями Устин Брусникин приезжает, передавал, чтоб в избе была – сватать приедет.
– Вот так-так, – недобро отозвалась, поднимаясь с табуретки Настасья, – тебя счас турнуть или когда с Устином придёшь?..
– Да успокойся ты! – почти выкрикнул Гаврила. – Сядь и послушай пока. Я твой ближний сродственник, хочу добра тебе и твоим ребятишкам.
– Ну-ну… Выкладывай.
– Ты погляди, чё за эти годы с тобой сталось – кожа да кости! Семён, канешна, был мужик правильный, такому памятник на могилке поставить мало, и тебя при новой власти надо на руках носить, что не мешала ему дело делать да ребятишек блюла. Но власть-то – власть, а тебе зубы на полку класть?
Гаврила быстро обогнул стол, мягко за плечи усадил её на место. Сел сам, тут же потянувшись за ковшиком.
– Хватит глотку наливать, – осадила Настасья. – Говори лучше, я слушаю.
– Ты его помнить должна, он до Семёна сватался, да ты матроса захотела.
– Не твоего это ума дело! – опять вскочила Настасья.
– Да я не к тому говорю, а к тому, что помнить ты должна Устина-то. И в деревне он часто был, только не знаю – видела ли?..
– Как не видеть…
С самой прошлой осени надоедать начал. Она с поля, и он тут как тут, она к Ольге, и он там сидит.
И Гаврила о том не мог не знать – хитрый братец, давно уж спелись с Устином, только не знали, как подъехать.
– Должна, говорю, была видеть-то…
– Ну?
– Мужик он справный, хозяин, не пьяница, не бабник и к тебе присох, согласный взять с тремя ребятами.
– Работница ему нужна!..
– Да работницу он и в Заводе мог бы сыскать – тебя ему нада. Не могу, говорит, без неё, по сердцу мне Настасья…
– А я тебя счас ухватом по хребтине – вот полюбовно и договоримся…
Прислонилась к печке, задумалась.
К братке Гане у Настасьи отношение особое – жалела она его, горемычного. Отчего горемычного – на сей счёт соображение у неё также имелось, хотя в глаза никогда подобным образом его не прозывала.
Вернулся с германской калеченым – ногу прострелили ему в той войне. Ходил с палочкой. Но нога – ногой, эту напасть можно превозмочь – мало ли таких-то мужиков возвёртывалось с фронта. Душой был калеченный братка, насмотревшись на кровь, вдоволь покормивший вшей окопных, вдосталь поголодавший и всласть пострадавший мужик.
Другое мучило. Видел, понимал, что русское воинство, к коему принадлежал сам, способно было сломать хребет не токмо немцу, а какому ворогу пострашнее. Русские солдаты лезли вперёд, даже ежели нечем было стрелять – на штыки полагались, да на собственное бесстрашие. И ломили врага. Гнали постылого, радуясь каждой малой удаче. Но вот командиры чего-то недопонимали, иль их самих дурили более высокие начальники: отобьют передовые позиции солдаты, напитается кровушкой павших землица там, где только что кипела жестокая схватка, зачнут обосновываться и осматриваться, чтобы идти дальше, а тут и приказ – отступать. И сколько ж можно отступать от, по сути, поверженного вражины – непонятно. И роптали солдаты, тут уж приступали к горлу со своей агитацией то большевики, то эсеры, то анархисты, то ещё какая-нибудь рвань. Иные бежали с позиций к своим деревням, иные поддавались на агитацию, иные просто замыкались в себе, не прибиваясь ни к какому берегу. Этим было тяжельше всего – лучше уж в огонь кинуться, на пулю иль на штык вражеский напороться. Эти вот и являли в боях чудеса храбрости, только храбрости пустой – не на пользу ни себе, ни Отечеству.
Потому и пришёл с войны сам не свой: за что ни брался, всё валилось из рук. Подолгу задумывался. По старым дружкам не ходил, да и дружков-то осталось – всего ничего. Минул месяц, другой – чернел лицом, глядел отрешёнными от всего глазами. На вопросы отвечал односложно, часто невпопад.
Пробовал прикрикнуть тятенька, прижимала уголки платочка к глазам маменька – оставался безучастным. И однажды явился к сестрице с бутылкой в кармане. Молча сел за стол, так же молча налил в стакан и молча же выпил. Пододвинула к нему тарелку с каким-то варевом, тыльной стороной ладони отодвинул.
С того дня запил. Страшно, запойно запил, спустив аж трёх лошадёнок, коих воровски свёл со двора родительского и продал в соседней деревеньке Никитаевской. И сгинул бы, да однажды не выдержал такого позора крутой характером тятенька Степан Фёдорович: запер сына в бане, на двери повесил тяжёлый амбарный замок. В довесок – рамы снаружи досками заколотил. Неделю держал Гаврилу в бане на одной воде. Убедившись, что тот протрезвел окончательно, выпустил ранним июльским утром и приказал садиться на телегу – семья готовилась ехать на покос.
– Не наладишься жить по-человечьи, своей волей порешу, до смерти порешу, – молвил, глядя вперёд себя.
Все, кто был рядом и слышал хозяйскую угрозу, разом повернули головы в сторону Степана Фёдоровича, ни у кого не осталось сомнения насчёт того, что угроза будет в точности исполнена. Наталья Прокопьевна даже придвинулась к сыну, взяла того за руку, и Гаврила почувствовал, что тело матери подрагивает – видно, плачет сердечная. Молча плачет, дабы муж не увидел и по своему обыкновению не остудил резким словом её неуёмную любовь к их совместному чаду. «Телячьих нежностей» этих Степан Фёдорович не любил, и в семье Долгих не принято было выказывать какие-либо особые чувства к детям, а тем более – на людях. Гаврила на материнский порыв ответил лёгким прикосновением руки к плечу Натальи Прокопьевны, и скупой ласки сына было достаточно, чтобы мать успокоилась.
Радостно было ей глядеть на Гаврилу и на покосе: обливаясь потом, махал косой мужик, насколько хватало сил. Когда садились обедать, ел от пуза, отъедаясь на родительских харчах, а ночью отсыпался в душистом сене. Даже хромал меньше, а может, не хотел показать излишней слабости и терпел мужик, превозмогал боль – о том никто не ведал и про меж собой никто не заикался.
Косил глазом в сторону сына и Степан Фёдорович и, видимо, оставался доволен результатами своей отцовой «науки». А как-то вечером, уже перед тем как на следующий день выехать с покоса, заметил вполголоса супруге, мол, его «воспитание кнутом и батогом» не в пример действенней её слёз и уговоров, на что Наталья Прокопьевна молча кивнула головой.
– Так-то будет с него, – прибавил, подняв к небу палец, Степан Фёдорович. – Не усвоит мою «науку», выгоню к чёртовой матери из дому – пускай где-нибудь в канаве подыхает.
До призыва на германскую жениться не успел, поглядывая в сторону Белых Ольги – девки спелой и слишком уж вольной на язык, что не нравилось родителям Гаврилы, и оба они были против такой невестки. Про таких-то говаривали: «бой баба». И нельзя было понять – в осуждение ли говаривали, в похвальбу ли. Крутила как хотела парнями, особенно безусыми, каким в ту пору был и он. Смеялась звонко, раскатисто, задирая при этом голову к небу и выставляя на обозрение высокую грудь.
Таскался за девкой Гаврила, торчал у заплота усадьбы, заглядывал в окошки, и о том Ольга хорошо знала. Неведомо, чем бы всё это кончилось, но наступил 1914 год и Гаврилу призвали в армию. Не успел парень отъехать от Тулуна на гремучем поезде, как Ольга выскочила замуж, да за такого же призывника, что и Гаврила, только прибранного чуть позже. Однако Гаврила возвернулся, пусть и калеченым, а безусый муженёк Ольгин так и остался безусым, потому как его убили чуть ли не в самом начале войны.
Гаврила зазнобу свою не позабыл и, как ни противились тятенька с маменькой, привёл однажды вдовицу в дом, заявив, что будут они с молодой женой жить отдельным хозяйством, для чего тятенька должен отделить ему некоторую часть от хозяйства своего. И стали нарождаться детишки. Видно, и молодая поспела, и мужик стосковался на фронте по женской ласке.
Не спорил Степан Фёдорович, решив про себя, что так-то, может, будет и лучше, чем не привязанная ни к чему путному, постоянному жизнь уже зрелого мужика. Так и почал братка своим углом, и вроде бы налаживалась его совместная с Ольгой жизнь.
Мало-помалу родители попривыкли к новому положению сына как человека женатого, принимали в доме не шибко желанную невестку, ублажали внучат. А сам Гаврила держал себя с ними так, как будто ничего в их общей на всех жизни не случилось. Крестьянское же дело, к каковскому привязан был с детства, складывалось само собой, благо тятенька в своё время приучил его ко всякой работёнке.
Совсем выпивать Гаврила не бросил, но хватался за рюмку уже с оглядкой, правда, Ольга его не одёргивала, а напротив – сама была не дура выпить, что опять же не нравилось свёкру со свекровью, ведь в крестьянстве женщины держали себя строго, а уж о спиртном и речи не могло быть.
Грешно было Настасье обижаться на братку, один он помогал ей: телегу настроит, смажет, хомут подладит, заплот поправит, косы отобьёт.
Избушку, в какой проживали, ещё Семен купил у старухи Ивленьи: отдал десять пудов хлеба да телка-однолетка.
Пока хлопотала о теле покойного мужа, избушку её чужие люди и заняли. С боем отстаивала своё право на жилище Настасья, и опять же подмог братка. Нацепив пару медалек, что получены были им за фронтовые заслуги, шагнул в дом к непрошеным хозяевам с дробовиком в руках и тех только и видели. Вернулся к сестрице со словами, мол, иди, занимай углы, хозяйствуй…
Привела ребятишек, узлы с барахлом принесла, печь затопила, а она чадит. Полезла – батюшки!.. Середина-то вся провалилась…
Обливаясь потом, приволокла на себе от речки камень в пуда три, положила на кирпичи да глиной обмазала. Так и начали жить. Избушка ветхая, да своя: два входа – со двора и с улицы, в сенях – крылечко в три ступеньки, прясла – так и так; напротив – Беловы, поодаль – Котовы, за огородом – Травниковы.
И Капка вроде стал поправляться, ножками потихоньку переступать. Покряхтывая, вошёл с улицы Петька, свалил возле печки охапку берёзовых дров. Потоптался, будто мужик, исподлобья поглядывая на мать.
– Там кампания валит, к нам, видно, идёт…
– Кто? – всполошилась Настасья.
– Дядя Иван с теткой Лукерьей, дядя Ганя с теткой Ольгой и дядька тот, с которым ты давеча у колодца стояла, да ещё какие-то…
– Вот нечистая несёт, прости меня Господи… Угощать-то чем буду?..
Выскочила, сама не ведая зачем, в сенцы и попала прямо в объятья невестки Ольги, браткиной хозяйки.
– Чё забегала-то, чё забегала? – задышала та ей в ухо дыхом от принятой стопочки наливки. – Встречай кумпанию, за стол сади да покрепче чего. На вот…
Сунула узелок, видно, пирожков с ватрушками. Сама повернула из сенцев на крылечко, где уже топталась незваная-нежданная «кумпания», зазывая певучим голосом в избу.
– Идите, не робейте, ухват я у хозяйки отняла, да скалку та успела припрятать…
Послышался сдержанный смех мужиков, и через минуту человек шесть снимали полушубки, дохи, шапки и платки. Проходили к широкой, стоящей ближе к божнице лавке, прежде чем сесть – крестились.
– Прости ты нас, – говорила за всех Ольга, – знам, что незваны, но теперя ничё не поделать. Не гневись на нас и не гневи Бога – праздник вить большой, потчуй чем есть.
– Да уж, – в тон ей отвечала оправившаяся от волнения хозяйка. – Чё уж теперь, сидите да ждите – ничё у меня для вашего приходу не сготовлено. Не помышляла о гостях…
Сказала сие, знамо, для форсу, по стародавнему обычаю в такой большой праздник, как Рождество Христово, всякий мог наведаться, и не угостить считалось великим грехом. Потому и щей чугунок томился за заслонкой зева русской печи, и сырники сладкие творожные ожидали своего часа в кладовой на жестяном листе, и огурчики, и грибки, и брусника, и в самоваре тлели уголёчки: только раздуй – и запыхтит-засопит толстопузый… И юбка кашемировая была на ней, поверх которой навязан чистый фартучек.
Сновала из кути да к столу, от стола да в куть без показной суетливости, а с достоинством, отвечая коротко на шутливые слова братки. Статная, хоть и небольшая росточком, сохранившая полноту груди и упругость бёдер.
– Ах, сестрица, ах, ненаглядная… Куды там моей Ольге до тебя, – поворачивался к мужикам братка, – всем взяла!..
– Ку-уды мне, – с деланой обидой в голосе отзывалась Ольга. – Родная сестра завсегда краше опостылевшей жены…
Остальные сдержанно посмеивались, искоса поглядывая в сторону стола и отмечая про себя, что уже всё на своём месте, остаётся дождаться приглашения хозяйки, перекреститься и с благословления Божьего принять первую рюмочку крепкого хлебного самогону. А там и пойдёт всё своим чередом.
И по рюмочке первой выпили и закусили, пора бы по другой. Но вот, нежданно для всех, а больше всего для Настасьи, встал со своего места Устин Брусникин и, глядя куда-то ей в плечо, проговорил твёрдо:
– Сватов бы нада, Настасья Степановна, да, видно, я не в тех годах, чтоб женихаться-хороводиться… При всех вот твоих сродственниках хочу сказать: давно, давно желаю видеть тебя в своей избе хозяйкой полновластной и детишек твоих готов пригреть, будто родной отец…
И уже тише, просяще, неуверенно, заглядывая в её тронутые скорбью глаза:
– Иди за меня… В Завод съедем, жить вместях зачнём…
Хорошо молвил, и Настасья рада тому была в душе.
Но как ответить?.. Как ответить, ежели не улеглось, не перекипело в ней всё то, чем жила доселе – и с Семёном, и без него?.. Чем мучилась, от чего страдала, чего страшилась и что свершилось, чем собиралась дожить остаток жизни своей около детей своих, и ради детей же не помышляя об ином и не доверяясь никому в самом потаённом, сокрытом в самой глуби сердца?.. Только Бог, Единый Всевышний и Милосердный, только Он и мог читать в её сердце, скорбящем и безутешном. Всеблагой и Всезрящий…
Слова нашлись, и в том она тоже усмотрела перст Божий. Встала напротив, некоторое время спокойно вглядываясь в черты лица будто незнакомого ей мужика, в общем-то и впрямь мало знаемого, в её жизни – стороннего… Молвила:
– Не гоню. Но и не торопи. А за честь – спасибо…
И поклонилась низко.
На том сватовство и закончилось. Только Ганя подзадержался, помял её за плечи, не найдя слов, заковылял через порог.
Скупая на слезы, не выдержала на сей раз Настасья, добрела до кровати и плюхнулась всем телом на мягкую родительскую перину, заброшенную поверх старым атласным покрывалом, справленным ещё тятей и мамой в приданое любимой своей дочери Настеньке лет эдак около тридцати назад, когда бегала она по двору несмышлёной девчонкой.
И через вещи эти – перину и атласное покрывало – сообщилось, видно, истерзанной, настрадавшейся душе её тепло родительской ласки, дошедшей из-под надгробных камней старого деревенского погоста, где успокоили свои косточки Степан Фёдорович и Наталья Прокопьевна на год раньше Семёновой гибели – в семнадцатом. Почти враз померли в тот год они и легли рядом, под единым камнем.
В крестьянстве редко надолго хозяин переживал хозяйку или хозяйка хозяина. От того, видно, что единым духом жили, по одной житейской тропиночке ходили, единое дело делали, единую думу думали, единую беду ли, радость ли чувствовали.
На своих ногах помирал человек, никто ни за кем не ходил, никто ни с кем не мучился, никто никому не был в тягость. Потому и память о сошедших в могилу была крепкой и чистой. С благодарностью в сердце жили – за свет, за работу, за детей, за родителей. С благодарностью принимали смерть, от дедов переняв святую веру в то, что всё во благо – и самое жизни начало, и самая её середина, и её неизбежный конец.
Но и оттуда, из погребной дальней дали, из-под тяжёлых камней и лиственничных крестов продолжали в тлении своём греть души тех, о ком более всего печалилось сердце в их земной жизни. Разрастались раскидистыми берёзами да буйной травой, поддерживая во всяком живущем веру в вечное и непереходящее.
Но и берёзы старились. И трава перерождалась в пырей, а всё не угасала память о сошедших в небытие, всё где-то кто-то, ну хоть единая родная живая душа нет-нет, да и вспомянет, призадумкается, опечалится – в светлой ли радости за полноту счастья жить, в беспросветной ли скорби по утраченному, чему-то большому и невосполнимому.
Устин Брусникин живность держал на глухой заимке. Сразу после окончательного утверждения Советов в двадцать первом часть скотины пустил на мясо, чтобы выгодно или продать, или выменять на одежонку и прочую необходимую в хозяйстве справу.
Война будто не коснулась его: приходили партизаны, агитировали – ссылался на ранение, полученное в германскую. От белых прятался на заимке. Между делом распахал целик, но сеять ничего не сеял, соображая про себя, что все его труды могут пойти насмарку.
А тут развернулся – бояться было некого и нечего. Белочехи, взорвав на пути отступления мост через реку Ию, свершили тем самым последний в своем бесславном походе акт разрушения и вскоре были выдворены за пределы государства, Колчака большевики расстреляли на Ангаре в Иркутске.
Слухи обо всех этих событиях доходили с солдатней, возворачивавшейся к своим избам, да от бедняцких горлопанов, хозяйничающих в поповском доме.
Скотину Устин побил из политических соображений, отлично понимая, что лишнее всё равно отберёт новая нахрапистая власть. Но и того, что оставил, хватило бы на иную многодетную семью.
Возвращался с поля усталый, злой, садился на лавку у окошка, придирчиво наблюдая, как сухопарая, изработавшаяся Ульяна налаживала на стол.
Из мужиков знался более с Тимофеем Дрянных от того, видно, что оба они ещё смолоду лютой ненавистью поглядывали в сторону Сеньки Зарубина – парня статного, спокойного и, как казалось, гордого какой-то своей особой внутренней силой.
И в самом деле, была в том парне сила, не в руках могутных и упругости крутой груди, а в ином чём-то, понять чего не дано было им, деды, а потом и отцы которых первыми на деревне захватили лучшие пахотные угодья и близкие сенокосные луга. Не вертелся Семён на вечёрках перед девками, не тряс чернявой головой, не заходился в плясе, а если и появлялся, бывало, в кругу сверстников, то всё вроде особнячком, только и позволяя себе изредка короткие взгляды в сторону дочки Степана Долгих.
Характерной, надо сказать, девицы, хотя ещё и не вошедшей в года.
И было в кого ей иметь характер. Степан Фёдорович, тятя её, пониже стоял от Дрянных и Брусникиных по богачеству, но такой человек был приметный, что ежели идёт по деревне и с чего-то не всхочет глянуть на встречного, то и не глянет. А глянет – не то чтобы рублём одарит – кланяться подмывает за его внимание, да бормотать слова благодарности во след.
Но удивительное самое, может быть, было в том, что никто не таил на него обиды – уважали, не зная сами, бог весть за что.
На сходы сельские, будто нарочно, приходил, чуть припоздав, а уж рот откроет – и говорить другим вроде бы уже незачем и не о чем.
От такого вот корня происходила Настя, породниться с таким корнем сочли бы за честь не только афанасьевские, а из более дальних, усядистых сёл, более крепкие хозяева.
И роднились. Самая младшая, Авдотья, была отдана за первого афанасьевского богатея – Демьяна Котова. К средней, Мавре, ездили договариваться из самого Тулуна. Но не шла Мавра, и здесь была своя причина, о коей рассказ будет впереди. Ну а Настеньке, этой, видно, дано было неоценимо редкое право решить судьбу свою самолично – по сердцу девичьему, по душе христианской. Так будто бы молвил сам Степан-от Фёдорович супруге своей, Наталье-свет Прокопьевне, и всяк тому верил, потому что Степан Фёдорович по причине любой говорил только раз.
Так оно впоследствии и сложилось: сунулся было Устин – чуть повернула голову в его сторону, залепетал чего-то Тимофей – чуть скосила глаза. И засела «в девках» до того глубокого времени, когда и телу, и душе давно приспела пора рожать детишек, петь над их колыбелью немудрёную материнскую песню – печаль-радость.
И никто не мог понять – отчего.
Сёмка Зарубин тем временем два года батрачил в другой стороне от Тулуна – в Манутсах, вернувшись с парой добрых лошадей, продал их и своей волей пошёл служить службу царскую заместо уже многодетного младшего брата своего, Ивана.
И ещё на четыре года канул. А когда объявился, уже после японской в 1906-м унтер-квартирмейстером и с золотой медалью на груди, то тут и сватов в дом Степана Фёдоровича направил. И переполненная спелостью девка, так будто бы сказывали, на грудь ему без всяких слёз и разговоров кинулась.
Тут-то и очухалась деревня, тут-то и забалабонила, мол, во-она кого девке надобно было…
И свадьба. И мужняя жена. Избёнку купили в Тулуне, где, как стало известно, Семён подался в путевые рабочие на железнодорожную станцию.
И скорые вести стали доходить до деревенских, будто веру какую-то принял, ещё будучи в Порт-Артуре, и теперь мутит народ, забивает головы таким же дуракам, как и сам, ненужной трудящемуся человеку по-о-лити-и-кой…
Но живут они с Настасьей будто бы ладно, имея то же, что и всякая крепкая деревенская семья, – пару лошадей, тройню коров, ну и прочую необходимую в хозяйстве справу и живность.
А там, как и положено, детки пошли один за другим. И в деревню иной раз наедет к родителям в Афанасьево с детьми на неделю-другую.
Не спесивясь, никого не сторонясь, а с Устином так даже иной раз не прочь перемолвиться словом радушным, но душевно сторонним, как и положено, венчанной мужней жене.
И Устин к той поре был обженён родителем на взятой с Заводу Ульяне Полиной.
После встреч таких он чаще напивался, реже, если было заделье на родовой заимке, садил в сани, в телегу ли Ульяну и вёз с глаз долой. И видели будто люди, как, отъехав подальше, сдёргивал нелюбимую жену с саней ли, с телеги ли, перехватывая обе её руки тугим узлом длинных вожжей. И вёл эдак-то до самого места, идя следом и нахлёстывая время от времени по Ульяновой спине приготовленным заранее берёзовым прутом и покрикивая, будто Ульяна была вовсе не человеком, а лошадью.
В один год, то ли весенней, то ли осенней порой, съехали в Завод на постоянное жительство, взяв, конечно, положенную долю хозяйства от родителей. В одночасье преставились женины отец и мать, и по причине отсутствия других наследников к Брусникиным перешли и дом, и заимка, и всё прочее, что было у покойников и чем жили они на этой земле.
Здесь-то и развернулась вся его жилистая, жадная и до работы, и до богачества натура. Теперь уже не битьём изматывал жену, а работой чёрной. И какой прок было добивать единственного бессловесного работника, ежели жила в нём потребность выделиться в первые во всем Заводе на зависть афанасьевским и в усладу себе, как думалось, обойдённому незаслуженно вниманием приглянувшейся смолоду девке? Не было проку, и это Устин смекнул скоро. И в самое время, потому как Ульяна, хоть и была бессловесная и во всём покорная мужу, но всерьёз подумывала о тёмных изворотах перекатистой Ии…
Высохла раньше срока Ульяна, обернула тёмным платочком голову и замолчала на года. Молвит Устин – пошла. Глянет – замерла на месте. А способность рожать, видно, выбил из неё остервенелый мужик ещё в зачатье их совместного жития. Может, и не хотела, тоже по-своему, по-женски озлобившаяся, и заморила утробу свою слезами да наговорами. Какая жизнь, ежели по потребности разворачивал, как валёжину, и отваливался, будто выпил лагун студёной воды. Здоровый и всегда – чужой.
Не ласки хотелось Ульяне – о том и думать не смела. Признания за ней права на половину супружеской кровати хотелось, того признания, какое есть во всякой семье, даже если красну девку выдали за урода.
Родители её оставили столько, сколько за жизнь не пережить. Крепкий пятистенок, под единой кровлей завозня, стайки для скотины, для свиней. По другую руку, тоже под единой кровлей – амбар с ларями для муки и зерна, загородка для всякого инструмента. Здесь же вся лошадиная справа и ещё один уже небольшой амбар и далее – летняя спальня и погреб.
Посмотришь с улицы через бревенчатый забор – ничто не бросается в глаза, но тут же почуешь – здесь крепко устроено и облажено хозяйство.
Понятно, подзапустили старики-то хозяйство, но Устин ещё при жизни тестя с тёщей нередко наезжал в Завод, жил по дня три, вкладывая в приходящую в упадок усадьбу с утра до ночи всю свою молодую силу. Знал потому что – его будет, не унесут ведь старики с собой во гроб.
Была и заимка, правда, попроще строениями, но с удобными пахотными, сенокосными и выпасными угодьями.
С переселением в родительскую избу как бы схоронила себя заживо Ульяна – не надеясь на перемены, не веруя в переменчивость своей загубленной на корню судьбы.
Понимал её положение и Устин, поглядывая теперь из хозяйского угла на заученно-суетящуюся у печи бабу, так и не ставшую за десять лет совместного проживания своей. Поглядывал, как на печь, около которой та суетилась, как на всхрапывающего за окном коня, как на улёгшегося мордой на лапы цепного кобеля.
Думал думу о своём, доступном только ему одному.
Может, только когда наезжал со своей бабой Матрёной давний дружка Тимоха Дрянных, в избе четы Брусникиных и селился жилой дух. Мужики усаживались на своей половине, бабы – на своей, и всяк по-своему отводил душу.
– Слышко, Устин, – хрипловато клонился к приятелю Тимоха, – навезла чего-то тятьке с маткой, а Степан Фёдорыч ей швейную машину отвалил. Моя бегала, так все спознала. Малец-то, Петька, вроде и не похож ни на Настю, ни на ейного политика. А девчонка – вылитая Сенька, так и глядит исподлобья.
Отвалился, хихикая.
Устин сдерживал себя, хорошо зная дружка закадычного, – неспроста говорил тот ему про занозу.
Но, бывало, и кулаком по столу треснет, испытывая наслаждение и от враз заметавшихся глазёнок Тимохи, и от наступившей вдруг тишины в избе.
Лил в глиняные стаканы себе, Тимохе, и выплёскивалась самогонка в глотки мужиков незамедлительно. И уже Устин клонился к приятелю:
– Ты, варначья твоя душа, затем прибыл, чтоб нутро мне вывернуть? Не радуйся, а попомни моё слово: не быть ей за Сенькой, хоть, бл… натаскать успела от энтого зарубинского отродья…
Матерился, скрипел зубами, но и тут умел совладать с собой.
Менялись на столе хозяйские яства, лилась рекой самогонка.
Засыпали тут же, за столом. И тогда уж в полный голос распускали языки бабы – обо всём, что было и не было в их деревнях, что было и не было в их семьях. Но если Матрёна могла позволить себе на чём свет стоит костерить своего Тимофея – мужика во всём ей покорного и бесхарактерного, то Ульяна больше говорила о прибытках хозяйственного порядка и о том, что Устин уж не тот, что в Афанасьеве, и что всего у неё в достатке – и шалей, и юбок, и кофт, и буднего, и праздничного.
– А счастья-то хватат? – наклонялась к приятельнице захмелевшая Матрёна. – Ласкат он тебя-то?.. Чё деток-то не заводите?..
Изводила, изгалялась. Портила заглянувший в душу Ульяны праздник. Насладившись своей бабьей извечной усладой – укорить в чём бы то ни было, говорила примирительно:
– И с ими, девка, тож мука. То пелёнки, то сопли, то одевай, то обувай, то жени, то замуж отдавай.
И заканчивала:
– Живёте – и живите себе. Добро в избе – тоже счастье.
И пели бабы песни, и полыхал медью и жаром на столе самовар.
Дня через два вслед за Дрянными собирался в Афанасьево и Устин. Знала, зачем едет, молча подсобляла собираться, выходила за ворота и с каждым разом всё больше чувствовала, как усыхает в ней даже не женская гордость – человек усыхает.
Ни горести, ни вздоха, ни сожаленья.
…К туго завязанному житейскому узлу стремится живая русская женская душа: в счастье ли, несчастье ли, в горе ли, радости ли. Чего умом не постигнет – сердцем почувствует. Чего сердцем не почувствует, до того через дитя, рождённое в муках, дойдёт. Но всяким умом она хороша – большим ли, малым ли. Всяким сердцем чиста – полным ли любовью ответной или поруганным. Всякой статью. Во всякие года – молодые ли, зрелые, унёсшие ли жизнь за черту одряхления. И хотя у каждой своя молитва, своя дорога – и молитва об одном, и дорога к единому – к семейному очагу. До гробовой доски кладёт силы она, дабы огонь в очаге том не затухал. Ну а ежели огня и духом не бывало, души своей живой раскалённые угли подкладывает в тот очаг, пока не истратит последний. Тогда уж – конец. И жизни, и самой земле.
Допёк-таки Настасью Устин. Переехала к нему в начале июня, посадив в огороде картошку и всякую овощную мелочь – кто ж знает, как сложится жизнь с новым мужем и чем потом будешь жить.
На заимке Устиновой жила с ребятишками почитай два месяца. Отсеялись, приспело время косьбы.
С вечера отбивал Устин литовки, приспособившись подвешивать черенок к прибитой между берёзиной и стеной жилой избы жердине, на которой обычно висели телячьи и бараньи шкуры. Высокий звук ударов кривого молотка проникал через стены, тревожа душу Настасьи давними воспоминаниями о подготовке к покосу в родительском доме, а затем и в её собственной, образовавшейся с Семёном, семье.
Три года не слышала она этот звук, снося в пору сенокосную, пока была еще коровёнка, литовки к братке Гане. Теперь двигалась по избе, ловила слухом знакомый от рождения стук, никак не могла отделаться от привязливых своих дум.
В Заводе никто не выказал особого внимания к появлению новой хозяйки в избе Устина Брусникина. Не до того было. Спиртовое производство с исчезновением неведомо куда исконного владельца Федора Акимовича Черемных – пришло в запустение, а Советы не торопились налаживать. И чем было питать то производство при всеобщей скудности? Картошки – себе бы нарыть, свёколка, та и вовсе вывелась – каждый норовил запастись на зиму чем посытнее. Мало приспособленный к земле народ здешний от века кормился от ведра произведенного в Заводе спирта. Корову, конечно, держал всякий. Лошадь, понятно, тоже имел. Огород на семью. Но заимок, как у родителей Ульяны, по пальцам одной руки сосчитать.
И откуда им взяться? Скальный берег реки Ии – с одной стороны. Невысокий, поросший ивняком и черемуховыми кустами берег речки Курзанки, впадающей в неё, – тут же. Со стороны Тулуна подпирают деляны опытной станции. Остается урочище Угуй – место ладное, на которое зарились и заводские.
Правда, после двух войн – германской и Гражданской – народу заметно поубавилось, хоть и старался сибирский мужик меньше влазитъ в братоубийственную свару. Но в первую брали не спрося, от второй убежать и того было труднее – убежишь разве от своего же соседа, ежели приспичило ему перекраситься в красный цвет и драть горло за мировую революцию? Такой скорей любого чужого придвинется с ножом к горлу – и коровёнку порешит, и лошадёнку со двора сведет.
Приглядываясь к хозяйству Устина, не могла поначалу надивиться, как это он скотину умудрился уберечь. Две дойных коровы, три телка, две лошади и вся к ним справа. Водилось и зерно, имелось пчелиных колод эдак с пяток.
Потихоньку-помаленьку голова приходила в ясность, глаза примечали недоброе.
Неспроста, видно, родитель посватал Устину Ульяну – дочь Полину. Ох неспроста… Всё вызнал, все просчитал. И разговор у хитрого Федота с сыном состоялся в своё время основательный. Не на девице красной женил, на наследстве, которому молодые руки жадного до богачества Устина были в самую пору.
Знал Федот и о зверском отношении сына к супруге. Знал, да помалкивал, кося глазом в сторону своей половины. Он и сам женился с соображением, и сам в молодости не щадил её даже при подрастающих детях. «Жена, что норовистая кобылица, – любил говаривать, – бей, ежели уросит, но пуще того, ежели не уросит… Наперед, чтоб не баловала…»
Поговаривали в Афанасьеве, что Федот связан не то с цыганами, не то ещё с кем. Основанием для того служили частые отъезды старшего Брусникина из деревни, особенно в базарные дни. Брал с собой старшего сына Павла, а однажды привёз его в санях подстреленным. Насмерть. Далеко слышно было, как голосила по сыну мать – поначалу от горя голосила, а потом и от науки Федотовой, чтобы не выкрикивала лишнего, поскольку Пелагея, забывшись, в причитаниях своих винила в смерти Павла самого Федота.
Поездки свои Брусникин стал совершать реже, но младшего своего, Устина, с собой уже не брал, желая, видно, поостеречь его от участи старшего сына.
С годами остарел и к началу германской выезды, можно сказать, бросил совсем, не заказав, однако, дорогу к жилищу своему сумрачному, не известному на деревне люду. То ли для схорону везли те люди к Федоту награбленное-наворованное – никто ведь не заглядывал в возки. То ли для совета. То ли ещё для чего. Но что везли – точно: видели люди, как носили в амбар поклажу. А с переездом Устина в Завод стали заезжать и туда – одно племя-то, брусникинское. Да и фамилия – Брусникины – как нельзя лучше к ним лепилась: с виду вроде люди, а копни глубже – звери. Короче, ягода не ягода – кровь алая, запёкшаяся…
И чего ездили – бог весть. Ездили при Ульяне, наехали тут на днях и при Настасье.
Незнакомые всё, но один – гривастый и безбородый – всё же встречался ей: видела его с племянницыным дружком.
Собрала на стол, сам Устин припёр четверть самогону, а потом, отозвав её в куть, просительно выговорил:
– Ты бы, Настасьюшка, не глазела на нас, на мужиков, сходила бы куда, чё ли?..
Понятно, не хотят свидетелей иметь. Глянула на него исподлобья и вышла.
Заделье, конечно, найти можно было и во дворе, но вдруг впервые за эти, почитай, два месяца жизни с Устином заворочались пока мало понятные ей самой мстительные мысли в мозгу, так что присела на притулившуюся возле бани лавчонку и не шутя призадумкалась.
– Так-так-так… – пробормотала в конце концов и, будучи уверена, что её никто не видит, направилась к телеге, на которой приехали непрошеные гости.
– Так-так-так… – продолжала бормотать, шаря рукой под рогожиной.
Верёвка, топор, две культяпки обрезанных винтовок. Подскочил Петька.
– Мам, чего здесь?
– Иди, иди, Петенька, – попробовала уйти от ответа, но тот уже шарил под рогожиной сам, вытаскивая и тяжёлую кожаную сумку, как видно, с патронами, и обрез.
– Чего дерёшься-то? – огрызнулся, когда, испугавшись и собственного, и сыновнего своеволия стукнула парня ладонью по затылку. – Такой я у дядьки Устина давно видел, ещё как приехали…
– Видел, говоришь? Где видел?
И парень уже за амбаром, куда она его затащила, рассказал, как обратил внимание на то, что дядька Устин, поминутно озираясь, прятал что-то под крышу бани, и как он потом нашарил тряпицу, а в ней обрез.
– У тятьки был револьвер «бульдожка», – частил Петька, – а у дяди Устина – обрез, как у бандита.
– А тебя дядя Устин не видел?
– Не-е-е, – уверенно мотнул головой Петька, – он как раз в Завод ездил. А щас его там нет, – выпалил напослед.
– Так-так-так, – в раздумьи застыла Настасья и, ничего более не прибавив, вернулась к лавчонке, где и просидела, пока Устин не выпроводил гостей и не подошёл к ней – пьяный не пьяный, но и не в меру весёлый.
– Ах, и заживём мы с тобой, жёнушка, – попробовал облапать. – Скорей бы уж власть кака определилась, а то и не знашь, каку комедию ломать…
– Женой-то из-под венца становятся, а я тебе – сожительница, – не сдержала себя Настасья, отводя его руки.
– Да, чё ты в сам дели? – обиделся Устин. – Кака ты пара хоть той же покойнице Ульяне?..
– Укатал небось Ульяну-то? – поддела за живое.
– Поди ты! – плюнул, обозлившись. Не обращая на неё больше внимания, затянул:
Пое-е-хал я во чи-и-сто поле,
По се-е-рцу де-е-вицу сыска-а-ть…
– Сыскал? – оборвала.
– И-их же ж, кака ты вредна… Сыскал тебя вот с тремя детишками. Один волчонком глядит – не заметишь, как оперится да с ножом к горлу подступит. Друга всё бочком, да по стеночке – к матери. Третий – вопче дитя несуразное.
И загоготал.
– Скока кругом и баб, и девок – бери не хочу. А я вот к одной присох почитай два десятка лет. Заграбастал – всё не моя.
– Мне пожитки недолго собрать, – притворно обиделась Настасья. – Серко живо до Афанасьева домчит.
– А и не стану держать, – так же притворно храбрился Устин. – Свово Быстрого впрягу в ходок – вот он стоит, с ноги на ногу переминается.
– И не пожалешь коня-то? Для других делов он у тебя вить…
– Да-а, – протянул Устин, будто в раздумье. – Вынесет, не приметишь, как в тёмном лесу окажешься…
– Два месяца гляжу, всё понять не могу, – как это обошли тебя напасти-ужасти. У людей, у которых ни кола, ни двора не осталось, живут – животы подтянули. У тебя ж с Тимкой Дрянных – полна чаша всего.
– У нас, Настасьюшка, у нас с тобой, – придвинулся, дыша в щёку сивухой.
– А наше ли это, Устинушка?..
Отстранился, почуяв недобрые нотки в голосе женщины. Глядел некоторое время, будто спал да проснулся и не может понять, сон ли продолжается, явь ли перед ним.
Отвернулся, загорланил:
А в по-оле чи-истом моя до-оля — Тоска серде-ечна-ая, то-оска…– Чего тоска-то давит? – продолжала теребить.
– Детишек бы нам совместных, – и впрямь проговорил с неподдельной тоской в потускневшем голосе. – К твоим с Сёмкой да наши опчие – вот и семья.
– Да хватит ли добра на прокорм? – допытывала, увлечённая своей неспроста затеянной словесной игрой.
– Хватит, бабынька, хватит.
У меня добра, Ой, полна су-у-ма-а…Осёкся. Замолчал.
– Ну ладно, – поднялась, – с тобой весело, а мне коровёнок доить.
Подкатился к ногам безгласный Капка, ухватил за коленки, замычал. То ли кушанка хорошая сказалась, то ли ещё чего, а встал на ноженьки на тихую радость матери.
Вот для кого согласилась она на предложение Устина, на сытую жизнь позарилась.
Скоро четыре года, а всё несмышлёныш. Скажешь – не слышит. Позовёшь – не откликается. Сколь раз пыталась пробиться к сознанию дитяти единокровного. Сколь раз, бывало, зовёт Капку Настасья – и не одна чёрточка в лице его не дрогнет… Копается в земельке, лепит ручонками податливый чернозём, пропускает сквозь пальцы, тянет в рот. Отвернётся Клашка, не доглядит мать – черней чёрного личико, и надо вести к корыту с водой, обмывать.
Нет для матери тяжельше тяжести, чем испытание юродивым дитём. Не отмахнёшься, не открестишься. В слезах только и отведёшь душу.
Припоминая давнишнее, не услышала, что стук молотка уж давно прекратился. Очнулась, когда вошёл Устин и, как показалось, недобрым взглядом скользнул по притулившемуся к ногам Настасьи ребёнку.
– Литовки – на мази, резать траву добро будут.
И требовательно:
– Сгоноши-ка чего на стол…
Этот приказливый тон в голосе мужика всё чаще в последнее время стал проявляться. Сперва вроде как за шутку принимала, за игру какую, мужиком затеянную. Потом смекнула – не шутит.
«Нет, голубок, – решила про себя тотчас, – помыкать ты мной не будешь. Я тебе не Ульяна…»
Раза два одёрнула, мол, сама знаю свою работу. Потишел, но не надолго. Что ж, поглядим, что дале будет.
Менялось и отношение Устина к ребятишкам. Поначалу и Петьке волосья потреплет, и Клашке ласковое слово найдёт, и Капку на ноге подержит. Теперь – не то.
«Може, я слепну материнской куриной слепотой? – думала, сомневаясь. – Семён, тот и время-то на детей не находил, а ничё не видела, будто так и нада… Этот же взял меня с троими. Шутка ли – обуза така…»
Но нет. Не мерещилось матери. Не слепла куриной слепотой. На Петьку покрикивал, за Клавдию корил, что мало помогает ей по хозяйству, Капку будто и не видел.
Поостереглась делать скорые выводы, решила поглядеть, что дальше будет.
Дальше случилось следующее.
Готовясь к покосу, хотел Устин подтесать черенок литовки. Схватился рубанка, а его на своём месте и нет. Кинулся, не разобравшись, к парнишке, собрал ручищей рубаху на груди.
– Тебе хто, паршивец, струмент дозволил брать?..
– Дя…дя…дя… – залепетал Петька с испугу. – Не брал я рубанка…
– А где же рубанок?..
На крик сына выскочила, дёрнула к себе парнишку, смело глянув в зелёные от злобы глаза мужика.
– Чё он с тебя доправлят?
– Ру…рубанок. А я не брал.
– Ах ты, дубина стоеросовая, ах, висельник, ты чё делал, када Тимка наехал?..
– Чё делал, чё делал, – теперь уже забормотал не ожидавший такого отпора Устин. – Строгал я…
– Вот там и ищи, где бросил за ради дружка закадычного!.. – И топнула ногой. – А парнишку не трожь!..
Голосок на последнем слове сорвался, будто литовка звякнула о камень. Устин насупился, пошёл под навес.
Молча устроились спать, молча чуть свет выехали на покос.
И прибавляло в ней чего-то такого, чему не могла, да и не умела дать названия. Позади, в не закатанной телегами, петляющей меж кочками и муравейниками ужимистой дороге, мерещилась бредущая с вытянутыми вперёд руками Ульяна, которую и видела-то она раз в церкви, приметную скорбной фигурой, скорей умаянной жизнью, чем лицом иль одёжей. В церкви-то всех разглядишь.
– Устина Брусникина?.. – переспросила ещё тогда удивлённая Настасья, сравнивая Ульяну с пышущим довольством Тимофеем Дрянных.
– Его, злыдня, касатка, – жамкнула проваленным ртом живущая по соседству с родителями старушонка.
От этих донёсшихся до неё, будто из загробного мира, слов на душе вдруг стало отчего-то зябко и тревожно.
Но ненадолго. Батюшка – отец Иаков – как всегда, служил истово, хор на клиросе подтягивал ему без устали; а сама она была в той женской поре, когда от ковша с водой отрываются только за тем, чтобы перевести дух.
Сожаление посетило её теперь. Позднее сожаление о том, что не дала себе труда доглядеть, допонять ту несчастную женщину, которая, как мерещилось, тащится вслед за телегой и не то молит быстрее соскочить с неё, не то укоряет за не принадлежащее Настасье место и грозит за это ещё горшей долей, чем доля безвременно сошедшей в землю страдалицы.
А и зачем ей было доглядывать-допонимать?.. Ей, теперь уже сполна хлебнувшей собственной вдовьей мурцовки, сполна хватившей лиха при живом, но далёком от жены и детей муже?..
И чья доля горше: Ульяны, не познавшей ни женского, ни материнского счастья, её – обманутой женщины, униженной матери, подвигнутой жизнью к тому, что смогла за кусок хлеба для своих единокровных деток запродать себя человеку, которого и разглядеть-то как следует не успела, не то чтобы полюбить?..
Настасья и Семён
С обидой в сердце оставил её на свете Семён.
Видела Настасья вдов, у которых кормильцы не возвернулись в японскую, а затем и в германскую. Худо, ежели куча детишек, но ещё горше, ежели никого. С детишками так-сяк, где общество подможет, где старшие мальцы подсобят. Жалели таковских бабёнок на миру, не давали помереть голодной-холодной смертью. Но вдесятеро тяжелее была доля не успевших народить потомство. Никто таковских не жалел и замуж не брал. Надсмеяться разве да бросить, что вещицу ненужную, поломанную. Платочком тёмным голову обвяжут и присыхают навечно к самой что ни на есть чёрной работе в избе сродственника ли, какого ли чужого человека, призревшего по убогости их и сиротству. И не было более скособочившихся избёнок на деревне, чем у вдов, более шатких прясел и заморенных коровёнок.
Не ведала, не думала и не гадала Настасья, что и ей одной коротать век, поднимать детей с мужем любимым, но бесконечно далёким от неё, чужим.
И всё-то у них было, а всё чего-то не хватало. Всё думу думал, книжки почитывал да по делам партейным хаживал, бросал на ночь глядя семью. Уйдёт, а она все окошки проглядит, от скрипа любого вздрагивая в полудрёме, в полузабытьи. А то и уедет: в Нижнеудинск, Иркутск, Читу. Ты жди-пожди муженька разлюбезного.
Иной раз зачнёт говорить, да так длинно и складно поведёт речь, что заслушается Настасья и ухват опустит и пригорюнится. Спроси её, о чём только что говорил Семён, – не скажет. О светлой жизни для трудящегося человека говорил, о братстве, о Ленине каком-то, который счастья всем людям желает. Но всё одна песня, слышенная ею на Мокром лугу в пору девичью, про старика с его сыновьями и мошнами на шее, с коими до старости бродили по белому свету, но счастья так и не сыскали. Ни для себя, ни для других. Единственной женщине – Аксинье – и той не привелось испытать женского счастья. Даже дитя не смогла после себя оставить.
Нет, нельзя, видно, разом для всех добыть счастье. Не желает того, верно, и Господь, коль равнодушно взирает с небес на земное копошение людишек, сталкивает их друг с дружкой лоб о лоб. Да благо бы чужого с чужим, а то своего со своим, как вот её, Настасью, с близким и родным ей человеком – Семёном, коего не переставала и не перестаёт любить она с самого девичества.
И что ей до мира, до братства, был бы дом – чаша полная, да детишки при отце-матери обихоженные. Да Богу свечку поставить в праздник престольный.
– Тёмная ты у меня, – обронил как-то.
– А ты, варначья твоя душа, до какой поры будешь меня с ребятишками бросать? – не выдержала Настасья. – Семьи у тебя нет? Детей нет? Жены нет? Ходишь-блудишь, языком мелешь…
Наступала на мужика, выкрикивала несуразное, наболевшее. И понимала – зря так-то, надо бы по-другому поговорить, да не могла стерпеть.
Кто она для него? Кем хотела стать для него и кем стала? Книжек не читает, в Бога верует. Всё хозяйство на ней, до всего заделье. А он, чуть явился с путей, крутанулся-вертанулся – и нет его. Ветер будто залётный. Явится среди ночи, разговорами покоя не даёт, не наговорился ещё с такими же, как и сам, беспутными. Ей чуть свет вставать, ему же жарить-парить, сумку собирать. А там и скотину кормить-поить, там и Петька с Клашкой голос подадут, и их обихаживай.
Не сказал ни слова, закряхтел, сунул ноги в валенки и ушёл.
Под утро явился, и тоже молчком. А у Настасьи уж перегорело-переболело на сердце и самой поговорить охота, хоть и глаз не прикрыла ночь дожидаючи.
На печь залез…
«И чё это за жизнь у меня за такая?.. – переживала, вслушиваясь в предутреннюю тишину погруженной в дрёму избы. – В девках сколь годков ждала, дождалась – ребята народились. Петька вон какой справный, а отца, почитай, не видит. Клашка растёт – вреднющая – воюй тут одна. Не хозяйство, так зачахла бы давно. Нет, неладно чего-то в их с Семёном жизни. Не-ла-адно…»
И так перевернулась, и сяк – заснуть уже не смогла. Додумывала уже поутру в кути.
Бросит блин на край разложенного на столе полотенца – и замрёт. И оцепенеет. Плеснёт на сковородку мешанины и снова замрёт.
За Бога корит, а в переднем углу – смех сказать: одна-одинёшенька икона Божией Матери. К кому зайдёшь – весь угол заставлен-занавешен. Взор умиляется от такой благости, сладость пасхальным яичком по душе прокатывается. А к себе придёшь – стыд и срам: книжки да картинки какие-то. Плюнет в сердцах, чертыхнётся, прости ты, Господи, душу грешную Настасьину…
Пробовала Петеньку приучать к молитве – прикрикнул. Дочь уж и не трогала.
Передвигалась по кути, как заведённая, не приметила, что давно уж мужик на ногах, поглядывает насупленный.
– Обезголосил, чё ли? – нарочно грубовато повернулась к нему. – Ешь садись да на службу иди.
– Тёмная ты у меня, – в другой раз обронил с сожалением.
– Да не тёмная я, – в тон ему отозвалась тихо. – Сердцем своим я светлая, потому как любящее оно у меня, сердце-то. А книжек твоих не знаю, дак и не к чему их мне знать. Моё дело – семья, дети, о коих ты забываешь, – это вот обидно мне, Сёмушка…
Стукнула дверью, ушла в стайку, где, зажав меж коленками ведёрко, привычно дёргала за сиськи коровёнкины.
Может, иная доля поджидала её? И в паре они с Семёном, будто саврасые, и бегут в одну сторону, и везут одну кошеву, а всё вроде воротят голову всяк по-своему.
На миру показаться с Семёном – льстило самолюбию Настасьи. Среднего роста, крепкий, с умным чистым лицом, ступал по земле с достоинством, в обращении с людьми напоминая родного тятеньку – Степана Фёдоровича.
Да и то сказать, железнодорожники на виду у всех. По-особенному одеваются, по-особому держат себя. На службе государевой, словом. Не как в крестьянстве: пришла пора – от темна до темна на покосе, а потом – хоть ноги кверху задери и лежи.
Жалованье – доброе, взять в лавке чего надобно – бери, не оглядываясь на чёрный день.
Сурьёзный народ, хоть кого взять. Хоть Гущинова Фёдора Сергеевича, хоть Ширяева Ивана Артемьевича. Хоть кого.
Ну и любят ублажить себя – это тоже в характере. Показать, мол, мы особые и за зря нас не трожь.
Соберутся в «Порт-Артуре» – кабак такой излюбленный у них есть на станции, тянут пиво, сосут рыбёшку сухую, а про чё балабонят – бог весть.
Наведалась как-то: табачище свет белый заслонил, половые шаркают, гул стоит от многих голосов, будто поезд скорый идёт на всех парах. Пошарила глазами и не нашла своего. «Ну, – думала, – сотворю тебе баню, явись только до семьи, разлюбезный. Вытоплю, отведу истомившуюся в ожидании душу.
Взял за моду бросать, шариться бог весть где. Как ни спросишь – в «Порт-Артуре» он. А сам неведомо где!..»
Распалила себя, ребятишек раньше времени спать шурнула и то к одному окошку, то к другому подскакивала, будто умом тронутая: вот вроде идёт! Вот вроде идёт!..
А он явился часа в два ночи и к кринке с молоком тянется, будто запалился с литовкой на покосе.
– Не спишь, Настасьюшка?.. – заметил её, когда уж нахлебался.
– Тебя поджидаю, Сёмушка, – в тон ему отозвалась.
И к мужику:
– Где был, муженёк?
– Да где и всегда, – ответствовал, как ни в чем не бывало, и уставился на неё смеющимися глазами. Глаза эти нахальные ещё больше подстегнули разошедшуюся не на шутку Настасью.
– В «Порт-Артуре», говоришь?.. Чё-то я тебя там не видела…
– Вот в чём дело, оказывается, – загоготал, – так мы ж в кабинке сидели, а не со всеми. В кабинку бы прошла или полового спросила, там все меня знают.
Обнял, прижал к себе крепко, к постели повёл…
И чего она мучается, ревнует неведомо к кому?
Нет – ведомо! Ведомо, только и в самом деле не ходок Семён её до чужих баб. И не «Порт-Артур», треклятый, тому причина. Иная сила, бесовская, уводит мужика от детей, от семьи, от очага родимого.
Все годы, прожитые совместно, и с ней он был, и – далеко от неё. В революциях и политиках. В книжках да разговорах с такими же, как и сам. Напился бы, наглотался когда хоть, упал бы в кровать их деревянную, сном забылся похмельным. Очнулся бы утречком да пожаловался на больную головушку. Поднесла бы стопочку, привела в чувство. Ладком да рядком за столом усесться бы за чаем с ватрушками.
О-хо-хо-хо-хо… Сколь отдала бы только за то, чтобы не от книжек болела его головушка, не от речей заумных. В церкву бы вместе!.. К Богу с молитвою…
И падала Настасья на коленки перед ликом Божией Матери, молилась истово, бормотала заветное, просила остеречь от беды. От какой – и сама не знала. Но чуяла сердцем, нутром любящим, исстрадавшимся, что не кончатся добром игры Семёновы. Как от тли от какой, от Бога отмахнулся, на власть государеву, Богом рукоположенную, нож точит – сам запутался и людей мутит. Ноженьки свои для кандалов уготовил, а жене, а детям – мурцовку хлебать…
И не зря, видно, мучилась, не зря тряслась.
По обычаю, не Настасьей заведённому, всякий воскресный день хозяйка по-своему готовит в избе праздник. С вечера поднимается тесто в чугунке на приступке печи, укутанное в мягкую тряпицу. Чуть смежит веки, а уж снова надобно подскакивать, углядеть – не поплыло ли через край. Набухает, когда ночь переломится к утру. Вот как закопошиться петуху на насесте в подклети, так и вспучится, так и грозится перевеситься через край чугунка и уплыть. Тут и лови его, тесто-то, сымай с приступка и делай с ним, что душа пожелает.
А что душа хочет? Того, что и семья – детки, муж. Угодила – и душа в радости на целую неделю вперёд. До воскресенья следующего.
Сыночку Петеньке – пирожки с картошечкой. Доченьке Клавдеюшке – с капусткой. Муженьку родному, тому – всё подавай, что повкуснее. Намнутся, и всяк до своего дела. Петенька – за дверь, гонять с сорванцами соседскими, шлынды бить. Клавдеюшка, та всё с тряпочками, да с куколками самодельными – мала ещё. Муженёк, ежели во дворе нет скорой работы, в книжку уткнётся.
Вот и самой можно чайку испить.
Так было и в то апрельское воскресенье шестнадцатого года. Напекла со всякой всячиной: ватрушек с черёмухой, вареньями – черничным да голубичным, пампушек, пряников. Что поели, что оставила до обеда, а что вынесла в кладовую.
Уселась подле самовара. Семён тут же, с книжкой.
Стукнуло кольцо ворот, рванул на цепи пёс Сыщик, изошёлся лаем.
«Кого это, Господи, несёт?» – в тоскливом предчувствии шевельнулось в груди сердце.
Семён сунул под полотенце на столе книжку, пошёл встречать непрошеного гостя.
Вошли вслед за ним двое околоточных. У двери перекрестились на иконку. Один вынул из нагрудного кармана под шинелью бумажку, протянул Семёну. Глянул, молча стал собираться.
– Ты, Настасья Степановна, не кори нас, – кашлянув, начал тот, что стоял к ней ближе и в котором не сразу узнала жившего от них через две улицы Евсея Фролыча Иванцова. – Служба такая… А Семён Петрович ваш скоро возвернётся к семье.
И, помявшись, добавил:
– Порядок такой…
Обомлевшая на первых порах Настасья, вскочила, бестолково забегала по избе.
Не переставая, исходил лаем Сыщик, не понимая, отчего во весь голос ревела Клашка.
Семён канул на целых два месяца. Ездила в Нижнеудинск, куда его переправили: передачу приняли, до встречи не допустили.
Потом ещё ездила. А тут разом подошли и пахота, и сев, и посадка. И впервые за десятилетнюю совместную с Семёном жизнь спознала, что значит остаться в доме без мужика. Походила и за плугом, и за бороной, подставила под кули с зерном свою бабью некрепкую спину.
Терпела при людях, при детях, давала волю слезам, падая в кровать. Не столько работой измученная, сколько предчувствиями ожидавшей её одинокой женской участи.
Сочувственно наклоняли головы знакомые бабы, ободряюще бубнили чего-то знакомые мужики.
Никого не видела, никого не слышала, испытывая перед всем честным миром невыразимое чувство стыда.
Копилась в сердце глухая тоска, как ей казалось, по навсегда утраченному ладу в её замужней жизни. Креп в сознании протест всему, что уводило от семьи мужа, что обещало сиротство и ей, и её малым деткам.
И однажды полетел в полыхающий зев русской печки портрет похожего на исправника мужика, что лежал в одной из книжек, и которым, знала, дорожил Семён. И глядела с мстительностью, пока не догорел. А когда догорел, выгребла с особой тщательностью золу и снесла её подальше от избы, под забор склада с углём, которым заправляли паровозы.
В очистительном отпоре своём пошла Настасья дальше, купив на Троицу в Никольской церкви икону с ликом святого Иннокентия, епископа Иркутского, приглянувшегося ей благостной строгостью взора, – и в переднем углу избы утвердилось ещё одно напоминание о Всеблагом и Пресвятом Божьем промысле, с которым в душе, так решила про себя Настасья, доживать ей свой бабий век. Больше-то полагаться и не на кого.
Отошла сердцем. Успокоилась. И с поразившей её саму отстранённостью встретила крик запыхавшегося Петьки:
– Мама! Тятя из тюрьмы вернулся!..
И только успела встать со скамьи, оправить складки фартука, а Семён уж тут как тут – ступил за порог. Обросший, с виноватостью в глазах, притихший.
Ступил и замер, не зная, видно, что сказать, не ожидая застать её в уравновешенности духа.
Стояла, прислонившись спиной к печи, пока раздевался, мылся, скоблился.
– И, батюшки! – ахнула, когда мужик попросил подмочь стянуть с него рубаху. Вся спина исполосована, вся в струпьях болячек!
«Да Боже ж ты мой… Да чего же это такое деется на свети-и-и… Да до каких же это пор ты мучить меня собралси-и-и… Да зачем же тебе эти политики, эти революци-и-и… Да жил бы, как все, о жене да о детях своих пёкся-а-а… Да обходил бы за версту мутильников, кои и сами не живут и другим жить не даю-у-ут…»
Почитай месяц наводила мужику тело. Месяц держала подле себя, заворачивая ходоков-завсегдатаев «портартуровских», не пуская никуда дальше своего поля зрения.
Подмогал как мог, на покосе веселел, снова брался за книжки.
О пребывании своём в Нижнеудинской тюрьме не сказывал, зато выговорился обо всём, что передумал.
Вот живут они, и вроде неплохо живут. Всё есть – и поесть, и надеть. И хозяйство у них справное. Но не у всех имеется, что у них с Настасьей. И те, у кого имеется, не делятся с теми, у кого достаток хуже.
– Да пускай воротят, как мы с тобой, – возражала.
– Они и работают…
– Да знаю, как работают. Вон батрака Ивленка хоть возьми.
Спит, пока живот совсем не подведёт, потом и нанимается к кому-нибудь… Или хоть тятя твой… – перебивала.
– Не то всё это и не так. Хоть тятя, хоть Ивленок тот же – для другого они рождены. Не для земли. Книги писать, может быть, а нынешнее устройство жизни не позволило им проявить себя, стать полноправными хозяевами своей судьбы. Выбор должен быть у человека. Землю ли пахать, людей лечить, в рабочие податься, книжки писать. И чтобы народился человек, а кусок хлеба был бы ему уже обеспечен. И выбор пути обеспечен.
– Руками чужими жар загребать… – складывала руки на груди.
– Не жар загребать. Нет. А для того, чтобы потом вернуть в будущей своей полезной обществу работе – с лихвой.
– А ну как привыкнут ничего не делать?.. – сомневалась.
– Не привыкнут. Устройство самой жизни не позволит. Под одной общей крышей.
– Как это – под одной крышей? – ахала.
– Под одной крышей нового счастливо устроенного государства, в котором всякий труд – в радость. С песнями и музыкой. Все живут так же, как и сейчас – в отдельных избах, но всякую работу правя сообща.
– Канешна, – неуверенно вставляла своё Настасья, – вон у Натальи Филимонихиной всё из рук валится, за что ни возьмётся. Куда ей со мной тягаться…
– Нет, Настасьюшка, всякий человек с талантом родится. Но талант должен быть узнаваем, а для этого саму жизнь надобно переделать, и та же Наталья смогла бы себя показать.
– Что же мне – землю пахать, а ей барыней прохлаждаться? – не сдавалась.
– Не барыней, а при своём деле. Ни бар, ни барынь вообще не будет, а все будут равными среди равных.
– И рубахи красные, и портки лампасные? – подковыривала.
– А это уж по душе: хочешь – рядись в красное, хочешь – в синее.
– Ты уж заодно скажи, куда портрет Карла Маркса дела? – спросил однажды.
Будто огнём кто ожёг Настасью. Повернулась медленно к муженьку, выговорилась:
– Из-за этого карлы-марлы ты и в кутузку угодил. И спину тебе исполосовали из-за него же. А живой остался, так благодари Бога за то – моими молитвами живой возвернулся. Перед иконой Божией Матери денно и нощно стояла на коленках, за тебя, варнака, просила, а чтобы этот Карла не поганил образ Божий в избе – в печь кинула. И ещё кину, ежели приволокнёшь. Вдовой хочешь оставить? – почти на крике досказывала наболевшее. – Детей осиротить?.. – наступала. – Иди к своим партейцам беспутным – в кабаке тебе место да в тюрьме!..
Уткнулась в растопыренные пальцы красных от работы рук. Качаясь всем телом, тихо завыла.
…Не подошёл. Не успокоил. Хлопнул дверью, будто толкнул в самое сердце.
И есть мужик у неё, и нет его. И есть отец у детей, и нет его. Как жить – перемогать? Каким наговором отвратить от дружков? Какой травой приворожить к дому?..
Все перепробовала. Все молитвы, все наговоры. И нет такой травы, способной привязать Семёна к семье.
Опустить разве руки да положиться на Бога?..
Но и на Всевышнего полагаться не приходилось – больше на собственные изработанные руки, на случай, на таких же, как и сама, затурканных деревенских женщин, мужья у которых кто в лесах окрестных, кто в земле сырой, кто ещё где. Помогали друг дружке чем могли, поддерживали словом, чашкой ржаной муки, лукошком картошки.
А времена наступали такие лихие, ветра задували такие холодные, морозы одолевали такие лютые и колючие, что и спастись-то, кажется, нельзя было от навалившихся напастей – напастей неотвратных, неминуемых, неотвязных. И всё бы ничего, но придвинулся страшный восемнадцатый год – год, в который сгинул её Семён.
– Мама!.. – кричит, вбегая в дом, десятилетний сын Петька. – Мама, на мосту через речку отряд белых карателей… Вот-вот будут здесь… Чё делать – опять порежут скотину, побьют кур, выгребут всё, что можно…
– Петенька, гони корову к Мавриной заимке, а там – в ельник. Там не отыщут, а я уж как-нибудь здесь авось что-нибудь и убережём.
Суета в каждом деревенском доме, в каждом дворе – многому научены люди за последние месяцы. Никто не верил в справедливость нынешней карательной власти – власти из осколков армии адмирала Колчака и пришлого с далёкого запада чехословацкого корпуса. Для последних и вовсе не существовало ни законов, ни правил, ни Бога.
Выгребали всё, что можно было взять и чем попользоваться, – из клетей, подвалов, подполов, стаек, риг, амбаров. А если не отдавали своей волей, то били нещадно плетями, резали, стреляли, рубили шашками. Но кто ж отдаст своей волей? Потому и скудела деревня народонаселением, особенно мужским.
В каждом поселении – своя беда, своя напасть. Бежал по афанасьевской улице соседский мальчонка, кричал, предупреждая о приближении карателей, и сковырнулся вдруг, настигнутый свинцовой пулей, выпущенной из винтовки безжалостным воякой. Взревела несчастная мать, кинулась к телу сына – и её настигла пуля. Так и легли рядышком оба, так и похоронили потом их рядышком на кладбище односельчане.
Много чего в те дни случилось и в Афанасьеве, и в других поселениях, и на всём пути, где прошла бесславно колчаковская армия, составленная из озлобленного отребья размётанного по России дореволюционного воинства, где уже и не поминали о человеколюбии и чести и где царила непомерная, ничем не оправданная вседозволенность.
О том, что происходило в округе, пересказывали шёпотом спасающиеся от беспределья карателей родственники афанасьевских посельщиков, и рассказы те уже не приводили в состояние ужаса слушателей, поскольку всякое повидали люди и мало чему дивились, разве страшась лишь одной мысли – как бы их самих не коснулось подобное.
К примеру, как рассказывала некая Агафья Масько, в недальнем от Афанасьева селе Бурхун, в долбленом корыте, из которого поили лошадей, в один из зимних дней лежал человек, напоминающий больше окровавленный мешок. То был молодой парень. Длинные русые волосы свисали чуть ли не до земли, исподняя рубаха пропитана кровью, спина – сплошная рана, а рядом – часовой, словно было чего охранять из того, что ещё недавно являло из себя человека.
Часовой поглядывал по сторонам и, если показывался кто из сельских, покрикивал: мол, проходи, не то стрелю без предупреждения… Какой-то женщине, будто в насмешку, крикнул: мол, шла бы ты лучше хлеб стряпать, чем тут глазеть…
И впрямь лучше, только из чего ж стряпать?..
Били парня плетками, он стоял на коленях или полулежал. Побьют-побьют – и лицом в корыто. Затем опять плетка и снова – корыто, и так до самой ночи. Умаявшись от такой «работы», дружно пошли ужинать – белочехи любили пить чай с молоком и есть хлеб с медом, который им привозили из деревни, прозывающейся Альбином. Перекусив, легли спать.
Утром парня привязали к лошади и потащили по улице – в южную часть села, к мельнице. Всех жителей согнали к этому месту. Парня привязали к большому пню. Он не мог стоять: ноги не держали, а руки были обрублены, уши обрезаны, выколот глаз. Пень подожгли, но пень плохо горел, тогда его обложили дровами.
Согнанные к страшному месту казни люди молчали, и стояла гнетущая тишина. И странным казалось то, что и собаки не лаяли, и лошади не всхрапывали, и снег не скрипел.
Недогоревший остаток березы упал в реку, вместе с ним и тело парня.
А когда начался ледоход, то изуродованные останки погибшего понесло по реке. К тому времени каратели ушли из села, и люди смогли выловить остаток пня с телом страдальца и похоронили прямо на берегу реки Ия. Позже перезахоронили у школы в березняке. Здесь же захоронили двух местных партизан. Их каратели разорвали пригнутыми к земле берёзами.
Мавра
В доме вот уже два месяца доживала свой век родная сестра свекрови – Мавра. Угасала на глазах.
Старуха прожила век свой одна, не пристав ни к одному углу, не присохнув ни к одному сердцу, не поверив никому своей женской тайны. А то, что была такая тайна у Мавры, гадать не приходится, ибо какая же душа живая, а тем более женская – без тайны?
В пору спелой юности влюбилась в сынка местного афанасьевского богатея – Романа Сидоровича Котова, у которого одних только мельниц на речке Курзанке было три, да помимо этого разного добра не сосчитать.
Сынок его Демьян был ей однолеток. Парень видный: невысок росточком, но ладен фигурой, к тому же не спускал с рук гармонь, и пела она у него, и заливалась с утра до ночи в праздники, с вечера до утра в будние дни.
Демьян знал себе цену, вернее, цену тятенькиным закромам. Не одну девку облапал где-нибудь за ригами и овинами, в лесочках да копнах свежего, заготовленного скотине на зиму сена. Сена пахучего, мягкого, как перина, в котором самое место для влюблённых и где можно схорониться от постороннего глаза.
Попробовал облапать и Мавру, да не тут-то было: упёрлась руками в грудь его девка и с силой толкнула, так что едва удержался на ногах.
– Ну, погодь, – обиделся Демьян. – Я ж к тебе по-хорошему, а ты – толкаться. Чё ж я, супостат какой-нибудь, чтобы без твоего согласия приставать?.. Я ж вижу, как ты ко мне прибиваешься…
– Видишь, да не то видишь, – слукавила Мавра. – Нужен ты мне, как корове седло.
И отстал Демьян.
А тут и подлинная напасть. Сговорились Степан Фёдорович с Романом Сидоровичем выдать за Демьяна младшую Долгих – Авдотью, которой на Покров должно было стукнуть семнадцать годков. Вечером сумрачным толковал о том Степан Фёдорович своей супружнице Наталье Прокопьевне, обговаривая все выгоды и невыгоды такого союза с главным богатеем Афанасьева. Обстоятельно высказывал свои соображения старший Долгих, согласно кивала головой, проддакивала супругу Наталья. И как тут перечить – не бывало подобного в доме Долгих сроду. Все главные дела решал Степан Фёдорович самолично и другого бы не потерпел.
Затаившись за печкой, Мавра слышала разговор родителей, а когда не достало сил терпеть несправедливость, выскочила из избы и только её и видели.
– Чё эт она всполошилась? – повернулся к жене хозяин. – Шлея какая попала под хвост иль так чё-нибудь?
– Да, Стёпушка, сказывали люди, что Мавра-то наша давненько поглядыват в сторону Демьяна. Ей бы пойти за него, а не Авдотье. Неладно как-то получатся – младшая наперёд старшей выходит замуж.
И робко подняла глаза на мужа.
– Вона чё… – протянул Степан Фёдорович. – Надо ж… Но кто и када спрашивал девку, за кого ей замуж идти? Мой родитель – царствие ему небесное – не спрашивал. И я не буду. Покуражится-покуражится да на то ж место и сядет.
– А ежели переиначить, мол, ошибка вышла, Роман Сидорович. Не Авдотье быть за Демьяном, а Мавре?.. – и вовсе потишевшим голосом молвила Наталья Прокопьевна.
– Цыц, баба! – грубо повернулся к ней муж. – Ты чё ж, захотела, чтобы Степан Долгих от своего слова отказался? Не бывать этому!
И рубанул воздух рукой:
– За Демьяном быть Авдотье – и всё тут!
Куда бежала, не ведала, а стала очухиваться, огляделась и поняла, что стоит у копны ширяевского покоса, где они расстались с Демьяном, и, как оказалось, навсегда. И полились слёзы в три ручья, а уж когда домой вернулась – и не помнит. И слегла. Молчком пролежала на полатях и день, и ночь, и ещё день. Обеспокоившиеся тятенька с маменькой не знали, что делать – хлопотали возле дочери, поджидая местную лекариху – старуху Ширяеху. Вошла в дом Ширяеха, поклонилась на образа в красном углу, затем хозяевам поклонилась и прошла к девке. Постояла над девкой, положив руку на лоб, что-то побормотала и повернулась к хозяевам.
– Очухается ваша Мавра. Внутренняя огневица у неё, но уж спадает огневица-то, в чувство приходит девка.
– Отчего это сделалось с ней? – спросила едва слышно Наталья Прокопьевна.
– От младости и томления сердечного.
– Ну, младость – понятно, девятнадцать годков скоро минет девоньке, а вот чё эт за томление такое сердечное? – вставил своё Степан Фёдорович, конечно, смекнувший в чём тут дело.
– Почитай со всякой девкой подобное случается, только у всякой по-своему, – многозначительно молвила Ширяеха. – У вашей Мавры – огневица образовалась. Пошептала я чё следует в таких случаях, думаю, обойдётся, и придёт в себя Мавра. Только не трогайте деваху, дайте ей выдыхнуть из себя остатки огневицы – и, даст Бог, поправится.
Когда осталась одна в доме, пала на коленки перед иконой Божией Матери и высказала всё, что наболело:
«Матушка, Пресвятая Богородица, одна ты меня слышишь, только одна меня и можешь утешить. Прости меня, глупую, за мою любовь к Демьяну да за обиду на весь белый свет. Одна я виноватая, одна и приму кару лютую – ни на кого больше не гляну во всей своей жизни бесталанной, сколь бы ни жила на свете, в чём клянусь Тебе одной – Всеблагой и Пречистой Деве Марии».
И захлебнулась слезами, зарыдала, согнувшись до самых половиц. В голове помутилось и дальше уже ничего не помнила – тут её и нашли вернувшиеся домой родители, которые ходили к Котовым обговаривать предстоящие дела, связанные со свадебными хлопотами. Подняли, подвели к постели. А тут и «гансики» ударили, возвещая о скончании очередного часа, да так ударили, что вздрогнули тятенька с маменькой и глянули друг на дружку, а потом и на распластанную на кровати дочерь любимую.
Ведь никто и никому здесь не желал худа, но сделанного назад воротить уже не было никакой возможности.
А время между тем шло, и вот уж свадьба, на которой гуляла вся деревня.
Не в радость была Мавре та свадьба её младшей сестры Авдотьи, не в радость была собственная свадьба и самой невесте. Дело же было в том, что Авдотье глянулся другой парень – Алексей Бадюло с Завода. С ним познакомилась, когда с тятенькой ездила в Завод к старшему брату, Ивану. Такая вот карусель получалась: одной не дали того, что желала, другую наградили тем, чего ей не нужно было. И, как оказалось впоследствии, расхлёбывать то решение родительское пришлось обеим. Мавра осталась вековухой, Авдотья прожила с Демьяном только три годочка, в каждом году рожая по дитёнку. Двое первых умерли во младенчестве. Ухватив третьего мальчонку по имени Костя, Авдотья убежала от мужа в Завод, где через некоторое время стала жить невенчанной с Алексеем.
Где-то в то же время пришла Мавра к Настасье. Зачем пришла – не объяснила, но видела старшая сестра – неспроста явилась.
С другой стороны рассудить, идти Мавре было некуда: отец с матерью упокоили свои косточки на погосте, часы «гансики» отстукивали время на своём месте, потому как Мавра одна осталась в дому родительском.
Лишь однажды приволокся пьяненьким брат Гаврила и с порога объявил, что явился за часами, на что она крикнула ему злобно:
– Трёх лошадёнок родительских пропил, ни одним копытом не подавился, а теперь часы хочешь прибрать да пропить?.. Не дам!..
Схватил её Гаврила за горло и стал душить. Задыхаясь, нашарила рукой ножик, что лежал на приступе печи, и ткнула им брата в бок несильно. Ослабли пальцы Гаврилы на её горле, бросил он душить сестру – и за двери.
– Иди, пьяница, а возвернёшься – сама тебя порешу, не пожалею, и теперь уж до смерти! – крикнула вослед.
Сидела Мавра на табуретке возле стола, глядя вперед себя, молчала. Молчала и Настасья, понимая, что та должна повести разговор первая. И Мавра заговорила издалека, будто бы из-за дальней запредельной стороны – так, во всяком случае, показалось Настасье.
– Мне, окромя тебя, сестрица, не к кому идти, да и к тебе не пошла бы, ежели не нужда. Одна я осталася на всём свете, вить как получатся в жизни: даже ежели ты не замужем и пока что нет у тебя дитёнков, то всё одно как бы предполагатся, что непременно и муж в своё время явится, и детки пойдут, и сама ты будешь нужна кому-нибудь – во всякую пору нужна, а не только в лихую годину. У меня ж никогда и никого не будет, и это я теперь точно знаю. Ни мужа, ни детей. Может, я сама в том виновата, может, судьба такая, а может, мне надо было родиться не от тех родителев и не в то время, не в тот час. Но родителей, как водится, не выбирают, как не выбирают себе судьбу. Так, значит, угодно было Господу.
– Да зачем же себя обрекать на одинокость-то? – робко перебила её Настасья. – Ты молодая, сильная, не кривая какая-нибудь и не колченогая. И парней вокруг прорва. Выбирай – не хочу.
– Но и ты, Настенька, до двадцати четырёх годков сидела в девках, Семёна своего дожидаючи. Могла бы, наверное, за кого другого замуж пойти. Так вить?..
– Та-ак, – согласилась Настасья. – Но…
– Чё «но»? – перебила её Мавра. – Чё?.. Знать никто тебе не был нужен, окромя Семёна, так какого же ляда я должна идти за кого попало? Не хочу и – всё тут. Лучше уж так вот, одна буду. А коли Авдотья так со мной поступила, то я на мальчонку имею полное право.
– Да как же она поступила и как же она могла ослушаться тятеньку? Где ж это видано, чтобы ослушаться?
– А как ты сама никого не хотела слушать? И тятенька с маменькой поотстали от тебя, иль я чё-то не то говорю?..
– Всё то, всё то, Мавруша.
– Во-от видишь, и ты соглашашься. Значит, я права.
– Дак ты ко мне пришла только для того, чтоб утвердиться в своей правоте? – догадалась наконец Настасья.
И отрезала:
– В опчем, дорогая сестрица, поступай, как знашь, тока меня в это не впутывай. Не могу я согласиться с тем, чтоб дитёнка от матери родной отымать. Не могу!
– Костя – мой дитёнок, как ежели бы я сама его родила! – крикнула Мавра.
– Думай, как знашь, я тебе не потатчица.
С тем Мавра и ушла.
В старину всяк был набожен, а Мавра будто свихнулась. Одевалась во всё тёмное, даже в жару не снимала с головы повязанного на старушечий манер платочка.
Как в девках была проворной да работящей, так до конца своих дней и тянула лямку вековухи: кому огород полола, кому картошку копала, а то и подряжалась с мужиками косить сено. Зимой – шла в няньки.
Мало-помалу женихи, какие были, – поотстали, охотников до «сладкого» отваживала по-своему круто.
В праздник – она в церкви первая. Последнюю копейку на свечку снесёт, дольше других бьёт поклоны, молится за упокой души каждого умершего родственника.
Даденная Матери Божией клятва – никогда не выходить замуж, не оказалась последней, а последняя дадена была уже себе самой – отнять у Авдотьи сынка Костю и вырастить мальчонку самолично. Любыми путями, пускай даже вопреки Божьим заповедям.
Первый раз она пришла своими ногами в Иннокентьевск, подманила к себе игравшего во дворе трёхлетнего мальчонку, схватила в охапку – и вон из посёлка. Хватилась Авдотья сына, кинулась искать, и хорошо, что видевшие Мавру люди подсказали, где искать.
Отняла мать сына у сестры, а через какое-то время история повторилась.
Старшая сестра и ругала обеих, и жалела также обеих. Обе же шли к Настасье жаловаться друг на дружку.
– Ты чё себе позволяшь, Мавруша? – наступала на первую. – Сын он тебе, что ли? Дусин он и ничей боле. Замуж надо было выходить и рожать своего, да и счас не поздно.
– Не твоё это дело, Настя. Я Костеньку не рожала, но он мне ближе, чем родной матери, потому как это Демьянов корень.
– Отродье Демьяново, ты хочешь сказать, – не отступала Настасья, нарочно уничижительно называя мальчонку отродьем.
– Пускай и отродье, да дорогое отродье. И кака ж она мать, ежели не успела от одного освобониться, а уж другого уложила в свою постель. И от другого дяденьки почала рожать. А идти мне замуж иль не идти – это уж моё дело са-мо-лич-но-е. Хочу – иду, хочу – не иду и всё тут. Ты вот много ль нажилась со своим Семёном, и много ль он внимания уделял и тебе, и твоим ребятишкам? А, сестрица моя разлюбезная?..
– Сколь уделял, столь и уделял, но я чужих дитёнков не краду – свои есть, – уже оправдывалась, наступая, Настасья.
Перепалка продолжалась в таком же духе. Мавра уходила, а тут и Авдотья являлась, начиная причитать с порога:
– Чё эт деется-то, Настенька? А?.. Чё деется-то? И сколь эта подлая Мавра будет у меня дитёнка умыкивать? Она его рожала?..
– А кто тебя, Дуся, скажи, за Демьяна гнал замуж? Могла бы упереться – и ни в какую.
– Ага, у нашего тятеньки упрёшься, – оправдывалась Авдотья.
– Ничё, упёрлась бы и отстал бы тятенька-то. Отстал же от Мавры и от тебя бы отстал. А так – ни себе, ни людям. Сама не стала жить с Демьяном и Мавре не дала.
И урезонивала по-своему:
– Угомонись, сестрёнка. Отдаст тебе Мавра парнишку. Потешит своё самолюбие и отдаст. Не чужая она вить Косте, а тётка родная. Ниче не сделатся с Костей-то. Не доводите себя до смертоубийства. Не позорьте ни себя, ни покойных родителей. Не срамитесь на всю округу и ко мне не бегайте жаловаться на друг дружку.
– Ты, Мавруша, успокоилась бы, – в другой раз говорила средней сестрице. – Дуся вить тоже мать. И ей не сладко приходится. Ну, пошла замуж за Демьяна по девичьей глупости, а кто в таки-то года не делал глупостей? Не показала карахтера, позволив тятенькиному самоуправству возобладать. И что ж, убивать её за это? Родные сёстры же мы, а живём, как злыдни каки-нибудь.
– Ты, Дуся, прости Маврушу, не со зла она так-то ведёт себя – от одиночества лютого и девичьего счастья не сложившегося. И каково ж ей, вековухе, одной-одинёшенькой на свете жить. Ну и пускай Костя поживёт у неё како-то время – хуже-то никому не будет. А ты как была его матерью, так его матерью и останешься, – втолковывала и Авдотье.
Так и жили, а вернее – маялись сёстры: одна – воровала, другая – отнимала единокровное. И чем бы дело кончилось, никто не знает, если бы не один случай, который поменял всё, но об этом мы расскажем в следующей главе нашего повествования.
И дожила Мавра до старости. И приползла однажды в новый дом Капитонов. Помогавшая снять одежду перевалившей через порог старухе Катерина успокаивающе говорила то, что принято говорить в таких случаях.
– Ничё, тётка Мавра, отлежишься, силёнок поднаберёшься и пойдёшь по своим делам – по родне, в церкву, ещё куды. Ни-и-чё-ё…
Непоказно обрадовалась сестре Настасья.
– Вот хорошо, что пришла. Во-от хорошо…
Сгоношила на стол, усадила почти силком, заставила поведать о своей беде. И Мавра выговорилась – тихо, без слёз и закатываний к небу глаз. Ведь обе они – Долгих, о чём никогда не забывали. Обе они – дочери своего отца Степана Фёдоровича, знавшего цену всему и вся и по любому поводу говорившему только один раз. Знали цену себе и они, его дочери.
Настасья радовалась, что может принять сестру в новом доме, ведь это дом так же и её. И она старалась, чтобы он был. Потому и могла не беспокоиться, что кому-то не понравится Маврино появление, а тем более – в таком виде. К тому же именно она, Настасья, будет ухаживать за больной, так что болезнь сестры – её обуза и ничья более.
И как же кстати пришлось молочко Майкино, из которого и сливочки свежие, и маслице духмяное, и творожок рассыпчатый. Подкармливала сестрицу, придвигая к ней то одно, то другое, а где и с ложечки прикармливая.
– Не коровка у тебя, Настасьюша, – золото, – нахваливала Мавра, попадая в самое заветное место, в самую серёдку души Настасьиной. – У тятеньки тож были добрые коровёнки. И после были – у тебя и у меня, но таких сладких сливочек чегой-то я не упомню.
– Добрая, добрая коровёнка, – соглашалась Настасья, улыбаясь всем ртом. – Кормилица и поилица наша… А уж карахтером-то и приветливая, и уважительная, зазря не взбрыкнет, не взмыкнет. Истинно – золото… Ты ешь, ешь, Мавруша…
Говорили они целыми днями, вспоминали родителей, братьев Ганю, Ивана, сестрицу Авдотью, деревню, как некогда жили в отцовском доме. Мавра наказывала Настасье, что на неё надеть, когда помрёт, сколько дать батюшке в Никольской церкви, чтобы, как полагается, отпели, чтобы похоронили на старом сельском кладбище.
Сам факт близкой смерти Мавриной сестры обсуждали спокойно, стараясь никого и ничего не забыть в сей неизбежно приближающийся скорбный час.
– Ты меня прости, Настасьюшка, что угол-то заняла в доме твоего Капитона… За то ещё прости, что скорей тебя-то лягу подле тяти и мамы…
– Что ты, что ты, Мавруша, – махала руками старшая сестра, – это ты меня прости, ежели чем обидела, а пожить-то я ещё поживу, хоть и давно пора на покой, кости отдыху просят…
Ахала, притомлённая ожиданием скорого своего конца Мавра, охала Настасья от сознания, что зажилась на этом белом свете, и от того, что не младшей бы вперёд отправиться в последний путь, а ей, старшей. По годкам положено-то старшей… И в тоненьком голоске Настасьи начинали звучать извинительные нотки, которые, конечно же, улавливала Мавра, но делала вид, что ничегошеньки не понимает. Пускай, мол, и сестрёнка вину свою почувствует, а за что или про что вину – это уже дело десятое. Пускай – и всё тут. Кто-то же должен взять на себя за приключившуюся с ней беду хоть самую малую частицу вины, иначе всё напрасно, всё попусту, всё зря.
О-хо-хо-хо-хо… Превелики дела Твои, Господи, и воистину неисповедимы пути. Чего только ни насылаешь на человеков и за что только ни спрашиваешь по всей своей Божией строгости… И хоть бы когда дал слабинку, так нет же, не даёшь. И правильно. Нельзя, чтобы человек забылся. Нельзя, чтобы возомнил себя равным Тебе. Не-е-льзя!
О-хо-хо-хо-хо-о-о-о…
Одно не устраивало обеих – сама хворь, из-за которой помирать Мавре. Рак желудка.
Не укладывалось в голове: всю жизнь не отягчала себя скоромным, за великий грех считая чревоугодие. Постилась. Истязала тело. Вон Настасья, та хоть и не видела большого достатка, но и маслица в чай положит, и кусочек мяса помулькает, зубов-то во рту у сестрицы давненько не бывало. Старше её годов на десять, а смотри, какая из себя ещё крепкая… Но Бога не гневила. Не только на словах – в мыслях не грешила. Видно, раз уж на роду написана такая доля, то и принимать её надо со смирением и радостью – старуха верила, что, перейдя в иной мир, душа её обретёт вечное избавление от мук.
И лишь единожды вдруг навернулись на глазах страдалицы горькие слёзы, и отвернулась от сестры, прошептав, будто в беспамятстве: «За что, Господи?»
Не услышала тех слов сидевшая тут же Настасья, а может, и услышала, да не приняла на счёт Господа – никто не скажет определённого слова. Ни в понимание и утешение, ни в осуждение и обиду…
Ох, о многом передумала в своей одинокости Мавра. Многое переболело и перемололось-перетёрлось в её исстрадавшейся душе. Многое бы переменила в своей жизни, если бы сызнова начать. О-о-о… Если бы начать сызнова…
И всё же грех было Мавре обижаться на судьбу, чем успокаивала себя внутри. В доме племянника легко ей было помирать. Капитон занимался своими делами и, казалось, не обращал никакого внимания на то, что в доме его доживает свой век чужой человек. Проходил иной раз к больной, стоял, прислонившись к перегородке, вздыхал и тем самым как бы выказывал своё участие в судьбе тётки. Поворачивался, уходил. Крутая на слово и с виду суровая Катерина, выделила ей тёплое место у печки, одёргивала ребят, чтобы не шумели. Мавра была ей за то благодарна. И в благодарность протянула как-то полусотку – деньжонки у старухи водились, приберегала, вкалывая на людей, откладывала про чёрный день.
– Бери-бери, в доме небось и сахару нету…
Та молча взяла, и на табуретке рядом с Мавриной кроватью появилось то, чего в доме, почитай, не бывало. А дни шли за днями, и каждый новый начинался с утра, а кончался поздним вечером. И старуха так привыкла к круговращению в природе, что прицелила уже день, когда болезни её длиться будет нельзя и прихлынет к горлу её комок, на который, чтобы выдохнуть, потратит она последние силёнки и вытянет сколько можно ставшее костенеть тело и закроет глаза навеки.
Об одном не подумала – о том, что, пока жива – она ещё в жизни, а в ней часто происходит не то и не так, как хочется. Примчался Костя – сын Авдотьи, за ради которого столько глупостей понаделано-понаворочено, и переломался старухин настрой на тихий конец. Бегал, суетился, чего-то балакал.
– Как же ты, мама?.. Ко мне бы пришла, ведь не чужой я тебе… Поедем ко мне: тебе будет спокойней, а тут только людей в трату вводить…
И сделал по-своему.
Попробовала Настасья встать поперёк дороги – рукой отвёл племянник немощную старуху. И заплакала Настасья, впервые, может быть, заплакала, навзрыд. Подошла Катерина, без слов увела свекровь в куть.
Мавру на новом месте определили на кухне, впрочем, еду здесь давно не готовили, для этой цели служила более поздняя пристройка к дому.
От постоянного полумрака, который заполнял в комнатке все углы, на душе умирающей становилось ещё тоскливее. Рези в животе не давали уснуть, и, обливаясь холодным потом, Мавра искала силы в молитве. Почти приткнувшись лицом к обклеенной бумагой перегородке, она то по нескольку раз прочитывала про себя крепившую дух «Отче наш», то с усилием отваливалась от неё и дрожащими сухими руками зажимала глазницы, боясь, как бы из них не потекли слезы. Не протекли меж пальцев, не заставили возобладать мукам душевным над муками телесными. А было бы это для неё равносильно прощанию и с небом, и с Богом, и с самой верою в Его промысел, с чем шла от самого от рождения и до самого до конца.
– Отче наш, – выговаривали бескровные губы, – да святится Имя Твое, – едва шевелился тяжёлый, непослушный язык.
Но мысли нет-нет да и убегали в сторону, и, сама не сознавая того, начинала думать, что жизнь прожила пустую, детей не родила, внуков не нянчила. Спихнули её в этот тёмный угол, лучше бы сразу в гроб…
И проливались сквозь пальцы слёзы, и разрывала душу тоска.
«За что? За что? За что всё не так, не эдак?» – спрашивала то ли себя, то ли незнаемого никем, неведомого никому, но пребывающего во всём и вся: от крика дитяти, от почки молодого побега, до высохшего, обтрёпанного ветрами ствола готового рухнуть оземь дерева.
А дня через два зашёл в её комнатку Костя. Сидел, смотрел куда-то в сторону, будто боясь встретить угасающий взгляд названной матери.
Пришёл неспроста. И пока он сидел, Мавра приободрилась, приготовилась к худшему. Однако силёнок её хватило лишь на то, чтобы услышать только одно выдавленное Костей слово…
– Мама…
Никогда она не могла принять это слово на свой счёт, никогда не позволяла себе забыться, что чрево её женское осталось пусто, потому никак не могла принять и такое к ней обращение.
– Ты слышишь меня? – настаивал Костя.
С трудом открыла налитые влагой глаза, увидела напряжённую фигуру склонившегося над ней мужика. И всё поняла.
«О деньжонках, подлая твоя душа, беспокоишься…»
– Ты завещание составила?..
– Зачем завещание? – спросила едва слышно.
И проговорила, да так недобро и твёрдо, будто и не больна вовсе, а собирается долго жить:
– Все твои будут.
Напуганный происшедшей в ней переменой, племянник решил действовать напрямик:
– Ты, мама, человек тёмный, законов не знаешь, а я как-никак при партийном билете. Завещание надо, я уже и бумагу приготовил, только свидетелей позвать и подписать.
И уже деловито:
– Так сколько у тебя денег?
– Семь сот, – машинально ответила Матрена.
– Постой, но…
«Проверил, и дёрнуло же меня за язык, Господи…» Деньги лежали завёрнутыми в тряпицу в сундуке – по такому было у всех трёх сестёр. В сундуках прикладывались и прикапливались вещи для приданого.
– Полусотку дала Катерине, никак дён шестьдесят у ней лежала…
На дворе начал рвать на цепи пёс, и по тому, как отреагировали хозяева, поняла, что кого-то ждут.
А вот и невестка вводит незнакомых людей, и через минут двадцать скреплённая подписями бумага легла в карман Кости Маленького.
Невестка, видно, собрала на стол – слышно было, как за стенкой не раз и не два принимались горланить пьяную песню…
Через два дня старуха преставилась.
На похоронах Костя вёл себя странно: не в меру суетился, пытался что-то говорить, а когда все вернулись с кладбища и сели за стол – исчез вовсе. Решили помянуть без хозяина, только… водки не нашли. Бабы качали головами, охали, часть более выдержанных мужиков подалась по домам, иные – просто матерились. Ни девятин, ни сороковин по покойной не справляли. Через некоторое время призвали Катерину в прокуратуру, где показали заявление Константина Котова о том, что она ему как законному наследнику Мавры на основании завещания обязана выплатить пятьдесят рублей. Объяснений её никто слушать не стал, и вынуждена была эти злосчастные деньги снести, куда требовалось.
Косточки свои Мавра, как того и желала, упокоила на старом Афанасьевском кладбище подле могилок отца и матери.
Авдотья
Три сестрицы, три несложившиеся судьбы
Авдотья, а в просторечьи – Дуся, среди трёх сестриц Долгих была самой младшей, но чтобы сказать – самой любимой, сказать такое было бы нельзя, ибо в семье родителей их все детки были любимы, и каждому определялась своя мера внимания и ласки.
Дуся росла промеж двух своих сестёр незаметно, перенимая то от Насти, то от Мавры и привычки, и девичий кураж, и наряды их донашивая, что порой задевало её самолюбие, но несильно. Ей даже льстило приодеть Настин сарафан иль Маврину кофточку. Наряды старших, как ей казалось, и её делали старше, ведь малый дитёнок во всякую пору тянется за большаками, тянулась и она.
До лет шестнадцати Авдотья жила вздохами Насти и Мавры, подглядывая за каждой, да так, чтобы они не догадывались. Видела Дуся Настину любовь к Семёну и Маврину к Демьяну и втайне завидовала, примеряя к себе то одного, то другого парня. Крутилась перед зеркалом, когда дома никого не было, пришёптывая про себя, мол, чем я хуже своих сестёр – и красавица, и умница, и хозяюшка не хуже маменьки. И то сказать: дочери (впрочем, как и сыновья) в семье Долгих были с малолетства приучены ко всякой работе, ко всякому рукоделью. Любая из них могла стать к квашне, испечь чего душа пожелает, так что любо-дорого посмотреть. Потому-то посельщики афанасьевские, у кого были на выданье девки иль приспела пора женить парней, с вожделением поглядывали в сторону усадьбы Долгих, где за плотным бревенчатым забором и резными тесовыми воротами, как им казалось, только и могли бы обрести своё счастье их любимые чада.
Может, так оно и было, во всяком случае, недаром говорится в народе, что хорошие детки – это подлинное золото для их родителей.
Когда минуло девке семнадцать годков, то, как привиделось Дусе, пробил и её желанный двенадцатый час – задумал тятенька Степан Фёдорович выдать её замуж за Демьяна Котова. И всё внутри у неё запрыгало, задрожало, заиграло, хотя запрыгало, задрожало и заиграло почти годом ранее, когда с родителем побывала она в посёлке Иннокентьевском, или попросту – в Заводе, как местный люд промеж себя величал это расположившееся на отшибе Тулуновской волости поселение.
А почему Иннокентьевск величался Заводом, то объяснение тому простое – здесь располагались винокуренный и пивоваренный заводы, учреждённые ссыльными поляками Болдашевским, Залынским и Забавским. Конечно, винокуренный завод являл из себя самое заметное в Тулуновской волости промышленное производство, где до семнадцатого года вырабатывалось аж до двадцати тысяч вёдер спирта.
Для учреждения невиданного до той поры производства выбрано было место во всех отношениях примечательное: здесь речка Курзанка впадала в реку Ия. Кроме всего прочего, в окрестностях поселка из недр земли били диковинные ключи с редкой на вкус водицей, и она также шла на производство зелья.
Посёлок с трёх сторон был ограждён лесом, который изобиловал зверем, птицей, ягодами и грибами. В реках водилась рыбка.
В конце девятнадцатого столетия завод был продан зажиточному крестьянину из села Шерагул Иннокентию Черемных.
Откуда у простого, пусть даже и зажиточного, крестьянина взялись такие деньги на подобное приобретение, на этот счёт также имелось объяснение: якобы Иннокентий приютил однажды скрывающегося от властей фальшивомонетчика, и тот одарил его требуемой стопкой денег.
Ради справедливости стоит заметить, что село Шерагул, будучи в те годы самым крупным селом в Тулуновской волости, и без того слыло зажиточным. Здесь, к примеру, проживал крестьянин Иннокентий Лыткин, который в числе немногих землепашцев в России отмечен был особой премией за образцовое ведение хозяйства, что уже само по себе говорит о многом.
Катилась за Шерагулом и другая слава – как о поселении бандитском. Будто бы проживали здесь некие братья Кокорины, они, дескать, и наводили окрест свой бандитский порядок. И где только ни случится какой разбой, так тут же вспоминали Шерагул и братьев Кокориных, а время от времени всякое случалось: то ограбят кого на большой Николаевской дороге, то подрежут какого посельщика, то пустят кому красного петуха, и погорит иной крестьянин вместе с женой своей и малыми детьми. Кокорины жили на окраине села отдельным крепким хозяйством, огороженным высоким заплотом, и никого в свои владения не допускали. Иной раз в какой большой церковный праздник явятся в Шерагульскую церковь Михаила Архангела жены тех братьев – Лукерья и Степанида, расфуфырятся, приодевшись в дорогие кашемировые юбки и меховые душегрейки, а уж сзади за ними катится по рядам сельских прихожанок шёпот, мол, ишь, явились – не запылились, грехи мужиков своих, Авдея и Силантия, замаливать. Вот, мол, вам, таки-сяки… Господь не Антошка, он видит немножко… И казали кокоринским бабам исподтишка кукиши…
Но как бы там ни было, в свой час объявился в иннокентьевском заводе новый хозяин, и люди стали ожидать перемен.
Завод был построен из твёрдого серого камня неизвестного происхождения, для рабочих имелись бараки, но многие жили в собственных домах на левом, более пологом, берегу речки Курзанки. Здесь в неё-то и сливали барду, отчего в этом месте собиралось много рыбы, которую рабочие вылавливали и продавали на тулуновском базаре.
Особым околотком, на Малайкиной горе, проживали татары, которые по-своему справляли свои татарские праздники и так же по-своему захоранивали своих сородичей на своём же татарском кладбище.
Земледелием никто не занимался, но хлеб всё одно был нужен, поэтому женщины и девушки в уборочную страду нанимались к крестьянам в окрестные деревни жать пшеницу и рожь, расчёт с ними производился зерном, которое перемалывалось на муку на собственной заводской мельнице.
Иннокентий Черемных успел заложить церковь во имя святителя Иннокентия, но в 1901 году неожиданно умер от нарыва, который образовался у него на плече. Жена его вскоре завод продала товариществу И.Р. Шенниц, И.Р. Лескова и И.Ф. Зицерман. Завод к тому времени имел два паровых двигателя мощностью двадцать шесть лошадиных сил, на разных работах занято было до шестидесяти человек, а годовой оборот исчислялся ста десятью тысячами рублей.
Иннокентьевский приход до семнадцатого года насчитывал сорок девять дворов против двадцати четырёх в деревне Афанасьево.
Так вот: осенью шестнадцатого года Степан Фёдорович поехал в Иннокентьевск к тамошнему деревянных дел мастеру Алексею Жилинскому прикупить парочку бочек, квашёнку и кое-чего ещё из того, что изготавливал этот известный в округе человек.
Напросилась с отцом и Дуся.
Когда уже взрослые пили чай, к хозяину по какой-то надобности зашёл местный парень Алексей Бадюло. О чём успели поговорить молодые, столкнувшись лоб в лоб во дворе, теперь уже никто не сможет сказать, но то, что они сразу же понравились друг другу, в том сомневаться не приходится. Во всяком случае, Степан Фёдорович нашёл девицу в состоянии сомнительном, ибо Дуся то краснела, то бледнела и прятала глаза, когда отец её о чём-то спрашивал.
Покрутил русой головой Степан Фёдорович и отстал от девки – не брать же ему, зрелому мужу, в расчёт девичью глупость?.. Она же затаила своё.
А что вышло из того союза Авдотьи с Демьяном, мы уже знаем из предыдущего рассказа. Правда, не всё знаем, потому требуется дополнение.
Демьян и верно – грезил о Мавре. После того как она его отшила на ширяевском покосе, затаил обиду, но не перестал сохнуть по девке. Мавра же, оказавшись в кругу афанасьевской молоди, всячески старалась показать своё к нему пренебрежение, что также с её стороны было не более чем девичьей уросью. Повернётся манерно к нему спиной, глянет через плечо с усмешкой – и была такова. Демьяна же душит обида. «Это ж надо, как она меня перед робятами выставлят», – думал самолюбивый парень, не привыкший к таковскому обращению. И мучился бедный, не зная чем ответить зацепившей его сердце девке. А тут и тятенька, Роман Сидорович, призвал к себе сынка. Поставил напротив себя, развалившись на деревянном диване, и молвил как о давно решённом:
– Женю я тебя, Демьян, и девку в жёны тебе приглядел.
– Кого же? – оторопел отрок.
– Авдотью Долгину. Семнадцать годков покудова ей, да это ничего. Ко всякой работе приучена в семействе своём, а родитель её Степан Фёдорович хрестьянин правильный, и корень его тож крепкий. В опчем, решено. На Покров и свадьбу сыграем.
Вышел из дому Демьян с полной сумятицей в голове. Вроде к месту свадьба – пускай Мавра помучается. Так ей, постылой, и надо, не будет из себя строить недотрогу.
Но с другой стороны зайди, то жена вить на всю жизнь, и, значит, не видать ему больше Мавры.
Но есть еще и третья сторона – решение тятенькино, которое нарушать никому в семье Котовых не дозволено. Ослушаться того решения означало потерять всё – благословление, наследство, может, и саму жизнь. Готов ли он к такому исходу? Нет, не готов. Следовательно, жениться ему на роду писано.
С таким содомом в голове шёл по улице афанасьевской Демьян и неожиданно столкнулся с той, которую желала душа.
– Чё?… – прищурилась Мавра. – Жениться собрался?
– Да я… – промямлил, не зная, что сказать, Демьян. И неожиданно для себя самого признался: – Тятенька того желат. А я бы дак всё бросил за ради тебя.
– И брось, – так же безжалостно продолжила девка. – Чё ты за тятенькины-то штаны уцепился? Сопля ты после этого, а не мужик.
– Чё эт я сопля? – покраснел парень. – Ты-от тож хвостом крутила. Я – к тебе, ты – от меня. Я – к тебе. Ты – от меня. Вот и докрутила, а могло бы сложиться по-иному. Пошли бы вместях к родителям, пали бы в коленки и вышло бы по-нашему. А та-ак…
– Чё «так»? Испугался тятенькиного кнута?
– Ничего я не испугался, а супротив воли родительской не пойду.
– Вот и выходит, что сопля, – бросила презрительно сквозь зубы, повернулась и была такова.
Ему бы окликнуть иль попытаться догнать девку, но обида за такое печатное слово Маврино пересилила в нём все иные чувства. Повернулся и он, только в противоположную сторону.
Думала Авдотья, хозяйкой войдёт в дом-то Демьянов – мать его уж сколько годов как померла, но вышло по-иному. В доме Котовых уж была хозяйка – сестра Демьянова, Ксения, или «сухоручка», как её промеж себя величали афанасьевские. С детства у Ксении сохла рука, оттого и сухоручка.
Ходила по дому Ксения со связкой ключей на поясном ремешке, за всем доглядывала, всем и всеми управляла. Помыкала и Авдотьей. Иди туды, иди сюды. Того не трожь, этого не касайся.
Затяжелела Дуся первым дитёнком и понесла, почитай, на полосе. Дитёнок родился квёлым и вскоре умер. Заругался Демьян, а ей и нечего сказать, хотя сказать было что, ведь Ксения выматывала её разной работой с утра до ночи. Попрёками да всяческой неправдой выматывала. И неумеха ты, и ленивица. И делать ничё не умеешь, и всё у тебя из рук валится…
Затяжелела вторым, и второй умер. Очухалась Авдотья от горя и к Настасье прибежала.
– Уйду от Демьяна, – заявила с порога. – Вот третьего рожу и сбегу.
– Куда сбежишь-то, девонька? – спросила, оторвавшись от квашни, Настасья.
– В Завод сбегу. К Алексею.
– А он прямо тебя дожидатся, – высказала сомнение старшая сестра.
– Он – дожидатся. Намедни встренила его, када шла с поля. Приходи, грит, любую приму. Не могу без тебя жить, грит. Люба ты мне.
– Чё ж ты за Демьяна-то пошла? – наступала Настасья. – Карахтера в тебе нету. Упёрлась бы – и всё тут. Никуды бы не делись родители. И поставить себя не можешь. Мавра бы сразу поставила на место сухоручку и с Демьяна бы спросила, чё эт он позволят помыкать тобой кому ни попадя, хоть и родная сестра ему сухоручка-то. Ты ж помалкивашь.
– Да не могу я, а он чё ж, не видит, что ли? – плакала Авдотья на плече у сестры.
Настасье было жаль Дусю, а что тут скажешь? Оглаживала сестрицу по голове, как маленькую, вытирала тыльной стороной руки её слёзыньки, вздыхала жалостливо и заканчивала:
– А может, и правда – сбежать от ненавистных? Может, ждёт, не дождётся тебя твоё счастье на чужой стороне, а ты здесь по незнанию своему маешься. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-о-о-о…
И убежала. Родила третьего – и только её и видели. Алексей Бадюло к тому времени уже работал кочегаром на заводе и мог обзавестись собственным домом, потому как зарабатывал, по тем временам, немало. Так он и сделал, и вскоре зажили они – любо-дорого посмотреть.
Демьян нашёл её, попробовал задёрнуть в кошеву силой, да вышли и встали стенкой три брата Бадюловых – Алексей, Гаврила и Константин.
– Ещё раз появишься, тут и конец тебе придёт, – веско молвил старший Гаврила. – А счас – скатертью дорога. Не умел беречь, дак нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Повернул Демьян кошеву и поволокся по крутой дороге в сторону Афанасьева. С тех пор забыл и думать и про Авдотью, и про Завод.
И уже от Алексея у Авдотьи стали рождаться детишки. Сначала Люба, чуть погодя – Кешка, а ещё чуть погодя – Николенька. Вместе с первенцем Костенькой, что зачат был от Демьяна, в семье кочегара Бадюло подрастало четверо ребятишек.
По возвращении в деревню Демьян будто бы мертвецки напился и на всю округу матёрно костерил всю родову Долгих аж до десятого колена. Очухавшись, будто бы привёз себе из соседней деревни Никитаевской жену, так будто бы вторая-то жена Демьянова чуть ли не с порога взяла в оборот сестрицу его Ксению и даже отняла у той ключи от кладовок. И будто бы деревенские бабы, у колодца судача о произошедших в семье богатея Котова переменах, сходились на одном-единственном мнении, мол, так ему, куркулю проклятому, и надо… Нечего, мол, было над бедненькой бабёнкой изгаляться…
А время катилось с горки саночками кренделем гнутыми, каждую новую весну собирал пастух коров и гнал в сторону Мокрого луга, где прежде всего начинала пробиваться из стылой пока ещё земли молодая травка. Народ афанасьевский всё чаще выходил за ворота своих усадеб. Народ, заметно обнищавший за прошедшие годы напастей, кои пали на государство Российское в первые три десятилетия двадцатого века.
Отстукивали время в доме Мавры и «гансики». Били часы, растекалось по углам благостное «Боже, царя храни», а ближе к тридцатым годам, когда грянула коллективизация, отвечавшую за музыку гирю хозяйка этого старого осиротевшего гнезда рода Долгих поддёргивать перестала, конечно же, из чувства предосторожности.
Где-то в это же время, спасаясь от раскулачивания, Демьян Котов съехал на жительство в Тулун, где и затерялся его след. Потому как и хозяином, и человеком видным он заметен был, будучи при земле, при обширном своём хозяйстве, при единственном на селе двухэтажном доме, в стенах которого афанасьевские горлопаны учредили школу, вытолкнув на улицу постаревшую Ксению-сухоручку.
А чуть ниже дома богатеев Котовых, ближе к реке поставили «нефтяник» – двигатель, что работал на нефти, вращая колесо мельницы. Доглядывать за «нефтяником» был поставлен многодетный мужик Емелька Козик, который и запускал тот двигатель, и останавливал, когда прекращались работы.
И так бы жила Авдотья со своим Алексеем, если бы не случай – нелепый, трагический, закончившийся одним разом, оборвав все временные связи и замкнув земной круг.
Сынишка Бадюлов, Кешка, подрался с соседским сорванцом Таюровым. Таюровы происходили из татар, к тому же как бы отбившихся и от своих, которые в Иннокентьевске проживали отдельным околотком на Малайкиной горе, и мало с кем ладили из русских поселенцев.
Не выдержав Кешкиного натиска, Таюров бросился бежать по тропинке в сторону завода, где и натолкнулся на возвращавшегося с работы Алексея, который, не останавливаясь, что-то сказал мальцу и последовал далее.
В то же время наблюдавшая за дракой сорванцов другая соседка – вечно сующая свой нос в чужие дела Смолячиха, выговаривала старшему из братьев Таюровых, мол, Кешка с Насыром подрались, а будто бы отец первого, Алексей Бадюло, ещё и добавил обиженному татарчёнку, отпустив ему мужскую оплеуху.
Старший, взрослый уже парень, недолго думая, схватился за нож и пошёл искать Алексея, с которым столкнулся, уже когда тот подходил к своему дому.
– Ты чё, дядька Алексей, моего брата забижашь? – спросил угрюмо Таюров.
– И с чего ты это взял, что я мальца забижаю? – усмехнулся тот, пока не понимая, чего от него хотят.
– Дак Смолячиха видела, она и указала.
– Нашёл кого слушать, она может и не такое сказать.
Так и препирались некоторое время, пока не подоспела Авдотья, наблюдавшая за перепалкой из окна дома. А подоспев, встала между мужиками, причём лицом к Алексею, уговаривая пойти своей дорогой и не связываться с Таюровым.
И вдруг, будто ни с того ни с сего, стала оседать на землю – это парень всадил ей нож в спину. Ничего не понявший Алексей наклонился к жене – и его ударил Таюров, после чего выронил из рук нож и встал как вкопанный, поняв, что сотворил непоправимое. Алексей же, почти в беспамятливости, подхватил жену на руки и понёс к дому, где уложил её на деревянный топчан, а сам выбежал во двор, схватил оглоблю и пошёл к дому Смолячихи с намерением найти и наказать сплетницу, которую, конечно, не нашёл. Сгоряча перебил все стёкла в окнах ненавистной соседки. Вернулся к себе в дом, бросил телогрейку рядом с топчаном, улёгся на неё и вскоре умер.
В те праздничные майские дни 1934 года брат Алексея, Гаврила, находился на службе в Тулуне в милиции, а подобные вести, как известно, быстро расходятся. Доложили и ему о происшедшем смертоубийстве в Иннокентьевске. Гаврила, недолго думая, вскочил на коня и помчался в Завод. Тут его уже на единственной дороге к посёлку и поджидал с ружьём в руках убийца Таюров. Выпустил пулю из ружья, и грохнулся наземь с лошади Гаврила.
Так и похоронили двух братьев рядом на старом Иннокентьевском кладбище, рядом стояли два гроба, в которых лежали молодые ещё мужики, и вокруг которых собралась вся родня убиенных, а заодно и весь посёлок.
Авдотья выжила, но постоянно болела, отлёживаясь на их с Алексеем деревянной кровати. Управляться с хозяйством и доглядывать за ребятишками подмогала сестра Настасья, бросившая своё собственное хозяйство в Афанасьево на дочь Клавдию. Костю забрала сестрица Мавра, против чего родная мать уже не могла противиться. Так и прожил он у тётки до ухода в армию.
Однажды, спустя года три после гибели мужа, лежала так-то Авдотья на своей кровати и глядела на суетившегося тут же Коленьку. Подозвала сынка и попросила принести из сундука чистое полотенце. Тот принёс. Положила то полотенце на подушку под щёку и просит далее – подать склянку, будто бы с лекарством, что стояла в шкафу и стенки.
– Ту, ту, сынок… – указывала подставившему табуретку по причине своего малого ещё роста Коленьке.
А склянка та была с уксусной эссенцией. Выпила Авдотья содержимое склянки – и пошла у неё изо рта пена…
Винодельный завод пыхтел своими паровыми котлами, дымил трубами, копошились на своих местах люди, и прозрачная гремучая жидкость лилась в чаны, бочонки, посудины, которые потом увозили на подводах в Тулун и далее – по железке, по Московскому тракту, и где оседало в конце концов иннокентьевское зелье, не знал никто из тех, кто его производил. Падало то зелье в желудки лужёные, вливалось в глотки мужиков, и дурели те мужики от выпитого, сотворяя непотребное в своих семьях, на улицах, в городах и весях глухой сибирской стороны.
А семья Алексея и Авдотьи Бадюло больше не существовала на свете: и муж, и жена упокоили свои косточки на схоронившемся в небольшом лесочке Иннокентьевском кладбище, дорога к которому протаптывалась редко, потому как люди в те годы мёрли негусто, как бывало в годы братоубийственной Гражданской междоусобицы. На кладбище приходила Настасья, приносила блинчиков, другой какой снеди, укладывая ту снедь у неказистых на вид памятников, присаживалась рядом и горевала. Горевала по-своему, по-бабьи, вытирая краешком платочка скатывающиеся по щекам слёзы, вздыхала, глядела куда-то вдаль поверх сосёнок, собирала остатки снеди и уходила восвояси.
У трёх сестриц Долгих сложилась и выправилась своя собственная судьба. Судьба женщин-крестьянок, в свой срок народившихся на свет в деревеньке Афанасьевской. В свой срок испытавших неизъяснимое томление девичьих сердечек по разлюбезным. В свой срок прочувствовавших всю полноту радости материнства. И в свой срок потерявших веру в собственное женское счастье.
Пришёл час Настасьи, и полюбила она своего Семёна, да тот, как оказалось, больше любил свою ре-во-лю-ци-ю…
Запрыгало, затрепетало сердечко Маврино, да оказалось, затрепетало напрасно, и произнесла она страшную клятву перед Господом – навек остаться вековухой…
Нашла-таки своё счастье Авдотья, да враз потеряла – и мужа, и счастье, и саму жизнь.
И не счесть таких-то женских судеб по России-матушке, по городам и весям, по улицам и улочкам, по хуторам и заимкам…
Не счесть…
В яме
В житейских передрягах люди сами себе роют яму и втягивают в неё всех, кто оказался рядом. И кто здесь бывает виноват, кто прав – разобрать невозможно. Наверное, все понемножку, где каждая капля в склоках – тяжелее и чернее свинца. А каждый порыв к примирению – дороже злата и серебра.
В такую яму попала и семья Капитона. Вот вроде шли и ровным полем, и густым лесом, и водью, и луговым разнотравьем. Встречались на пути дорожные ухабы, переваливались через колдобины, увязали в болотной мути, но выбирались на твёрдую гладь раскинувшейся пред очами землицы, вдыхали полной грудью напоённый ароматом простор и шли дальше.
И жизнь в доме катилась своим чередом, прирастая хозяйством, обновами для домочадцев, купленным радиоприёмником, а затем и телевизором. Корова Майка приносила крепких лобастых телят, пёс по кличке Моряк облаивал соседских кошек и котов, по двору топтались куры, а наседка в свой час выводила из-под высокого крыльца цыплят. Всё как у людей, а где-то, может быть, даже зажиточней и лучше, ведь у хозяина дома Капитона всякое дело спорилось, а хозяйка Катерина с утра до ночи то перестирывала бельё, то мыла полы, то белила, то скоблила, то вычищала, то выметала всё то, что надо было скоблить, вычищать, выметать. Не отставала от хозяев и бабка Настасья Степановна, обитая на кухне, где на ощупь знала каждый горшок, каждую кастрюлю, чашку, тарелку, ложку. Свои обязанности по дому имели и детки. Предположим, в Колькины входила уборка стайки. Галинка отвечала за чистоту грядок от сорняков. Михаил топтался во дворе с метлой в руках. Оленька подмогала бабушке.
Всё бы ничего, только с годами Капитон не переставал ревновать Катерину. Ревновал к каждому мужику, с которым останавливалась на дороге. Приходил на несколько минут раньше окончания рабочего дня к воротам нефтебазы, где поджидал Катерину. Провожал незаметно, если направлялась куда-либо, подглядывал, что-то примечал, делал свои собственные выводы.
А выпив, кричал страшно, выкрикивал обидное, наступал, грозя расправой. Хватался за ножи, вилки, за всё, что попадало под руки. Летела Катерина из дома, не помня себя, выскакивала в открытое окошко, неслась по улице на потеху прохожим.
Случалось, наступал трезвый. И, казалось, ничто не способно было успокоить мужика. Теряла в такие минуты над ним власть и мать – Настасья Степановна, не находя слов утешения для ни в чём не повинной невестки.
– Хытрая! – кричал. – Хочешь делать! Приститутка!..
Известно, что у всякой чаши есть свои края, до краёв этих только и можно наполнять ту чашу. Так же и человек любую несправедливость может терпеть до поры до времени. А перельётся через край душевная муть, тогда уж никто не скажет, чего ожидать от человека.
До поры до времени терпела и Катерина, но однажды собрала нехитрые пожитки в дермантиновый чемоданчик и ушла. Ушла, по сути, в никуда, попросившись на постой к давней своей подружке – Гале Распопиной, у которой нередко скрывалась от обезумевшего от ревности Капитона. Галя жила одна, так как муж её Миша к тому времени уже умер, а дочка Надюшка вышла замуж и уехала на жительство в молодой строящийся город Братск.
И попала семья в свою собственную яму. Сполз на самое дно её Капитон, запив по-чёрному, как никогда в жизни не пил. Поначалу ходил на работу, где с раннего утра похмелялся с мужиками, спал за своим фрезерным станком на узком топчане, проснувшись, снова помышлял о похмелье. Работяги не обходили своего старого товарища, сочувствуя его беде по-своему и по-своему же подмогая в несчастье: скидывались на бутылку, кто-нибудь из молодых бежал в «Большой» магазин, называвшийся так-то, поскольку был ещё и «Маленький», но расположившийся подальше от «Большого». Наливали полный гранёный стакан очнувшемуся Капитону, совали в свободную руку какой-никакой кусок хлеба, да, может быть, ещё и хвост селёдки иль кусочек жёлтого лежалого сала. Капитон опрокидывал в рот содержимое стакана, вытирал губы тыльной стороной руки, ронял голову на опущенные руки промеж коленок, проговаривая неразборчиво какие-то слова, и мужики понимали, что это он о своей незадачливой доле брошенного мужа.
Начальство на пьянство своего лучшего специалиста смотрело сквозь пальцы и пока терпело, проставляя в табеле выхода на работу «восьмёрки». А через какое-то время Капитон и вовсе перестал появляться на работе, с раннего утра начиная обход близкой родни, где ему и подносили гремучей жидкости для опохмелки. Тут уж он пытался изливать душу сполна, ведь единокровные родственники доподлинно знали его историю. И они, как могли, подбадривали мужика, да толку с того было мало.
В такие дни в дом родительский заглядывал Колька. Отец выползал из комнаты, где стояла родительская кровать, – в грязном нательном белье, рубахе и кальсонах. Проходил в куть, хлебал воду из старого, с вмятинами на боках, ковша, останавливался напротив сидящего у стола сына, произносил короткое:
– Плёхо…
Уходил в комнату, укладывался на кровать.
Колька шёл в спальню, где под тряпьём лежала бабушка Настасья Степановна, которой так же нашлось своё собственное место в той яме. Подставлял ближе к кровати табуретку, садился, чтобы выслушать бабкины жалобы, для которой было великим счастьем хоть кому-то выговориться.
Выгреблась из-под тряпья бабушка, высовывала повязанную тёмным платочком голову, глядела слезящимися выцветшими глазами в сторону внучека, готовилась поведать о своих страданиях. Долго готовилась, шевеля под тряпьём сухими ноженьками, выпрастывая высохшие рученьки, глубоко вздыхала и принималась причитать:
– Внучек, Коленька, хоть ты не забывашь меня, старую. Видно, не зря кормила я тебя шанежками да пирожками. Картошечкой вкусненькой кормила да молочком поила. Спасибочки тебе, милай мой внучек. Уважил… Э-эх, жизня треклятая, забубенная…
И переходила к мыслям о сыне, которого жалела больше себя самой.
– Бросили Капку-то одного на смертушку лютую, не пожалели убогого. Да и тож сказать, сам-то он хорош, не смог жену удержать подле себя, сбежала Катерина-то, по чужим людям мотаться. Тож, видно, намучилась, сердешная…
И будто бы в раздумчивости, продолжала:
– Пошёл бы к ей Капитон-то, пал бы в ноженьки да просил бы прощения за своё скотство-то ревностное. Чай она не железная, простила бы мужика, вить четверню народили, на ноги поставили, дом этот отгрохали, и жить бы да жить в довольстве и уважительности к друг дружке. Дак не-ет… Э-эх…
Выдыхала скопившуюся в груди тяжесть, просила:
– Ты бы свёз меня к Клавдии. Нет моей моченьки быть тут. Найми машину да свези. Хоть и не хочу из родных углов выбираться, но и видеть таким вашего отца тож не хочу. И сходи к матери, пускай возвращатся Катерина-то. Сколь можно болтаться по чужим углам, сколь можно терпеть непотребное, вить семья же мы. И дом этот строили для себя, а стоит теперь сиротой неприкаянной домишко-то. Хоть приходит за коровой доглядывать, и за то ей спасибо: доит, кормит, убират за коровёнкой-то. Хозяйка она здеся, хозяйкой должна и оставаться. А на Капитона – начхать. Попрыгат, на то же место и сядет. Пусть хоть меня, старую, пожалет Катя-то…
Колька уходил, обещав всё сделать так, как просит бабка. И делал. Нанимал машину, увозил Настасью к тётке Клавдии. Дня через три появлялся у тётки, а там бабка уж другую песню поёт:
– Внучек ты мой, Коленька, увези меня отсюдова. Не хочу я тут быть. Как там Капитон, как углы сиротские?.. Как Майка? Топлена ли изба? Може, уж нету в живых Капитона-то? Увези-и-и…
Снова нанимал машину Колька, снова возвращал бабку в дом родительский.
А в ту зиму случилась напасть: перестала греть печь. Топи – не топи, а тепла и нет. В чём дело? Промерзали углы дома, замерзали оставшиеся в нём домочадцы. Топили русскую печь, но этого тепла хватало разве что на куть да на прихожую.
Пришёл однажды Колька и едва застал в живых старушку. Побежал к соседям, у которых имелся автомобиль «москвич», упросил старшего, Андрея, свезти Настасью Степановну к всё той же тётке Клавдии. И свёз. Потом явился к матери, со слезами на глазах рассказал о свалившейся на родительский дом напасти, о бабушке, которую едва застал в живых и которую свёз к тётке.
– Мама, возвращайся домой, – просил. – Не то, вот увидишь, плохо всё кончится. Помрёт бабушка, она ведь долго у тётки не протянет, попросится домой, а там – смерть. Возвращайся…
Слушала сынка Катерина, а слёзы катились из глаз ручьём. Ведь и она не сама по себе, а всё в той же чёрной яме, где тьма кромешная, где не пахнет жилым духом, где сырость болотная и ползучий холод.
– Ничё не поделашь, подруженька, придётся возвращаться, – сказала и подошедшая Галина. – Вишь, какая напасть приключилась, замерзают люди, а ты быстренько наведёшь порядок и с печью разберёшься. Да и надо выбираться на свет божий, сколь можно прятаться от людей?
– Выберусь, Галя, выберусь, без хозяйки-то, видно, и печь греть не хочет. Ложил её покойный старик Хоменко и сколь лет грела, не подводила, а тут – поди ж ты…
– Не хочет, милая, не хочет. Хоменко здесь ни при чём, может, кирпич где завалился, перекрыл дымоходы, – поддакивала Галя.
– Свекровушку мне жалко, а этот немчура хоть сёдни окочурься, хоть завтра. Всю душеньку мне вымотал своей ревностью.
– Дак любит, ежели ревнует. Человек же он, хоть и немчура, – улыбнулась Галя.
– А на кой ляд мне така евонная любовь? А что немчура, дак это я так, к слову, побольше бы таких-то немчур, дак жили бы припеваючи.
– Вот-вот, сама его оправдывашь, – осторожно добавила подружка.
– Да чё скажешь об ём дурного? Мужик с руками и головой. Чё не сделат, любо-дорого посмотреть и другим показать. И жили бы, не тужили, ежели бы не его дурость, – вскинулась Катерина. – Вот чего ему от меня надо? Чего? Что я ему – потаскушка кака-нибудь, что ли? Гуляща кака? Работаю, как вол, с малолетства, без отдыху-роздыху, а ночка придвинется и он тут как тут со своей ревностью. У тебя, подруженька ты моя, только и оттаяла душенькой. Но верну-усь, нечего делать, верну-усь. Не спущу ему, по-иному буду себя держать…
И погрозила кулаком в пустоту комнаты, прибавив в запальчивости:
– По-ино-му-у-у…
Вернулась. Взошла в дом намеренно при Капитоне, когда тот вернулся с работы.
К слову сказать, мужик бросил пьянку так же скоро, как и начал. Вышел на работу, встал к станку. И жизнь в мастерской пошла своим порядком.
Своим порядком пошла и новая жизнь в доме глухонемого Капитона.
Первым делом Катерина прошла в куть к печи, где машинально дёрнула летнюю заслонку – и батюшки!.. Заслонка-то прогоревшая. Выходит, огонь из топки прямым ходом шёл в трубу, а тепло не попадало в колодцы дымоходов, потому печь и не грела. Сунула под нос хозяину ту заслонку, Капитон махнул головой, мол, понял, что от него требуется, и вышел из избы, вернувшись через некоторое время с другой заслонкой в руках. Вставила Катерина новую заслонку и растопила печь. Как положено, через минут тридцать-сорок бока печи стали прогреваться, а в дом стал входить здоровый жилой дух, который тут же почувствовала старая Настасья и выползла из своей спальни. Ощупав бока печи, заплакала-запричитала:
– Вот хозяюшка… Вот Катерина… Вот умелица… Вот моя славная невестушка… Неужто вернулась?
И пала на грудь хозяйки, окончательно утвердившись в мысли, что та уже никуда не уйдёт, а в доме их навсегда поселится тепло.
Тепло в этом доме действительно поселилось навсегда. Нашла своё место и квашня на приступе печи, которую поставила Настасья, а на следующее утро стол был завален разной выпечкой.
Капитон с Катериной вели себя так, будто ничего не случилось. А в самый первый ближний большой праздник устроили гулянку, на которую пригласили всю свою большую родню. И здесь хозяева вели себя так, будто ничего не случилось, а сами они между собой живут душа в душу, хотя поврозь прожили целый год, и за этот год много воды утекло. Что-то, видно, переменилось и в них самих, во всяком случае, казалось, даже воздух в доме стал другим. Чаще, чем прежде, свекровь подходила к невестке и прижималась к её плечу. Чаще, чем прежде, невестка оглаживала плечи старой Настасьи, однако выказывали они эти знаки внимания молча, и каждая в такие минуты думала о своём.
Наверное, так было правильнее всего, потому что обеим было яснее ясного, что пережили они в своей общей жизни нечто такое, чего и врагу не пожелаешь. Пережили и готовы жить дальше, и все вместе они выбрались наконец из той ямы, в которую уже никогда больше не попадут.
Майка
Больше всего от Майки рождались бычки, прок от коих один – семье на стол: съели – и забыли. Хозяевам хотелось тёлочку. И принесла Майка почти сплошь белую, с немногими чёрными пятнами дочку – крепкую, ладно скроенную, ласковую. Как водится, в свой срок отнята была она от мамки, потом возвёрнута в стайку, но в загон отдельный. Здесь Белянку (такое имя было дадено скотинке) навещала уже ребятня, подносившая своей любимице то сенца, то хлебца, то каких отходов из кухни. В своё время пошла в стадо, где за лето нагуляла бока, обратившись в красивую и рослую животину. Пережила зиму, а там пришли хозяин с хозяйкой, набросили верёвку на рога, свели к совхозному быку. И в следующую зиму, под самый Новый год принесла Белянка уже свой приплод – бычка, который оставлен был до своего срока произрастать в загоне, а матерь его хозяева продали на соседнюю улицу. Тут надо оговориться, что, может быть, и не продали бы, да Майка почти в одно время с Белянкой снова разродилась тёлочкой, которую по настоянию старой Настасьи назвали Жданкой. У этой, в противоположность сестре, шкура была почти сплошь чёрной, а сама она чем-то поразительно напоминала мать, что было отмечено даже Капитоном. Появится в загоне, пройдётся по дощатому полу лопатой, метлой, поставит инструмент в своё место – и к корове.
– Моледец, – приговаривает, оглаживая рукой Майкину шею. – Моледец…
Чем больше проходило времени, чем больше округлялись бока Жданки, тем явственней проступали в ней Майкины черты – в крупной голове, узловатых ногах, но более всего – в повадках. И взмыкивала-то она почти так же, и терпеливо дожидалась своего навильника сена, и воду пила, не отрываясь, до самого донышка ведёрка. А уж когда принесла телка, и вымя её отяжелело молоком, объёмистое, свисающее ниже коленок, – тут и развели руками обе хозяйки, Настасья с Катериной, поглядывая на стоявший в кути, полный до краёв подойник.
– О-хо-хо-хо… – первой подала голос старая Настасья. – Чё делать-то будете с Майкой теперя? Два века коровёнке не прожить, а менять животину надо – годов пятнадцать ей уже, изработалась. Вам с Капкой решать.
– Жалко, мама, корову. Всех ребятишек помогла поднять. А уж молоко – не чета соседскому. По три подойника в день после отёла не каждая может дать.
– Да уж, сколь пьём, столь и поминаю тётку твою, Надюшку. Я только за это во всякий час её привечу, пусть хоть кака будет – пьяная иль тверёзая.
Черепаниха бывала нечасто, но после каждого посещения семьи племянницы, казалось, долго ещё отдавался по углам её низкий звучный голос. Она-то и предсказала появление от Майки тёлочки, которая со временем заменит вошедшую в года корову.
– Попомни, сватья, слова Черепанихи. В завитках рогов любой коровы начертана её судьба. Только не каждому дано считать те знаки. Мне – дано.
– Да что ты, милая? – будто ужасалась Настасья, показывая всем своим видом, что ей не по себе от слов Надюшки. – А ежели нет рогов-то?
– Ты, сватья, знашь мою дочку Раису?
– Как же не знать-то…
– Так вот. Хоть и грех говорить и так жалко мне её, так жалко – ночей не сплю. Но сама я её, калеченую, выродила. И чё с ней теперя делать? На улицу выгнать?
– Так-так-так… – поддакивала Настасья. – Для матери калеченое дитё жальчее здорового. Кому ж, как не мне, знать.
– Вот и я как мать говорю: «Из моей Раисы никада не будет настоящей женщины. Так и корова без рогов».
– Должны быть, должны, как же без рогов-то, – согласно кивала головой Настасья.
– Я ещё, када покупали, глянула и, как с листа белого, считала судьбу её. Я видела – золото будет, а не корова. И приплод принесёт добрый, тока тёлочку себе на замену принесёт в самый последний срок. И будет та тёлочка масти чёрной, будто в сумерках, на исходе жизни рождённой. И ждать нада вам будет тока такую и никакую другую. И будет вам – Жданка, а со Жданкой и печаль.
– Какая ж печаль? – насторожилась Настасья.
– Это, сватья, мне неведомо. Не знаю, а врать не хочу. Печаль – и всё тут.
О том давнем разговоре с Черепанихой Настасья никому в доме не рассказывала, боясь навлечь на семью какую беду. Хотя на уме держала. Да и как забыть: с коровой в семье связано всё. Так было всегда и в её собственной, давней жизни, и в жизни семьи Капитоновой, где и её обретается угол, из которого отправляться в последний путь.
«Вот и печаль, – вдруг подумалось. – С коровёнкой надо расставаться».
Почувствовав, как по спине побежали мурашки, повела плечами.
– Ты чё, мама? – спросила Катерина участливо. – Нездоровится?
– Вот и печаль, соображаю, пришла.
– Какая ж печаль? Ты это о чём?
– О корове нашей, о Майке. Сбывать с рук надобно коровёнку-то. Тётка твоя нагадала эту печаль, будь она неладна – прости меня, Господи.
Рассказала о давнем Черепанихином пророчестве.
– Я, мама, и сама боюсь Капитону говорить насчёт Майки, а тут на днях он мне толкует, мол, резать надо корову. И так рукой провёл по своему горлу, что мне страшно сделалось.
Как бы там ни было, в доме после того разговора Настасьи с Катериной будто что-то сменилось. Будто поселилось нечто нечистое, «подтыкивающее», как любила говаривать старуха, под бока, дабы люди спотыкались на ровном месте, ссорились друг с дружкой безо всякого на то повода, дети в школе получали плохие отметки, у родителей были неприятности на производстве.
Настасья чаще, чем обычно, покрикивала на внуков, Катерина, таясь от всех, плакала. Обе сверх надобности наведывались в стайку – рвали сердце себе и беспокоили корову.
Хотя, может быть, одна старая Майка в хозяйстве глухонемого Капитона и была спокойна. Подавали сена – тыкалась в ясли мордой. Приносили воды – пила от пуза. Гремела хозяйка подойником, – тянулась губами к корочке хлебца, жевала, облегчаясь переполненным выменем, так как в эту зиму суждено ей было принести ещё одного, последнего, сыночка.
А февраль, перейдя в март, уже не так сильно и не так настырно подвывал ещё по-зимнему холодными ветрами. Не так хлёстко и не так густо бросал в лицо узорчатыми комочками льдистого снега. В утренней мартовской дымке всё явственней проглядывался капризный норов приступающей со всех сторон весны. Весны, неведомо кому грозящей окончательно утвердить свою власть над застывшим миром, пробудив его к новой жизни звуками многоголосного оркестра, составленного из разной величины сосулек, с которых где дробно, а где певуче скатывалась капель. Накопившийся за зиму снег всё более темнел и сжимался, готовый в любой момент пролиться ручьями в канавы, впадины, овраги – просочиться в оттаявшую землю или испариться, обратившись в отяжелевшее облако.
Люди ещё недоверчиво поглядывали вкруг из-под шапок, платков, шалей, ещё не торопились расстаться с полушубками, телогрейками, валенками, но уже в голосах, в обращениях к друг дружке то здесь, то там начинала прослушиваться присущая капели радостная звень, вырывающаяся наружу из, казалось бы, наглухо запахнутой груди.
Земля готовилась скинуть с себя белые, подпорченные весной, одежды, а затем, отогревшись в лучах набирающего силу солнца, лечь под плуг пахаря, прорасти злаком, травой, деревом, цветком. Дать жизнь жизни новой. Наполнить и насытить всякий закром, всякую кладовую, всякую ползающую, летающую, плавающую во чреве и на чреве своём тварь, всякую животину и всякого человека.
Но не во всё вливает она свои живительные соки. Не всему и не вся даёт новую жизнь. Что-то отмирает, обращаясь в прах и тлен. Что-то уходит невозвратно, а видимый во времени и пространстве след зарастает быльём – истончается и стирается, сходя на нет. В том и есть великое таинство круговорота природы, где одно поддерживает другое и наоборот – одно поглощается другим, подготовляя почву для прихода третьего. За третьим приходят четвёртое, пятое… сотое… тысячное. И где было начало, и когда пристигнет конец, и придвинется ли он когда-нибудь – неведомо на этом свете никому.
Одно ведомо: весна приходит каждый год – в свой час, на свой срок, для своих больших и малых дел.
В один из таких-то мартовских денёчков с раннего утра в доме появился младший брат Катерины – Кешка. Вошёл по-хозяйски шумно – молодой, здоровый, сильный, готовый свершить всякое дело. Следом за ним пришёл и его дружок Венька. Оба, как объявили Катерине, с вечера были в хорошем подпитии, и потому требуется им опохмелка.
Катерина собрала на стол. Понуждаемый шурином, с мужиками за компанию сел и Капитон, однако сразу показавший жестом, что выпивать не будет. Сидел, смотрел то на одного, то на другого. Улыбался то ли виновато, то ли не к месту и не ко времени, потому что не понимал ничего из того, о чём говорили мужики. А мужики и выпили, и разгорячились, и разговорились. Однако никто не касался главного, ради чего они здесь: отчего собран стол, отчего бутылка на нём, и потому ещё более усиливалось ощущение нечистоты, неправильности затеянного, не оставлявшее домочадцев с того самого дня, когда Жданка принесла своего первого дитёнка и всем в доме стало понятно, что должна она занять Майкино место.
Измученная всем происходящим вокруг, выбралась из своей спаленки Настасья. Шлёпая мимо мужиков, не скрывая раздражения, проворчала:
– Явились – не запылились, окаянные…
Хлопнув входной дверью, уже в сенцах докончила:
– Никак глотки свои не могут налить, проклятые…
В который раз потянулись за бутылкой. На этот раз не выдержала Катерина, подошла, тихо сказала:
– Хватит. Ещё успеете напиться.
Мужики встали, оделись, вышли во двор.
И всё в доме, во дворе и вокруг усадьбы будто оцепенело, будто застыло, замерло в ожидании то ли уж расправы над не заслужившей такого конца Майкой, то ли уж решения вопроса её жизни и смерти каким-то иным образом.
Оставшимся в доме Настасье и Катерине более всего хотелось чуда, и чудо это, как обеим мерещилось, могло быть в том, что вот-вот, в самый-самый момент, вдруг явится некто и отговорит мужиков. И они оставят Майку жить. И найдётся какое-то иное решение.
Но никто не явился. Никто не отговорил. И сами они не отдумали.
Топор поднялся над головой коровы и пал остриём в то самое уязвимое место, что сразу за рогами. И будто присела Майка на чёрный стоптанный снег, а из раны толчками, прямо на грудь ей и дальше – по передним ногам побежала кровь. Привязанная намертво за рога к столбику заплота, голова коровы вывернулась в Кешкину сторону, и он вдруг увидел, что большие Майкины глаза наполнены слезами.
Уже как бы вне себя Кешка взмахнул топором в другой раз, но не ударил, застыв в такой вот неестественной позе, будто раздумывая: а есть ли надобность в том, чтобы ударить ещё раз? И есть ли вообще какой-то смысл в том, для чего они все сошлись в доме его сестры? Для чего, вообще-то, в этом мире всё устроено так, что одни решают, кому, когда и сколько жить, а другие подчиняются этому решению? Кто установил этот Закон, одинаково неумолимый и для какой-нибудь букашки, и для какой-нибудь мелкой птахи, для зверя, дерева, человека?
Меж тем задние ноги коровы перестали быть для неё опорой, и животное всем телом повисло на привязанных рогах.
Кешка наконец опустил топор, не глядя на закадычного дружка, попросил дать ему стакан, подставил под струящуюся из шеи убитой кровь. Рука его дрожала, лицо кривила жалкая улыбка. Нацедил. Выпил.
Полез в карман за папиросами, закурил.
Нацедил крови и его дружок Венька. Бросил с ухмылкой:
– Чтобы быть злее…
Выпил и он.
– Ну чё, Капитон, может, и ты испробуешь свежей крови убиенной коровы? – всё с той же ухмылкой протянул стакан стоявшему в стороне хозяину.
Поняв, что от него хотят, Капитон махнул рукой, повернулся и направился в дом, откуда вышел с недопитой бутылкой. Подошёл к курившим мужикам, вылил водку в принесённый с собой стакан и тут же выпил.
– Водка – хоросё. Крофф – плёхо, – сказал, поочерёдно тыкая пальцем в сторону стакана, из которого только что выпил сам, и в сторону другого, из которого пили мужики.
Те разом заржали.
– Соображает, немой, что такое хорошо и что такое плохо.
Часа через два исходящая паром шкура коровы уже висела на заплоте, а куски разрубленной туши мужики перетаскали в указанное хозяевами место – в холодную, сделанную из досок летнюю кухню.
Капитон ушёл в совхозную конюшню запрячь в сани лошадь, чтобы отвезти мясо в столовую, о чём ранее Катерина ходила договариваться с совхозным начальством.
Мужики прошли в дом, где принялись за выставленную на стол другую бутылку водки. Им никто не мешал, да и они не обращали ни на кого внимания, занятые не оконченным с вечера разговором.
Закончилась водка – пили брагу, какая в те годы водилась почти в каждом доме совхозных работяг и какой рассчитывались за любую мало-мальскую услугу.
Будучи в изрядном подпитии, грузили на сани куски неживой Майкиной плоти, изъявив желание сопровождать Капитона до столовой – очень уж хотелось им узнать, на сколько без требухи и головы потянет корова. Ехали с ветерком – с криками, матами, песнями. Капитон крепко держал в руках вожжи, умело управляя ходко бежавшей лошадью, сосредоточенно глядел на дорогу, думал о своём. Он вообще-то мало понимал из того, что вокруг него происходило, в простоте душевной полагаясь на разумность кем-то однажды запущенного механизма жизни, в которой всему и вся определено своё место. Было своё место и у коровы. А место мяса – в столовой, где выдадут ему бумажку. В обмен на бумажку получит он в кассе совхозной конторы деньги. И деньгам определится место – был уже на сей счёт промеж них с Катериной разговор.
Тяжелее всего утрату коровы переживала старая Настасья. Не потому что из всех коров в её жизни Майка была лучшей – были не хуже этой. Помнит она голос, норов, вкус молока каждой. А потому что с Майки зачалась семья её Капки. С Майкой она укрепилась и оформилась: народились детки, появился свой собственный угол.
Не стало Майки, и будто кто подрубил те крепи – так, по крайней мере, почудилось Настасье, чутко воспринимающей всё, что касалось жизни её калеченого сына.
– О-хо-хо-хо-хо… – качалась она из стороны в сторону, сидя на кровати в своей спаленке. – О-хо-хо-хо-хо…
Старая Настасья слишком хорошо знала, чтό для семьи корова, да ежели ещё в тяжёлую годину. Не раз и не два выкарабкивалась сама и с детишками малыми и после болезни-немочи.
Семён от разной рядившейся под патриотов России сволочи скрывался в непролазной чащобе, что полосой от Мокрого луга уходила к речке Курзанке. Мало кто совался в ту чащобу, где за вековыми елями начиналась мшистая болотина, заваленная полусгнившими стволами елей, берёз, осин. Где белый свет можно было разглядеть только через сеть свисающей отовсюду паутины. Где мог пройти человек бывалый, знающий эти места с малолетства, а небывалому и делать-то было нечего, потому как запросто мог ковырнуться о какую-никакую колдобину и навсегда нырнуть в зловонную болотную жижу.
Поставлено было в той глухой таёжной полосе зимовье не зимовье, шалаш не шалаш, а в общем-то жильё, где сбиты были на двух человек нары и сложена из плитняка небольшая печурка. И ежели бы призадумкаться, на кой ляд устроено было то жильё, коли до Мавриной заимки от него не более двух-трёх верст, то ответ напрашивался сам собой – варначье то было логово. Недаром толковал промеж собой бывалый люд, что под видом переселенцев в конце девятнадцатого – начале двадцатого века в Сибирь пробирались разной масти сорвиголовы, промышлявшие у себя на родине разбоем. Знать, слишком на виду они там были, что ехали в Сибирь искать иные, пригодные для приложения своих разбойных сил, места. Западные области России-матушки к тому же и без них-то было кому обирать.
Бытовала на сей счёт среди афанасьевских и пересказанная бог весть кем некая легенда, будто увязла в тех болотных мхах, пропала безо всякого толку ватага, отбившаяся от главного казачьего отряда, что шёл с самим Ермаком Тимофеевичем покорять Сибирь. И что главарём у тех удальцов был некий Афанасий. И был он высоченного роста, а чуть ли не во всю ширь могутной груди будто бы растекалась прядями русая борода. Отбились они будто бы не случайно, а своей варначьей волей, дабы изыскать удобные для проживания и хлебопашества места и осесть навсегда общинным манером, никого не спрашивая и никого не боясь. Ведь помимо военного снаряжения и продовольственного припаса нёс каждый ватажник за плечами в походной суме свою посильную меру зерна, топор и разный инструмент, пригодный для обустройства и крестьянствования на новом месте.
Долго шла ватага по тайге, многое претерпела и не одну могилку оставила в сиротстве в той таёжной глуши. И вышла единожды к речке Курзанке. Шибко понравилось ватажникам место, и на своём ватажьем сходе порешили: стоп! Дальше ходить незачем. И зачали строить землянки, чтоб уж с будущего года поставить первые крепкие избы.
Всё складывалось удачно, и Бог был на их стороне, да напали как-то ночью на ватажников туземные людишки, выкосив тонкими своими стрелами большую половину Афанасьевой братии. Но и ватажники не жалели кровушки вражьего люда. Однако сильно напирали туземцы, слишком неравны были силы, и пришлось Афанасию с немногими оставшимися в живых отступить в глухомань тайги. Там-то и нашли свою смертушку в болотинах, что за Мавриным лугом.
Пребывала среди ватажников будто бы девушка по имени Мавра, приходившаяся главарю дочкой. Сильнее жизни собственной любил её Афанасий, держал подле себя в походах, потому как на всей земле никого более не имел в сродственниках.
Точно таким же манером произрастал и обучался боевому искусству при войске Ермаковом казачёнок Микола, погибший в одном из походов родитель коего был лучшим дружкой Афанасию. Вот этого-то Миколу Афанасий и прочил в мужья своей Мавре.
И те любили друг дружку, держась рядышком во всяком походе.
Когда придвинулась пора погибели в той болотине, Афанасий и наказывает Мавре с Миколой: бежите, мол, быстрее птицы, держась этой вот лунной дорожки, что пролегла промеж кочек, авось и спасётесь. Перекрестил напоследок и отвернулся. И те будто бы полетели, едва касаясь кочек. И сгинули в ночном тумане быстрее, чем успела сомкнуться над головами ватажников болотная трясина.
Может, спаслись, и Степан Пименович знал кого из потомков Мавры и Миколы, кто в оные времена пришёл на эту землю, – слишком уж уверенно вышагивал по незримым болотным тропам, а за ним – след в след и Семён.
– Примечай, – говаривал, не оборачиваясь на внука. – Може, пригодится – как знать наперёд, куда повернётся жизня…
Как в воду глядел Степан-то Пименович: привелось скрываться здесь внуку – бывшему крестьянину деревни Афанасьево, бывшему путевому обходчику станции Тулун, бывшему же унтер-квартирмейстеру с одного из русских эсминцев, принимавших участие в боях с Японской эскадрой в Порт-Артуре, вступившему в партию социал-демократов в японском плену в 1906 году.
Туда же носила съестной припас и Настасья. Ожидал он её на краю Мокрого луга, здесь же сидели на коряжине, здесь же и говорили – каждый о своём. Она о детях, о трудном житье-бытье. Он – о происходящей в стране революционной ломке. Она его не слышала. Он не слышал её.
Здесь же был зачат последний плод их любви – сын Капитон.
Здесь же его и взяли.
Пока прятался, жила она с ребятишками в Афанасьеве. Попал в тюрьму, и она за ним перебралась в Тулун.
А нажитых общим порядком деток спасала она одна. И ежели б не коровёнка, какую водила за рога то в Афанасьево, то в Тулун и обратно, и сама пошла бы следом за муженьком наперёд ногами.
– О-хо-хо-хо-хо-о-о-о… – шептали её сморщенные губы, а по-молодому цепкая память уносила во времена, кои всегда, во всякий час и всякую пору были в ней и с нею – определяй, как кому нравится. Времена, хоть и отошедшие от указанных происходящих в Капитоновой семье событий годков на пятьдесят, но близкие ей до изумления, будто стоящие рядом, – не обветшавшие, не стёршиеся и не износившиеся.
Настасья не слышала, как стукнул щеколдой ворот Капитон, как толковали они о чём-то с Катериной, как хлопали дверями их уже большие дети. То ли не хотела слышать, то ли впала в некое забытьё, из которого уже не бывает возврата.
Но старуха пожила ещё с неделю. Хотя как тут скажешь: пожила… Лежала с закрытыми глазами, приподнимая время от времени отяжелевшие веки лишь для того, чтобы удовлетворить настойчивые просьбы невестки Катерины – отозваться. Но тут же и затворяла, будто отгораживаясь от мирского, что продолжало жить в доме своей жизнью.
Иной раз подходил к постели умирающей сынок Капитон: стоял, наклонившись и всматриваясь в обострившиеся черты матери, качал головой, произносил всякий раз одно и то же слово:
– Плёхо…
Внучики, так те даже и не подходили, а проносились мимо. На лице старухи в такие моменты появлялось нечто вроде улыбки – слышала, видно, и всё понимала, да не могла или не хотела тревожить своё недвижное высохшее тело, дабы, как бывало прежде, привстать и спросить твёрдым голоском, куда это вы, мол, намылились, оглашенные?.. Шарфы на шеи повяжите, рукавицы на руки наденьте…
Призвали к старухе и доктора. Вернее, докторшу Викторовну, жену того Веньки, что участвовал в убийстве коровы Майки.
Брала руку Настасьину, слушала пульс, прикладывала к старухиной груди прохладную чашечку, висевшего на шее прибора, откидывала одеяло и глядела на недвижное, вытянувшееся тело умирающей. После всех этих манипуляций встала, поманив ладошкой Катерину в другую комнату.
– Ничем ей уже не поможешь, – сказала тихим голосом усевшейся напротив Катерине. – Живёт за счёт сердца. Сердце у неё крепкое.
– Крепкое, крепкое, – отозвалась Катерина в растерянности. – С чаю это у неё. Всю жизнь пьёт свекровушка чай-то. И счас, кроме чая, ничё не принимат.
– В общем, ждите, – заключила, вставая.
– Чё ждать-то? – снова не поняла Катерина.
– Конца ждите, – грубовато ответила уже возле двери Викторовна. – Не сегодня, так завтра отойдёт Степановна.
– Да что ты! – ужаснулась от вдруг дошедшего до Катерины смысла слов докторши. – Неужто ничё нельзя сделать?
– Ничего, – был ответ.
Дверь за Викторовной затворилась. И придвинулся вечер.
Капитон ужинал в одиночестве, так как ребятишки ещё не вернулись с улицы, а Катерине было не до еды. После посещения Викторовны она успела сбегать к соседке Люсе Ковалёвой, с которой условились, что та перегонит поставленную ранее брагу на самогонку да выделит энное количество мяса от недавно зарезанного кабанчика – на поминки.
– А я тебе возверну, как своего зарежем, – пообещала. – Не сумлевайся.
– Я и не сумлеваюсь: седни в твоем дому смерть, завтра – в каком другом. Два века жить не будешь.
– Не будешь, конечно, это ты правду сказала. Попозже я к тебе забегу, обскажу что и как.
В сельских семьях рано ложатся спать, как и раненько поднимаются на другой день. Вот и Капитон улегся, и Катерина из кути слышала, как засопел мужик. Улеглись и ребятишки: по ведомым только матери звукам определила, что уснули и они.
«Ну и ладно, – думала про себя. – Ладно. Нечего им тут мешаться…»
Чем и кому могли помешать домочадцы – она бы сейчас не сказала. Да и некому было говорить, как некому было и слушать.
Живая тишина погрузившегося в сон дома надвигалась и на неё, и она чувствовала, как обостряется слух, как тело покидает накопившаяся за день усталость, и внутренне дивилась этому своему необычному состоянию, когда в самый раз бы сорваться и побежать ли, полететь ли куда, а вот куда – неведомо.
Мысли Катерины крутились вокруг того дня, когда пришла в дом своего будущего мужа, как начала с ним жить и как обрела в лице свекрови покровительницу и подругу, которой можно поверить самые сокровенные женские тайны.
– Ты, Катя, не молчи, – говорила иной раз старая Настасья. – Я сама прожила молчком и кому другому этого добра не пожелаю. Тяжеленько жить молчком-то, как с гирей какой за пазухой ходишь. Тока поплачешь где втихомолку, тем и спасёшься. В опчем, не молчи, а я послушаю да покумекаю, чем подмочь. А то и вместе поплачем… Вместе-то веселей.
Глубоко погрузилась в свои думы Катерина и не сразу сообразила, что из закутка, где лежала свекровь, её позвали.
Встрепенулась, напрягла слух – точно! Это её имя произносит свекровушка.
– Катя, милая… Катерина… – будто из подземелья донесся слабый голосок Настасьи.
Кинулась, машинально ковырнула рычажок выключателя, остановилась как вкопанная перед кроватью умирающей.
Старая Настасья глядела на нее своими выцветшими, некогда голубыми глазами твёрдо и осмысленно.
– Чё тебе, мама? – выдохнула.
– Дай мне хлебца, Катенька. Так хлебушка хочу – сил моих нету. Та-ак хо-очу…
Катерина метнулась в куть, где из нижнего ящика стола вынула небольшую тряпичную мешковину с хлебом, радуясь мысли, что сообразила в этот день послать ребятишек в магазин купить свежего хлеба. Вынув буханку, запустила пальцы в хрусткую податливость корочки, отломила её и снова запустила пальцы, но уже в мякоть – знала, помнила, что свекровь не любила резать хлеб ножиком. Другие в доме резали, а она – никогда, приговаривая между прочим, мол, хлебец ножика не любит, потому как он живой, хлебец-то… Не терпела и разбросанных по столу хлебных крошек, какие оставляла после себя ребятня. Крошки те она сгребала ребром ладони в другую руку и отправляла в рот.
Подбежала к кровати Настасьиной, а та силится приподняться, чтоб уж быть готовой хлеба отведать.
Подмогла старухе приподняться, подложила под спину подушку, вложила в костистую прозрачную руку мякиша и уж вместе с рукой придвинула к впалому рту.
Растворила старуха нити губ, и крохи хлеба провалились в беззубый зёв рта.
Пока мулькала старуха те малые крохи, стояла рядом с кроватью на коленках невестка, поддерживая слабое тело дорогого ей человека.
А ещё через какое-то время свекровь то ли уснула, то ли впала в предсмертное забытьё – этого Катерина не могла бы определить.
Она же решила добежать до соседки Люси Ковалёвой, зная, что та не спит, а вместе с мужиком своим Петенькой гонит для неё самогон.
Недолго пробыла у соседки Катерина, а когда осторожно притворила за собой входную дверь, то показалось ей вдруг, что за время отсутствия её в доме произошли какие-то очень важные перемены.
Тихо прошла в закуток, где лежала свекровь, и замерла на месте, не дойдя до кровати, не сразу почувствовав, как всё тело её начинает подергиваться от мелкой дрожи. А в грудь и далее – до самых кончиков пальцев ног вползает в её нутро неживая тишина.
Эпилог
После смерти Настасьи Степановны Капитон всё чаще и чаще стал подходить к окну в прихожей, долго смотрел неведомо куда, затем, сложив крестом руки, прикладывал их к груди и бормотал, будто про себя:
– Не хочу жи-ить… Помирать буду…
В его произношении в слове «жить» буква «и» звучала необычайно мягко и протяжно. Наблюдавшая за ним со стороны Катерина иногда подходила и настойчиво допрашивала:
– Вот чё ты говоришь? Чё ты говоришь? Жить нада, как и все живут, а то заладил: «Не хочу жить, не хочу жить…» Совсем рехнулся мужик.
Забежавшей, как водится, «на минутку» подруге Гале Распопиной жаловалась:
– Ничё не знаю, чё с ним делать… Скучат, видно, по матери.
Вздыхала, добавляла:
– И я скучаю по своей свекровушке. Вот уж отмучилась, бедная, лежит теперь в землице сырой, отдыхат от нас от всех…
– Да уж, помучилась старушка, – поддакивает Галя. – Как ты-то теперь будешь с ним? Мой покойный Михаил был и слышащим, и говорящим, а уж выпьет, дак всю ноченьку с ним мучилась: то он в атаку бежит, кричит: «За Родину!.. За Сталина!..» То зубами скрипит, матерится… Сколь годков после войны прошло, а он всё на фронте, будто и война для него не кончалась.
– Твой хоть тверёзым был человеком, а Капка и тверёзый всю душу вынет. Свекровушка хоть одёргивала его, а меня он и слушать не станет.
– Небось одумается, – старалась успокоить подругу Галя.
– Как же, держи карман шире, – не соглашалась Катерина.
В тот первый год после смерти матери своей, Настасьи Степановны, Капитон вроде бы уменьшился ростом, с лица не сходило выражение неизъяснимой печали. И ел, и пил он словно по привычке, по привычке стоял у своего фрезерного станка, что-то подбивал и подколачивал по дому, пилил, колол дрова, ездил с флягой к водоразборной колонке за водой. Всё делал вроде так же, как и всегда, да по-иному, чем всегда. Замедленно. Раздумчиво. Замкнувшись в самом себе.
Чаще, чем всегда, стал выпивать в мастерской с мужиками, с которыми бок о бок отработал не один десяток лет. Те, видно, тоже его жалели, по-своему подбадривали, что-то пытались растолковать на пальцах, но безуспешно – Капитон улыбался виновато, кивал головой, произносил те немногие слова, какие произносил всегда:
– Хоросё, Пета…
Или:
– Хоросё, Мишя…
Домой приходил пьяненьким, Катерина искоса поглядывала в его сторону и помалкивала.
А в ночь с девятого на десятое октября он умер. Умер, сидя на крыльце, а точнее – замёрз во сне, не дожив до годовщины после смерти своей матери и всего-то шестнадцать деньков. Словно с уходом Настасьи Степановны выбита была из-под него та заглавная становая крепь, которая удерживала его в мире живых, и жить стало больше не для чего и незачем.
С уходом из жизни Настасьи Степановны и Капитона дом семьи Зарубиных стал как бы распадаться. Родня, какая ещё оставалась, обходила стороной, старшие дети разъехались, младшие ожидали своего часа, чтобы уж тоже покинуть родные углы. Катерина приняла чужого мужика, но жила с ним как-то невесело, без покоя в душе, нередко ставя в пример Капитона, когда наблюдала за работой своего нового мужа:
– Капка-то семь раз отмерит, прежде чем отрежет. А уж сделат, дак любо-дорого посмотреть. А ты… Безрукие вы, мужики. Ничего-то толком не умеете.
Мужик обижался, но помалкивал: Катерина могла одёрнуть и хуже того – матом понужнуть, так что лучше уж промолчать.
А в родительский день на недальнем афанасьевском погосте, где упокоили свои косточки дорогие ей люди, прежде подходила к могилке «свекровушки», оглаживала руками фотографию, памятник, тяжело вздыхала и зачинала выть – протяжно, надрывно, с приговорами и причитаниями. Никто не мешал ей выплакаться – ни свои, ни вовсе чужие люди, каких в тот день на кладбище было великое множество. Дети, с которыми приехала, отходили в сторону, будто они сами по себе, а Катерина – сама по себе. Да она в такие моменты и была сама по себе, никто не был в состоянии проникнуть в её душу и подглядеть, что же там творится.
– Свекровушка моя милая, закрыла глазыньки, сложила рученьки и лежишь себе в сырой землице, отдыхашь… – причитала Катерина. – Наработалась, намучилась, пристала носить своё тело и подкосились твои ноженьки, сомкнулись уста навеки-и-и… Уж сколь раз ты меня спасала, сколь слёз выплакала я на твоём плече – в речке Курзанке нет столь водицы. А уж как внучиков своих любила, как пеклась о них, какие разносолы им готовила – никада они боле не поедят твоих шанежег и пирожков… И я никада боле не услышу твоего тоненького голосочка, твоих тихих песенок… Раньше всех в дому подымалась, жарила и парила в кути, чтоб детки в школу пошли поевши, чтоб Капка сытым пошёл на работу, а я поспала лишнюю минутку-у-у…
Причитания Катерины были понятными каждому, кто их слышал. Разносились они по всему небольшому Афанасьевскому кладбищу, и, казалось, пришедший к могилкам своих близких народ умолкал на некоторое время, вслушиваясь в бесхитростные слова страдающей женщины. Словно она выговаривала за них всех и то, чего они сами не в состоянии были произнести вслух, но держали в сердцах своих, в умах, душах.
Наплакавшись, наревевшись и напричитавшись, Катерина начинала деловито распоряжаться, чего и кому положить на могилку, кто, что любил, и что она с раннего утра приготовила, собирая сумку. Сынку Мише – драников, Настасье Степановне – побольше сладеньких конфеток, потому как та любила пить чай с конфетками, Капитону – блинчиков и водки стопочку, дочке Галине – печеньица и всем вместе – по освящённому пасхальному яичку.
Пока Катерина была в силе, в те памятные родительские дни обходила могилки всех покойных родственников, находя и для них свои особые слова: Кости «Маленького», Кости «Большого», брата Кешки, Марии и Володи Казановых, Лёни Мурашова, других умерших, до которых могла добраться. Когда сил не стало, ограничивалась поминальным столом дома.
Сама она прожила восемьдесят семь годков, словно награждённая Создателем долгой жизнью за своё великое терпение, за своё большое любящее сердце и за то, что в молодые годы не побрезговала калеченым «немтырём» и народила ему четверых ребятишек, приняв такую судьбу свою как нечто неизбежное, без чего нельзя человеку прожить на свете. Может, и по той причине, что, оказавшись пред очи Господа, хлопотала за неё её свекровь Настасья Степановна, выспрашивая любимой невестке здоровья и многие лета. И правда: Катерина в больнице лежала и всего-то один раз, только когда рожала младшую, Оленьку, а старших – по старинке, в бане. Уже незадолго до смерти говорила сыну Кольке:
– По сердцу-то я ещё поживу на свете, крепкое у меня сердце – не подведёт. Вот глазыньки стали видеть худо, да недослышу – кричать нада…
И умерла в твёрдой памяти: вроде заснула страдалица, да так и не проснулась. Тихо сошла в иной мир – к свекрови, Капитону, умершим ранее деткам – дочери Галине и сынку Михаилу.
Рассказы
Гвоздь
Красиво носить свое тело – талант такой же, как рисовать или писать стихи. Большой талант для женщины, но еще больший – для мужчины.
А здесь – старик. Бог знает, сколько ему было лет, когда появился на наших совхозных задворках. И откуда появился – не видали. Знаю только, что долго не приглядывались, а приняли сразу. Как своего, будто многие годы ходил по нашим неметеным улицам, топтал тротуары, околачивался там, где было особенно людно: у клуба, на стадионе, в мастерских.
Худощавый, сутуловатый, но легкий и симпатичный, двигался навстречу всякому, склонив породистую стариковскую голову то к одному плечу, то к другому.
После принятого в наших местах обязательного рукопожатия говорил со свойственной ему хрипотцой в голосе:
– Иду вот куды ноги несут…
– Со старухой своей небось поскандалил, выпил небось вчера лишнего? – не зная как завязать беседу, ронял первое, пришедшее на ум, встреченный им мужик.
Подобное предположение могло прийти на ум не случайно, потому как дед Пчело (а так звали старика и под таким именем помнят до сих пор), появившись в совхозе, в считанные дни сошелся с одной из самых сварливых во всем околотке старушонок. А коли баба сварлива, то мужик непременно «должон закладывать за воротник» – так, по крайней мере, предполагалось по существующей в мире логике вещей.
Да еще и на старухины горшки-черепки пошел, а судя по характеру этой известной всем старушенции, не раз и не два за день-то был изводим попреками.
И не только изводим. Поддежуривая в местном клубе, не одну ночь мял протертый и продавленный диван, не одну зиму коротал в котельной, потягивая чужой наваристый чай.
– Смотри, – говорили соседки престарелой пчеловой зазнобы, – опять приняла. Щас сена накосит, картошку выкопает – и выгонит. Ну-у и ба-ба… И чего изгаляется?
В самом деле, чего было изгаляться? Старик – видный: и статью, и языком. И работник. И полезный обществу человек. Всем совхозовским полезный. Подурить в компании. Рассказать байку. Ну, а молодежь совхозная, особенно если Пчело был выпивши, души в нем не чаяла.
Сидит, бывало, уронив голову на сложенные руки на столе, да вдруг откинется телом, поведет плечами – и запоет…
Я иду-у и вижу да-ачу. И, кане-ешна, есть што взя-асть…Тут уж лови каждое слово. Не пропусти. Тут и жизнь тебе – неведомая, непробованная. Тут и наука тебе – воровская, запретная. А что? Позахватывающей да покурчавей. Да чтобы пули свистели, да ветер в ушах гудел. Глупые были, понятно: то разбойники виделись, то шпионы мерещились, то враги какие, ведь в детстве всех делишь на «наших» и «не наших». Предположим, показывают в клубе киношку про китайских «товарищей» и «не товарищей» с острова Тайвань. Значит, китайцы из Народной освободительной армии – это наши, те, что из армии Чан Кайши – не наши. И только слышно по передним рядам:
– Во наши дают!.. Во наши дают!
И бьется учащенно сердечко… И складываются пальцы в кулачки… И, кажется, сорвался бы с места да кинулся помогать. Но сидишь мертво, ни на минуту не забывая, что перед самым концом киношки надо забраться под стулья и долежать до следующего сеанса, а если обнаружат и за ухо выведут – найти другой какой путь пробраться в зал.
Здесь-то и выручал нередко дед Пчело, так как числился в штатных работниках клуба. Вроде проверяет – заперта ли дверь запасного выхода, а сам незаметно ногой крючок и тронет… Проходя мимо нас, сбившихся в кучку, шепнет ли, мигнет ли, мол, давайте, ребятки, действуйте. А нам того и надо: отвернемся со значением, будто и не видели, и не слышали, и намека не поняли, а сами ближе к двери и ждем, когда бабка Стрельничиха – контролер то есть – отвернется или кто из взрослых загородит ее собой. Шмыг в двери – и туда, где погуще народу, а в руке зажат старый, нашаренный где-нибудь в урне билет с оторванным контролем на случай проверки… Ох и были же времена веселые!
Изгоняемый старухой, принят был Пчело во всякой компании. Нередко прозвание Пчело заменялось более ласковым – Пчелка. А он и был – Пчелка: высокий и ладный, доступный и независимый. Идет, бывало, в затасканной шубейке по направлению к стадиону, то к одному плечу голову склонит, то к другому. Задержится с каким мужиком, притормозит у какой ватаги парней, тронет беззлобной шуткой какую-никакую женщину – и дальше. Высокий и ладный. Всем угодный. Для всякого дела способный: гулять ли, работать ли, сказывать байки.
Однажды Пчело поднялся на сцену местного клуба. Поднялся и больше уже не сходил с нее, пока работа кипела и были нужны совхозному начальству и самодеятельность, и много чего другого, что к середине шестидесятых за ненадобностью пустили по ветру. Разор в хозяйстве произвели такой, что не стало ни лошадей, ни птицы, ни пчел, ни кирпичного завода, ни надоев, ни урожаев. Даже свой совхозовский коммутатор – и тот размонтировали, дескать, нечего ручку крутить, названивать, народ занятый от дела отрывать. Да и то верно: при подобном разграблении названивать-то стало и не о чем. Разве помирает кто и требуется машина с красным крестом на зеленом боку…
Но это было после. А пока дед – главный артист, или, как говорят в подобных случаях, – гвоздь программы. И гвоздь немалый – на все двести миллиметров.
В те годы еще люди ожидали праздников, в открытую отмечая назначенные правительством, втихую – те, что завещаны дедами и прадедами, удовлетворяясь скромным застольем с поллитровкой горячительного, пирогами, брусничкой да чаем. Бывало, и гармошку принесут, в пляс пустятся под незатейливую частушку.
Но в те праздники, которые в численнике отмечены красной краской, любили собраться в клубе.
Бывало, смотришь, от какой-нибудь избы отделилась женщина и трусцой через дорогу к избе соседки, чья усадьба светит окнами напротив.
– Ты, кума, ниче не слыхала?
– Ниче. А че стряслось-то?
– Ниче. Я про постановку… Будут в клубе показывать, нет ли?
– Вовка, – кричит «кума» сыну, – в клубе че седни будет?
– Концерт, – нехотя отзывается Вовка.
– А знашь-то откуда?
– Откуда, откуда, – ворчит Вовка, – афишу читай…
– Вот детки пошли, – оборачивается «кума» к соседке, – ниче нельзя спросить…
Женщины уговариваются, когда встретиться да зайти за Должихой, да к Яковлихе, да к Распопихе, да к Новичихе.
– В опчем, – кричит вслед соседке «кума», – как приберусь, так и зайду… Жди.
В жакетках, а чаще – чистых телогрейках, полушалках – спокойные и торжественные сидят они на концерте неприметно, ничем не выдавая внутренней своей радости.
Дмитриевич – худой и строгий мужчина – объявляет очередной номер и, слегка отстранившись, ждет, пока не выйдет артист. Так, по его мнению, должен держать себя ведущий концерта – уважительно и по отношению к публике, и к тем, кто за кулисами ожидает своего выхода.
Все это еще обычным порядком идет, вроде разведки боем: Дмитриевич выводит на сцену артистов, публика усердно хлопает. Дмитриевич гвоздь программы приберегает, публика в меру одаривает артистов душевностью.
Попади на концерт такой впервые и, если еще не знаешь местного народа, – ничего не приметишь. Будешь сидеть дурак дураком и оббивать ладошки одна об другую. Но если хоть самую малость признакомился с совхозными женщинами – в работе, магазине, застолье – поймешь игру и Дмитриевича, и этих самых, с виду таких бесхитростных, евиных дочек. И насладишься невиданным зрелищем, приметишь, как вдруг посерьезнел Дмитриевич и как потишел народ в зале. Как Дмитриевич, растягивая слова и усиливая к концу фразы звук собственного голоса, почти выкрикивает:
– Пчи-и-илоф!!!
И тут же уходит за кулисы, видимо, в полной мере осознавая, что стоять ему в стороне и глупо, и небезопасно для сбережения собственного авторитета, который заметно укрепился в предыдущий отрезок программы.
Наступившую после ухода Дмитриевича тишину как-то неестественно нарушает короткое вступление баяна, и в матросской форме появляется сам дед Пчело. Вернее, это уже не дед, а чисто выбритый, молодцеватый, с хорошей фигурой старый морской волк. Слегка пританцовывая, с высокомерной улыбкой на усохших губах надвигается на публику. И, когда до конца сцены остается не более полуметра, коротким ударом начищенного до блеска ботинка о пол останавливает и себя, и музыку – ровно настолько, чтобы набрать в грудь воздуха.
Набирает в грудь воздуха и народ, чтобы уж выдохнуть в конце номера. И происходит нечто такое, что теперь театральные критики называют полным контактом артиста с публикой.
Песня – всем знакомая песня – о том, что «кавалер» хочет украсть «барышню», проникает в толщу жакеток, телогреек, вызывает зуд в руках мужиков, и руки их сами по себе нащупывают бумажные горлышки папирос.
Ку-ру-ти-ца, вер-ти-ца шар га-алу-бой, Кру-ти-ца, вер-ти-ца над га-ала-вой. Кру-ти-ца, вер-ти-ца, хо-чет у-пасть, Ка-ва-лер ба-рыш-ню хо-чет у-красть…Куплет следует за куплетом, Матрос, пританцовывая, с откинутым назад корпусом и заложенными за спину руками то наступает на зал, то отступает. То вдруг дернется, то поведет глазами по рядам, и каждой женщине начинает казаться, что именно ее и собирается «украсть» этот ужасно нахальный и ужасно неотразимый старикан. Широко раскрыв глаза, они все же ни на мгновенье не забывают, что перед ними никакой ни матрос, а самый настоящий дед Пчело, которого все они втайне жалеют и, может быть, выгодно отличают от своих мужей. Они косятся в сторону сидящей Пчеловой зазнобы и думают примерно одну и ту же думу.
«Ишь, – ревниво думают они, – вырядилась, на переднем ряду уселась, кикимора…»
Думы их на этом не прерываются, просто не хватает на них ни сил, ни времени, ведь происходящее на сцене вот-вот кончится и до следующей «постановки» долго придется перебиваться ожиданием… Ходить за скотиной. Доглядывать за мужем, за детьми. Вставать с петухами. Ложиться с ломотой в ногах. И ничего не знать, кроме кухни, стайки. Ничего, кроме стирки, варки, мойки, чистки. Порой с утраченной надеждой, что преданность их дому когда-то будет оценена близкими.
Иной раз так замотается иная, сядет там, где стоит, на что придется, хлопнет себя по коленкам и скажет сама себе:
– Господи! Утащил бы хоть кто-нибудь, будь ты неладна така маета!..
Посидит-посидит, очнется – и ну опять бегать, торопясь переделать все послевчерашние и вчерашние, и сегодняшние, и завтрашние, и послезавтрашние нескончаемые дела, или сорвется бежать в магазин, наскоро набросив на голову полушалок и уже во дворе застегивая пуговицы телогрейки. Только в очереди и переведет дух.
Тут и отведет душу с такими же замотанными и забеганными бабенками. И выговорится всласть…
О чем выговорится-то? Да все о той же недавней «постановке». О том, что, слышно, Пчело вызывали в область представлять районную самодеятельность. И то, что, слышно, дали там ему первый приз. И будто вернулся, а в клубе, где поддежуривает, батареи-то отопительные и разморозили.
– И так быдто срамно ругался, – скороговоркой сообщает одна другой, – так быдто Дмитриевича костерил, что тот его, сердешного, быдто чуть было не рассчитал.
– Небось не посмел бы, – ответствует другая, – другого такого дурака пусть поищет…
И довод этот всеми, кто застрял в очереди и готов стоять здесь хоть до утра, воспринимается как нечто не требующее «комментариев».
…Ку-ру-ти-ца, вер-ти-ца шар га-алу-бой…Духов день
Чалю знают все. Порядочного роста, хорошего сложения, улыбчивый и независимый, выруливает из своего переулка, направляясь в центр поселка, где клуб, магазин, волейбольная площадка, где масса знакомых, где кипит жизнь. Чем занята его голова?.. Да ничем. Легкая и чубастая, она крепко сидит на плечах. Глаза выхватывают заплот конторы, фасад детского сада, крыльцо местного почтового отделения. А вот и бабка Оля, отставив ногу и скрестив руки на груди, хитро поглядывает в его сторону. Переговорить ее трудно, но Чаля давно изучил повадки старухи и смело двигается навстречу.
– Здорово, бабка Оля!
– Ты че ли, Вовка, нет ли?..
– Я, бабка Оля, сосед твой.
– А я вижу – человек идет по дороге, а признать никак не могу. Небось опять водку пошел глушить?.. И когда вы нальете свои глотки, захлебнетесь проклятой…
– Как не пить, если ты сама – первая самогонщица. Водка – зло, а зло надо уничтожать.
– Так-так-так… Живешь-то один? Не нашел себе бабу?..
– Ты, бабка Оля, совсем из ума выжила, будто не знаешь, что у меня сын скоро в школу пойдет.
– Так-так-так… – тянет свое старуха – А мой дурак, Сарожка-то, рехнулся, взял себе бабу на десять годов моложе, высох весь – кожа да кости. Помочи – никакой: старик и сено коси, и дрова готовь, а приедет: «Мать, дай водки!» Быдто я – бездонная бочка. Намедни заявился и говорит мне: «Полезу в подпол в хатапарат пленку вставлять». Я, дура, забыла, на виду с Кешкиного приезду еще осталась. Он выжрал ее и воды налил. В праздник я старику: «Достань, – говорю, – гостям поднесу», как раз Вовка с Кешкой приехамши были (Вовка и Кешка – тоже ее сыновья). И Сарожка тут, сам и разливает. Выпили, черти, крякнули, быдто от крепости, и старик мой ниче не понял. Я понюхала – вода. «Ах ты гад такой-сякой, – говорю, – нет матери поставить, ты последнее рад утащить…»
В таком духе бабка Оля может воду в ступе толочь долго. Сначала «Сарожке» своему кости перемоет, потом на поселковые новости перейдет, помянет и дом, и старика, и корову, поговорит о погоде, о том, кто и где родился, кто помер. Улучив момент, Чаля вставляет свое:
– Подумаешь, выпил, у самой бражка не выводится, налила бы лучше стаканчик в честь праздничка.
– Какого праздничка? – настораживается старуха.
– Духов день сегодня.
– Вам, пьяницам, кажин день праздник. Нет у меня бражки.
– Ну, самогонки налей.
– Выдохлась самогонка.
– Супу тогда, с утра ничего ел.
– Ен простыл.
Последние слова бабка Оля произносит, уже ковыляя к воротам своей усадьбы, а Чаля в приподнятом настроении продолжает путь.
«Духов день» давно стал притчей во языцех. Начальство совхозных мастерских в целях антиалкогольной пропаганды вывесило на видном месте плакат фабричного изготовления, на котором был изображен лежащим на печи мужик, рядом – початая бутылка с известной жидкостью и огромных размеров календарь. На листах его проставлены числа, снабженные соответствующими надписями. Пятого, к примеру, Николин день. Восьмого – Петров. Двадцать второго – Духов. Вместо воспитательного плакат тот оказал на окружающих обратное действие.
– Та-ак, – соберутся около него мужики, – какой сегодня праздничек?..
– Ду-ухов день… Не-ет, нельзя не выпить, не-ель-зя-а…
Похлопывая друг дружку по плечу и скаля зубы, разойдутся, а к вечеру – глядишь! – добрая половина механизаторов ходит навеселе.
Плакат в конце концов сняли, но память осталась. По делу и без дела трясут теперь этот самый Духов день, если душа запросит горячительного. Даже и собираются такие-то страждущие захмелиться не где-нибудь, а именно против того самого места, где пребывал некогда полюбившийся опус одержимого трезвостью художника.
Привычка та переходила от старших к младшим, перенять ее норовили и вовсе сосунки. Особенно же любили кощунствовать в отношении не забывших Бога старух, как в случае все с тем же Чалей.
Чем занят Чаля?.. Да ничем. Работает, конечно, наворачивая то вправо, то влево баранку разбитой колымаги.
А так – ничем.
Была, правда, в жизни его страсть к футболу. Лет десять защищал ворота сборной поселка.
На тренировки приходил всякий: злой и веселый, бодрый и усталый. Преображался тотчас, как только складная фигура его вписывалась в прямоугольник футбольных ворот. И тогда казалось, что внутренности Чали наздеваны на очень прочную гибкую пружину.
Удар! И, распрямляясь, пружина бросала тело в дальний угол под самую штангу.
Удар! И руки уже выхватывали мяч из верхнего левого угла…
Стоял Чаля мертво: смело выходил один на один с прорвавшимся противником, метался по штрафной площадке, падал под ноги. Затем легко подпрыгивал и точным ударом ноги посылал мяч кому-нибудь из своих игроков.
Зрелище, конечно, было необычное. Сходились поглядеть очередную игру все – от мала до велика. Но что, может быть, самое удивительное – никто в такие дни не вел речи о выпивке, и пресловутый Духов день выветривался из памяти людской напрочь.
Тонкими нескончаемыми ручейками тянулись к стадиону мужики, то и дело останавливая редких встречных тревожащими умы одними и теми же вопросами:
– Ну что?.. Будет игра?..
– Будет вроде…
– А на воротах кто?..
– Да Чаля вроде…
И текли, текли, вливаясь в узкую щель входа на стадион. Рассасывались вокруг поля где поудобней. Затем выходили на центр поля судьи, и тишина наступала такая, будто вдохнули в себя воздуху мужики, а выдохнуть и забыли.
Гремит в репродукторе знаменитый марш, и вот уже друг за дружкой трусят футболисты. И счастьем блестят глаза пришедших «поболеть» за «своих».
– Наши-то, наши, – шелестит сдержанный гул мужиковых, не прочищенных спиртным глоток, – в полном составе…
– А Чаля-то, Чаля… – постанывают притомленные ожиданием, – на воротах будет…
Начинается игра – и кончается за заплотом стадиона жизнь. Нет больше мастерских, нет хлопот хозяйственных, нет ничего. Есть только атакующие и защищающиеся. Есть Чаля – нагловатый, даже надменный, прохаживающийся вялой походкой, если команда на чужой половине поля, но мгновенно преображающийся, если вдруг на его святая святых – ворота, где он поставлен стоять насмерть, – готовится покушение коварного противника…
Пружина внутри Чалиного тела работает безотказно. Сжимается и разжимается. Сжимается и разжимается. И нет ей износу, будто сделана она из самой прочной железины, какая только и нашлась в совхозных мастерских.
Перекочевывает мяч на половинку поля противника, и Чаля обмякает, лениво тащится к какой-нибудь из штанг.
Так везде и во всем. Не из-за чего суетиться, он и пальцем не двинет. Но пружина в его теле неизменно присутствует и может распрямиться в самый неожиданный момент. Чалю тогда трудно узнать. Преображается на глазах, удержать, остановить его невозможно. Невозможно и предвидеть, в какую крайность кинет его эта находящаяся внутри Чалиного тела пружина.
А сейчас идет не спеша, о чем-то думая, чему-то посмеиваясь.
Чего хочет Чаля?.. Да ничего. Идет себе и радуется, что навстречу ему «канает» дружок Генка.
– Привет.
– Привет.
– Куда двигаешь?
– К клубу.
– Я только оттуда, там – никого.
Постояли, почесали затылки.
– Соревнования-то будут?
– Какие соревнования! Ни формы, ни мячей, раздевалка завалилась!..
– Да… Заняться нечем…
Еще постояли и еще почесали затылки. И кому-то в голову приходит навязчивая мысль:
– Может, бутылочку организуем?.. У тебя как с «шайбочками»?
– Что-то около рубля.
– Негусто, и у меня около того.
– Слышь, – веселеет один, – зайди к Вальке в контору, попроси до получки, у нее всегда есть.
– Дохлый номер, я у нее позавчера брал.
– Тогда к Любке, – не теряет надежды друг.
– А что, это дело…
Приободряются и вскоре появляются в магазине, где долго изучают этикетки на бутылках и консервных банках. Решают: надо взять что подешевле и покрепче. Пересчитав деньги, лезут без очереди к прилавку.
– Куда!.. – одергивают их вышедшие из терпения женщины. – Тут из-за булки хлеба торчи, а им бы только нажраться…
– Праздник сегодня, мамаши, Духов день, грех тяжкий – не выпить.
– Знаем вас, забулдыг, в очередь давайте…
– Энтот, – тычет в сторону Чали стоящая тут же бабка Оля, – у меня седни супу просил. На жратву – нет, а на водку нашли, окаянные. Мой-то Сарожка че тут удумал… – берется в который уже раз перемывать кости сыну, а парни тем временем распихивают бутылки по карманам, за ремни брюк, в руках остаются банка кильки и буханка черного хлеба. Не сговариваясь, идут за клуб в поселковый парк культуры и отдыха, где в тени акаций есть скамейка, припрятан граненый стакан. Банку кильки открывают ударом об угол скамейки, чтобы отверстие было пошире. Пробку с бутылки срывают зубами.
– На тренировку бы сейчас, – приняв первую, задумчиво жует кусок хлеба Чаля. – На воротах постоять…
Опрокидывает стакан и Генка. Тоже жует.
Молчат.
Затем опять выпивают в такой же последовательности.
– Давно был на стадионе-то? – выводит друга из задумчивости Чаля.
– Мимо хожу, – нехотя отзывается тот. – Трибуны прогнили, ворота заваливаются, поле коровы зас…
Выпитое вино производит свое действие, и вот они уже горячо толкуют только о том, что частенько приводит их в этот парк культуры и отдыха, что с годами еще больше придвинуло друг к другу и чем они не перестают жить, хотя оба разведены каждый в свою сторону своими собственными житейскими заботами. И, как водится, ярче и милее сердцу высвечивается самое начало их совместной спортивной карьеры, продлившейся в пределах поселкового стадиона добрый десяток лет.
– Бутсы-то первые, помнишь, как привезли?..
Генка помнит. Были они черные, с матовым отблеском и упругими носами. По всей подошве бородавками выпирали шипы.
Бутсы были самые настоящие, а в это верилось и не верилось. Примеривали долго. Спорили – получалось каждому на вырост. Хочешь, чтобы не болтались на ноге – подматывай портянку.
Не терпелось надеть. Не терпелось садануть по мячу. Не терпелось в полной форме выбежать в поле.
– А стадион-то как строили, помнишь?..
Стадион строили, по сути дела, подростки: копали ямки под столбы для заплота, устанавливали ворота, размечали известью поле. Потом появились избушка для переодевания, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, трибуны. И все, считай, своими руками, только материал совхоз выделял.
А как в первой же игре городским вломили?..
Бутылки выпиты, банка консервов пуста. Булка хлеба превратилась в недожеванные бесформенные ломти, разложенные по всей скамейке. В руках Чали и Генки это уже воображаемые игроки. Бутылки, банку, стакан, хлеб двигают по скамейке, воскрешая в памяти ход давно сыгранного матча. Сопят, обливаются потом, спорят.
– Я тогда седьмым номером по левому краю ходил. Ты – в защите, центральным. А когда навесили на ворота боковой, вижу, что вратарь в другой стороне. Ну, я и прыгнул, взял мяч…
Чаля уже давно не сидит. Он бегает перед другом.
– Ты помнишь?.. Помнишь?.. – восклицает то и дело. Генка помнит. Бутылки со скамейки перекочевывают на траву, обозначив штанги ворот. Консервная банка, посланная точным ударом ноги бывшего центрального защитника, отрывается от земли и через доли секунд оказывается в цепких руках бывшего вратаря.
Они не слышат, как подъехала машина. Они не видят ехидных улыбок стоящих в стороне людей. Еще и еще поднимает Генка в воздух консервную банку, еще и еще падает Чаля. А стоящие в стороне люди уже смеются, хлопают себя по коленкам. Приседают. Подсказывают…
– Пыром, пыром наддай!.. В «девятку!» Шайбу!.. Ша-ай-й-бу-у!..
В последний раз бьет по банке Генка, и в последний раз падает Чаля. Падает неловко, почти на живот, не то застонав, не то банка, которую не поймал, жалобно звякнула, отлетев в кусты.
– Ну!.. Ребята!.. Еще!.. Шайбу!.. – впустую выкрикивают неизвестно откуда взявшиеся люди.
– Ша-ай-й-бу-у!..
* * *
– Пойдем, – трогает за плечо друга первым опомнившийся Генка. – Пойдем, – ласково просит, понимая, что может сейчас произойти, и показывает глазами неизвестно откуда взявшимся людям: «Исчезните! Провалитесь сквозь землю!..»
Вернее, не всем показывает, одному среди них, примерно их лет человеку. Равнодушному. Самоуверенному. Чужому. По воле случая оказавшемуся у власти. По вине которого не было команды. Не было стадиона. Не было ничего.
«…Уйдите!.. Исчезните!.. Провалитесь сквозь землю!..»
Генка чувствует, как пружина внутри тела друга начинает сжиматься. Он видит, как страшная гримаса ненависти перекашивает его лицо.
Он знает, что сейчас произойдет.
– Уйдите!!!
И бросается на закаменевшее тело Чали, стонет от отчаянья и напряжения. Прирастает к нему, прилипает, катится по траве, теряет сознание от боли…
Злыдни
Костя Большой – высокий, жилистый, с клешнями рук старик, в доме жены покойного двоюродного брата Семена появлялся нечасто, а когда появлялся, Катерина бросала все начатые или неоконченные дела и встречала его со всей возможной приветливостью и хлебосольством. Показывался он в окнах со стороны огибающего дом пустыря, слегка припадая на обе ноги и наклонившись всем телом вперед. Происходило это по причине слабости изработанных ног и спины бывшего профессионального грузчика, всю жизнь свою, вплоть до выхода на пенсию, проходившего под кулями, ящиками, коробками, тюками и тому подобным. В пору его молодости и зрелости, пришедшихся на тридцатые, сороковые и пятидесятые годы, кстати, профессия грузчика еще сохраняла налет некой особости, избранности, а в товарищества такие подбирался народ сильный не только телом, но и духом. Даже форму одежды имели грузчики свою, будто представляли собой военизированное отделение, – широкие, нависающие на голенища хромовых сапог шаровары и короткие вельветовые, так же очень просторные, куртки. Одежда, как правило, представлена была двумя комплектами – для работы и на выход.
Некогда в таком наряде Костя Большой появлялся в доме брата своего Семена на всех гулянках, собиравших ближнюю и дальнюю родню. Входил шумно, широко, занимая собой за столом целый угол, выпивал много и закусывал не меньше, однако никогда не качался, не терял головы и с гулянок уходил на своих ногах.
В доме брата Костю Большого принимали как дорогого семье человека, потому что он всегда держал слово, если, конечно, давал, всегда был готов откликнуться на просьбу, вместе с хозяевами радовался в радости, горевал в горести.
Не сладилась у Кости Большого только личная жизнь, хотя и детишек имел четверню, и дом добротный, и зарабатывал хорошо, и хозяин был отменный.
Когда дети уже начали становиться на свои ноги, а для них он ничего не жалел, хозяйка его Ольга вдруг сбежала к старшей дочери, трое других – дочка и два сына – также отвернули головы от отца родного, будто не было его у них вовсе, и остался Костя Большой один, ничего из происшедшего не уразумевший, никаких выводов не сделавший, но главное – никого из единокровных ему людей не осудивший.
– Добро, – сорвалась с губ его любимое словечко, в коем ударение приходилось на первый слог, когда уже понял, что никого и ничего из прежней жизни нельзя вернуть.
Осмотрелся, огляделся и сошелся с равной по возрасту вдовицей Надюшкой, давно жившей одиноко, так как единственная дочка ее проживала своим домом.
И минуло эдак годков десять, а то и пятнадцать, и все у них было ладком. Выйдя на пенсию, купил Костя Большой лошадь, всю справу к ней или выторговал у цыган, или изладил своими руками. К лошади имелись две коровенки, бычок какой-нибудь или по крайности телушка, поросятки да куры. К слову сказать, самую первую коровенку вместе со старинным сепаратором в придачу продал ему двоюродный брат Семен, в семье которого к тому времени было принято решение – никакую рогатую скотину во дворе не держать: трудно было с покосом, да и люди к тому времени стали заживаться и могли позволить себе прикупить банку-другую молока у соседей.
Главным занятием Кости Большого на пенсии стало обслуживание околотка, в котором он проживал. В зимнюю пору, установив на сани объемистую бочку, возил людям воду. Ближе к весне, опять же на заказ, подвозил дровишек, а уж когда сходил снег и земелька оттаивала, – пахал огороды всем напропалую, так как потребность в такой работе имелась в каждом хозяйстве.
Денег за свою работу он почти не брал, хотя уж, кажется, на пахоте и мог бы сколотить толику, но вот противу души его было, противу натуры огребать копейки с народа. В одном не отказывал себе – в выпивке. И люди, надо сказать, приспособились, норовили к самому окончанию работы прямо на меже поднести наполненный до краев стакан – водкой, самогонкой, спиртом ли, что для Кости Большого было все одно. Выпивал залпом, произнося вместе с выдыхом свое «Добро!» и переезжал на огород соседний. И так за день-то опахивал участков до десятка, а может, и поболе. Выпитое только что, видно, улетучивалось с потом, потому и домой приезжал почти трезвый, вынимал из кармана штанин несколько смятых рубликов и клал на стол перед Надюшкой.
Поджидали его в такие дни и в доме двоюродного брата, Семена. Не раз и не два выйдет хозяйка за ворота, оглядит дорогу – едет, нет ли на телеге Костя Большой. И появлялся он в самый срок, когда земелька готова была вывернуться под плужком, взрыхлиться и приспеть к посадке картошечки – продукта любимого и человеком, и животиной.
Наблюдая за работой старика, Катерина думала каждый год почитай одно и то же: «Тяжелехонько тебе, Костенька, становится за плугом-то ходить… Изработанный уже весь, измаянный… Не придется ли на следующий год кого другого просить вспахать…»
Соседи Катеринины так же поджидали пахаря, зная, что после ее огорода он не откажет переехать и к ним. Катерина к такому дню даже приберегала чего повкусней и посытней.
Сидела наискосок от старика, глаза ее светились сострадательной жалостью, о чем-то спрашивала, и он ей охотно отвечал.
– Добрые у тебя, кума, нонече огурчики-то, – говорил Костя Большой, похрустывая овощем, упакованным в трехлитровую банку прошлой осенью. – Тока у тебя такие сладкие да крепкие.
– Кушай, кушай, куманек, после пахоты только и исть, сил накапливать. До вечера, верно, еще огорода три-четыре пройдешь, ноги и руки надсадишь…
– Добро, – принимал старик очередную порцию спиртного и добавлял: – Весна нонече мягкая, тягучая, раньше в таку-то пору отец мой, царство ему небесное, десятины три подымал, а уж он-то был пахарь что надо, не в пример мне, слабосильному.
– Скажешь тоже, – возражала Катерина. – Ты-то слабосильный? В твоих-то годах многие мужики уж в земле лежат, парят земельку-то, а ты еще сверху ее бороздишь – молодые не угонятся.
– Старый конь борозды не испортит, это верно. Да уж тяжко стало работать, а без нее, без работы-то, и не могу. Тащу ноги за собой, а давно ли они меня несли?
– Детки-то не наведываются? – спрашивала о заветном. Костя Большой поднимал на Катерину глаза, в которых сидела неизбывная печаль, некоторое время молчал, будто вспоминая – наведывались, нет ли? – со вздохом выдавливал:
– Не было.
– Костенька, – жалеючи старика, продолжала настаивать Катерина. – Ну, Ольга – шут с ней. А вот они-то че? Гармошки им покупал, баяны разные, одевал-обувал, учил – и на тебе! Это ж какое сердце надо иметь, чтоб отца родного забыть?
– А не знаю, – начинал нервничать старик. – Ко мне Надя-то иной раз пристанет как банный лист к одному месту, прости меня, Господи, мол, сходи к им сам, неужто не примут, чаем не напоят?.. Потолкуй, говорит, пристыди – ты ж отец, ты власть над ими имешь, Богом данную!.. Може, она и права, Надя-то, да нутро у меня быдто выжжено – бросили, как собаку какую, подыхать под старость лет… Почему, скажешь, я денег с людей не беру за работу-то, а вот горло наливаю, быдто я бездонная бочка какая – и пью и пью, и пью и пью?.. Да на кой мне деньги-то? Кому их копить? Нам со старухой гроб имя обклеить, че ли?..
– И правда, – соглашалась с ним Катерина. – Некому, так и незачем.
И обещала:
– Вот встречу кого из них, насую матюгов-то по саму макушку.
Разговор пресекался. Костя Большой вставал из-за стола, кланялся хозяйке, произносил любимое словечко:
– Добро… Надо идти впрягаться, засиделся я у тебя-то…
Катерина провожала его до лошади, затем до огорода соседки, стояла, прислонившись к заплоту, вздыхала, кляла мысленно его деток.
Катерина по характеру была крута. Если в том возникала надобность, если чуяла, что стоит за правду, то отматюгать могла кого угодно, пусть даже перед ней министр. Но столь же скоро мягчала сердцем, если кто при ней был несправедливо обижен.
Костю Большого знала много лет. Знала его историю совместного проживания с Ольгой. Знала сама, да и свекровь сказывала, что та была побита не один раз мужем, но детям ли за то казнить старика отца? Он им жизнь дал, вырастил, выучил, в люди пустил, а она, Ольга-то, просидела дома за широкой мужниной спиной. Поломила бы с ее, с Катеринино, потаскала бы мешки на хребтине, подергала бы за сиськи двадцать коровенок на колхозной ферме, помучилась бы в войну на тракторе, так не пустилась бы в бега, а сидела тихо и смирно, благодарила бы Бога за достаток в семье, какой обеспечивал Костя Большой. На то он и Большим прозывается, что ни в чем и ни перед кем не мельтешил, как был Большим, так им и остался под старость лет. Во-он как волочется за лошадью с плужком; всякий, доставая зимой из подпола картошечку-то, помянет старика добрым словом.
Катерина возвращалась к столу, прибирала тарелки, стакан, отмечала про себя, что немного поел, сердечный, хотя, может быть, откушал старик в самую стариковскую меру.
Катерина вообще любила кормить работников, будь то муж покойный или какой другой человек. Сойдясь после Семена с другим, и здесь не забывала о своей женской обязанности, выставляя на стол чего получше.
Любила и сама бывать в гостях, где так же привечали стороннего дому человека. Стороннего, потому что проживал в другом месте, хотя по родству и близкий. Бывает ведь и так: забредет единокровный-единородный, а ведут себя хозяева как чужие – лишь бы поскорее убрался. Помнила она и наказ свекрови, часто повторяемый ею уже своим детям:
– Катерина, сама не съешь, а работника накорми. Обидишь раз – и сама будешь многажды обижена.
Особенно любила гостевать у Кости Большого, выбираясь к нему с новым мужем в основном в зимнее время. Всегда со своей поллитровкой, на которую хозяева даже и не смотрели, а выставляли свою. Если своей не было, шел хозяин до ближнего магазина.
Вставал Костя Большой гостям навстречу, выбегала из кути готовая прослезиться от счастья Надюшка.
– Добро, – говорил хозяин.
– Кумушка ты моя, ненаглядная, вспомнила стариков, пришла… – с придыханием лопотала хозяйка.
Смеялась Катерина, обцеловывая Надюшку, покряхтывал от удовольствия ее новый мужик, никогда, может быть, и не видывавший подобного привета.
И жарилось-парилось самое лучшее на сковородках, и пыхтел раскаленный самовар, и румянился, дышал, играл многоцветьем закусок щедрый стол. И столько слов было сказано в радость и в утешение, что забывалась всякая горесть, притуплялась любая боль.
Глухим, с хрипотцой, будто потрескивают в печи березовые поленья, голосом затягивал Костя Большой песню – старинную и тягучую, как борозда под плугом. Подхватывали разом женщины, раскачивались, прикрыв глаза, будто плыли по морю, а новый мужик Катерины смотрел на них с глупой улыбкой на лице и не знал, то ли уж подтянуть без слов, то ли влить в нутро еще одну стопку горькой.
Кончилась песня – переходили в другую комнату, где усаживались за карты. Хозяйка тем временем убирала посуду с остатками еды, ставила чистые тарелки, добавляла грибков, огурчиков, бруснички, раскладывала вилки, ложки, гоношила самовар.
– Добро, кума, подкинь-ка ему еще девяточку, пущай тянет, – за двоих думал Костя Большой, так как Катерина ничегошеньки не понимала в картах. – А я вот ему погончики повешу, и будешь ты жить с генералом.
– На кой ляд мне генерал? – заступалась за мужика Катерина. – Мне и линтинантика хватит.
– Добро! С какого ты году, Григорий?
– С двадцать пятого.
– И правда, салага. Я вот с восьмого…
Входила хозяйка, с поклоном приглашала к столу – и гулянка продолжалась.
И проходили годы, и ничего не менялось в их отношениях, вот только болезни одолевали.
Слегла Надюшка, сел на ноги Костя Большой. Чаще, чем всегда, ходила проведывать стариков Катерина, возвращалась потерянная, рассказывала страсти.
– Канет, верно, Надюшка-то. Лежит, и говорить уж не может. Дочь, верно, заберет ее к себе. Заходила я к ей.
– Костя-то как? – спрашивал с тревогой в голосе Григорий.
– И куманек мой, считай, не ходит. Соседка бегает: то водички принесет, то печку стопит. И че будет-то…
Походит по избе, принимается ругать «куманьковых» деток:
– Вот злыдни, так злыдни! Ну, ниче: отольются вам еще слезы отцовы-то… Отолью-у-утся-а-а…
А дня через три-четыре снова идет, хотя у самой ноженьки отказываются служить, передвигается со многими передышками.
– Забрала дочь-то Надюшку-то, може, поживет еще в тепле да в уходе, – сообщает по прибытии.
– Костя-то как? – волнуется заждавшийся мужик. Машет рукой Катерина, молчит, подперев ладонью лоб: собирается с мыслями или не хочет, чтоб глаза ее мокрые видели – не понять.
– Костя-то, Костя как? – теряет терпение Григорий.
– Пропал куманек мой, пропал Костя Большой, – выдавливает из себя Катерина. И начинает рассказывать подробно:
– Ты же помнишь, как у них всегда было: чистенько, аккуратненько, и поись, и попить – всего хватало. И человека встречали как люди, и провожали хлебом-солью. А че теперь?..
Откидывалась на табуретке, бросив на ноги руки ладонями кверху, повторяла обращенный неизвестно к кому вопрос:
– Че теперь-то?.. Сидит Костя-то в нетопленой избе в валенках, ватниках да телогрейке. Прибежит када соседка, подшурует печь-то да снимет с него телогрейку-то, он отогреется – и давай каку-то тыщу искать, будто ложил себе на похороны… А то берет фотографии деток своих перебирать и просыпет их по кровати да по полу – ползает, собирает… Глядеть тошно!
– Може, с ума выжил? – высказывает предположение Григорий.
– Ниче он не выжил, – одергивает мужика Катерина. – Влезь в его шкуру-то, так недолго и рехнуться. А он не выжил, я с им разговаривала и он отвечает…
Успокоившись, продолжала:
– Так вот я и говорю ему тихонечко: «Кум, а кум, ну, че ты такой? Сам на себя не похож? Бороду отрастил – седая она у тебя, клочками вся. Я ж тебя никада небритым не видела. Ты ж Большой у нас всегда был, а тут прям как маленький… Давай, говорю, побреемся, одежонку поменяем, водички я щас нагрею…»
– А он, Костя-то?
– А он мне и отвечает: «Кума ты моя, кума разлюбезная… Жись прошла моя, прошла-а-а…» И так склонил голову набок и вздохнул, сердечный, глыбко. А я опять ему: «Да брось ты помирать прежде смерти-то». И вру ему: «Сына твоего, Витьку, видела тут на днях. Сказывала ему, мол, болеешь ты, мол, зайди, попроведывай отца-то. Так обещал Витька-то зайти, на неделе, мол, сказывал, загляну…»
– И поверил?
– Не знаю, – после некоторого раздумья отозвалась Катерина. – Но я его завтра найду. Всю улицу обхожу, поспрашиваю, но найду. И приведу поганца к отцу, хоть одного приведу – пусть отец хоть перед смертью порадуется.
На следующий день Катерина поднялась с постели раньше обычного. Топталась по комнате, вздыхала, подходила к шифоньеру, рылась в тряпках.
Лежал с открытыми глазами и Григорий – они давно спали по разным комнатам. Слушал, как собирается хозяйка, думал свою думу.
Катерина добралась до железнодорожного вокзала, где села в автобус, заняла место у окошка и, пока ехала, смотрела немигающими уставшими глазами на проплывающие мимо дома, деревья, пустыри, перекрестки дорог. На нужной остановке вышла и побрела вдоль улицы, где, по ее сведениям, проживал сын Кости Большого, Витька.
Брести попусту было бессмысленно, решила постучаться в первые же ворота. На стук вышла женщина примерно ее лет и на вопрос Катерины, знает ли та «таких-то», ответила, что знает и указала дом.
К Витькиному дому подбиралась не спеша, обдумывая, что скажет, только бы тот никуда не ушел.
В появившемся в проеме калитки мужике лет сорока пяти не сразу узнала одного из деток старика. Тот же, напротив, заулыбался, растопырил руки, будто собирается обнять неродную ему тетку, проговорил развязно, в полный голос:
– Тетя Катя!.. Какими судьбами!.. Да-авненько ты у нас не бывала, да-авненько…
– Да я у тебя вопче никада не была, – начала было строго.
– Здравствуй, здравствуй, тетя Катя, заходи в дом, погляди, как живу…
– Да че вас беспокоить, я ненадолго здесь, – решила схитрить Катерина. – Была вот по делу в ваших краях да решила заглянуть, попроведывать племянничка…
Сама смотрела на Витьку, пыталась угадать: понял – нет ли, зачем она к нему наведалась? «Вроде не понял», – решила.
– И правильно сделала. Родней приходимся, а друг у друга не бываем.
– Да не люблю я, Витенька, по гостям-то ходить. Придешь, просидишь не один час, а дома все стой колом. Да еще и выпьешь, а потом и мучаешься – давление у меня прыгает. И глотаешь таблетки, и глотаешь… Еще и старик как дитя малое: то пьяный придет, то лежит с похмелья. Вот и мечешься как угорелая…
– Так ты замуж вышла?
– А че одной-то? Помрет – и еще выйду. Матка-то твоя жива, одна живет или старика какого нашла? – подбиралась к главному.
– Жива – что с ней сделается, у Танюхи живет. Еще и попивает иногда, если подадут. Сидит целыми днями у окна – как в телевизор, разглядывает прохожих…
– И я люблю сидеть, тока некада. А так бы сидела и сидела… Отца твоего уж лет пять не видела. Ты-то у него бываешь?
Спросила и замерла: че же ответит, голубчик? И услышала такое, что даже опешила. Не сразу сообразила, что сказать.
– Да вчера был. Крепкий старикан: бутылку с ним на двоих раздавили – и он хоть бы что! До ста лет проживет…
Больше Катерине здесь делать было нечего. Повернулась, не сказав ни слова, побрела прочь – потерянная и раздавленная Витькиной наглостью.
«Злыдни и есть, – стояла торчком в голове одна-одинешенькая мысль. – Злы-ы-дни…»
– Тетя Катя, плохо тебе, что ли? – расслышала вдруг и поняла, что тот пошел за ней. Почувствовала, что трогает за плечо.
Повернулась к нему и, давясь слезами, с перерывами проговорила:
– По-омира-ает отец-то ва-аш… Ни-икак не дожде-ется вас, злы-ыдне-эй…
И… состраданье
Михаил скончался неожиданно в областном центре, куда поехал проверять свое здоровье…
Мария сидела или полулежала теперь в своем углу, где смыкается край веранды с бревнами избы, не расправленными тряпицами, бросив ноги по ступеням. Не большая и не маленькая. Не старая, но уже не молодая.
– Э-э-эх! – выдыхала из себя время от времени.
– Э-э-эх!..
Без слез, без крика. Без сил к дальнейшей жизни.
Стукнуло кольцо ворот, и отрешенные от всего мира глаза ее встретились с глазами живущей недалеко Катерины Бережных, пришедшей взглянуть, не требуется ли помощь.
– Э-э-эх!.. – громче прежнего выдохнула из себя и давай шарить по бревнам руками, желая, видно, за что-либо зацепиться и подняться.
Так, беспомощную и трясущуюся ввела ее Катерина сначала в сенцы, а затем и через порог – в прихожую дня два нетопленной избы.
Около заборки, на старой железной кровати, обе и устроились, продавив скрипучую сетку чуть ли не до пола. Грузная Катерина, обхватив руками плечи подружки, покачивалась. И слова ее в эти минуты были самые нужные, хотя, если внимательно послушать, – напрочь лишенные сострадания.
– Ну че ты, че ты? – шептала она, словно уговаривала. – Ну, помер, – куды от этого деться? Жил человек – и помер. И мы помрем. И все помрут. Поплачут по нам, по тепленьким, и забудут… А жить нада. Мы вот с тобой щас встанем и пойдем. Делов-то, знашь, сколько?
– Ой, надо… Ой, щас… Ой, че это я в самом деле-и-и…
И уже вытаскивала тетрадку с адресами родни, расправляла сморщенное от их сидения покрывало на кровати.
И все произошло, как происходит в подобных случаях. Привезли покойника. Съехалась родня. Посидели, кто сколько мог, около гроба. И свезли дорогое этому дому, но неживое и потому ставшее ненужным тело на кладбище.
Родня убралась по своим углам после третин, Валюша с Володей после девятин, и осталась хозяйка как бы ни при ком и ни при чем.
Ни при ком, потому что привыкла быть при муже своем. Ни при чем, потому что по смерти Михаила отпала надобность во многом, чем с утра до вечера был наполнен ее день.
Сидит день-деньской в нетопленой избе и ворошит память: некуда идти, не о ком заботиться и сама она никому не нужна.
Конечно, без чего ложись и помирай – она делает. Долбит лед около общественных водоразборных колонок, тащит обрезки досок с расположенной недалеко пилорамы, поддежуривает, когда попросят в местной школе, где живущая прямо в здании техничка время от времени запивает надолго и беспробудно.
Но больше по привычке, чем по душе. И душа-то Марии вперед здоровья сдала – это понимает подружка Катерина Бережных, это чувствует она сама.
– Вот вроде ниче не болит, – жалуется она подружке, – и вроде болит…
И в избе-то, что в сенцах – нежило и холодно.
Встрепенется, будто запамятовала печь подтопить, пойдет в куть, чиркнет спичкой – и замрет. И нельзя определить: то ли уж заодно прикурила и глубоко затянулась «дымищем», то ли ждет, пока разгорятся поленья.
– Ну, че ты там застряла? – грубовато скажет Катерина. – Ты слушай, че я к тебе забежала…
И расскажет, как вечор долго не могла уснуть. Как ворочалась с боку на бок. Как с тяжелой головой поднялась поутру. И так все к месту придется, что долго потом сидят, пьют чай, а в избу, словно погостить, вернется жилой дух.
– Ты бы, Маруся, – советует Катерина, – поехала по родне, по детям. А я за избой пригляжу: собаке чего дам, поросятам наварю. Съезди, милая, отдохни…
И поехала. Да не по родне, а в самую «Рассею», где их бабий пригнанный из Сибири эшелон разбирал завалы после бомбежек, рыл в сорок третьем окопы, где от отчаяния, голода и холода зачала Валюшку от подвернувшегося интендантишки, чье имя и сам облик давно потерялись в памяти. Зачала не без умысла, а чтобы брюхатой вырваться из постылой неволи. Не от работы бежала – на родину, где надрывалась мать, пухли от голода младшие братья и сестра.
Большой город ничем не напоминал тот, военный, в котором водили их строем, словно издеваясь над самой женской природой, с песней и лопатами на плече. Разнаряженная молодежь, потухшие взоры равнодушных стариков, толкотня и несмолкающий гул всевозможного транспорта давили отчужденностью и даже, как ей казалось, враждебностью, заставляя почти заново переживать то, что испытала здесь тридцать лет назад.
Запахи битого, опаленного кирпича, затхлых подвалов, откуда нередко извлекали замученных страхом и ненавистью людей, гари, полыни и бог знает чего еще – враз вернулись и ошеломили своей неиссякаемой новизной. Никуда они, оказывается, не уходили от нее – были в ней все – плохо ли, хорошо ли прожитые тридцать лет, что гораздо больше, чем отпущено для боли и для ярости.
Ходила, останавливалась, поднимала голову. Не узнавала дома, лица, и только запахи – ввергающие в тошнотворную муть, выворачивающие нутро.
– Здесь… Нет, вроде здесь, – шептала себе беззвучно и замирая на месте, похожая на большую испуганную птицу.
– Здесь… Нет, вроде здесь, – говорила себе и переходила от одного дома к другому, пока, совершенно измученная душой и телом, не опустилась на скамейку около детской песочницы.
Зачем понадобилось ей то место, где однажды в уголке за пустой и массивной, в виде рюмки, урной подняла грязный, измятый скелет селедки. Подняла торопливо, и в то же время стыдясь этой своей вороватой торопливости. Не обтерев, сунула в рот – языком, нёбом, слюной нащупывая едва сохранившуюся солоноватость. Затем сидела на каком-то ящике с песком. Затем снова шла и снова искала – сама не зная чего, но чтобы утолить женскую свою потребность в соленом, кислом, горьком, потребность так и неутоленную, оставшуюся в ней на всю жизнь.
«Забыла, такая-сякая… – горестно размышляла теперь, – за-а-бы-ла…»
А ведь помнила – все годы помнила. И как забыть ту себя, униженную приближающимся материнством. Раздавленную страхом за будущее желанного и нежеланного дитяти. Затравленную стыдом и ревностью к таким же, как и сама, пригнанным сюда на каторжную работу, но не падшим, не потерявшим девичьей чести.
Всю жизнь помнила, кто она есть и какой взял ее Михаил.
Достался он ей от умершей в родах чужой незнакомой женщины. Пришел с печатью думы на лице, привел трехлетнего Володеньку. Неухоженный. Неустроенный. Израненный. Искалеченный.
Долго привыкала к страшным рубцам на груди, спине. Не могла взять в толк, чего он беснуется, бывая выпивши. Поначалу думала: не может забыть ту, первую. Много позже поняла – не в ней, в упокоенной страдалице, дело.
Но в чем?..
Помоложе был – все не могла удержать, все рвался куда-то, кому-то что-то доказать хотел. Сжигал остатки здоровья, мучился, сердечный, воспоминаниями о войне.
Бывало, посадит ее за стол напротив – и говорит, говорит, говорит… Машет руками. Вскакивает. Ходит по избе.
И говорит, говорит, говорит…
И слушала. И терпела – пускай выговорится мужик.
И точно! Успокаивался. Затихал, лишь ночами скрипел зубами в тяжелом сне.
Помаялась с ним – в радость помаялась, даже и мысли не допускала, что счастье ее бабье – в другом. В устроенном. В успокоенном. Любила, наверное, хотя и слов таких меж ними никогда не было сказано.
Он работал – она работала. Строили дом. Растили детей. И дети-то их жили в ладе. Как родные брат и сестра, как сестра и брат.
Подбежит Володя: «Мама!»
Подбежит Валюшка: «Папа!»
Э-э-эх, война, измышление дьявольское, изобретение сатанинское.
Все годы, что прожиты с Михаилом, стояла она меж ними.
Одно время кочегарила в котельной совхозных мастерских. Выносила золу, видит: Володя бежит. Лицо такое – хоть в гроб клади.
– Мама! Мама! Папка с дядей Геной пошли из ружей стреляться!
Не стала доспрашивать, рванулась бежать. И уже на бегу считала выстрелы:
«Бах! Бах! Бах!» – словно молотком, било по сердцу. «Бах!»
«Только бы жив был. То-оль-ко-о…»
Что уж там произошло меж ними, а залегли по оба конца недостроенной улицы – и ну палить друг в дружку картечью. Собаки рвут с цепей, и хоть бы один мужик был дома, стал бы меж петухов, не допустил смертоубийства.
Выскочила прямо на простреливаемое полотно дороги, закричала истошно и упала, как срезанная косой травинка.
В себя пришла в избе, на кровати. Рядом на табуретке – сгорбившийся, плачущий Михаил.
– Маша, прости… Маша… – повторял и повторял, не видя, что жена смотрит на него – давно за все наперед простившая жена, тогда еще простившая, когда пришел он насовсем, ведя за руку мальчонку.
Хворала долго. Может, от того и не велись у них совместные ребятишки.
А как хотелось ребятишек-то… Ка-ак хотелось!
Мария не чувствовала голода, хотя с самого утра ничего не было во рту, а то, как с новой силой засосало под сердцем, почувствовала.
Почувствовала, как на опущенные меж колен руки упали первые слезинки – такие же горячие, какими заливалась, сидя на ящике с песком, тридцать лет назад.
– Э-э-эх! – совсем как тогда, на крыльце, после получения извещения о смерти Михаила, выдохнула из себя безысходное, безутешное.
– Э-э-эх!
И как в тот памятный день отрешенные от всего на свете глаза ее встретились с глазами наклонившейся к ней теперь уже не Катерины Бережных, а незнакомой, но чем-то напоминающей оставшуюся в далекой Сибири подружку.
– Э-э-эх! – громче прежнего выдохнула и захотела встать, но затряслась всем телом, заскулила тонко и безнадежно.
Отдавшуюся чужой воле, ввели ее в подъезд дома, помогли подняться по некрутой лестнице, усадили на диван. И слушала, по сути, те же слова, что говорила ей тогда Катерина.
– Что это вы, милая?.. Да полно сердце-то рвать… Пригодится оно вам еще… Жить надо… Себя беречь… Бывает трудно, бывает… Но не оплачешь всего, не орыдаешь… Не омоешь слезами… Я вот чаю сейчас вам… Подушечку под голову… И успокоитесь… Поднимитесь… Делами займетесь.
– Ой, не беспокойтесь, добрая вы моя, – приходила в себя Мария, – подниматься нада… Идти нада…
– Да куда же вам в таком виде идти? Вот оправитесь… Сил поднакопите…
– Ой, я вот уже… Ой, я щас… Ой, че это я в самом дели-и-и.
И уже сидели они напротив друг дружки за столом, вели беседу – тихую, женскую.
– Я ведь, голубушка вы моя Мария Дмитриевна, три года назад похоронила мужа. Жили мы с ним не то чтобы очень хорошо, но не хуже людей. Трудился он недалеко здесь, зарплату приносил полностью, выпивал в меру, на чужих женщин не заглядывался. И все чего-то не хватало в жизни – не денег, нет! А чего не хватало – уж и не знаю. Детей совместных не было, так многие и без них счастливы. Посмотришь на таких – сытые, довольные, здоровые. То в кино. То в театр.
– Ой, все так, добрая вы моя… Ой, верно, Александра Васильевна, – поддакивала Мария, поражаясь сходству судьбы своей с судьбой говорившей.
– Правда, нездоров был мой Аркадий Федорович. Да и как быть здоровью? Посудите сами: три ранения (одно – легкое, два – тяжелых), контузия. А как начнет рассказывать – в голове не укладывается, как можно пережить такое: в болотах каких-то стояли, реки холодной осенью форсировали, зимой в окопах мерзли. И что ни медаль, что ни орден, так год, два, пять лет жизни как не бывало! И осталось нам с ним после четырех лет войны каких-нибудь два десятка годков на обустройство личного счастья.
Слушала, словно трав целебных настой пила. Слушала, в свою очередь, пересказывая и свою судьбу. Что в войну оторвали их от семей и пригнали сюда. Как везли голодных, холодных, как цеплялись сопровождающие, а точнее – охранники. Как ходили за ними по пятам, если требовалось по нужде… Матерились. И это было хуже любой работы. А потом – бараки, и никогда не покидавшее ощущение, будто и ты у своих же в плену. Будто провинился в чем-то, чем-то уронил себя. И так хотелось вырваться отсюда и бежать. Без оглядки. Не для безделья и праздности бежать, а для работы, только без сытых, наглых морд, неизвестно кем и для чего поставленного над ними мужичья. С наганами. Портупеями. В не запыленных и не измятых гимнастерках. Но потому еще более гадких, потому еще более ненавистных.
– Правду, правду говорите, голубушка вы моя Мария Дмитриевна. И я на той работе была и бараки те хорошо помню – снесли их лет десять назад. Вполне возможно, даже встречались с вами, да забыли – до друг друга ли нам было? Есть хотелось! Жить хотелось!
– Ой как хотелось! – откликалась Мария.
И ночь придвинулась. И осталась она наедине с собой в той комнате, где только что сидели с этой чем-то напоминавшей подружку Катерину Бережных женщиной. Такой непохожей на них обеих, но такой родной, умевшей все понять и объяснить.
Городской… Вон и квартира – не то что у них с Катериной жилища: книги, большие рюмки на ножках в серванте. Но, самое главное, не верилось, что работала на такой же черной работе в войну… Лицом белая, губы подкрашенные… Где-то рядом с ней работала…
«Концерт прямо какой-то, да и только!» – изумлялась Мария, изумлялась чистой простыни, подушке с чистой наволочкой, пахнущему свежестью одеялу. И пластинке, какую поставила для нее Александра Васильевна.
…Чужая ее слуху музыка словно на невидимых волнах раскачивала комнату, стол, стены, их самих, и голос – тихий мужской голос – говорил о том, что носишь в самом своем сердце, но никогда никому не говоришь…
…Только любовь,
Только любовь,
Только любовь
И… состраданье…
И уже засыпая, Мария повторила, как молитву, эти запомнившиеся ей слова, решив, что по приезде домой купит и радиолу, и точно такую же, как у Александры Васильевны, пластинку.
Как во горнице
Незабвенной памяти бабушки моей,
Анастасии Степановны, посвящается
Необыкновенно тонкая, морщинистая, с огромными наростами на пальцах, сидит старая Настасья на тумбочке около печки, плотно прижав спину к прогретым кирпичам. Голову держит высоко, на лице кроткая улыбка, слезящиеся глаза смотрят куда-то далеко – в самое начало жизни. На ней темная в полоску шелковистой материи длинная юбка и старинного покроя кофта, голова повязана ситцевым с большими красными цветами платочком, на ногах – войлочные тапочки.
Юбку и кофту она достает редко, по великим праздникам, каковыми признает только церковные. Вещи эти лет сорок как отложены до последнего погребального дня.
Настасья не знает, сколько ей годков: может, девять десятков, может, более, а надоедавшим внукам иногда отвечает:
– Не помню, в каком годе родилась на свет… Мама сказывала, то ли на Петров день, то ли на Николин…
И начинала считать:
– Дед ваш старше был меня на годов десять. Из батраков в матросы взяли его тридцати лет, а из японского плену возвернулся в девятьсот шестом. Тогда и посватался. А мне сколько было?.. Годов двадцать с лишком…
– А в паспорте-то с какого?
– Пачпорт дали после германской, когда Клашке моей было годов десять… Вот и считайте, вы небось грамотнее меня. Меня-то некому было учить – то в поле, то на огороде, то в стайке, да деток малых поднимала. В церковке дьячок пластырь почитает – мы и рады-радешеньки…
– Пластырь – это книжка?
– Пластырь писана людьми праведными, а книжников Господь не любил – все беды от них.
– А вот мы книжки читаем, но беды от нас нет, – продолжали надоедать внуки.
– Сейчас и не поймешь, что деется-то на свете: все вроде грамоте обучены, а мир – вверх дном. Вот и выходит, что прав был Господь…
Сегодня для Настасьи большой праздник – Рождество Христово. Сын Капка на работе, невестка где-то по магазинам подалась, ребятишки в школе. Дела все переделаны: суп как могла сварила, чайник на плите стоит горячий. Вот и приоделась, может, подружка Ароновна забежит, ноги у нее еще крепкие. Небось с утра в церковь сходила, свечку поставила и ее, Настасью, помянула в своей молитве.
Сама она лет десять не ходит в церковь: далеко, глаза плохо видят, кружится голова. Палочка ее, которую брала заместо посошка, давно затерялась, да и ни к чему она ей теперь.
Тепло спине. Сердечко стучит ровно, мысли в голове светлые, добрые. Всех в памяти перебрала, всем поклонилась. Более всего печется душа о сыне Капке: он сейчас на работе мозолистыми руками железки перебирает. Она его как могла вырастила, в трудные довоенные годы учила шесть лет в Иркутске, в школе для глухонемых детей. Там при заводе Куйбышева и специальность получил. Ездила, возила сальца, пирожков домашних. Бежит, бывало, завидев мать, по обличью совсем взрослый парень, маячит что-то, лопочет…
Как жилось ей, знают только темная ноченька да мокрая от слез подушка. В девятнадцатом погиб ее Семен – мужчина из себя видный, не пьяница и не бабник. Еще в Порт-Артуре спознался с большевиками, вступил в партию. После плена вернулся в деревню, но долго в ней не жил: осмотрелся, сватов заслал и увез ее от дома родного в Тулун, где устроился на «железку» путевым обходчиком.
И будто не жила с ним она: то муж на работе, то от исправников прячется в лесах, то книжки мужикам читает. А сколько раз умоляла она его не читать тех книжек, сколько раз плакала, вечно брюхатая, успев родить семерых ребятишек и похоронить четверых из них, – и она сама теперь не вспомнит. И временами Настасья думала: уж лучше бы он горькую пил, все рядом и не покинул бы ее в лихую годину.
Старая Настасья может сидеть часами. Глаза почти не видят, но не умом, а памятью сердца еще и еще переживает те далекие годы, что гарью бед прошли через ее жизнь.
Шести ден от роду остался Капка после отца. До трех лет не ходил, часто и подолгу хворал. И не знает мать, отчего привязалась к мальцу немота: то ли родился таким, то ли от «болести». Рос ласковым, старательным. Она – на поле, а он закроет ставни в избе, чтобы соседские ребятишки не видели и не смеялись, и вымоет полы. Придет из лесу с полным лукошком грибов, прикрытым сверху травой, – смеется, разводит руками, мол, не набрал, ничего нет…
Радовалась Настасья, что парнишка не мучается от своей немоты. Только люди мешали их сиротскому житью. Пошла как-то в стайку – нет коровы! Обегала все леса вокруг деревни, все тропиночки и полянки – нет кормилицы. А ночью подбросили в ограду белую с черными пятнами шкуру Жданки, еще пахнущую молоком.
Хорошо теперь Настасье около печки. Тепло ласковыми мурашками пробегает по ребрышкам, разливается по животу, вот только ноженьки хочется поджать под себя – ушла из них сила и стали будто чужими.
Сколько прошли ее ноженьки? От деревни до станции девять километров, обратно – еще девять. От дома до рынка – восемь да назад – столько же. И все бегом, вприпрыжку, без остановок, да не один раз. Дома корова, ребятишки заждались, всякая курица без ухода не снесет яичко, и нечего будет есть-пить. А она одна как перст, и износился «Савраска» (так она себя иногда называет). Савраска – лошадь, что свели со двора люди злые. Позарились на сиротский рубль.
Все помнит маленькое сердечко Настасьи, всякой беде нашлось в нем место.
Когда убили в тюрьме Семена, ушла она с ребятишками в деревню, где был старенький родительский домишко. Нужда заставила. Нечем было кормиться, а так – ближе к земле. Вернулась – «квартирант», пущенный на время, ей, хозяйке, и указал на порог. И снова в деревню, где уже и печь прогорела, пришлось на себе тащить каменюгу от речки, закладывать дыру да замазывать глиной. И еще пожили…
Иной раз Настасье тягостно сделается от воспоминаний, и, чтобы облегчить душу, освободить от горечи и боли, начинает она говорить сама с собой:
– Ольга свела коровенку со двора, прогуляла с мужиками, оставила нас без кормилицы… На смертном одре покаялась, прощенья просила… Савраску эти битюги пропили – ни дна им ни покрышки…
Лицо в такие минуты делается строже, голос наливается силой, усохшая рука начинает дергаться, и, слегка привстав с тумбочки, Настасья выкрикивает резко, непонятно:
– Все канули в тартарары! Все! Никого не осталось! Всех прибрала земля сыра!..
И, будто излив гнев, опускается на место, лицо принимает прежнее кроткое выражение, тихим голосом заканчивает:
– А я все живу… Не-е-т, есть Бог на свете…
Никто и не брался разубеждать Настасью, есть ли Бог на свете. Не делал этого, видно, и ее Семен Петрович: или слишком занят был, или полагался на время, а сам оставил ее одну на целых пять десятков лет. И похоронить-то по-людски не дали.
Весть о смерти Семена принес знакомый охранник тюрьмы, куда его «спрятали» белочехи по наущению одной подлой души – своего брата-железнодорожника. Держали там долго, били цепями – и забили насмерть. И долго она затем ходила, моля о выдаче тела, потом – чтобы хоть могилку показали. Но всюду гнали, и только спустя месяцы тот же охранник свел на уездное кладбище, где Семена и еще двоих мужиков сбросили вниз головами в узкую яму, залили известью и зарыли. Сосновый гроб, заказанный местному столяру, пылился на чердаке, пока не отдала по просьбе людей для захоронения бездомного батрака Ивленка.
Нет, не устала сидеть Настасья. Благодарит в душе внуков, наносивших поутру сухоньких дровишек, так что кирпичи теперь такие теплые. В избе чистота, часы-ходики отстукивают последние предобеденные минуты. Скоро придет сын Капка, мать наладит на стол, он спросит движениями, где хозяйка, и она ему так же ответит, мол, подалась по магазинам… Потом он сядет на высокий порог покурить. А там и ребятишки из школы заявятся – все это повторяется изо дня в день с той лишь разницей, что с вечера поставила Настасья тесто и сегодня порадуется семья ватрушкам, пирожкам, пампушкам, пряникам. Так бывает в праздники. Так заведено много лет назад – подавать к столу что-нибудь вкусненькое.
Настасья вспоминает, есть ли у кур зерно, сыты ли поросенок, собака, вернулся ли с ночных «бдений» кот Васька. Помнит и о внуках: повязали ли на шеи шарфы, надели ли теплые носки, не забыли ли рукавицы – на дворе ведь Рождество, морозы стоят лютые, обморозятся, остынут, не дай бог, – заболеют!
За каждым из четверых ходила она. Невестке некогда, воротила вровень с Капкой, как лошадь. Задумали дом строить – на старуху свалили хозяйство. Сами как чумные, и ей нет покоя. Но в радость были заботы: и у нее будет уголок в новой избе. Будет где кости согреть, откуда отправиться в последний путь.
Ишь, какую ладную тумбочку смастерил ее Капка, удобно телу, внутри сапожные принадлежности, которые вынимает, когда требуется кому-то валенки подшить, прохудившуюся обувь починить. Мужик… Все умеет, все может…
– Да где же моя Ароновна? – будто недовольно, произносит вдруг. – Забыла совсем, подружка, не хочет меня навестить…
А во дворе уже рвется с цепи собака, и Настасья спускает тело с насиженного места, хлопочет, суетится, бормочет про себя:
– Кого это леший несет: доброго ли человека, худого ли?..
И в клубах морозного пара в переступившем порог человеке узнает подружку Ароновну. Счастью ее нет предела:
– Подружка моя дорогая, вспомнила… пришла… Садись к печке поближе…
На столе появляются грибочки, брусничка, пирожки, ватрушки, дымящаяся картошечка и поллитровка давнишней настоечки: не для питья, а для такого случая. Их напиток – крепкий, по-сибирски заваренный чай.
– Ну, рассказывай, – нетерпеливо просит она, – где была, где жила, где тебя ноженьки носили?.. Как твоя Феня, как Михаил, внуки?.. Хорошо ли батюшка в церкви служит?..
И Ароновна рассказывает, неторопливо попивая вприкуску чай, – распаренная, разомлевшая:
– Ты, Настасьюшка, знаешь, как живет моя Феня: ни врагу, ни другому какому человеку не пожелаешь. Бьет ее, сердечную, сморчок-то этот. И плачет она, слезами обливается…
– Так-так-так… – поддакивает Настасья. – Бьет, значит, варнак, истязает. Да женщина-то она ладная из себя, здоровая, что же терпит?
– И не говори, моя хорошая. Терпит проклятого. Надоело мне смотреть и уехала погостить к старшей, Марусе. Да недолго гостила.
– Что же так? – наклоняется Настасья.
– Болит душа: как здесь Феня без меня, ребятишки? Блинчиков некому испечь. И вернулась туда, откуда уехала.
– А твой-то Капитон как? – в свою очередь интересуется Ароновна.
– Ой, подружка, и не говори: ревнует немчура-то Катерину, ревну-ует…
– И-и-и… – тянет удивленно Ароновна. – До каких же пор ревновать-то? Старый уже. А ты-то как промеж двух огней?
– Терплю, подружка моя дорогая, терплю-у-у…
Разговор продолжается в таком духе, и вот уже старая Настасья тоненьким голоском затягивает:
Как во го-о-ор-ни-це… Да во све-е-ет-лой…Вслед, закрыв глаза, вступает Ароновна:
Сидит де-е-е-ви-ца… Да приго-рю-у-ни-лась…Хлопают дверью пришедшие из школы ребятишки, здороваются. Не снимая обуток, проходят в комнату. С хорошей улыбкой на лице появляется Катерина, раздевается, и песня звучит уже на три голоса:
Как то де-е-ви-це… Да не печа-а-лить-ся… В мужья да ста-а-ри-ка… Люди сва-а-а-та-ют…Крестный ход
В дальний поселок лесорубов настоятеля храма отца Иоанна привело объяснимое в его сане рвение. Сам он был молод, рукоположился сравнительно недавно, а путь его к Церкви лежал подлинно через тернии, если взять во внимание род занятий до того, как произошел в душе излом в сторону вызревшей потребности в молитве. Священник видел, что нравственность падает катастрофически, тем более еще лет пять тому как падал сам, наигрывая на гитаре в молодежном оркестре.
Что ж делать, если так сталось, так был воспитан в семье, ничьей рукой не направлен и никем не остановлен, пока в душе не прозвучал глас Господа. И бросил оркестр, пошел в церковь, попросил прощения и был прощен за то, что сумел перевернуть самого себя и не побояться насмешек недавнего своего окружения.
И поехал в Сибирь, в один из негромких дальних приходов, где и стал служить ревностно, со всем присущим возрасту максимализмом. И лишь со временем понял, что все не так, как думалось, как виделось, как мечталось, ибо чисто житейского опыта имел немного, и начинало казаться неподъемным то великое дело, которому решил посвятить свою жизнь. Правильнее будет сказать иначе: великое дело служения Богу не может быть неподъемным, а вот достанет ли его собственных сил, чтобы достучаться до каждого погрязшего в грехах человека?
Хотя, наверное, ближе и понятнее всякому мирянину тот, кто сам прошел через грех…
Ну, ладно, не судите и не будете судимы – примерно с такой главной мыслью в глазах сошел Иоанн с автобуса и медленно брел вдоль домов по обе стороны дороги. Из окон маячили лица любопытных поселян, соображающих, видно, чего это могло понадобиться здесь священнику.
Определенного места, куда бы мог стремиться, он не имел и шел, надеясь, ведь должен же был кто-то отозваться на его появление в дальнем поселке…
И привели ноги таким манером до поселкового Совета, что было в его положении даже необходимо, ведь вторгался он на чужую территорию, где порядки какие-то все же существовали и не мог он с ними не считаться.
– Вы… – не зная как назвать, – с какой целью? – повернул к священнику лицо мужчина, как видно, представляющий здесь власть.
– Я с Божьим словом, – просто отозвался отец Иоанн и сел на указанный стул.
– Против Бога и его заповедей я ничего не имею, но вот очень хотел бы поглядеть, что выйдет из вашего к нам приезда, – категорически заявил мужчина и добавил: – Походите по поселку, поговорите с людьми, они, знаете, вчера получили зарплату…
Сидевшая здесь же девушка при последних словах говорившего хмыкнула, затем покраснела и быстренько выскочила из помещения.
– Она вот, – кивнул мужчина вслед девице, – правильно среагировала, народ у нас тяжелый, лесной, могут и матом, и кулаком, и еще чем. Гулять будут дня три-четыре, а работа стой! – вдруг добавил зло, даже грубо, чем привел в смущение теперь уже отца Иоанна.
– Вчерась, – продолжал в том же тоне, – наряд пришлось вызывать, а кого урезонивать? Бабы пьют! Ребятишкам наливают! Весь поселок надо садить на суток пятнадцать, кроме разве двух-трех старух, которые трезвые не потому, что не хотели бы выпить, а потому, что на ладан дышат. Устроили драку: один сел на трактор и, если бы машина сама по себе не заглохла, наделал бы делов. Черт бы побрал такую мою должность!..
Надо было что-то сказать, остановить поток брани, но и положению мужчины нельзя было не посочувствовать. Молодой священник испытывал от того чувство растерянности, неловкости, не мог найти нужные слова, а потому встал, молча поклонился одной головой и направился к выходу.
– Вы можете переночевать в заежке, – услышал вдогонку. – Я сторожу накажу – все одно автобус будет только завтра… Да и будет ли? Пожары!.. Леса горят!..
Эти последние слова заставили вспомнить разговоры пассажиров в автобусе и неоглядную муть неба, сквозь которую летнее солнце маячило едва различимым пятнышком. Вспомнить и осознать, потому что местные газеты он не читал, а там, откуда приехал, леса не горят – их попросту нет, ибо не те масштабы.
Попытался вспомнить где-либо читаное о лесных пожарах, но все известные ему писатели были склонны описывать половодье в пору весеннюю, стихию грозы или, на худой конец, метель, снежную бурю. Видно, и к этому надо привыкать в чужой для него сибирской стороне.
Машинально вокруг себя осмотрелся, но было все то же, что из окна автобуса, только за кромкой леса четче обозначились столбы серой завесы, словно поселок обложили многочисленными кострами.
– Не боись, батюшка, – услышал вдруг и узрел ехидно оскалившегося мужичонку, приостановившегося сбоку на разбитой дороге, что пролегала посреди улицы. – Не сгоришь. А сгоришь, так не сгниешь – все там будем в свой час… У нас такие пожары кажный год – привыкши мы. Дощщь пойдет и потушит… А вот ты зачем здеся? – неожиданно выкрикнул, и в том почудился вызов на шутовский диспут. – Може, скажешь, как огнь души моей погасить?! А?!
И как-то боком пошел на отца Иоанна, выпятив тощую грудь.
– Може, скажешь, попик? А?!
Отец Иоанн быстро перекрестил мужичонку, повернулся, чтобы идти прочь, но словно наткнулся на холодные, недобрые глаза стоявших невдалеке двух женщин. На некоторое мгновение замер, затем поклонился им и, ни на кого не глядя, двинулся вдоль улицы.
Надо было успокоиться, собраться с мыслями, и сама собой зазвучала в душе молитва.
Он понял, что столкнулся с неизвестным ему устройством жизни людей, где все было нацелено на погубление созданной Господом благодати. Поселок тем и кормился, что выходил с топором, бензопилой, выезжал на трелевочниках и рвал, кромсал, истязал живое тело природы, разбрасывая и стаптывая на огромных пространствах деревья, кустарники, траву. Как после невероятной жестокости побоища, кусками мяса оставались догнивать останки красавцев кедров, красавиц сосен и лиственниц, возникших из земли, чтобы быть ее украшением и душевным оберегом человека и сгубленных не за понюх табаку. Бессмысленно и бессчетно.
Чем больше убийств, тем больше бумажек, которые потом обменивались на водку, и все проходило прахом. Потому и не могло быть в тех поселках радости: ни от производимой работы, ни от соприкосновения друг с другом.
И он здесь лишний, попавший в мертвое человеческое пространство к людям, способным чувствовать только собственную физическую боль…
Отец Иоанн сам страдал и, значит, мог сострадать. Страдая, пришел к вере. Значит, страдание – непременное условие любви и к ближнему, и к Господу. Сострадая, он мог понять этих людей. Следовательно, нет, он здесь не лишний, попавший в пространство человеческого страдания, где физическая боль давно срослась с душевной.
Идти так, без цели, было бессмысленно, и священник направился к одному из домов, возле которого на лавочке сидел старик.
– Бог в помощь, отче, – почти машинально выговорил свое обычное приветствие и ни слова не услышал в ответ.
– Здравствуйте, говорю, уважаемый! – повысил голос.
– А-а-а… – словно только увидел стоящего перед собой человека. – Сядь, посиди, любезный, – отодвинулся старик, высвобождая край лавочки. – А я вот устал быть в дому, выбрался на воздух – воздуха-то и нет, – как своему, поселковому, просто сказал о занимающем его мысли. И продолжил: – Я ж говорил начальнику, Евдокимычу: «Опаши ты поселок-то, сгорим вить». Так не послушал старика. И сгорим. Вот рази ты за нас, за грешных, помолишься?.. Мы-то Бога забыли… Забыли…
– Господа никогда не поздно вспомнить, а он о нас думает денно и нощно… – начал отец Иоанн, еще не зная, что скажет дальше.
– У меня-то, считай, у одного иконка-то в дому, прочие давно на чердаки повыбрасывали. Молиться не молюсь, а поглядываю: может, скажет чего Господь-то? А он не говорит – только глядит, сжав уста. Да-а-а…
– Вам сколько лет?
– Ась?
– В каких годах вы, спрашиваю?
– А без года – семьдесят. Не старый еще по годам-то. А по телу – старый, работа здесь – не приведи Господи. Я вот думать стал, как на пензию вышел, до этого-то не думал. Ишь, – показал рукой впереди себя, – пьют вместе, а синяки носит одна Клавдя…
По другой стороне улицы бежала женщина, за ней полураздетый мужчина. Бежали молча, запаленно дыша.
«Неужели бить будет принародно?» – с ужасом подумал отец Иоанн и хотел встать, попытаться воспрепятствовать.
– Сиди, – остановил старик, – а то и тебе перепадет, здесь закон – тайга…
Мужчина догнал, ударил в спину. Женщина сковырнулась, но скоро вскочила и снова упала от очередного тычка.
– Так ее, Витька, так… Детишки голодные, а она за рюмку…
«И впрямь тайга», – ошеломленно думал отец Иоанн, теперь уже совершенно растерявшийся и не знающий, как поступить, а когда все же вскочил, чтобы бежать до этих людей, то почти с изумлением разглядел, что женщина никуда не торопится, а мужчина идет в противоположную сторону.
– Такой моцион почитай кажный день, – прокомментировал ситуацию старик. – Витька бьет за дело, а Клавдя привыкла. Не привыкла бы, так не пила… Пойдем в дом, батюшка. Устал, чай, душой-то на наше безобразие глядеть…
Отец Иоанн действительно устал как никогда, потому пошел с охотой, надеясь к тому же завязать более прочное знакомство и через дом этот установить связь с жителями поселка. Икона, на которой был изображен Николай Угодник, поразила его своей древностью и была хорошего письма, а вот какой школы – понять не мог. То ли мастер скопировал известное и привнес свое, то ли это была местная сибирская школа, работа какого-нибудь талантливого самородка.
– Ты первый, кто так-то разглядывает, – сказал назвавшийся Федором Николаевичем старик. – Из области наезжали, просили продать, да не моя она…
– Чья же?
– Не могу сказать точно… Отцу моему передал ее дед, деду – прадед, а кто прадеду – бог весть. Отец же наказывал беречь и говорил, что иконка – Богом данная нашему роду. Вот и выходит, что не моя.
«Интересный подход, – подумал священник, – и… правильный. Все бы так понимали назначение образа Божия в доме…»
Вслух же спросил:
– А вы кому передадите?
– Держу, пока жив, а помирать стану – кто-нибудь из детей и возьмет. Сама то есть найдет хозяина. Только я заранее сказал детям, чтобы из семьи нашей никуда не уходила.
– А вы сами… веруете в Бога?
– Держу в душе. Только… сомнение есть… Как Он допустил такое остервенение в народе? Взять поселок наш. Я приехал сюда, когда лесопункт организовывался. Народ собрался всякий, но, в общем, ничего. С песнями работали, план давали, в меру гуляли, хамства особого не замечалось. Потом что-то начало ломаться в человеке. Нормальные мужики вдруг стали пить, гонять своих бабенок, а что в лесу-то понаделали?.. Вы в наших тайгах бывали?.. Или возьми поселок наш. Все – временное, наспех. Заплот повалится, и никому нет дела. Сво-ой заплот! Я вот жил раньше, все будто видел и будто не видел. А вышел на пенсию и задумался-запечалился. Вить все чужое, ничего своего. И дома, и заплоты, потому, видно, и такое отношение. На Божье замахнулись – в этом, видать, все дело. На то, чем детишкам жить, детишкам детишек и прочим, кто придет после всех. Гребем безмозгло, без совести. Безмозгло, без совести и живем. И на кажном – грех неотмолимый и не подлежащий отмолению. Вот тот мужичонка, что на тебя наскочил, – видел я со своего места. Ведь был первый работяга, на Доске почета висел. Или Витька тот – с золотыми руками человек, а ка-ак живет! Прокляты мы, видать…
Весь этот разговор происходил уже за чаем, отец Иоанн слушал с вниманием, и никак не складывалось в его сознании цельной картины. К сумятице в голове добавилась все усиливающаяся душевная тяжесть, которую он поначалу отнес на дальность и ухабистость дороги. Но это было нечто другое, словно кружился вкруг него сонм бесов, и все теснее сжимался тот круг.
– Я пробовал пожить у дочери в городу – как раз после сороковин по супруге. Не смог. Скверно живут в городу-то, у нас в поселке – еще скверней, а воздух мне этот ближе, потому что я к нему привык. Тимка – мужичонка тот – к тебе прицепился, а мне будто радость: «Нукась, – думаю, – как там попишка заезжий выкрутится?..» Или лупсует свою Клавдю Витька по хребтине, и мне занятие – глядеть, как картину какую-нибудь в клубе. Перестанет лупсовать, и мне нечего станет делать. Вот-то как оно у нас… Или ты вот, зачем пожаловал в поселок? А?!
Поворот такой предвидеть было трудно, хотя несколько часов пребывания в поселке чему-то успели и научить. А поразило отца Иоанна нечто общее между теми людьми, которых здесь увидел. Спаянность какая-то, гораздо большая спаянность, чем, к примеру, в деревне, где тоже живут люди вместе много лет, но друг с другом разнятся. Так что же их здесь объединяет?
«Проклятость, наверное, общая проклятость», – подумалось вдруг и захотелось сказать об этом деду Федору. Сказал другое:
– Душу надо лечить – в том все дело…
– Хе-хе-хе-хе, – отозвался старик. – Я-то, когда в городу жил, пробовал ходить в церковь… Приду, постою, и начинает казаться, будто какая-то сила хочет меня оттуль вытолкнуть. Будто чужой я в церкви-то. И чем больше бормочет свое священник, чем больше напевают свое тоненькими голосочками женщины, тем сильнее припирает меня к выходу, и тогда уж шапку в горсть – и бежать. Явлюсь домой, хожу туча тучей. Дочь спрашивает, а я молчу. Устал…
– Наверное, как мне сейчас тяжко… – тихо обронил отец Иоанн.
– Проклятые мы, – уже с уверенностью в голосе заключил старик.
– Никакой грешник не потерян для Господа…
– На пенсии я, вить, живу созерцанием, – о своем продолжил дед Федор. – Сижу день-деньской на лавочке, а то подамся по улице. Или в магазин зайду, к ребятам на нижний склад. Бывает, и в лесосеку съезжу. Балабоню с народом, а сам поглядываю… Понять хочу: чем же это мы перед Богом провинились?.. За что он нас такой нищетой наградил?.. Почему повальное пьянство и непотребство в семьях?.. Вить мы ж здеся рабы: на золоте сидим, а с ладоней собственных мозолистых едим. Сколько поубивало-то нас на лесу, калеками сделало… Мужики-то падают молодыми, едва за сорок минет… Ну, ладно, мы леса губим, дак другие землю взрывают, нефть качают, газ сосут, уголь добывают, руду всякую. Или вот бомбу делают, атомные станции… Поля травят ядами… Земля в грехе!.. Но посмотришь по телеку – чистенькие, в очках, на машинах, в ресторанах, симпозиумах разных – и все учат, учат, учат… Обман здесь какой-то общий или мы все вместе проклятые.
При последних словах деда Федора отец Иоанн вздрогнул, словно тот прочитал его сокровенные мысли. Об этой всеобщей «проклятости» и он думает постоянно, испытывая даже чувство какой-то собственной вины перед теми, кто не может обрести путь к спасению. Ведь он-то обрел этот единственный путь, когда уже, казалось, ничто и никто не в состоянии был вытянуть его из засасывающей трясины богемной жизни, где и винцо, и девочки, и «травка», но главное – прозаическая страсть к элементарной наживе в шоу-бизнесе – вытрясывали из души остатние крохи человеческого, не говоря уж о Божественном. И всякий день в его бытии, когда он звался Ванюшей, а не Иоанном, не оставлял места для иного, что мало-помалу начало открываться ему и с первым, и с десятым, и с сотым приходом в храм, где были иное пение, иные слова, иные изображенные на иконах лики, чем то повседневное поклонение бесам, которое он и считал своей настоящей судьбой. Постепенно, шажок за шажком отметалось наносное, подменное, подметное, и он все более становился самим собой, глаза открывались добру, а уши обретали способность слышать Слово. Его Слово. И начался процесс возрождения самого себя с едва слышимого где-то далеко внутри души собственной – собственного же еще слабого, но уже твердого голоса: «Аз есмь…» И вместе с тем – общеобъемное и все временное, с чем должен приступаться ко всякому мирскому делу всякий человек чуть ли не с младенчества: «Отче наш, иже еси на небесех…»
– Так и телевизор – измышление дьявольское… – заметил отец Иоанн.
– Истинно так, истинно так! – подскочил на табурете старик. – Все вранье! Все кривда! Все навыворот! Вот и скажи, отче, хоть ты сопляк годами, правду… Скажи, а то все молчишь, скрытничаешь. Просвети мя!..
Была ли со стороны деда Федора искренность полная – не определить, но что душа жива, то чувствовалось.
«У всех у них жива душа, – подумалось неожиданно, словно прозрелось, сообщилось свыше. – Может, более чем у кого-либо жива, потому что страдают…»
Отцу Иоанну стало неловко от мысли, что не имел потребности посетить поселок раньше. Давно бы надо было, а не проповеди читать во храме, дожидаясь, пока число прихожан увеличится само собой. Не изжил он еще своей наивности – гордыни, требуя от мирян больше, чем они могут.
Осознанное тут же чувство неловкости напомнило недавнее, пережитое уже после того, когда исправить что-то было практически невозможно.
Привели к нему как-то для знакомства сына церковного живописца, восстанавливавшего храм, в котором отец Иоанн теперь служил, после того как властями разрешено было вновь открыть приход. Хотел расспросить о многом – и для истории воссоздания храма, и для самого себя, и для паствы. Ждал, надеясь увидеть степенного, благообразной внешности человека, но уже при первом взгляде на вошедшего неприятно поразили развязность, громкий голос, даже какая-то непочтительность к месту. Все это, может, только показалось или было только видимостью внешней, о чем он тогда не подумал, поддавшись первому неприятному впечатлению.
Вошли во храм, и опять же поразило, что не поклонился, не наложил креста на лоб, а стоял улыбающийся, с шапкой в руке на отлете.
– Вы веруете в Бога? – спросил его тотчас отец Иоанн резко, о чем не должен бы спрашивать, и ответ получил, какой ожидал:
– Я атеист…
Он просто вытолкал этого сына живописца взашей, хотя человек ему самому годился в дедушки.
Не должен был так, и не от молодости то было, не от горячности, а от собственной гордыни, что осозналось скоро и породило в душе раскаянье. Отцу Иоанну было бы, наверное, хуже, если бы слышал сказанное вытолкнутым им:
– Я понимаю батюшку, но и с собой ничего не могу поделать – отравлен я системой, которая и марксиста из меня не сделала, и от Господа отвратила. Отец мой расписывал не только эту церковь, верующим был человеком, а уж о матери я не говорю… А я воровал мальчишкой, потому что хотелось есть, – гордость и стыд не позволяли просить подаяние… И знал, за что отбывал заключение, и не имел обиды на власть, меня посадившую в кутузку… Воровать – грех, но еще больший грех, когда дети пухнут с голоду и у них только два пути: либо просить подаяние – унижаться и получать плевки в душу, либо красть, да хоть изредка есть всласть, а там – хоть потоп! Батюшка-то этого и не нюхал, потому и ничего, что меня турнул… Должность у него такая…
Не знал отец Иоанн, что человек тот и лагеря колымские прошел в самую их жестокую пору, и воевал, и после своей воровской биографии нашел в себе силы остановиться, семьей обзавестись, детей вырастить и жить в согласии с совестью, не протягивая руки за чужим, но и ни перед кем не унижаясь… Жизнь-то порой не всякому мостит дорогу к Господу, и не всякий может считать себя достойным прощения… Кто ж может судить, кроме судии высшего – Всевышнего?..
– Мы все должны самоограничиться, – начал тихо, обращаясь то ли к деду Федору, то ли к воображаемым собеседникам, то ли к своим собственным мыслям и сомнениям. – И я грешен, и пастыри Божии, только Господь Иисус Христос без греха. Я вот хотел бы вам ответить и ответом своим успокоить вашу мятущуюся душу, да сам порой нетверд в помыслах и поступках. А жить, видимо, надобно так, чтобы каждый день и час крупицами добрых слов и дел умножить благость земную, приближая тем собственное царствие небесное.
Отец Иоанн замолчал, подыскивая слова, потому что здесь нужна была не проповедь и не то, что он обычно говорил прихожанам, а нечто такое, до чего ему самому надо идти долго и трудно и без чего не может быть веры истинной.
– Я мало живу на свете, но скорбь моя умножалась несообразно летам, а сообразно поступкам, какие в недавнем прошлом я совершал по неразумению…
Здесь он снова остановился, понимая, что говорить должен проще – языком этих людей, не как священнослужитель, на котором ряса и крест, а как мирянин, что родом из такого же поселка.
– Мои родители такие же простые, как и вы. Когда я начал посещать храм, они поначалу удивились, а потом испугались – вдруг я «свихнусь»? Бог для них – понятие абстрактное, существующее где-то в прошлом, до революции семнадцатого года. Отец работал слесарем на заводе, мать – там же нормировщицей. Дома – местная да областная газета, телек, в выходные – дача за городом. Родитель мой выпивал в меру, хотя и любил побаловать себя стопочкой. Семья, в общем, нормальная, со средним достатком. Когда я занялся музыкой, они так же поначалу удивились, а потом – испугались, потому что я начал приходить пьяненьким. Дальше – больше, затягивала богема. Мать плакала, отец отмалчивался, да я никого и слушать-то не хотел и никого, кроме себя, не слышал. И упал бы до самого дна, если бы не девчонка, которая привязалась ко мне как банный лист, – простите за выражение, она затащила меня в храм. Вот, понимаете, почувствовала какой-то особый момент, когда я открылся сердцем, душой, разумом и мог воспринять… Не знаю… От любви, видно, ко мне большой, ведь она-то тоже никогда прежде не бывала в церкви. И что-то произошло в нас обоих… Очистило… Освятило… Снизошло… Так вот: родители мои испугались, а я им говорю: «Папа, мама, вы что же, испугались того, что я лучше стану?..» Больше они меня ни о чем не спрашивали, но через какое-то время в доме появилась иконка. И вот тут-то мы стали жить словно заново, словно Дух Святой поселился в жилье моих стариков, и я как-то спокойнее стал за их здоровье, поверил, что они еще поживут и порадуются внукам, а может, и правнукам…
– Прям сказка, а занятно, – вздохнул дед Федор. – Хорошая жись, она всегда сказками представлена: поначалу злые силы одолевают, а потом – злато нежданно-негаданно выпадает… Почему к злату все сказки сводятся?..
– К любви и богатству, где любовь преобладает. Любовь здесь как непременное, а под богатством подразумевается достаток, когда есть необходимое, и больше ничего из материального не надобно… Была бы любовь…
– Так-так… – тянул старик. – Занятно… Ишь ты, как повернул… Так-так… А я живу семьдесят годов на свете и не пойму, где счастье. Смотрю на поселковых, они все мне как родные: ничего им не надо. Есть супу тарелка да кусок хлеба к нему – и все. Поставь бутылку – о супе забудут. Философию разведут. О политике зачнут. О войне прошлой. Правителей хаять. А чтоб как лучше жить – и не подумают. Детишки суп доедят, хлеб умнут, работа станет – могут на завтрева и в лес не выехать… И пьяницами горькими никого назвать нельзя! Работяги знатные, если возьмутся ломить!..
– Слушай, – оживился еще более. – Может, правители проклятые, а народ наш – ничего?.. Может, судьба такая у русского человека – загнали нас всех по таким поселкам-лагерям, дали в руки топоры, чтобы души наши зачичеревели в неосмысленной работе с темна до темна, да еще неделями в тайге в бараках, чтобы уж и от детишек своих поотвыкали?.. А?.. Какой пищей душе-то кормиться, окромя дикого леса и рева тракторов?.. А?.. Я вот последние полтора десятка годков до пензии на трелевочных робил: летом жарища, гнус, зимой – будто костей мешок в стылом железном ящике, что не знаешь, или тебя от холода трясет, или от ревущего мотора сотрясает… Вывалишься из кабины, доползешь до вагончика, обхватишь кружку чаю горячего – и никаких мыслей, только чуешь, как руки начинают отогреваться, голова запотевать в шапчонке, нутро оттаивать, там и ноги… И по новой в железину: сидишь, как заведенный, то один рычаг дернешь, то другой. Дергаешь, покуда завод не выйдет из тебя самого – и по новой в вагончик. И так день-деньской, год за годком. Смотришь, а жисти уж и нетути! Мимо! Мужики спрашивают иной раз: «Чего-от ты, Николаич, в тайгу с нами шатаешься?» Я им: «Не могу дома, боюсь помереть у печки, здесь, мол, жил, здесь и завалюсь у какой-никакой лесины…» Смеются, варнаки!..
– Все, что вы говорите, мне непонятно: лес крушить, природу живую – грех это. Хотя я никого судить не берусь и не имею на то права. Только Господь и может быть единым судией нам всем.
– Да что ты, батенька, заладил: «Господь, Господь…» В ем ли дело-то… Жил слепым, но не хочу помереть слепым кутенком – это меня мучает. Я ж тебе говорил, что мог бы у детей своих поселиться, да здесь прозябаю, потому как хочу прозреть всю свою прошлую жись здесь-то: что и почему, отчего и для чего? Вот-та как!..
В окно застучали, и в стеклине замаячила голова мужика.
– Николаич, – послышалось глухо. – Огонь-то подступает к поселку… Сгорим!..
– Витька приперся, – обернулся к отцу Иоанну старик. – Говорил Евдокимычу: опахать надо… – Че ты обеспокоился? – придвинулся к окошку. – Выпил небось лишку?..
– Да не пил я седни, сгорим, говорю!..
– Щас, выйдем мы…
Дед Федор что-то забормотал, сожалея, видно, что прервали беседу, затем подошел к двери, остановился, о чем-то подумал, шагнул за порог.
За воротами вместе с соседом Витькой стояло еще человек десять-двенадцать – больше мужики. Женщины сбивались в кучки у своих гнезд, что хорошо было видно, стоило окинуть взглядом улицу.
За время, пока они были в доме старика, в обстановке окружающей что-то изменилось, и это чувствовалось сразу: черный, без языков пламени, дым образовал над поселком пока не сошедшийся в самой верхушке купол, откуда и пробивался свет. Пахло паленой шерстью и непонятно еще чем. Явственней доносился треск горящих деревьев. Но близость подступившей беды лучше всего передавалась через животных: то в одном дворе, то в другом вдруг высоко, с краткими перерывами начинали мычать коровы. То за одним заплотом, то за другим тоскливый лай собак вдруг переходил в вой, и наоборот.
Дед Федор между тем, стоя на лавочке, почти кричал в толпу:
– А вы к председателю поссовета идите! Чего ко мне-то приперлися!.. Господь Бог я вам, что ли?!
– На тебя, Николаич, надежа, – гудели мужики. – Посодействуй, похлопочи…
– Это они просят, чтоб я тебя ублажил подмочь отвести беду, – обернулся старик к священнику. – Ну, народец…
– Перед кем хлопотать-то? – уже куражился дед. – Евдокимыч небось уж в район уехал за подмогой, а в небесной канцелярии я никого не знаю… Давайте уж вместе хлопотать, чтобы Господь дождя дал – молиться давайте всем населением поселка… Да и че вы забоялись помирать-то? Впервой лес горит, что ли?..
– Так не горел, – отзывались мужики. – Погибель это общая… И по дороге не выскочишь – на километра три объяло пламенем…
– Твоего слова ждут, отче, – наклонился к отцу Иоанну старик. – Скажи что-нибудь, хотя… чего ж тут скажешь?..
По тому, как «перевел стрелки» старик на отца Иоанна, тот понял, что положение с пожаром действительно серьезное. И в жизни его наступил, может быть, самый трудный момент, когда надо было не просто сказать, успокоить людей, а призвать что-то предпринять, произвести действие, чтобы люди поверили. И что же тут можно было предложить, кроме молитвы? А вот поверят ли?..
Сама мысль эта вдруг осозналась кощунственной, и тут же подумалось: «Господь и меня испытывает…» Но что-то надо было говорить, и голосом – не его голосом, а чьим-то чужим, высоким и сухим, – отец Иоанн произнес:
– Братия и сестры! Молитесь о спасении душ ваших!..
И снова осозналось: «Не то, не то надо бы сказать…» И следом будто высветилось в нем: «А ведь я их грешнее…»
– Люди добрые, вы ждете от меня помощи, а ведь я вас еще грешнее… – Произнес и увидел, разглядел глаза будто всех сразу стоявших перед ним жителей поселка, и глаза те враз потеплели, посветлели, и зажглись в них угольки надежды. И почувствовал на сказанное им ответное одобрение, выразившееся в отдельных словах людей:
– Батюшка!.. Мы верим тебе!.. Скажи, что делать!..
– Несите иконы – пойдем крестным ходом!
– Да нет их! – выкрикнули откуда-то из толпы.
– Есть, – выдвинулись вперед две женщины, вынимая из-под телогреек образа. – Мы с ими с того часу, как батюшка приехал…
– Ай, бабы, ну, молодчаги! – выскочил тот самый Тимка, о котором толковал дед Федор. – Эх, мать честна! Где наша не пропадала! – и бросился к палисаднику, рванул одну штакетину, другую… Метнулся с ними во двор старого своего приятеля и минуты через три вернулся с крестом: на целой штакетине поближе к концу была привязана половинка от другой, сломанной.
– Впереди нас и пойдешь, – оценили его находчивость мужики.
– И пойду, я завсегда наперед ходил! – взвизгнул отчаянно мужичонка. – А? Федька?! Мы завсегда с тобой шли рука об руку, тока ты – правильный, а я – пьяненький!..
– Не юродствуй, Тимофей, – степенно, как старший младшего, осадил его дед Федор. – Не о том сейчас надо и не то.
– Люди добрые! – обратился уже к поселянам. – Несите из хат своих иконки, вынимайте их из углов, из чуланов, снимайте с чердаков. Время такое пришло: или спасаться, или помирать. Выгорит поселок – все как один пойдем по миру. И души свои надо спасать – зачичеревели наши душеньки-то, облепил гнус таежный, залили мы их горькой, завалили матюгами, запоганили непотребным житием своим, вот и беду нажили всесветную… Выгоняйте из клетей домочадцев своих – все пойдем крестным ходом, как батюшка говорит!
– Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятилище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! – запел вдруг отец Иоанн и, к радости своей, услышал, как люди повторили за ним:
– Обидимых покровительнице!..
– Зрише мою беду…
– Зрише мою беду! – гудел собирающийся народ.
– Зрише мою скорбь…
– Зрише мою скорбь… – повторяли люди за ним.
– Помози мя яко немощну…
– Помози мя яко немощну, – громче других фальцетом тянул дед Тимофей.
– Окорми мя яко станна…
– Окорми-и-и-и… – неслось вдоль улицы, вдоль домов, подбиралось к лесу, уходило за огороды, терялось за поворотами в переулках.
Готовые пойти крестным ходом люди уже занимали свои места в том порядке, в каком надлежало быть каждому, выдвигая наперед тех, кто, по их мнению, и должен стоять ближе к священнику – не по чину или должности, а по жизни своей, по уважительному отношению к ним со стороны поселковых. Народ прибывал – взрослые, старики, ребятишки. Даже собаки бежали вослед за своими хозяевами и метались тут же, взлаивая и взвизгивая каждая на свой манер.
Вкруг поселка трещало так, словно сыпали дробью многие барабаны оркестра, имя которому – стихия. И дым уже готов был сомкнуться над поселком, и тогда уж – все, конец, смерть. И ничего уж нельзя будет уберечь: ни крова, ни животины, ни животов собственных – ни-че-го! Так начинало казаться и человеку, и собаке, и курице.
– Помилуй мя, Боже, помилуй мя…
– Помилуй мя… – вразнобой повторял народ за отцом Иоанном.
И шли дальше, огибая огороды, стоявшие на краю усадеб бани, сараи и дровяники, пока не оперлись в жилье вдовы первого поселенца этих мест Дмитрия Матюшина, убитого лет тому тридцать назад лесиной в одном из распадков лесосечного хозяйства, о котором, как водится, позабыли скоро и за которого домучивала свой век супруга покойного – бабка Ирина. И она немало потрудилась в пору военную да и после нее, как, впрочем, многие и многие женщины ее поколения, отдавшие силы и молодость непосильной работе в таежных глухоманях сибирской стороны, откуда реками плавилось это бесценное, а когда-то и несметное богатство Отечества – лес.
Дорога здесь раздваивалась: одна пролегала вплотную к горевшему сосняку между скособочившимся заборчиком, ограждающим бабкину халупу, другая – отрезая халупу от поселка. Священник двинулся в обход и почти что в самое пекло, в самый огонь, и устрашающий душу треск взлетающих к черному небу сучьев, а за ним – пять, шесть, может, восемь поселыциков. Основная же масса люда заволновалась, заколебалась, переступая с ноги на ногу, словно ожидая то ли команды, то ли какого знака, то ли еще чего, и кто скажет: может, так и обогнулось бы нежданное препятствие в два потока, если бы не откинулась древняя дощатая калитка и в проеме ее не показалась сгорбленная фигура самой бабки Ирины.
– Мать честна! – ахнул, будто в испуге, не выпускавший из рук креста из штакетин находившийся впереди этого потока дед Тимофей. – Матюшиха-то еще жива! Поди к нам, Арина, – замахал ей свободной рукой, – будем вместе спасаться, тудыт твою растуды!..
Человек двадцать, а то и более, во главе с дедом отделилось и ускоренным шагом настигло группу отца Иоанна.
– Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе Пречистая Дево. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся: Твои бо есмь рабы, да не постыдимся…
– Твои бо рабы… да не постыдимся…
Две этих группы, или два потока, по числу людей оказались примерно равными. Одни молились и тем как бы убеждали к ним присоединяться, другие – топтались на месте, поглядывая то на тех, с которыми только что были заодно, то на бабку Ирину, то на прельстившую их укороченную дорогу.
– Напастей Ты прилоги отгонявши и страстей находы, Дево: тем же Тя поем во вся веки-и-и… – возвышал голос отец Иоанн.
– Во вся веки-и-и… – дружно подхватывали за ним люди.
– Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рождшая-а-а…
– Всяку слезу… рождшая-а-а…
Опершаяся на палочку, не поворачивая головы, поглядывала бабка то на одних, то на других, и никто бы не взялся сказать, о чем думает, о чем сожалеет эта многие годы живущая в одиночестве поселыцица. Редкий человек заглядывал к ней за древний дощатый заплотишко, а если и заглядывал, то видел клочок вскопанной ухоженной землицы, с какой всякий год получала она потребное количество картошки, лучку, морковки, свеколки, вытаскивая все это добро небольшеньким ведерком, волоча его чуть ли не по земле, потому как уже никакая сила не смогла бы выпрямить ее спину.
А что жива еще – знали в поселке. Знали о ее спившейся дочери, о неприсмотренных внучатах, набегающих к бабке в дни выдачи пенсии, из которой отделяла она им по нескольку рубликов – ровно столько, чтобы дожиться самой до пенсии следующей. Знали, что не идет жить к дочери – и не пойдет ни за какие деньги.
Ирина Матюхина, по большому счету, и олицетворяла собой этот поселок лесорубов, при ней зародившийся и при ней же умирающий. При ней обустраивавшийся и при ней донашивающийся и строениями, и людьми. И сейчас, видно, только она одна и могла решить, куда пойти прельстившейся короткой дорогой части народа, из какого была и сама… Постояла, повернулась к своей халупе, затворила за собой калитку…
Крестный ход продолжился – по короткой дороге потопали местные сорванцы да собаки.
…Спал отец Иоанн у деда Федора. Спал крепко, как спят молодые люди, не отягченные ни угрызениями совести, ни снедающей душу печалью.
Спал и поселок, устоявший среди угольев догоревших остатков некогда густого живого леса.
И лил дождь, разбивающийся о шипящие головешки, мерцающие во множестве угасающей в них силой внутреннего жара. И уже не дымом, а паром исходила обугленная земля, представляющая из себя мертвое пространство, где нескоро зародится жизнь.
Мишкина песня
Мишка Мордва из своей конуры выползает ровно в девять утра. Смятые волосы его говорят все о том же: вчера «малость уыпил». Это «малость уыпил», конечно, имело у него место и вчера, и позавчера, и неделю, и год назад.
– Я, Коля, в девять из дому выхожу, потому что в девять открывается «Раймаг», а тамака завсегда есть диколон – энтот вот, – показывает мне граненую флакушку желтоватого цвета. – Покуда не похмелюсь, работника с меня нету.
– А что у тебя за работа? – интересуюсь, хорошо зная, что постоянного дела у Мишки нет и, может быть, никогда не было.
– Степановна, – начинает загибать пальцы на руке, – просила замок врезать. У Иванихи двери расхлябались, надо подремонтировать. Тамако, – тычет пальцем куда-то в сторону соседнего барака, – преставилась одна, дак тож просили подмочь. Я, Коля, всем нужон, считай, двадцать годов проживаю здесь.
Место проживания Мишки, а с недавних пор и моего, – примечательно тем, что застроено еще до революции усадистыми бараками, крашенными коричневой краской. Чего только в них ни было и чего только с ними ни случалось, все пережили благодаря твердости руки и прицельности глаза неученых строителей, знавших одну науку – порку стариков, вбивавших в задницы подмастерьев вековечную, ныне успешно похороненную заповедь – делай на совесть. Перегороженные на многие соединенные общим коридором клети, сумели-таки уберечь они в своих лиственничных бревнах остатнее тепло, кое теперь поддерживало жизнь обитавших здесь по большей части одиноких старух – ветеранов железнодорожного производства; мантулили до войны, тащили на себе страну во время нее и после, потрудились так отменно, что у иной – ноги отказались служить, у иной – руки скрючило, у иной – спину выгнуло дугой, будто и по сей день несет на горбу тяжеленную шпалину.
Вперемежку с этими заслуженными, но брошенными всеми старухами селились вовсе неизвестно откуда взявшиеся пропойцы обоего пола, реже – молодые семьи и просто нормальные люди.
Сами жители бараков место своего проживания называли одним выразительным словом – Бухенвальд, что объясняло многое, если не все.
Рождения и смерти, ссоры, переходящие в драку, и следующие за ними перемирия за бутылкой водки, все разом – плач и смех взрослых и детей – это и был Бухенвальд, от которого некуда деваться, но который – привычная среда обитания для таких, как эти несчастные старухи, как эти потерявшие себя пропойцы, как тот же Мишка, прозванный отчего-то Мордвой.
Я сейчас даже думаю, что родной Мишке Бухенвальд и был местом его работы – ежедневной и еженощной, дававшей надежный флакон «диколона» с миской пустых щей и куском хлеба к ним. Он нужен был этим старухам, брошенным на произвол судьбы в барачные клети, страдающим от мысли, что каждое утро надобно тащиться за углем, чтобы растопить печь, что надобно вставать с постели, чтобы поддерживать в себе жизнь. А Мишка всюду поспевал; и угольку поднесет, и в дальний последний путь проводит. Ну а какой-нибудь полтинник – расплата за его неоценимые труды – деньги разве, учитывая тогдашнюю стоимость «горючей жидкости».
Надо добавить, что Мишка Мордва на свет божий народился человеком бескорыстным и удобным. Я не слышал, чтобы он ругался матом, с кем-то резко говорил, хотя его самого обижали нередко; какой-никакой пьянчуга двинет по физиономии ни за что ни про что, какой-нибудь прохожий толкнет, просто кто-нибудь изматерит-изругает…
Провидением, может быть, был приставлен Мишка к этим поломанным непосильным трудом старухам, чтобы в дни, когда истомившаяся по вольной воле душа вот-вот попросится наружу, был он им подпорой, вроде клюки, о которую можно опереться, или завалинки, на которую можно присесть, перевести дух.
Барак наш располагался в виде буквы «П», и Мишкина дверь находилась наискосок от моей, через пространство двора. Бывало, видишь, кандыбает какая-нибудь старушонка, значит, есть надобность в нем, значит, большое дело предстоит, по малому он и сам ходок.
Уже в сумерках, пошатываясь, Мишка выползает на крыльцо о двух ступеньках. Затасканная серо-синяя майка, брюки, ноги почему-то босы, хотя на дворе, предположим, октябрь. Сидит, курит, что-то бормочет про себя, раскачивается, и вот уже бормотание переходит в мычание, а следом – и в завывание. Слов разобрать невозможно, может, их вовсе нет.
Сколько длится эта «песня», сказать нельзя, кончается она привычно: Мишка засыпает прямо на крыльце, растянувшись во всю его длину и ширину. Спит часа два-три, и никому не приходит в голову, что мужик может запросто замерзнуть.
Я пытался говорить с соседями, но те махали рукой, что, видно, означало одно – ничего с ним не сделается, не впервой. Постепенно попривык наблюдать такую картину и я.
Попривык я помаленьку использовать Мишкину отзывчивость. Торопишься, к примеру, утром на работу, а в клети твоей – холодина и топить печь некогда. Ну, и бежишь к Мишке, суешь ему ключ, просишь протопить, для чего надо и дровишек поднести из сарая, бывало, что и поколоть. Прискочишь к обеду – все в ажуре: и тепло в жилье, и дровишки к вечеру аккуратной стопкой на железном листе возле печи. Тут и Мишка нарисовывается, докладывает мне видимое.
– Спасибо, Миша, – говорю ему. – А на флакушку-то чего не взял денег – вон на виду лежат на холодильнике?..
– А я, Коля, без хозяев ничего не возьму, пущай даже помру…
– Ты вообще-то похмелялся сегодня? – спрашиваю ради интереса.
– У меня, Коля, на похмелье завсегда утресь имеется, но к часам двенадцати надо дозаправиться…
– Ну, так дозаправляйся, – говорю ему. – Бери сколько надо – и в магазин…
– А я, Коля, в кладовке у тебя бутылки видел, так лучше ты их мне дай, все равно сдавать не будешь. Гремит бутылками, переминается с ноги на ногу.
– Ты че, Миша?
– У тебя тута уыпить есть…
– Чего? – переспрашиваю, хорошо зная, что в кладовой спиртного не водится.
Вынимает на свет пузырек стеклоочистителя.
– Так ты, Миша, и это пьешь?..
– А я, Коля, усе пью: и это, и другое, и всякое…
– Здоровье у тебя, однако… – только и скажешь.
В Мишкиной натуре меня привлекали две особенности: умение преспокойно поглощать любую гадость и, собственно, пение или то, сходное с собачьим, завывание, в которое он, наверное, вкладывал и радость наступающего дня, и скорбь по отлетевшей очередной старушечьей душе, и удовлетворение от сознания, что в «Раймаге» не убывают флакушки.
Но если с первым было проще, то второе для меня по сей день – неразгаданная тайна, подобная стертому тексту на древнем манускрипте. Хотя… я однажды сделал попытку понять…
В то время в моей квартире-клети водился не бог весть какой магнитофонишко. Включал его нечасто, больше для форсу, если заглянет какой-нибудь способный удивляться знакомый. Вообще же, признаюсь, люблю в вечерние часы тишину и спокойные, располагающие к размышлению минуты.
В общем, зазвал я как-то в такой вот тихий вечерний час своего соседа Мишку Мордву с мыслью попробовать склонить его спеть на заказ, а песню его записать на магнитофон.
Помню, что поначалу я говорил что-то там о его «голосовых данных», о том, что всегда внимательно слушаю Мишкино «удивительное» пение, – нес, в общем, чушь изрядную.
Уж не знаю, польстила ли моя околесица Мишкиному самолюбию, но оборвал он ее прозаично, сказав, что нынче «не в хворме» и ему требуется малость «уыпить».
– Так нету у меня, – говорю.
– А диколон?
– «Шипр», что ли?..
– Он, – как-то виновато подтвердил Мишка, из чего я заключил, что Мордва давно положил глаз на мой «Шипр», да, видно, не знал, как подступиться.
Ради такого дела я не стал сопротивляться и вынес ему требуемое. Мишка встал со стула, сунул одеколон в карман и собрался уйти.
– Ты куда это? – чуть не подпрыгнул я.
– Невдобно здеся? – замялся тот.
– Пей здесь, – настоял я, обдумывая между тем, какую похуже посудину выдать для питья, а заодно и что поставить закусить.
– А я, Коля, посуду завсегда при себе держу и закусь тож, – опередил мои хлопоты Мишка.
«Посудой» оказалась туго заткнутая мятым обрывком газеты толстостенная рюмка, которую он вынул из кармана телогрейки, из другого – конфетину в затасканной обертке и чесночину.
Процедуру подготовки к питью проделывал не спеша, как не спеша растапливал бы печь, причем давая пояснения каждому своему действию. Слушать, а тем более смотреть на него желания не было, и я отправился в другую комнату за магнитофоном.
…Пятнадцать лет минуло, тысячи солнц и лун поднимались на все тот же зависший над моим городом небосклон, а в памяти так и не поблекло Мишкино пение.
Он стоял посреди комнаты – босой, без шапки, в распахнутой на груди телогрейке, под которой, кроме затасканной серо-синей майки, ничего не было, стоял, отвернув в сторону голову, на которой топорщились смятые шапкой волосы, и невыразимо трудно, даже неестественно трудно, давил из пропасти своего нутра совершенно дикие, недоступные восприятию звуки. И эти нечеловеческие звуки он то поднимал до хриплых высот, то опускал до глухого сипенья. Как я ни вслушивался, как ни ловил глазами его пересохшие губы – не мог разобрать ни единого слова.
Но подлинное чудо Мишкиного пения было в том, что начало казаться мне, будто едва различимыми миражами проносятся по беленым стенам моей квартиры очертания и гор, и лесов дремучих, и будто кони скачут с всадниками на крутых спинах, и колеблется земля от их топота, и дикий ужас вползает в душу…
И в какой-то момент Мишкиного пения, когда по моему телу прошла дрожь, понял я, что надо кончать эту запредельную жуть, иначе может произойти что-то непоправимое. Я вскочил со стула и выкрикнул то ли слово, то ли нечленораздельный звук – отчаянный и страшный.
И, к ужасу своему, услышал крик ответный, будто Мордва затевал со мной некую игру, некую непонятную мне перекличку. А может, крик был продолжением этой его, с позволения сказать, «песни»? – о чем я не мог сказать определенно тогда, чего не понимаю и теперь.
Он стоял так же посреди комнаты и так же, отвернув в сторону голову, но характер пения сменился, и я вдруг почувствовал, как расслабляются мышцы моего тела, как место распиравшего меня ужаса занимает печаль – светлая и тягучая, как конфетина.
Голос его уже дрожал, прерывался звуками, похожими на всхлипы, а сама песня напоминала колыбельную, хотя по-прежнему не имела даже подобия мелодии.
Меня самого внутри будто перевернуло и направило в другую сторону – прямо противоположную той, где только что был. Я весь перенесся во власть воспоминаний о моем собственном детстве: сладко думалось о рано умершем отце, о его многотрудной жизни среди железин и деревяшек, с чем он вставал засветло и ложился затемно, чтобы у нас – его ребятишек – были дом, огород, корова в стайке и твердый кусок хлеба на столе. Я вспоминал свою бабушку, ее ватрушки и пампушки, пироги и блины, ее ворчание и заботу. Я вспоминал соседских отцовых сверстников – все они побывали на войне и все покинули земную юдоль по причине полученных на войне ранений – до срока и почти всегда скоропостижно.
Такую же светлую печаль переживал, видно, и Мордва, у которого, конечно же, были мать и отец, братья и сестры. Протяжные звуки его песни сменялись бормотанием с едва заметными по протяженности остановками, и мне казалось: то ли просил он кого-то о чем-то, то ли пересказывал собственную судьбу, то ли благодарил кого-то, то ли требовал забыть сам факт его собственного рождения.
А на смену этой светлой печали уже приходила усталость – нельзя человеку долго жить и в горе, и в радости, и в любви, и в печали, как нельзя быть на небе только солнцу или только луне. От зноя устаешь, как и от мороза. Устал и Мишка. И когда «дозаправился» и дожевывал вынутую из кармана затасканную чесночину, я не нашел ничего умнее, как наивно спросить:
– А что это, Миша, за песни, которые ты пел?
– Та, что наперед была, та, Коля, от отца. Та, что опосля была, та от матери.
– Родители-то давно померли?
– Не знаю: как отца на войну взяли, так и мать сгинула. Я маленький был, а сестра постарше – в детдоме росли.
– Так у тебя и сестра есть: где же она?
– Недалеко отселева – в Афанасьеве живет.
Деревню эту я знал, она действительно была недалеко – в девяти километрах от города.
– Так ты у нее бываешь? – спрашивал уже заинтересованно.
– Ага, – отвечал охотно. – Кажин праздник. Живет она хорошо, и мужик у ей хороший – трактористом работает. Тверезый. Как приеду – сестра рада, баню стопит, дик… бутылочку на стол…
– Ездишь-то трезвый? – спросил я, может быть, не к месту.
– Не-е-е. Без диколона во мне жись протекает без задержки.
– Как это?..
– А мне тада усе усе равно – ниче не надо: ни супу, ни работы, ни сестры. Как дозаправлюсь, так и еду в Афанасьеву.
– И не ругает она тебя за «дозаправку»?
– Она мне усякому рада…
– А песни твои она любит слушать? – подобрался я к главному.
– Не, Коля, она тада плачет и капли пьет – дозаправляется значит, тока на свой манер.
Не знаю, сколько бы продолжался наш с ним разговор и, может быть, добрался бы я до сути, но тут в двери моей квартиры-клети постучали, и в свете от лампочки предстала одна из живущих здесь же старух – требовался Мишка.
– Че тебе, Власьевна? – по-хозяйски шагнул он навстречу. – Кака така пранблема?..
– Ой, Мишенька, – запричитала старушонка, – с Наташкой-то вроде че-то неладное случилоси-и… Я стучу, а она не открывает, а в кути свет горит и, видно, как она в комнатке грудью на столе лежит, може, неживая уже…
– Дак, я ж ее вечор видел пьяненькую – Верку свою матюгами поминала, сердешная…
– Э-э-э, Мишенька, не пришлось бы Веркин-то адрес искать да телеграмму бить – говорю тебе, случилось чегой-то…
– Ну и че?
– Она у меня была, и была в форме. И домой пошла. И мне наказывала прийти тиливизир смотреть, и вот я пришла, а она-то и лежит… Ты б, Мишенька, стеклинку-то вынул да залез в окошко-то, да отпер бы двери, да мы б вошли, да посмотрели бы…
– Ты уж, Мишенька… Мы уж тебе… – загудели-зашелестели за спиной Власьевны голоса, и я понял, что весь Бухенвальд здесь.
Все произошло так, как предугадали чуткие до чужой беды старухи. Эта самая Наталья, которую я называл теткой Натальей, проживала от меня через квартиру и была еще далеко не старой женщиной. Даже поговаривали, что Мордва похаживал к ней и задерживался нередко до утра, чем я, конечно, не интересовался и потому не слушал никаких бухенвальдских сплетен. Но лично мне покойная часто жаловалась на неблагодарность дочери, которую она подняла в одиночку, надрываясь на тяжелой работе на все той же «железке». Дочь то куда-то пропадала, то появлялась снова, и ругань их слышал весь Бухенвальд, к чему, разумеется, давно попривык. Попривык и я. Но к сознанию, что в твоей жизни уже не будет какого-то, пусть и не очень нужного тебе человека, привыкнуть невозможно, и эту тетку Наталью я помню по сей день.
Помню, как сновали старухи, как отыскали дочь покойной, как бедно и скорбно вынесли тело, и как тощим ручейком из местного люда отошла от барака похоронная процессия, хотя слово «процессия» никак не подходило к данному случаю и означало всего лишь «процесс» доставки умершей к месту вечного пребывания в земле.
Помню и лежащего после поминок на крыльце Мишку Мордву – босого, в серо-синей майке и, конечно, исполняющего свой сольный номер, которого, конечно, никто не слушал.
Не стал слушать и я, а спустя некоторое время съехал со своей квартиры-клети и вообще не был в городе долгое время.
Мишку не встречал, но буквально недавно один наш с ним общий знакомый сказал мне, что несколько лет назад Мордву случайно зарезали в пьяной драке.
Петро, Татьяна и гармонь
Петро заболел давно, месяцев восемь-десять назад. Никто, даже врачи, не брались определить, в чем его недуг. По привычке, покряхтывая, выбирался он за ворота, садился на лавочку и смотрел на дорогу, по которой много лет ходил сам. Завидев показавшуюся из-за поворота фигуру, приободрялся, начинал ерзать на месте, суетиться, морщины на его лице разглаживались, и, не вытерпев, слегка приподнимался со скамейки, кричал, сколько позволяли силы:
– Здоров, земеля!
И просил закурить.
Своих папирос у Петра никогда не было, и даже сейчас, в период болезни, баба его, Татьяна, то ли забывала купить, то ли из чисто женской мстительности просто не хотела.
Не могла она ему простить восьмерых детей-погодков, народившихся сразу после войны, не могла простить широкой, во всю голову, лысины, почему-то считая себя обманутой на всю жизнь. Лысина эта была у Петра и тогда, когда он, комиссованный из армии по причине тяжелой контузии и потери большого пальца на правой руке, приехал к ней в деревню, пришел на вечерку и так ловко, залихватски наигрывал на гармони, что не заметила черноглазая девка, как оказалась прижатою к плетню. Не заметила, как стала невестою и что парень был в шляпе. И на свадьбе Петро умудрился быть в злополучном котелке, что, впрочем, в глазах деревенских ему (и ей тоже) придавало особый вес.
Пересказывая в который раз спустя много лет историю своего замужества, Татьяна всплескивала руками и восклицала:
– Отгуляли, снимает шляпу – батюшки! А он – лысый!..
Может, и преувеличивала Татьяна свою беду – не такой уж в то время Петро был худой мужик: здоровый, веселый, а что на гармони играть – поискать на всю округу. Зовут в каждый дом. Может, просто всегда казалось ей, что достойна она была какой-то другой участи – кто ж теперь скажет… И не потому ли тревоги, волнения их совместной с Петром жизни не отразились на внешнем облике женщины? По-прежнему соседские бабы и мужики бросали в след, как ей казалось, завистливо:
– Ты, Таня, не баба, а ягодка. Тебе впору опять замуж…
Ну, а правду сказать, мало ли чего требовало сердце, мало ли чего не могла забыть и простить одуревшему от водки и ревности мужику, хотя сам же Петро и таскал ее по гулянкам по всему району.
Правду надобно сказать и о том, как это было ее бабьему сердечку лестно войти наперед мужика в дом, где и хозяева, и гости заждались Петровой переливчатой гармошки. Что же до лысины, то видели ее люди разве до первых звуков, ну, а потом… Потом было нечто, от чего кружилась голова, чего не пересказать, не передать в песне. И раскланивалась направо и налево, и усаживалась поближе к переднему углу, и пригубливала чуть горькой, и на вопросы отвечала, и сама говаривала. И плыла павой по кругу, самыми кончиками пальцев удерживая за концы закинутый за голову платок.
И не эти ли мгновения бабьего торжества сберегли ее красивую, с примесью даже какого-то торжества, улыбку, блеск глаз, подъемность в меру полноватой фигуры?..
Петро же с годами старел на глазах, чернел лицом, светлел лысиной. Ходил он по улице не спеша, одинаково покряхтывая и в трезвости, и в похмелье. А выпил за свою жизнь Петро много. Отовсюду ехали, звали на гулянья, и ехал, держа под мышкой затасканную, засаленную, задерганную трехрядку, о которой ходили прямо легенды. И что заговоренная она, и что таившая в себе заложенный при изготовлении мастером секрет, и что секрет этот будто бы передан Петру в госпитале ее прежним умирающим хозяином.
Входил в дом, наклонив лысую голову, с выражением равнодушия на темном лице, садился в отведенном для них с Татьяной почетном месте. После двух-трех стопок шел покурить. И когда уж запаленная горячительным публика в нетерпеливой нервности своей готова была то ли просить униженно, то ли брать за грудки не спешившего веселить народ музыканта, протягивал руки к стоявшей поблизости гармони.
Никто никогда не просил Петра сыграть «ту» или «эту» мелодию. Никто никогда и не пытался постичь репертуар самородного «маэстро», и потому, видимо, все так происходило, что репертуар его сливался в единый, с редкими остановками наигрыш, способный удовлетворить все наличествовавшие на гулянках вкусы. И тайна эта, способная заставить поднимать и опускать в нужном ритме то одну ногу, то другую, заставить руками выделывать немыслимые фокусы, а глотками выкрикивать разные разности, вполне была в его власти.
И сам он и притоптывал, и выкрикивал, и подпрыгивал на табурете – именно табурет почему-то ставили Петру предусмотрительно, поскольку и спина Петра могла изогнуться в любую сторону, и сам он мог крутануться-вертануться так, что и до беды дожиться недолго. И всякие резкости в лице его размягчались, и всякие неправильности выпрямлялись, и даже несколько болтающихся длинных волосин на лысой голове, которыми он в обычной жизни тщился прикрыть голову, начинали казаться буйной порослью молодого, полного сил мужчины.
Униженным посчитал бы себя Петро, если бы кто в короткий передых между наигрышами подошел и попросил сыграть нечто определенное. Не вынесла бы его душа такого падения, ибо не было для него выше задачи – угадать, прочесть в носившемся в воздухе общем настрое людей, что требуется на данный момент. И не было с его стороны ошибки на этот счет, и никогда бы не признал за собой подобной ошибки, кроме разве одной – как мог позволить случаю на той дурацкой войне сделать из руки своей калеку, чего не дано было ему забыть в его исключительном положении музыканта.
И все в доме ходило ходуном. И все перемещалось и передвигалось. И все гудело, смеялось, рыдало. И только одна Татьяна знала, когда Петро истощал запас своих сил, подходила, трогала за плечо:
– Петь, а Петь, пойдем, милый, домой, хватит уже…
– Что?! – ворочал глазами, не узнавая супругу. – Ты кто?.. Уйди-и-и-и…
– Вот опять мне всю ноченьку не спать, – будто обращалась Татьяна за помощью к окружающим и притворно вздыхала: – Возись теперь с ним до утра…
Гармонь больше не держалась на коленках, валилась на бок, хрипела мехами и голосами жалобно и нестройно. И вела Татьяна Петра натужно, по-бабьи неловко держа инструмент под мышкой, – до указанной кровати ли, двери ли, к какому одному месту.
На деревне давно судачили – выживет ли Петро. Старики прикидывали, чья очередь помирать, и в первую голову называли его. Но проходило время, и в назначенный судьбой день тянулась вереница людей проститься с покойным совсем в другую избу. И постепенно отвыкли от мысли, что Петро может так быстро покинуть сей бренный мир. По-прежнему приходили и просили поиграть. И не отказывал, но приходил, куда поблизости. Вот только выпивал меньше, чем в прежние времена.
– Живуч, скобарь, – почему-то Петра издавна называли скобарем, – выкарабкается…
Но сам он чувствовал – силы уходят. И однажды утром, покряхтывая по своему обыкновению, сказал Татьяне:
– Ты бы вот что: написала бы детям, чтобы приехали, – и как-то отчужденно, долгим взглядом посмотрел в окно, и ни на что-нибудь, а на печную трубу дома, где жил сосед. Труба эта служила ему вроде флюгера: если слегка заваливалась вправо, то ветер с севера; если заваливалась влево, то ветер с юга. Словно отсчитывала его срок на земле – от ветра до ветра, – и сам он не мог понять, отчего простая печная труба так притягивала взгляд, тяготила душу.
– Ты это что, Петя? – заволновалась хозяйка, но, взглянув в глаза друг другу, оба тут же поняли – уже ничего не надо скрывать ни от себя самого, ни от людей. И не осталось в душе Петра и следа желаний – более не хотелось ничего: ни есть, ни пить, ни жить. Лежал на диване, пока Татьяна была на работе, лишь изредка добираясь до стульчика возле печки – покурить. Вернее, дыхнуть табачного воздуха, забыться на некоторое мгновение с опущенной на колено беспалой рукой.
Из обморочного состояния выводил иногда их с Татьяной первенец Толька, не понимающий своей хмельной башкой, чего это батя застыл в одной позе, будто неживой. Тянул во двор, за ворота, что-то рассказывал. И вроде отвечал Петро непутевому, вроде язык повиновался ему, вроде оживал, однако вернуться домой самостоятельно уже не хватало сил, а сын уходил по своим молодым делам легко и свободно, как когда-то ходил он сам. В дом мужика притягивала уже вернувшаяся с работы Татьяна.
Вот и на этот раз сидели они с Толькой на лавочке, во рту у обоих было по зажженной папиросе. Сентябрьское солнце силилось дообогреть начинающие усыхать деревья, траву, наземную поросль огородной овощи. Радовался теплу и Петро, словно в болезни его произошел перелом и он потихоньку возвращается к прежней жизни. Обогретый и обнадеженный, на удивление Тольке и себе, поднялся, поковылял до крыльца, в сенцы, толкнул двери избы. Так до тумбочки, где посеревшими от пыли мехами сиротой стояла гармонь.
Грустной, временами вовсе рыдающей песней «Про Таню» всхлипнула податливая на ласку подруга. И тихий, хриплый, идущий из самой утробы его голос сливался с голосом гармони в единый безысходный плач о том, как мачеха решила извести падчерицу. И как та, гадюка подлая, обманула чувства отца девицы красной… И как уготовила смерть лютую… И как полилась кровь алая на грудь непорочную, юную… И как упала, как шептала слова последние, прощальные… И как лежала во гробу во цветах белых, будто живая…
И сам Петро уже падал на пол, не осознавая того. Сам вытянулся, будто неживой. Сам лежал в забытьи, прижавшись спиной к тверди крашеных досок. И птицами белыми пролетали в памяти картины из его давнего прошлого.
… Вот он босоногим парнишкой сидит с удочкой на берегу речки Курзанки.
…Вот он с гармонью среди окруживших его однополчан.
…Вот он что-то говорит разбитной черноглазой девахе.
И дергались поочередно пальцы на руках, будто доигрывали известную только им мелодию жизни, каковая звучит в каждом человеке в его предсмертный час.
В белый туман перед разлипшимися веками обернулась последняя птица, и мало-помалу различили глаза лицо наклонившейся над ним Татьяны. Его подняли, положили на кровать, в губы вложили зажженную папиросу.
И еще одну ночь пережил Петро. А утром хлопнула входной дверью соседка Путиха, и Петро знал, что шепчутся о нем.
– Лежишь, скобарь? – донеслось до слуха.
– Лежу, скобариха, – внятно в тон соседке отозвался Петро.
– Сына в армию провожаю: придешь играть?
Хотел было так же в тон бабе ответить: мол, приду, жди, но вдруг обругал матерно. Отвернулся к стене и затих.
Навсегда.
Письмо
От кого-то слышал, будто Валя свой первый пинок от батьки получил еще тогда, когда пребывал во чреве матери. Пинок пьяного Василия пришелся будто бы как раз в голову, ведь не мог же в самом деле мужик знать, как там располагается плод их очередного с Евдокией замирения.
Было или не было – гадать не собираюсь, а вот сообщить, как одну из возможных версий относительно природы Валиной припадочности, – обязанным себя считаю.
Да… Но Бога в этом доме не знали: ни старые, ни средние, ни малые. Не видели каждодневно иконки в переднем углу. Никто не шептал душеспасительной молитвы.
А вот гармошка играла. Звонко так, переливчато, даже задиристо: тыры-пыры, тыры-пыры… Особливо в день получки. Шли Василий с Евдокией по улице медленной походкой, привалившись друг к дружке, и все знали – подались по магазинам и в доме будет праздник. Назад таким же манером будут двигаться часа через полтора, и у каждого в руке будет по сумке. Полной, конечно, – полной всякого добра, какого в прочих семьях никогда и не бывало. И радость придет в дом: с хлопотами хозяйки на кухне, с помягчевшими голосами родителей, с повлажневшими глазами ребятни, коей только по пальцам считать – наберется голов восемь.
И перепадет Вале, правда, лишнего сглотнуть все одно не дадут те, кто пошустрее, посообразительнее, помилее матке и батьке.
Помимо всяких сластей, копченостей и вяленостей праздник сей дополнит и бутылочка, может, две – никто ведь не заглядывает в сумки соседей. Выпьет Василий, небольшую стопочку примет Евдокия. Потом уже Василий снова примет, но уже в одиночестве, так как супруга на втором заходе ему не помощница. Мало пьет Дуся.
Примет и третью, и следующую, какая там по счету… И гармонь возьмет. И песнь споют: поначалу на два голоса, а потом уж хозяин – в гордом одиночестве, так как супруга приняла только одну стопочку, да и с той подтянула из вежливости, чем с веселья. Далее она сама знает, что может быть…
А бывает, почитай, одно и то же, только с вариациями. Как в игре на гармони: тыры-пыры, тыры-пыры…
Василий может упасть сразу и замертво, но это в наиредчайших случаях. Может поскандалить слегка, придравшись к какой-нибудь пустяковине. Возможен и такой вариант: просто подзовет «Дуську» и пихнет в грудь, сопроводив сей акт словом «сука». Но чаще – бегала от него супруга, начиная с кругов вокруг печки, набирая скорость в ограде, и уже по улице неслась, как по финишной прямой – до какой-нибудь заплотины, притаившись за которой пережидала бурю Васильева гнева.
Била в такие ночи Валю, трясла падучая, держали его браты, поштучно усевшись кто на руку, кто на ногу, а кто на хрустящую от хрипов грудь. В момент сей мог кто-то из них сосать конфетину, кто-то тянул у другого колбасину, кто-то смеялся очередной зловредной шутке над брательником, что пониже его года на два по метрическому свидетельству.
А Валя мычал, показывая невероятную силу, заставляя братов передвигаться задами на членах его молодого тела.
Улегалась дрожь, усмирялся и батька, умаявшийся, видно, на работе за день, а ходил он в свою хомутарку каждодневно, в каком бы похмельном состоянии ни пребывал, – надо же было чем-то, как-то содержать произведенную им же ораву.
Выбиралась и Евдокия, спокойно отряхивая замусоленный подол передника и возвращаясь в дом сгрести остатки еды после пира. Этими остатками кормила она свою пацанву на другой день, успевая меж делом обежать соседок, отдать долги. А через сутки после получки бежала по соседям опять, потому как в доме, кроме картошки и разве капусты, ничего больше не наблюдалось. На хлеб побиралась.
Пацанва росла не то чтобы злой, но и не доброй. По-своему любила родителей, друг дружку и даже припадочного Валю. Как щенки, когда на несколько зубастых ртов одна кость, и тут уж чья возьмет. Огородам соседским от них была такая напасть, что пострашнее нашествия антихриста. В деле обчистки огуречных грядок каждый был по-своему виртуоз. К примеру, такой способ был изобретен: ложись в начале парничка и катись боком… Попало под бочину нечто – это и есть огурец. Рви да скидывай напарнику, рви да скидывай… Скорость главное, а вот от парничка после такой обчистки оставались рожки да ножки…
Бежали к Евдокии соседки, жалились, отлично зная, кто побывал в их огородах.
– Витя, Миша, – тоненьким голоском увещевала пацанву матка, – не нада больше так делать…
Пацанва, разумеется, все слышала, отсиживаясь то на сеновале, то на чердаке, где уплетала ночную добычу. Маткины увещевания на нее не действовали: в лучшем случае иной давал себе труд огрызаться, мол, мы на «ихнем» огороде не были и «зря» на нас…
Евдокия разводила руками, пожимала плечами и всем своим видом выражала соседке сочувствие, однако никто и никогда не был из сынов наказан примерно.
В отношении воспитания детей, конечно, первую скрипку играла матка. В данном предмете главенствовало два основополагающих принципа: потакательство и безнаказанность. От батьки же все как один унаследовали превеликие способности к музыке. Играли на гармони, на гитаре, на чем придется. Дорастая до пушка над губой, ходили по улице с гитарой на плече, сидели на лавочке возле дома с гармонью на коленях.
Кроме Вали. Вале было дано меньше. Обделенный музыкально и всеми другими способностями, каким-то звериным чутьем с малых лет почувствовал, что спасение его и выручка в дальнейшей жизни может быть только ломовая работа. Рано почуяли это в нем и братья, переваливая на него всякую домашнюю заботу: колоть дрова, чистить в стайке, копать огород – таскать, переть, ломить, валить. Переделывал у себя, шел к соседям, где за те же расколотые дрова, хоть изредка, да ел сытно. Родители тому не препятствовали – все одним ртом меньше. Соседи жалели, понимая, что в родном гнезде ему достается последний и не самый сладкий пирог. Бывало, прикармливали и за так, из той же жалости, за безвредность парня, за обделенность, словно предвидя его будущую судьбу.
И пробежали один за другим годы, как скоро перебегает через дорогу гусиный ли, утиный ли выводок. Разъехались ставшие парнями пацаны, помер батька, а матка пошла за другого и захотела строить жизнь как бы наново, для чего перебралась в другую местность.
Вышел во взрослые мужики и Валя, оставшийся в родительском доме почти что один на один с дальним пьяным родственником, прилепившимся к возможности иметь крышу над головой да гарантированный немытый стакан, куда вливалась всякая гремучая жидкость – от обычной водки до какой-нибудь синявки. Бывало, плескал и Вале, хотя и побаивался, так как трясло в такие ночи Валю по три раза и подымался он утром весь в синяках и ссадинах, словно нещадно битый угарной хулиганьей ватагой.
Но чем меньше помнили о нем разлетевшиеся братья и хоть та же матка, тем больше жалели Валю состарившиеся соседи. Шел он, измученный лихоманкой, то к одной, то к другой, и садили его за стол, кормили чем могли, совали в руки кусок сала, полбуханки хлеба, пару какую-нибудь тех же огурцов или банку капусты. И нес он все это добро, обняв сильными, привыкшими ко всякой работе руками к самой своей измученной хрипами груди, чтобы перележать день-другой немочь на давно никем не стиранном тряпье, слежавшемся комками на давно продавленной до пола кровати. И ворочалась, видно, мысль его в одном направлении – об устроившихся где-то братьях и о бросившей его матке, о лежащем в забытости отце на недальнем сельском кладбище, куда собирался раз в год вместе с соседками в родительский день проповедовать, посидеть и погоревать.
И получалось, что в неправильности надругавшейся над ним судьбы воспитался он в человека правильного, даже полезного хоть тем же братьям, соседкам, тому же государственному устройству, у корыта которого не слыл паразитом. Братьям не заступил дороги, матке не помешал, соседкам подмогал в их вечной старушечьей беде, когда мужики перемерли заранее, а силы истощило время. Проведывали они его, выручали чем могли, а надо было – просили подмочь, и ровными поленницами укладывались переколотые Валей дровишки, выпрямлялся повалившийся было заплот, заводилась в хате фляга-другая воды, за которой в иной день недоставало сил съездить до недальней колонки.
Топтался у двери, исполнив просьбу, давая уговорить себя испить чаю. Сидел на краешке табуретки, сопел над дымящейся кружкой, глотал чего поставили, не торопясь отвечал как мог на поставленные вопросы.
– Матка-то пишет?
– Не… Посылку прислала…
– И че в ей? – не отставала старушка, отлично ведая, что никакой посылки не было и про то Валя врет.
– Банка малинового варенья, сало, печенье, халва. Мужик называл то, чего едал в жизни мало и чего просила душа.
– …Колбаса копченая, сыр…
– И много-сь?
– Еле приволок с почты, – врал Валя и в таком безобидном вранье просиживал не один час.
Может, раз в год чего и присылала, ведь не могла же матка напрочь отринуть выношенное под сердцем дитя. И тут я не могу душой кривить, коль не знаю наверняка. Но старушкам ведома была тайная суть во всей наготе и неприкрытости. И вот в чем она…
Месяца на два-три, а то и больше принимал управотделением Валю скотником на баз, где воротил он всякую работу до очередного публичного падения под копыта коровенок, после чего, понятно, высвобождали, так как пугались ответственности за жизнь мужика. Отхрипит в навозе и мокроте, оттаращит выпученными остекленевшими глазами – и гуляй, Валя, живи подаянием. Вот и говорю, что в те дни, когда воротил жерновами рук своих мозолистых – выбрасывал, выскабливал и выметал испражнения копытных, тогда чаще всего едой его была кружка молозива и кусок хлеба. Молозиво черпал прямо из стоявшего сбоку от входа в коровнике сваренного из железных листов короба, где плавали мякина, ломтик навоза, островки какого-нибудь корма. Сдвинет тыльной стороной руки, а то и подует, придвинув образ вплотную к содержимому, и зачерпнет… Хлеб же тоже чаще приносили жалостливые доярки, иной раз откуда-нибудь со стороны, со слезами на глазах наблюдавшие сию трапезу…
А когда освобождали после припадка от должности, перебирался в котельную, если была зима, где устраивался в черном простенке на широченной доске меж кирпичным обеленным боком огнедышащей махины и холодной бетонной стеной. Тут уж кормился щедротами кочегаров, и трапеза его состояла из завернутых в промасленную газетную бумагу вместе – кусочков резаного сала, хвоста селедки, луковицы да присушенного хлебца. Все оставшиеся крохи от закуси забредавшего сюда «поквасить» водочки мужичья, которые искали тепла не только душе, но и телу, а лучше места, чем котельная, найти было нельзя. Мужичье вкупе с кочегаром – «квасило», Валя пер кочегарову работенку.
Летом – подавался на поденщину: окучивал или копал картошку, рыл ямки под новые заплоты, помогал пастухам.
И еще одно было его постоянным делом – омовение покойников и копание могил. Как всегда, за жратву. Тут без него обойтись никак не могли, и Валя шел безгласно, надеюсь, смутно осознавая свой долг перед сиротством отрешенных от мира живых, и потому бесконечно одиноких покойников. А может, и себя, сироту, отождествлял с ними?
Я иногда думаю, что Валя, быть может, об устройстве этого поганого мира знал больше, чем свора так называемых «нормальных» подлецов, к которым принадлежу и сам. И был терпелив до кротости, мужественен до беззаветности, снисходителен до юродивости. Кто ж теперь скажет… Однако ж давно известно – юродивый ближе стоит к Богу.
И еще промаячило какое-то время. В собственной неустроенности мотался я по ближним и дальним местностям, возвращался на малую милую родину, заходил к ближней к Валиному родовому гнезду старушке Ароновне порасспросить.
Зашел и на днях, приготовив себя к принятию чая, тонких желтых блинов, какие умела стряпать только эта добрая женщина, да послушать, потому как знал, что Валя месяцев шесть-семь назад уехал с маткой (увезла-таки Дуся кинутого на произвол судьбы сына!). Знал и то, что Валя будет тосковать, как бы ему ни было хорошо или плохо возле матки, и что-нибудь да сообщит старушонкам о себе.
Пил чай из потертой кружки, макал в блюдце с растопленным кусочком сливочного масла блины, и все не решался спросить, будто предчувствуя неладное. Но спрашивать надо было, и язык наконец проворочал во рту заготовленное.
– И чё это я, – засуетилась Ароновна. – Письмецо под клеенкой, где ты сидишь…
Поднял клеенку – и точно, лежало под ней промасленное письмецо, что даже пропечатались на лицевой стороне слова стороны обратной.
Читать было можно, и я глянул в повлажневшие глаза Ароновны.
– Читай, – проохала она, – после скажешь, как сам понимаешь… Ох, ха, ха, ха…
Письмецо было написано не к одной Ароновне, а ко всем соседкам, и начиналось с обычного приветствия с перечислением всех имен и фамилий, что я сразу пропустил, перескочив на строчки пониже. Дословно, конечно, не помню, но кое-что в памяти осталось как бы отдельными блоками того корявого повествования.
В первой части после имен и фамилий шел рассказ о том, как Евдокия хорошо живет с новым мужем и какая она замечательная хозяйка, сумевшая напоследок лет устроить свою «жись». Мужик у нее и «здоровый», и «молодец», и ее «уважат». Сама она, понятно, и «домовница», и «огородница», и «угодна мужику».
– Бес ей в ребро, Дуське-то, – по-своему прокомментировала Ароновна эту половину письма. – Ишь, в «ягодки» вышла под старость лет, пидхилимка проклятая…
Дальше шел разговор о ее «жисти» с «Васенькой», которого она помнит как «врага», но все одно «жалет» и «всей душой рвется к нему на могилку».
– Вить, када приезжала, толстозадая, – ярилась Ароновна, – даже не нашла времечка сходить на кладбище. А чем Василий-то ее был никуда негодящий мужчина? Таку ораву кормил и ее, толстозадую, содержал, она-тось производства и не знала! Поломила бы, как я, под кулями походила да под коровенками посидела, за сиськи подергала, када их двадцать штук, – не молодилась бы, не красовалась!
Еще пониже сообщала Евдокия цены на хлеб, колбасу, сахар и прочее, и выходило, что живет она чуть ли не в другом государстве, где «жись» дешевле дешевого, а сама она как «сыр в масле катается».
– Забыла, така-сяка, как на хлеб собирала по улице, – вскипала еще больше Ароновна. – Детки-то все в ее, ни един не прислал брату свому горемычному каку десятку…
Ароновна всхлипнула, а я попридержал чтение, и мне вдруг, попирая всякое отношение к возрасту писавшей, захотелось воскликнуть нечто вроде: «Во Дуська дает!» Но я спохватился, вспомнив, что «Дуська» немногим помладше сидящей против меня Ароновны, и сказать так – значило обидеть хлебосольную старушку. Да и не только ее, а многих, кого знал с детства и кого бесконечно уважал за многотрудную, многотерпеливую жизнь со своими мужьями, которые и бивали, и гоняли их, и куражились над своими Богом данными половинами, уйдя до срока в сырую землю. И не потому, что износили себя за рюмками, а потому, что любили своих жен по-своему, принимая на себя большую тяжесть всякой работы. И дядя Вася был таковским – правым во всем и во всем же неправым. Правым, потому что честно исполнил свой мужской долг, отвоевав на войне, народив и вырастив детей. Неправым, потому что всю жизнь мучился тем, что не знал, как привести в соответствие желаемое с действительным. Желаемое – это чтобы работа приносила в семью достаток и чтобы достатком этим правильно распоряжались. Действительное – это то, что имел, не износив и единых приличных штанов. И не было того пинка, в котором обвиняли Василия досужие люди, – это я тоже понял вдруг, и никто не разубедит меня. Видимо, надо кому-то прострадать за всех. За всех отработать и за всех отмолиться. И не самого худшего выбирает Господь, ведь недаром же говорят, что могила чаще отверзает свое черное бездонное нутро для лучших из нас.
Раздумывая так, я уже почти машинально дочитывал последние строки Евдокииного письмеца:
«…А Валя мой – помер. Затрясла его падучая, запал язык и перекрыл дыхание кровиночке, о чем и спешу сообщить».
Поганое слово
Петро Васильевич был рад всякому человеку. Он говорил громко, смеялся ртом и глазами, усаживал поближе к свету, к столу, предлагал чаю, чего покрепче, наклонялся к гостю своим большим телом, разводил руками, и от того казалось, что тебя здесь ждали, тебе здесь будет и тепло, и сытно, и уютно, как бывает в доме родителей или уж очень близкой родни.
Петро Васильевич имел крупные черты лица, породистость которых не смогли стереть ни надвигающаяся старость, ни беспорядочный образ жизни, ни многолетнее частое питие крепленых напитков, заливаемых в соответствующее место стаканами, бутылками, трехлитровыми банками, ведрами. И вместе с этими гремучими жидкостями в определенное самой природой место он успевал забрасывать в себя столь же огромное количество разного съестного припаса, выставляемого на столе без какой-либо скупости, какого у него, кажется, никогда не убывало. Да он и трудился на потребу своего тела, не забывая, однако, и на людях побывать, и приятеля проповедовать, и новости последние послушать, и в теплые края выехать и куда еще. Он просто любил жизнь и любил пожить в ней широко, безоглядно, тратя добытую в поте лица копейку: в ресторане, с красивой женщиной, в кругу приятных ему собеседников и собутыльников.
Петро Васильевич был человеком сильным, и силы той с годами не убывало.
– Вот смотри, – показывал какому-нибудь знакомому язык, на котором соскочило что-то вроде чирья. – Есть не могу, а ем. В больницу не хочу, а поеду – пусть хоть вскроют.
И тут же начинал рассказывать, что последний раз обращался к врачам лет десять-двенадцать назад. Тогда из-за пустяка чуть не лишился ноги: шел однажды в подпитии до дому и споткнулся о бревнину.
– Я ж тяжелый, – почти кричал знакомому, – как плюхнулся, так и напоролся коленкой на бутылочное стекло. Распластал до кости. И ведь не лежал на койке, ходил до последнего. Потом вижу, что Томкины примочки не помогают, и подался в комплекс. Пришел к одному суслику в белом халатике на остреньких плечиках – тот даже рученьками всплеснул: нога синяя, толстенная, гною с пол-литровую банку. Побежал, позвал кого-то: смотрели и так, и эдак – головками качают, сокрушаются. Я и говорю им: «Чего, дражайшие, не видели ноги, что ли? Давайте, полосуйте, колите, мажьте, а мне болеть некогда, я еще не все дела на этом свете переделал…»
Знакомый верил, ахал, понимающе улыбался, о чем-то пытался рассказывать сам. Петро Васильевич стоял над ним, глядел немигающими глазами, как может только глядеть кошка на мышь, и видно было, что слушал вполуха, из вежливости. Постояв так некоторое время, совал знакомому свою большую пухлую руку и шел дальше.
Петро Васильевич любил ходить, особенно когда бывал с похмелья. Ходил в центр поселка, где были расположены все магазины, ларьки, небольшой базарчик, вокзал, клуб и где более всего собиралось народу. Чаще ходил со своей Томкой – женщиной роста невеликого, худощавого сложения и приятной наружности. К тому же помладше супруга лет на пятнадцать-двадцать. В дни таких выходов на люди держалась она к нему поближе и, видимо, чувствовала себя за ним как за каменной стеной.
Петро Васильевич останавливался у каждого прилавка, у каждого ларька, у каждой торговки на базарчике, где его хорошо знали и были радешеньки такому покупателю. В объемистую сумку ложились пучков десять луку, столько же редиски, килограммов пять свежих помидоров, куска два-три домашнего сала, какая-нибудь банка груздей или огурцов. В расположившейся неподалеку столовой находилось для него палка-две сырой колбасы, какую отпускали далеко не всякому, так как была она в большом дефиците. Отпускали, видимо, за то, что Петро Васильевич здесь же и угощался обедом, состоящим из двух порций щей, пяти гуляшей, пяти же глазуний, из десятка, а то и более беляшей и литров двух компота. Здесь же, в столовой, нередко удавалось прикупить филейного мяса говядины килограммов пять, а то и десять. Любую покупку или приобретение Петро Васильевич сопровождал шутками, рассказами о каких-то случаях из жизни и все это проделывал в полный голос, все это озвучивалось непосредственно и внушительно.
По возвращении домой Томка его не отходила от плиты, и бывало, что в тот же день Петра Васильевича приглашали на какую-нибудь свадьбу – поснимать (а был он фотографом), и возвращался в сильном подпитии, правда, всегда на своих ногах. А утром, испытывая всегдашнюю потребность подзаправиться, еще не продрав как следует глаза, кричал прямо с койки:
– Том, у нас там есть что-нибудь подкрепиться?
– Нету, – коротко отвечала недовольная его вчерашней пьянкой супруга.
– Да как «нету», мы же купили с тобой пять килограммов мяса?
Томка выбегала к нему из кухни и в дверях комнаты резко и зло подтверждала:
– Говорю тебе: не-е-ту! Ты вить, такой-сякой, ночью поднялся, полез в кастрюлю и все мясо съел – я его с вечера специально отварила – холодильник-то не работает, а у тебя все пьянка на уме!..
– А-а-а… – успокаивался Петро Васильевич. – Ладно. Приготовь хоть чаю: поднимусь и сходим в центр, прикупим чего-нибудь.
Вставал он легко, без свойственных выпивающим угрызений совести, что так же было подтверждением его сильной натуры. Петро Васильевич твердо знал: если и пьет, то на свои, трудом заработанные рублики. И Томка живет на то же. И ее дочь – чужая ему смазливая девчонка, которую он кормит, одевает, учит. Он никого не зажимает, ни в чем не отказывает, но и сам любит пожить всласть, как ему хочется – для того и трудится. Он легко раздает деньги соседям в долг, даже если те тяжелы на отдачу, потому у него нет проблем с народом, обитающим в пристанционном околотке. И каждый уважает в нем силу, щедрость, простоту в обращении с кем бы то ни было, потому и величают по имени-отчеству – Петро Васильевичем. Но особенно люб он одиноким старушкам, годящимся ему в матери. Эти почему-то называют его Петенькой, а почему – бог весть.
В ремесле своем Петро Васильевич достиг совершенства давно, еще в годы бурной кочевым образом жизни молодости, закончившейся где-то далеко за тридцатилетним рубежом. О том, что он был хорош собою, породист лицом, умен и уверен в собственных возможностях, говорила висевшая в доме на видном месте большая фотография, оформленная в незатейливое паспарту. Снимок был сделан мастерски, со всеми тонами и полутонами, голова на нем была в меру повернута, наклонена, на губах легкая улыбка, глаза освещены благожелательством, волосы подстрижены и уложены так, как это могут делать только настоящие мастера-парикмахеры, готовящие к какому-нибудь великосветскому рандеву знаменитых артистов – с налетом дозволенной в данном случае небрежности.
На фотографии Петру Васильевичу тридцать шесть лет, и всякий, кто останавливается напротив нее и пытается затем сравнить бумажный отпечаток с оригиналом, находит, что хозяин дома если и постарел, но благородного облика своего не растерял и вполне соответствует портрету.
Фотографией этой Петро Васильевич не то чтобы гордится или дорожит – другому снимку висеть на видном месте он просто бы не позволил. Его собственная профессиональная гордость не позволила бы.
А поснимать ему пришлось столько, что даже и представить невозможно. В больших пухлых руках Петра Васильевича побывали камеры почти всех существующих в мире фотографии систем и модификаций. Случалось так, что его обкрадывали, начисто вынеся, как есть, всю аппаратуру, а вместе с нею и одежду, деньги – все, что было с ним и при нем. В такие моменты он мог обойтись одним только объективом, какой угодно фотобумагой и скудным набором химикатов. Фотокамеру конструировал сам, изготовляя из подручных средств, сам же затем конструировал и фотоувеличитель. Дальнейшее было уже делом техники: договаривался с какой-нибудь школой или детским садом, снимал детишек, взрослых, печатал снимки и на вырученные деньги приобретал все заново, причем не гоняясь за дорогостоящим и редким, скорей наоборот, отдавая предпочтение сошедшему с производства, примитивному с точки зрения современных мастеров-выскочек. Последние лет десять, например, он пользовался камерой, изготовленной какой-то германской фирмой чуть ли еще не до революции, с выдвигающимся на потертой гармошечке объективом, и всячески ее нахваливал.
– Смотри, – говорил кому-нибудь своим неизменно громким голосом. – Этому аппарату лет пятьдесят-шестьдесят, а какой механизм? Какого качества оптика! Я его ни на какой, самый дорогой и современный, не променяю. Это мой кормилец и поилец – цены ему нет!
Тот, кому он показывал аппарат, смотрел, пытаясь разглядеть расхваливаемые достоинства камеры, кивал головой, чтобы не обидеть хозяина, и спешил перевести разговор в другое русло: достоинства чудо-техники, видно, мог оценить лишь равный Петру Васильевичу мастер, а такового рядом не было.
Не было равных Петру Васильевичу мастеров, хотя и гнал он в большей мере имевший в ходу у населения ширпотреб. Пришла цветная фотография – перешел на цветную. Требовались портреты умершей по старости или погибшей на войне родни – переснимал со старых пожелтевших фотографий и печатал, придавая им затем приличествующий портрету лоск и искусственную красивость. Заказывали съемку свадеб, похорон, юбилеев – и здесь он проявлял виртуозность мастера и люди на его снимках выходили яркими, живыми, нравящимися самим себе. Многие из тех, кого ему приходилось снимать, подивились бы, узнав, что весь материал для съемок и печатанья Петро Васильевич в огромных количествах приобретал в уцененных магазинах, скупая почти все, что завозилось, – пленку, фотобумагу, химикаты и тому подобное. Затем, в условиях домашней лаборатории, каковая у него всегда имелась, где бы ни жил, что-то рассчитывал, что-то сопоставлял, чего-то добавлял в приготовленные растворы, и продукция его отличалась неизменным блеском.
Бегло бросив взгляд на фотоработы коллег, он никого не хаял, никому ничего не советовал, никого ни с кем не равнял. Не за что было хаять и его, потому что никому не переступал дорогу, работая больше на периферии, куда не всякий поедет. Отсидев за фотоувеличителем полночи, досыпал в электричках, междугородних автобусах, где-нибудь на лавочке в ожидании попутной оказии.
Когда его спрашивали, как работается и есть ли клиентура, неизменно отвечал, что хорошо, желающих сняться на его век хватит.
Раза два на году Петро Васильевич выезжал из городка в другие области к давним приятелям – мастерам фотодела. Возвращался бодрым, в приподнятом настроении, с двумя-тремя бутылками водки в стареньком портфеле.
Томка от нечего делать успевала заготовить то ведро пельменей, то любимых мужем голубцов, а то и того и другого. Если Петро Васильевич задерживался на день-два, откровенно скучала, начиная по-бабски горевать. В такие минуты она могла взять рюмку – попросту запить. Он об этой ее слабости знал и старался не доводить бабу до крайности.
В дом заходил шумно, рассказывал о поездке с порога, и, пока вытаскивал свои толстые руки из видавшего виды некогда дорогого и элегантного демисезонного пальто, она уже собирала на стол чего получше, ставила стаканы под спиртное, так как другой посуды Петро Васильевич не признавал.
– Я ему говорю: «Ты, Вася, лентяй, лодырь. С такой аппаратурой, как у тебя, только артистов снимать или членов правительства. Твои снимки только на памятники лепить. Человек на фотографии должен быть одновременно и живым, и красивым, даже если не вышел рылом». «Приезжай, – говорит, – занимай мое место, работай, а я устал – буду на даче с женой помидоры выращивать». Щеголь! Отрастил космы, бороду, вальяжный такой, значительный, а того куражу, какой раньше был, когда мы с ним в Сочи целый цех развернули, уже нет и в помине. «Смотри на меня, – говорю, – мне полтинник с небольшим, а я вкуса к жизни не потерял, а уж я-то и поездил, и поработал – на десятерых хватит». И стал я ему, когда уж сидели за коньячком, рассказывать, как я-то работаю, – сидит, смеется, глаза таращит. «Ну, – говорит, – Василич, как был ты среди нас Паганини, так и остался. Уволь, – говорит, – меня от такой жизни, для нее, – говорит, – надо твое здоровье иметь».
Томка сидела напротив, слушала, отчего-то смущенно улыбалась, вставала, несла от печи то кастрюлю, то горшок, выкладывала на тарелки съестное.
Лаяла во дворе собака, вскакивали со своих лежанок две-три домашних псины, каковые всегда водились в этом доме, и на пороге появлялся кто-нибудь из соседей – шли на дармовые выпивку и закуску. Первым почти всегда нарисовывался старик Ерофеевич, на которого они с Томкой бросали дом, если доводилось вместе выезжать на съемки.
– А мы тут с Тамарой поджидали тебя, поджидали – нет Васильича. Уж не решил ли остаться да жениться в чужом городу? – лепетал, бегая увлажненными глазками по столу, старичишка.
– А-а-а, Ерофеич, проходи, дорогой, садись, рассказывай, – и спрашивал почти всегда об одном: – Ну как, дочитал свою Дерсу Узала? (Полуграмотный старик эту книжку мусолил последние года три.)
– А ты, знашь, Васильич, – лепетал Ерофеич, – ко мне вить иной раз соседка Дуська заходит, дак я ей седни, к примеру, толкую, – баба, ты, знашь, глупая, безграмотная: «Я, Дуся, иной раз цельную страницу сдую». Во как!
– Так дочитал или не дочитал? – продолжал допытываться Петро Васильевич, для которого появление и россказни старика были чем-то вроде концерта, где надо было и роль свою твердо знать, и не фальшивить в игре.
– Дак, Васильич, Дуська… – тянул свое Ерофеевич.
– Вот и женился бы на ней, и не мешала бы. Мне же Томка не мешает.
– Дак, Васильич, ты рази ее не знашь? – пучил глаза старик. – Она ж спокою потом не даст: и будет зудить, и будет гундеть: «Ты че лежишь? Ты че читашь?» Така жись начнется – не приведи господи!
– Нормальная жизнь начнется: трусы твои хоть будет кому постирать.
– Дак трусы-то она стирать и не хочет, – проговаривался наконец старик. – «Я, – говорит, – на свово настиралась, под старость лет еще об чужи сс… рук не мозолила…»
– А ты бы ко мне пришел да объяснил, да попросил посодействовать, и уж я бы ее уломал, – ишь, какая разборчивая! – подыгрывал Петро Васильевич.
– А посодействуй, мил человек, посодействуй! – просил Ерофеевич со слезой в голосе, успевший за разговором принять свою всегдашнюю норму – пару стопок (для него хозяйка вынимала из посудного шкапа видавшую виды рюмку на толстой ножке).
Во дворе лаяла собака, бежали к двери домашние псины, и Петро Васильевич поворачивался на стуле своим большим телом:
– Да не она ли идет, Дуська-то? – и косил глазом в сторону Ерофеевича, который в этот момент не знал, куда деваться.
– Точно она! – доканчивал старика Петро Васильевич. – Ишь, стучит каблучками: цок-цок, цок-цок…
– Дак не пускай ее, – уже просил Ерофеевич с самой настоящей слезой в голосе. – Она ж потом ни жить, ни читать не даст…
– И впрямь, – поднимался Петро Васильевич, – пойду выпровожу – в другой раз зайдет.
Выходил, вроде с кем-то строго разговаривал, да так, чтобы слышно было в доме, возвращался, садился на свое место, а минут через пять на пороге появлялся еще кто-нибудь из соседей, и игра пресекалась, и, смотря по человеку, разговор принимал иное направление.
Старые связи срабатывали: из поездок Петро Васильевич привозил пленку катушками, фотобумагу рулонами, химикаты – сколько мог унести. Однако он предпочитал приобретениям материальным – идеи.
– Ты знаешь, – говорил Томке, – они уже работают по европейским стандартам. Поднабили руку, подлецы. Но ничего, мы все это у себя внедрим, и будет не хуже, даже лучше – без особых затрат обойдемся.
Томка поджимала губы, что-то силилась сказать, а он махал рукой, что, видимо, означало одно: слушай да помалкивай – на готовом живешь.
Петро Васильевич запасался картоном, клеем, красками, чем-то еще, закупая, как обычно, что подешевле, и в считанные дни придумывал свою технологию. Работал без отдыха, ел мало, обходясь крепким чаем, – изготавливал образцы, которые потом ложились в портфель и вынимались для обозрения возможным клиентам.
– Ведь наши с тобой конкуренты почему проигрывают, – говорил все той же Томке. – Они одно и то же предлагают клиенту годами. Го-да-ми! А клиента не обманешь, ему надо постоянно подсовывать что-нибудь новое. К примеру, к юбилейной дате в честь Победы в прошлой войне в ходу были портреты погибших родственников, и мы их с тобой наклепали тысячи. И деньги взяли немалые. Теперь люди подзажились, телек смотрят и хотят переплюнуть друг друга, а мы тут как тут – пожалуйста: материалов затрачиваем на грош, а денежки выкладывайте не скупитесь… Другие мастера по нашим следам пойдут и, конечно, что-то снимут, да мы-то не дураки, мы опять что-нибудь эдакое придумаем – и шиш вам на постном масле!
Петро Васильевич медленно поднимал свою большую пухлую руку и сворачивал пальцы в кукиш, поднося его медленно к Томкиному носу, отчего у той вся кожа на спине холодела и начинали от холода постукивать зубы.
Томкино худощавое лицо при этом наливалось краснотой, от чего становилось коричневым, и она несвязно выдавливала:
– Ты че мне фигушку суешь, такой-сякой? Фигушки я твоей не видела, что ли?..
Петро Васильевич почти падал на нее, облапив за плечи, а вволю насмеявшись, примиряюще говорил:
– Собирай на стол, надо это дело обмыть.
Пока она орудовала на кухне, подходил то к одному окошку, то к другому – «обмывать» без собеседника не хотелось.
Собеседник (или собутыльник) нарисовывался как по заказу:
– Слышь, Том, – в такие минуты привычное «Томка» заменялось на уменьшительное «Том», – никак друг мой Петрович идет. Давненько его не видно было, давненько…
У Петра Васильевича в друзьях кого попало не водилось, хотя практической пользы от таких друзей было немного – он попросту ни от кого ничего не ожидал, давно приучившись надеяться только на собственные силы. Приходили к нему заслуженные пенсионеры, художники, мастера производства, журналисты, милиционеры. Приходили с удовольствием, отлично зная, что и стол будет, и беседа, и спать уложат, если ноги откажут служить, – в доме стояла аккуратно застеленная лишняя кровать.
Петро Васильевич мог поговорить о чем угодно, кроме разве что одного – фотографии. Не имел он привычки хвататься за фотоаппарат и пытаться сделать снимок на память. Не просили и гости, как никто, например, не просит милиционера арестовать его. Вольно или невольно, но каждый почему-то чувствовал в хозяине дома настоящего профессионала своего дела, а профессионалу мельтешить не положено – пусть решает сам, как ему поступить.
Конечно, кое-кому исключение делал, и это было знаком особого расположения к приятелю и членам его семьи.
Ритуал съемок обставлял по всем существующим в мире фотографии правилам: наезжал, прихватив с собой две-три фотокамеры, лампы подсветок, штатив и тому подобное. Заставлял соответствующе принарядиться, выбирал место съемок, шутил, делал несколько дублей. Проявив пленку, добивался затем самого высокого качества изображения на фотобумаге, оформлял в паспарту или как-то по-другому и вручал семейству приятеля торжественно, но просто, никак и ничем не подчеркивая собственных трудов, как будто дарил привезенную издалека безделушку.
Счастливое семейство вертело в руках портреты, дивилось красоте собственных изображений, хозяин спешил в магазин за поллитровкой, хозяйка гоношила стол.
В гостях Петро Васильевич ел и пил в меру – это также было одним из его жизненных правил, которые никогда не нарушал.
– Выпить и покушать в свое удовольствие, – говорил он Томке, – я и дома могу. На людях надо иметь голову светлую и ноги твердые – приобрести уважение людей есть самый тяжкий из всех трудов. Посмотри на меня: всю свою жизнь я жил там, где хотел, и жил так, как хотел, и всюду оставил по себе добрую память. Я никому не завидовал, но и никому не давал себя обойти. Я мог быть руководителем крупного цеха фотографии, но не захотел. Я мог бы печататься в самых толстых журналах, но мне это было ни к чему, потому что тогда бы я был одним из многих, даже если бы мои снимки признавались лучшими. Я хотел одного – воли, свободы выбора, независимости от чего-либо и от кого-либо. Я много раз терял все – аппаратуру, материалы, деньги, но всякий раз возрождался из ничего и снова становился тем, кто я есть, – мастером, для которого в его ремесле не осталось секретов. Скажу больше: начать с нуля, исхитриться вывернуться в, казалось бы, безнадежной ситуации – это и было для меня наградой за постигнутую науку жизни – сломать хребет обстоятельствам, судьбе, року, еще раз попытаться промерить собственные возможности и убедиться в тщетности этого занятия, потому что они не поддаются никаким промерам. Я – самодостаточный одиночка, который ни в ком не нуждается, как, наверное, никто не нуждается и во мне.
– А я? Во мне ты… нуждаешься? – глухо спрашивала Томка, и нельзя было понять, чего было больше в ее вопросе: растерянности, тоски, любопытства.
– Что – ты? – смотрел он на нее, будто впервые видел.
– Я ж с тобой живу?..
Петро Васильевич некоторое время смотрел на нее, имея сильное желание обругать, но успокаивался, махал рукой и жестом этим как бы ставил на место и себя, и Томку. Затем произносил то, что она слышала от него сотни, а может, и тысячи раз:
– Ты бы пошла, собрала на стол чего-нибудь, надо бы подкрепиться…
И она уходила на кухню, закрытая и для него, и для себя, и для той работы, которую выполняла все годы их совместной жизни, не смевшая, да и не умевшая даже помечтать о бабьем, чем жили в повседневности все, кого знала и кому завидовала втайне, но не имевшая сил для того, чтобы поставить себя в доме вровень с ним.
Ее женская история началась чуть ли не с рождения. А появилась она на свет от бродяжки-цыганки, зачатая изголодавшимся по женской ласке русским солдатиком, отправившимся после госпиталя на фронт в первой, самой трудной, половине войны и сгинувшим где-то на полях сражений. Кто он был, какой фамилии, из каких мест, не знала даже осчастливленная им цыганка – мать Томки, а уж про нее и речи нет. Ребенка цыганка бросила почти сразу, оставив в каком-то городишке на пороге детского дома, из которого перевели ее сначала в приют для малолеток, затем для детей постарше, а уж домучивалась в детдоме под Москвой, откуда сбежала с проходившим через городок табором.
Плохо было Томке в детских заведениях, не лучше довелось пожить и у цыган – полукровку нигде не принимали как свою. Когда достигла девичьей спелости, приглядистую падчерицу табора совратил молодой неженатый цыган, побрезговавший или не захотевший, однако, соединиться с ней по цыганскому обычаю, и пришлось ей учиться жить самостоятельно.
Без документов, с ребенком на руках, меняя города и веси Центральной России, бродила она без какой-либо цели, выживая то подаянием, то разовыми работами на полях колхозов, то примыкая на короткое время к цыганским колониям, то ночуя в отделениях милиции, откуда выпроваживали мать-одиночку охотнее всего, так как судить или садить Томку было пока не за что, а судьбы людские послевоенные были настолько запутанны и трагичны, что и суровые стражи порядка умели отличить человеческую неприкаянность от человеческой порочности.
Добрела она так-то до городка Алексино, где и нашла приют в домике поварихи Натальи Беспрозванных, жившей сиротски по причине гибели на войне мужа и трех сыновей. Наталья работала в единственной столовой общепита и пила горькую, правда, больше в одиночестве, хотя, конечно, люди о том ведали и сочувствовали ее вдовьей доле. Приняли и Томку, не мешая ей за еду для себя и дочери помогать в столовой. И может, со временем все бы устроилось, если бы благодетельница ее Наталья не приучила Томку к рюмке, и то, что прощалось своей, местной, не простилось пришлой, чужой, и через пару относительно благополучных годков пришлось покинуть ставший родным городок Алексино и уйти куда глаза глядят. Наталья Беспрозванных наладила ей тормозок на дорогу, не забыв вложить в него и поллитровку спотыкача, молча проводила до окраины и так же молча обняла молодуху на прощание, обронив сквозь слезы:
– Вот теперь мне и вовсе жить не за чем…
Недалеко от Москвы, в заштатном городке Серпухове, на не очень людном базарчике на нее – полукровку, полугражданку, полубродяжку, полуалкоголичку – и обратил внимание Петро Васильевич, посещавший это примечательное место с известной целью – закупить продуктов. Наблюдал он Томку то с цыганами, то с фронтовыми калеками, то с серпуховским жульем и однажды, тронув за плечо, обратился к ней в свойственной ему доброжелательной манере, в которой, однако, чувствовались и воля, и мужская уверенность в себе:
– Ты чья же будешь такая, черноглазая?
И, выждав короткую паузу, тут же, как бы за нее, стал отвечать:
– Ты, черноглазая, не цыганка, хотя есть в тебе кровь вечных бродяг. Ты никогда не имела постоянного жилья и никогда не знаешь, где будешь ночевать со своей дочерью. У тебя нет близких, друзей, кто бы тебе помог. Ты одинока и не устроена, и это тоже твоя жизнь. Ты не знаешь, где будешь завтра. Мне кажется, что у тебя даже нет документов. Ты выпиваешь, ты…
– А кто ты будешь, мил человек? – хриплым, низким голосом прервала она его. – Чё тебе-то надо? Тела моего надо? Поразвлечься захотелось, дак у меня есть помоложе тебя…
Хотела повернуться, уйти, но отчего-то продолжала стоять, вызывающе глядя снизу вверх прямо в глаза этому бог весть откуда взявшемуся мужику.
– Посмотри на меня, – говорил он с той же доброжелательностью в голосе. – Разве я похож на мужчину, который ищет себе утеху на базаре среди всякого сброда? Я в театр, в ресторан пойду, на море в теплые края поеду…
– Ну и катись!..
Томка ко времени их встречи уже успела поднабраться и наглости, и хамства – всего того, без чего в ее положении вечной бродяжки и не прожить, и не отбиться от такого же, как и она сама, бросового люда, от милиции, от разного рода воспитателей, благодетелей, опекунов. Она уже постигла науку улицы, ночлежек, притонов. Она могла добыть кусок хлеба, рюмку горькой, могла вцепиться в волосы торговке, могла впиться ногтями в морду какому-нибудь бродяге. Она и в эту минуту была готова на все.
– Ты слушай меня, – сказал он неожиданно твердо и строго. – Ты себе самой не нужна – это я понимаю, не один день наблюдаю за тобой. Но ты нужна вот ей, своей дочери, девочке, которая сейчас держится за твою юбку. Короче, мое предложение такое: мне нужен помощник или помощница. Будешь работать – выправлю тебе паспорт, прописку, сама обуешься, оденешься, дочь в школу пойдет. А там Бог даст – одумаешься, захочешь жить как человек, с мужчиной нормальным станешь ложиться в постель, а не с этим (брезгливо показал глазами в сторону) сбродом.
– Уж не с тобой ли? – дернулась более по привычке, и только тут впервые глаза ее глянули на него с откровенным интересом: породистое красивое лицо, крупное сильное тело, хорошо одет.
– Там видно будет, – как-то уж слишком небрежно отозвался на ее вопрос и протянул визитную карточку: – Читать-то умеешь?
Томка кивнула головой, почти машинально пробежав глазами по отпечатанным в типографии строчкам: имя, отчество, фамилия, фотоателье, улица, номер дома, телефон…
– Подумай и приходи в любое время… – Повернулся, пошел своей дорогой.
Думала Томка неделю, запивая свои сомнения то пивом, то вином, то водкой. Жалела, что рядом нет Натальи Беспрозванных – ей бы она открылась. Несчастную женщину эту вспоминала часто, как вспоминают мать. Она никогда не могла относиться к Наталье как к ровне – только как к старшей.
В последний день, перед тем как решиться, сидела пьяненькая в жидком скверике, глядела отстраненно на занятого своей игрой ребенка и будто услышала тихий тоскующий голос Натальи:
– Я, Томочка, мужика своего жалею сильно – во сне его вижу, иной раз и на постели чую. Но вот сыночков своих мне еще жальчее… Ежели б можно было, вытянула б из себя жилку за жилкой да свила б в веревочку, да кинула б конечик в их могилки, да потянула б оттелева, да глянула б на живых разочек… И протянула б ноженьки в спокое… И отошла б довольнехонькая заместо их в земельку сырую… Ты, Томочка, береги свою доченьку пуще глазу – в ней и жись, и любовь твоя на веки вечныи-и-ы…
Под фотоателье была приспособлена большая коммунальная квартира из четырех комнат. В первой принимали клиентов, во второй располагалась лаборатория, в третьей проживал фотомастер, а вот четвертая была вроде как лишняя: стоял в ней обитый дерматином диван, по другую стену – железная кровать. Здесь-то и указал Петро Васильевич место женщине:
– Ложись, отоспись, а я погляжу за ребенком…
Измученная и последними днями, и всей предыдущей жизнью, легла, как только он вышел, будто провалилась не то в сон, не то в забытье, не то еще куда, и не вставала ровно сутки. А встала – поняла, что в стойле: столько-то шагов туда, столько-то сюда – и кормушка – ешь не хочу вволю. В куреве не отказывалось, о питии – забудь. Стала выпивать потихонечку – некоторое время молчал. Осмелела – выговорил коротко, но твердо:
– Ты посмотри на меня: я тоже выпиваю, и мера моя – немереная. Но я знаю, когда, где и с кем. К тому же я – мужчина и мне это вроде как положено. Тебе – не положено! Не послушаешь – выгоню со двора, как собаку.
И добавил:
– Запомни!
К тому времени прожила у него Томка с дочерью с полгода и могла уже сравнивать свое прошлое бесправное положение с теперешним. Сравнивать не приходилось – как небо и земля.
У нее был паспорт с пропиской, у дочери – свидетельство о рождении, где значились имя Рада, отчество Петровна и фамилия Петра Васильевича. На сей счет он сказал:
– Тебе я свою фамилию дать не могу, поскольку ты мне никто, а вот ребенок не должен быть безродным, и пусть уж у него будут мои отчество и фамилия – мне это даже приятно: все ж хоть что-то на земле после меня останется.
Томка уже знала, что за человек этот Петро Васильевич, и не то чтобы побаивалась его – она вообще никого не боялась, но шутки шутить поостереглась бы.
Поступки его, поведение в отношении ее и Радочки не укладывались ни в какую логику прошлой Томкиной жизни. Спустя какую-нибудь неделю после с таким трудом давшегося ей решения он повел их обеих по магазинам и потратил кучу денег на одежду, обувь, игрушки, книжки.
Не склонял он ее и на сожительство, чего она ожидала в первую очередь и чему внутренне готова была противиться.
Повел в местный кинотеатр, и здесь довелось увидеть Петра Васильевича с неожиданной стороны.
«Киношник» – типичный для тех лет: окрашенные в синюю краску стены, ободранный дерматин кресел, а в двух-трех местах надорванный экран.
Показывали плохо: звук был слабый, будто рассчитанный на сидящих в первых рядах, пленка то и дело рвалась и в зале зажигался свет.
Томке было все равно, как показывают: в кинотеатрах она никогда доселе не бывала, потому сидела тихо, молча, дожидаясь возобновления сеанса.
Когда в очередной раз зажгли свет, Петро Васильевич поднялся, протиснулся между ногами зрителей и спинками стоящего перед ними ряда к проходу, и твердым шагом направился прямо к экрану, перед которым шагнул на невысокий приступок, и повернулся всем телом к залу. Пока он шел, глядела ему в спину с недоумением: с чего бы это он? Недоумение сменил испуг и снова мысль: а не собирается ли он выкинуть нечто такое, за что их попросту выставят из киношника? Но как только Петро Васильевич заговорил, оба этих вопроса вытеснил проснувшийся в Томке интерес: что-то сейчас будет?
А сказано было примерно следующее:
– Уважаемые товарищи! Все мы с вами здесь собравшиеся пришли в кинотеатр культурно отдохнуть после тяжелого трудового дня. Но вместо того, чтобы спокойно смотреть картину, вынуждены терпеть безответственное отношение к своим обязанностям работников этого учреждения, которое я бы даже не отнес к числу культурных. Скорее всего, к бескультурным. Поэтому я предлагаю вызвать сюда директора кинотеатра и высказать ему наше общественное порицание, а затем потребовать книгу жалоб и записать в ней наше единогласное отношение к подобному безобразию…
Во все глаза смотрела она на то, как он говорил, как двигались его губы, как осанисто и в то же время просто стоял на фоне большого, во всю стену, экрана и как бы заслонял его собой, будто сам был в размерах еще больше, шире и выше. И как напрягся зал, как загудел в одобрении. И как появился какой-то мужичонка, и забегал вокруг него, напоминая собой скорее собачонку, нежели человека.
До сего случая Томка пребывала в уверенности, что в сравнительно недолгой своей жизни нагляделась на всякое, но теперь вынуждена была признать: подобного видеть – не приходилось. Петро Васильевич играл людьми, как детскими побрякушками – спокойно, уверенно, с полным осознанием собственной мужской силы.
Шутить с ним она действительно поостереглась бы – мысль эта вошла в нее через только что приобретенный опыт прочно и навсегда.
Вошло в нее и чувство надежности этого, пока чужого ей, мужского плеча – вошло одновременно с пониманием, что он не бросит ее ни при каких обстоятельствах, в чем затем убеждалась неоднократно. Оттого и не перестала попивать украдкой, а он все молчал и молчал, несмотря на обещание выгнать, как паршивую собачонку. Но, видно, и его терпению пришел конец, и однажды обронил как бы в задумчивости:
– Не-ет, ты не Тамара Андреевна и даже не Тома… Ты – просто Томка: Томка – уличная девка, как это я себе представляю. Таких, как ты, ни доброта, ни уважительное отношение не исправляют, не поднимают над житейской мерзостью, не пробуждают чувство собственного достоинства. Таким, как ты, и на себя-то наплевать, а уж о тех, кто с вами рядом, и говорить-то не приходится… Не для меня – для дочери хотя бы старалась быть женщиной, которую было бы за что уважать…
– Это я-то уличная девка! – подскочила она на стуле. – Да я тебе, жирный кобель, сейчас всю твою морду исцарапаю – узнаешь тогда Томку – уличную девку! У-узна-аешь!..
– Сядь, – тихо, словно далекий выстрел, прозвучал его короткий приказ. И далее так же тихо: – Посмотри: разве похож я на кобеля, которому можно за просто так исцарапать морду? Я ведь горлышко твое перекушу, как соломинку, а головку твою непутевую выплюну в помойное ведро. Ты, дура, так и не поняла, что я тебя вместе с твоей дочерью – о ребенке, конечно, речь особая – из грязи произвел в князи. Я тебе дал все, чего ты не знала ни в детстве, ни в молодости, ни после, во всей твоей бродячей, никому ненужной жизни. И не для утех собственных, не для рабства и прозябания, а для нормального человеческого жития.
Петро Васильевич говорил, а Томке казалось, что в ее нутро вбивают сваи – бух, бух, бух, бух!.. И было ей по-настоящему больно – больно физически. И выла она без слез, скорчившаяся и раскачивающаяся вместе со стулом. И хотелось только одного: выпрыгнуть из себя самой, проломив головой потолок, крышу, улететь со свистом куда-нибудь в запределье.
Когда же очнулась, очухалась, отрезвела и выпрямилась, то Петра Васильевича в комнате не увидела, чему тут же ужаснулась еще больше, чем его тихому голосу, прозвучавшему как приговор: она теперь просто Томка.
«Томка – уличная девка или просто Томка?» – пронеслось в ее пробуждающемся сознании.
«Побежать, спросить?» – метались в замкнутом пространстве головы вопросы, натыкавшиеся на готовые ответы: «Просто – Томка, это же ясно. Уличную девку он давно бы выгнал…»
«Ко-обель… – думалось уже спустя некоторое время. – Кобелюга – все вы кобелюги поганые…»
Рука между тем нашарила спрятанную за тумбочкой бутылку, поднесла горлышко ко рту и вместе с разливающимся по всему телу приятным теплом явились и успокоительные мысли: «А, пошли вы все! Томка или Тамара Андреевна – не все ли равно».
Совместное проживание их после этого как будто бы не изменилось. Она оставалась хозяйкой в дому, продолжала помогать в его работе, и обращался-то он к ней, как и прежде, по-разному; однако спустя какое-то время в их доме появилась еще одна кровать, и она поняла, что как женщина ему больше не нужна.
И что-то хрустнуло внутри Томки. И отвалилось, как отваливается короста от больного места. И перестало беспокоить то, что заставляет любую женщину поддерживать в себе потребность быть красивой, желанной, единственной.
Да и желала ли она быть для него единственной – вопрос, никогда перед ней не стоявший, ибо до него и с ним она жила более инстинктами, нежели разумом или страстями. Она просто стала свободной от ответственности быть под стать ему, большому и сильному, жадному до работы и для жизни. Томка вдруг вспомнила как-то брошенное им, показавшееся обидным:
– Для меня ваш брат – женщины никогда большого значения не имели. Потому еще в молодости я с легким сердцем ушел от законной жены и заодно уж от дочери и не жалею. Денег, чтобы ее поднять, я высылал достаточно, и потому моя совесть спокойна. Для меня всегда было главным дело, работа – вот для чего, по моему мнению, и рождается человек.
В дальнейшем она убедилась в сущей правде сказанного как бы между прочим – скорее, для себя самого, чем для нее. Он много работал и немало получал за свои труды, но так же легко расставался с добытым в поте лица, чтобы снова напрячься и добыть еще больше. И снова – проесть, пропить, потратить на друзей, на вовсе случайных людей, на Томку, на Томкину дочь, на дочь собственную, которая давно уже была взрослой женщиной и проживала где-то далеко на южной окраине страны и которую он не видел лет двадцать.
Он никогда не считал денег, никогда не прятал их от Томки, и она не стремилась их иметь, потому что он не запрещал ей брать сколько нужно для дела. Если Томка запивала, что случалось в последние годы часто, он сам приносил спиртное, ставил на стол, говорил спокойно, не обращая внимания на ее похмельный вид, не изводя попреками, не напоминая о ее вчерашнем непотребном состоянии:
– Похмеляйся да поешь чего. Дня через два придется засесть в лаборатории, а фотодело перегара не любит. И ручки не должны дрожать…
И Томке становилось совестно, и она давала себе клятву бросить пить совсем. И некоторое время держалась. Но это время кончалось, как кончается день и подступает темень ночи. В темени ночи и жила.
Пока рядом была дочь, жизнь ее имела хоть какой-то смысл – было на кого покрикивать, с кого-то чего-то спрашивать, дочь выросла, засобиралась замуж и уехала в другой городок. Петро Васильевич и тут оказался Петром Васильевичем: купил молодым домик, одарил деньгами на обзаведение мебелью, хозяйством и тем как бы подтвердил свое отцовство – Рада принимала его ближе и сердечнее, чем родную мать, и у самой Томки это не вызывало протеста – было за что.
В отношении к дочери, видимо, сполна проявилась цыганская часть крови, ведь и ее тоже бросили, как выбрасывают ненужную в доме вещь, хотя в добропорядочном доме ненужных вещей не бывает.
В периоды просветлений, длившиеся иной раз до месяца и более, Томка наводила чистоту в доме, перестирывала все, что требовало стирки, готовила впрок еду, помогала Петру Васильевичу в работе и размышляла, устроившись на стульчике возле печки – это место она особенно любила за тепло и неприметность: Петро Васильевич передвигался шумно, размашисто и она ему не мешала, оставаясь как бы в стороне.
Будучи абсолютно безграмотной и не понимавшей, о чем порой говорил Петро Васильевич, спрашивала о непонятном редко, и потому вопросы ее звучали неожиданно, требуя основательных разъяснений. И он разъяснял пространно, с удовольствием. Так, однажды она спросила, что такое «Паганини»?
– Паганини? – рассмеялся Петро Васильевич на ее наивный вопрос. – Был, Тома, такой итальянский музыкант, скрипач или даже дьявол во плоти человеческой, который мог играть на одной струне так, будто играл на всех четырех, и публика стояла на ушах. Вот и во мне еще с юности зажглась такая страсть к фотоделу, что заслонила собой все другие дела на земле. Я просто горел жаждой экспериментаторства и постоянно придумывал какие-то свои растворы, какие-то свои методики, подходы к съемке и печатанью, что мог, наверное, если бы была в том нужда, изготавливать снимки на оберточной бумаге, в какую заворачивают колбасу. Я мог то, чего не могли и не понимали другие. Посмотри. Ты же видишь, на каком материале мы работаем. Люди выбрасывают, а мы поднимаем и делаем из ничего конфетки. Отсюда и спрос на нашу продукцию, и она, уверяю тебя, лучше по качеству любой той, какая выходит из фирменных лабораторий. Потому-то меня и называли Паганини. Я, по сути, изобрел свою таблицу Менделеева, свою технологию, и секреты мои умрут вместе со мной.
– Так научил бы кого-нибудь…
– Э-э-э… Тома, этому научить невозможно. Это можно только почувствовать через пальцы, постичь через глаза, через осмысление, через те же многочисленные эксперименты, какие невозможно проделать в той последовательности, в какой проделал я за многие и многие годы. Я, если хочешь, колдун своего дела, кудесник. Мои наговоры так же непостижимы для современных фотомастеров, как тексты древних тибетских манускриптов, что, впрочем, тебе ни о чем не говорит.
– Каких таких тибетских ману… ману… кри… тов? – продолжала вопрошать Томка.
– Э-э-э… Тома, – тянул, улыбаясь, Петро Васильевич, – такой экскурс в историю за один присест не сделаешь. Собери-ка подзаправиться, и давай поговорим…
Томка собирала, ставила на стол бутылку, стакан, бывало, что и себе рюмочку, и они просиживали иной раз целый вечер, и говорил Петро Васильевич увлекательно, сильно, не очень ей понятно, но глаза ее расширялись, голос начинал звучать по-женски мягко и глубоко, и в жизнь ее вдруг врывалось нечто красивое, крылатое, светлое, и рюмка перед ней оставалась нетронутой. И спала она в такую ночь, чуть всхлипывая носом, как спят в безмятежном детстве. И просыпалась утром с улыбкой на лице – потемневшем, со следами видимого увядания, несмотря на еще относительную бабью зрелость, когда еще хоть завтра можно идти заново замуж.
– Вот это я в тебе и люблю, – подводил итог Петро Васильевич. – В свои тридцать с небольшим ты наивна, как ребенок.
И как-то заметил в раздумчивости:
– Беда твоя, Тома, видимо, в том, что после рождения ты сразу шагнула во взрослую жизнь. Переход такой твою душу и искалечил…
Сказав слово, Петро Васильевич и не подозревал, насколько глубоко оно могло тронуть женщину: в ту ночь не знавшая слез Томка познала и это.
И в ней произошла перемена в отношении человека, с которым прожила более десятка лет: ей стали ненавистны атрибуты фотодела – пленки, ванночки, бутыли с растворами и тому подобное. Без видимой причины отказывалась ездить с Петром Васильевичем на съемки. Неохотно садилась к фотоувеличителю. Неинтересны стали его рассказы по следам поездок к друзьям.
А вернувшись однажды из очередного вояжа, Петро Васильевич нашел разгромленной свою лабораторию. Внимательно осмотревшись, понял, что это дело Томкиных рук.
Первое, о чем подумалось, – напилась.
Осмотревшись далее, внутренне вздрогнул: ушла насовсем. Мысль эту подтвердила недостача денег в жестяной банке из-под чая, где хранилась заначка.
Открыл холодильник, заглянул в кастрюли – все, как и прежде, заготовлено впрок. Сел в растерянности, не зная, что предпринять.
Во дворе залаяла собака – обрадовался: это Ерофеевич. Повернулся всем телом к двери, надеясь по лицу старика угадать, что же тут без него произошло.
– Тамара у тебя была? – спросил, не дожидаясь обычных приветствий и лепетаний Ерофеевича.
– Была, Петро Васильевич, была, – забормотал старик. – Вчерась заходила. Тверезая. «Передай, – наказывала, – что я ему больше не раба. Буду, – говорила, – теперича сама себе хозяйка…»
– Шалава она, а не хозяйка, – подытожил в сердцах Петро Васильевич. – Ша-ла-ва! Вот и весь мой сказ!
Пошел к двери, разделся, вернулся к холодильнику, потянулся к кастрюлям, вытянул из портфеля за горлышки пару бутылок водки.
– А мы с тобой, друг сердечный, будем гулять. Даже пировать…
Сидели они за столом долго: себе и Ерофеевичу Петро Васильевич наливал расчетливо – видно, как никогда дороги были ему и общество, и беседа со стариком. И тронутый вниманием Ерофеевич рассказывал о своей жизни – до войны, в войну и после нее. И думалось Петру Васильевичу, что людей-то он и не знает – только по фотографиям, по неживым изображениям.
«Сядьте так или сядьте эдак, поверните голову, улыбнитесь…»
Десятки тысяч изображений смазались в единое всечеловеческое месиво, каковым, собственно, и представлена его жизнь. И нет различаемого в том месиве лица – лица близкого человека, каковое должно быть подле каждого в отдельности индивидуума, и жизнь его будто вытянута в длинную серую дорогу. И он бежит по ней, чтобы однажды свалиться в смертельной усталости на каком-нибудь повороте, подъеме, спуске ли. И снесут его в сторону, дабы не мешал бежать другим. И закопают в землю, дабы глаза не мозолил. И забудут вскорости, дабы не отягчал памяти. Если не в этом поколении забудут, то в последующем…
Вот Ерофеевич. В войну сидел на брони, мантуля, как каторжный, в одном из поселков лесорубов в Присаянье, спуская по ледяным дорогам лес с тем, чтобы лес тот, уложенный штабелями на реке, вместе с ледоходом пошел вниз, к своему месту назначения. И шел с ним Ерофеевич – в ватнике, по пояс мокрый от воды и от собственной мочи. Заваливало его обрушивающимися штабелями, тонул промеж лесин в ледяной воде, глотал спирт, чтобы не замерзнуть или, по крайности, не простыть. Месяцами не был дома. Трех дочерей принесла ему безголосая и безответная русская баба, а сама утонула в обыкновенной кадке с водой – случай и рядовой, и непостижимый с точки зрения нормальной логики.
Петро Васильевич слушал и глядел на Ерофеевича глазами сострадательными. А ведь такие лица он видел – лица старшего поколения. Истинно русские. Подмалевывал и подмазывал. Высветлял и затемнял, добиваясь искусственной красивости, свойственной фотографическому изображению, или отображению внешнего неживого облика человека. Подгонял под стандарт, различая индивидуальные особенности. Стремился выделить эти особенности, чтобы представить человека на снимке как бы вживе. Торопился «гнать вал», доводя свое маленькое производство до промышленного размаха. А вот чтобы остановиться… о том подумалось невзначай, сейчас, в эту минуту и на этом месте, и мысль такая показалась нелепой, не втискивающейся во всегдашний ритм его жизни.
«Или все не так, как должно было быть, или надо жить, как жил, потому что изменить уже ничего нельзя, – обозначилось в его сознании. – Неужели уход бабы так его задел?.. Да нет же, и с ней, и без нее он оставался тем, кем был, и останется таким же, ведь подобную Томке женщину и воспринимать-то всерьез нельзя!..»
– Ты, Васильич, первый, кому я так-то повествую, – говорил между тем старик. – Вот читаю ту правильную книжку про Дерсу Узала – и вся моя жись перед глазами. И плачу иной раз. Я не кляну войну и чижолую работу на лесу, я тайгу-мать вспоминаю, вить, ежели б не она, тайга-то, и меня-то здеся с тобой не было, и войну-то не вытянули, и топтал бы немец землю нашенскую.
– Так, может, немец, он – ничего? – раззадоривал Ерофеевича Петро Васильевич. – У меня вон камера германская, так цены ей нет.
– Машины, Васильич, камеры разные они, может, делать и умеют, но жалости нашей не знают – это беда…
– В чем же беда?
– В том и беда, – продолжал философствовать старик. – Предположим, ты меня жалеть, – это я всегда чувствую и понимаю. И Дуська меня жалет, хоть и трусы мои стирать несогласная. И все мы жалем друг дружку, а в них того нетути. Они сами но себе, и кажный для себя в отдельности. Быдто есть люди, и нет их. Люди-то общей жалостью живы. Я вот схоронил свою разлюбезную – и быдто простыл душою-то. А тут один сусед пришел, принес кусок сала. Другой подтянулся – припер ведерко огурчиков. Соседка забежала – хлебца свежего каравай подкинула. Хотел я было запить, да народ не дал, обступил, говорит, мол, че-эт ты, Григорий, делашь-то: детки малые у тя, подымать надобно. А у немца не так: сдохни ты, сусед картошки горячей чашку не принесет…
– Откуда ж тебе знать-то про это?
– Видел я, как они промеж собой друг к дружке относились – военнопленные то есть. Начиная с сорок третьего нагнали их к нам эшелонами, так мерли как мухи. Мерли не от того, что кусать было нечего, а от того, что грызли друг дружку. Мы же их и разнимали, и откармливали – от себя отрывали. Русский, он завсегда жил жалостью…
– Любовью то есть к ближнему?
– Именно. И вера у нас така – любвиприимная…
– Какая-какая? – заинтересовался Петро Васильевич.
– Любовь принимающая то есть.
– А-а-а… Так ты, значит, верующий?
– Русский человек не может быть неверующим. Если не верит, то и не русский.
Разговорившись, Ерофеевич даже как бы расхрабрился. Даже тон его сделался как бы снисходительным, а в голосе зазвучали даже как бы наставительные нотки. Петру Васильевичу все это начинало нравиться, и он теребил старика дальше.
– Ну а Томка моя, что о ней-то думаешь?
– Томка твоя – хорошая, но пропащая. С тобой или без тебя – все одно пропащая. Не щас, так немного погодя бы ушла. Цыганская кровь в ней бродячая.
– Так она ж наполовину русская?
– Вот то-то, что наполовину. С энтой половиной ты и жил, а друга – завсегда далече от тебя пребывала…
«Поразительно, – думал Петро Васильевич. – А я-то, дурак, все про Дуську да про трусы…»
И он засмеялся громко, от души, и долго не мог успокоиться. Затем поднялся, пошел в лабораторию, откуда вышел с подсветками под мышкой, со штативом, с фотоаппаратом на шее.
Ерофеевич понял, что его собираются снимать, и повернулся на стуле, подбоченился, вскинул голову, застыл глазами.
– Ах, Ерофеич, ах, молодец! – чуть ли не застонал от удовольствия Петро Васильевич. – Так и сиди не двигайся, а я сейчас…
Засуетился, забегал; что-то вспыхнуло, что-то щелкнуло, что-то прожужжало, и съемки закончились.
– Ловко ты, Васильич, – умилился старик. – Тока и сказать, что мастер…
Видно, доволен был и хозяин. Пошел к шкапчику, поставил перед Ерофеевичем стакан. Налил водки. Сказал просто, как говорят хорошему товарищу, которого много лет не видели:
– Давай выпьем мою меру… А ночевать будешь у меня.
Они чокнулись, Петро Васильевич влил в себя горькую легко, будто воду. Ерофеевич тянул долго – долго затем отдыхивался. Быстро пьянел. И уже заплетающимся голосом лепетал:
– Я тебя, Васильич, жалел, не хотел говорить… Томка-то твоя еще добавила, мол, еще какой поганец выискалси-и-и… Эт про тебя-то: поганец…
– Наверно, Паганини? – догадался Петро Васильевич.
– Во-во, энто самое поганое слово…
Сироты
Баба Поля вставала рано. Привычка эта давняя, с детских лет, когда, оставшись без родителей, пошла по чужим людям – в няньки, стряпухи, в поле, стайку, в огород. Куда пошлют и где могли пригодиться ее руки.
Баба Поля женщина простая, проще не бывает. Соседки любят ее за трудолюбие, за безотказность, за трудную судьбу, хотя грешок за ней водится, и немалый, – выпивает. Однако дела при том не забывает – и о том ведомо соседкам. Достаточно взглянуть за покосившийся заплот ее огорода, где на грядках ни единой травиночки, зато есть все, что имеет всякая уважающая себя хозяйка: лучок, морковочка, свеколка, горошек, редечка, картошечка.
Из бедности она так и не выбилась, и дело здесь не в выпивке: при ее трудолюбии и на горькую хватало бы, – не задалась судьба.
Замуж пошла за мужика сурового, сильного, пошла, потому что он того захотел: сильному нужна была и хозяйка под стать – выносливая, работящая, безответная, и нажить бы им богатство, да погиб рано. Будучи лесником, угодил в лапы медведю – и нет мужа. Привезли его, сердечного, в санях, поплакала-поголосила – и рюмочку взяла. Все выдержала в жизни, а этого не смогла – не задалась судьба, и только!
Всякий, кто хоть раз глянул бы на руки бабы Поли, непременно подивился, а были они у нее воистину мужицкие: крупные, узловатые, с толстыми набухшими венами, какие бывают у тех, кто каждый день на тяжелой работе. Оно так и происходило: воротила уборщицей в конторе леспромхоза, рубила лед у водоразборной будки, ходила помогать соседям косить сено, копать картошку, да свои огород, стайка, дом, трое мальчишек и еще много чего…
Проживет свою копеечную зарплату – и по соседкам:
– Галя, милая, займи до получки десяточку, у средненького мово совсем штанишки изорвались, латать уж нечего. Прикуплю какого сатинчика да и сошью сама на руках – в школу вить голышом не пойдешь…
Галя, бывает, и выговорит: чего, мол, ты, милая, когда выпивать-то бросишь? В годах ведь, не к лицу тебе…
Бывает, и молча вынесет и подаст молча, хорошо зная, что Поля и вернет деньги вовремя, и по своей воле придет подмочь чего, не ожидая за это никакой платы.
А нет у Гали, так к Люсе или к Вале – всякая даст, потому что живут они здесь давно и вместе перемогают любую беду и любую радость.
За заботами каждодневными, а может, и за выпивкой незаметно подрастали сыновья, превращаясь в парней таких же сильных, каким был их отец: крупных в кости, уверенных в себе, но при этом небалованных, уважительных к старшим и по отношению к ней, к матери. Хоть и выпивала баба Поля, но голодными-холодными они у нее не ходили: во всякий день и во всякое время стояла в русской печи сковородка с жареной картошечкой – пусть даже на воде, а в кастрюльке старенькой покоилась горбушечка свежего хлебца. Да огурчик, да грибочек какой, да капустка квашеная. В избе бедно, но поразительно чисто и уютно – к тому сыновья, видно, и попривыкли, не требуя от матери того, чего она не могла им дать. Были они и обстираны, правда, до усов над губой носили одежку с аккуратно приштопанными заплатами то на коленках, то на локтях, то на каких других выступающих округлых частях молодого тела.
Потом один за другим повылетали из родного гнезда кто куда, но, опять же, все при специальности, при месте и при деле – ни один не пошел по кривой дорожке, не спился и не сгулялся, не позарился на чужое, не нанес какого вреда окружающему люду.
И оказалась баба Поля как бы ни при чем, как бы утратив смысл и направление своего земного бытия, когда не надо уже суетиться с раннего утра и до позднего вечера, гнуться на своей и на казенной работе. И положилась она на свою грошовую пенсию, перейдя на то, что подешевле и позабористей – на тройной одеколон, так как от привычки к спиртному отказаться уже не могла, да и не хотела. Соседкам же говорила так:
– Одеколончик тройной я пью, потому что животом маюсь чуть ли не сызмальства. Только им и спасаюсь, и ничегошеньки мне не надобно…
Соседки не спорили и не корили – было им, видно, все одно, что пьет и чем опохмеляется баба Поля, да и какая, в принципе, разница, если у самих то одна беда, то другая напасть, потому что у многих уже поумирали хозяева, а хозяйки глядели, куда бы приклонить голову – к дочке или к сыну или уж домучивать век свой в постылом одиночестве в хате, где так уютно жилось при живом муже и при малых еще детках.
А баба Поля не схотела прозябать в своей избе, неожиданно для всех продав ее за гроши и переселившись в общий барак, полный таких же, как и она, одиноких старух, у которых сыновья и дочери разъехались и разлетелись по городам и весям.
И поначалу ей даже нравилось такое житие под одной крышей в этом пансионате сиротства пристигнувшей старости, но прошел год, другой – и стала она горевать по брошенным своим углам да по привычному окружению людскому на родной ей улице, где и она знала каждого, и ее хорошо знали и принимали такой, какой и была.
Барак своим возрастом был чуть помладше бабы Поли – крепкий, собранный из толстенных бревен, сработанный мастерами, каких уже не найти. Перегороженный многими простенками, перенес он в своей деревянной жизни не одно внутреннее переустройство и переделку, которую затевали поселенцы соразмерно потребностям. Поначалу здесь ютилось столько народу, сколько умещается пчел в улье, и гудел он от людских голосов и страстей единым будничным аккордом, состоявшим из шипений поплывших через край варев из множества кастрюль, из шарканья множества ног, из хлопанья и скрипа множества дверей, из стука о края кадок множества ковшиков, из тиканья множества ходиков, а впоследствии – и рева множества тарелок-громкоговорителей, какие в первоначальную пору были еще в диковинку, и потому врубались на полную мощь.
В годы военные барак сотрясался от стенаний женских, происходивших от причин известных, но мало кому ведомых, кроме разве что его стен, поскольку никто не желал умножать всеобщую людскую скорбь публичностью собственных страданий.
В конце сороковых и в пятидесятые барак жил точно так же, как и его возвращенные к жизни поселенцы, – в радостной и хлопотливой безоглядности, когда впереди все новое – и вера, и надежда, и любовь. Но оказалось, что все новое и волнительное было отведено исключительно проживавшим в нем человекам, а вот ему отводилась роль перевалочного постоялого пункта со всеми вытекающими отсюда последствиями: печей никто не перекладывал, полов не перебирал, стен не подштукатуривал, оконных подушек не менял, электропроводок не чинил. Все силы и надежды вкладывали люди в дома, которые в те годы вырастали, как грибы, образуя новые улицы и даже целые отдельные поселки.
Еще одна волна поселенцев – пришлые из чужих сторон люди, которым некуда было податься и которых никто нигде не ждал. Эти поселялись надолго и переделывать начинали многое: убирали ненужные им перегородки, перекладывали печи и даже проводили водяное отопление. И барак менялся совершенно, менялся опять же своим бревенчатым нутром, но не своей деревянной сутью, оставаясь все тем же перевалочным пунктом, из которого люди побегут сразу, как только замаячит отдельное жилье, рассчитанное на посемейное проживание.
И бежали, и оставляли как будто обжитые углы – обжитые, но не ставшие своими. На место беглецов селились старики, кого так же бросали близкие, как только переставали они быть опорой для оперившихся детей, как только переставали сами они чувствовать опору отмерших и сошедших в мир иной своих половин.
И эти для барака, наверное, были всего дороже, ибо и сам он довершал свой земной круг, сотворенный мастерами для кого-то и для чего-то, чтобы дообогреть, догнить и дотлеть в свой час и быть однажды разобранным на дрова, уступить место жилью новому – для новой деревянной или кирпичной жизни, у которой также свой срок.
Старики эти не ходили друг к дружке распивать чаи, и не потому, что не знали хлебосольства. Копеек, что один раз в месяц принимали от почтальона, хватало ровно настолько, чтобы добрести до пенсиона следующего, дожиться до весны, до своей узкой грядки на крохотном клочке землицы, вскопанной и очищенной с превеликим старанием на пустыре за бараком, где когда-то ровными узкими полосами обитали огороды здоровых и старательных жильцов из числа поколений предыдущих. С терпением дожидались они появления на этих грядках тоненьких стеблей лука, кустиков морковочки, зарождающихся пупырчатых огурчиков, кои, конечно, были предметом гордости далеко не многих из них, потому как требовали особого ухода и наличия в телесах стариков искомого запаса прочности. Собирались старики на полусгнивших лавочках или, по крайности, на истертых половицах невысоких крылечек, где и случались промеж них нехитрые разговоры, кончающиеся иной раз перебранкой, потому что каждый норовил выставить свою прошлую жизнь в наивыгоднейшем свете, а про жизнь каждого здесь знали буквально все и завираний не прощали, пусть даже самых безобидных.
Застрельщиками перебранок становились одни и те же жители барака, а чаще – старуха Ульяшиха, имеющая характер сварливый смолоду, и смолоду же обходимая и обегаемая стороной всеми, кто ее знал и с кем проживала по соседству.
От скуки ли, от долгого одинокого житья ли, случалось, ввязывалась в перепалку и баба Поля, что никак не вязалось с ее всегдашним терпением и кротостью. Скорей всего, накапливалось на сердце тягостное, и требовало выхода в подобном, с позволения сказать, общении, когда уже никто никому не должен и никогда уже не будет ничем обязан.
Сидят, к примеру, стайкой потрепанных жизнью стариков, вынимая из памяти, будто из давно заброшенного, набитого всяким хламом чулана, то одно лицо, то другое, то одну небылицу, то другую небыль. Ульяшиха возьми и ляпни:
– А твой-то Генка тож был гусь добрый, не мог во всей деревне девку справней тебя найти…
– А я и не была худа, – откликнется баба Поля. – Это щас кожа да кости…
– Я не про то говорю, – продолжит Ульяшиха в своей обычной грубоватой манере. – Я вот про что: на хрена, говорю, задалась ему така сирота бесприютная, голозадая, как ты, не мог, че ли, другу каку подобрать…
И пока баба Поля моргает глазами и собирается с ответом, добавляет:
– Мужики воопче народ глупый: силы Господь дает много, а глаза – на затылке. Вот бабу чужую они хорошо видют да еще рюмку.
– Мой Геннадий, царство ему небесное, – очухается наконец баба Поля, – и на баб чужих не глядел, и пьяным никогда не был. А не было бы таких подстилок, как ты, дак и на зеркало неча было пенять, коли рожа крива. Жалешь, видно, что на тебя ни един добрый мужик не позарился – шатунов перебирать ума большого не надобно. Вот!
– Ах ты, кислица нежеваная, – затрясется полным телом Ульяшиха. – Меня-то и погладить мужику было в удовольствие, а чё в тебе-то? Чё в тебе-то?.. Баранка ты пересохшая! Ну и гуляла, че б не гулять-то, ежли сама – мед!
– А я вот прожила честной вдовицей, – распаляется, в свою очередь, баба Поля. – Рюмку взяла, дак рюмкой тока рот поганят, а ты – телом всем торговлю вела. Помилуешься с мужиком, вытянешь с него все, че можно, – и под зад коленкой… Кровососка!
– Это я-то кровососка? Я работала как конь и до войны, и после нее!
– И-и-и-и… – тянет явно берущая верх баба Поля. – Уж как ты робила, я преотлично знаю. То с интендантишкой каким таскалась, то с красноперым-красномордым кобелем, кои всласть пожировали, пока наши мужики кровь проливали на фронте. Че-то не един не пригрел тебя опосля войны, да и сами они окочурились раньше срока – отлились им и наши слезы бабьи, и муки мужиков наших.
– Да я, да я… – пыхтит Ульяшиха, – пятерых сынов подняла, почитай, одна!
– А сыны твои – от скольких отцов? – доканчивала обидчицу баба Поля. – Вот то-то и оно. «Я» – последняя буква букваря!
Разбредались старухи по своим конурам и садились к окошкам, повернувшись боками к пустым, с протертыми клеенками, столам. Глядели в проемы стеклин, думали каждая свою думу.
Сидеть часами было и тягостно, и муторно, а топтаться от стены к стене – и того хуже.
Баба Поля о недавней схватке с Ульяшихой забывала скоро, а вот про жизнь свою не забудешь, не отведешь рукой картины и давнего, и недавнего прошлого.
Чем глубже опускалась в дремь своих годов, чем немощнее становилось тело, тем более вспоминались наполненные работой и заботой дни их совместного проживания с Геннадием, которого она называла не иначе, как Ивановичем. Суровый был мужик Иванович-то. Немногословный. Сильный телом и духом. Ни разу не обругал, не то что бы поднял руку. А уж ежели поднимал глаза со сдвинутыми к переносице бровями – сорвалась бы исполнить и то, чего невозможно исполнить.
И сытно, и тепло было в их домишке, и каждый в том домишке знал свое место – хозяин, хозяйка, детки. Знали свое место казенная лошадь, коровенка, поросеночек, курятки, собака, кот. Знали всякая вещица, всякий черепок, клюшка. И сколько жила с Ивановичем-то, столько и не верилось, что мужем он ей приходится законным. Столько и трепетала телом и душой, когда ложилась под мужнин бок в постель, и никогда не засыпала вперед него: прислушивалась к его дыханию, вдыхала легкий табачный перегар, а трубку он, считай, и не выпускал из зубов. И не было между ними разговоров о том, чего делать, а чего не делать – всяк шел туда, куда надобно было идти, касался того, чего надобно было коснуться. Весь свет белый заслонил собой Иванович-то, оставив после себя в мир божий единое махонькое оконце – деток совместно произведенных. Детками и спасалась, а они-то и бросили ее под старость лет.
– О-хо-хо-хо-хо, – протяжно вздохнет иной раз баба Поля и проведет рукой по пустому столу, будто смахивает оставшиеся после еды крошки. И покатится по щеке слеза, переваливаясь через одну морщину, через другую, пока не сойдет на нет.
Привычка к тяжелой и однообразной работе переродилась в ней в привычку к одиночеству, в перемогание дней, ночей, недель, месяцев, лет.
Сыновья заглядывали и поначалу вели себя шумно, но мало-помалу сникали, торопились встать и уйти. Нельзя, видно, было никакому, даже самому очерствелому, сердцу не посочувствовать одинокому старухиному житью в конуре барака, домучивающей свой век в такой же скудости и сиротстве, с чего и привелось ей входить в жизнь девчонкой около семи десятков лет назад. Пока были силы, была и она нужна: детям, мужу, ломовой работе. Отслужила службу солдатскую – и шагай на все четыре стороны.
Сынов своих баба Поля не корила. Она вообще была так устроена, что не находилось в ней места ни обиде, ни отчаянью, ни ожесточению, как в изначально задуманном Господом мире не было места ни человеческой, ни звериной злобе, а только любовь – всепроникающая и всепрощающая, животворящая и воспроизводящая саму себя.
Ей было даже неловко с сыновьями. Сидела, перебирала руками края передника, кивала головой на произносимые слова, спрашивала тихо, и более про внучат – вот этим она была действительно обделена. Внучат к ней приводили редко, и про бабку свою те только и знали, что она – их бабка и все. А чтобы подойти, ткнуться в коленки, прижаться к плечу – этого не водилось.
Неловко чувствовали себя и сыны: то ли совесть тревожила, то ли стыдно им было за бедность материну. За убогость жилья, за немощь старческую, за безответность, за терпеливость. Может, и переменились бы, стукни она по столу своей крепкой ладонью да выкрикни в глаза: бесстыжие, мол, бросили старуху мать догнивать здесь, позабыли, как растила вас одна, как учила, недоедала, недосыпала?.. Может, засуетились бы да скорей решили, в каком дому, у кого доживаться ей до смертушки – обстиранной, обихоженной, обласканной и обогретой теплом близких ей людей?..
Во всякой душе темных закутков больше, чем светлых, а в родной тебе – и того паче. Ну, кажется, какие тайны могут быть для матери сокрыты в ее собственном дитяти, который и зарождался близ ее сердца, и зрел близ ее юбки, и желал ей того же, чего она ему желала? Так нет, и жил-то он, оказывается, отдельной от ее жизни заботой, и рос сам собой, и думал иначе, и мечтал о другом. А вырос – и вовсе отчуждился, оторвался, отпихнулся, даже оскалился нутром, готовый на резкое слово, на отпор, на речи назидательные, будто одну жизнь уже прожил и живет другую, третью и все скрижали, все ремни приводные человеческой природы ему ведомы и ни в чем нет ему запретного, непреоборимого.
А уж сколько таких-то обламывалось о сию гордыню собственную, и не счесть. Подходило, подходит и будет подбираться ко всякому такое горючее, такое пронзительно дикое прозрение и ко всякому в свой беспросветный, беспроглядный час, когда не то чтобы выть – в прорубь стылую черную головой кинуться, но уж нету на белом свете ни отца, ни матери, а человек – один на один со своей подстреленной бескрылой совестью, пожинающий уже от детей собственных то же, что и сам сеял. Но нельзя спятиться пятками назад, нельзя в обратном направлении пропетлять извилистой тропой собственной жизни, которую пробежал так быстро и так незаметно, будто в беспамятстве, и надобно подводить итог.
Что не шло с языка, договаривала налетавшая, как вихрь, дочь одной из бывших соседок бабы Поли, фельдшерица Викторовна. Эта на неделе раза два-три набежит, распахнет во всю ширь старую скрипучую дверь и простукает обутками по полу так, что слышно всему бараку. Вместе с таблетками, микстурами совала то кулек с какими-нибудь пирожками, то шмат сала, то банку варенья, то еще чего, не балуя только деньгами – старуха могла снести их в магазин и потратить на «тройничок».
– Ты, старая, когда перестанешь пить? – наступала на бабу Полю. – Смотри, какие у тебя ноги синюшные – отеки это. Почки не работают.
– Да чё ты, милая, – отговаривалась старуха. – У меня тока живот не в порядке, а так я – куды с добром.
– Ты мне зубы не заговаривай, знаю я. Допьешься – парализует. Будешь лежать чурка чуркой, и никто к тебе не придет.
– Ты и придешь. И таблетку дашь, и чайку нальешь – хорошая ты, Викторовна, дай тебе Господи здоровья.
– Ах, баба Поля, баба Поля, – вздыхала фельдшерица. – И что мне с тобой делать – ума не приложу.
– А че делать, че делать… То и делай: заглядывай, навещай старуху. Все мне веселей.
– Твои-то лбы заходят? – интересовалась Викторовна, отлично зная, что если и бывают, то крайне редко.
– Бывают, как не бывать. Ден пять как Владик был: сальца принес, вареньица, пряничков. Чай с вареньицем пила да пряничками закусывала…
– Ты мне не ври, – обрывала Викторовна. – Не было их у тебя – мне все про тебя известно, люди все видят. – А с Ульяшихой чего поцапалась? – спрашивала неожиданно.
– Откуда ж тебе известно, милая? – настораживалась баба Поля.
– Мне все про тебя известно. У магазина была Ульяшиха – плела там про тебя всякую несуразицу.
– Чё плела-то? Че про меня можно плесть-то? – беспокоилась старуха и, сообразив, что наступил самый момент поплакаться, начинает с подвываниями о наболевшем:
– Житья от ее нетути… В энтот раз-то сидит и говорит, мол, Иванович-то мой, царство ему небесное, зря тебя выбрал в жены-то… Мол, сирота ты беспризорная… В тебе, мол, и позариться мужику не на че было-о-о…
– Ну и плюнула бы на нее!
– Я и плюнула, – уже без подвываний отвечает баба Поля, показывая тем самым, как она за себя постояла. – Я-то, говорю, честная, и мужиков не меняла, как ты. А ты, говорю, скольких мужиков-то поменяла? А?..
– Ну-ну, – подбадривала, улыбаясь, Викторовна.
– Вот и «ну»! Мужиков-то, говорю, было пруд пруди, а жениться на тебе, толстозадой, никто не всхотел. Детки-то, говорю, у тебя от скольких отцов?..
– Ну и молодчина ты, баба Поля, – уже смеялась фельдшерица.
– Я-то молодчиной была, а ты, говорю, телом своим торговлю вела со всякими красномордыми кобелями, пока наши мужики-то кровь на фронте проливали!.. И чё она ко мне вяжется-то, а, Викторовна? – исчерпав тему свары с Ульяшихой, заканчивала с подвываниями старуха, подумывая между тем, как ей получше перейти на другую – к жалобам на бросивших ее сынов. – Некому меня защитить, никому-то я не нужна – старая да немощна-а-а-я… Бросили сынки-то, оставили на съедение злым люу-у-дям…
– Тебя, баба Поля, как я погляжу, не так просто обидеть, – справлялась со своим смехом фельдшерица, понимая, куда клонит старуха и что жалобы ее придется слушать долго. – С Ульяшихой я сейчас разберусь, – подытоживает она, вставая и поворачиваясь к двери. – Что до сынков твоих, так никто не заставлял тебя домишко свой продавать и переселяться сюда.
– Дак, Викторовна, – торопится баба Поля оправдаться. – Нада ж было подмочь деточкам единокровным…
– Лбы они здоровые, а не деточки, – бросает резко, приостановившись у дверей, фельдшерица. – Лбы самые настоящие. И бессовестные к тому же.
– Это тебе – лбы, а мне – деточки, – пытается спорить баба Поля. – Я ж их растила, учила, в люди выводила…
– Да знаю я, – неожиданно смягчается фельдшерица. – Все им отдала, поганцам, а сама теперь, как сирота беспризорная, по барачным углам мыкаешься. Наши-то старухи на улице все тебя жалеют… – И, будто вспомнив, добавляет весело: – Привет тебе все передавали!
– Все?.. Привет?.. – умиляется баба Поля. – И Галя, и Валя, и Люся?..
– Все как есть. И не только эти. Я-то сразу, как пришла, хотела сказать, да ты меня с этой Ульяшихой с толку сбила…
Убедившись, что старуха на время забывает о сынках, добавляет так же бодро:
– Ну, не горюй. Побежала я.
Она действительно забегает к Ульяшихе, где ей так же рады: фельдшерица для барачных жителей вроде лечащего врача, хотя, конечно, баба Поля – статья особая. А бабу Полю и в самом деле часто поминают по прежнему месту жительства.
Много лет жили друг подле друга люди, делясь порой последним, и, ладно бы, помер человек: собрались бы, обмыли, обрядили, в путь последний проводили, за столом посидели да помянули. А то ведь съехала беспричинно и нельзя сказать: то ли уж совсем оторвалась-отъединилась, то ли на роду так записано – доживать в одинокости.
Когда баба Поля затеялась продавать домишко, то никому из соседок и в голову не пришло, что бросят сыновья старуху. Думали: потому и продает, что надоело жить одной, вот и не вмешивались, не вникли в суть. А так бы не дали распродать свои углы и сынов старухиных пристыдили бы.
Фельдшерицу Викторовну они так же поджидают с нетерпением – и здесь она заместо лечащего врача. Обегает подомно, заодно уж рассказывая о своем последнем посещении бабы Полиной конуры.
– И как она, Поля-то? – с придыханием спросят в одном доме.
– Ничего, бабка военная, еще и Ульяшиху, бывает, так отчихвостит, что той и сказать нечего.
– Ай да тихоня! – удивятся в другом доме.
– Ты погляди, – умилятся в доме третьем, – а здесь столько годов прожила с нами и никто от нее резкого слова не слышал…
Потом сойдутся вместе по какому-нибудь случаю – просто выбрались за ворота или праздник какой свел – и поделятся друг с дружкой надуманным, и выйдет, по словам их, что, какую судьбу дал Господь при рождении, с такой и сходить во сырую землю. Погрустят-попечалятся и разойдутся, пугаясь мыслям о старости собственной. И каждая в душе несогласна с таким выводом, ибо, по мнению каждой, не может Господь желать человеку злой судьбы. Это жизнь злая ломает все божественные законы, отъединяя детей от родителей, родителей от детей, разбрасывая по сторонам самых близких и единокровных.
А свои сын или дочь заявятся – и давай выговаривать ни с того ни с сего, пока не нарвутся на отповедь, например, такую:
– Ты чё, мать, как с цепи сегодня сорвалась? Муха тебя какая укусила, что ли? Дровишки у тебя есть, поесть-попить – тоже не обижена. А не хочешь жить одна, так хоть сейчас машину подгоню да увезу…
– В своих углах помирать буду! – отрежет разошедшаяся старуха. – Живите вы в свое удовольствие, а не хотите ходить к матери, так и не ходите. Без вас проживу!
– Де-э-ла-а-а, – разведет руками сын.
– Ты чё это, мама? – спросит в растерянности дочка.
– А ну вас! – отвернется к окну старуха и ловит ухом, ждет, когда хлопнет дверь.
* * *
…А баба Поля по-прежнему живет в своем бараке. Хотя, может… уже и не живет?
Украли
Отец у пятилетнего Васьки был не такой, как у других. Внешне он походил на всех соседских дядек. Но говорил как-то непонятно: слова были вроде те и не те. Например, мать он называл «Ката» вместо «Катя». Его – «Васа» вместо «Вася». Много слов по-своему переиначивал, делая ударение не на тот слог. Упрекая в чем-то мать, говорил: «Ката, ты почему со мной не разговариваешь? Хочешь делать?» Причем выделял не первое «ва», а второе. И получалась несуразица.
От соседских мальцов – Аркани и Микана – Васька слышал, что отец его глухонемой, но верить этому не хотел. Слишком непонятно было, да и глупо: как это – глухонемой?
Ему объясняли, дескать, «глухо» – значит, не слышит, «нем» – не говорит.
Но папка ведь говорит и, если Васька у него что-то спрашивает, отзывается?
«Врете вы все», – решал мальчик, но любил со стороны наблюдать за родителями и приходил к выводу: «Не глухонемой, но не такой, как другие».
Много раз пытался добиться чего-то от матери, но та была вечно или занята, или ничего не хотела объяснять, но бабушка однажды рассказала про отца интересную историю, услышав которую, Васька втайне еще больше стал гордиться своим отцом – тем, что он был не такой, как другие.
Дело было в самом начале войны. Незадолго перед этим отец закончил ФЗУ и поехал к старшему брату в Томск, хотел там устроиться на завод слесарем.
– Долго ли, коротко ли ехал, – рассказывала бабка, – только присмотрелся к твоему отцу проводник в поезде, передал, кому следовает, и сняли Капку милицанеры на какой-то станции. И в кутузку, где стали пытать, кто ты да что ты… А не понимает, тока мычит и водит глазами из стороны в сторону: «Пета еду». К Петьке, старшему брату, то есть. Не прознав ничего от немтыря, стали звонить да писать во все концы и получили быдто ответ от начальника школы для глухонемых, где учился Капка, и выпустили.
– Баб, а почему его в кутузку? – допытывался Васька.
– За немца они его, окаянные, приняли, вишь, говорит как сущий немец!
В бараке, где жил Васька с родителями, ютилось несколько семей. У Аркани отец работал шофером. У Микана – столяром. У Вовки, Васькиного одногодки, и вовсе никого не было. Собакам сено косит – говорили про его отца. Ну, где-то косит, значит, все равно приедет, а едят ли собаки сено – об этом друзья не думали. Они жили своей, наполненной мальчишеским интересом, жизнью.
С Миканом общаться было просто, он жил через стенку. А за широкой печью, куда мог пролезть только ребенок, имелась заветная, проковырянная с обеих сторон дырка, в которую свободно проходила рука. Если ругались Васькины родители, об этом в подробностях знал Микан. Если дядя Петя гонял тетю Таню, о том ведал Васька.
Каждый вечер, когда их всех матери «загоняли» домой, Васька и Микан встречались возле дырки, чтобы договориться о своих делах на завтрашний день или поделиться друг с другом какой-то новостью. Бывало, что встречались для того, чтобы подразнить друг дружку.
– У меня-то конфетка, – говорил один. – Смотри, – и показывал в дырку краешек.
– Откуси, – клянчил другой.
– А вот и не откушу, самому мало.
– У-у-у, жмот, – доносилось в дырку, – погоди, ты у меня еще что-нибудь попросишь…
На другой день как будто и ничего про меж них и не было. С Арканей дружба протекала солидно: выстругивали ножом пропеллеры для деревянных самолетов, делали свистки из тонких веток лозняка, лежали в солнечные дни на крыше сарая, который, впрочем, объединял их всех, и чем выше можно было забраться, тем больший простор открывался душе, и тем больше мечталось, грезилось, хотелось.
Но с Вовкой, у которого отец где-то собакам сено косит, хотя и нравилось общаться, может быть, даже в большей степени, недолгая дружба Васькина нередко кончалась дракой. Вернее, даже не их личной дракой, а стычкой бабушек. Прохудилась, скажем, кастрюля в доме – и новая игрушка у Васьки. Сидит себе на куче песка – насыпает, высыпает, подгребает в кучки, придавая им форму людей, животных. Хорошо!
А тут Вовка – бац его по голове осколком кирпича, хвать кастрюлю – и к своей двери, что с другой стороны барака.
Васька потрет шишку, подумает, стоит ли идти жаловаться бабушке, обойдет барак, а Вовка уже на своей куче песка проделывает то же, что проделывал и Васька, – довольный, конечно, забывший про все на свете. Васька поднимет тот же осколок кирпича, что зажат в руке, – и по Вовкиной голове, крик на всю улицу (у Вовки голосище что тот гудок, которым родителей зазывают на работу).
– Убил, разбойник! – выскакивает Вовкина бабка, пытаясь догнать Ваську на своей деревяшке (бабка без ноги, как у Феди-водовоза, которую тот потерял в недавней войне).
С другого крыльца – Васькина наступает:
– Тронь тока мальца, я тебя той же клюкой отпонужаю…
Повоюют-повоюют – и по домам. Потом наказывают каждая своему:
– Ты с этим сорванцом не водись, дай я тебе ковшиком шишку-то потру…
В эту зиму корова Майка никак не могла разродиться. Стояла в загоне, мутно смотрела своими огромными глазами и мычала. Мать то и дело бегала по ночам в стайку проверять, не телится ли? Возвращаясь, о чем-то шепталась со свекровью, ложилась ненадолго вздремнуть. Васька тоже беспокоился, так как она однажды сказала:
– Нечего ноги бить, весной погонишь в стадо припасывать телка.
Припасывать – значит, доглядывать за молодым глупым телком, пока тот не привыкнет ходить со взрослыми коровами. Васька же всегда с завистью смотрел в сторону мальцов, которым по весне доверяли ходить со стадом. Посмотрит на иного: на плече сумка, в одной руке – кнут, в другой – рожок, и так хотелось побежать вслед, так мечталось приложить к губам рожок и загудеть: «Ту-ру-ру, туру-ру…»
У Васьки уже был припасен такой же: обыкновенная катушка из-под ниток, на нее с одной стороны натянута узкая полоска резинки от велосипедной камеры, все это вставлено в согнутый из жести конус. Поэтому не терпелось поскорее увидеть теленка, вскакивал с постели утром и бежал смотреть в прихожую, где каждый год возле перегородки устраивали для новорожденного загон на несколько дней, пока не окрепнет.
И дождался. С мокрой свалявшейся шерстью, с разбросанными по шкуре белыми пятнами, выглядел он жалко и беспомощно.
Пытался вставать на свои некрепкие ноги, но ничего у него не выходило. Встав, боялся сдвинуться с места, только тянул свою глупую морду да взмыкивал.
– Боря… Боря… – не зная почему, именно так стал называть его Васька. Однако трогать боялся, то протягивая к телку руку, то отдергивая.
– Марш за стол, – крикнула из кухни бабка. – Опять удерешь голодный!
Поставила перед ним чашку картошки, положила огурец.
– Чё не ешь-то? – спросила.
– Баб, а теленочка мы Борей назовем?
– Борей, Борей, ешь.
Пришла весна, и, обходя каждый барак, на пороге появился пастух, который переписывал скотину, поясняя, сколько нужно будет платить за корову, теленка, овцу. Записали и Борю. В первых числах мая, облачившись в приличествующую случаю одежонку, выгнал Васька и своего бычка. И запел его рожок:
– Ту-ру-ру… Ту-ру-ру…
Вечером, намаявшись, с промокшими ногами, пощелкивая кнутом для форсу, на виду у всех жителей барака загнал Борю туда, где и надлежало ему быть.
– Ах, кормилец ты мой, – семенила рядом бабка, – голодный небось, пойдем, милый, я тебе кусочек мясца отварила с картошечкой.
И пока Васька ел, сидела напротив, вздыхала.
С этого дня даже отец стал интересоваться, вернулся ли со стадом бык. Только по своему обыкновению путал ударение, нажимая на первый слог:
– Быка нету?
Недолго продолжалась Васькина работа: Боря быстро привык и, когда гнали коров по родной улице, еще издали бросался со всех ног к воротам – чуяла скотина, что хозяйка к ее приходу приготовила ведерко воды, сдобренное картофельными очистками.
В самом Ваське произошли малозаметные окружающим перемены. Словно брошены были в пашню его юной души зерна взрослости. Зерна эти стали набухать, и уже наметился характер человека, которому через несколько лет идти по земле самостоятельно, заводить семью, свое хозяйство, взваливать на свои плечи бремя ответственности за семью, за детей, за престарелых родителей, за страну. И, когда уже Боря стоял в загоне, подходил к нему, деловито похлопывая по шее, что-то говорил, лез на сеновал, скидывал оттуда охапку сена.
Не замечали перемены и его друзья, Арканя с Миканом, – для них он оставался таким же товарищем в извечных мальчишеских играх, а обе бабки из-за его скандалов с Вовкой, казалось, никогда не сойдутся вместе, чтобы поведать друг дружке свои старушечьи горести.
Боря подрос, на лбу появились небольшие рожки. Ваську по-прежнему признавал, только однажды, ни с того ни с сего, подкравшись сзади, столкнул мальчика с козел для распиловки дров на чурки.
Пришла и осень. Арканя с Миканом пошли в школу. Вовка к тому времени переехал на другую квартиру. Васька остался один. Пока друзья постигали азы грамоты в первом классе местной начальной школы, слонялся по двору, пробовал что-то мастерить, бросал, и, пожалуй, единственной отрадой для его сердца был бык Боря. Предоставленный самому себе, он перед оградой, на поляне жевал пожелтевшую траву.
– Пасешься? – словно к человеку, обращался Васька. – И не скучно тебе? – спрашивал. – Ну-ну, скоро в стайке будешь стоять, и никуда тебя не пустят.
С наступлением холодов, когда бык стоял в загоне, нет-нет да и заглядывал к нему, выбрасывал вилами навоз, подкладывал в ясли корма. И прожили бы они так до следующей весны, если бы Борю как-то не попытались увести воры.
Проснулся Васька от громких причитаний матери: за окном слышались голоса мужиков, взволнованные лица их высвечивали огни факелов, хрипло лаяли собаки. Вместе с клубами морозного воздуха вошел в избу отец. Достал из-под лавки топор и исчез.
Огни факелов мелькали уже где-то в конце улицы, в доме остались только дети да бабка Настасья, сидевшая возле печки, понурив голову. Пальцы ее костлявых рук беспокойно перебирали края захватанного фартука.
Беспокоился и Васька, подбегая то к одному окну, то к другому, пока в темноте не обозначились фигуры людей, приближающихся к бараку. Переговаривались они уже спокойно, и ясно было, что возвратились не с пустыми руками.
Так оно и оказалось: вора не поймали, а быка с захлестнутой на рогах веревкой нашли брошенным на соседней улице.
Через некоторое время вернулись отец с матерью, и еще через минут пятнадцать все вокруг погрузилось в крепкий предутренний сон.
Проснулся Васька поздно. Вспомнив о событиях ночи, быстро оделся, полез на печку за валенками. В доме пахло чем-то вкусным, за столом в прихожей сидели отцы Аркани и Микана.
Не задумываясь, по какому случаю торжество, выскочил на улицу, бросившись по направлению к сеновалу. Вскарабкавшись по лесенке, скинул вниз охапку сена. Но, открыв двери в стайку, быка не увидел.
Не понимая, где Боря, вышел на воздух и тут только обратил внимание на свежее пятно крови, растекшееся по слежавшемуся снегу.
Сердце Васькино сжалось от предчувствия беды, ноги задрожали, руки схватились за прясла.
– Боря… Боря… – шептали ставшие мокрыми губы, и не почувствовал, как рядом оказался отец, который повторял, по своему обыкновению коверкая слова, одно и то же:
– Быка нету… Нету быка…
Уходя из дому
Ивана убило током высокого напряжения. Вернее, нужно сказать: ток убил Ивана. Так будет точнее. Да. Точнее. Словно автоматной очередью прошило всю правую сторону его тела – отверстия на брюках, куртке были тому доказательством. Родственники подходили, осматривали их и отходили. Не укладывалось в голове, что ток может оставить точно такие же следы, как и пули, и, следовательно, Иван погиб словно бы на войне. О войне помнят, кто там был и видел, как и отчего умирали люди. Вот они помнят. Им даже кажется, что ток – от того не столь далекого прошлого, когда в каждом доме со дня на день ждали похоронку на ушедшего воевать близкого человека, что это то еще страшное время напоминает о себе, оно, то время, вызвало их всех сюда телеграммой-молнией.
Такую получил и брат покойного – Василий. «Выезжай трагически погиб Иван». Прочел раз, другой, перебрал в памяти всех близких ему людей по имени Иван, показал на работе, положил в карман, чтобы уйти и собраться в поездку. По дороге останавливался, вынимал, перечитывал: «Трагически… слово-то какое…» – и не мог понять его смысла. «Тра-ги-чес-ки, тра-гик, тра-ге-дия, тра… черт знает что! Откуда они взяли это слово?»
«Ясно, – понял наконец. – Так пишут, чтобы подчеркнуть внезапность случившегося, когда здоровый, полный сил человек вдруг погибает по нелепой случайности».
Думалось всякое. То казалось, что Иван попал под поезд, то по пьяному делу куда сунулся, то ночью набрел на ватагу «добрых молодцов» из темных переулков.
«Трагически погиб, погиб трагически», – твердил и твердил без конца, пока не доехал до поселка Нулут и не узнал точно: брата убил ток высокого напряжения.
Теперь сидел около огромных размеров гроба, где покоилось тело Ивана, смотрел и смотрел на его лоб, на выпирающие надбровные дуги, какие бывают у мыслителей, гигантов, людей – творцов всего, что есть удивительного вокруг. Которые пишут книги и которые заставили двигаться электроны по проводнику. Открыли эту непоборимую силу – ток высокого напряжения.
Гроб на двух табуретках стоял непрочно, ненадежно. Казалось: вот-вот Иван шевельнется и грохнется вместе со своей домовиной о пол, перевернется на живот, вскочит на ноги и направится в куть, на ходу бросив матери: «Где у нас сало полеживает? А?.. Игнатьевна?..» И побежит в стайку, наберет из лукошка теплых еще, недавно снесенных курицами яиц. И будет сновать из кути – в кладовку, из кладовки – в куть, пока не сядет за стол, не поставит перед собой какую-нибудь все равно на какой странице открытую книгу.
А читал он много, без разбору, ни с кем не делясь прочитанным, ни с кем не споря, вынашивая что-то в себе, взращивая ведомые только ему мысли. И лишь бывая во хмелю, начинал говорить длинно, нескладно, кого-то в чем-то обвинять, кому-то что-то доказывать, сваливая в кучу и работу, и родственников, поминая ту единственную женщину, которая, прожив с ним четыре года, неизвестно от чего спуталась с сорокалетним женатым бабником, и трудно было предположить, какой он в любую минуту может выкинуть номер, потому что сам в себе носил ток высокого напряжения.
И сейчас, в гробу, захлопнувшееся для всех лицо его хранило печать несогласия и упорства.
Василий выходил на улицу покурить, возвращался, заставляя себя как можно дольше сидеть у гроба брата. Он коротко отвечал на вопросы окружающих и о чем-то спрашивал сам. Но где-то внутри себя вел нескончаемый, неоконченный, не имеющий конца разговор с покойным. Он чувствовал, что еще не все в теле Ивана умерло, что какая-то часть его живет, мыслит, может быть, стоит напротив, вместе с ним выходит на улицу покурить. Может быть, даже удивляется всему, что происходит, пожимает плечами. Сокрушается. Негодует.
«Это кровь… кровь… родная наша с ним кровь. Одна на двоих… Матери и отца… Часть ее во мне… Часть наиболее активная. Она и мне не дает спать. Не дает жить. Заставляет сомневаться. Мучиться. Думать о смерти. Она питает те центры мозга, откуда происходят мои извечные тревоги, неудовлетворенность. И тогда я сам начинаю спрашивать себя: «А надо ли то, надо ли это? Отчего то и отчего это? Зачем то и зачем это?..»
Рядом, как показалось, противным голосом заголосила пришедшая взглянуть на покойного соседка.
– Куда ж ты такой молодой собралси-и-и… Да какой же ты был смирный да ти-и-хий…
«Старая ведьма, – с раздражением думал Василий, – привыкла дармовые слезы разливать. Каждому порцию выдашь, а только за дверь – и забыла, где была».
– Да никому ты, бывало, не сказал худого сло-о-о-ва… Да никого никогда не потревожил…
«Тихий… смирный… худого слова… не потревожил…»
Причитания старухи давили, жгли. Он сильнее прижимал к себе скрещенные на груди руки, ниже опускал голову. Ему было тяжело и стыдно за эту общепринятую в подобных случаях ложь, как будто она обращена к нему самому, и это его не хотят обидеть правдой. Нет, не тихий был Иван и не смирный. Он жил мучительной, непонятной для окружающих жизнью. Он ерепенился и хорохорился, скандалил и бузил. Он бунт души своей возводил в степень закона. Он не давал покоя ни матери, ни сестрам, ни брату. И все старались помочь Ивану. Пытались понять Ивана, стремились удержать Ивана от чего-то такого, чего потом будешь стыдиться до конца дней своих. Словно смерть давно уже играла с ним в прятки, и надо было потерпеть, подождать. Надо было дать высказаться человеку по возможности полнее, потому жизнь – Василий понимал теперь это! – не приставала к Ивану, как не пристает вода к масляному пятну на одежде. Как пух тополиный не пристает к стеклам окон. Она лишь октябрьским ветром тыкалась в него, заставляя сжиматься, ежиться, уходить в себя. И оттого ему всегда было холодно, сыро, темно. Василий понимал теперь это!..
Он вспоминал и вспоминал их нечастые встречи, разговоры, кончавшиеся если не руганью, то почти всегда хлопаньем двери, временами отчуждением, даже враждебностью.
– Ты слушай, слушай! – кричал иной раз Иван. – Ты знаешь, я свое фрезерное дело постиг. У бати нашего учился, а к нему, ты знаешь, со всей области ездили. Работаю по четвертому, а пятый – не дают. Я и так к начальству, и сяк… «Рано еще, – говорят, – поработай пока». «А почему, – спрашиваю, – несут мне работу высших разрядов, вы же за нее не платите?» «Доверяем, – говорят, – ты это цени». Ладно, думаю, черт с вами, может, совесть в вас когда-нибудь заговорит, если она есть, конечно». А рядом со мной работает мужик по пятому разряду. Вернее, получает по пятому, а сидит на всякой мелочи – ни деталь какую-то выточить не может, ни чертеж элементарный разобрать. Подойдет, ты знаешь, начальство ко мне – я работаю, как и работал. О чем мне с ним говорить?.. А к моему соседу подойдет – он и посмеется, и анекдот расскажет, и о здоровье спросить не побрезгует. И он – в почете, а я – нет, хотя и дело лучше его знаю, и языком попусту не молочу. И везде таким дорога. Так ведь? Я тебя спрашиваю: так?..
– Так, – кивал головой Василий.
– Или, ты знаешь, собрали нас не так давно и говорят: «Сейчас в стране острая нехватка цветных металлов. Надо, – говорят, – чтобы у каждого был отдельный ящик для отходов. Тех, – говорят, – кто больше соберет, мы будем поощрять премией». А у нас, ты знаешь, везде бардак. По территории мастерских пройти – на самолет соберешь. В общем, объявили и смылись. Я сам, считай, и ящик-то этот сделал – не позаботилось начальство-то. Иду на работу или с обеда – где проволоку подберу, где еще что, и получилось: один за всех насобирал. Ну, увезли, ты знаешь, быстро, тут они промаху не дали, а вот премию жду месяц, другой – и к механику, дескать, когда же обещанные денежки выдадут. «Дак выдали уже, – говорит, – главный инженер получил, зав. мастерскими». «Ладно, – думаю, – поднимете вы еще меня на подвиг». А тут, ты знаешь, подходят и говорят: «Молодец, Юрченко, за счет тебя только предприятие план по цветному металлу и выполнило. Продолжай, – говорят, – в том же духе». А я, ты знаешь, сложил комбинацию из трех пальцев и под нос главному: «Вот, – говорю, – вам цветной металл, сами собирайте, сами и премию получайте». Так обиделись: «Рвач ты, Юрченко, – говорят, – не владеешь ситуацией». Каково, я тебя спрашиваю? Нет, каково?..
Василий хмыкал, крутил головой, слушал дальше.
– Или другая ситуация. Ты знаешь, как я с Томкой жил – не мне тебе об этом рассказывать. В доме у нас все было, потому что не меньше трех сотен зарабатывал и вечно не вылазил из кредитов. Пахал и вечерами, и в воскресенье, и халтуры всякие брал, и огород был на мне, и дом. А она то в больницу, то к маме своей отвалит и сидит там. И я ведь оказался плох! Спуталась! Да, может быть, не обидно было бы, если с моим одногодкой, а то с сорокалетним, у которого только законных жен штук пять было. Нормально это? Нет, я тебя спрашиваю: нормально это?
Василий и тут соглашался с ним.
– Или дома мать пилит, дескать, когда ты, здоровый лоб, женишься, доколе я на тебя стирать буду… Руки у нее, видите ли, отсыхают… Что, дескать, все дома сиднем сидишь, шел бы куда-нибудь, а сама: ты вечером в клуб не ходи, там – хулиганы… Ты нигде по вечерам не шатайся, не дай бог, встретишь кого-нибудь. А мне этого и не надо. Я лучше дома буду сидеть. А почему? Да потому, что не вижу для себя поля деятельности. И вы никто меня не понимаете, лезете со своими советами.
– Что же ты думал, счастье само на тебя набежит, дескать, здравствуй, Ванюша, вот и я?.. Или серым воробышком в форточку влетит, и скок тебе на плечо: чирик-чирик?.. Надо наконец что-то и делать, не слюни же распускать…
– Я и не распускаю и никогда не распускал. Мне, может быть, только Томка нужна, а простить ее я не прощу!
– Ну, а дальше-то что?
– Не знаю, – угрюмо отвечал Иван, и чаще всего на этом разговор их заканчивался. Но бывало, Василий заводился, ударялся в философию и переходил на крик:
– Ну ладно, не клеится на работе, смени специальность, найди другое дело. Ушла жена – туда ей и дорога, не ты первый, не ты последний. Но, как говорил Есенин, пойми хотя бы самое простое, что дома, деревья, дороги, поля – только на один раз нам, больше этого никто не даст. Не умеешь написать книгу, пробежать быстрее всех, прыгнуть дальше всех, умей хотя бы взять от жизни малое, но и себе, и людям на пользу. Умей встряхнуться, умей идти на разумные компромиссы.
– Против совести?
– Умей хотя бы против совести, а потом уж и кайся, но в таком случае мучай только себя.
– Трепалогия…
– Нет, не согласен, надо двигаться, надо пытаться, падать и опять вставать. В полный рост! И, может, опять падать, разбиваться, но вставать! Шрамы пойдут на пользу, научишься ценить хотя бы то немногое, что у тебя будет: за душой, в сердце, голове.
– Философия…
– Может, и так, но лично я боюсь того времени, когда все погрузится в темноту, когда уже ничего не вернешь, не исправишь.
– И я боюсь, – вздыхал Иван.
– Так чего жилы из всех тянешь?.. Не убог ведь, руки, ноги, голова на месте. Здоров как бык, мозги варят. Живи! Здравствуй!
– А как? – наивно спрашивал Иван.
– Ну уж… знаешь… – отворачивался Василий, не умея сказать, не находя слов, махал безнадежно рукой.
Разговоры эти ему осточертели. Он сознавал, что пытается сунуть утопающему соломинку, а тот с готовностью за нее хватается. И получалось: вопросы Ивана были, как бы обращены к нему самому, ведь это он, Василий, чем больше живет, тем чаще перешагивает через множество «почему», что не ему поучать Ивана, как жить. Свое несбывшееся, сломанное, оставленное где-то позади, без чего тоскливо по ночам, что казалось забытым, кинутым, вырванным из сердца, – в минуты эти снова становилось главным, снова вырастало до своих подлинных размеров. Но не обмануть время, не вернуться назад, не настигнуть собственное, не давшееся в руки счастье. Не перескочить в обратном направлении через тысячи «почему?», где мало-помалу растерял он свои идеалы, обрубил топором примиренчества острые, наиболее ранимые края собственной совести, и превратилась она в некоего удобного для жизни болванчика. Обрубил, но не убил. Ивану дано было поднимать его, упавшего на все четыре кости, снова чувствовать в себе силы для сопротивления всяческой кривде. И, как и юности, начинало хотеться трудов непосильных, чувств искренних, отношений незамутненных, вечеров несказанных, встреч нежданных – всего того, на что он утратил моральное право, но на что продолжал претендовать. Иван ставил его лицом к лицу с тем, прошлым, каким Василий вступал в жизнь и словно бы убеждал, что это к нему не пристала жизнь, это Василий, а не Иван отступил от приличествующей настоящему человеку единственно правильной линии в поведении, поступках, принятии решений.
Гордится зрелость приобретенным опытом, а нередко и цена-то ей – грош. Нет в ней полноты ощущений, преданности безоглядной, порывов безотчетных, а только страх: абы чего не вышло, абы чего не произошло, абы не растревожить себя, не растрясти, не взволновать, не уронить в грязь перед такими же, как и сам. Десятки тысяч так называемых зрелых людей, перешагнувших за тридцать – семейных и одиноких, – ходят по земле, топчутся в очередях, ищут интеллектуальных и неинтеллектуальных развлечений, приобретают тряпки, выезжают за город, делают по утрам гимнастику, но страшатся бессонницы, холодных простыней и гулких ночей.
Нет, не мог он быть Ивану ни советчиком, ни наставником, ни примером. Никто не мог быть для него примером: то, что в характере Василия было заложено природой лишь в общих чертах, в Иване было нормой. Потому и работу, и свои отношения с Томкой, родственниками пытался приладить к себе, к своему разумению и толкованию основы основ бытия, когда по заслугам – и честь, на силу чувства – чувство ответное, когда из общей стаи тебя не изгоняют только за то, что ты отличаешься от всех прочих – цветом своего оперения.
И зачем было Ивану менять профессию? Фрезерное дело он действительно постиг, прочитав о нем всю или почти всю имеющуюся специальную литературу, да еще и при таком учителе, каким был их отец. Не в профессии дело, а в складывающихся отношениях на производстве.
Как-то в одной из центральных газет Василий обратил внимание на статью директора крупного завода, в которой говорилось о профессиональной чести рабочего, об ответственности перед временем, о воспитании в человеке чувства коллективизма. Очень правильно говорилось, и от того, что говорилось слишком правильно, с самого начала не вызывало доверия. Василий усомнился в собственном пока безотчетном осознании липовых достоинств статьи и заставил себя дочитать ее. «В современном обществе, – излагал автор, – каждый индивидуум уже по своей сути должен быть коллективистом. Вливаясь в рабочую семью, он отдает все силы любимому делу, а значит – заводу, стране».
«Эк хватил… Кругло и безоговорочно. А сам-то индивидуум – что? Как сбросишь со счетов всяческие симпатии и антипатии, откровенность одних и замкнутость других, узость интересов иных начальников и широту интересов иных работяг, которые в силу своей подчиненности вечно ходят в нелюбимых, обиженных, обойденных. А коль так, то хочешь или не хочешь – наступай на горло собственной песне, приспосабливайся и приноравливайся. Не нравится – ищи другое место под солнцем, и чем дальше, тем больше будет впереди тебя поспевать дурная слава неудачника, отщепенца и, в конечном итоге, во всех отношениях неудобного для общества индивидуума. С такими установками вряд ли ты сам, товарищ директор, начинал как личность, скорей всего, как приспособленец, не раз и не два склонил голову, прежде чем полез в гору. Да и сейчас склоняешь перед всевозможными инстанциями, от коих зависишь и ты сам, и процветание твоего производства, а в конечном итоге – благоденствие страны. Нет, иные требуются меры, иные оценочные установки. Человека надо видеть в каждом индивидууме со всеми его болевыми точками, отсюда и начинай перепляс…»
Дочитал и думал о брате. Растратил он себя, износил в себе потребность совершенствоваться, оказавшись в безлюдье, и теперь кладет силы на выяснение отношений. Сомкнулся круг, и мечется теперь, не знает, где и как разорвать эту роковую для него черту. И у него, у Василия, свой круг. У каждого человека свой круг. Вырвался из одного – попал в другой: круг обязанностей, круг знакомств, круг взаимоотношений. И твое счастье, если обитаешь в своем: можешь реализовать дарованные тебе природой силы. А если не можешь – найди достойную звания человека отдушину. Попробуй жить для людей. Все в этом мире должно делаться для людей…
Тягостная процедура похорон – спектакль древний, и, сколько бы ни сменялось поколений, каждый живущий безошибочно находит в нем свое место, пока и сам не станет однажды его безмолвным главным действующим лицом.
Гроб вынесли на улицу и установили перед воротами дома. Друзья, знакомые, сочувствующие, просто зрители расступились, и фотограф с приличествующей случаю физиономией занял свое место. Близкие, согласно родственным связям с покойным, сомкнулись у его тела. Снова все пришли в движение, вперед вынесли венки, и вот уже четверо мужчин, оторвав от табуреток дорогой этому дому груз и выравнивая шаг, свернули на главную дорогу – вдоль улицы.
Никогда, как бы многотрудна ни была работа, не видел Василий таких озабоченных лиц, какие бывают у людей, несущих гроб, потому что любая другая делается в угоду и на потребу жизни. Любая другая, даже изготовление домовины и рытье могилы, оплачивается, если не звонкой монетой, то обязательно поллитровкой, словом благодарности, ибо человек всегда может отойти и поглядеть: ладно ли сработали его руки и может ли он принять полагающуюся дань за свой труд. Любая другая не ставит его так близко со всеразрушающей смертью и не заставляет так полно чувствовать бренность самого существования, оканчивающегося торжеством небытия где-нибудь в укромном уголке на погосте, который также имеет свой век. Люди сплачиваются на время похорон словно бы для того, чтобы сказать друг другу: «Смерть пришла и вырвала одного из нас, но не истребила в нас тягу к жизни, мы никогда не дадим ей повода для торжества».
«Поразительно, – думал Василий, – что эти же люди, а может, и не эти, но все равно – люди, с которыми жил и работал Иван, не могли принять его живого».
В свой прошлый приезд в Нулут Василий нашел брата до удивления спокойным. Они говорили долго и тихо. Обо всем, о чем никогда прежде не говорили.
– Ты знаешь, производство-то я свое бросил.
– Что бросил-то?
– Заколебали. Смотрят, как на белую ворону и чуть что: коллектив… коллектив… Коллектив решил… Коллектив постановил… А в коллективе-то этом и работников-то стоящих осталось три с половиной человека. Дядя Витя Панченко да Володя Сундук. Да еще тетя Маша – уборщица. Вкалывают, потому что как согнули спину до войны, так по сей день не могут разогнуть. Остальные – только трепаться да денег побольше огребать.
– Но деньги-то еще никому не помешали.
– Так их, ты знаешь, заработать надо, а работать не все хотят. А я и работал и требовал, чтобы по совести платили. Из принципа. В расценках, ты знаешь, меня обдурить трудно, так что придумали: стали гонять то вагоны разгружать, то на полевые работы – дескать, все ездят – и ты должен. В конце концов я уперся: «Чего, – говорю, – вы меня гоняете, ведь лучше меня никто мое дело не сделает, значит, брак будете гнать в мое отсутствие». – «А это, – посмеиваются, – не твоя забота». – «Так что же, – посмеиваюсь и я, – частная лавочка здесь или государственное предприятие?..» В общем, крутили и так и сяк, ну и начали разными приказами допекать: то выговор по административной линии, то премию снизят, то еще чего. Противно… А в конце месяца я прямо чуть ли не в герои попадаю – план горит: «Ты, Юрченко, давай… Ты, Юрченко, не подведи…»
– А по-другому строить свои отношения нельзя?
– Ты знаешь, пробовал, но, видно, не могу по-другому…
Василий слышал, что Иван лет пять назад пытался поступить в университет на юридический, но что-то у него там не получилось, а что – не знал. Раньше спросить об этом значило нарваться на очередные обиды, к тому же никак не мог представить его в роли служителя правосудия. Теперь вроде можно было. Теперь слушал его, глядел на него – и душу застилала нежность: «Брательник, брательник, сплошные нелады и несклады в твоей жизни, не приучили нас родители к кривизне, но они и не думали, как им жить, потому что некогда было думать. Они работали. Работали дяди Вити и тети Маши. Такое время было – нехватки и недостатки в семье, на производстве, в стране. Ты вот мои обноски донашивал. Они – на станках, выпущенных еще «во времена оны» чудеса творили, страна, в свою очередь, выезжала на лошадках, на допотопных колесухах. Когда же наступил сбой? Когда пришло равнодушие, когда перестали верить – и народилось целое поколение, которое, приняв от своих отцов ничем не замутненную эстафету трудового энтузиазма и самоотверженности, оказалось не в силах достойно нести эту эстафету, а начало приспосабливаться, пристраиваться? И выплюнуло таких, как ты, – вопросозадавателей, отщепенцев, неудачников?..
– Ты, я как-то слышал, собирался на юридический?
Иван покосился на Василия, как показалось, своими прежними нездоровыми глазами – бывают такие глаза у людей, как бывают у человека нездоровыми сердце, желудок, печень, – потянулся к пачке сигарет. Закурил и заговорил тихо, без надрыва. Издалека:
– Ты знаешь, мы с тобой действительно как два слесаря – все о работе да о работе. Видел я таких: встретятся за бутылкой, вмажут по стакану – и сказать друг другу нечего. Дообщаются до того, что начнут спорить – где и как гайку закрутить. Пыль столбом.
– Что же делать, если и это – жизнь.
– Может, и так. Только кроме работы должно быть у человека еще что-то. Мечта, что ли… Не знаю, в общем, как сказать, но чувствую и всегда чувствовал: это должно быть. Я вот себя возьму. Как бы ни знал секреты своего фрезерного дела, какое бы удовольствие от своей работы ни получал, всегда остается во мне несогласная со всем, что делаю, часть, всегда мне этого мало. Всегда остается стремление усовершенствовать и станок свой, и свои инструменты, и самого себя. И чтобы до всего самому дойти. Ты же знаешь, у бати нашего весь слесарный инструмент был по его руке, весь свой инструмент он за многие годы работы сделал сам. А когда погиб, свои же работники поленились к матери сходить за ключами от верстака: распилили замок, который он сам сделал, и растащили тот инструмент. Думали, видно, секрет батиного мастерства – в его инструменте. Урвут – и с ним уравняются. А место ему было, может быть, только в музее. Не научили, ты знаешь, уважению к старым мастерам.
– Кто не научил-то?
– Да хоть кто. Механик хоть того же дядю Витю Панченко тыкает. А кто он перед ним? Мелюзга. Взяли себе за правило – тыкать. Место свое надо знать. Какой он начальник, если с людьми разговаривать не умеет? А на него глядя, другие тыкают. Тут как-то давай меня на цеховом профсоюзном собрании разбирать за то, что не выполнил их очередную дурь – в колхоз не поехал. Так один дядя Витя и вступился: «Чего, – говорит, – взялись парня донимать? Чем, – говорит, – он вам не угодил? Юрченко, – говорит, – настоящей рабочей кости. Я с его отцом, почитай, тридцать лет бок о бок работал, так парень – весь в него, нисколько не уступит. Вы, – говорит, – сами без роду-племени, а сживаете со свету представителя рабочей династии». Так и сказал: представителя. Хотели, ты знаешь, прогул мне влепить, да никто не проголосовал. Послушали-таки дядю Витю.
– Вот видишь, не так уж все плохо, есть совесть у людей.
– Есть, конечно, но совесть без профессиональной чести – ноль, каждый ведь знает, чего сам стоит, а так, когда все серенькие, проще самому спрятаться, затеряться среди себе подобных. Дурочку гнать. Вот и ушел я в одну хитрую организацию стропалем. Зарплата – та же, ткнули – пошел. Сказали – сделал.
– И не зовут обратно?
Иван усмехнулся, махнул рукой, встал и направился в куть. Слышно было, как загремел крышкой от фляги – пил воду. Уже оттуда:
– Зовут, ты знаешь. Сегодня встретил механика. «Возвращайся, – говорит, – Юрченко. Со спецами трудно. Разряд дадим». Черта лысого им! Я, конечно, вернусь: привык, ты знаешь, мозгами шевелить. Но для начала покуражусь. Надоело, ты знаешь, одно и то же талдычить: майна – вира, майна – вира… – И возвратившись из кути, добавил: – Все вроде довольны, а ты места себе не можешь найти.
Разговор приостановился. За окном взлаял вдруг пес Малый и тут же низко завыл, словно прорвалась бессознательно накопленная черная тоска по воле. Натужный крик собачьей души достал Ивана. Он дернулся к окну, постучал кулаком по переплету рамы.
– Да замолчи ты! – крикнул. Сел, задумавшись и отшатнувшись от Василия, от стола, по краям которого они сидели, от всего, что было в доме, что они видели, чего касались много-много раз.
Василий не стал его трогать. И не надо было его трогать. Не надо было срывать человека с той высоты, на какую вознесся его дух. Не надо было вырывать из той дали, в какую унесли его мысли. Где очищалась его душа, и выравнивался ход его сердца. Где обретала силу та несогласная в нем часть, властно призывающая не идти на компромисс, с той жизнью, в которой все вертелось и все вертелись и которая была противопоказана его природе, ибо в ней он терялся и терял себя.
До Василия вдруг дошло, что Ивану невозможно быть другим. Невозможно во имя наивысшей на земле правды. Что те, с кем он не согласен, только и ждут того, чтобы он стал другим, дабы беспрепятственно творить зло. Собственное извращенное представление о правильном устройстве жизни превратить в норму. И тогда можно будет напрочь порушить нечто главное, без чего нет и не может быть самого человека.
До Василия дошло, что люди, подобные Ивану, всегда были и всегда будут, и оттого вдруг стало спокойно за будущее всего мира.
Снова взлаял и низко завыл пес Малый. Снова Иван поднялся и ударил кулаком в переплет рамы. Снова собака и люди замолчали – каждый о своем.
Разговор их на том не пресекся. День был длинный и тихий. Время от времени накрапывающий мелкий дождь не торопился промочить землю, и было свежо и на дворе, и на душе. В природе наступала та пора, когда лето должно было перелиться в осень, но тепло будет уходить не сразу, оставляя надежду на яркие солнечные дни.
Братья вставали из-за стола, выходили на воздух, подолгу сидели на ступеньках высокого крыльца родительского дома, курили, неспешно распутывая накопившиеся между ними за последние годы узлы несогласия и непонимания. Иван рассказал наконец, почему отказался от мечты стать юристом. История эта лишний раз доказывала Василию, что брата он знал мало или совсем не знал.
Забрали его как-то в отделение поселковой милиции, забрали беспричинно, трезвого, забрали потому, что хотелось кого-то забрать, а он подвернулся под руку. За здорово живешь. Вероятно, не понравилось, как отозвался на окрик, как подошел, как стоял, как отвечал. В отделении двое подвыпивших сотрудников долго составляли протокол «дознания», подчеркнуто обращаясь к Ивану не иначе как «носатый» (брату в юности местное хулиганье покалечило нос). Покуражились, пока не надоело, замкнули в «предвариловку», а утром, уже протрезвившись, выпустили, не дожидаясь своего начальства. И надо же было случиться, что, приехав в Иркутск сдавать экзамены в университет, Иван оказался в одном потоке с тем из двух сотрудников, который особенно изощрялся в «дознании». Он подумал тогда еще, что этот в своем рвении выслужиться многих сделает виновными перед законом. Теперь глядел на него, суетящегося и потеющего в милицейской форменной одежде, и уходило куда-то желание поступать. Хотел даже сразу уехать, но удержался, заставил себя ходить на экзамены.
Потом Иван длинно и сбивчиво рассказывал, как вернулся в Нулут, как вышел на работу, встал у станка и душа его начала «благоухать как сад». Как понял, что ничего ему не надо, а мечты о юриспруденции – «блажь и дурость». Что правду свою должен искать там, где определила ему судьба.
* * *
В поезд Василий сел ночью. Истомленный сутолокой и напряжением последних дней, проспал часов десять, а проснувшись, поболтался по вагону и снова влез на свою верхнюю полку. Лежал, думал, слушал разговоры соседей по купе. А в поезде – известное дело – каждый норовит вывести на свое: на свои боль, радость, надежду.
– Да вы пейте, пейте чаек-то… Вот сахарок, вот конфетки, – удивленно приглашала старушка, лицо которой Василий не запомнил. Теперь, чтобы отвлечься, пытался представить говоривших и даже переместил подушку повыше, чтобы лучше слышать.
– Что вы, что вы, – в тон ей отвечал мужчина, – у меня свой припас, вы мое пробуйте, не брезгуйте…
– Да… – тянула старушка, – так вот и езжу от одной дочки к другой, а то к третьей. А там – и к сыну заверну. Сам-то, знаете, два десятка лет как уже помер. С войны он был израненный да контуженый. Все мучился, бедный, и меня мучил, царство ему небесное… Ох, как тяжело было жить и в войну, да и после нее… О-хо-хо… Досталась она нам, бабам, не приведи Господи… Да и вы-то, мужики, все изломанные, покалеченные…
– А я-то, представьте себе, с первого дня был на передовой, до Берлина дошел – и не единой царапины.
– Да что вы? – ахала старушка.
– Представьте себе, – утвердительно вторил ей мужчина. – Вот как войне начаться, ну вот завтра будто бы начаться – вижу сон. Будто бы иду я, а впереди меня – высокий темный лес и будто бы через него прямая-прямая дорога…
– Батюшки!..
– Представьте себе. Ну вот. Иду я по той дороге, и так будто бы страшно мне, так муторно, ну, прямо смерть моя наступает, и только! И тут будто бы на меня из лесу того – большой черный медведь. И давай меня ломать…
– Батюшки!..
– А я будто бы не сдаюсь, да и столкнул его в канаву. А тут и лес кончился, и снова светло так стало. Вот так я и войну эту столкнул. А было-то всего…
– Вещий сон-то, видно. Перед большой бедой всегда вещие сны бывают. А я вот ничего не упомню…
Мужчина кашлянул раз, другой, продолжал:
– Я-то, представьте себе, столкнул свою, а другая вот сына догнала.
– Что так? – участливо всполошилась старушка.
– У нас с женой – дочь и сын. Дочь народилась еще перед войной, окончила десятилетку и засобиралась на Дальний Восток на стройку.
– Где жили-то?
– В Ташкенте. Ну вот. Остались мы одни, загрустили, затосковали и наскребли последыша – сына, то есть. Рос – не могли нарадоваться. Окончил школу – выучился на офицера, женился. Ну и мы ждем-пождем внуков. А тут – эта война в Афганистане. Ну и подал он заявление. Добровольцем, значит. Уехал, а через месяц приходит бумажка из военкомата, дескать, просим явиться в такой-то кабинет. Пришли с невесткой, а там говорят: «Не волнуйтесь, сын ваш и муж доставлен в тяжелом состоянии сюда, в Ташкент, в больницу». И сообщают адрес больницы той. Мы – туда. Володя наш и в себя не приходит, и не помирает. С месяц горевали мы около его койки, и помер Володя-то. Схоронили мы его, осмотрелись – и все кругом стало чужое. Внуков он нам не успел оставить, а невестке – до нас ли, стариков? Молодая, красивая – найдет еще свое счастье. А мы решили переехать поближе к дочери да внукам во Владивосток. Вот и поехал я туда – домик какой присмотреть, теперь возвращаюсь к жене. Соберемся, сходим поплачем на могилке-то Володиной – и в путь-дорогу.
– Да… никогда не знаешь, где она тебя подкосит, – начала старушка то ли для того, чтобы утешить соседа, то ли о своем в продолжение разговора. – Я тоже помирать было собралась, и дети уже съехались. Еще за года два, перед тем как самому-то сойти в могилу. Заболела, знаете, по-женски, а в деревне какие лекаря? А мне все хуже и хуже. Тогда дочка меня в район, а там и в область. «Рак, – говорят, – надо на операцию». «И-и-и, – отвечаю, – какие уж там операции, давайте меня обратно, в деревню, в своих уголках хоть руки сложить». Но дочка настояла. Махнула я рукой и легла под нож. И живу, как видите, дай бог здоровья тому доктору, что болесь-то из меня ту страшную извлек.
Разговор для Василия принял тягостную форму и оттого стал неинтересным. Давило свое, только что пережитое. Да в общем-то никогда ему не пережить собственной боли, как никогда человеку не перешагнуть через самого себя – что-то да останется, остановит, повернет, столкнет лицом к лицу и укажет, откуда ты, кто твои мать и отец, из какого корня происходишь. Многажды раз видел Василий, как по-старинному – в «родительский», а по-сегодняшнему – в день памяти – всякий год идут и идут люди на кладбище. Ползут ветхие старушонки и тащат за собой быстроногих мальцов. Поспевает молодежь, крепят шаг зрелые мужчины и женщины. Несут бережно укутанные узелки, спортивные и хозяйственные сумки с лучшей, какая нашлась в доме, провизией и непременно поллитровкой горькой – не для еды и питья, а чтобы в скорбном молчании склонить головы у дорогих могил, в кротком общении с усопшими близкими по крови людьми очистить душу от накипи быстротечного времени, хоть единожды в году соединиться на мгновение, слиться памятью своей, сердцем с прахом легшего в землю нескончаемого ряда предшествующих поколений, уходящего в глухую ночь гулких веков. Преклонить колена за дарованное великое счастье – появиться на свет и жить среди живых. И встать с колен, чтобы продолжать жить, кровью своей питая саму жизнь.
Василий был свидетелем, как в этот день, несмотря на самые жесткие запреты, люди, ну хоть на полчаса, хоть на десять минут, хоть всего на одну минуту изощрялись в старании раньше положенного срока покинуть свои рабочие места. И уходят. Нет на свете ничего дороже и выше памяти крови, ибо в ней сосредоточено все то, что за всю историю своего существования накопило и упрочило, собрало и воссоединило человечество: чувство родственных связей, чувство национальной гордости, чувство Родины. Чувство изначальности всего сущего – матери всех матерей – Земли, из которой поднялось и расцвело само дерево Жизни.
Никак нельзя человеку забывать, откуда он, а забудет – не будет знать, куда идти. И растеряется. И потеряет себя. И разом засмеется и заплачет. И устанет жить. И перестанет бороться за жизнь. И погибнет…
На очередной станции поезд, уже остановившись, вдруг дернулся, словно не хотелось ему впускать в свои вагоны новых пассажиров. Не хотелось и Василию, чтобы в их тесном и тихом купе появился еще кто-то, поскольку одно место на второй – против его полки – оставалось пустым. Не хотелось всякой, даже мало-мальской помехи, могущей порушить пока еще слабое, но уже наметившееся в нем примирение с потерей части его самого в ушедшем из жизни единокровном человеке – брате Иване.
Но четвертый появился. Появился заметно, чуть ли не с порога навеличивая мужчину – «папашей», старушку – «мамашей». Василий хотя и не видел соседа, но обостренным слухом своим уловил в голосе вошедшего и желание понравиться, и осознанность того, что сделать этого не может, да и не умеет. Василий приподнялся, быстро взглянул на «зэка» – так уже окрестил про себя соседа. «Зэк» и есть: короткая стрижка, лицо бледное, какое бывает у людей, поставленных в условия, где нет человека «такого-то», а есть «осужденный такой-то». А «зэк» разряжал обстановку, решив, видно, с маху на первых встречных опробовать свой горький зэковский опыт общения с людьми – немало ведь, наверное, передумал о том, как «воля» воспримет его и как он сам сможет воздействовать на «волю».
– Вы, мамаша, интересуетесь, где я работаю? Летчиком я работаю. Лед, то есть, вожу. Видали, наверное, из окна вагона, как провожала меня моя кобыла Машка. Так, скажу я вам, кобыла такая только у меня и есть. Едешь, едешь, а она вдруг сядет на пенек и призадумается…
– Здоров ты, милый, врать-то, – небеспричинно заволновалась старушка. И тут же понимающе добавила: – Я хочу спросить тебя: что делать-то собираешься? Есть ли родители, еще кто? Куда едешь-то?..
– Эх, мамаша, хорошая вы, я вижу, женщина. В тещи бы такую, да всех дочек замуж, наверное, поспихивала.
– Почему же – поспихивала, сами в люди вышли. И про зятьев ничего худого не скажу.
Неудивительным показалось Василию то, что «зэк» в конце концов заговорил нормальным человеческим языком, на котором говорил до своего падения и которого не успел позабыть. А коль не успел позабыть, всегда остается надежда на возрождение, и это тоже Василий отметил. В нем начал пробиваться неподдельный интерес к разговору, свое на время отодвинулось, ушло куда-то в сторону.
– Вы, мамаша, правильно угадали, только что освободился я, пять лет отдал «хозяину». Я не буду убеждать вас, что я, мол, хороший и попал туда по глупости или по чьей-то злобе, хотя в зоне за все пять лет мне не приходилось встречать никого, кто бы в том, что сидит, обвинял только себя. Я только скажу вам для начала – и вам, папаша, скажу, что есть во мне большое желание выправиться и в людях жить по-людски. Иметь жену, детей, дом, работу. И чтобы не кололи глаза прошлым. Заслужить, чтобы не кололи… Только выслушайте, а я постараюсь рассказать по порядку, что и как со мной произошло.
До армии я жил, как и все. Отслужил, как все. Механик-водитель первого класса. Ну, устроился на автобазу – колымагу дали. Начал работать, осматриваться. Вечером – на танцульки, и не заметил, как женился. Все в норме! Проходит год, другой, и вижу я, что в семье-то моей вроде что-то не то. (А жили мы у ее родителей.) Так вот. Все вроде своим-то не могу им стать. А между собой у них, ну, прямо любовь не разлей вода. Три-четыре дня не видятся и бросаются друг дружке на шею, будто лет пять прошло. Поначалу даже радовался, что в такую семью попал, где ни ругани тебе, ни других недоразумений. Мои-то родители жили как на ножах, сколько себя помню, все отношения выясняли. Ну и стараюсь, работаю, друзей позабывал. А жили мы в доме барачного типа, где был общий на три семьи коридор. Там все разувались, снимали верхнюю одежду. Так вот. Пришел я как-то пораньше и в том коридоре задержался. Да и слышу разговор тещи с супругой. «И ты, – говорит, – сколько с ним собираешься жить? Что же, говорит, – по сердцу пришелся? Для него ли мы тебя растили?..» – «Да, мама, – отвечает, – неудобно как-то сразу взять и разойтись. Ребенка моего удочерил, да и плохого – что же про него сказать?..» – «Ну и, – говорит, – будет с него, Оленька теперь у тебя не нагулянная, дело свое он сделал. Запись в паспорте твоем законная». – «Ну, подожду, – отвечает, – не торопи меня…»
«Так вот в чем дело, – подумал. – Нужен я им был для того, чтобы своим чистым паспортом грех дочки прикрыть… Куда же, – думаю, – они тебя готовят…»
– И впрямь, – засомневалась старушка, – кому же они могли ее назначить?..
– В общем, прилип к двери – оторваться не могу. Помолчали они, и теща опять: «Ты когда в последний раз звонила Валерию?» – «Позавчера». – «Когда у него оформление документов?» – «В ближайшие три-четыре месяца». Теща вроде стукнула чем-то, в сердцах вроде. «Вот зятек свалился на нашу голову – уцепиться не за что! Пил бы хоть, что ли…» Выжидали, выходит, пока я закуролесю, и кранты мне. Понимаете! Я в жизни своей ничего подобного не встречал. На что уж в зоне дерьма полно, но чтобы так ни за что ни про что человека втоптать… Дернулся я – и в мордобойку – есть у нас такая на вокзале. Врезал пива, чего покрепче, и все во мне перемешалось. Помню, что приволокся домой, кричал на них, обзывал, поубегали они от меня, а проснулся – в милиции. Закружилась карусель, в общем. Теща на меня – заявление, супруга – заявление, какие-то свидетели выискались, каких никогда и в глаза-то не видел. Справки представили о телесных повреждениях, о том, что это было у меня в системе. Но главное… на работе такую характеристику выдали, что хуже меня будто никого и нет.
– Батюшки! – охнула старушка. – А там-то чего не разобрались?
– И никто не стал разбираться. Провернули все в считанные дни. Будто у них все уже было наготове. Говорю я, предположим, что-то следователю, а он этак боком на меня поглядывает и только одно повторяет: «Разберемся, подследственный, разберемся». И разобрался на три паски, да две в зоне накинули – психовал я первый год, места себе не находил.
Все в этом рассказе, не считая мелочей, было выверено и расставлено по своим местам. И люди встречаются глаже камня и с такими же каменными внутренностями. И сам человек, занося ногу для первого шага в самостоятельную жизнь, не всегда знает, куда ее поставить. Вытянет вперед себя руки, растопырит пальцы и бредет по стертым и выбитым дорогам бытия, пока не долбанется о что-то острое и твердое. Покрутит головой, помычит – и дальше. А там и яма, из которой уже никогда не выбраться. Но бывает: так долбанется, что задумается; и начинает сначала один глаз разлипаться, затем – другой. И прозревает человек. Заново принимается ощупывать знакомые предметы, искать всем и всему названия. Здесь для него и наступает самое время взять в руки фонарь и средь бела дня идти на улицу – на поиски такого же зрячего, как и сам.
Производство хотя бы взять. Не поверил Василий парню, что на работе было у него все гладко. «Колымагу дали» – не могло это его устраивать. В среде рабочей друзей не искал – и это начислялось как зарплата. А пришло время расчета – разбираться не стали, вытолкнули на широкую скамью подсудимых. Плюнули и растерли.
«Бывает еще у нас так, ой как бывает…» – размышлял Василий, припоминая до мелочей и свой визит к руководству предприятия, где работал Иван.
Пошел он туда, имея просьбу: чтобы оградку помогли изготовить да автобус выделили для поездки на кладбище. Но главное – хотелось посмотреть на людей, о которых много слышал от брата и в существование которых верил смутно, зная по опыту, что с таким характером, какой был у Ивана, ужиться с кем бы то ни было – задача почти неразрешимая. От того и пихали его то на сельхозработы, то на разгрузку строительных конструкций, где и нашел он свою смерть.
Когда назвал себя, вроде даже и не расслышали, кто он. Высказал просьбу, вроде и не поняли, что ему нужно. Из одного кабинета перешел в другой, а там и в третий. Сидят, усердно шелестят бумагами, хватаются за телефоны. «Дойму же я вас», – решил Василий и направился прямо к директору. Вошел, не спрашивая разрешения, сел, намеренно не отвечая сразу, кто он и что ему нужно. И лишь насладившись начальственным недоумением, сказал холодно, твердо: – Я брат Юрченко, хотел бы знать причины его гибели.
И, как пишут в романах, – «в мгновение ока все переменилось». Директор, оторвав тело от стула, принялся ссылаться на занятость, указал на бумаги, на телефоны, на окно за спиной, выйдя из-за стола, повел речь о плане, о его личных как руководителя сложностях в управлении предприятием, о том, что за всем «не усмотришь», везде надо «самому», ни на кого «нельзя положиться». Кончил тем, что через внутреннюю связь вызвал к себе инженера по технике безопасности и еще кого-то. Те явились незамедлительно, словно наготове стояли за дверью.
Пуще директора засуетились подчиненные – бегающие глаза, взмокнувшие лица, потерянные голоса. Схему, вычерченную на ватмане, достали, на которой изображены были и линия электропередачи, и как стоял автокран, и где был исполняющий обязанности стропальщика ввиду производственной необходимости фрезеровщик И.Н. Юрченко.
Слушал их Василий, смотрел на них и дивился человеческой податливости на всякое зло. Выходило: виноват во всем автокрановщик – тоже погибший, поскольку стрела при разгрузке конструкции коснулась проводов линии электропередачи. Смешно было бы уцелеть. Но еще смешнее было допустить, чтобы люди работали вблизи страшной силы, каким является ток высокого напряжения в тридцать пять тысяч вольт. Василий даже вздрогнул, представив, как с жутким потрескиванием электроны скачут внутри проводника, словно подталкиваемые напирающими сзади собратьями, и по пути автоматной очередью разряжаются по двигающимся живым мишеням. Плевать им, что через них в конкретной человеческой семье будет горе, а он, Василий, будет сидеть в этом кабинете с совершенно измученной душой, с чувством, близким к гадливости, будет слушать, как добивают поверженных в прах истинные виновники случившегося – со знанием дела, с отстраненной от всего на свете совестью.
«Интересно, – глядя на них, думал Василий, – как бы любой из вас вел себя на моем месте? Кричал? Взывал к справедливости? И кричал. И взывал к справедливости. А как бы я вел себя, оказавшись на их месте?..»
Здесь его мысль оборвалась: ответа не было. Оборвалась, потому что разрядилась в саму себя. И это было мучительно. Только человеку дано познать безвыходность, всякая другая сила на свете в кого-нибудь или во что-нибудь разряжается, на кого-нибудь или на что-нибудь оказывает действие. Но ко всякой однажды недодуманной мысли человек возвращается. И Василию сейчас нестерпимо захотелось поделиться ею. Он вспомнил, как перед отъездом мать сунула в портфель бутылку вина.
– Может, где помянешь Ваню…
Тогда он, целиком ушедший в себя, горько усмехнулся: где же найти способного понять собеседника? Теперь поразился мудрости матери, угадавшей состояние сына, из которого есть только один выход – через людей. Он поставил бутылку на стол, извинился, впервые за долгую дорогу внимательно посмотрел на своих попутчиков. Старушка и пожилой мужчина ничему не удивились, словно явление его народу было им ведомо в самом начале, парень забеспокоился, но смотрел с любопытством: для него Василий был объектом новым, который еще надо познать и завоевать.
– В самом деле, – не зная с чего начать, сказал Василий, – едем мы в поезде давно и не познакомились, хотя я переслушал все ваши разговоры.
– И ты, милый, чайку с нами попей, – поддержала его старушка, – видим, как на своей лежанке вертишься… Мы тут про жизнь все, дорога-то дальняя.
– Да… – для чего-то посмотрел в окно мужчина, – дороги рассейские не объездить, не обходить. Уж где я за войну-то не бывал! Только сгоним немца из одной страны – глядишь, она-то уже и кончилась. А у нас – едешь-едешь, идешь-идешь…
– А я так нигде и не был, – решился вступить в разговор и парень. – Сейчас вот еду, а куда – сам не знаю.
– Не верю я, что не знаешь, – оборвал его Василий, – давай уж до конца выговаривайся, а для начала – выпьем. Интересны мне твои разговоры…
Разлил в стаканы из-под чая вино, не выпуская из руки бутылку, добавил, как бы сглаживая резкость тона:
– Мать вот в дорогу положила. Помяни, говорит, с людьми брата… с похорон я…
Подал стакан парню.
– Зовут-то тебя как?
– Мишкой.
– Давай, Михаил, за брата моего Ивана, а потом уж и за твои, так сказать, проблемы…
* * *
Накатанная многими колесами железная дорога надвигалась названиями станций, грохотом мостов через большие и малые реки, унылым или, наоборот, веселым пейзажем за окном. Старушка дремала, укутав ноги одеялом, мужчина читал газету.
Они говорили, как давно знакомые, и в голове Василия уже не мелькало в отношении парня удобное и обидное определение «зэк». И парень вспомнил себя не ломаным и некрученым, каким был пять лет назад, только в рассуждениях прибавилось зрелости и уверенности.
Василий и радовался этой уверенности, и дивился настроенности на преодоление.
– Ты вот, Михаил, не понял, за что тебя ударили. А не боишься, что снова ударят? Не боишься снова быть брошенным на землю вниз лицом? Что делать-то будешь, если долбанут или сам где накуролесишь?
– Не выйдет. В зоне народа глупого мало попадается, лучше любого юриста разберут любое преступление. И если уж, освободившись, снова становятся преступниками – натура так велит. Природа человеческая пакостная. Такие и в зоне обживаются, как в родительском доме. И коль ты послабее, так и норовят тебе подлянку сделать. Мне ведь два года как добавили: дал одному в морду, а он упал и орет, будто его режут, – заранее рассчитал, что услышит кто надо. Но есть другие люди, их бы я даже и не держал там. Через такие душевные муки прошли они, через такие казни и инквизиции, что рядом ни с кем нельзя поставить. Вот я себе нашел корешка – год ему еще отбывать. Кремень мужик. На воле художником был и, говорит, в большие метил художники. На машине человека убил. И человек-то, говорит, всего ничего, бич какой-то, в пьяном виде под колеса угодил, а ему – на полную катушку. Так вот он-то и объяснил мне смысл жизни, через него и я много чего уразумел. «Ты, – говорит, – Миша, тех людей забудь. Их равнодушием бить надо, чтобы чувствовали вокруг себя вакуум, пустоту. Они ведь потому друг другу на шею бросаются, что устают от собственной исключительности. И друг другу они чужие, какими были и тебе. Все у них рассчитано и измерено, каждый шаг, ничего просто так человеку не сделают. Но самое страшное, – говорит, – добром показным пробивают себе дорогу. Исключительность свою, когда надо, прячут подальше. По головам человеческим ступают и такие карьеры делают, что только диву даешься». Не сразу я поверил, долго ходил, смотрел, как ведет себя, как держит, поступает. А поверил – жить легче стало, почувствовал, что выкарабкиваться стал из ямы. На волю захотел. К людям захотел.
– Дрянного человека, говоришь, убил? Но человек-то, он всякий – человек: и дрянной, и хороший. У всякого жизнь одна, всякому хочется проползти свою от сих и до сих. Да и закон должен быть один.
– Я и не спорю. И корешок мой никого не винил. «Должен, – говорит, – и я свое отбыть, иначе каждый станет делать, что ему вздумается». Но в тех условиях по-другому жизнь оцениваешь. Набьют, скажем, в камеру человек шестьдесят. Сидят люди – все пропитано прелостью и ненавистью человеческой. И каждый знает, за что другой сидит, – там ничего не скроешь. Сидят убийцы, сидят такие, которые хотели убить, да не добили свою жертву по каким-то причинам. И, скажем, ползет по стене клоп – жирный, и все равно жаждущий крови, так никто его не трогает, будто жизни его цены-то нет. А упадет на пол чашка, все вздрогнут – так, кажется, и вцепятся друг в друга. Вот и мера тебе…
– А кто этот Валерий?
– Валерий?.. А бог его знает. Я и не пытался узнать. Только раз как-то мелькнуло это имя у супруги на языке, вроде от обиды проговорилась. Я тогда подумал: «Дружок какой в прошлом» – и не придал значения.
– Ну а сейчас куда путь держишь? – подобрался Василий к главному.
– Сейчас?.. – парень, слегка отстранившись, внимательно посмотрел на него, словно раздумывая, – стоит ли говорить? – А не поверишь. Я и сам – верю и не верю. Товарищ мой, художник, больше жил в деревне. «Природу русскую, – говорит, – люблю писать. Характер русский». Так вот. Имел он переписку с одной семьей из той деревни, где и квартировал. «Истинно русские люди, – говорит, – без хитрости и лукавства. Строги и человечны». У хозяев у тех дочь ребенка без мужа воспитывает. Так он уговорил меня написать ей. «Ты, – говорит, – напиши ей все как есть, ничего не скрывай, и, я надеюсь, если не жену верную, то друга в ней обязательно найдешь». Я и написал – не письмо, а чуть ли не целую книгу. «Чего, – думаю, – терять-то мне?..» Ответила. Потом фотографию прислала свою и сына. А когда освобождаться мне, получил я от нее это вот письмо.
Парень полез в карман, вынул похожий на записку вчетверо сложенный тетрадный лист. Текст был небольшой, написан мелким скорым почерком. «Я, Михаил, тоже рассчитываю на свое маленькое женское счастье. До сих пор я жила без обиды на людей, потому не хочу, чтобы обидели и меня, и моего сына словом или поступком. Три года живу одна, два из них – жду твоих писем. Не скажу, что в них ты рассуждаешь как зрелый мужчина, на которого можно в жизни положиться, но это поправимо. Вместе мы справимся и с твоей обидой.
Я жду тебя при одном условии: приезжай с открытым сердцем».
– Видишь как: приезжай, дескать, только с открытым сердцем…
– Дурак, ты, Миша, – что подумал, то и сказал ему Василий. – Твой художник действительно мужик с головой, заранее предусмотрел, куда тебя пристроить. К хорошим людям, то есть, пристроить. Где нельзя не быть человеком. А ты и здесь с обидой… Ду-рак ты, Миша… Дурак… – Василий почувствовал желание сказать больше. К нему вдруг вернулось ощущение безнадежности, какое не покидало его в давних разговорах с братом, только к безнадежности примешивалось еще что-то, и он нарочно растягивал слово «ду-у-ра-ак», попытался дать название этому новому, чтобы уж не говорить в пустоту, а твердо знать: слова достигнут цели. Да и не Иван сидел перед ним. «Этот выкарабкается, – мелькнуло в мозгу, – и я должен помочь ему, должен». И Василий заговорил – в первый раз за всю их дорогу длинно, горячо и пока сложно, надеясь со временем найти слова, способные достать парня. Как равный с равным, как старший брат с младшим.
– Понимаешь, существуют заведомо ложные положения, которые неизменно выдвигаются, если требуется решить какой-то жизненно важный вопрос, и тем самым это решение сводится на нет – затушевывается, принижается, отодвигается. Вот несколько таких: «Хорошего в жизни все равно больше». Или: «Хороших людей все равно больше». Обобщили и, образно говоря, словно бы плеснули из банки на холст жизни голубой краски – и отодвинули решение проблемы. Успокоились сами, и на время успокоили других. О молодежи, например: «но все равно молодежь у нас хорошая». Понимаешь, этак веско сказали: «Но все равно у нас молодежь хо-ро-ша-я», – и словно бы перестала существовать проблема наркомании, пьянства, проституции, а в конечном итоге – заметно снижающаяся год от года духовная полноценность наших вертлявых балбесов. Или еще более категоричное: «Мы – оптимисты, мы уверенно смотрим в завтрашний день». Смотреть, конечно, надо, но и не забывать осматриваться, а замечая плохое, неспешно разбираться, откуда ветер принес на наши головы черную тучу безверия, бездеятельности, бездуховности. От этих заведомо ложных и как бы узаконенных положений вред идет колоссальный – людям, стране, нам с тобой… Квалифицировать их можно как национальное бедствие, ибо положениями этими мы отгораживаемся от всего, что мешает совершенствоваться, находить действенные средства защиты от конкретного зла…
Василий остановился, уловив в глазах парня не то сомнение, не то тревогу, но смотрели эти глаза с интересом. «Непонятное мету. Надо проще. А, черт с тобой», – решил, чувствуя, что и его наконец прорвало и ему надо выговориться.
– Но беда здесь даже не в самих положениях и не в говорунах, которые на разных уровнях их произносят. Беда в том, что существует немало людей, которым такая постановка вопроса выгодна. Они готовы памятник поставить тому, кто выдвинет очередное, потому что чем больше таких положений, которые сообразно злобе дня можно менять, как рубашки, – тем лучше. Удобнее где-нибудь на кафедре в институте сохранять за собой теплое местечко. Проще морочить головы подчиненным где-нибудь в райкоме или исполкоме. Проще таких, как ты, дураков, загонять в тюрьмы. А те, кому это выгодно, рушат тем временем все, до чего могут дотянуться руки. Природу рушат – моря, озера, реки, леса. Выкорчевывают национальные традиции, отшибают память, чтобы человек и думать позабыл, откуда идет и куда ему дальше топать. Отрекся от могил своих предков. Отлучился от всего, что составляло смысл жизни, что крепило уклад семьи, что наполняло верой вчерашний, сегодняшний и завтрашний день матери, отца, деда, прадеда.
Понимаешь, Миша, твой художник, видно, поберечь тебя решил, потому и сказал неправду: не равнодушием таких людей бить надо и не с обидой в сердце. Разоблачать их надо. Только с мозгами разоблачать. Я и сам не знаю, как это делать, да и никогда не думал об этом, пока брата не похоронил и не понял, что Иван – брат то есть мой – лучше меня знал, как жить, хотя я и старше и образование высшее имею, а он был всего лишь простым рабочим. Тут дело не в годах и образовании, тут, видно, душу образованную надо иметь, чтобы в душе-то этой присутствовала нормальная человеческая совесть…
Подвел итог и тут же осознал, что последнюю фразу сказал с чьих-то слов. Смутно почувствовал это и парень. Но Василий не дал ему сказать, заговорил снова, пытаясь вывернуть на главное.
– Вот ты говорил, что нет такого осужденного, который бы подолгу не смотрел на забор, на дорогу, ведущую из зоны. И ты смотрел. И думал, конечно, о том, как будешь жить, как воскресишь в себе человека. А вышел – с обидой и уже обиду свою готов перенести на ту, с которой собираешься начать новую жизнь. И ты ее обидишь. Обидишь непоправимо. А за что? Неужели эти пять лет не породили в тебе естественного желания сделать хотя бы одну-единственную живую душу счастливой?
– Да это я так сболтнул. Прости ты меня. Там ведь почти каждый кого-то из себя изображает. Вот как вошел в купе, так и начал дуру гнать. Сначала бабка эта урок преподала, теперь – ты. И я рад этому. Ой, как я, Вася, рад этому…
Парень последнее сказал неожиданно тихо, затем вдруг откинулся спиной к перегородке купе и засмеялся. И так же внезапно склонил голову к коленям, обхватил руками. Василий же, ни слова не говоря, поднялся, вышел покурить.
* * *
В тамбуре было накурено и одиноко. Это место человек проскакивает быстро, а если и приходит напихать себя никотином, то долго не задерживается. Но сейчас оно как нельзя лучше подходило к настроению Василия. Он думал о том, что вот жизнь, каждый норовит назначить ей свою цену. Один карабкается к ней через всю войну и – пусть во имя самой жизни – убивает жизнь в других и спасается. И, спасенный, начинает новую жизнь, надеясь продолжиться в сыне, а тот обрывает цепочку, падает от тех же пуль, какие выпускал когда-то в других отец. А сыну его для того, чтобы продолжить свою, зачатую уже во внуке, не хватило, может быть, всего одной ночи…
Старушка эта… Она и не карабкалась. Она была согласна помереть, и за смирение и покорность судьбе жизнь словно бы вознаградила ее и веком долгим, и покойной старостью. И, кто знает, может быть, в смирении и покорности ударам судьбы и есть ключ к мудрости? К наивысшей гармонии между самой жизнью и самой смертью?
Или парень. Ткнули в душу, как в зубы, он и упал. Налетели, попинали. Вместо того чтобы приняться за излечение этой самой души, на целых пять лет поместили с отбросами человеческими, да еще и людей с ружьями да собаками приставили. И усмотрел ведь среди отбросов-то золотник, потянулся к нему, и тот для него засверкал, дорогу осветил к возрождению, и выкарабкается, заживет своим домом. И не пакостно заживет – по чести и совести. Детей народит. Чужого ребенка своим сделает.
А Иван… Для чего-то и ему дана была жизнь. Как и Василию дана, или Петру, Сидору, Никифору. Как всякому. У всякого-то ведь и голос, и походка, и облик, и завитки на кончиках пальцев – свои. Не чужой же век заедать приходит человек, а созидать человеческое. Крепить и вздымать к небесам здание духовное – через слово, работу от всего плеча, поступки по совести. Через правду, в какие бы лохмотья ее ни нарядили, в какой бы дальний угол ни загоняли, какую бы напраслину на нее ни возводили. И он хотел жить по правде. Он шел к людям утверждать правду.
Василий вспомнил, как перед отъездом ходил по дому, заглядывал во все уголки, в тумбочки, шкафы, кладовку. Внимательно осмотрел двор. Очень хотелось увезти с собой на память хоть какую-то вещь, при взгляде на которую пришла бы мысль о брате. Вещь нужна была небольшая, способная уместиться в портфеле и чтобы непременно сделанная его руками.
Такой не находилось: поправил забор, изладил калитку, перекрыл крышу – всего этого не увезти. Тогда начал просматривать старые бумаги, книги по фрезерному делу. Закладка, письма, открытки… Не то! Не попадалось искомое. Василий не отступал, всматривался в трудный почерк Ивана и в двух новеньких тетрадках наткнулся на отрывочные записи, сделанные, видимо, сравнительно недавно. Что-то вроде дневника. Вчитался и в который раз поймал себя на мысли, что не знал Ивана. Никто не знал. Всем только казалось, что знали, а заглянуть поглубже не удосужились. Записи обо всем и обо всех. Собственных мыслей или заимствованных – этого Василий утверждать не мог.
«…Человек рождается для того, чтобы пробудить в другом человеке совесть, и тем самым как бы приблизиться к нему, сделаться родным не по крови, а по осознанию своего места в окружающей жизни. Такая связь прочнее любой родственной. Совесть, как и ум, может быть глубокой или, наоборот, – поверхностной. Как и ум, требует она постоянной над собой работы, самообразования и воспитания. Широко образованная совесть – когда она принадлежит всем, точно так же как история – не наследство царей, отдельных правителей, а всего народа. Такая совесть бывает у больших писателей, художников».
«…Родственники меня не понимают. Не понимает брат Василий, хотя он-то и должен бы понять. Почему не понимают?.. В этом надо разобраться».
«…Многого от окружающих я не хочу. Помолчи там, где молчанием своим можешь помочь другому. Скажи там, где ждут от тебя слова. Не пренебрегай тем, кто живет рядом с тобой: сострадание необходимо для продления в самом человеке человеческого».
«…Почему меня травят? Всякое утро, уходя из дому, мне кажется, что ухожу в последний раз. Не хочу возвращаться к родным, но и не хочу идти туда, куда иду. Челнок швейной машины “Зингер”, как и я, двигается в двух направлениях, но при этом ровной строчкой ниток скрепляет два куска материи. К этому и должен сводиться всякий смысл бытия. Я же ничего не скрепляю и никого не соединяю. Потому меня и травят…»
Как и телеграмму, сообщающую о гибели брата, записи эти Василий перечитал много раз. Что-то принял сразу, что-то начинал понимать только теперь. Но одна фраза не укладывалась в голове: «Уходя из дому – ухожу в последний раз…»
Федя-банщик
– Березовые веники надо вязать после Троицы. Да-а… Тада лист прочно сидит на ветке, вся жисть в нем, сила сохранена и дух: лесной, особый, здоровящий. Лучше, ежели лист не мелкий и не крупный – средний. Ежели мелкий, то дерево в годах, ежели крупный, то дерево молодо, а молодо – зелено. Так в человеке: сила в ином прет через край, а ума нет, значит, и крепости. Ну, а со старика че взять? Вот и лучше, када лист средний…
– А еще знатно, када пихтовый веник, тока колюч больно, а дух, ну прямо таежный. Так и охватит все кости, и тока жарь себя, тока жарь…
– Пра-ай-дем?..
Сидят старики – любители попариться, погреться, а может, больше поговорить, вот так устроившись на лавочке, дожидаясь своей очереди в общую баню.
Стоят зрелые мужики и тоже ведут беседу, каждому есть что сказать, у каждого – жизнь, в ней – много всякого.
– Всю эту неделю дрова готовил, листвяк колется, только щепки летят, а сосна – суковатая, ломается, крошится. И вообще, не нравятся мне нонче дрова: поленницы от сучков получаются какие-то кривые, того и гляди завалятся…
– И не говори. Прошлые годы деляны давали, так одна береза. Готовить – удовольствие, а горят как? Печка так и пышет, не притронешься…
– Пра-ай-дем!..
Стоят, держась за полы отцовских тужурок, полушубков, фуфаек – пацаны. Кто поменьше – опасливо таращит глазенки по сторонам – и ближе к родителю, чтобы защитил. Кто постарше – толкают друг друга, препираются.
– Не ври, слышь, ты не из нашей школы, ты совхозовский, наши пацаны вашим прошлый раз нормально вкатили, с красными соплями ушли. И щас, не батя, так я задал бы тебе…
– Кто? Ты? Да у меня братан одной рукой двухпудовку жмет хоть сто раз и меня учит. Пощупай силу, да не двумя руками… Чуешь? А ну-ка ты согни руку…
– Пра-ай-дем!..
Стоят иногда люди часами, тратя на это большую часть своего выходного дня. Переминаются с ноги на ногу, шелестят зажатыми под мышкой вениками, изредка протискиваются «на воздух» – покурить. И никакой силой не отвадить, не отучить.
Порядок в бане удивительный. Редко слышишь окрик:
– Ты, наглая твоя челдонская морда, куда прешь?.. Какой у тебя номер?..
– Двести пятьдесят второй.
– А какой сейчас идет, не знаешь? У меня двести двадцать восьмой, а я и то не лезу без очереди…
На выходящих в распахнутой на груди одежде красных, потных мужиков смотрят с завистью и с нетерпением ждут, сколько раз прокричит Федя-банщик свое «пра-ай-дем», чтобы войти в раздевалку. Войти торопливо, отыскивая глазами освободившуюся кабинку.
– Пра-ай-дем!..
Федя – высокий, худой мужик лет сорока пяти. Некогда голубой, а теперь выцветший от времени халат болтается на костистых плечах, и вся фигура его кажется нескладной, но это в те редкие минуты, когда, запыхавшись, садится отдохнуть. Вообще же он постоянно в движении. Не успеет мужик выйти из моечной, Федя уже с ключом – открывает дверцу кабинки, где висит одежда. Через секунду – подтирает шваброй лужицу воды, набежавшую с голого распаренного тела. Проделывает он свою нехитрую работу с достоинством, словно не в бане работает, а машинистом паровоза дальнего следования.
Мужик еще натягивает штаны, а он уже кричит:
– Пра-ай-дем!..
Голос у Феди резкий, тренированный, в полном подчинении у хозяина. Людей распознавать научился с первого взгляда. Со своим братом-работягой разговаривает просто, как с равным. С начальством без заискивания, но соблюдая дистанцию. С пожилыми – уважительно, с молодежью – снисходительно.
– Слышь, отец, дай-ка я тебе майку на спине поправлю, ишь, завернулась как… – подойдет к старику.
– Вы, я понимаю, пар наш трудно переносите, – участливо обратится к другому, – работа, видно, у вас не на пуп поднимать, спокойная, но ничего, почаще приходите, привыкнете.
– Постой-постой, – вклинился уже в беседу спорящих мужиков, – в каких, говоришь, частях воевал? В танковых? И мой свояк в танковых. Горел, говоришь? Что же на тебе ни одного пятнышка? Успел выскочить? Ну, брат, значит, ты не горел, а так, где-то рядом был… Вот мой свояк горел – места живого не осталось…
Мужик обижается, в беседу втягиваются другие, вспоминают один случай, другой, кто-то смеется, кто-то переходит на крик.
Неизменным остается Федино:
– Пра-ай-дем!..
В сибирских банях – пар сухой, клубами поднимающийся к потолку, плотной матовой завесой заполняющий все его пространство. Любителей взять с собой на полок тазик с холодной водичкой гонят с позором, не терпят, когда кто-то плюет на пол. Таких могут матом покрыть, да так, что навсегда дорогу забудут.
Парятся со вкусом, с умением, иные – надев верхонки и нахлобучив на лысые головы облезлые шапчонки.
А эта баня – особенная, любят ее, потому что в ней работает Федя, которого так и называют: Федя-банщик.
Он знает все: зашел разговор о войне, Федя – фронтовик, был ранен, контужен. Переключились на охоту, и Федя – охотник: ходил на медведя, подскажет, по каким признакам лайку выбрать, как зверя затравить.
С рыбаками – и он рыбак. С любителями анекдотов – и он может завернуть такое, что своды бани сотрясаются от смеха. Федя знает все поселковые новости: знает, что на третьей улице дом сгорел, гореть начал в три часа ночи, а пожарники приехали в пять. Знает, что около клуба хулиганы раздели приезжего и тот обморозился. Знает, что скоро начнется строительство многоэтажных домов, а на улице Блюхера будут прокладывать асфальт.
Но дело у него всегда остается делом. Лениво одеваешься – подгонит, замешкался – поможет валенок из-под лавки достать, пришел «под мухой» – укажет на порог, не в настроении – развеселит.
А на Федино «пра-ай-дем» мужики реагируют, как на заводской гудок: если подходит очередь, враз бросают все свои разговоры и молча занимают место у двери в раздевалку. Заранее расстегивают на тужурках, полушубках, фуфайках пуговицы, снимают шапки, для верности спрашивают друг у друга номер билета.
У Феди нет любимчиков, «своих», которых бы он мог пропустить без очереди, здесь имеет силу только одно слово:
– Пра-ай-дем?..
Где живет Федя, есть ли семья у него, дети – никто никогда не интересовался, только однажды какой-то весельчак спросил:
– Ты вроде с виду мужик здоровый, а работу себе выбрал, ну, прямо смех: неужели нельзя было на «железку» или еще куда податься?
– А ты не удивляйся, – спокойно ответил Федя, – ты встань на мое место и попробуй, как я, до пятисот человек в день помыть, тогда узнаешь легко ли здесь.
– Да хоть тыщу, платят-то небось копейки?..
– Ты свои тысячи хоть до дома доносишь? Морду-то за кирпич можно принять…
Молодец было рванулся, но мужики одернули, и ушел весельчак, понося банщика последними словами. А вслед неслось жесткое, надежное:
– Пра-ай-дем!..
Заставить себя слушать Федя умеет, это признают все, и мужики привыкли к его голосу, манерам, фигуре. Они охотно делятся с ним и хорошим и плохим с равной уверенностью, что слушает их заинтересованный человек, говорят о заморозках, о видах на урожай, о каких-то хозяйственных делах. И, кажется, идут в баню не столько ради тела, сколько ради души, чтобы снять ржу, побыть в чисто мужском обществе.
Старики молодеют, вспоминая, как в рождественские праздники гоняли на лошадях по окрестным деревням высматривать себе невест. Как покойный родитель порол потом вожжами и сватал девицу по своему усмотрению, и как прожили они жизнь тихо, построив себе дома и воспитав детей, которые стариков теперь и в грош не ставят.
Зрелые мужики больше говорят о насущном, чем наполнен их день.
Задушевные беседы начинаются в очереди, продолжаются в раздевалке, переносятся в моечную, а затем – в парную. Завершаются – опять в раздевалке.
А Федя вроде регулировщика на перекрестке. Он вызывает людей своим «пра-ай-дем», раздевает, уводит непосредственно в баню, встречает, одевает, провожает. Для каждого у него находится слово, и вряд ли успевает запомнить мужиков в лицо: ему все равно, кто ты, откуда. Главное, чтобы людской поток двигался без заминок, свершая полный круг.
Федя никогда не думает, есть ли у него другая жизнь – вне бани. Совершенно разбитый, с болью в ногах, спине, голове возвращается поздно вечером домой, где тишина, где жена с лицом белым, как простыня, где занавески на окнах, старая сахарница на столе и скрип половиц отживающего свой век дома.
Он пьет давно остывший чай, смотрит в одну точку, молчит.
В облике Феди больше всего обращают на себя внимание глаза – темные, подвижные. В таких глазах никогда не бывает выражения скуки, даны они, чтобы смотреть: на людей, на дорогу, на птиц, внутрь себя.
Федя не переносит личных выходных дней, когда на его место в бане заступает горбатый Саня. В такие дни глаза его еще больше темнеют, морщины на лице кажутся глубже. Они смотрят внутрь. Он устал от частых возвращений в свое прошлое. Он ничего не забыл, помнит день, час, вкус черного дыма, вползающего в смотровую щель их подбитого фашистами танка, помнит лязг лопнувшей гусеницы и чувство безысходности, когда надеяться уже не на что, когда спасти может только чудо. Будто надвое переломился сунувшийся было в люк стрелок Иван Родионов, и его ожидала такая же участь. Но надо было выбирать: сгореть живьем в машине или получить порцию свинца, пущенного врагом из автоматов. И он рванулся, ловя слухом звуки выстрелов.
Ничего не услышал, и ужаснула его тишина, повергла в смятение, он понял, что она готовит ему еще более страшное. Фашисты не стреляли, потому что знали: он никуда не уйдет, он в их руках будет игрушкой, и они с ним сделают, что захотят.
Потом были бесконечные дороги, вонючие вагоны, колючая проволока концлагеря. И были два года медленного умирания, гниения, жизни, которую нельзя назвать даже скотской. Жизнь земляного червя, которого время от времени начинают насаживать на крючок.
И к моменту освобождения из лагеря у него уже не было ни сил, ни здоровья. Только желание – зарыться в сено, упасть в глубокий, чистый снег, посидеть на лавочке, у родного дома, сделать своими руками скворечник, напиться квасу.
– Не жилец твой Федор, – сказали жене соседки, когда впервые через пять лет переступил порог избы, – не работник…
Но, видно, был еще запас прочности: откашливался и отхаркивался, глотал травяные настои, лежал, прогреваясь в старенькой, срубленной еще дедом, бане.
А окрепнув, пошел работать куда полегче – банщиком. И там, среди людей, день ото дня все дальше отодвигался от пережитого, входил во вкус жизни, непривычной поначалу работы.
Он много смеялся, говорил, двигался. Иногда казалось ему, что все забыто, что ничего не было. Но прошли годы, и все чаще возвращался в прошлое, с усилившейся одышкой, с болью в груди, ногах, с приливающей в мозг кровью. С сознанием… что недалек конец.
Поэтому и не переносил выходных дней. И ни жена, ни хозяйство не могли отвлечь от мыслей; как никто не в состоянии по своей воле набросить человеку лишний десяток лет.
Нет, не свояк горел, это он в бане соврал однажды, он сам горел. И не пятна на теле имел в виду, а невидимые глазу, вечно кровоточащие язвы, которые поразили его душу от сознания, что в мире есть выродки, изуверы, способные себе подобных морить голодом, болезнями, страхом, способные стрелять и сжигать в крематориях, способные весь мир превратить в один большой гроб.
И радовался он работе, потому что целый день с людьми, тому, что они счастливы в своих заботах. С годами Федя убедил себя: главнее, важнее его должности нет на земле, а если каждый человек будет считать свое, пусть простое, дело самым главным, тогда люди станут добрее, злу в их сердцах нечем будет кормиться.
Иришкины грёзы
За перегородкой, в небольшой комнатушке, где едва вмещались старая скрипучая кровать да столь же старый небольшой стол с приткнувшейся к нему табуреткой, лежать было хоть и тяжко, но спокойно. Хлопала входная дверь, стукали об пол принесенные с улицы поленья, плюхался во флягу с водицей ковш – звуки эти повторялись изо дня в день вот уж который год с тех пор, как обезножила и послабела, растекаясь телом по комковатому потнику, брошенному на неструганные доски.
Изба, куда с болезнью Ирины Салимоновой хозяйкой перешла ее племянница Маруся, отзывалась на все с поразительной добросовестностью, будь то ветер, дождь, явившийся по какому-то делу сторонний человек или проехавшая мимо окон машина. Скрипела своим бревенчатым телом под напором налетевшего ветра, прела и рассыхалась от заливающих ее многочисленных весенних, летних и осенних дождей, дребезжала некрепко державшимися в рамах стеклинами. Ветер иной раз задувал так сильно и так настырно, что, кажется, раскатится-разбежится изба своими почерневшими от времени бревнами на все четыре стороны света и останется догнивать, затягиваясь зеленой плесенью, зарастая жгучей крапивой и горькой полынью, расцепившая наконец пальцы углов и освободившаяся от необходимости служить людям, собирая и удерживая тепло. От необходимости служить ей, Иришке, как прозывали ее в пору молодости, и какой она сама себя больше запомнила. Потом, в зрелые годы прозывали больше по отчеству – Павловной.
Правда, в последние годы о ней и вовсе позабыли, потому как сама она о себе, по причине неизлечимой болезни, не могла напомнить.
Но все же был един родной ей человечек, который и помнил, и навещал ее в последние скорбные годки, и то была Катя, Катерина, Катюха Юрченко.
Грузноватая, но все еще сильная и волевая появлялась в самый что ни на есть для Иришки тяжкий момент, когда болезнь, как казалось, одолевала тяжельше всего и уж не было никакой мочи открывать глазыньки, ворохать рученьками, исторгать из застывшего нутра какие-то ставшие вовсе не нужными ей словечки.
– Живая? – спрашивала во всю мощь своего низкого, но по-молодому сочного голоса.
И сама отвечала:
– Живая еще, моя дорогая подружка. Лежишь себе тут меня поджидаючи, не зная, не ведая, када предстану пред твои ясные очи. А я – вот она, рядышком с тобой посиживаю на табуреточке, приехала тебя попроведовать: как ты, что ты и кака тебе от меня может быть помочь. Бруснички тебе привезла сладенькой, грибочков солененьких, какими ты любила похрустывать, конфеток мягоньких, ватрушек пышненьких, котлеток еще тепленьких и четушечку беленькой для сугрева.
И начинала по-своему возвращать Иришку к свету в избе, к разговору негромкому, к чаю горячему – оглаживала руки подружкины, подкладывала повыше подушку под голову, поднимала, подтаскивая к спинке кровати, усаживала, чтобы не свернулось на бок обессилевшее тело Иришкино. Потом уж, вдвоем с Марусей, спускали они ее на пол, куда бросали какую-никакую шубейку, дабы не заколела Иришка на полу, и принималась налаживать постель: меняла привезенные с собой простынку, наволочку, пододеяльник, не переставая между тем корить Иришкину племянницу:
– Ты че эт, Маруся, тетке постель не заменишь? Забыла, видать, сколь она из-под вас горшков выносила? Или чужая она тебе? Или она тебе не подмогала, када твоя мамка померла? Иль ты думашь я ниче не знаю, ниче не понимаю, ниче не вижу? Все вижу и понимаю, ниче не пропущу. И тебе не спущу – не дам в обиду мою дорогую подруженьку.
– Да, теть Катя, теть Катя, я, кажись, все готова для тетки Иришки сделать. Зря вы уж… – всякий раз одно и то же бормотала Маруся, обдумывая при этом, под каким бы предлогом и вовсе скрыться из дому.
– Эт для меня она Иришка, а для тебя – Ирина Павловна Салимонова! Вот кто она для тебя, – доканчивала Катерина.
И более уж не обращала на нее внимания. Сама шла в куть, где находила чайник, наливала в него воды, ставила на электрическую плитку, находила нужную ей посудину, чтобы помыть и заварник, и тарелки, и стаканы, и ложки. Потом доставала из сумки припасы, молча принималась за привычную работу.
Пока Катерина не появилась из кути, Иришка, как могла, приободрялась, приводя себя по-своему в порядок: сгибала и разгибала руки, пробовала шевелить телом, дышала глубже и значительней, собиралась с мыслями.
Более всего Иришка думала о войне и обо всем, что было с нею, проклятой, связано. Потому что война для Иришки – это ее с Катериной молодость. А молодость – это когда все нипочем. Нипочем работа с утра и до темна. Нипочем шатанья по деревне с песнями до полночи. Нипочем голод и холод. Нипочем любая напасть и хвороба.
Уже в первые два месяца 41-го в их деревне осталось менее десятка мужиков – приписанных к недальней МТС лучших механизаторов колхоза, да и то, кому было под пятьдесят. Молодежь – забрили поголовно. Забрили двоих ее братьев – Володьку да Ваську, Катерининого братку, Володьку. Забрили деревенских: Ваньку Андриевского, Ваську Синько, Мишку Малахова, Саньку Дьячкова, Пашку Иванова, Кольку Ноянова, Володьку Матвеева и многих еще, кто уже никогда не вернулся в родную деревню Заусаево.
Оставались единицы их одногодок, народившихся в 20, 21 и 22 годах. Остался калеченный Колька, фамилию которого, как фамилии, имена многих других ребят и девчат, никак не могла вспомнить, – он славно наигрывал на хромке и, пожалуй, лучше всех в округе на все пятьдесят верст. Были другие, но с войной компания их поредела основательно.
Однако молодость требовала выхода через песню, через пляску, через общение с себе подобными. Потому в теплый вечер, когда придвигающиеся сумерки начинали скрадывать тени от закатившегося за горизонт солнца, выходили небрежной походкой ребята из калиток своих дворов на улицу, где за поворотом, в узком, спускающемся к речке Курзанке переулке поджидали их девчата, среди коих, конечно, были Катерина с Иришкой, причем рука Катерины почти всегда огибала старенькую балалайку, висевшую у нее на плече на сыромятном ремешке.
Колька растягивал меха гармони, а, предположим, Ленька Юрченко, приплясывая, а попросту говоря, придуриваясь, как бы обращался к девчатам шуточной частушкой:
Мы бы дома посидели,
Да поели холодца.
Но проверить захотели —
Не с овечьей ли кудели
У девчат наших коса?
Отвечала чаще Катерина: ловко скинув с плеча сыромятный ремешок, бросала балалайку на согнутую в колене, покрытую портяной юбкой ногу:
Мы бы тож не торопились
Разбивать с подружкой лбы.
Но сороки сообщили:
У ребят, что с вами были,
Из мочалок, мол, чубы.
Таким манером, перекликаясь-перебраниваясь, спускались к некрутому, занавесистому ивой и черемушником берегу. Ребята – наступали, девчата – будто бы заманивали их подальше за собой, приплясывая и подпевая в такт переливчатой Колькиной хромке и подзванивающей ей Катюхиной балалайке.
А речка уж подергивалась туманом и вот уже кто-то выворачивал полусгнившие ивовые пеньки, нес сухие ветки черемухи. И темнеющую предосеннюю зелень поляны осветлял костерок, к которому свешивались туго заплетенные косы девчат и чубастые головы ребят. А вокруг стайки этой звонкой деревенской молоди вились подрастающие мальчишки и девчонки – те, кто через годок-другой будет приходить сюда, на уравненных со старшими, правах.
Ребята посмеивались, дурашливо прижимаясь то к одной девахе, то к другой, но расходились в разные стороны по вьющимся вдоль берега тропиночкам с теми из них, к кому более лежала душа.
Про что толковали, над чем или над кем подшучивали, – бог весть. Мало, наверное, печалились и о том, что, может быть, уже завтра им придется расстаться навеки – на земле родной шла война и надо было землю свою защищать от ворога.
А девы заусаевские были уж в той спелости, когда надо вить свое собственное гнездо, о чем знали они сами, про что ведали их ухажеры. И что обещали друг дружке, в чем клялись – про то никогда не говорили промеж собой Катерина с Иришкой: ни той предосенней порой 41-го, ни опосля, ни в старости, когда, кажется, уж никакие тайны сердечные не за чем, да и не для кого хранить.
Война стучалась в окошки деревенских похоронками и особенно в первые месяцы. И то в одну избу входила беда, то в другую – черная немочь. То там голосила какая-нибудь вдова, то сям слышались безутешные рыдания и полдеревни шло к враз осиротевшим избенкам, сказать, какие-то бесполезные, но обязательные в любом горе слова, поплакать-погоревать. Такое было в первые месяцы, а может, и в первый год. Потом пообвыклись и на принесенную кому-то из деревенских похоронку стали откликаться только самые близкие.
В конце лета стали организовывать женскую бригаду трактористок, в которую записали Катерину Юрченко, Галю Бондарчук, Нюру Тихолазову, Шуру Татарникову и других девушек. Учились за восемнадцать километров от села Заусаево Тулунского района – в деревне Умыган, куда добирались пешим ходом. Курсы рассчитаны были всего-то на два месяца.
И в страду 41-го выпустили их в самостоятельное плаванье: кто начинал прицепщиком на молотилке, а кто и сразу на тракторе. И те, кому выпала такая неженская работенка, наплакались вволю. Намучился с ними и колхозный бригадир Афоня Богданов, мотавшийся с утра до ночи на своей лошаденке по полям колхоза от одного трактора к другому. И пока стоит, скажем, возле трактора Нюрки Тихолазовой, тот тарахтит. Но как только отъедет, и заглох тракторишко – слишком старая, изношенная техника была оставлена колхозникам, так как лучшие машины и лучшие лошади были угнаны бог весть куда для нужд фронта.
А девахами они были здоровыми, жадными до любой работы, правда, Катерина уступала Иришке в могутности молодого жаркого тела, да и росточком была пониже. За ради смеха подавали деревенские бабы на зерновом току Иришке Салимоновой мешок с зерном под правую руку и тут же под левую. И перла те мешки Иришка на верхний этаж колхозного амбара, будто лошадь ломовая. И верила, видно, в свойственной молодости безоглядности, что силы в ней никогда не убудет – до самого скончания света. Свет же, как известно, для каждого человека меркнет с его собственной смертью, ну, а кто думает об этой чертовке с косой в двадцать лет?
Приступала пора идти на войну и оставшимся на деревне парням, а для девок та весть была, что гром среди ясного неба – ведали ведь, чуяли ведь, что ходить им в девках придется долгонько. И какая судьбина ожидает каждую – никто бы не взялся предугадать.
Приезд подружки в который уж раз вернул Иришку в далекие годы их молодости и не заметила, как по щеке скатилась одна слеза, другая… Потом еще и еще. И, может быть, завыла бы, страдалица, своим выцветшим, с прорывающейся хрипотцой, голосом, да Катерина из кути подала свой голос:
– Иду. Заждалась небось. Счас мы с тобой будем пировать.
На столе появляются вареная картошечка со сливками, котлетки, брусничка, грибки, селедочка, ватрушки и пара граненых рюмок для водочки. Чай Катерина обещает позже.
– Ну будет тебе, Иришенька, – успокаивает все понимающая подруга. – Не оплачешь и не орыдаешь нашу с тобой судьбину…
– Да у тебя-то что? – отзывается на ласку Иришка. – Ты вышла замуж, деток народила, внучата уже у тебя. А я – никогошеньки и ничегошеньки себе не нажила. Работала, как вол, домишко этот вот купила, думала, семью заведу, деток нарожаю, а от кого рожать-то было? От кого?..
«Так-так-так», – соглашается про себя Катерина. Сама-то она выехала из Заусаево в Тулун и вышла замуж. Хоть за калеку, да вышла. А Иришка осталась в деревне. Года – под тридцать. Перезревшая и переспевшая. Тут у одного деревенского жена померла, оставив малых девчонок. Пожалела мужика Иришка и сошлась с ним. А он пить взялся. Пил-пил, пил-пил, да и надоело женщине маяться с таким-то муженьком и бросила такого-то муженька женщина. Девчонки его долгонько бегали к этой ставшей им родной, чужой тетеньке и она оглаживала своими изработанными руками их белесые головенки, совала, что было у самой в доме поесть.
Не-ет, ежели уж смолоду не сладилось, потом наверстать – все одно что зимой ожидать цветов на лугу.
Однако в долгу у подруги Катерине оставаться не след, потому тихохонько напоминает:
– Ты ведь помнишь, кого я в армию перед самой войной проводила?
– Помню: Саньку Горбатенко, – отзывается в другой раз Иришка. – Так и не возвернулся из армии Санька – война началась. Потом похоронку принесли.
– Вот-вот, а ведь никого я уж так-то не любила, хоть мне, старой, счас и говорить про это бы не надо – стыдно ведь говорить-то.
– Че стыдно-то?
– Да перед детями своими стыдно, перед внуками. Я ведь никому и никогда о своей занозе не говорила. В себе носила – все норовила вырвать. И думала, что вырвала. Но – нет. Ты вот напомнила. Деревня наша Заусаево, куда приехала, напомнила. Молодость наша с тобой напоминает. Ведь никуда она от нас, развалюх, не ушла, молодость-то. В нас она и – с нами.
– В нас, в нас, – соглашается Иришка. – Я вот лежу себе одна и уж, кажется, места живого на мне нету. А думаю, думаю… Вспоминаю, вспоминаю… И то горько станет на душе, то сладко. То горько, то сладко. И будто вижу, да что там вижу – чувствую себя молодой, сильной, красивой, боевой. И так встала бы с ненавистной постели и пошла бы куда глаза глядят. И делала бы всякую работу с утра до ночи, а уж приглянулся бы какой парень, так не отпускала бы его от себя до самой смертушки.
– И че мы дуры-то таки были? – встрепенулась от последних слов подруги Катерина. – Че себя-то блюли? Для кого берегли? Кому этим че доказали? И мы были красивые, и парни вокруг нас вились вьюном. И ведь не последние на деревне парни-то были – кровь с молоком! И «четверкой» плясали, и «пятеркой» заходились, и «шестерку» выворачивали ногами… А как обнимет который, так кровь в жилах заходится… Наработаешься за день, кажется, ноги еле несешь, а придешь к речке на вечерку – и пляски с песнями до упаду.
– До упаду, милая Катюха, до упаду, – счастливо улыбается своим воспоминаниям Иришка.
Пустела четушечка на столе, убывала привезенная Катериной еда и придвигалось время расставания – подруге надо было успеть к вечерней электричке, чтобы вернуться в Тулун.
Иришка внутренне трепетала от мысли о скором расставании с подругой, страшась нового долгого одиночества наедине с собственной немочью. Потому лихорадочно искала слова, могущие заставить продлить их встречу.
– Устала я, Катя, сколь годов уж лежу колодой, некому меня пожалеть-обогреть.
– Дак я ж приезжаю к тебе, Иришенька, сидим с тобой, балакаем, чаек пьем, – не знала, как успокоить больную Катерина.
– Ты вот сидишь, а я-то лежу чурка-чуркой. Уйдешь счас – када уж встренимся, може, никада уж…
– Встренимся, дорогая моя, встренимся. Скоро уж Рождество Христово, вот и подъеду к тебе утречком, попроведаю. Там и до Пасхи рукой подать. За Пасхой – Победа наша. Помнишь, как Афоня Богданов – царствие ему небесное – на лошаденке своей нам Победу в поле принес? Я тогда прицепщицей работала, а ты – мешки с зерном подвозила на телеге. Сеяли мы тогда уж не скажу, че: то ли рожь, то ли ячмень…
– И я не помню, че сеяли. А вот как Афоня приехал, помню. Все побросали свои трактора, телеги. Бегут друг к дружке, машут руками, кричат: «Победа!..» «Победа!..» Будто с ума посходили…
Иришка хотела добавить, что, мол, и стали они ждать возвращения с войны ребят. Но взглянула на подругу и осеклась – мысль эта загнанной внутрь болью и не выплаканными до конца слезами стояла в глазах Катерины. И сама Иришка вдруг почувствовала, что плачет. И обнялись подруги в который раз, припали вздрагивающими телами друг к дружке, зашарили руками платочки в кармашиках.
– Ну ладно. Засиделась я тут у тебя. Идти надо, а то опоздаю на электричку-то, – решительным голосом сказала Катерина. – Ушли те годочки, када могла топать хоть сто вест без устали. Не дойду до Тулуна, замерзну где-нибудь по дороге…
– А ты оставайся у меня, места хватит, – встрепенулась Иришка.
– Нет уж, дома своя работа: корову надо доить, поросятам давать ись, ужин готовить. Пойду.
Нет, все же есть на свете что-то такое, ради чего стоит жить даже в таком вот, как у Иришки, положении. Есть. И она это понимает, прислушиваясь к шагам Катерины, к скрипу двери, к лаю собачьему во дворе, мысленно провожая подругу, будто идет с нею радом.
Вот прошли кладбище. И еще маленько – до крохотной станции деревни Заусаево. А вот и электричка. В окнах ее – люди и все куда-то едут, спешат по каким-то своим делам. Среди них находит свое место и Катерина, ездившая в деревню тоже по своему делу – попроведовать ее, Иришку – Ирину Павловну Салимонову.
Глаза ее закрыты, но внутренним зрением своим видит она сейчас всю свою жизнь, в которой войне отведено первое место. Картины жизни пробегают одна за другой и какие-то из них она останавливает, пытаясь получше в них вглядеться, чтобы еще прочнее утвердиться в понимании важности, нужности, необходимости потраченных ею сил, здоровья, молодости, что обернулось для нее в старости тяжелой, неизлечимой болезнью.
И что бы там ни говорили, но Ирина Павловна Салимонова твердо знает – война была. Летели вражеские самолеты и бомбили ее родную землю. Двигались на родные ей деревни вражеские танки и рушили все, что было на их пути. Шли нелюди в мундирах германского вермахта и убивали невинных детей, беспомощных стариков, беззащитных женщин.
И этой машине смерти надо было что-то противопоставить. И они с Катериной были среди тех, кто победил врага.
Это они и такие, как они, сеяли, убирали, таскали мешки с хлебом – отдавали все до единого зернышка фронту. Валили зимой лес, вывозили его на лошадях по ледовым дорогам. Стояли у станков. Управляли автомобилями, паровозами, пароходами. Голодали, мерзли, недосыпали. Растили детей и получали похоронки. Любили, были любимы и становились вдовами, так и не выйдя замуж.
Потому и не было такой силы, которая бы отменила их Победу, Победу, равную воинской на полях брани. Равную по потерям, мужеству, жертвенности, высокому чувству долга.
…Мало-помалу Иришкины думы, пробегающие в памяти картины ее прошлой жизни переходят в грезы, перенесшие ее в то время, в которое возможно вернуться только в снах. И словно всполохами зарницы высвечивается главное, принадлежащее только ей, с чем родилась на свет, с чем жила и с чем отправляться в невозвратную дорогу.
…Крылечко деревенской избы, и на нем сидит девочка с деревянной куклой в руках…
…А это дети куда-то бегут к речке Курзанке – мальчишки и девчонки деревни Заусаево.
…А вот идет парень и, кажется, что сейчас остановится, обернется, но он вдруг убыстряет шаги и скоро вовсе скрывается в тумане.
Ирина Павловна Салимонова спит. Крепко спит, ведь и ей нужны силы, чтобы дожить до очередного праздника Победы.
Белые голуби
Васильевна из того поколения, что народилось в середине тридцатых годов и в войну вошло уже с памятью о враз оскудевшей жизни заштатного деревянного сибирского городка, где по улицам и улочкам бродили коровы, а в огородах произрастали картошка и вся овощная мелочь. И, казалось бы, всего этого должно было хватать на прокорм местного народишка, но не хватало, так как от каждого дома власть требовала сдачи государству большей части огородного и стаечного урожая. И народишко сдавал безропотно, понимая, что бившихся на фронтах солдатиков надо кормить, иначе и ружье не смогут поднять, не то чтобы вставать грудью на сытого ворога, скопившего силы для главного удара против молодой еще Страны Советов. Потому и запомнила подтянутые голодом животы – и свой собственный, и сверстников, с которыми пересекалась на улице. На улицу же неудержимо манили: с наступившей зимой – первый укладистый снег, с весенними раскатистыми ручьями – возможность запускать вырезанные из древесной коры кораблики, а с летним теплом – первые грибы: сыроежки, маслята, подберезовики, а там и ягода-голубица, прозываемая в народе «синей». И, конечно же, походы ватагой на речку Курзанку, в остатние деньки умирающего августовского лета – черемуха, боярка, поречка.
Хотя и тут надо бы заметить, что для улицы у ребятни времени оставалось мало: большая часть домашней работенки была переложена матерями на плечи тогдашних мальчишек и девчонок, взрослеющих в те ненастные для страны годы с невероятной быстротой и настырностью. И спрашивали матери с ребятни со всей строгостью, выражающейся в, может быть, излишней требовательности, а порой и подзатыльниках, которые отпускались с легкостью и от которых увернуться не было никакой возможности. Нередко за ребятней приглядывали живые еще в иных семьях бабушки, а эти и вовсе спуску не давали, правда, и жалели внуков.
Надо отметить и то, что в таких семьях ребятне жилось полегче и посытнее, так как старики лучше от себя оторвут, чем дадут внучатам голодать.
Васильевна часто как бы заглядывает внутрь себя, цепляясь памятью за дорогие сердцу воспоминания. Воспоминания те становятся почти физически осязаемыми и приближенными на целых шестьдесят лет, что пронеслись с водами речки Курзанки с невероятной быстротечностью, по которым прокатилась она с горки, именуемой жизнью, оказавшись у самого ее подножия. Инерция движения еще сохранилась, но явью неотвратной пришло и осознание: и инерция вот-вот кончится, после чего последует остановка. Полная остановка. Тогда уж – все, конец. И понесут Васильевну наперед ногами на ближайший погост, где давно упокоили свои косточки бабушка с дедушкой, мать Пелагея Димитриевна, отец Василий Прокопьевич и прочие близкие ей единокровные люди.
Э-эх, не вернуть прошлое, не оказаться вдруг в молодых летах, не изойти в крике от боли, когда на свет нарождается твой первенец-дитятя, и не порадоваться его неумелым еще шажкам, словам малоосмысленным, но возвещающим о складывающемся характере будущего человека.
Э-эх…
Васильевна вздыхает, машинально осматривается по сторонам, желая удостовериться, что никто из окружающих не приметил ее, будто омертвелого, лица, устремленного в одну точку остановившегося взгляда человека, углубленного в собственные мысли.
«Ну и ладно, – думает про себя. – Кому какое до меня дело, у каждого свои болячки…»
У каждого здесь в комитете солдатских матерей, председателем коего она была избрана лет десять назад, и вправду свои болячки. Приходят сюда женщины для одного – обнажить те свои болячки, а уж она, Васильевна то есть, должна принять какое-то решение, куда-то сходить, о чем-то в каких-то кабинетах чиновников местной власти похлопотать, а иначе для чего ж она здесь поставлена?
И Васильевна ходит. У кого-то без вести пропал сын в Чечне и убитая горем мать который год не может достучаться до военного ведомства, чтобы иметь точное представление о месте его пребывания, а может быть, и о смерти. У кого-то хотят отправить больного сына в армию. У вовсе молодой вдовы той же чеченской войны нет жилья.
– Василевна, – просит с мольбой в голосе иная, – похлопочи, голуба, о сынке-то моем. Может, живой сынок-то, кровинушка моя ненаглядная, голодный-холодный, может, ждет не дождется мамкиной весточки… А?.. Похлопочи…
– Василевна, – стонет другая, – ведь в прошлую комиссию в военкомате сына-то моего, Андрюшку, забраковали, а ныне поставили в больничной карте, мол, годен для службы – и все тут. Разберись-ка… А какой он служака, если сердечник. Сгинет ведь не за грош…
Васильевна ходит. И добивается желаемого, потому что у самой младший сыночек, Игорек, пал на той чеченской войне и она, как никто другой, способна понять материнское горе. Вместе с цинковым гробом прислали матери орден Мужества, которым Игорек награжден был посмертно. Пустая железяка, да дорогая. Его вместе с орденом Солдатской Славы, что остался после отца Василия Прокопьевича, она приноровилась пристегивать к груди, когда домашние садились за праздничный стол.
– А чтобы и самой не забывать, и другим не давать, – отвечала на вопросы родни об орденах. И показывала пальцем: – Этот в память об отце, что проливал кровь на фронтах Великой Отечественной, а этот – о погибшем в чеченскую сыночке.
Родные попривыкли к выходкам хозяйки квартиры – и отставали. С годами спрашивать стали меньше, отчего Васильевна даже стала чувствовать некоторую собственную обделенность в чем-то заветном и дорогом.
«Забывать, видно, стали о войне-то люди. Даже сыновья о погибшем брате редко вспоминают, – думала в иные моменты горестно. – Черствеет народишко сердцем, скудеет памятью».
Народ и в самом деле скудел памятью. К примеру, недавно сорокалетний сосед Васильевны – Дмитрий Соболев, брякнул ни с того ни с сего, мол, неизвестно еще кто победил в Великую Отечественную, СССР или американцы. Это надо же сказать: а-ме-ри-кан-цы… Да что они могут эти американцы… Она-то хорошо помнит войну. Помнит, как спасали страну, как надсаживались, отдавая фронту последнее.
Поменьше бы мозолили глаза у телевизоров и «видиков» да побольше бы книжки добрые читали.
А эти, прости Господи, новые русские. Посмотришь, с виду – русские: обличьем, повадками, языком. И родители их – такие же русские, многих из которых она знала и знает. И живут в России, обирая народ в своих лавках.
Как это может быть: в одной лавке хлеб стоит десять рублей, в другой такой же хлеб стоит уже двадцать? Как?..
Или взять лекарства, без которых пожилому человеку хоть сразу ложись и помирай. В одной аптеке одна и та же упаковка может стоить пятьдесят рублей, в другой – все сто. Спрашивает какая-нибудь бабушка, отчего, мол, внучики, такая разница? Отвечают: разные поставщики.
И ведь никакие законы государства не ограничивают их алчность.
А как куражатся промеж собою, на каких машинах ездят, как норку задирают – плюнуть да пройти мимо. Живите как хотите, только не забывайте, из каких яиц вылупились, из какого корыта кормитесь.
Мало-помалу Васильевна стала делить людей на «новых», или как бы переродившихся внутренней своей сутью, и на обычных, то есть таких, как она сама. «Новых» было немного, но они уже с присущей им наглостью старались переделать жизнь под себя, видимо, чувствуя себя хозяевами этой жизни.
«Не-ет, – думала иной раз, – никакие вы не хозяева, а так, перевертыши. Как к перевертышам к вам следует и относиться. А может, стоит вас и пожалеть – за близорукость, за самонадеянность, за недоданную вам в свое время вашими родителями любовь. Ведь известно: выросшие без любви дети нередко становятся зверенышами в человеческом обличье.
Еще зорче поглядывала Васильевна вокруг, понимая, что эта «новая поросль» доморощенных капиталистов – порождение происходивших в стране перемен, противостоять которым можно только крепкой памятью. И еще ревностнее служила в своем комитете, ютившемся в малюсенькой комнатушке в Доме ветеранов, где она сидела в единственном числе среди бумаг, папок с бумагами же, среди томов книг о войне.
Отец, Василий Прокопьевич, благополучно вернулся в конце 47-го, но долго не зажился на свете – сказалось то нечеловеческое напряжение, без которого победить страшного и наглого ворога было просто невозможно. Она его любила той безоглядной дочерней любовью, какою любят самого близкого и родного человека, стараясь всякую минуту оказаться рядом. Любил и он ее, называя ласково Васильком – Васильевну родители назвали Василисой в честь бабушки, Василисы Гаврииловны. Имя красивое, старинное, но неудобное для произношения. Видно, потому и окружающие обращались к ней по отчеству.
В первые полтора-два десятилетия после войны истинные фронтовики не кичились своими подвигами: медали шли пацанве на игру в пристенок, ордена, ввиду их необычной внешней формы, убереглись в шкатулках, вазочках, ящичках, где хранились разные документы. Уберегся и этот орден Солдатской Славы, а медали старший брат Юрка унес их дому с концами.
Отец подкашливал, но «козью ножку» изо рта почти не вынимал – табак сеяли за баней на клочке землицы. Когда растения созревали, поднимаясь до потребной высоты, их срезали, складывали в кучу, выдерживали дня три накрытыми рогожей, затем раскладывали тоже на дня три под навесом и там же развешивали сушить. Табак распространял крепкий, вонючий запах, но запах тот отчего-то нравился дочери – потому, наверное, что будто сообщал: отец живой, с ними и никуда больше не денется.
Бывало, что мать ругала отца «за куренку», он отвечал неторопливо:
– Я, Димитриевна, на фронте не накурился – не до того было. А знашь ли ты, чего особенно сильно хотел солдат перед атакой?
– Чего ж может хотеться вам, табашникам, – сунуть в рот цигарку, конечно, – догадывалась мать.
– Вот именно. Сжался в окопе, стиснул зубы, ожидая команды, чтобы подняться в атаку, и думаешь только об одном – как бы затянуться цигаркой перед неведомым, что тебя ожидат, пока добежишь до вражьего окопа. Кто-нибудь из товарищей умудрится свернуть и передаст по цепи. Дойдет до тебя очередь, затянешься раз-другой и передашь следующему за тобой бойцу. Но разве можно утолить жажду одной-двумя затяжками?.. И только ждешь, чтоб уж скорей вскочить и бежать – стрелять, бить, колоть. А остался жив, самая первая мысль о табаке.
И будто извиняясь, добавлял:
– Потерпите уж, на роду мне, видно, писано помереть с цигаркой во рту.
– Да кури ты в свое удовольствие, только здоровья твоего жалко, а уж мы потерпим.
Поворачивалась к дочери, спрашивала:
– Потерпим, доченька?
Василиса жалась к отцову плечу, он обнимал ее, целуя в голову, тем разговор и кончался.
Она часто вынимает из шкатулки эти ордена – отца и сына, раскладывает на столе, оглаживает руками, словно пытаясь согреть, представляет, сколько с ними связано человеческого горя. В такие минуты ей по-настоящему становится страшно: и за старших сыновей – Вадима и Анатолия, и за знакомых, у которых взрослые сыновья, – за всех.
Из года в год, из века в век где-то на земле проливается кровь молодых людей, кому бы жить да жить, радоваться не перерадоваться свету солнца, блеску воды, зелени леса, буйству цветов на лугу, счастья встретить кого-то и полюбить, вообще жизни во всех ее проявлениях. Так нет же, находятся такие, кому эти войны зачем-то нужны. Зачем – непонятно.
Хотя понятно: кому-то мало просто света солнца, мало просто блеска воды, мало просто зелени леса, мало просто буйства цветов, потому что все это принадлежит всем и каждому в отдельности, а надо, чтобы принадлежало только тем, кто разжигает вражду между целыми народами, вражду между большими и маленькими государствами и в человеках, а точнее – в выродках человеческих находят свой выход страсти безумные, разверзаются недра душ черные, исторгаются кровожадность, жестокость, дикие необузданные инстинкты. Все сметает на своем пути этот вал безумия, все поглощают на своем пути недра душ черные, все, что может убивать, исторгают непомерные кровожадность, жестокость, необузданность.
Не так много рассказывал отец Василий Прокопьевич о войне, но она и без него знала, что нелегко пришлось ему, рядовому солдату пехотного полка. Десятки, а то и сотни раз ходившему в атаку. Десятки, а то и сотни раз по несколько часов лежавшему в грязи, не одну зиму промерзающему насквозь где-нибудь в холодном блиндаже, раненному и контуженному, и самокрутка порой для него была единственной радостью в этом кромешном аде, где люди даже не успевали задуматься над тем, что происходит вокруг и будут ли они живы завтра.
Тот орден Солдатской Славы, что у нее сохранился, достался Василию Смоляку не за хрен собачий, и мирный безобидный вид ордена, когда он лежал на столе, был только с виду мирным и безобидным.
В атаку подняли солдат привычным выкриком батальонного комиссара Сутягина. Бежал рядом с земляком Ленькой Мурашовым, сибиряком из села Мураши, что неподалеку от городка, из которого он сам. В какой-то момент вдруг понял, нутром почувствовал, что Леньку зацепило. Глянул чуть назад – глазам предстала страшная картина: в стороне дымилась оторванная окровавленная нога Мурашова с надетым на нее валенком, а сам он корчится на снегу, пытаясь, видно, остановить кровь, льющуюся ручьем из того, что осталось от этой ноги. Хотя вряд ли он мог что-то осознавать, скорей всего, корчился от боли. Василий было хотел метнуться к товарищу, но в эту минуту к нему уже подбегала санитарка. А он, еще сильнее кривя рот от крика, продолжил свой бег в сторону немецких окопов.
А кричал он то, что кричали и другие: «За Родину!..», «За Сталина!..»
Нет, еще он кричал: «За Леньку!..»
Не помнил, не понимал, как одним из первых ввалился во вражеский окоп и стрелял, колол, бил прикладом винтовки. После боя сидел с отрешенным чумным лицом и кто-то из своих подошел к нему и сказал, что в тот день Василий Смоляк убил во время атаки двенадцать фашистов и что его представят к ордену. Еще сунули в руку непочатую пачку «Беломора». И он курил, курил, курил. Курил до тошноты.
Позвали обедать, но перед глазами маячила оторванная нога Леньки Мурашова, и Василия в самом деле стошнило.
– Ты че это, как девица красная, которая первый год замужем? – подошел к нему комиссар Сутягин. – Не видел оторванных ног или рук, что ли? Кстати, Мурашов сейчас в госпитале и будет жить. Сходи навести, пока он в полевом. В общем, разрешаю отлучиться.
– Да, вот еще что: сходи к снабженцам – пускай даст пару банок тушенки и булку хлеба, скажи, что я разрешил. Вот еще – пачка папирос.
«Это, значит, когда я сидел после боя, подходил ко мне Сутягин», – сообразил Василий.
В палатке для прооперированных и перебинтованных Ленька лежал, уставясь в одну точку на брезентовом потолке. Не сразу отозвался на грубоватое приветствие товарища.
– Ниче, Леонид, сейчас такие протезы делают, что будешь прыгать, как стрекозел.
– Как же, буду, – отозвался Мурашов. – Кому-то я теперь такой нужен – держи карман шире.
– Будешь – держи хвост пистолетом, – утвердительно сказал Василий. – Еще такую деваху себе отхватишь, что закачашься.
– Вот-вот, закачаюсь на одной-то ноге – и брякнусь перед девахой.
– Не брякнешься. Не ты первый, не ты последний. Война…
– В моем теперешнем положении в том только и утешение: война, мол…
– Вот-вот…
Не зная, о чем еще говорить, Василий попрощался с Мурашовым и скоро добрался до свой роты.
– А знашь ли ты, Димитриевна, чего боле всего боится солдат на фронте? – спрашивал в другой раз у жены.
– Смерти – чего же еще.
– Вот и не отгадала. Быть калеченным – этого боле всего боится солдат. Остаться без ноги иль руки – кому он такой-то нужен?
– Жене нужен всякий, – успокоила мужа Димитриевна. – Лишь бы жив был.
– Ну нет, – возразил Василий Прокопьевич. – Мы вить все там молодыми были, а многие – не целованными. Каждый мечтал возвернуться домой и найти свою половину. А как найдешь, если без ноги? Пожалет разве что какая, но по сердцу ли она будет – эт-то вопрос.
– А я тебе – по сердцу? – засмеялась Димитриевна и тут же покраснела, отвернулась.
– Ты – другое дело. На тебе я женился еще до войны и, скажу тебе, думал часто о том, как ты меня примешь, если вдруг, как товарищ мой Ленька Мурашов, ногу потеряю.
– А я бы сделала вид, что ты с обеими ногами, и никогда бы не напомнила, что калеченный.
– Вот-вот, и я к такому выводу приходил, потому что за те пять лет, что мы с тобой прожили до войны, некоторым образом успел тебя разглядеть.
– Ну уж, успел… Такой прямо глазастый – спасу нет, – заулыбалась Димитриевна.
– Я сердцем своим глазастый, а сердце-то не обманешь.
– А вот возьму и уйду к какому другому мужику, че тогда скажешь?..
– Не уйдешь. Я не калеченный, с медалями и орденами – почти что герой. А таких-то поискать…
– Ишь, загордился, воин, – нараспев проговорила Димитриевна.
Повернулась к нему всем своим статным телом, подбоченилась и рассмеялась в лицо оторопевшему мужу. Через некоторое время уже серьезно:
– Я, может, не раз и не два кляла себя за то, что выскочила за тебя замуж еще девчонкой. Незамужней-то легче было бы. Да еще успел двоих детишек настругать… С детишками-то на руках – ой как тяжеленько… Я, может, все глазыньки проглядела, в стеклине окошка дырку просверлила глазыньками-то. До-жи-да-ла-си-и-и… А он – смотри-ка ты – хвост еще подымает… успел он, видите ли, меня разглядеть… Ну и какая же я?
– Верная, – ответил Василий тихо.
Весь этот непростой разговор между родителями Васильевна слышала, так как была в соседней комнате и часто потом вспоминала. Особенно, когда Игорек написал, что находится в Чечне.
Убило его, можно сказать, случайно – одного его только и убило. Как рассказал сопровождающий гроб с телом сына прапорщик из части, где Игорь служил, шли они с колонной бронетехники по горной дороге и попали под минометный обстрел. Сидевшие на бронетранспортерах солдаты быстро рассредоточились и открыли огонь ответный. Боевики стали отступать в горы, но, отступая, время от времени поворачивались и стреляли из автоматов. Понятно, что стреляли беспорядочно, наугад – такая вот неприцельная пуля и сразила Игорька. В самое сердце сразила. Упал он будто бы вниз лицом, обхватив чужую ему землю руками, – и затих. Навсегда затих. А было ему и всего ничего – девятнадцать годков.
Э-эх, судьба горемычная, бесталанная…
Еще прапорщик рассказал, что, когда возвращались забрать убитого однополчанина и раненых, над телом Игорька будто бы кружил белый голубь. Они еще тогда решили, что это душа убитого парня кружит. Остановились, замерли на месте и очнулись только тогда, когда голубь скрылся за горой.
А Васильевна вспомнила другого голубя. Когда отец умер и уже вынесли гроб из дому, увидела она вдруг сквозь слезы сидящего на жердочке прясла изгороди, что огораживала их усадьбу, белого голубя. Увидела и тут же о нем забыла, а когда вспомнила, то голубя и след простыл.
С тех пор голуби эти запали ей в душу и в тряпичном, сшитом ею небольшом мешочке, она стала носить с собой то горстку зерна, то семечек, то каких-нибудь орешков. Когда на глаза попадались голуби, высыпала содержимое мешочка, отходила, смотрела, как те клюют корм, правда, белых среди них никогда не видела. То были все обычные сизари.
Одно время даже увлеклась чтением книг о мистическом, необъяснимом, с точки зрения здравого смысла, стала наведываться в церковь, что было против ее убеждений, так как работала преподавателем русского языка и литературы в школе рабочей молодежи. Да и годы, на которые пришлись ее рождение, детство, молодость, зрелость, были таковыми, что для религии в них места не нашлось.
Короче, живший в ней атеист взял верх, и мало-помалу мистическое отодвинулось на задворки памяти, перестала носить с собой и заветный мешочек.
Как уже сказано было выше, Васильевну никто не называет полным именем, а исключительно по отчеству, причем в таком вот своеобразном варианте: Василевна… Она частый гость в школах, библиотеках, краеведческом музее, на митингах, собраниях ветеранов, учителей и всюду говорит об одном и том же – о необходимости помнить тех, кто отдал жизнь за Родину, кто воевал и вернулся домой, кто горбатился в тылу – вообще любить свою землю, людей. Говорит тихим с легкой хрипотцой голосом, и ее внимательно слушают люди разного возраста и, кажется, верят. Во всяком случае, ей хочется верить в это самой, и она – верит. Она вообще человек прямой и честный той непоказной честностью, какая свойственна русским женщинам. Но бывает, что и поднимает голос – тогда он вдруг становится звучным и сильным, за которым проглядывается непреклонная воля его обладателя, и в такие редкие минуты ее слушают еще с большим вниманием, чем всегда. Она и сама не знает, чем объяснить подобные вспышки, не понимают и окружающие, да и нет необходимости понимать. Она вся, как на ладони – открытая для всех и каждого и внутреннюю суть ее при желании можно считывать, как книгу.
– Василевна-то наша сегодня принарядилась, знать, куда-то собралась на выступление, – поглядывают в ее сторону забредающие в Дом ветеранов пенсионеры, которым тоже хочется о чем-то поговорить друг с дружкой, а она – всегда на виду. Потому чаще, чем кто-либо, попадает на языки. Языки, конечно, незлые, болтающие о том о сем без всякого проку. Да и какой прок нужен праздному человеку, выработанному и вышедшему на заслуженный отдых, а теперь забегающему при случае в Дом ветеранов или еще куда – время-то пенсионера никем и никак не отмечается.
И в самом деле, хлопотными для Васильевны бывают последние перед Праздником Победы недели, когда встречи ее в школах, библиотеках, краеведческом музее, еще в каких местах становятся особенно частыми. В такие недели застать ее в комнатушке Дома ветеранов практически невозможно.
Еще одна памятная, имеющая для нее особый смысл дата – это день начала войны, 22 июня. Два года минуло с тех пор, как с позволения местных властей смогла всколыхнуть народ городишка – собраться в первый раз 22 июня у обелиска Славы в вечерние сумеречные часы, чтобы люди зажгли свечи в память обо всех – погибших и вернувшихся с войн: Великой Отечественной, афганской, чеченской. Года два минуло, как она стала ходить по всем инстанциям, по всем учреждениям, где могла обратиться к людям со словом горячим и призывным – не отсиживаться по домам и квартирам, а собраться на святом месте – поклониться еще живым и павшим за Отечество воинам. И потянулись в парк Победы вереницы народа – стар и мал, женщины и мужчины. И все сложилось так, как желалось, как виделось и грезилось. Батюшка местной церкви отслужил молебен, к микрофону выходили ветераны, учителя, работники культурного фронта, знаемые всеми горожанами и вовсе незнаемые люди.
Взволнованная и грустная, с выкатившимися и задержавшимися на щеках слезинками стояла она, не шелохнувшись, и в какой-то светлый миг то ли почувствовала, то ли хотела почувствовать, как на плечи ее с обеих сторон будто опустились два белых голубя – души отца и сына. Затем будто взмахнули легкими крылами, коснувшись слезинок на щеках, и отлетели в заоблачные выси.
Василиса Васильевна невольно поглядела вверх и ничего не увидела, кроме обозначившихся на небе первых звезд.
«Какие из них ваши, мои дорогие папа и сыночек?.. – подумала. – И где вы сейчас: смотрите ли с высоты на меня и радуетесь ли вместе со мною?..»
А вечер был так тих и так напоен прохладой, что люди расходились нехотя, и на душе ее было светло и хорошо, как не было давно.
На следующий год у обелиска собралось еще больше народа. И тогда же пришло осознание, что ради такого она и жила – училась, вышла замуж, родила сыновей. За ради такого она мучилась и голосила, упав грудью на холодную железину сыновьего гроба. Во имя такого служила в своем комитете. Служила таким же, как и она, обычным женщинам, которые приходили к ней со своим горем.
Служила Отечеству.
Приближался очередной День Памяти, как теперь именовали 22 июня горожане, а вместе с ним и День выпускников в школах. И Васильевна решила сходить на собрание родителей в ближайшую, чтобы побудить и взрослых, и молодежь прийти в этот день к обелиску.
На собрании обсуждали вопросы повседневные: о порядке выдачи аттестатов зрелости, о поздравительных речах родителей, о сумме взносов, о праздничном столе и где лучше всего провести банкет.
Васильевна молчала до времени, слушала, наконец встала со своего места на заднем столе:
– Я поздравляю вас, уважаемые родители, с окончанием вашими детьми школы. Понимаю также, что день этот для вас и ваших детей особенно памятный и дорогой. Желаю вашим детям приобрести профессии, создать семьи, народить вам внуков и пройти достойный человека жизненный путь.
Васильевна задержала дыхание, помолчала, продолжила:
– День выпускников совпадает с днем начала войны – 22 июня. У каждого из вас, наверное, в семье кто-то был на фронте, кто-то, может быть, не вернулся, и очень важно, чтобы ваши теперь уже почти взрослые дети не забывали о той страшной войне. Поэтому предлагаю и вам самим побывать у обелиска в парке Победы, и чтобы ваши дети нашли полчаса для того, чтобы посетить это святое место, а насчет автобуса я договорюсь.
– Это с какой же стати моя разнаряженная, как куколка, девочка поедет на ваше сборище и будет там тереться среди бетонных плит и разного старичья? – раздался вдруг мужской голос.
Все повернулись на голос, ожидая, что будет дальше, а Васильевна тут же отметила про себя – этот из «новых».
– Какое же это сборище? – оторопев от неожиданности, спросила Васильевна. – День памяти, в который соберутся люди у обелиска, разве можно назвать сборищем?
– Сборище и есть, – настаивал на своем мужчина.
Теперь она его разглядела: с виду лет сорок или чуть более того, уверенный немигающий холодный взгляд, кривая ухмылка на лице.
– Я повторяю: сборище и есть. Придумали себе какой-то день памяти и носятся с ним, как с торбой…
В Васильевне словно проснулась учительница и, как бывало в пору ее работы в школе, она не торопясь прошла между рядами парт через весь класс и встала напротив мужчины, как когда-то вставала напротив какого-нибудь ученика, чтобы глаза в глаза, спокойно объяснить какой-то непонятный вопрос.
Видно, и мужчина вспомнил, где находится и как надо себя вести, если к тебе подошел учитель. Он поспешно встал, сделал шаг в сторону прохода между столами, замер в ожидании непонятно чего.
Так стояли они, может быть, минуту, может быть, и меньше: она – хрупкая немолодая женщина, он – возвышающийся над нею, крепкий, уверенный в себе человек.
– И все же: почему – сборище? – настойчиво и твердо переспросила Васильевна. – Может, и война так же была своеобразным сборищем, на котором две стороны – советские люди и фашисты – выясняли отношения, как мы теперь с вами? И кровь людская, словно водица, лилась полноводными реками – железо ломалось, города рушились, население целых деревень сгорало в огне, а советские люди все превзмогли, выстояли и победили – что же, напрасно?..
Мужчина побледнел, но сдаваться не собирался.
– Я, знаете, плохо верю в память тех людей, что приходят к обелиску. Скорей всего – нечем себя занять, вот и ходят. Покрутились бы, как я кручусь, добывая свою копейку, так некогда было бы заниматься ерундой. Вот вы говорите, что по-бе-ди-ли… Да разве победили? Я в прошлом году был в турпоездке по Германии, Франции, Италии. В Германии, например, люди живут – будь здоров. А мы – с позволения сказать, которые победители – как живем? Как жил мой покойный отец-фронтовик, получивший на фронте три ранения и фактически возвратившийся калекой? Мантулил, пока не лег в могилу. Что он завоевал и себе, и своим детям? Он лег в могилу, а мать нас четверых поднимала одна. Нет, уважаемая, я своей девочке не позволю тереться среди вашего сборища. Я свою девочку направлю учиться в Англию, и если она того захочет, там и останется жить. А я буду здесь работать, чтобы она не знала ни в чем нужды.
– Вот вас – да-да, лично вас и не было бы на свете, если бы фашисты победили. И дочери вашей не было бы. Благополучной Европы в том виде, в котором она сегодня есть, – не было бы. Да что Европы – Англии, Америки не было бы. Этого вам мало? – в свою очередь наступала Васильевна.
– Ну и черт с ним, что не было бы.
Мужчина дернул плечами, как бы желая освободиться от наваждения – не ученик же он в самом деле и не мальчишка какой-нибудь стоять тут оправдываться или что-то доказывать.
– Выходит, память об отце, который завоевал для вас право появиться на свет, для вас – пустой звук? И Родина – так же пустой звук? – продолжала наступать бывшая учительница.
– Вы мою память об отце не трогайте, она не про вас. Я, может, с именем отца встаю утром и с его именем ложусь…
– Так чего ж вы ерничаете, уважаемый, ведь 22-го мы поминаем таких же воинов, каким был и ваш отец, и что в том худого, если дети вместе со всеми, кто придет к обелиску, помянут своих дедушек и не только своих, которые подарили им счастье появиться на свет? Мы ведь и вашего отца поминаем…
Во время этой короткой перепалки Васильевна ни разу не возвысила голос, глаза смотрели спокойно и твердо. И наоборот, лицо мужчины то бледнело, то краснело, глаза искали поддержки у наблюдающих за этой словесной схваткой сидящих за столами людей. И было непонятно, на чьей они стороне, будто происходящее на их глазах не имеет к ним никакого отношения. Непонятно, на чьей стороне была и стоявшая у окна со скрещенными на груди руками классный руководитель Антонина Петровна.
Угловым зрением или десятым чувством видела, чуяла эту людскую отстраненность и Васильевна. Она вдруг почувствовала смертельную усталость. Не телесную – душевную усталость, а вместе с нею – сожаление, что оказалась среди этих равнодушных людей. Или нет: среди равнодушного сборища людей. Так будет точнее.
Нечто вроде жалости ко всем этим мамам и папам выходящих во взрослую жизнь детей проникло в ее сердце – она это почувствовала и от того стало ей как-то не по себе. Ведь люди эти не ведают, что творят, а она не может доходчиво объяснить и, значит, она виновата в том, что ее здесь не понимают.
Еще раз оглядела класс, куда пришла и попусту потеряла время – она, дочь прошедшего войну солдата и мать солдата погибшего.
А может, не попусту?..
Противоречивые чувства обуревали Васильевну: хотелось повернуться и выйти отсюда – на свежий воздух, потому что здесь – иной воздух, которым она уже не может дышать. Но и уйти, не сказав ни слова, тоже нельзя, что собравшимися здесь родителями будет воспринято как поражение.
Напоследок, ни на что не надеясь, произнесла срывающимся голосом:
– И для меня память о моем прошедшем войну отце – священна, как священна и память о моем погибшем в Чечне сынке. И я бы считала свою жизнь напрасно прожитой, если бы не побывала у вас на этом собрании, потому что мне небезразлично будущее всех без исключения детей России, как и ваших детей – тоже.
Подавив в себе волнение, прибавила:
– В 41-м выпускники этой школы, в которой учились и вы сами, и ваши дети, всем классом ушли на фронт. Вернулись единицы. Так неужели же они были чем-то хуже ваших детей? А вы теперь носы воротите, вы, которые по уши в долгу перед погибшими и выжившими в той страшной войне. И не только в Отечественную, но и, как мой сынок, в чеченскую…
– Да мы что, мы не против… – закачался народ плечами, головами, телами. – Пусть едут, нам-то что…
Ни слова больше не сказала бывшая учительница русского языка и литературы. Покачала головой и вышла из класса.
«Пушшай не лезут…»
Федор Кривулин жил в своей деревеньке Манутсы от самого от своего рождения, оторвавшись от нее в своей жизни только два раза: в первый – вместе с раскулаченными и сосланными в глухое Присаянье отцом и дедом, во второй – на войну с Японией. А так – никуда, разве только в ближайшие села и деревни да райцентр, где у него всегда находились свои, как он говорил, «лошадные» дела. «Лошадные», потому что смолоду держал лошадей и понимал в них толк. И не только понимал: он самолично шил всю справу лошадиную, гнул дуги, изготовлял телеги, сани и даже смастерил выездной праздничный ходок, который испрашивали у него в основном цыгане, когда решали оженить своих детей. Им он в конце концов тот ходок и продал.
Иной раз хвастал, что упряжи у него заготовлено аж на семь лошадей. Почему именно на семь, а не на шесть или восемь – не объяснял.
Кроме шорного и подеревного ремесел умел подковать лошадь, знал снимающие болезнь разные наговоры, и не только лошадиные – вообще мог лечить домашних животных. Знал секреты приготовления мазей и настоев.
В деревеньке Манутсы у Федора Кривулина была чисто крестьянская усадьба, где имелись просторный двор, навес для выстойки лошадей, стайка, кладовая с устроенным в ней подвалом, банька, сараи для сена и прочее. Здесь же стояли верхушками вверх приготовленные для оглобель грубо оструганные березины, заготовки для изготовления телег, саней, можар. Здесь же нашли свое место конные плуги, две сенокосилки, грабли, к стене дома притулился верстак с установленными на нем слесарными тисами, а с правой стороны верстака – наждак. Дополняли картину полосы железа, тележные колеса, висели, закинутые за бревенчатые стропила навеса литовки – в общем, все, что потребно для жизни и работы крестьянской.
И хотя он уже долгое время жил без хозяйки, в летнее время года в малом огороде произрастали лук, морковка, свекла, редька, капуста, по заплоту – смородина, крыжовник и отдельно располагался вместительный, занятый под картошку, большой огород.
– Федя – хозяин на все сто, – говаривала в магазине деревенским бабам бывшая его супружница Арина Понкратьевна, с которой не жил он уже лет двадцать – двадцать пять. – Ничего плохого не скажу. Тока очень уж большой охотник до чужих подолов. А они и рады, – прибавляла, не без умысла оглядывая присмиревших деревенских – слишком крутого норова была Арина Понкратьевна и явно, в открытую сцепиться с ней никто не посмел бы.
Когда пересказывали Федору об очередной магазинной выходке бывшей супруги, он многозначительно хмыкал, обрывал сплетни одной-единственной характерной для него фразой:
– Пушшай не лезут.
Поворачивался и уходил восвояси. Обсуждать Арину себе не позволял ни при каких обстоятельствах, в каком бы настроении или состоянии ни пребывал. И Арина о том хорошо знала.
А дел у него во всякое время года было невпроворот. Зимой в приспособленной железной бочке на своем жеребце Тумане возил по соседям воду с реки, так как в двух колодцах, что стояли недалеко друг от друга, вода была жестковата и не годилась для стирки. Правда, воду ту люди все равно употребляли и для стирки, носили в баню в субботний день, использовали для варева пищи и просто утоляли ею жажду. Но так делали далеко не все: иные готовы были покланяться Сергеевичу – так народ чаще всего обращался к Федору Кривулину и приплатить за услугу какие-то там копейки, чтобы тот подвез хорошей водички из реки. Приработанные копейки те были неучтенной прибавкой к пенсии и шли в основном на покупку спирта, который он употреблял каждодневно, но в разумных количествах. Одну рюмочку разведенного спирта утром перед завтраком, другую – перед обедом и две – вечером перед ужином. И не более того, а уж напиться да упасть где-нибудь принародно на улице, как это случалось с иными мужиками, – не приведи господи. Поэтому на деревне Федор Кривулин слыл за мужика трезвого и в этом смысле правильного.
Приступала весна – и вот он уже пашет, боронит огороды, едет в лес готовить жерди для прясел заплотов, возит на заказ дрова. Летом во время покоса и вовсе занят – косит, гребет, возит.
И своей скотинке надо было заготовить корма. Тут уж трудился без отдыха. И часто женская половина деревеньки, отмечая про себя его такое упорство в работе, кивала своим мужьям, мол, смотрите и учитесь у Феди Кривулина, как надо жить и работать. Пеняла без меры, с употреблением разных обидных сравнений.
Какому мужику может понравиться не в его пользу сравнение – Федор Кривулин действительно был хозяином хоть куда. Потому втайне недолюбливали мужики односельчанина, но в глаза никто бы не отважился сказать ему, что он о нем думает, – Федор держался ровно с каждым, не давая повода для нападок.
А уж с женской половиной деревеньки и вовсе умел обойтись – подхохатывали и жеманились, играли бровями и глазами, подбоченивались и выгибались порой своими уже далеко не столь гибкими станами, как в пору молодой спелости. Однако с замужними у него была своя особая линия: тут он старался не переступать запретную черту. С незамужними или вдовами куражился вовсю: подхватывал под талию, наклонялся, что-то шепча, шутил, приговаривая:
– Каструличка ты моя дыроватая, поваро-шеч-ка…
Приговоры такие действовали безотказно, а почему безотказно – не смогли бы сказать ни сам Федор, ни заигравшиеся бабенки. Видно, дело было не в самих словах, а в том, как они произносились – с какими переливами в голосе, с какими придыхами, вдохами и выдохами.
Подхохатывания ничем не заканчивались, да и чем могли закончиться, если в деревне все на виду, а пересудов никто не хотел, даже самая разбитная легкомысленная бабенка. Хотя кто знает, недаром за Федором по пятам ходила слава сердцееда.
Оженивался Федор на своем веку – не раз и не два. Поживет неделю-другую, а может, с какой месячишко – и тащится очередная зазноба с чемоданчишком или узлом пожиток на автобусную остановку, потому как оженивался чаще на женщинах из других деревень или райцентра – он и там находил среди своих «лошадиных» дел искомое. На неизбежные в таких случаях подковырки деревенских отвечал излюбленной фразой:
– Пушшай не лезут…
И откатывался народишко, давно решивший про себя, мол, горбатого могила исправит.
Горбатым он, конечно, никогда не был, имея приличную мужикову стать: среднего роста, худощавый, лицо чистое, бритое, передвигался по деревне легко, привечая по ходу и старого, и малого, на просьбы деревенских в какой помочи никому не отказывал, не гордился и не спесивился. В общем, всем угодный и во всяком деле по-своему незаменимый.
И что тут скажешь: многие одинокие женщины поглядывали и в его сторону, и в сторону его ухоженной усадьбы, лелея тайную мыслишку – заполучить бы Федю в мужья да жить-поживать барыней.
Видно, читал и он эти их тайные мысли и по-своему на них отзывался, заигрывая со всеми сразу. Завистникам среди мужской половины казалось, что Кривулин и впрямь неотразим.
– И как это ты, Федя, находишь подход, почитай, к каждой? – спрашивали.
И получали в ответ привычное:
– Пушшай не лезут, – и двигал дальше по своим надобностям.
– Ты, Федя, мужик вроде видный из себя: и работяга, каких поискать, и нравом невредный, и не калека какой-нибудь, а вот отчего несемейным живешь? Отчего шатаис-си и болтаис-си по чужим овинам, как перекати-поле иль трава-мурава какая-нибудь? – наступила на него однажды всем известная на деревне старуха по прозвищу Поршня.
Старуха та была уважаемая в деревне, воевавшая в прошедшую войну снайпером, а потом колесившая по Крайнему Северу за баранкой лесовоза. Мужика своего она схоронила давно, но шоферскую привычку не оставила, колеся по деревне уже на стареньком жигуленке, прозванном в народе «копейкой».
– Дак, Николаевна, че ж мне делать-то, ежели ни одной не глянусь? – попробовал отшутиться.
– Ты не крути хвостом-то, Федя. Я тебя смолоду помню – ладный был парнишка. Все с Аришкой Распоповой, за руку держась, по деревне ходили. Мы так и думали: вот пара будет – на загляденье. А приехала в деревню, вижу – неладное. После Арины баб давай перебирать… Может, в тебе какой нужный внутренний механизм сломался – война-то многие души покалечила?
– Какой еще механизм? – делал удивленные глаза Кривулин.
– В мозгах твоих – такой ты рас-сякой, путальник царя небесного, – выругалась старуха. – Ты не придуривайся передо мной, не таких на своем веку видывала придурков. Я вот со своим Лешкой на фронте сошлась – легла под него невенчанная, потому как фронт он свои законы устанавливаит. Потом на Севере вместе робили, сюды приехали, в места для меня родные – он-то, Лешка мой то ись, с Украины был. И счас бы жили-поживали как люди, если бы не помер. А вот тебе чего не живетси, оглашенному?
И продолжала наступать, выговаривая слова обидные – за всех, видно, оставленных им женщин выговаривала.
– А пушшай не лезут! – махнул наконец рукой и пошел восвояси.
Старуха давно взяла себе за моду ввязываться в чужие дела, а особенно в семейные, налетая ни с того ни с сего на мужиков прямо на улице. Предположим, запил какой, а она – тут как тут. Воспитывает. Или поучил бабу другой – руки распустил. Поршня и тут налетала – махала костистыми, сложенными в кулак, лапами перед носом мужика. Мужик отступал, бурчя что-то себе под нос, поворачивался и уходил. Теперь вот дошла очередь до Кривулина.
С годами старуха прыти не теряла, баранку «копейки» крутила лихо, выжимая из железины предельную скорость. Резко тормозила, разворачивалась, почитай, на одном месте, как какой-нибудь гонщик. А годов-то ей было уже немало – под восемьдесят.
Он и сам был уже немолоденький – семьдесят с хвостиком. Бывшая супруга Арина часто напоминала ему про его возраст, мол, пора б уже и остепениться, а он – все в молодые лезет. Федор отмалчивался, прощал ей выпады в его адрес при чужих людях, а иной раз предлагал свои услуги – то сено скосить, то дровишек подвезти, то водички из реки. Арина принимала его дармовые услуги молча, ничем не выказывая своего удовлетворения покорностью бывшего мужа. Бывало, посылала к нему наезжавшую из райцентра дочку Марусю или старшего сына Анатолия просить, чтобы подсобил в какой работенке – сама-то уже не справлялась. И Федор подсоблял.
Но отношения их оттого не менялись: по-прежнему при случае костерила его принародно и в том была ненасытна, что примечали между собой деревенские. Он же будто ничего не видел и не слышал.
– Ну и вьет же из Феди веревки Арина Понкратьевна, ох уж и вьет, – судачили. – Хоть бы когда ощерился – все молчком, все молчком…
– Да уж, молчун, нечего сказать, – возражали другие.
Но все вместе сходились на том, что взяла чем-то Федю Арина, задела чем-то за живое: сама не схотела с ним жить, и у других ничего не получается. Вот и постарел уже Федор Кривулин, а все – бобыль. Так бобылем и помрет, сердешный…
Была своя правда в том, что Арина – единственная женщина, с которой он прожил более десяти лет, народив совместно троих ребятишек, правда, один помер во младенчестве. При ней поставили его заведующим деревенским клубом, и клуб деревни Манутсы вывел он в число передовых по всему району. На входе и выходе в просмотровый зал красным огнем горели надписи: «Вход» и «Выход». У клуба установлен был щит с яркой, возвещающей о новом фильме рекламой, который изготовил самолично. Работали кружки самодеятельности, на зависть другим селам и деревням на танцах наигрывал духовой оркестр.
Примечали и деревенские, что в те годы Федор как бы даже остепенился, не своей волей встав на путь исправления. Не своей, потому что Арина за мужем глядела в оба. Да и Федя побаивался. Разборчивая Арина ведь не за каждого могла пойти. Работала она в школе учительницей, была на хорошем счету в райобразовании и колхозе. На видном месте сидела в комиссиях во всякие выборы власти, смело выступала на собраниях и митингах.
Не исказила истины и Поршня: в пору юную Федя и Ариша действительно тянулись друг к дружке и их часто видели вместе. Потом была война и учеба Арины в педучилище, а Федя, еще отроком пошел робить в колхоз в помощники к местному старику-конюху по кличке Шо-Шо. Кличку старик получил от привычки по всякому поводу и без повода переспрашивать собеседника:
– Шо?.. – сложит трубочкой приставленную к уху ладонь.
И снова:
– Шо?..
От него-то Федор и получил те обширные знания о лошадином деле, с которыми не расставался всю жизнь. И в армии поначалу определили его на службу в кавалерию. Потом почему-то перевели в морской флот на торпедный катер, на котором воевал с японцами и откуда демобилизовался. Кривулин особо гордился своей причастностью к морфлоту, подчеркнуто носил тельняшку, краешек которой всегда можно было увидеть в треугольнике расстегнутой у подбородка рубашки и распахнутой наподобие матросской форменной одежды.
– Твой «мареман» еще не появлялся? – спрашивала иной раз у Арины с поддевкой в голосе ее покойная мать Катерина Васильевна.
Но как бы ни спрашивала, а дочери льстило то, что в своем военном прошлом Федор служил на корабле. И на их общей семейной фотографии, что висела над супружеской кроватью, Кривулин был в форме матроса, в которой вернулся с войны. Форма та долгое время сохранялась в сундуке, но с годами то ли моль побила форменку, то ли материя, из которой была сшита, оказалась недолговечной, но в конце концов пошла она на тряпки, о чем бывший матрос торпедного катера глубоко сожалел.
С Ариной столкнула судьба неожиданно, когда Федор работал лесничим. Обходил как-то свой участок, вдруг видит – молодая женщина собирает ягоду голубицу. Не торопясь подобрался поближе и по своему обыкновению шутливо окликнул:
– Много ль насобирала ягодки, красна девица? Не подмочь ли донести корзинку-то? Не дай бог, надорвешься с непривычки…
– Откуда ты взялся такой добрый, мил-человек? – приняла игру Арина.
– Из леса вестимо.
– И всем ты так-то предлагаешь свою помощь, любезный?
Тут оба друг дружку и разглядели.
– Не ты ли это, Федя? – спросила, невольно придержав дыхание, Арина.
– Не ты ли, Ариша? – отозвался он лесным эхом.
– Правду люди сказывают, что ты особенно обходителен с женщинами? – не удержалась Арина.
– Да врут, Ариша, – замялся Федор. – Люди они завсегда языками готовы лязгать. Один живу, вот и перебирают кости.
– А чего один-то живешь? – продолжила допрашивать.
– А ты отчего одна? Слышал, что не замужем – мальчонку растишь.
– Не замужем и не замужем, – ответила, может быть, излишне резко.
Но домой в деревню шли бок о бок – Федор нес ее корзинку, в которой отливала студеной синевой ягода голубица.
Знать, не забылась их давняя тяга друг к дружке в юности, хотя с тех пор немало утекло водицы в реке Ия. Он за эти годы не прибился ни к какому берегу, и она не прибилась. В его жизни не было определенности, и она переезжала с места на место, нигде не задерживаясь ни сердцем, ни пропиской. Правда, в 44-м, когда война уже пошла на перелом, объявился в ее жизни комиссованный солдат, от которого родила мальчонку. Но как появился, так и отвалился, потому мимолетная связь эта, кроме выговора по партийной линии и горького осадка в душе, ничего не принесла. Был, да сплыл. И словно подернулась ледком водица в ведерке ее не расплескавшегося женского естества – до первого весеннего солнышка, какое в каждом человеке начинает пригревать в свой срок.
Федор Кривулин не знал, что она в деревне уже с неделю, приехала к матери из недальнего лесопункта, где работала учительницей. Ее вообще переводили из деревни в деревню, а то и из района в район чуть ли не каждые два-три года. Переводили как партийную – поднимать образование на селе. А партийных в те годы сильно не спрашивали, где им работать. Задержать на одном месте могли бы только какие-то особые обстоятельства, как, например, замужество и рождение ребятишек. Не будешь же таскать с места на место малых детишек, да и мужу надо будет подыскивать работу.
Сговорились, что Федя придет, как стемнеет, на зады усадьбы родительского дома, где проживала ее престарелая мать. Там обо всем и переговорят.
Пришел раз, два, а там и десять. Наконец надоело прятаться от любопытных глаз и решили расписаться в сельсовете. Узаконить, так сказать, то, что промеж ними уже свершилось.
– Я, Федя, один раз уже обожглась. Не хочу обжечься во второй. Я это говорю к тому, что гулящий мужик мне не нужен, а за тобой по деревне нехорошая слава ходит. В общем, смотри у меня. Чуть что – дам от ворот поворот, только кости забрякают, – предупредила Кривулина на всякий случай.
С тем и начали жить. Оба работящие, они будто были созданы друг для дружки. Он – в стайку да за лопату, чтобы навоз выбросить, а она уж несет охапку сена корове. Он – за метлу, чтобы снег убрать во дворе, а она уж скотину поит. Он – вскапывает грядку под овощную мелочь, а она уж следом тыкает в подготовленную мужем землю головки семенного лука.
Года через два, на зависть всем деревенским, купили мотоцикл «Иж-49», а при таком транспорте поезжай куда хочешь – быстрее ветра домчишься. Для дел хозяйских – лошадь и вся к ней справа. И что тут скажешь, зажили Кривулины дай бог каждому.
Вечерами, когда Арина сидела со школьными тетрадями, Федор доставал с полки книжку писателя Гавриилы Кунгурова под названием «Топка», открывал и читал, беззвучно шевеля губами. Она, улыбаясь своим мыслям, взглядывала на него время от времени.
– Посмотри, Ариша, как точно писано, будто из самой жизни выхвачено. Будто о наших лесах, только у нас нету оленей, но зато лось, изюбрь ходят – я часто с ими встречаюсь. И читал вслух: «В тайге кругом лес. Слышится легкий треск сухих веток. Между деревьями мелькают огромные рога. Это олени. Ступая крепкими ногами, они идут один за другим длинной цепочкой по узкой тропинке. Тропинка извивается по склону горы, теряется в густых зарослях, мхах и болотах, вновь появляется и вновь исчезает в каменистых россыпях и буреломах.
Впереди идет большой олень – это вожак. На каждом олене ноша. Вот шагает осторожный олень. Он бережно несет свою ношу, посматривая по сторонам большими умными глазами. На его спине крепко привязана нарядная деревянная сумка-люлька. Сумка расшита разноцветным сукном и блестящими стеклышками-бисером. Из люльки выглядывает хитрое личико с черными узенькими глазками. Это едет Топка маленький».
– Имя-то какое придумали мальчонке – Топка. Чудно… И отца его так же Топкой прозывают, только Большим Топкой, – останавливался читать. – Вот народец, даже имени настоящего человеческого не имели.
Разговор между супругами прерывала теща – Катерина Васильевна:
– Ты, Аришка, языком чеши, да не забывай, что тетрадки перед тобой разложены. Че завтрева будешь сказывать ученикам на уроке? И ты, Федька, не мешай жене со своим балаканьем – иди лучше спать.
Теща в доме Кривулиных была за командира, никто не мог ей перечить.
Теща и одергивала дочь, если та начинала приступать к Федору с ревностью. Теща же и Федора костерила на чем свет стоит, когда дочь была в школе.
И что тут сказать: поначалу, в первые годы их совместной жизни, все вроде было ничего. Арина – с тетрадями, он – с книжкой в руках. Всякую работенку – вместе. Но мало-помалу стали передавать люди, что Федор не оставил своей преступной страсти к женской половине. По деревне-то не видно, а вот помимо деревни – в каких поездках по лесосеке, например, или райцентр, где была контора лесхоза, в котором Кривулин работал, – всякое могло случиться. Предположим, сказал, что едет в лесосеку или контору, а сам – путаться с такой же, как и сам, гулящей бабенкой. Примерно так думала и Арина, а верила или не верила россказням, досада внутри накапливалась. И однажды не выдержала, вылепив Федору свои сомнения при матери:
– Ты вот что, разлюбезный: если я тебе надоела, так собирай манатки и вали куда хочешь. Но позорить себя я не дам – ни тебе, ни кому другому. Вот так…
– Да что ты, что ты, Ариша: я, кроме тебя, никого не знаю и знать не хочу.
– Люди сказывают, а дыма без огня не бывает.
Повернулась и, было, хотела выйти из дома, да Катерина Васильевна перегородила дорогу.
Хотела шагнуть в сторону, чтобы обойти мать, но и та шагнула.
– Куды летишь-то, сорока? – глянула на нее снизу вверх, потому как была небольшенького росточка. – Погодь, я еще своего слова не сказала.
И продолжила:
– Я вас не сводила, но и не собираюсь потакать вашему разводу. А твой карахтер, Аришка, мне хорошо ведом. Ишь ты, «люди сказывают»… Пускай за собой смотрят, а мы тут сами разберемся. Вы, такие-сякие, о детишках подумали? Старшенький, хоть и не родной тебе, Федька, но все уже понимат. Санюшка носом шмыгат, када вы друг на дружку волками глядите. Скоро и младшенькая, Маруся, начнет кумекать че к чему.
Катерина Васильевна на мгновение перевела дух и почти выкрикнула:
– Остепенись, Аришка! Ты об чем думала, када замуж за него шла?
– Я, мама, думала, что он таким не будет, – оправдывалась Арина.
– Думалка твоя в другом месте была, вот и не думала, – оборвала Катерина Васильевна. – А в каком другом – и без меня хорошо знашь. И вот вам, дорогие, доченька и зятек родный, мой сказ: помру, тада делайте что хотите. А при мне – чтоб тише воды и ниже травы были!..
И дальше продолжали жить, только раскол промеж них не суживался, а наоборот – углублялся и расширялся. Тут и теща – мать Арины – померла. Схоронили, отвели девятины, сороковины, до полгода не дотянули – Арина собрала свои манатки, схватила детишек в охапку – и за ворота, потому как в последние годы проживали в Федоровом дому. Какое-то время пожила с детишками у дальних родственников, потом купила небольшой домишко – благо начальство не отказало в ссуде.
С тех пор и поврозь.
Между тем шли один за другим годы, деревенские посудачили-посудачили на их счет, да, видно, пристали Арина с Федором, так и не помирились. Разлад между Кривулиными люди отнесли на счет Арины, мол, гордая больно, занозистая. Федора же искренне жалели, рассуждая в том духе, что, мол, мужики все одинаковы, да семья важнее, могла бы Арина Понкратьевна и не перегибать палку. Не барыня, мол, с дитенком взял ее Федор, как своего принял… Во-он и сейчас ставший взрослым неродной Федору Анатолий принародно Кривулина отцом величает. Знать, не в Кривулине дело-то, а в ней, в Арине Понкратьевне…
Погоревал-погоревал оставшийся один в дому Кривулин, но делать нечего. Да и люди горевать не дали – без Арины-то деревенские особенно зачастили с просьбами о помощи. Он же никому не умел отказать – вот и ездили на нем все кому не лень, о чем при случае пеняла и Арина.
– А че мне делать? – разводил руками. – Идут, просят – как тут откажешь?
– Так же и вертихвостке какой не можешь отказать? – поддевала.
– Пушшай не лезут, – твердил свое и поворачивался в другую сторону от бывшей супруги.
– Пу-ушай… – передразнивала в след бывшему мужу. – Как был дураком, так дураком и помрешь.
Так бы и жил себе, да в один роковой для него июльский день простудился на покосе. День тот был особенно жарким, и Федор распотел. Ни с того ни с сего набежали тучи и подул ветер. Поглядывая на небо, надеялся успеть докосить.
Не успел, а вот под дождь попал. Да не под дождь, а под настоящий ливень, так что до дому добрался насквозь промокшим. Пока распрягал Тумана, окончательно замерз. На ночь по привычке принял пару стопочек спирта, принес из сеней старый овчинный тулуп и накрылся им поверх одеяла, думая за ночь прогреться.
К утру вроде бы стало полегче, хотя во всем теле ощущал слабость.
«Ниче, – думалось. – На ногах быстрее переборю болезнь».
Вышел во двор задать корма скотине.
День обещал быть теплым, на небе – ни единого облачка. К полудню и вовсе распогодилось, так что запряг Тумана, погрузил косилку на телегу и выехал в поле.
Слабость в теле оставалась, но за работой действительно болезнь вроде бы отступала. В ворота своей усадьбы въехал в сумерках. Начал распрягать Тумана – и вдруг голова закружилась, ноги налились тяжестью. Попробовал шагнуть – и будто запнулся: ноги остались на месте, а тело подалось вперед. Успел ухватиться за оглоблю – так бы и упал.
Постоял, озираясь и вслушиваясь в стук собственного сердца, – стук был неровным. Будто поняв состояние хозяина, Туман повернул к нему голову и заржал.
«Счась отдышусь, распрягу тебя, сена задам, напою… – глядел в умные глаза лошади. – Потерпи, Туманушко…»
«Туманушко»… Так еще он никогда не называл мерина, который жил у него лет семь. Больше других лошадей, что у Федора были.
Туман и в самом деле был мерином хоть куда. Сильный, понятливый, способный ходить и в паре, и с плугом, и с полной сена можарой, причем без понуканий и окриков со стороны хозяина. Туман знал все горки и впадинки, все повороты и крутые спуски дорог. Мягко ходил под седлом. И в хозяйстве Федора Кривулина ему жилось по-лошадиному хорошо: ел-пил от пуза, кнута не испытал, хотя слово бранное от хозяина испробовал – такое бывало, и тут уж Туман ориентировался на интонации в голосе того, в чьей власти было наказывать или миловать. Но и это ничего – от такого хозяина можно и потерпеть.
Заржал во второй раз, будто напоминая о себе, и Федор попробовал переступить ногами – ноги подчинились.
«Ага, – встрепенулся. – Все будет хорошо, вот только Тумана поставить в загон да накормить-напоить. А там и до кровати доберусь».
И накормил, и напоил лошадь, и свои пару стопок принял. И до кровати добрался.
Ночью то ли дремал, то ли не дремал – все тело бросало то в жар, то в холод. Утро встретил с открытыми глазами и тяжелой головой. Через не закрытые с вечера окна видел, как утренний зоревой свет наполняет родную ему деревню Манутсы, выхватывая из отступающей темноты крыши домов, деревья, телеграфные столбы противоположной от дороги стороны, сердце наполнялось горечью и тоской.
Перебирал в памяти лица близких ему людей: погибшего в Александровском централе отца Сергея Петровича, куда после раскулачивания определили семью Кривулиных, вспоминал и деда, Петра Ананьевича, скончавшегося в этом же доме в преклонных летах. Вспомнилось, как рассказывал дед о том, что, помирая, супруга его, Александра Петровна, перед смертью предрекла прожить Петру Ананьевичу еще ровно десять лет. Так оно и случилось.
Знатные были «хрестьяне» – это слово деда, которое помнил Федор всю свою жизнь.
После отбытия срока в глухом Присаянье Кривулины вернулись в родную деревню Манутсы, Федора призвали в армию, а Петр Ананьевич тем временем сумел встать на ноги: построил дом, завел скотину, распахал большой огород, где умудрялся сеять полоску ржи и полоску овса – оставшаяся площадь была занята под картошку. И всю зиму Александра Петровна выпекала свой собственный ржаной хлеб, сжатый овес шел на прокорм лошади.
Перебирать в памяти родных людей было и сладко, и тягостно. Сладко, потому что ближе их никого не было у Федора. Тягостно, потому что судьбы отца и деда с бабкой были тяжелыми, а прошлое, как известно, не вернуть и не переделать.
«И че это я вдарился в воспоминания?.. – поймал себя на мысли. – Не помирать же собрался. Перемогу и снова пойду косить. Во-он бабка Лукьянчиха приходила, просила подмочь. Соседка Лена Иваниха. Другие…»
Федор всех возможных и невозможных ходоков знал наперечет. Знал и то, что, как только в деревне узнают о его болезни, отбоя не будет от «жалельщиков». Валом пойдут, понесут кто меду, кто яичек, кто сметанки. И каждая «сердобольщица» будет советовать что-то свое, мол, испей, Сергеич, такой-то травки или такой… Куда они без него…
Однако, как ни пробовал себя успокоить, где-то далеко внутри – в самых что ни на есть глубинах собственного естества складывалось осознание, что болезнь его нешуточная и надо бы обратиться к врачам. Врачей Федор Кривулин до этого случая обходил стороной, справляясь со всякими болезнями народными средствами. Теперь, видно, не обойтись. И ладно. Мало-мало окрепнет и поедет в район «сдаваться» врачам.
Более всего угнетало одиночество: «Вот лежу тут пень пнем, валежина валежиной и некому воды поднести… – думал горестно, жалея себя. – Некому за скотиной приглядеть, супу какого сварить, за лекарством съездить в райцентр».
«До-ожился, Федя, – продолжал размышлять в том же духе, перевернувшись на другой бок. – Как в воду глядела Ариша-то, бросая иной раз в лицо бывшего супруга, мол, доживешься до ручки, некому будет воды подать…»
До-ожился…
«Ну, нет, – сказал себе твердо. – Рано вы меня хороните…»
К кому обращался в мыслях и кто собирается его хоронить – для него было не важно. Важным было только то, что сдаваться не собирался.
«Пушшай не лезут…» – проговорил про себя настырно излюбленное.
Сел, спустив ноги с кровати, нащупал тапочки, поднялся и поковылял на кухню, надеясь согреть чаю.
Будто почувствовав намерение хозяина – справиться с болезнью, в загоне заржал Туман.
«Счас-счас, Туманушко. И накормлю, и напою…»
Чайник зашипел, задрожал от напора закипевшей воды, а Федор уже входил в загон к лошади с охапкой сена в руках.
– Ешь, ешь, – повторял ласково. – Ешь вволю, а там и водички поднесу. Не горюй. А болезнь пушшай не лезет. Не таковских видывали.
Глубоко вдохнул в себя свежего утреннего воздуха, поглядел на чистое голубое небо.
Не-ет, помирать он еще не собирается. Не такие казусы случались в его жизни, а уж эту болезнь он как-нибудь переборет. Только жить он начнет как-то по-другому. А как – это уже определит сама жизнь. Может, с Ариной сойдется, все-таки деток общих нажили. Может, останется бобылем. В общем, по-другому, и все.
Потрепал лошадь за морду и совсем уже твердо сказал, обращаясь неведомо к кому:
– Пушшай не лезут…
Несмышленыши
Сын приходил домой, раздевался и просил конфетку. Мать, едва глянув на него, молча подавала. Сын торопился развернуть бумажку, совал в рот. Конфеты для него имелись всегда и все другие обитатели квартиры о том знали. Даже если сидели без хлеба – конфеты были. И с этим никто не спорил. Заговори они о том, начни возмущаться – мать всем им даст надлежащий отпор. Нет, кричать и доказывать что-то не будет, она только обронит два-три слова – и все замолчат, понимая, что у нее все одно и сил, и власти здесь больше, чем у кого-либо из них.
Сын не глядит на мать, мать не глядит на сына, но оба хорошо чувствуют друг друга. Он – ее плоть и кровь. Она – его надежда и опора. Он – ее нынешние страдания и болезни. Она – его всегдашняя тихая и надежная пристань.
– Сергей, – спрашивает мать негромким спокойным голосом, – чайник включить?
– Ага, – отзывается сын так же негромко, будто вернулся из школы или с работы.
Электрический чайник закипает быстро, мать достает из шкафа кружку, наливает, придвигает к нему, сидящему по другую сторону стола.
– Есть будешь? – спрашивает так же негромко.
– Не хочу, – отвечает сын.
– Может, все-таки поешь? – повторяет она, не возвышая голоса.
И добавляет:
– Посмотри на себя: кожа да кости. Упадешь где-нибудь…
– Не упаду. А упаду – туда мне и дорога.
Мать некоторое время молчит, затем встает, подходит к сыну, кладет руку на плечо и, наклонившись к нему, тем же спокойным голосом говорит:
– Ты же вчера мне обещал, что сегодня останешься дома и никуда не пойдешь. Позавчера обещал то же самое. И позавчера… Кончится у тебя это когда-нибудь?
Рука ее начинает дрожать, сын опускает голову, бормочет:
– Сейчас не могу… Д-дай время…
– Ты же видишь, я тебя не тороплю: терплю уже три года, – снимает руку с его плеча, отходит на место и добавляет:
– Утром я тебе отдала последние деньги: с чем завтра пойдешь?
– Завтра – залягу, дома буду, – отвечает он неуверенно.
Во время их разговора на кухню заходят то дочь, то зять, что-то берут, наливают, мать успевает что-то сказать, а они ответить. По всему видно, что подобное повторяется каждый день и ничего не меняется. К Сергею никто не обращается, но и он ни в ком не нуждается, ибо все слова здесь исчерпаны и воздух квартиры напитан ожиданием. Чего? А кто ж его знает. Каких-то перемен, а вот каких – никто бы не сказал. Наверное, каждый своих или понимаемых по-своему. Дочь с мужем желали бы съехать, да некуда? Мать, чтобы случилось чудо, и сын ее стал таким, каким был три года назад. Сергей?.. Сергей, пожалуй, единственный, который ничего и никого не ожидает.
А беда в эту семью вошла незаметно. Вошла хозяйкой, поселилась надолго, зажила припеваючи. Беда не выбирала: в эту семью войти или в какую другую – ей было все одно. Она привыкла входить в незапертые двери или по крайности – влезать в окно. Было бы заделье.
Заделье нашлось. К учебе в школе Сергей интереса не проявлял. К занятию какому-нибудь сердцем не прикипел. Родителям было не до него: они развелись и каждый попытался устроить свою жизнь.
Около полугода назад мать потеряла работу. Возвращалась без привычной тяжести в руке, в которой всегда была сумка – даже хлеба забыла купить. Смотрела безучастно, потерянно. Дома долго молчала, сняв пальто, прошла на все ту же кухню, где и опустилась тяжело на табурет, стоявший между окном и столом.
Думала не столько о себе и дочери, сколько о Сергее. Она еще не знала себя такой, вне работы. И вот ее нет – всегдашней, нескончаемой, притомлявшей тело, притуплявшей душу, но желанной, как бывает желанен занимавшийся день, в котором много нужных семье хлопот. Когда те хлопоты выстраиваются в нескончаемую череду и каждая поджидает свой час, свою минуту, чтобы прилипнуть к рукам, заставить сгибаться и разгибаться спину, двигать ноги то в одном направлении, то в другом. Когда ты просто машина, которая не имеет права ломаться, потому что всегда надо куда-то кого-то везти. Когда надо выдавливать из себя остатние крохи сил, чтобы дотянуть до требуемой – человеческой ли, лошадиной, которой бы достало, чтобы все превозмочь.
И она превозмогала, пока у нее была работа и было к чему приложить силы.
Мать долго сидела на своем месте, чувствуя, как тело ее, от самой макушки до кончиков пальцев ног, все больше наливается усталостью, какой никогда не приходилось испытывать, как бы день ни был переполнен хлопотами.
Явились дочь, зять, о чем-то спрашивали, и она отвечала, не касаясь главного, и, решив про себя, что никому ничего не расскажет, а завтра, чуть свет обежит, объездит все места, все закоулки города и найдет работу новую, взамен потерянной, и никто ничего не узнает.
Больше всего ей не хотелось встречаться с сыном и, может быть, впервые она раньше обычного, ушла к себе в комнату, где разобрала постель и улеглась, отвернувшись к стене – омертвевшая и безучастная ко всему.
И придвинулось утро, за ним другое, третье, десятое и всюду натыкалась она на глаза холодные, на голоса чужие, на лица, похожие на маски, какие бывают на надгробных памятниках.
И начало казаться, что и сам город будто вымер, и машины по улицам движутся как бы сами по себе, а в автобусах просто обряженные в одежды механические куклы.
И в ней самой что-то начинало ломаться, портиться, стираться и пролилось однажды скупыми слезами из почти сухих глаз, когда человека бережно берут под руки и ведут куда-нибудь к дивану, где усаживают, подают стакан воды.
– Ой, Людочка, а меня сократили, – призналась она обнявшей ее за плечи дочери.
– Успокойся, мы уже знаем.
– Откуда? – встрепенулась мать.
– Тетю Машу видела, она и сказала.
– Да просила ж я ничего вам не говорить.
– Мы бы и так догадались: приходишь вечером – лица на тебе нет. Я уж и не знала, как к тебе подступиться…
– И Серьга знает? – встревожилась вдруг.
– Ты о себе подумай, о нас подумай, о внучке, – не сдержалась дочь. – Посмотри на себя в зеркало: тебе только сорок, а выглядишь шестидесятилетней старухой. А ему-то что…
– Нельзя так, Люда, – остановила ее мать. – Он брат тебе, а мне – сын. В беде он, помогать надо друг другу.
– Деньги да жилы тянуть каждый день. Вот я напишу бабушке, пусть приедет, посмотрит на внука, – не уступала дочь. – Что ни делали – все как в прорву. И по-доброму, и по-худому…
– Вот потому я и ищу работу, – еще тверже произнесла мать. – Не на твоей же шее сидеть. У тебя семья, свои заботы. А я как-нибудь сама с ним, может, одумается…
– Одумается, как же…
Подобно воде проскользнул сын между пальцами. Подобно ветру прошелестел листьями. Подобно земле лег под асфальт большого города. И нельзя, невозможно собрать по каплям. И нельзя, невозможно быть быстрее ветра, чтобы опередить и не пустить туда, откуда не возвращаются. И нельзя, невозможно вызволить из-под тяжелых железных катков, обряженной насильственно в камень живородящей земли, из коей не произрасти ни злаку, ни горькой полыни.
И она, мать, неведомо в кого верующая и незнамо кого призывающая себе в помощь, одна-одинешенька со своей бедой-немощью ввалившейся в самую середину ее сердца трепетного то ли в день хмурый декабрьский, то ли в ночь темную, безлунную.
Ходила тенью – просила, а то и прикрикивала. Напрасно ожидала, обмирая от стука ли чьих-то каблуков, хлопанья ли чужих дверей. Протерла глазами стеклины окон квартиры, высматривая до головокруженья, до подступающей тошноты, не покажется ли фигура исхудавшего Серьги из какой подворотни. Кляла все и вся, а более самое себя за то, что не уберегла, не оградила кровиночку от худого. Не знала покоя ни минуточки.
Курить начал рано – примирилась, даже давала на сигареты, с тревогой поглядывая на некоторою резкость в движениях, вслушиваясь в разговоры таких же, как и он, юнцов, которых иной раз приводил с собой. Бывало, проверяла карманы, не находя в них ничего такого, что бы могло насторожить, при этом не допуская мысли, что Сергей или, как она его называла, Серьга, может ввязаться в нечто нехорошее, чего потом надо будет бояться, от чего надо будет ограждать, оберегать, с чем надо будет бороться, прилагая к тому все свои силы, – и отступить, может быть, даже отступиться и принять все как есть.
Большой город гудел нестройно и враждебно. Гудел дорогами, шарканьем множества ног, ударами многих дверей подъездов, телевизорами и голосами многих квартир в высотном доме, где они проживали, вырвавшись каких-нибудь пару лет назад из клети малосемейного общежития и еще не насладившись относительным покоем, какой гарантировали четыре крепких стены, выходящие на четыре стороны света.
Большой город взрывался страстями, но взрывы эти чаще не выходили за пределы все тех же четырех крепких стен квартир и потому потрясали каждую семью в отдельности, не достигая волной своей лестничных клеток, а уж тем более не вырываясь наружу из дверей подъездов.
Потом люди выходили на улицу – настороженные, взъерошенные изнутри, но с маской равнодушия на лице. Выходили по своим делам и, если бы можно было достучаться до одного, другого, третьего, куда, мол, спешите, милые? – изумился бы никчемности дел, низости потребностей, мелкости тех страстей. Гнала же – невозможность находиться вместе: с матерью, сестрой, братом, женой, мужем. Разобщенные и одеревеневшие к болячкам своих близких, а уж о чужих и вовсе запамятовавшие, люди города шли незнамо куда.
Большой город во всю лез из себя, чтобы казаться благополучным. Яркими вывесками, широкими автодорожными магистралями, вычурными фасадами домов, карикатурно яркими железинами, мчавшими будто бы по делам, но все одно куда, лишь бы мчаться и ошеломлять всех тех, кто пожиже «зелеными» в кармане и не может позволить себе так же лететь, едва касаясь асфальта черными пупырчатыми шинами колес.
Большой город весь был замешан на лжи. Весь был ложь: крашеными ртами, кожаными юбками и куртками, крикливыми окнами магазинов и забегаловок, перекинутыми через плечи ремнями сумок, сотовыми телефонами, многими миллионами размалеванных упаковок, в которые якобы было запрятано нечто очень вам нужное, а на поверку – пустое, одноразовое, как туалетная бумага.
И этим большой город был невыразимо жесток, готовый во всякую минуту смять, стереть, размазать, преобразовать в жалкий бесформенный комок той же туалетной бумаги и выплюнуть – выхаркнуть в приткнувшуюся подле фонарного столба урну. Даже просто выплеснуть кроваво-грязной лужицей на жаркое тело асфальта и тут же растащить колесами – без какого-либо следа, без какого-либо сожаления, а уж тем более сострадания.
О сострадании большой город и не слыхивал. Может, и домучивало оно свой век среди жидких полей и блеклых скособочившихся берез в жалких деревенских лачугах, да и то далеко не во всех, а в тех, что поплоше, пониже и покривее. Может, уже и успело отмучиться, дотлевая на забытом Богом и людьми погосте.
Большому городу это было совершенно «до лампочки» – так выражался он сотнями тысяч глоток, когда в бетонном чреве его кого-то бесчестили, обсчитывали, унижали, грабили, насиловали, убивали, сажали «на иглу».
И ее Серьгу посадили «на иглу». Посадили, потому что знали: у Серьги есть она, беззаветно любящая свое дитя мать и что мать эта готова, отмирая по очереди каждой клеткой своего тела, передавать сыну тепло дыхания, чтобы и самой однажды пасть, как падает грудью окруженный врагами витязь на клочок родной ему земли.
Ничего такого не понимала, не осознавала, не чувствовала своим ошпаренным, протекающим через всю ее сущность кипятком забот нутром и она, пока не стукнула каблуками беда, не вонзила острые шпильки в самое-самое, чем утешалась, во что верила, на что надеялась. И стали одна за другой отъединяться от своих мест драницы крыши ее дома, а в образовавшиеся пустоты хлынул раскаленный свинцовый дождь. И некуда было деться от тех жестких струй. И нечем было остановить их безжалостный поток. И не к кому было бежать – искать защиты. И не с кого было спросить за эту незаслуженную ею несправедливость.
Но и нельзя было отступить. Потому как только приходила с работы, шла в подворотни многоэтажек, в подъезды, в кусты жидкой городской растительности – искать сына. Потом шла к таким же, как и она, матерям, чьи дети погибали от белой смерти. А уж вместе – в милицию, к чиновникам администрации микрорайона, в редакции газет и еще бог знает куда.
Каждую неделю в их микрорайоне случалась смерть то шестнадцатилетнего, то шестнадцатилетней. То восемнадцатилетнего, то восемнадцатилетней. Воспринималось сие окружающими с поразительной легкостью, даже с некоторой удовлетворенностью, мол, туда им и дорога. Мусор, мол, человеческий, а мы – сильные и ничего такого с нами не произойдет. Но ряды таких же несчастных, как и она сама, пополнялись неумолимо и шли матери на похороны – поддержать своим присутствием более всех из них пострадавшую.
Тягостны и бесприютны были такие похороны, малочисленны. Обегаемы соседями. Скудные обставой, поминальным угощением. Не выли душераздирательно медные трубы оркестров о вечном и нетленном, потому как белый порошок выпивал без остатка и здоровье, и даденный Создателем талант, и первооснову продолжения рода, и «жизнь, и слезы, и любовь».
Оставалась любовь материнская, начало коей положено было в бездне утробы, и любовь та была воистину бездонной и всепрощающей, как и Любовь Господа над всем и вся сущая и вечная.
Они являлись не для присутствия на похоронах, а сострадая. Только они и понимали всю жуть трагедии пострадавшей.
Жидкой стайкой жались в сторонке их «уколотые» к тому времени дети-несмышленыши. Несмышленыши по годкам, но прозревшие глубину падения, каковая накрывается гробовой доской и откуда не бывает возврата. Не по своей вине павшие – избранники жутких запредельных сил и целиком отдавшиеся воле этих не знающих любви демонов в человечьем обличье.
Избранные погибнуть, дабы их сверстники могли жить. Да-да, избранные взойти на запаленный демонами костер, чтобы другие продолжили жизнь на планете Земля.
И все свершалось по законам демократическим, где господствовал не Спаситель, а господин – Рынок. И отношения промеж людей строились не Божественные, а Рыночные. Базарные. Не из десяти заповедей Господом составленные в наставление и назидание, а выхаркнутые корыстью в сочетании с беспримерной наглостью. Вроде таких, как «Человек человеку – волк», «Деньги не пахнут», «Кто успел, тот и съел», «Не падай – затопчу без сожаления» и тому подобные.
И ее, мать, тоже выпихнул взашей с работы господин – Рынок.
– Деньги надо уметь считать, – говорили его адепты. – Это при коммунистах можно было балду бить, потому и жили плохо. Весь мир считает – вот и пьют-едят на золоте-серебре. Если можешь заработать копейку – заработай ее.
И зарабатывали за счет таких, как она, немилосердно ужимая штаты, выпроваживая на улицу работающих пенсионеров, тех, кому за сорок, оставляя самых молодых и самых сильных.
– А опыт, профессионализм? – нестройно вопрошали вялые противники производимого в стране разбоя.
– Опыт и профессионализм – дело наживное. Крутись – и все получится, а нет, так за воротами очередь. И надо, чтобы была очередь – вот тогда и наберут обороты приводные ремни Господина. И заживем по-человечески.
И машина запускалась: скрипели ремни, перемалывая человеческие кости.
Под проливной дождь океана выплаканных и невыплаканных слез, как сорняки, плодились всевозможные ларьки, прозванные в народе «комками», в которых всякой всячиной торговал и Опыт вкупе с Профессионализмом, и просто ни к чему другому не приспособленный пестрый по своему составу люд.
А в то же время банкротились некогда процветающие производства, за копейки распродавалось оборудование, а в общем-то – растаскивалось и пускалось в оборот по частям или целиком.
Распоряжались всем адепты, разъезжавшие в заграничных авто и понастроившие себе дорогих коттеджей.
Рынок обладал свойствами болотной трясины и мало-помалу кое-кто из бывших учителей, врачей, работников культурного фронта, инженеров, мастеров производственной работы начинал ему нравиться и тогда Господин переводил приглянувшихся в адепты. Эти уже были преданы ему, как никто другой. Эти уже и не скрывали своего презрения к Опыту и Профессионализму, продолжающим гнуть спину на своих обескровленных Рынком местах и получающих за свой воистину самоотверженный труд грошовое вознаграждение из того, что Рынок отстегивал с барского плеча в общаг, именуемый бюджетом.
Но и общаг не был изначально предназначен для производящих черную, во благо всех, работу. Только крохи перепадали Опыту и Профессионализму. Оставшийся жирный кусок по-братски делили между собой многочисленные чиновные лица и все тот же господин – Рынок. Его подручные – адепты – откачивали, выкачивали, перекачивали огромную денежную массу, потоки которой переправлялись невидимо, но точно по своим адресатам. И не было никому успокоения от той работы, провоцирующей то войны, то взрывы, то болезни, то крушения на железнодорожных магистралях, то падения самолетов, то наводнения, то землетрясения. А верные псы Рынка – Средства Массового Оболванивания – рисовали и показывали те страшные картины предвестников Апокалипсиса, выводя на якобы виновников происходящего: то на «загнивший царизм», то на «большевистский террор», то на коммунистов. Псов своих Господин кормил прямо с барского стола, но не досыта: сытая собака лениво лает. Газетный и телевизионный Апокалипсис густо разбавлялся развлекаловкой, американскими боевиками и шикарной рекламой всей той дребедени, какая рабочему человеку нужна, как корове седло.
Смотрели свои – близкие матери люди. Смотрел Серьга, порой в компании таких же, как и сам, попавших в беду несмышленышей. Веселый не от полноты сил молодой жизни, а от распирающего нутро порошка. Вколотый в еще неокрепший, неразвившийся организм сына, гулял он по жилам, сотрясал нервную систему.
И мать видела это, сознавала, чувствовала всеми своими внутренностями, от которых восемнадцать лет назад отъединился маленький сморщенный комочек – ее сын, сынуля, сыночек.
И как уж тут оставить без помощи это, взрослое по годкам, дитя, с которым прожита каждая минута его вхождения в мир: вот Серьга потопал ножками, вот произнес первое осмысленное слово, вот он ученик, вот…
Порой ей даже начинало казаться, что он счастлив и не надо ему мешать. Что это и есть его путь, стезя, судьба. Судьба и рано погибнуть. Погибают ведь в авариях, под колесами, от всяких нелепостей и случайностей. Мало ли хоронят каких-то молодых – утыканы кладбища могилами. И она видела те могилы, помнила о них, соглашалась, как с чем-то неизбежным, роковым и неотвратным. Соглашалась, ужимаясь вместе с замиравшим сердцем матери, у которой тоже есть сын.
Ну, била бы кровь ручьем – бросилась бы всем телом закрыть ту рану. Встала бы заместо его, чтобы пасть от пули ворога. Пошла бы далеко и не возвернуласъ. Полезла бы, ломая ногти, на самую высокую вершину, чтобы оборваться и, хрустя косточками, скатиться в самое глубокое ущелье. А то ведь и сцепиться-то с кем – неведомо. Куда пойти и с кого спросить – незнаемо.
Сокрыто от глаз людских логово зверя матерого, клыкастого, не знающего ни жалости, ни сострадания.
Рынок ли то или что пострашнее – кто ж просветит разум несчастной матери. Несчастной бессилием перед неотвратимым.
Горше всего было не иметь работы, но однажды набрела на заборное объявление. Пробежала глазами по писанным от руки строчкам, не веря, что в неком заведении требуется повар. Не дожидаясь трамвая, побежала-полетела по указанному адресу.
Вошла робко в неприютное помещеньице с редко расставленными столиками, придвинулась к стойке раздаточной.
– Тебе чего, тетя? – глянула из-за нее женщина лет тридцати с небольшим. – На работу, что ли, наниматься?
И крикнула куда-то позади себя:
– Нонна Викторовна, к вам тут пришла одна: будете разговаривать?
– По объявлению я, – прошептала мать.
– По объявлению она! – вновь крикнула женщина. Внутренняя дверь помещеньица отворилась, из нее боком, вполтела обозначилась та, кого назвали Нонной Викторовной.
– Повар? Документы при себе?
– Да-да, вот, – протянула заготовленное заранее. – Трудовая книжка, диплом…
– А паспорт? Может, ты залетная какая…
Длинные крашеные ноготки рук, казалось, скребли по обложкам, листочкам документов, яркие от помады губы шевелились так медленно, будто женщина только недавно научилась грамоте.
А мать стояла потерянно и мучилась: стыдом, униженностью собственной, долгим своим хождением по мукам.
– Приходить будешь в шесть утра, уходить – в восемь вечера. Выходной – как получится. Завтра и начнешь, – коротко, как боевой приказ, бросила поворачиваясь, и, удаляясь, будто куда торопилась.
«А когда же я Серьгу буду видетъ? – прошумело в голове вконец раздавленной таким приемом матери. – Да и сколько будут платить?»
Но уже повернули ноги к выходу и, чуть было не ковырнувшись о невысокий порог, вывели на улицу.
Побрела, собираясь с мыслями: рука, будто придерживая, лежала на том месте, где колотилось о частокол ребер сердце и готовое перепрыгнуть через тот частокол, чтобы укатиться колобком из сказки – в поисках другого для себя счастья.
Заведеньице являло из себя нечто среднее между плохонькой столовкой и затрапезным кафе дорыночного периода. Кроме нее здесь работала упомянутая Маша, исполнявшая обязанности раздатчицы, посудомойки и подтирушки, да официантка Мила – молодайка до тридцати лет. Милу, видно, держали за то, что могла сказать обидное и не обидеть, а через минуту – плюхнуться на коленки какому-нибудь бритоголовому «братку», закурить сигаретку, пригубить рюмочку, подхохатывая при этом безо всякого на то повода.
– Вы, может, думаете: вот, мол, такая-сякая потаскушка, – говорила иной раз Мила. – Я ведь таким манером нашей «новой русской» клиентуру поставляю. Опять же работу боюсь потерять – кому бы нужна была здесь другая?..
И была в том правда: в заведеньице шли не только «братки», бывали здесь студенты, командировочные, заходили семейные пары.
А каждая из женщин являла чудеса виртуозности, представляя в едином лице целую группу инструментов оркестра, где, помимо собственной, приходилось играть еще и партии отсутствующих или не предусмотренных штатом музыкантов.
Подвозили продукты – шли разгружать, заносить говяжьи туши, мешки с сахаром, мукой, крупой – банки, склянки, бутылки. Заканчивался день и всеобщим авралом на уборке зала для клиентов, подсобок, кухни. Подъезжала мусоровозка – и тут нужны были их руки, три пары не боящихся никакой работы женских рук.
И придвигался конец всему. И разбегались в разные стороны по своим углам, заботам, семьям, интересам. Мать обегала арочные подворотни бетонных коробков-пятиэтажек, заглядывала в подъезды, тыкалась к стайкам несмышленышей, пытаясь найти Серьгу.
Потом мучилась ожиданием, когда позвонит или поскребется в дверь сын. А он явится все такой же, с лицом отрешенным, отсвечивающим землистой бледностью.
И так изо дня в день. Она – на работу, он – в подворотню. И никаких перемен, никакого просвета в опостылевшей круговерти суток, недель, месяцев.
Между тем никогда не знающий передышек мотор ее здоровья давал сбои. То вдруг закружится голова и затрепыхается в груди сердце, то начнет обмякать тело и от шеи до кончиков пальцев ног поползут мурашки.
В короткие минуты обеденного перерыва собирались за каким-нибудь столиком, наверное, больше для того, чтобы выговориться, чем утолить голод. Иной раз и выпивали по стопочке легкого винца.
– Хлопни, Артемовна, – обнимая за плечи, говорила посудомойка Маша, – и жить станет веселее, и работенка эта каторжная забудется.
– Дак, Машенька, мне работать не привыкать. С детства занаряжена. Душа вот болит по сыну: где он, что он, может, и неживой уже?
– Сволочи, – отзывалась раскрасневшаяся лицом подружка по заведеньицу. – На наших кровавых слезах деньгу сколачивают… А ты не рви сердце-то, не рви. В наших слезах и утопнут – ни дна им ни покрышки!
И срывающимся голосом затягивала:
Грусть-тоска меня снедает, Мил-дружок не йдет давно. Он, подлец, пока не знает, Что мне это все равно…– Маруська! – грубо обрывает песню подруги официантка Мила. – И где ты такие старорежимные песни выучила? В сон от них тянет. Давай что-нибудь современное. А вообще, ты права: подлецы они все – я говорю о мужиках. Для меня так все мужики на одно лицо. У всех и в глазах, и в рожах – одно и то же… Надоели!..
– Да уж, тебе точно надоели, – скажет посудомойка Маша. – За день-то у скольких на коленках посидишь. А по мне дак никого не надо – наелась я семейной жизни с пьяницей.
– А у меня-то и никакого не было, – поддержит официантка Мила. – Э-эх, замуж бы за хорошего мужика… Пошла бы хоть землю рыть, хоть бревна таскать…
Мать начинала улыбаться, светлеть лицом, в душу заползало тепло.
Минуты эти обеденные казались драгоценнее всего: притуплялась всегдашняя тревога за сына, клонило в сон, вспоминались отец с матерью, братья, рано умершая сестра, подруги детства, тот первый в ее жизни парень, что потревожил девичье сердце. Где ж они все? И было ли в ее жизни все это: родительский дом, учеба в техникуме, замужество, рождение детей?
Являлась Нонна Викторовна, что-то говорила. Они ее не слушали, расходились по своим местам.
И стук-бряк, шипенье жира на сковородках, мокрота мяса, крученье-верченье, резня-возня. До одури. До отупения. До немоты ног. До тяжести в руках.
И потемнело однажды в глазах, собралось тело, будто в гармошку, растеклось по влажному кафельному полу и пошла пена изо рта.
– Нонна Викторовна! Нонна Викторовна!.. С Артемовной чего-то, плохо ей! – испуганно закричала посудомойка Маша.
Молча выдвинулась из своего кабинетика хозяйка. Молча, не сгибаясь, постояла подле поварихи, проговорив только одно слово: «Нажралась…» И вернулась к себе, где набрала номер телефона.
А через минут пятнадцать-двадцать приехал «воронок», из которого спрыгнули на землю два здоровых парня в милицейской форме, подняли за руки за ноги лежащую в беспамятстве женщину, вынесли наружу и впихнули в железину. И всю дорогу до «вытрезвиловки» бросало ее тело из стороны в сторону по вышарканному многими ногами металлическому полу громыхающей машины.
На месте так же равнодушно бросили на топчанчик и отошли, переговариваясь, к дежурному, который вызвал по внутренней связи врача медвытрезвителя.
Не сразу явился человек в белом халате, не сразу подошел к очередной «клиентке», а когда подошел и привычно наклонился, чтобы соблюсти хоть видимость осмотра, побледнел и тут же крикнул дежурному:
– Вызывай «скорую»! Опять ваши дуболомы больную приняли за алкоголичку – под суд подведете, сволочи!..
Сменились в лице и стоявшие тут же те, кого врач назвал «дуболомами»: один стал одергивать на женщине халатик, другой зачем-то сложил ей руки на груди и выпрямил скрючившиеся ноги. После этого оба быстрым шагом направились к выходу – поджидать «скорую».
И приехала «скорая», и свезла ее в реанимационное отделение областной больницы.
И целых пять суток не приходила в сознание поверженная в состояние комы кровоизлиянием в мозг.
А в это время ее дочь Людмила подняла на ноги всех родственников, друзей, соседей будто все они могли чем-то помочь ее матери прийти в себя. Хотя… может быть, и помогает такое разом проявленное участие в судьбе попавшего в беду человека. Может быть, ведь никто не знает, как мы все соединяемся друг с другом под единым небом, на единой земле. Что держит нас, что толкает навстречу, что сплачивает, питает живительную силу сострадания, способного заживлять, кажется, незаживающие раны, притуплять и вовсе отодвигать всесветную боль.
И она очнулась, не понимая и не пытаясь понять, что с ней, где она, почему лежит и не торопится вставать – бежать по всегдашним заботам дня. И хорошо было ей лежать распластанной на больничной койке – не чувствительной к уколам, суете медицинской сестры, запаху лекарств, шуму улицы за окном.
В сумраке безвременья лежала потом в палате для выздоравливающих, куда перевели ее из реанимационного отделения. И что-то сильное, очень близкое и нужное должно было выдернуть ее из этого сумрака, дабы снова ощутила свет мира живых, а вместе с тем и неодолимое желание втиснуться в беличье колесо повседневности, чтобы бежать вровень со всеми.
Этим близким и нужным мог быть только ее несмышленыш Серьга, который сидел подле матери и плакал.
– Мама, мама! – повторял и повторял в беспамятстве отчаянья. – Если ты умрешь – я тоже умру… Мама, мама!..
– Да не умру я, – отозвалась наконец слабым голосом. – Не умру. Куда ж я от тебя денусь – вместе будем перемогать твою немочь…
– Я брошу колоться, брошу! – будто торопился он закрепить в себе веру в ее выздоровление. – Дай только мне немного времени… Ты не умирай, не умирай никогда… Мама!..
Серьга еще что-то говорил, слезы лились из его глаз, но мать не слышала его слов и не видела его слез. Она вслушивалась, всматривалась в другое, вдруг прорвавшееся в ее оглушенное сознание. То был прежде мучивший ее гул большого города, о котором она за время своей болезни почти забыла. Выли многими моторами проезжающие за окном больницы автомобили. Шаркали сотнями ног об асфальт пешеходы. Шелестел ветер листьями деревьев.
Она слушала и слушала этот многоголосый гул и в ее пробуждающемся сознании медленно и неповоротливо оформлялась одна-единственная мысль: гул большого города больше ее не пугает. Он просто часть ее жизни и среди него или вместе с ним ей придется жить. Да, придется, и это неизбежно, ведь она вовсе не собирается умирать, и не умрет. Именно этой дорогой возвратятся к ней силы, и она легко вольется в улицы большого города, чтобы день наполнялся заботами, а ночь приносила желанный отдых душе и телу.
И Серьга поправится… Несмышленыши станут мужчинами…
«И чего это я все боялась?.. – спрашивала теперь себя, засыпая. – Живут же люди – и ничего…»
«Жи-ы-ву-ут…» – словно отзывался на ее мысли всем своим гулом большой город.
«Ну и ладно. Ну и хорошо, – продолжала додумывать уже во сне. – Вот отдохну – и встану. И пойду. И ничего плохого со мной не случится…»
Примечания
1
Чалдόны – русские поселенцы в Сибири и их потомки.
(обратно)


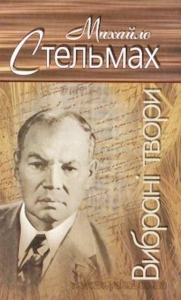

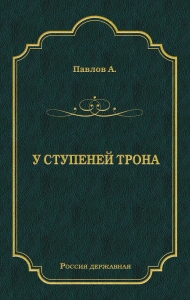
Комментарии к книге «Духов день», Николай Капитонович Зарубин
Всего 0 комментариев