* * *
О ты, приемыш медленных веков, Покой — твой целомудренный жених… …Века переживешь ты неспроста. Когда мы сгинем в будущем, как дым, И снова скорбь людскую ранит грудь, Ты скажешь поколениям иным: «В прекрасном — правда, в правде — красота. Вот знания земного смысл и суть»[1]. Джон Китс. «Ода к греческой вазе»Любить дотла
Корнелиус Энгельбрехт…
Сразу оговорюсь — он не был мне другом, но я достаточно хорошо его знал, чтобы сказать: он выглядел тем, кем хотел казаться. Холост, одевался скромно, в блеклые тона, преподавал математику, вел шахматный кружок, был любезен со всеми, хотя по-настоящему и не дружил ни с кем, — словом, человек изо всех сил старался оставаться незаметным. Я и не подозревал, что за внешней холодностью бушует яростный огонь, пока однажды, по причине, которая раскрылась позже, Корнелиус не поведал мне свою заветную страсть, таившуюся за внешне спокойным и рассудительным нравом.
Это произошло после похорон Дина Меррила. Мы еще не оправились от его скоропостижной смерти: потеря коллеги на время сплотила преподавателей нашей маленькой частной мужской гимназии (какое редкое для нас чувство!), однако не глубина потрясения и даже не изрядное количество выпитого на поминках спиртного заставило Корнелиуса сорвать с себя маску. Просто кто-то за столом вспомнил загадочные предсмертные слова Меррила: «Любить… дотла…» Слова, которые теперь то укоризненно жалят, то дружески ободряют меня… впрочем, тогда я не услышал в них ничего особенного. Завязался разговор о последних словах знаменитостей и наших умерших родственников. Корнелиус угрюмо молчал, вперив взгляд в стоявшую перед ним кружку темного пива. Я заметил это только потому, что волей случая оказался рядом с ним за столом.
— Глаза — голубые жемчужины, — обратился он вдруг скорее к своей кружке, чем к кому-нибудь из нас. — Вот что сказал мой отец перед смертью. А потом умер — во время первого снегопада. И все…
Профиль Корнелиуса напоминал мне портрет герцога Урбинского, написанный Пьеро делла Франческой. Наверное, это все из-за носа: тонкого, с гротескной горбинкой, на которую идеально сели бы не нужные Корнелиусу очки. Он вечно был погружен в себя, словно бился над хитрой загадкой или решал в уме математическую задачу столь важную, что она ставила его в особое положение, выше нас всех, попусту суетящихся из-за сломанной машины или больного ребенка. Стоило нам заговорить на житейские темы, Корнелиус делался задумчивым — не иначе как возвращался к своей задаче, — а в его улыбке сквозило высокомерие.
— Глаза — голубые жемчужины? — удивленно переспросил я. — И что это значит?
Он пристально глянул на меня, точно решая, соответствую ли я одному ему известным критериям.
— Такого не объяснить на словах, Ричард, — наконец сказал Корнелиус. — Я могу показать.
И стал настойчиво звать меня к себе в гости. Изумленный, я согласился: Корнелиус еще ни разу ни на чем не настаивал, настойчивость привлекает внимание. Должно быть, слова Меррила как-то встряхнули его — или, может, он думал, что они встряхнут меня. Я так и не понял, почему он выбрал именно меня. Возможно, просто потому, что я был единственным знакомым ему художником, единственным преподавателем изобразительных искусств.
Дома Корнелиус провел меня узким коридором в просторный кабинет, уставленный книгами. Дверь запиралась на несколько замков — несмотря на то что Корнелиус жил один. Отгороженный от остальных комнат в доме, кабинет был настолько холодным, что пришлось развести огонь.
— Ко мне редко заходят гости, — извинился за неудобства Корнелиус и указал мне на единственное кресло — дорогое, глубокое, обитое темно-синей кожей, которое стояло рядом с камином и напротив стены с картиной. Удивительной картиной, изображавшей молоденькую девушку в голубой блузке поверх коричневого платья. Девушка в профиль сидела за столом у раскрытого окна.
— Боже мой! — вырвалось у меня.
Корнелиус, похоже, ждал такой реакции, потому что тут же взволнованным тоном обрушил на меня целый град указаний:
— Взгляни! Только взгляни на эти глаза! Настоящие жемчужины! Вермер любил писать жемчуг. Какое нетерпеливое лицо! А свет — смотри! — свет делфтской улочки падает через окно на ее лоб. — Он достал из кармана платок и осторожно, боясь коснуться холста, протер раму картины, хотя я не видел ни пылинки. — Взгляни сюда! Как изящно лежит ее рука, замерев ладонью вверх: вот-вот повернется. Сколь краток миг, запечатленный в этой руке! Но мало того…
— Замечательно, — пришел в себя я. — И безусловно, выполнено в стиле Вермера. Мастерская имитация.
Корнелиус ухватился за ручки кресла и так низко нагнулся ко мне, что я почувствовал на лбу его дыхание.
— Это и есть Вермер, — прошептал он.
Я содрогнулся от одной мысли, от ее дикости, абсурда.
— Многие писали в стиле Вермера, — возразил я, — или, скажем, в стиле Рембрандта. А сколько было последователей у Рубенса! Да в живописи полно подражателей!
— Это Вермер, — повторил Корнелиус так решительно, что я перевел взгляд с картины на него: от волнения он кусал свою щеку. — Ты мне не веришь? — Его рука поползла вверх по туловищу, словно защищая сердце от моего ответа.
— Ну почему сразу — не верю? — Мне не хотелось его разочаровывать. — Просто картины Вермера — это такая редкость…
— Еще бы не редкость! Конечно! Он написал от силы сорок полотен, и доподлинно известно только о судьбе тридцати — тридцати пяти. Welk een schat! En waar is dat alles gebleven?[2]
— Это еще что такое?
— Так, сетования голландского историка. «Куда пропало сокровище?» или что-то в этом духе. — Корнелиус отвернулся и плеснул в стакан бренди. — Так почему бы этой картине не быть одной из пропавших? Смотри, тоже самое окно с открытой внутрь левой ставней, тот же струящийся бледно-желтый свет. А вышивка на скатерти? Точно такая же, как на девяти других его картинах. Тот же испанский стул со спинкой, украшенной львиными головами, который изображен еще на одиннадцати полотнах; те же медные кнопки на синей коже. Тот же черно-белый мозаичный пол.
— По сюжету картины нельзя определить живописца.
— Положим. Только ты ведь художник, Ричард, а художники славятся наблюдательностью. Ты без труда заметишь, как искажены диагонально уложенные плитки на полу. Точь-в-точь как на более ранних работах Вермера, например, в «Уроке музыки», написанном между тысяча шестьсот шестьдесят вторым и шестьдесят четвертым годами, или в «Девушке с вином», датируемой тысяча шестьсот шестидесятым годом.
Кто бы мог подумать, что он столько знает? Корнелиус сыпал фактами, как из учебника. Ну что ж, я тоже так могу.
— С таким же успехом можно доказывать, что это работа одного из подражателей, скажем, ван Мириса или де Хоха. Они все писали мозаичные полы. Боже, да в Голландии того времени разве что улицы мозаикой не мостили!
— Да-да, знаю. Георг III — и тот, покупая «Урок музыки», считал, что приобретает ван Мириса, но даже королю не под силу изменить историю. Это Вермер… — На имени художника Корнелиус перешел на шепот.
Я, право, не знал, что сказать. Такого просто не бывает.
Корнелиус расчистил от бумаг и книг край массивного письменного стола из мореного дуба, забрался на освободившееся место и наклонился ко мне:
— Вижу, ты все еще сомневаешься. Взгляни же тогда, как воссоздана глубина пространства. Обрати внимание на корзинку для шитья: она стоит на ближнем к нам крае стола и едва не загораживает фигуру девушки — кстати, его любимый прием. Сплетение прутьев размыто, корзинка как бы не в фокусе, зато лицо девушки видно четко. А теперь посмотри на кружевной край ее чепчика. Исключительная точность, вплоть до следа от булавки, вот здесь, на виске. Погляди теперь на стакан молока — видишь, какие смазанные края? Или вон карта на стене — размытое пятно, а не карта. Согласен?
Я кивнул — скорее под напором его голоса, чем в знак согласия.
— Так вот, он повторил то же самое в «Кружевнице» шестьдесят девятого года, из чего я заключаю, что эта картина была написана между тысяча шестьсот шестьдесят пятым и шестьдесят восьмым годами.
Я чувствовал, как Корнелиус сверлил меня взглядом, пока я рассматривал картину.
— Ты изрядно потрудился над книгами, — сказал я. — А есть ли здесь подпись?
— Нет, подписи нет, но это и неудивительно. Он часто оставлял свои работы неподписанными. К тому же у Вермера известно не менее семи видов подписи. Поэтому главное доказательство подлинности его работы — не подпись, а техника. Посмотри, какие мазки оставляет его кисть, заметь мельчайшие бороздки от волосков: в каждой есть светлая и темная сторона. А теперь огляди все полотно: ты увидишь накладывающиеся друг на друга слои краски — каждый не толще шелковой нити, и они по-разному отражают свет. Вот почему я уверен, что перед нами настоящий Вермер.
Я подошел к картине, приблизил голову почти вплотную к холсту, снял мешавшие мне очки. Все и вправду было так, как говорил Корнелиус. Стоило едва повернуть голову, как те или иные мазки слегка меняли свой цвет. Наверное, сложно добиться подобного! В других местах поверхность была такой ровной, что краска, казалось, впиталась в холст. Я вдруг поймал себя на том, что не могу перевести дыхание.
— И ты до сих пор не посоветовался со знатоками? У меня есть на примете один профессор-искусствовед; он мог бы прийти взглянуть…
— Нет-нет! Пусть лучше никто о ней не знает — так безопаснее. Я хотел, чтобы ее увидел только ты, Ричард, ты-то способен понять… Прошу, ни слова ни одной живой душе!
— Послушай, если подлинность картины официально подтвердится, ее цена будет астрономической. Найти работу Вермера — да ты потрясешь весь мир живописи!
— Я не хочу потрясать миры. — На виске у него пульсировала жилка, то ли от веры в подлинность картины, то ли от чего-то другого.
— Прости за бестактный вопрос, и все же откуда у тебя эта картина?
Лицо Корнелиуса окаменело.
— Мой отец, большой любитель искусства, приобрел ее… скажем… когда ему подвернулся удобный случай.
— На аукционе или распродаже имущества? Остались бы бумаги…
— Нет, Вермер не выставлялся на аукционе со времен Первой мировой войны. Считай, что картина досталась отцу… частным образом. А потом перешла по наследству ко мне. — Корнелиус на мгновение стиснул зубы. — Так что никаких записей нет, если ты об этом. Ни бумаг, ни документов. — В его голосе послышались вызывающие нотки.
— Тогда как же?..
— Возможностей много. Большинство работ Вермера прошло через руки некоего Питера Класа ван Рёйвена, сына зажиточного делфтского пивовара. Эта наверняка не из их числа. После смерти Вермер оставил жене одиннадцать детей и ящик долговых обязательств. Пять сотен гульденов за еду. Долг за одежду — чтобы покрыть его, торговец Янтье Стивенс потребовал двадцать шесть картин. Потом их вернули вдове, но впоследствии на аукционе выставили лишь двадцать одну картину. Кому достались остальные пять? Художникам или торговцам из гильдии святого Луки[3]? Соседям? Родственникам? Эта картина могла быть среди тех пяти. Далее, из двадцати одной проданной картины сейчас известно о судьбе шестнадцати. Спрашивается, где еще пять? Кроме того, пекарь Хендрик ван Бёйтен держал две картины Вермера в залог против шестисот семнадцати гульденов за еду. Говорят, что раньше ван Бёйтен мог получить еще пару картин.
Как легко заразиться убежденностью!.. Пришлось сказать себе, что сведения о жизни Вермера никак не делали эту картину творением его рук.
— Позже, — продолжал Корнелиус, — картину могли выдать за работу де Хоха, который больше ценился в то время, или просто дать в довесок к коллекции картин де Хоха либо ван дер Верфа или, наконец, продать вместе с имуществом Питера Тьямменса в Гронингене.
Я уже ничего не понимал. Откуда он вытащил такие подробности?
— Документы сообщают также об одном «аукционе, где продавали работы великих мастеров, в том числе Я. ван дер Меера, прежде никогда не выставлявшиеся в столице». Как видишь, возможностей уйма.
Слова выплескивались из него, как вода из фонтана. И это учитель математики?! Невероятно!
Однако вопрос о том, как картина попала к его отцу, Корнелиус тщательно обходил стороной. Не желая показаться невежливым, я не стал давить на собеседника. Только как поверить в подлинность картины, не зная ее происхождения?
Я допил бренди и вежливо раскланялся с хозяином, думая про себя: «Ну и пусть это не Вермер. Картина сама по себе уникальна».
Его отец… С той же фамилией, надо полагать. Энгельбрехт. Немец.
И чего Корнелиус от меня хотел? Почему мое мнение так важно? Неужели от моих слов что-то зависит?
По дороге домой я пытался выкинуть из головы этот вечер, но лицо девушки продолжало стоять у меня перед глазами.
Похороны Меррила заставили Корнелиуса задуматься. Нет, не о Мерриле — о внезапном конце и неискупленных грехах. И об отце. Снег таким же одеялом покрыл тогда отцовский гроб: сначала появились отдельные пятнышки, потом они слились вместе, потом нарос новый слой — и, наконец, гроб превратился в пушистый белый ком. Панихиду по Меррилу служил толстощекий священник. «Мерьте друг друга мерою человеческой» — вот единственные слова из всей службы, которые накрепко врезались в память Корнелиусу.
Если бы Корнелиуса спросили об отце, он сказал бы, что Отто Энгельбрехт был ответственным родителем, порой строгим, иногда вдруг ласковым, — таким Корнелиус помнил его с детства, проведенного в Дуйсбурге, немецком городке близ голландской границы. Сегодня, одиноким воскресным днем, пока за окном шел снег, Корнелиус сидел в большом кожаном кресле и, позабыв про раскрытую в руках книгу, пытался отыскать в памяти самое первое воспоминание об отце. Наверное, это было, когда отец привез ему из Голландии игрушечную деревянную мельницу с вертящимися лопастями и с висящей на единственной оставшейся петле дверцей, которая открывалась и показывала миниатюрную деревянную семейку внутри.
Корнелиус вспоминал, как отец проводил с ним воскресные дни, как водил в Дюссельдорфский зоопарк, учил играть на трубе, катал на санках по двору, а когда Корнелиус замерзал, грел его руки у себя в карманах. Отец объяснял ему шахматные комбинации и заставлял заучивать их наизусть, рассказывал в музее голландской живописи о смысле грозных небес на картинах ван Гога и раскрывал гениальность портретов Рембрандта. Когда, руководствуясь отцовским девизом «Пользуйся удобным случаем», они переехали в Штаты, отец водил Корнелиуса на бейсбол, смотреть, как играют «Нью-Йоркские янки»… Теперь Корнелиус видел во всем этом лишь попытки отца загладить грехи молодости.
Позже, в Филадельфии, Корнелиус со стыдом заметил, что отец становится беспокоен и суетлив, стоило пригласить в гости школьных друзей. Он никак не мог понять, зачем отец постоянно твердит: «Если спросят, откуда мы, скажи, что приехали из Швейцарии, и не говори больше ни слова». К тому времени как школьные друзья сменились друзьями из колледжа, отец перенес картину в свой кабинет и установил на двери сложный замок. Довольный, он подолгу стоял перед полотном, заложив руки за спину и качаясь с носков на пятки; от такого зрелища у Корнелиуса кружилась голова и сводило желудок.
После смерти матери отец, беспокойный пенсионер, взялся ухаживать за ее огородом. Корнелиус хорошо помнил хищный изгиб отцовских плеч, когда тот наклонялся за мельчайшими сорняками на грядках с морковью или капустой. К чему такая неумолимая жестокость? Неужели нельзя пропустить хоть одно растеньице, а потом сказать: «Даже не знаю, как оно сюда попало»? Отец самозабвенно копал, сажал, поливал, а урожай раздавал соседям.
— Какие роскошные помидоры! — восхитилась одна соседка.
— Да, теперь настоящих помидоров в магазине не купишь.
— Во время войны у нас тоже был такой огород, где мы растили овощи для фронта, — сообщила соседка, и Корнелиус заметил, как отец вздрогнул.
Неужели вспомнил, как с размаху бил женщину «люгером» по руке, протянутой за краюхой хлеба, пока солдаты выталкивали ее из собственной кухни?
За годы тягостных раздумий и чтения страшных книг — монографий, мемуаров, дневников, исторических документов, военных романов, — которые Корнелиус глотал одну за другой с голодной жадностью, в голове его стерлась грань между действительностью и вымыслом. Теперь он уже не знал, что вычитал из книг, а что запомнил из рассказов отца, лейтенанта Отто Энгельбрехта, дядюшке Фридриху про события шестого августа тысяча девятьсот сорок второго года — про то, что историки назвали «Черным четвергом».
С началом сумерек до полуночи евреев вытаскивали из собственных домов и гнали на перрон. Причину облавы позже объяснят тем, что слишком мало евреев добровольно являлись для депортации и поезда на Вестерборк просто необходимо было кем-то заполнить. К середине августа добрались до Южного Амстердама, более богатого района города. В сентябре все еще отлавливали евреев и свозили их в управление[4] на площади ван Схельтема.
«Прямо как снаряды на конвейере Дуйсбургского завода», — слышится отцовский голос.
Остальное — хитросплетение устного и печатного слова, изрядно сдобренное игрой воображения. Корнелиус снова проиграл в уме дуйсбургские воспоминания о том, как выползает из постели и украдкой спускается вниз послушать, что рассказывает отец дяде Фридриху. Десятилетний мальчишка, он тогда не понимал этих рассказов. На сей раз Корнелиус представил, как отец, перебрав виски и гордый тем, что наконец после череды поражений выиграл шахматную партию у Фридриха, заявляет брату, пока в семейных кругах можно еще было безнаказанно разговаривать: «Надо хвататься за удобный случай. А не можешь ухватиться сразу — составь план. Как я с картиной. А то вон мой подручный заприметил чайный сервиз в одном еврейском доме да и решил кинуть его себе в сумку. Пришлось остановить. Собственность фюрера».
Корнелиус не раз читал об этих событиях. Наутро после облавы по улицам поедут грузовики компании «Авраам Пульс и сыновья» собирать оставленные евреями вещи и свозить их в Хаусратерфассунг, немецкую службу по описи домашнего имущества.
«Вот тогда-то я и увидел картину. Она висела на стене, позади этого вороватого дурака, прямо за его головой, и светилась сочными красками — голубым, желтым, коричневым, будто лакированная. Такое мог написать только крупный голландский мастер. Тогда же нашли мальчишку, спрятавшегося в шкафу за тарелками и скатертями. Мы чуть не пропустили его. Помощник уничижительно посмотрел на меня: как можно быть таким невнимательным. Знай он цену картине или затаи обиду за чайный сервиз, мог бы и донести».
Звон битой посуды, раздававшийся, когда вытаскивали мальчонку, слышался Корнелиусу столь отчетливо, будто он сам при этом присутствовал.
«Ну, дал я ботинком под зад жидовскому отродью, а номер дома хорошенько запомнил».
Дальнейшее можно воссоздать без труда. К часу или двум ночи эсэсовцы выполнили свою норму, и пока остальные евреи сидели в укромных местах, Отто Энгельбрехт вернулся тихими улочками к примеченному дому. Картина все еще висела на стене: открыто, в пику указу за номером 58/42, который гласил, что «любую имеющуюся у евреев коллекцию предметов искусства надлежит передать для хранения в банк Липпмана и Розенталя». Только ведь одна картина — не коллекция; вот ее и оставили на стене — по невежеству. Что думал тогда отец? Раз картину не сдали, ее можно забрать себе? И вновь сквозь годы доносится его голос: «Когда я вернулся в дом, чайного сервиза уже не было…»
Красочные переживания, которые, как он надеялся, разделяет его отец, не давали Корнелиусу сомкнуть глаз по ночам, наполняли сны мародерами, обреченными матерями, незаслуженной болью, горками детских зубов в догорающих кострах, дымом, плывущим мимо оград и окон христианских домов. Подстегиваемый буйным воображением, он с фанатичным рвением читал на две темы: про голландскую живопись и про немецкую оккупацию Нидерландов. Только первая приносила спокойствие и радость. Только она могла отогнать образы отцовских сапог, фуражки, пистолета.
Гонимый жаждой знания, Корнелиус как-то летом поехал в Амстердам. Обойдя стороной площадь ван Схельтема, он отправился прямиком в Государственный музей, где застыл перед картинами Вермера. Там-то он и заметил тонкие слои краски с бороздками, создающие игру света и тени на голубом рукаве девушки с письмом, — такие же, как на рукаве девушки за шитьем у них дома. Несколько дней спустя он посетил Маурицхёйс[5], где в Королевском кабинете картин увидел, как светятся бело-розовым светом углы рта у вермеровской девушки в красной шляпе, — так же, как на их картине. Просиживая над пыльными бумагами в душных архивах Делфта, Амстердама, Лейдена и Гронингена, он читал о распродажах и аукционах, однако находил лишь намеки — никаких убедительных доказательств существования неизвестного шедевра Вермера. Но что могло быть убедительнее сходства их картины с музейными экспонатами? Корнелиус пустился в обратный путь, везя с собой уверенность в подлинности картины, как тайное сокровище.
— Это подлинник! Подлинник! — были его первые слова к отцу.
Улыбка медленно осветила старческое лицо.
— Я так и знал.
Снова они стали изучать картину — дюйм за дюймом, все так же плененные ее прелестью, только от правды никуда не деться: если картина была настоящей, то уж чудовищный поступок отца — тем более. Теперь, после смерти матери и дяди Фридриха, лишь они двое на всем белом свете знали о картине. К лучшему или нет, это тайное знание вкупе с одинаковыми кошмарами, терзавшими их по ночам, связали отца и сына узами прочнее кровных.
Как-то раз Корнелиус уже пробовал поделиться секретом: стал рассказывать о картине жене, однако когда произнес имя Вермера, она рассмеялась. Рассмеялась и ехидно спросила, как картина попала к его отцу. Корнелиус не мог объяснить, и ее смех еще долго звучал у него в ушах. Через год они разошлись: жена говорила, будто он сразу охладел к ней. Уходя, она бросила, что он любит вещи больше людей. С тех пор он все спрашивал себя: неужели она права?
Когда с отцом случился удар, Корнелиус метался в душевных муках. Выручки от продажи картины хватило бы, чтобы обеспечить старику полноценный уход, но любая попытка найти покупателей могла привести к ним агентов МОССАДа, вооруженных пистолетами, бумагами на выдачу отца, которые без труда бы выписал Центральный еврейский архив, и билетами на самолет в Израиль в один конец — за счет принимающей стороны. Такая судьба постигла уже более тысячи человек, и не только рейхскомиссаров или комендантов СС. Так что пришлось Корнелиусу самому выхаживать отца.
Время шло. Когда лекарства перестали снимать боль, Отто Энгельбрехт начал бормотать что-то по-немецки, на языке, который он, как прежде казалось сыну, навсегда оставил в Германии. В воздухе стоял запах смерти; старик не мог его не помнить.
— Принеси ее, — прошептал Отто.
И отец, и сын знали, что конец уже близок.
— Я вступил в их ряды, только чтобы обзавестись влиятельными друзьями, — услышал Корнелиус тихий шепот.
Сын горько усмехнулся и сунул ложку колотого льда сквозь запекшиеся отцовские губы.
— Я всего лишь видел поезда, — продолжал старик. — Большего я не знал.
Корнелиус вытер слюну, побежавшую по отцовскому подбородку, и терпеливо ждал, когда неровное дыхание принесет новые слова.
— Как дежурный по станции. Следил, чтобы они доехали от одного места до другого. Что ждет их на следующей станции, меня не касалось.
Ну да. Конечно. Вы на поезд, мадам? Сюда, пожалуйста. Осторожно, не споткнитесь, там ступеньки.
Корнелиус хладнокровно наблюдал, как боль кривит отцовское лицо. За что старику досталась такая долгая жизнь?
— Мысль о том, чтобы нарушить приказ, мне и в голову не приходила.
Вот именно!
Корнелиусу всегда казалось, что отец старается сбросить грех, как змея сбрасывает кожу, и явить миру свою благую суть. Только в это последнее утро под вой вьюги за окном раскрылось истинное горе старика:
— Я так и не выслужился до высокого звания…
Что позволило Корнелиусу ограничиться скромными похоронами. «Я не жесток, — убеждал он себя. — Лишь так можно почтить его память, скрыть его от мира, лишить их повода для торжества». Только можно ли почтить чью-то память похоронами, на которые никто не пришел?
Корнелиус старался как мог — пока жив был отец — выкорчевать из себя всякое отвращение к его поступкам. Старался изо всех сил, тут его никто не упрекнет. Один, в отцовском кабинете, сидя в том самом кресле, цвет которого вдруг стал напоминать ему синяк, Корнелиус читал завещание. Он заставлял себя прочесть каждую строчку, а не просто пробежать глазами по документу в поисках долгожданных слов — слов, завещающих ему «картину с портретом девушки, занятой шитьем у окна».
Сейчас — к счастью или нет — картина принадлежала ему. Стоило войти в кабинет, сразу чувствовалось ее присутствие.
Сегодня, тихим воскресным днем, через год после отцовских похорон и днем позже похорон Меррила, Корнелиус сидел в том же кабинете, теперь его собственном, читал протоколы суда над Карлом Эйхманом и прихлебывал кофе с ромом. За окном вьюга замела отцовский сад, а где-то на другом конце города запорошила снегом свежую могилу Дина Меррила. Отвлекшись от книги, Корнелиус встретился взглядом с живыми глазами девушки и захотел — нет, страстно возжелал, — чтобы рядом стоял Ричард или хоть кто-нибудь, с кем можно было бы разделить прелесть картины. Нет, не просто кто-нибудь: именно Ричард. Он надежен. Он разбирается в живописи, а не в торговцах живописью. Внутри бурлило неподвластное желание, наружу рвались слова: «Смотрите на эту неземную красоту! На творение рук самого Вермера! На колени же! Поклонитесь великому мастеру!»
Хорошо хоть с отцом он разделял трепет перед картиной. Как-то много лет назад отец позвонил ему в другой город — вдруг разглядел крохотный волосок, застрявший в раме написанного окна. Подумать только — волосок с кисти Вермера!.. Надо было показать его Ричарду и окончательно развеять сомнения. Уверовав, Ричард проникся бы к картине такой же любовью, как и отец.
Корнелиус перевел взор на книжку, остановился на случайной строке. «Уничтожение целого народа — это одна всеобъемлющая операция, которую нельзя делить на отдельные поступки», — сказал судья, вынося приговор по делу Эйхмана. Нет! Он, Корнелиус Энгельбрехт, не согласен! Что значит «нельзя делить»? А как быть с безымянным мальчуганом, который, возможно, играл с ветряной мельницей в последнее свободное утро в своей жизни?
И мельница эта — ее что, тоже конфисковали? Чтобы некто Отто Энгельбрехт привез ее домой как сувенир из дома несчастной еврейской семьи, взятый в удобный момент, невзирая на сломанную дверцу? Корнелиус представил отца на скамье подсудимых, услышал вопрос прокурора: «Не брали ли вы игрушечную ветряную мельницу из дома номер семьдесят два по улице Рейнстрат в ночь с третьего на четвертое сентября тысяча девятьсот сорок второго года?» В день рождения собственного сына…
Да, никакое завещание не дает сыну Отто Энгельбрехта права на владение картиной. Может, избавившись от картины, лишив себя радости любоваться ею, он искупит отцовский грех?
Корнелиус разорвал газету на полосы, задумчиво разгладил их, потом скомкал и кинул на каминную решетку. Поверх газеты положил шалашиком щепки, выше — тонко порубленные поленья. Хорошо еще, что картина не очень большая, как раз на ширину камина. Резать ее на части было бы кощунственно.
Он встал и потянулся к висящей на стене картине. Сегодня он наконец позволит себе вольность, о которой давно мечтал: он осторожно прикоснулся к ее щеке. Пальцы дотронулись до потрескавшегося от времени холста, и Корнелиуса бросило в дрожь. Он гладил ее шею и удивлялся, что не может ухватить тесемки, свешивающиеся с чепчика; потом плечо — и не понимал, почему не чувствует его округлости. Ее груди лишь едва обозначались. Он облизнул пересохшие вдруг губы, опустил руку и осторожно, двумя пальцами, провел там со смешанным чувством стыда и жалости, как если бы заглянул в больничную палату и увидел там полуголого пациента.
Где платье собиралось в складки, пальцы чувствовали бороздки, оставленные кистью художника. Ян Вермер. Йоханнес. Нет, просто Ян. Знакомое имя, единственное подходящее для сегодняшнего случая. Янова кисть. «Может, — подумал Корнелиус, — мои пальцы слишком грубы для мастерства художника?». Он пошел в ванную, начисто побрился новой бритвой, осторожно вытер лицо и, вернувшись в кабинет, прикоснулся щекой к ее платью. Ужас от холодного холста пронзил его, словно нож.
Какое он имеет право так поступать с картиной?
Он снял ее, положил на ковер, разжег огонь. На коленях ждал, пока пламя разгорится, пока жадные языки пламени потянутся к жемчужно-голубым глазам. Чувственный взгляд девушки, объединивший в себе нетерпение, зов, желание, остановил занесенную над картиной руку.
Может, легче совершить задуманное, если перевернуть картину изображением вниз?
«Что за мерзкий, эгоистичный поступок, — думал Корнелиус, — ради собственного спокойствия разрушить достояние всего человечества, часть исторической мозаики. Разве не сравним он по жестокости с деяниями отца? Нет! — оборвал он себя. — С тем ничто не сравнится. Ведь речь не только о мародерстве — безнаказанном воровстве у побежденных, — не только в облавах на евреев, речь обо всей этой страшной машине». В протоколах суда над Эйхманом Корнелиус вычитал слова: «Мы считаем, что тот, кто доставил жертву на казнь, виновен перед законом не меньше палача» — и мысленно согласился с ними.
Он смотрел на огонь и думал: а что, если картина все же не Вермера? В конце концов, у него нет твердых доказательств. И все-таки лучше безнаказанно сжечь эту штуковину и положить всему конец раз и навсегда. Пощадить свои нервы.
Правда, если картина не подлинная, отцовское преступление сильно теряло в размахе. Отчего тогда не оставить ее? Она очаровательна. Корнелиус снова оглядел девушку: медовую кожу ее лица, не омраченного ни печалью, ни жестокостью, шею, влажную от льющегося в комнату солнечного света, лениво застывшую руку. Очаровательна настолько, что просто должна быть написана Вермером. Корнелиус всю свою жизнь подчинил этому убеждению. Глядя на картину, он испытывал горькую досаду, что мир так и не узнает о ней, о детище великого художника. Надо убедить Ричарда, заставить его признать, что это не кто иной, как Вермер, и только потом ее сжечь.
Несмотря на оставленные миру картины, Вермер мертв. И отец мертв, и маленький мальчик. Да и дни Корнелиуса сочтены. Поэтому надо быть уверенным, что годы тревожного одиночества не прошли даром. Он так долго держал себя в руках: не заводил близких друзей, которых пришлось бы однажды пригласить домой, преподавал математику, а не гораздо более любимую историю, чтобы не обсуждать с детьми запретные темы, заставлял себя одинаково относиться ко всем, независимо от цвета кожи и вероисповедания, подавлял любые импульсы, которые можно истолковать как жестокость, косность, неметчину, — и вот теперь неугомонное желание грозит разнести на части его тщательно построенный образ. Он разрывался между мечтой быть услышанным и ужасом, что узнают о его связи с жесточайшими событиями столетия. Ради истинного удовольствия поделиться с другим светом ее глаз придется пойти на риск. Всего денек счастья — и потом свобода! Так обещал себе Корнелиус.
Но Ричард не поверил. Уходя, он произнес: «Вермер это или нет, картина замечательная». Замечательная, замечательная… Этого мало! Да здесь, в городе, полно замечательных картин. Эта же — картина Вермера. И пока Ричард не произнесет это вслух, Корнелиусу не успокоиться. Нужно ведь как-то оправдать загубленную жизнь! Сама возможность подделки звучала как голос, пробуждающий от сна, — только сон был таким сладким, что Корнелиус, словно разбуженный ребенок, все пытался его досмотреть.
Ричард восхитился картиной. Он был всего на волосок (волосок из кисти Вермера, ха-ха) от веры. Облегчение оттого, что его не высмеяли, дурманило Корнелиуса. И почему только он не додумался до этого раньше? Сколько лет он потратил на жизнь скряги, оберегая отца, который никого не уберег!.. Теперь хотелось большего. Впервые Корнелиус представлял, как рассказывает историю картины и про роль отца в ней, рассказывает так, чтобы Ричард поверил, рассказывает взахлеб, с горящими глазами, прямо перед картиной. Тогда можно быть спокойным, что он не умрет. Он не умрет от стыда.
«Нет, не умру!» — все повторял и повторял Корнелиус, а в камине медленно догорал огонь.
Картина связала нас с Корнелиусом крепкой, пусть и не вполне дружеской связью. Стоило увидеть его в школе — и я вспоминал о том странном вечере, о нелепой настойчивости моего хозяина. Он будто схватил меня за руку и затащил в бурное море суждений, которое теперь грозило поглотить нас обоих.
Мы разговаривали полузавершенными фразами: чужому уху они показались бы сущей бессмыслицей. Однажды я — не из злобы, а только из эстетических соображений — спросил:
— А как бы ты к ней отнесся, если бы узнал, что она ненастоящая?
— Но она настоящая!
— Все-таки давай допустим на секунду, что нет.
— Тут и допускать нечего. Я точно знаю!
Какая глупая самоуверенность!
Складывалось впечатление, что он не в ладах с этим миром, — из-за картины, понятное дело. Я покопался в литературе, побеседовал со знакомым историком-искусствоведом и как-то в пятницу, после занятий, приметив Корнелиуса на школьной автостоянке, спросил у него:
— А знаешь, что один голландский художник по фамилии ван Мегерен в тридцатых годах подделал несколько работ Вермера? — Корнелиус замер у машины. — Да так искусно, что убедил всех экспертов.
— Я слышал, — сдержанно буркнул он.
— И знаешь, как раскрылась правда? Мегерен продал несколько картин этому нацисту, Герингу, и голландские власти сцапали его за измену: пособничество врагу, передача национальных ценностей в руки рейхстага… Пришлось сознаваться.
Дрожащей рукой Корнелиус безуспешно пытался вставить ключ в замок автомобильной дверцы. На миг опустил глаза и нашел замок — но я уже все видел. Сам того не подозревая, я приблизился к разгадке. Может, Корнелиус знал, что картина написана ван Мегереном, и пытался выставить меня дураком или даже впарить мне ее как Вермера за бешеные деньги? Будь он моим другом, я отпустил бы его и забыл всю историю, однако мы оставались всего лишь коллегами: математик и преподаватель изобразительных искусств, — да в придачу оба желали знать правду.
— Я бы взглянул на нее еще раз, если не возражаешь.
— Конечно, как только захочешь, — любезно ответил Корнелиус и полез в машину.
— Отчего бы не сейчас?
Он замер с занесенной в салон ногой, потом собрался с духом и сказал:
— Что ж, более подходящего времени, пожалуй, не найти.
При дневном свете картина смотрелась даже лучше, чем я ее запомнил. Зачарованный, я опустился в кресло. Глядя на стакан с молоком, который светился, точно жемчужина, я понял: копировщику такое не под силу — и лишь из-за надменности, проявленной Корнелиусом несколько недель назад, продолжал упрямиться.
Только теперь его надменные манеры будто испарились; на смену им пришла истинная радость, чистая любовь к картине, скрытая прежде за кучей сухих фактов. Если кто-то когда-нибудь самозабвенно любил произведение искусства, то это Корнелиус. Его лицо сияло восхищением паломника перед обретенной святыней.
— Я не оспариваю твою веру, — начал я. — Я бы и сам с радостью разделил ее, если бы не одно «но».
— А именно?
— Мы оба учителя, Корнелиус, и, насколько я знаю, не дети миллионеров. Если ты не объяснишь, как эта картина попала к тебе, я просто не могу…
Улыбка сползла с его лица.
Я ждал, когда мои слова возымеют эффект, потягивая предложенное мне пиво. Корнелиус залпом осушил бутылку и не отпустил ее, словно нуждаясь в опоре. Я молчал.
— Я вырос в Дуйсбурге, рядом с голландской границей… — начал Корнелиус и, пока рассказывал о своем детстве, не сводил глаз с девушки на картине, как если бы черпал силы из ее безмятежности. — …после урока истории я прибежал домой весь взмокший и, несмотря на мамин запрет, спросил отца: «Что ты делал во время войны, пап?» — «Работал в Амстердаме», — просто ответил он. Будто занимался обычной работой. — «Да, но что именно ты там делал? — настаивал я. — Я вправе знать!» — Тогда он остановился и задрожал, прямо до кончиков пальцев, будто земля тряслась под его ногами. — «Свозил их к поездам», — ответил он.
Корнелиус повернулся ко мне.
— Он водил меня на бейсбол. Грел мои руки у себя в карманах. Выращивал нарциссы для мамы. Если бы только я мог заплакать… если бы он не отучил меня… С тех пор он всегда казался мне иным.
Когда Корнелиус дошел в рассказе до еврейского мальчика в шкафу, его глаза затуманились, как мутное стекло, а о пропавшем сервизе он говорил со злостью в голосе. А вспомнив, что пытался сжечь картину, он передернулся и, опустошенный, осел на стол.
Выходит, все хуже, чем я полагал. Казалось невероятным, что он поднял руку на картину, но надеяться на то, что это поможет, было куда отвратительнее. Увы, несмотря на все его страдания, я не находил в себе сочувствия к этому человеку.
Вцепившись обеими руками в край стола, он нагнулся ко мне. Его лоб, прямо над крючковатым носом, исказили морщины.
— Ты ведь не расскажешь в школе, правда? Теперь, когда ты… когда хоть еще кто-то, кроме меня, убедился в ее подлинности… Так ведь?
Его верхняя губа, будто подцепленная невидимыми нитями, противно дергалась. Теперь-то стало ясно, почему он выбрал меня. Он считал, что художник простит его — пусть лишь из любви к искусству, — и если бы я простил, картину можно было бы оставить.
— А что стало с тем мальчиком?
Корнелиус запнулся, не в силах произнести очевидное.
— Знаешь, — сказал я ему, — говорят, плохо бросать дела неоконченными.
Так я и оставил его, сникшего от моих слов. Еще раз (теперь уже, я понимал, в последний) взглянул на картину и поспешил убраться восвояси. Несчастный дурак — всю свою жизнь разрушить из-за куска разукрашенного холста. «Из-за подделки, — твердил я себе, — пустой безделушки».
И после того, что Корнелиусу предстояло пройти, я не знал, как в понедельник посмотрю ему в глаза.
Вечер, не похожий на другие
Вчера на глазах у Ханны Вреденбург и ее младшего брата Тобиаса отец выпустил с чердака голубей своего напарника, чтобы те летели домой, в Антверпен. Отец выпускал их по очереди ранним утром, пока не рассеялся туман, — не приведи Бог кто-нибудь из прохожих заметит, из какого дома они вылетают, — а для пущей безопасности подолгу ждал, прежде чем отпустить следующего. Закон, запрещавший амстердамским евреям держать почтовых голубей, вступил в силу еще восемь месяцев назад; и нарушать его становилось слишком опасно. Хотя в полицейский участок, как предписывал закон, голубей уже поздно нести: последствия будут плачевными.
— Скорее, Ханна, пока Тобиас не поднялся, — проговорил отец и сунул ей клочок бумаги и карандаш: его руки сильно дрожали. — Вот, пиши. Мелко пиши. — И начал диктовать письмо, которое понесет последний голубь.
«Убей моих птиц, — шептал он, останавливаясь между предложениями. — Я не вправе просить, чтобы ты и дальше их кормил. Не рискуй и не выпускай их, но накорми хорошенько перед смертью. Лео, с сизой полосой на крыле, обожает чечевицу. Пеструшка Генриетта любит, чтобы ее гладили по голове. Больше я писать не буду, пока, даст Бог, не кончится этот кошмар. С нами все хорошо. Храни тебя Господь».
Что за конец! На последних словах сердце сжалось у Ханны в груди.
— Подписать письмо?
— Не надо.
Она едва успела сложить бумагу, как на чердак забрался Тобиас, еще в пижаме.
Одного за другим отец брал голубей, протягивал их Тобиасу, чтобы тот погладил их напоследок, потом складывал руки и подбрасывал птиц в воздух. Перед тем как выпустить последнего голубя, он взял у дочери сложенное послание и сунул его в цилиндрик, прикрепленный к птичьей лапке. Ханна смотрела, как он целует птицу в голову, на миг замирает с закрытыми глазами, а потом подбрасывает ее к небу.
Ханна провожала взглядом птицу, поднимавшуюся над крышей их дома, слушала прощальное хлопанье крыльев. Побег, который и не побег вовсе. Амстердам или Антверпен — какая, собственно, разница?
На следующий день по дороге из школы домой Ханна увидела Лео, Генриетту и двух других голубей, кружащих вокруг карниза их дома. У нее перехватило дыхание: письмо ушло слишком поздно, напарник отца уже выпустил голубей. Она вбежала в дом, взлетела вверх по лестнице и загнала голубей на чердак. Письма сообщали, что в Антверпене немцы взяли торговлю бриллиантами в свои руки. Холодными пальцами, борясь с комком в горле, снимала она цилиндры с птичьих лапок. Ханна понимала, что теперь предстоит, вопрос только когда. И скоро ли догадается Тобиас.
Тем вечером она стояла на лестнице и заглядывала на чердак, где отец, усевшись по-турецки на полу, расхваливал Тобиасу голубей.
«Лео! Лео! Что за птица! Положишь ему алмаз в два карата — он полетит и даже не заметит. И до чего верный! Хорошенько запомни его, Тобиас».
У Ханны полились из глаз слезы, и она яростно вцепилась в верхнюю перекладину лестницы, чтобы не проронить ни звука. Из сказанных слов ясно следовало, что ожидает птиц. Такое даже Тобиас поймет. Ему бы не предлагали запомнить Лео, если бы Лео мог жить. Тобиас удивленно поднял глаза на отца, а потом как ни в чем не бывало продолжил ласкать голубей и кормить их с руки ячменными зернами. Только он уже не хихикал, когда розовые лапки Лео щекотали его руку. Ханна спустилась вниз.
Если бы их можно было просто отпустить… И время подходящее: как раз наступает Пасха. Но нет — напуганные свободой и уставшие от поисков пищи в Южном Амстердаме, они вернутся домой, будут проситься в знакомую голубятню. Всякий бы понял: эти голуби отсюда.
На следующий день за завтраком она спросила отца:
— Сегодня?
— Скоро, — ответил он и ласково погладил ее широкой ладонью по голове.
Домашние готовились к Пасхе, вечеру, не похожему на другие. Мама и бабушка Хильда уже вымыли кухню, чулан, печку и ледник, а теперь протирали буфетные полки и убирали туда серебряный чайный сервиз, освобождая место для пасхального фарфора. Ханна изучала картину над буфетом. На картине девочка ее возраста сидела за шитьем и смотрела в окно. Заметив там что-то, она подалась вперед — эта поза и нетерпеливый взгляд всякий раз очаровывали Ханну. Девочка на картине забыла о работе, пусть даже и на миг. Ее руки замерли, еще не пришитые пуговицы блестели на столе, но то, что происходило у нее на уме, было гораздо важнее. Ханна ее понимала.
Эту картину отец купил пару лет назад, в тысяча девятьсот сороковом году, прямо перед днем ее рождения. Он регулярно посещал собрания Комитета по делам еврейских беженцев из Германии, проходившие в кафе «Роттердам», рядом с Алмазной биржей, и в тот день взял Ханну на аукцион, где одни семьи продавали картины, вазы, драгоценности и восточные ковры другим семьям, а вырученные деньги шли на поддержку беженцев. Необходимо, считал отец, снять с плеч правительства бремя заботы о еврейской бедноте.
Когда картину выставили на торги, Ханна ахнула. Лицо девочки прямо-таки светилось: голубые глаза, щеки, уголки рта — яркие, лоснящиеся, и это еще при взгляде издалека. Девочка на картине казалась живее сидящих в зале.
Отец предложил цену, и Ханна затаила дыхание, не веря собственным ушам. Торг продолжался, ставки росли. Он сжал ее руку после двух сотен гульденов, и она стиснула его ладонь в ответ, когда цена перевалила за три сотни. Чем выше называли суммы, тем крепче она сжимала руку, пока наконец отец не назвал окончательную цену — тогда Ханна воскликнула: «Папа!» — и не выпускала его руку всю обратную дорогу.
Домой они вошли, неся все еще завернутую картину. Мать оторвалась от дел, выпрямилась и вопросительно перевела взгляд с дочери на отца, точно чувствуя — случилось нечто из ряда вон выходящее. Ханна помнила, как в восторге ходила из комнаты в комнату и выбирала, где повесить картину, пока не остановилась на стене над буфетом, в столовой. Потом развернула бумагу и подняла полотно перед собой: «Смотри, мамочка, какая прелесть!» В тот день, как и сейчас, она, вытянувшись по струнке, сидела за обеденным столом напротив картины и последней отправилась спать.
В дом вбежал Тобиас.
— Ханна, Ханна, — протягивал он ей свежий весенний листок, — смотри, с этого края двадцать четыре зубчика, а с этого — всего двадцать два. Почему?
Девятилетнего Тобиаса разбирало любопытство. Он интересовался паутинками и песнями сверчка, собирал жуков и бабочек, держал зеленую черепашку и кролика по кличке Илия и повсюду носил с собой блокнот, куда записывал свои наблюдения. Четыре года разницы с сестрой делали ее в его глазах бесконечно мудрой, и он засыпал Ханну вопросами, на которые она, не разделявшая его увлечений, не всякий раз знала, что ответить.
— Не знаю, Тоби. Наверное, просто в природе не все одинаково.
Тут мать велела Тобиасу собрать с чердака хамец: ячмень, бобы, чечевицу — словом, любые зерна, которые набухают от сырости и могут идти на приготовление квасного теста. Уничтожение всего квасного — дань традиции, память Пасхи Господней. Взамен на корм птицам мать дала мальчику несколько сухих картофельных кожурок, из которых они теперь варили суп.
В наступившей тишине слышались только воркованье голубей с чердака да шорох тряпки, которой мать протирала полку. На глазах у Ханны лицо брата вытягивалось от изумления. Он недоверчиво посмотрел на кожурки, потом на сестру.
— А что же им есть завтра?
Еще один вопрос, на который она не знала ответа.
Глаза мальчика потемнели, по лбу побежали морщинки, и на мгновение Ханна ужаснулась, увидев в нем старика. «Он знает, что картофельные очистки не заменят птичий корм, — крутилось у нее в голове. — Чтобы он не узнал, как птицы страдают, надо скорее покончить с этим». Она смотрела, как от растерянности согнулись плечи брата, потухли глаза, и потянулась было обнять его, успокоить, но он отстранился и, всхлипывая, выбежал из кухни и вскарабкался на чердак. Невидимая рука сжала ей сердце.
— Нельзя, чтобы ребенок так плакал, — заявила Хильда, стоило Тобиасу ступить за кухонный порог.
Хильда никогда не упускала случая поговорить о ком-нибудь за глаза. Она побарабанила пальцами по буфету для пущего эффекта и продолжила:
— Пусть лучше Ханна уберется наверху.
— Он любит этих птиц, Хильда. Оставьте его. Пускай побудет с ними наедине, погорюет. Настало время ему понять пасхальную историю.
И мать с новым усердием вернулась к буфетным полкам. В этом году она, казалось, объявила мебели войну. Как она еще могла столько убираться?
Раздосадованная отпором, Хильда повернулась к Ханне:
— Ты почему не помогаешь матери?
Ханна пожала плечами и подергала бумажным шариком на веревочке перед носом кошки Тобиаса. Мыть кухню, чистить серебро, готовить — все это ее больше не интересовало.
— Это не ответ, — настойчиво повторила старуха.
— Не хочу.
— Вы только послушайте ее — не хочет! Чего тут хотеть?! Работать надо!
— Видишь, Ханна, мы все что-то делаем, — сказала мать. — Ты могла бы прокипятить посуду.
— Каждый должен работать, — объявила Хильда. — Работа да молитва — и чуть-чуть отдыха в перерывах. Знаешь, как трудилась твоя прабабка Этти? Она вращала колесо шлифовального станка твоему прадеду. Тридцать лет ходила по кругу и толкала рычаг, борозду в полу протоптала — и хоть раз бы пожаловалась! Так и проработала до тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года, когда…
— Когда наконец купили лошадь. Знаю-знаю, ты как приходишь — всегда мне это рассказываешь.
— И хоть бы что-нибудь впрок пошло!.. Тебя же просят всего лишь матери помогать. Если хочешь замуж, надо учиться вести хозяйство. Или ты собираешься до старости сидеть в девках и гнуть спину за гроши? Эдит говорит, ты и уроков не делаешь. Подумать только! Никак тянет обратно к шлифовальному колесу.
Ханна опять передернула плечами. Может, это не так уж и плохо. Особенно если от нее все отстанут.
— Думаешь, мы зачем все годы корячились — чтобы ты стала крутильщицей сигар? Мелкой торговкой? Вот куда дорога ленивым евреям!
Ханна потупила взор и уставилась на серые войлочные тапочки Хильды, нацеленные на нее, будто две бесхвостые крысы.
— Твой отец — первый в роду шлифовальщиков, кто завел собственный ювелирный магазин. Вот с кого пример надо брать!
Краем глаза Ханна заметила, как мать поморщилась.
— Сходи хоть, что ли, за петрушкой и яйцами, — вмешалась она. — Сол Майер обещал приберечь мне голяшку. Да и день пригожий какой! Вон на липах вдоль Схельдестрат уж, верно, листья распустились. Причешись только — и ступай.
Ханна молча натянула на себя дырявый коричневый свитер с недавно пришитой шестиконечной звездой, взяла у матери деньги и так медленно поплелась к выходу, что Хильда, не вытерпев, даже вскочила с места, собираясь накинуться либо на мать, либо на дочь. Прежде чем ступить за порог, Ханна обернулась и дерзко взглянула в глаза бабке. Потом вышла в переднюю, оставив дверь на кухню приоткрытой, и прислонилась к щели.
— Вздорная девчонка, — не замедлила разразиться Хильда. — Работать не хочет. Разговаривать не хочет. Ты что же, не можешь заставить ее говорить?
— Как же ее заставить, Хильда? Объясните, раз вы все знаете.
— У нее нет ни интересов, ни друзей. Вчера я спросила, что она сделала за зиму, а она мне: «Ничего». Хоть думать-то она умеет?
— Ну зачем вы так, Хильда? Ханна умная девочка, просто держит мысли при себе.
— Пусть побольше с нами общается. Участвует в общих делах.
— Думаете, раз я ее родила, то могу и изменить? Вы ее бабка — попытайтесь сами. Только она все равно останется такой, какая есть.
— Лентяйка и сухарь!
— Вам-то в ее возрасте, небось, никогда не хотелось просто так сесть и о чем-нибудь задуматься. Разве бессонными ночами я не спрашиваю себя, что я сделала не так? Что упустила в ней? Каких слов не сказала в нужный час? Ответьте мне, Хильда, чего не хватило в моей любви? Ответьте!
Ханна не могла дышать: слезы душили ее, а пальцы царапали по косяку, сдирая краску.
— Не знаю, Эдит. Только, скажу тебе, надо что-то делать, или она просто сломается. Почему ты ее поощряешь?
— Поощряю? Да я каждый день терзаюсь оттого, что она ничего не хочет. Думаете, я не понимаю, что это значит?
Дальше Ханна слушать не могла: она выскочила из дома и громко хлопнула дверью. Пусть себе слышат — ей все равно.
Неправда все это! Она хотела! Хотела хотеть, хотела любить, как брат любил всякое живое существо. Только вот чего ей хотеть? Хотеть чего-либо сейчас казалось немыслимым. Безумным.
А еще у нее была подружка. Мария.
Весь прошлый год они посылали друг дружке записки на уроках. Потом Мария написала, что не сможет идти с ней домой: надо присматривать за младшим братиком. И на следующий день не пошла, и через день. Теперь они учились в разных школах, и когда Ханна однажды увидела Марию на улице за еврейским кварталом, та сделала вид, что не узнала ее. После чего Ханна перестала покидать еврейский квартал — чтобы не пришлось переносить больше такого позора. Кое-что ее все-таки волновало.
Хоть мама заступилась за нее перед Хильдой. Слегка. Поначалу. А потом принялась болтать о том, как недоглядела за дочерью. Будто с ней, Ханной, что-то не так. Что, интересно?
Она глубоко вздохнула. Надо бы высморкаться, да нет носового платка; вот и пришлось просто шмыгнуть носом и утереться рукавом.
На липах и вправду разворачивались молодые листочки. «Зачем?» — думала Ханна. Она пнула камешек, а потом вдруг увидела двух немецких солдат, шагавших навстречу. Казалось, все замерло вокруг — все, кроме камушка, весело прыгавшего прямо к черному немецкому сапогу. Внутри ее все похолодело, белье вмиг пропиталось липким потом, но, увлеченные беседой, солдаты не заметили ни камушка, ни даже Ханну; не ступили ни шагу в сторону, чтобы ее пропустить. Ханна едва успела спрыгнуть с тротуара и подвернула лодыжку.
Большие события происходят. Важнее, чем Пасха. За дрожащим пламенем пасхальной свечи — перемены. Перемены! А Хильда рассуждает, будто сейчас век прабабки Этти.
А вот отец не таков! Он видит. Может, поэтому он так мягок к дочери. Он, конечно, расстраивался, узнав о невыученных уроках, однако к субботнему вечеру все забывал. Оставляя болтливого Тоби дома, он брал ее на долгие прогулки вдоль каналов Речного квартала, покупал ей по пути соленые огурцы из бочки на углу Врейхейдслан и Вехстрат, заходил с ней к мороженщику, водил на воскресные концерты и в музей живописи. На прогулках он спрашивал о школе, о друзьях и уроках. Как-то она даже попыталась рассказать ему про Марию, да только не смогла найти нужных слов. Всякий раз после прогулок отец казался таким уставшим, еле сбрасывал с ног ботинки, а однажды Ханна услышала, как он сказал матери: «Похоже, уже есть маленький прогресс».
Ханна вдруг поняла, за что любит девочку на картине. За ее тишину. Картины, конечно, не разговаривают, и все же Ханна чувствовала, что та девочка в комнате по природе своей была тихоней, совсем как она сама. Это не значило, что девочка ничего не хотела, в чем Ханну обвиняла мать. Только по ее лицу было видно — она хочет чего-то столь сокровенного и недоступного, что боится произнести свое желание вслух, однако постоянно думает о нем, как вот здесь, у окна. И она не только хочет — она готова на отчаянные, безумные поступки. Во имя любви. О да, да, да…
Ханна не спешила с поручениями: пока можно было не спешить домой. Перед магазинами выстроились очереди, хотя на прилавках лежало еще меньше, чем на прошлой неделе. Пройдя по четырем магазинам, Ханна вернулась на бульвар.
…И увидела еще одну семью с желтыми звездами на одежде и чемоданами в руках. Их вели вниз по Схельдестрат.
В Вестерборк. В то самое место…
«Почему их?» — спрашивала себя Ханна.
Когда их проводили мимо, на нее испуганно посмотрел маленький мальчик. Секунду — не больше. Ханна втянула голову в плечи и зашагала дальше. Боль пронзила ее грудь; однако приглушить эту боль было нельзя — это казалось таким же предательством, как поступок Марии. Свернув на Рейнстрат, Ханна помчалась домой, ощущая колики в боку.
Она вбежала внутрь и захлопнула дверь.
— Петрушки не было, пришлось купить сельдерей. А вот яиц я так и не нашла.
— Не нашла? — ужаснулась мать. — Ты была у Иванстина?
— И у него, и еще в трех местах на Схельдестрат.
— Что же делать? К нам на седер[6] придут несчастные беженцы, а мы даже стол приличный не накроем?
— Какая разница? Скоро все это не будет иметь никакого значения.
— Ханна! Немедленно прекрати! Чтоб я больше не слышала от тебя таких слов!
— А что случилось? — Хильда отобрала у Ханны мясную кость и стала ее рассматривать. — Что-то на улице произошло?
— Ничего.
Ханна кинула сельдерей на кухонный стол и повернулась, чтобы уйти.
— Что ты увидела на улице? — не унималась Хильда.
— Говорю же, ничего. Только дети спрыгивают с крылец с открытыми зонтиками над головой. Играют в парашютистов. Они всегда в них начинают играть, едва заслышат самолеты. Ты разве не замечала?
Судя по тому, как бабка с матерью изумленно переглянулись, они действительно не замечали. Куда им!
Когда спустились сумерки, родители разделили хамец на десять частей и спрятали по дому, чтобы Тобиас, согласно традиции, искал его при свечном свете. Серьезный, каким Ханна давно его не видела, брат смахивал крошки птичьим пером в деревянную ложку. Раньше поиски хамеца были для него всего лишь забавной игрой.
— Откуда это перо, Тоби? — спросила она.
— Выпало у Лео. Смотри. — Тобиас поднял перо и повернул его к свету. — Видишь, оно голубое на конце. А с этой стороны шире, чем с другой. Оно осталось у меня в руке, когда я брал Лео. Я нечаянно.
Конечно, нечаянно. Тобиас никогда не обидел бы птицу.
Отец высыпал крошки в бумажный мешок, который они сожгут завтра утром. Дети отправились спать. Когда Ханна решила, что Тобиас уснул, она отодвинула ширму, перегораживавшую их спальню, и, стоя над его кроватью, посмотрела на брата. Тот испуганный мальчик на улице был такой же кудрявый… Нагнувшись поправить одеяло, она вдохнула крепкий добрый запах кроликов, цветных мелков и голубей.
Перед завтраком вся семья собралась на крыльце. Отец чиркнул спичкой и поднес ее краю мешка.
— С двух сторон, Сол, — учила Хильда. — Пусть ярче горит.
Ханна наблюдала, как бежит по бумаге черная полоса, точно передовой отряд, за которым тянется целая огненная армия — бежит навстречу другому такому же отряду, приближающемуся с противоположной стороны. Воды Красного моря, которые сходятся, вместо того чтобы расступаться. Дольше всего горела ложка, но вот и она превратилась в тлеющий уголек на каменном крыльце. Ханна потушила ее ногой.
Днем отец взял с собой Тобиаса — куда, Ханна не знала; понимала только, что на пути они обязательно зайдут в кафе «Роттердам», где на втором этаже жили семьи еврейских беженцев. Две семьи должны были прийти к ним сегодня вечером на седер.
В доме стояла тишина, нарушаемая лишь похрустыванием орехов, которые мать толкла на харосет[7], да воркованьем голубей на чердаке. После долгих приготовлений к празднику дом, казалось, дышал ожиданием. «Будто перед смертью или родами», — думала Ханна, свернувшись на отцовском месте за обеденным столом и рассеянно водя пальцем по волнистому краю скатерти.
Хильда вставила по свече в два серебряных подсвечника, убрала на полку тазик и ковш для омовения рук, в последний раз протерла край буфета и, где хватало росту, раму картины.
— А знаешь, на кого она так смотрит? — сказала Хильда о девочке на картине. — На своего будущего мужа.
Конечно, на что еще хватит фантазии у Хильды?
— А ты как считаешь? — В столовую из кухни вошла мать.
— На голубей. Просто на голубей.
— На голубей? — насторожилась Хильда. — Что это ты несешь?
— Я считаю, не важно, на кого она смотрит. Не важно, что она делает или чего не делает. — Ханна смело смотрела бабке в глаза. — Главное, она думает.
— Так вот за что ты ее любишь? — удивилась мать.
— И еще за то, что я ее понимаю.
Ханна вскочила из-за стола, выбежала в переднюю и взлетела по лестнице на чердак. Ближе всех к ней дремал Лео. Ханна схватила его и свернула шею бьющейся птице, почувствовав, как та будто обломилась в ее руке. Испуганные голоса остальных голубей звенели у нее в ушах. Ханна бросилась за Гертрудой и оцарапала ногу. Вторая птица, третья, четвертая — и всякий раз этот легкий щелчок под перьями.
Ханна спустилась в переднюю, глядя прямо перед собой. Руки дрожали так, что мать сразу заметила. Проследив ее испуганный взгляд, Ханна увидела перышко, застрявшее под ногтем, — мельчайшее серое пятнышко с птичьей грудки. Она смахнула перо. Мама и Хильда хлопали глазами в изумленном оцепенении. Хильда сжала губы до посинения.
— Иди помой руки, — пробормотала мать.
Ханна повернулась, зацепилась за ковер и влетела в ванную. Краем уха услышала мамин голос: «Пусть это и дом вашего сына, Хильда, но на сей раз вы не скажете ни слова. Слышите меня? Ни слова!» Ханна повернула кран: большего слышать она не хотела — вымыла руки по локоть, промыла ободранное колено. Потом скользнула в свою комнату и упала на кровать. Когда она услышала, как вверху мать подметает голубятню, что-то мокрое поползло по ее виску. Ханна дождалась, пока опять захрустели на кухне колотые орехи — хрум-хрум, — и только тогда встала, переоделась, причесалась.
Когда вернулись отец с Тобиасом, Ханна не смела взглянуть им в глаза. Две приглашенные семьи немецких евреев смущенно переминались с ноги на ногу, не зная, куда себя деть. Мальчик помладше Тобиаса пугливо прижимался к родителям. Мать попросила Тобиаса представить гостей Хильде, велела раздать им копии Агады[8], потом принести отцу белый китель, приготовить блюдо для седера, правильно разложить на нем сельдерей, мясо, харосет, сморщенный корень хрена и крохотную картофелину, слегка надрезанную с одного конца, чтобы напоминать яйцо. Наконец, она послала сына на улицу ждать заката. И все это, понимала Ханна, чтобы Тобиасу не пришла в голову мысль пригласить маленького мальчика на чердак, чтобы показать ему голубей.
Мать порылась в буфете и вытащила оттуда подсвечники работы старых делфтских мастеров.
— Вот, — сказала она Ханне. — Когда-то они принадлежали твоей прабабушке Этти, но отныне они твои. Протри их хорошенько и поставь на стол.
Ханна послушалась.
— Солнце садится! — донесся с крыльца крик Тобиаса. — Небо золотое-золотое!
Мать чиркнула спичкой и поднесла к старому огарку, зажгла от огарка две свечи и передала его Ханне. Ханна зажгла свои свечи. Любуясь, как пламя озаряет девочку на картине, она поняла, почему сегодняшний вечер не похож на другие.
Начиналась взрослая жизнь.
Пословицы
Лоренс ван Лёйкен шел вместе с женой Диной вдоль узкого канала позади влюбленной пары, будто бы не желал им мешать. Впрочем, он зорко следил за каждым движением молодых людей и, когда те поравнялись с телегой соседа, заметил, как его дочь без всякой на то надобности взяла своего спутника под руку.
Подул сухой осенний ветер, и Дина плотнее завернулась в плащ. Для Лоренса ветер всегда нес свежесть, новые силы, но сегодня он шумел, словно грозное серое море. Сухой ветер, сухие листья под ногами — все сухое. Даже голос Джоанны казался сухим, когда сегодня утром она сказала: «Папа, Фриц сделал мне предложение, и я согласилась». Вот так. Ни вводных слов, ни просьбы благословить. Ни малейшей дани традиции. Будто дочерей принято брать в жены, даже не спросясь родителей. Что, так теперь поступают в Амстердаме? Веяния нового времени?
— Надо им что-нибудь подарить, — сказала Дина, взяв Лоренса под руку, точь-в-точь как Джоанна до этого взяла Фрица. — Что-нибудь из нашего дома, какую-нибудь ценную вещь, которую она будет любить и беречь.
— Ты, значит, соглашаешься на эту свадьбу?
— А что? Он хороший парень. Красивый. — Дина кокетливо улыбнулась. — Как говорил Эразм Роттердамский, висеть — так на самой лучшей виселице.
— Виселицы не строят для молодых и невиновных, — пробурчал муж.
Их пес Дирк трусил впереди, прямо под ногами у Джоанны, так что девушка едва не спотыкалась; потом Фриц что-то сказал, и она прыснула со смеху. Лоренс хмуро наблюдал, как его дочь прильнула к своему избраннику и поцеловала его в ухо. Дирк угрожающе тявкнул. Лоренс злорадно улыбнулся: хоть пес не одобряет знаков внимания этому странно пахнущему чужаку, носившему кожаные ботинки вместо привычных кломпов[9], явно не жителю Бриланда. Отец Джоанны ехидно посмеялся в кулак, когда, впервые завидев Фрица, Дирк аж затрясся от недоверия и прорычал что-то откровенно оскорбительное.
— Только взгляни на нее, Лоренс! Прямо светится от счастья.
Вместо этого он украдкой бросил взгляд на жену. Дочерняя радость заразительна: она, как утренняя роса, освежила лицо Дины.
— Что бы им подарить?
— Что мы можем подарить? Метлу да маслобойку?
— Можно отдать им «Дину Луизу».
— Нет, у Фрица есть своя лодка. Он рассказывал, как на той неделе ходил рыбачить на Зёйдер-Зее и едва не замерз насмерть. Оно и понятно — надо быть сумасшедшим, чтобы ходить в Зёйдер-Зее после сентября. Или настоящим рыбаком.
Они как раз шли мимо соседских лодок, покачивавшихся, где канал соединялся с озером Лосдрехтсе-Плассен. Лоренс вспомнил, как за длинный острый нос Джоанна называла их в детстве «лодками с клювиками». Интересно, помнит ли она? Рассказывает ли сейчас об этом Фрицу?
За горчичной мельницей влюбленные оглянулись, показывая на дорогу вокруг озера. Что-то в их облике — видимо, ощущение того, что они готовы отплыть в неведомые края на неопробованном суденышке, — разбудило в Лоренсе нежность. Будто соперничая с молодыми, он положил руку на гибкую талию жены.
— Замерзла? — спросил он, втайне надеясь услышать «да».
— Я могла бы отдать ей матушкино кольцо, — продолжала рассуждать Дина, — только оно простенькое, и к тому же это должен быть подарок от нас обоих. Им двоим.
Все в молодой паре казалось Лоренсу подозрительно счастливым. «Скороспелые, — корил он их про себя. — Вместо того чтобы попривыкнуть друг к другу за душевными разговорами долгими зимними вечерами, ведут себя так, словно на дворе уже тюльпаны распустились».
Теперь она уйдет… Покинет Вриланд, где знает каждую улицу, каждую дощечку на каждом мосту, каждую лошадь и собаку в каждой семье. Здесь зимой он учил ее кататься на коньках по Лосдрехтсе-Плассен, а летом смотрел, как она играет под ивами на берегу канала, черпая ведерком воду и переливая ее в побитые и потресканные чашки из чайного сервиза, который когда-то принадлежал его матери. Отныне она навсегда расстанется с родным городком, с домом своих предков и отправится в Амстердам, куда отсюда на телеге полдня езды по приканальным дорогам.
Лоренса по-прежнему забавляла открытая неприязнь Дирка к новому гостю (пес сновал между ногами Фрица и Джоанны, пытаясь оттеснить этого волка в овечьей шкуре, пришельца со странными запахами, от своей хозяйки), но он больше не злорадствовал. Было что-то трогательное в том, как нежно смотрели влюбленные друг на друга, как улыбалась Джоанна, пьяная от счастья и грядущей неизвестности, и Лоренс решил прийти им на выручку. Отвлечь Дирка от служебных обязанностей можно было только подальше брошенной палкой. Лоренс окликнул Дирка и швырнул палку вдоль узкого берега, но промахнулся. Палка плюхнулась в озеро. Дирк бросился в воду, и Дина рассмеялась, рассеяв досаду Лоренса от неудачного броска.
Дина вдруг сжала его руку.
— Знаю! Подарим им картину, «Девушку за шитьем»! Она всегда ей нравилась.
— Нет!
Дирк принес палку, однако Лоренс даже не заметил.
Дина повернулась к мужу. На ее ласковом лице читалось изумление. Ветер играл выбившимися из-под шапочки волосами, как вода играет морской травой.
— Откуда такая жадность? Это же наша единственная дочка.
— Наверняка можно придумать что-то другое.
— А почему не картину?
— Потому что я подарил ее тебе.
— Это был бы отличный подарок от нашего дома их дому.
— Нет, Дина.
— Ну почему? — Она настойчиво теребила его за руку, выпрашивая согласие.
— Не хочу.
— Вот уж не знала, что ты так привязан к этой картине. В ней же нет ничего такого, пусть даже она и выполнена в духе Вермера.
— Скорее де Хоха, — ухватился за возможность Лоренс. — Со слов торговца, де Хох так же писал полы.
Дина укоризненно улыбнулась, всем видом показывая, как прозрачна эта детская уловка. «Дурак! — обругал он себя. — Она столько с тобой прожила, что читает в твоей душе, как в открытой книге. Вот сейчас еще процитирует Эразма — что-нибудь о том, как стыдно менять тему важного разговора».
Свои любимые изречения из «Пословиц» Эразма Роттердамского Дина вышивала на ткани, иногда оставляя их на латыни, если ей нравилось, как они звучат. Например, «Tempus omnia revelat»[10]. Годами вышивала она на пяльцах слова мудреца, этот символ веры в рациональное мышление, словно хотела глубже запечатлеть их в собственном сердце: «Усердием греки взяли Трою», «От дурной птицы и яйцо дурное», «Никто не причинит тебе худшего зла, чем ты сам».
— Почему бы не отдать им одну из твоих вышивок?
— Почему бы не отдать им картину? — насмешливо заметила Дина.
Он отвернулся и глянул перед собой. Вдоль озера покачивались ивы; в легкой дымке их ветви манили к себе, как призрачные руки.
— Эта картина… Я купил ее в память об одном событии в моей жизни и поэтому не могу отдать.
— А я-то думала, ты купил ее мне. На нашу годовщину, помнишь?
Она отпустила его руку, отодвинулась и опять завернулась в плащ. Дрожь пробежала по телу Лоренса.
— Так и было. Я… — Он чувствовал, как Дина охладевает к нему, но, памятуя о том, что превыше всего она ценит правду, заставил себя продолжать: — Эта картина напомнила мне о той, которую я когда-то знал.
Дина остановилась.
— Как эта девушка смотрит из окна, ждет кого-то… И ее рука. Такая хрупкая, нежная — так и просит поцелуя.
Дина развернулась.
— Пойдем домой.
Лоренс кивнул на молодую пару:
— А они?
— Они вернутся позже.
Когда супруги двинулись в обратный путь, Дирк побежал за ними, потом метнулся было назад, однако передумал и опять потрусил за хозяевами. Они его накормят. Лоренс даже разозлился на буйную радость собаки, так контрастировавшую с его собственным настроением.
Дина вопросов не задавала, но сбавила шаг, дожидаясь объяснений. Лоренс тоже не торопился: не смея взглянуть жене в глаза, он смотрел на серые волны, под порывами ветра бегущие по озеру, словно когти. Здесь, презрев опасность, он не раз носился на коньках по тонкому льду.
— Ее звали Таннеке… Это было в семьдесят четвертом году, я тогда еще работал на водонасосной станции в Харлеммермере, — поспешил обозначить дату Лоренс: давно, задолго до встречи с Диной. — Она жила в Зандворте. Я впервые увидел ее на базаре, у кондитерской лавки. Пробрался вперед, купил целый пакет пончиков, развернулся и — хоп! — сунул ей пончик в рот. — Лоренс усмехнулся. — Измазал ей весь нос в пудре.
Он не решался взглянуть на жену и увидеть, такой ли невинной представила она себе эту сцену, как он ее запомнил.
От разбуженных воспоминаний Лоренс начал думать вслух:
— Мы часто гуляли — по дюнам, по вересковым лугам. И по лесу. Она очень любила Харлемский лес, знала в нем каждую тропку, как Джоанна знает улочки Бриланда. Там, в лесу, когда мы прятались от дождя, я впервые поцеловал ее руку.
— Ты любил ее?
Он слишком много сказал. Зря он вообще начал этот разговор.
— С ней я… я был как Фриц. — Лоренс отвернулся, чтобы жена не разглядела счастья на его лице. Давнего-давнего счастья.
Новые воспоминания встряхнули его.
— Я поступил как дурак. Не пришел к ней на свидание. Даже не знаю почему; наверное, чтобы показаться независимым. Хотя больше всего я тогда мечтал о встрече с нею. Я заявился позже, а ее уже не было: она уехала из Зандворта и запретила родителям говорить куда.
Горечь от собственной глупости, бездействия, апатии заставила Лоренса замолчать, чтобы не выдать голосом своих чувств.
Глядя прямо перед собой, он скорее ощутил, чем увидел, как Дина отстранилась от него.
Вот теперь и жену обидел. Старый осел!
Остаток пути до дома они прошли молча: казалось, Дина пытается проникнуть мыслями в прошлое.
Снова сбоку появились соседские лодки, но для Лоренса они уже были не лодками с клювиками, а обыкновенными рыбацкими посудинами. Вот они идут мимо чужого огорода, и Лоренс зовет Дирка, чтобы пес не рванул через ряды красной капусты, высаженной как по линеечке. Они оставили позади послушно вращающуюся мельницу, неустанно откачивающую воду, чтобы на века сохранить над водой крошечный островок. А еще, думал Лоренс, они оставили позади ту часть своей жизни, когда содержать все это — лодки, сады, плодородную землю, любовь — не стоило особого труда.
Дирк скакал вокруг них, описывал широкие круги, плескался в лужах. Надо будет дома вымыть ему лапы. Обычно этим занимается Дина. Сегодня придется Лоренсу.
Странно, стоит даже первую любовь разложить по полочкам: я ее любил; она меня, наверное, тоже; я повел себя как подлец и получил по заслугам, — как история эта становится пошлой и никому не интересной. Лишь счастливые мгновения наполняют ее смыслом. Как вместе они с удивлением трогали морщинистую кору старой ели, как пытались представить, сколько песчинок нужно, чтобы сложить дюну. Как он поднес ее руку к своим губам. Всего лишь мгновения.
Хотелось напомнить Дине о таких же счастливых мгновениях в их жизни, как тот первый поцелуй в лесу, таких же важных. И сколько их было — этих мгновений! Однажды, например, они носились на коньках по замерзшему Лосдрехтсе-Плассен: в ушах свистел ветер, заглушая чужие голоса, и они кружились одни, в собственной белой, чистой вселенной. Он еще сказал тогда, что знает ее вот уже половину своей жизни, двадцать два года — дыхание замерзало на ветру, и взволнованные слова будто воплощались в облачка пара, — а потом поцеловал ее, прямо там, на льду, двадцать два раза, за каждый радостный год. Напомнить бы ей об этом — но от одного взгляда на жену, на ее походку, на прямую, гордую, отчужденную фигуру слова застревали в горле.
Подойдя к дому, Лоренс вдруг понял, что перед выходом Дина зажгла в гостиной лампадку, и теперь из окна сочился теплый желтый свет, призывая хозяев в уютный домик. Дина всегда помнила о таких мелочах. Впрочем, не время хвалить ее сейчас — еще подумает, что он подлизывается.
Дома они старались не попадаться друг другу на глаза, хотя каждый супруг следил за малейшим движением другого. В воздухе чувствовалось напряжение.
Он хотел, чтобы она подошла к нему, чтобы он провел рукой по гладкой коже у нее на виске, прямо у волос — его любимая ласка, — а потом взял ее за плечи, прижал к себе и сказал, что он целиком принадлежит ей и будет принадлежать до конца жизни. Но она занялась ужином, давая понять ему, что ей сейчас не до ласки, и он смирился. Старое, знакомое, гнусное чувство — смирение.
А потом вернулись Джоанна и Фриц, увлеченные разговором о работе парня в Амстердаме, и Лоренс упустил свой шанс.
— Когда приедешь к нам, мы обязательно отправимся в море на лодке, — радостно сказала Джоанна.
Все-то им кажется просто. Ясно, как горный хрусталь. Эх, им бы только знать… Ничего, знание со временем приходит. Только с годами замечаешь, как на самом деле сложна жизнь.
Подавая на стол, Дина говорила односложно и неохотно, а потом так и не притронулась к ужину: просто сидела и смахивала крошки со стола. Лоренс понимал: Джоанна заметила внезапную перемену в настроении матери и думает, что это из-за нее или Фрица. Поэтому, когда Дина ушла за пудингом, он попытался успокоить дочь — прошелся пальцами по скатерти и положил ладонь на руку Джоанны. Беспроигрышный прием. В детстве Джоанна всегда от этого смеялась, и даже Дина сменяла гнев на милость.
Обветренные щеки Джоанны светились розовым светом, как сочный спелый персик. «Смотри! — хотелось ему сказать Фрицу. — Хорошенько запомни эти щеки и никогда их не забывай». Но Фриц только смущенно наблюдал за их руками, не зная, что и думать. Лоренс распрямился и мягко улыбнулся, всем видом показывая — он прекрасно осознает, что делает; он не отдаст так просто отцовское право держать Джоанну за руку. Во всяком случае, не сейчас. А может, и никогда.
— Разве ты не рад за меня? — спросила его Джоанна после того, как Фриц откланялся и за ним закрылась дверь.
Глядя на красоту щек дочери, чтобы не забыть их и через двадцать лет, Лоренс поманил Джоанну к себе.
— Скажи, папа, разве любовь — не самая замечательная вещь на свете? Даже видя, как вы с мамой любите друг друга, я не была готова…
— Готова? — насторожился Лоренс. Он знал, Дина так и не обсудила с дочкой всех этих женских проблем.
— К такой силе.
Слыша дрожь в голосе дочери, ему оставалось только одно: коснуться губами ее виска и пожелать спокойной ночи.
Дина принялась за вышивку. Тишину нарушало лишь мерное тиканье настенных часов. Дирк покружился возле хозяйки, деловито улегся у ее ног и удовлетворенно вздохнул. Эх, если бы он, Лоренс, мог оказаться на месте собаки.
Он хотел обратиться к жене, но не знал как. Напрягал память, пытаясь воссоздать ее образ, когда ей было столько же, сколько Таннеке, и все же, кроме волос цвета осеннего клена, так ничего и не вспомнил.
Тишина становилась невыносимой.
— Какую пословицу ты теперь выбрала? — спросил Лоренс, просто чтобы хоть что-то сказать.
Она протянула ему обруч. На ткани виднелся канал с растущей на берегу ивой и едва начатым мостом. Внизу крестиком были вышиты латинские слова.
— Не малорум меминерис, — произнесла Дина.
— Что это значит?
Медленно, точно смакуя момент, она опустила взгляд на обруч и сделала еще два стежка, заставляя его смотреть, как тянется длинная нить, как игла с легким хлопком проходит через растянутую ткань.
— Не поминайте зла.
Лоренс не нашелся что ответить.
Он взял глиняную трубку, вышел из дома и направился к каналу. Ветер стих, спустился туман, птицы устраивались спать в кустах.
Он вспомнил, как покоилась нежная, бархатная рука Таннеке в его руке: такая легкая, мягкая, лежащая ладонью вверх, — и он, новичок в любви, мнящий себя галантным кавалером, склоняется для поцелуя. Ее мизинец слегка согнут, совсем как у той девушки на картине, до того тонкий, ну прямо птичий клювик. И тут же, едва слышный, ее взволнованный вздох.
Сколько раз, работая на водонасосной станции или рассматривая картину, Лоренс пускался в мечты о Таннеке и о том, как сложилась бы жизнь, стань она его женой.
После той прогулки в лесу он проводил Таннеке до дома — Лоренс вспомнил этот дом, вспомнил гнездо аиста на крыше — и, оставшись снаружи, следил через занавески за ее воздушной фигурой: со свечой в руке Таннеке медленно поднималась в спальню, нарочно остановилась у окна, не торопясь, играючи, сняла через голову платье, потом сорочку и, раздразнив его, задула свечу. Лоренс еще долго сидел возле дома и думал об этой комнате, которую он так никогда и не увидел: керамическая печка в углу, у которой Таннеке, должно быть, играла в детстве; ее рисунки, развешанные по голубым стенам; большое овальное зеркало, нужное девушке, чтобы лишний раз убедиться в своей красоте; роговая гребенка, ковш и тазик, вероятно, делфтской работы, как у его матери; кровать со спинками из красного дерева; старое бабушкино одеяло, розовое, например, или светло-зеленое, а под ним — Таннеке. Обнаженная. От мысли об этой неувиденной картине жар побежал по его венам.
Постыдные мысли. Он отогнал их прочь, зная, что они еще вернутся.
Что, если непредвзято посмотреть на вещи? Из-за самой ли Таннеке в нем уже столько лет живут воспоминания — или из-за радости первой любви, которую он изо всех сил пытается сохранить? Сам вопрос уже содержал ответ. Если бы Дина только знала… Нет, новые объяснения окажутся лишь солью, просыпанной на рану.
Лучше он еще подождет. Даст ей время.
И чем таким важным он в тот день занимался, что заставил Таннеке ждать и ждать его на станции? Уж точно не работал. Все желание показаться значительнее, чем на самом деле… Что же он делал тем вечером? Наверняка пошел куда-то с приятелями, но куда?.. Лоренс бродил вдоль канала, пытаясь вспомнить тот вечер. Пустота.
Он не раз порывался найти ее, однако не знал, у кого спросить. Потерять кого-то в этой крохотной стране нелепо! Правда, если уж быть совсем честным с собой, не очень-то искренними были его поиски. Поначалу ему хватало воспоминаний о ней, а затем, годы спустя, когда в нем просыпалось нечто среднее между любопытством и тоской, казалось глупым вмешиваться в чужую, наполовину прожитую жизнь.
Теперь он знал, знал давно, всякий раз как смотрел на изящную руку на картине, прежде чем унести лампу из гостиной наверх, что нет ничего важнее настоящего, что именно сейчас надо выражать свою любовь. Заповедь, которой он следовал, живя с Диной. Следовал как мог; пусть он поступал не идеально, зато по вечерам его не мучила совесть при взгляде на картину.
Лоренс дышал глубоко и ровно, с каждым выдохом прогоняя мысли о прошлом и с каждым вдохом возвращаясь к настоящему. Теперь, когда Джоанна созрела для любви, всякие фантазии о прошлом казались бездумной растратой времени нынешнего. Жизнь нахлынула на него, как волна на утес, и он радостно улыбнулся. Вспомнился вкус овощного рагу — со сладкой морковью, молодой картошкой и большим куском мяса — после прогулки вдвоем на ветру. Мелодичный голос Дины, напевающей за работой в саду. Ее умный, порой дразнящий взгляд, смеющиеся глаза — только глаза, — когда она осознавала свою правоту и ждала, пока он это признает. Ее лукавый вопрос вечером, в темноте, в его объятиях: «Что хорошего произошло сегодня?», на что он всегда отвечал, потому что нисколько не сомневался: «То, что я сейчас тебя обнимаю». От этих слов в горле вставал комок, в чреслах горел любовный огонь. А после — ее дыхание, ровное, как тиканье настенных часов; простая колыбельная, не требующая слов. Вот что ему дорого в жизни. «Надо же, чем питается любовь. Такими простыми, обыденными вещами».
Лоренс курил, давая Дине время. Пусть она все хорошенько обдумает. Она поймет, хоть и не сразу, что ее враг, если уж говорить о врагах, не воспоминания мужа, а собственное воображение.
Когда Лоренс вернулся, Дина рассеянно заморгала. На ней был дорогой нежно-розовый халат, и она расчесывала распущенные и перекинутые через плечо волосы.
— Я послушалась совета картины.
— То есть?
— Перестала вышивать. — Она слабо улыбнулась. — Взглянула в книжку. Меминерис. Эразм пишет, когда Фрасибул освободил Афины от режима тридцати тиранов, то издал указ, запрещающий всякое упоминание о прошлом. Этот указ назывался «Амнистия».
Дина! Ах, Дина!
Его глаза наполнились слезами. Дина расплылась, превратилась в розовый мазок, и он опустил глаза на Дирка, посапывающего у ее ног, чтобы она не увидела слез, а еще чтобы не смотреть на картину. Скоро ему придется ездить по полдня, чтобы полюбоваться на полотно — да и то под присмотром жены. С ужасом Лоренс представил на месте картины новую вышивку, провозглашающую обет молчания и прощения. Нет! Дина не посмеет! Она не повесит ее туда.
Он опасливо проверил, на месте ли картина.
А потом, помолчав, сказал:
— Если бы она вместо того, чтобы смотреть из окна, обратила бы взгляд на нас, ей стало бы завидно.
Знакомая улыбка промелькнула на лице жены.
— Куда бы ты ни смотрел, со временем зависть угаснет, и ты будешь рад находиться там, где ты есть.
Относились ли эти слова к нему или к девушке на картине, он спросить так и не посмел.
Платье гиацинтового цвета
Стыдно признаться — я забыла его лицо. Нет, не Жирара. Его.
Ну-ну, дитя, не смущайся; от смущения на коже выступают пятна, а это совершенно ни к чему. Я бы не стала болтать с первой встречной — есть, есть в нашей жизни секреты, — но раз уж ты спросила моего совета, тебе расскажу. Ведь, по правде говоря, я совсем не любила человека, которого отец выбрал мне в мужья, только скрывала это, как собственную наготу.
Конечно, пока не встретила его — музыканта из оркестра в мрачном кирпичном Маурицхёйсе. Они играли «Героическую» симфонию — ту самую, которую мы впервые услышали в Гааге, ни много ни мало через два года после того, как сестра написала о ней из Бовэ. На музыканте были элегантный бордовый фрак и красный муаровый жилет в тонкую фиолетовую полоску. И штаны — не тот пошлый черный шелк, который через день носил Жирар, а замшевые, подвязанные бантами и низко спускающиеся по ноге. Конечно же, он не был голландцем.
Должна тебе сказать кое-что о голландцах: хорошо, что у нас весь день впереди. На том концерте в Маурицхёйсе, для примера, можно было все еще встретить костюмы времен Людовика XVI, которые уже лет десять как вышли из моды. У нас на улице никто не показался бы в такой стыдобе — а эти, похоже, даже не замечали. Вот-вот, чудеса, да и только! Была там одна особа, отдаленно связанная с домом Оранских, седьмая вода на киселе, бывшая баронесса Агата ван Солмс (мой муж, кстати, считал ее очень милой), — так она все еще носила фижмы. А прическа! Намекая на вклад своей семьи в историю голландского флота, эта баронесса водрузила себе на завитые волосы кораблик — фрегат, что ли, — будто тот бесстрашно рассекает морские волны. Ну не дикость ли? На кораблике даже флаг был; впрочем, ей хватило скромности выбрать флаг Батавской республики. По мне, это страшно крикливый и безвкусный способ поминать морские завоевания Оранских. Прибавь сюда еще и красную бархатную ленту вокруг шеи в знак сочувствия тем, кого коснулась мадам Гильотина. Ни капли вкуса!
Не думай только, что это я такая едкая и желчная: тебе-то там жить не пришлось. И потом было и в Голландии кое-что хорошее. Например, картина девочки с кожей, как у спелого персика, которую Жирар мне принес. Девочка смотрела в открытое окно с таким забавным простодушным выражением, что поначалу я сочла ее глуповатой. Эти голландцы отрезаны друг от друга и от внешнего мира водой. Всюду вода! Там от кровосмешения половина женщин либо безумны, либо по-скотски любопытны. Но мысль о том, что у этой девочки были любящие родители, пробудила во мне нежную грусть, даже зависть. Мне-то самой Бог детей не дал. От наших безуспешных попыток Жирар начал злиться на меня еще в Люксембурге.
Я повесила картину в гостиной, над голубой кушеткой, которая усиливала синеву девочкиного платья. Такое изысканное платье, ярко-синее, цвета гиацинтов — едва распустившихся гиацинтов, а не тех, которые уже отцветают. Будь у меня дочка, я одевала бы ее только в цвета свежайших гиацинтов и тюльпанов и, как Шерис, дочь моей сестры, каждую весну водила бы ее на Лоншанские гулянья[11]. И обязательно купила бы ей жемчуг. Я даже обращалась в гильдию художников, узнавала, нельзя ли дописать жемчужные бусы на шее девочки с картины.
Жирар говорил, картина создана малоизвестным художником, неким Йоханнесом ван дер Меером. Сказать по правде, мне все равно. Такая красивая девчушка, что я с удовольствием приняла картину.
Поначалу я думала, этой картиной он хотел успокоить меня на год-два, пока не подвернется возможность вернуться во Францию. Он принес картину после того, как провел целый месяц у графини Морис ван Нассау в Маурицхёйсе — с его слов, за обсуждением налогов. Теперь-то я знаю, что все было иначе. И таково, дорогая моя, истинное назначение подобных подарков, поэтому осторожнее с ними.
Поскольку это графиня Морис давала концерты и вообще была дамой, приятной во всех отношениях, на следующий день я нанесла ей визит в Маурицхёйс. Как она умудрялась жить в таком склепе, не представляю. Она принимала меня в комнате, где единственным украшением был камин, выложенный синей и белой плиткой, да синие делфтские блюда на полках вокруг. А на каждом блюде — по мосту через реку и по понурой плакучей иве. Кому еще придет в голову уставлять комнату такой тоской? Я уж и так вживую насмотрелась этих ив, сыта по горло. Несчастная, откуда ей взять персидские ковры — висел лишь один фламандский. Повсюду ситец; двое фризских часов, которые то и дело что-то скрипели. Приличный человек от стыда бы помер.
Лишенная титула указом императора, графиня оставалась достаточно богатой, чтобы следовать прихотям, зарождавшимся в ее щедрой груди, походившей на осевший пудинг и украшенной слева симпатичной мушкой — хотя не знаю, может быть, мушка была и нарисованной. Графиня сказала мне, что скрипача зовут месье ле К., он только прибыл из Парижа и через пару недель должен исполнять Сороковую симфонию Моцарта соль минор с государственным (бывшим Королевским) оркестром в Бинненхофе.
— Ах, как я люблю минорные тона, — прошептала я. — Не мне хвалить его скрипичное мастерство, но оно так пленительно.
И я бросила на нее молящий взгляд.
С интуицией деликатнейшей из женщин — наследие ее утраченного титула — графиня понимающе улыбнулась.
— Он остановился на лето в Ауде-Делен.
Это все, что мне требовалось знать.
Гаага — маленький городишко размером с три-четыре парижские площади. Я знала Ауде-Делен: мы с Жираром там жили, пока нам готовили дом. Только сначала нужно было добыть приглашение в Бинненхоф. А потом — заказать себе новое платье.
Тут ни дня нельзя было терять. Ни один портной на всей Ван-Дименсстрат не знал о парижской моде. Не знала и я, прожившая с мужем вначале в Люксембурге, а потом в Гааге, пока салоны Жозефины взрывались новыми фасонами. Голландские магазинчики не помогали. Пусты, как монашеские кельи, эти магазины. И почему не привозить к себе шелка вместе с бочками с селитрой, не представляю. Типичная голландская тупость.
И еще, дорогая моя, скажи спасибо Пресвятой Деве, что Бог избавил тебя от жестоких гаагских корсетчиков. Поверь мне: никакой жалости, сплошное презрение завоеванных к завоевателям. Ни одного утешительного слова на примерке. Совсем не то что мадам Эдель, моя собственная корсетчица. Она любила говорить — мне так и слышится ее голос: «Сейчас мы чуть-чуть перераспределим вашу кожу, мадам». Обязательно сходи к ней, у нее настоящий талант. Улица Сент-Оноре, сразу как выйдешь с Вандомской площади.
Итак, я задалась целью полностью обновить гардероб. Шарлотта, моя сестра, упомянула как-то, что в моду входят панталоны, и тщательно их описала. Кошмар! Даже если бы их делали из чистого шелка, до чего же неудобно носить там ткань! Я осторожно поспрашивала в магазинчиках. Никогда прежде не слышавшие ничего подобного, продавцы подозрительно косились на меня, поэтому, как я ни расстраивалась, пришлось обойтись без панталон. Уж конечно, месье ле К. гораздо лучше меня знал, что носят в Париже, и мне страшно не хотелось в чем-нибудь уступать парижанкам.
Но к чему это я? Ах да, Бинненхоф… Это у них дворец. Снаружи очень простенький, стоявший на южном берегу озера Вейвер, он куда лучше смотрелся изнутри, в зале Тревес, где должны были давать концерт. Прекрасная, белая с золотом приемная в стиле Людовика XIV, сказочно расписанный потолок с облаками и херувимами… Казалось, будто музыканты — и особенно месье ле К. — спустятся к нам с небес.
Я пробиралась в первые ряды, Жирар послушно шел следом. Музыканты уже расселись, и, конечно, я увидела его. Первая скрипка. Белое кружевное жабо пенилось под его подбородком, словно взбитый десерт. Во время первой, быстрой части симфонии, молто аллегро, — тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля — его руки мелькали, очаровывая меня. Задыхаясь от внезапной духоты, я взмахнула веером. По счастливой случайности этот жест привлек внимание месье ле К.
Он заметил меня!
Все долгое анданте его глаза были кокетливо опущены, а рука со смычком касалась скрипки так нежно, будто ласкала возлюбленную. Он до того чувственно играл анданте, что я чуть не лишилась сознания. Наверняка он был одарен с детства, любимчик счастливой матери. К началу четвертой части я была сама не своя от экстаза. Думаю, тебе знакомо это чувство, иначе бы ты меня не спрашивала.
Что до Жирара… даже не знаю. Он все глубже уходил в свои цифры и депеши, в общение с разоренной голландской знатью. Купил картину голландского живописца, начал курить длинную фарфоровую трубку. Мой муж, вынуждена признать, постепенно превращался в голландца.
Я не уверена, но, по-моему, он начал изменять мне за год до концерта. Помню, приближалось лето: гиацинт на моем туалетном столике побледнел и благоухал сильнее прежнего, отдавая в запах все свои жизненные соки. Я еще не закончила утренний ритуал, в смысле не привела себя в порядок: не наложила белил и пудры, не надела парик. Я как раз выщипывала брови, когда Жирар что-то мне сказал. Я не расслышала, вернее, не обратила внимания: даже думать-то не могу, когда занимаюсь лицом, а уж тем более говорить.
— Клодин! — воскликнул вдруг он так громко, что от неожиданности я выронила щипчики.
Влюбленным трудно жить вместе: тебя могут всегда застать врасплох. Дорастешь до моих лет, узнаешь.
В зеркало я увидела, как он напряженно смотрит на меня, сидя на краю кровати без штанов и чулок и свесив свои тощие волосатые паучьи ноги.
Я обернулась и ласково спросила: «Да, мон шер?» Всегда будь ласковой, вот тебе мой совет. Никогда не знаешь, что у мужчин на уме.
Он так и не сказал, что хотел; слова, наверное, разлетелись из его головы, как мотыльки, но было видно: с ним что-то случилось. В глазах сквозила грусть, словно он впервые осознал свою беду, понял, что ему не суждено иметь сына, о котором он так мечтал. Думаю, наконец он осознал, что мы давно даже не пытаемся зачать ребенка. Подозреваю, всякая власть, которая была у меня над ним, тотчас исчезла. И тяжесть легла мне на сердце.
С детства меня готовили к замужеству с тем, кто был выгоден для семьи. Говорили, стерпится — слюбится, и я пыталась любить, хоть и не знала как. О да, между нами были минуты страсти, да только любовь ли это? Пусть мои слова покажутся тебе сентиментальными, однако любовь для меня — это когда ты готова всем рисковать, всем пожертвовать, перенести любые тяготы ради любимого. Я раньше держалась мнения моей провансской тетушки: если взяться за дело с душой, все само собой выйдет, — но после этого разочарованного взгляда Жирара, будто старый мир его рухнул и теперь никогда не будет таким, как прежде, я не уверена в тетушкиной правоте.
Я пыталась смотреть на вещи с лучшей стороны. Жирар неплохо ко мне относился, вернее, скажем так, сносно: подарил, например, мне картину девочки (как я хотела), а не мальчика (как хотел он). Он, правда, и к другим недурно относился. Не секрет, что, собирая в императорскую казну по сто миллионов гульденов в год, он щадил кое-кого из разорившейся голландской знати — особенно ту бывшую баронессу Оранскую с кораблями на голове. Я решила не обращать на мужа внимания и весь год развлекалась: весной ездила смотреть на тюльпанные поля в Гарлеме; летом, в Шевенингене, любовалась морем, сидя в их забавных плетеных креслах и вздрагивая от порывов коварного ветра; зимой ездила на ледовые балы во дворце Хёйс тен Босх. Однажды на льду Жирар поскользнулся, взвизгнул от испуга, схватился за мою руку и рассмеялся собственной неуклюжести. Меня тогда захлестнула нежность к нему, хотя я и не назвала бы это любовью. Он за любую руку бы схватился — лишь бы не упасть.
Теперь же — спасибо хозяйке Маурицхёйса — я узнала, что месье ле К. способен музыкой успокоить мою мятежную душу. Я послала письмо в Ауде-Делен, приглашая его и трех других музыкантов на его выбор к себе домой. В «просторный белокаменный особняк во Вьербурге», — написала я: пусть знает, какие слушатели его ждут. Он радостно откликнулся, и, ободренная его ответом, я на следующий же день отправилась договариваться о выступлении. На месье ле К. был воротничок столь ослепительной белизны, что у меня голова пошла кругом, но нюхательная соль и его сильная рука у меня на спине восстановили мои силы. Я повторила приглашение, едва дыша. Вернее, я решила больше не дышать, если он не согласится. Месье ле К. задумчиво запрокинул голову, выгнул безупречно ровную бровь, поправил кружева на рукаве, медленно, расчетливо улыбнулся и предложил проехаться с ним в экипаже по Босху, могучему лесу вокруг города.
Мы поехали. Занавески опущены. В экипаже, в этой тесной тряской коробке, стояла страшная июльская духота. Я задыхалась. Мое фишю сзади липло к шее, а спереди — к женским прелестям, и не оставалось ничего иного, как его снять. В сумрачном свете, кокетливо (как мне казалось) потупив взор, я разглядела, что на жилете месье ле К. был вышит целый пейзаж. Когда я решилась дотронуться до вышивки, он накрыл мою руку своей и крепко прижал к груди — верный знак согласия прибыть на концерт. Я снова могла дышать.
— Обычно принято играть Гайдна, — сказал он, — однако осмелюсь порекомендовать также струнный концерт Моцарта до мажор. Называется «Диссонанс». Это вас не пугает?
— Напротив, крайне заманчиво.
— Он начинается с пульсирующих басов, точно сердце стучит у любовника, и постепенно наполняется высокими голосами.
— А он… достигает крещендо?
— Да, и потом медленно стихает.
— Тогда играйте!
Неделю спустя месье ле К. передал мне с посыльным, что собрал квартет, и несколькими днями позже я вновь пришла к нему с визитом — рассказать о гостях и договориться о музыкальной программе на вечер. Мы беседовали, гуляя вдоль усыпанного перьями птиц берега озера Вейвера и наблюдая за лебедями.
— Тут принято всегда звать одного-двух патриотов[12], — объясняла я. — Поэтому я пригласила Леопольда ван Лимбруг-Стирума, Гизберт Карела ван Хагендорпа и Адама ван дер Дейна[13] с семьями.
— А вам известно, что лебеди образуют пары на всю жизнь? — отвлеченно спросил месье ле К. — Что вы об этом думаете?
— Глупые. Впрочем, откуда взяться уму в таких маленьких головах?
Наконец настал вечер концерта. Я надела файдешиновое платье гиацинтового цвета, как у девочки с картины, — не слишком броское, но уж точно выделяющееся. И, поддавшись внезапному порыву, послала слугу по цветочным магазинам искать гиацинты, чтобы украсить ими главный салон. Запах был бы пьянящим. В нетерпении я расхаживала по комнатам, пот струился по рукам и груди. Я еще раз приняла ванну, ополоснула шею холодной водой, чтобы успокоиться, и прислушалась к звукам собственного дома: Жирар в домашнем халате, что-то весело и фальшиво напевающий себе под нос; быстрые шаги по мраморному полу; звуки стульев, которые расставляли в салоне; приглушенные голоса: «Нет-нет, мадам хотела поставить это сюда» или «Мадам велела в гостиной лампы не зажигать, а в малой зале свет притушить».
«Как чудно выйдет, — думала я. — Куда ни посмотришь — всюду синие душистые цветы, чьи толстые стебли гордо торчат вверх прямо как… как… Да! Сегодняшней ночью, в лунном свете, дамы изопьют сладкий нектар с медоносных цветков».
Только когда слуга вернулся, я поняла, что моей мечте не дано сбыться: слишком запоздала я с концертом. «Простите, мадам, гиацинтов нигде нет. Я обежал все магазины». И он протянул мне один бледный, давно увядший цветок. Чтобы не позориться, я решила не выставлять его напоказ.
В ярком свете множества свечей главный салон сверкал золотом. Пастельных тонов фигуры гостей скользили по черно-белому мраморному полу, отполированному до зеркального блеска. В журчащем смехе Жирар галантно нагнулся к руке этой Агаты Оранской с чудовищной прической и в том же уродливом платье. Как хозяйка, я пыталась найти в себе силы, чтобы любезно приветствовать гостью, но, глядя на птичку, пристроившуюся на ее кисейном чепчике так, что с каждым наклоном головы она падала вперед, будто клевала зерна, я едва сдержалась.
И тут появился он!
Он был в узком зеленом фраке, будто покрытом чешуей, и когда месье ле К. повернулся поприветствовать Жирара, я заметила, что фалды его фрака сужаются, как рыбий хвост. Боже мой! Со спины он выглядел совершеннейшей рыбой. Я не могла дышать. Я не могла думать. Он направился было ко мне, но его тут же перехватила графиня Морис, а затем и другие, и мне пришлось довольствоваться лишь коротким приветствием.
Во время исполнения Гайдна я напустила на себя вид задумчивого, мечтательного забытья. Я подалась вперед, показывая, как поглощена музыкой, хотя от этого движения мне тут же стрельнуло в поясницу, а корсет впился в живот (чего никогда бы не случилось, будь мы в Париже).
Краем глаза я увидела, как Жирар рассеянно оглядывается по сторонам, вместо того чтобы слушать музыку. И как только можно было отвлекаться от музыкантов?
Я сосредоточилась на месье ле К.: его губы, прелестно выпячивающиеся во время аллегро; его руки, легкие, проворные, как птицы. А его игра! Струны моей души пели. Какие божественные звуки, какие эмоции, какая власть над духом — стоит ли удивляться, что он разбудил во мне страсть? Снова и снова спрашивала я себя, как спрашиваешь и ты сейчас, — не любовь ли это? Но ведь я не знала, что такое любовь. Она ли то вдруг заставляет тебя трепетать, то приносит внутреннее спокойствие? Она ли окрыляет? Фи, старо, как заплесневелый сыр. Пусть лучше крылья останутся у птиц. Моя душа пела под звуки Моцарта.
Побыв с гостями, как пристало хозяйке, я затем подошла к месье ле К., сказала, что он играл, как ангел, и протянула для поцелуя руку. Заманить его в гостиную не составило ни малейшего труда: я всего лишь предложила ему взглянуть на одну «любопытную вещицу». «На картину молоденькой невинной девушки, еще девственницы», — дразнила я, хотя теперь стыжусь этих слов. Проходя через малую залу, я притушила лампу и, схватив его за руку, увлекла в гостиную и тотчас закрыла за нами дверь. В комнате стояла кромешная мгла.
Я отсчитала шесть шагов до дивана, и мы со стоном погрузились в греховную роскошь. Он поцеловал меня. Я — его и кончиком языка почувствовала мозоль слева от подбородка. «Должно быть, здесь он прижимает скрипку, — пронеслось в моей голове. — Издержки профессии. Пустяки. За музыку, которую он извлекает из инструмента, это можно простить».
И я простила, стоило его рукам прийти в движение. Они опустились вдоль моей шеи, пианиссимо, затем исполнили глиссандо вниз по спине. Его прелюдия, все ускоряющееся арпеджио, сотрясали мое существо. Здесь было все, на что я надеялась.
В отчаянии он продирался через платье, сорочку, нижние юбки, кринолин, и я радостно подумала, как неуместны были бы панталоны. Дыхание. Он оглушительно пыхтел и шуршал юбками. Задыхался он там, что ли? Его собственные, скажем так, струны наполнялись вибрато. Он блаженно простонал — тремоло — и закончил единственной нотой — фальцетом.
Тут я услышала сдавленный дьявольский смех. Сначала я приписала его расстроенному воображению — но нет! Мы были в комнате не одни. Да, пока мы входили в комнату из более светлой залы, наши лица могли разглядеть. Свет подсказал бы мне, кто свидетель, чье молчание придется покупать дорогими подарками. Месье ле К. зашевелился под юбками, собираясь приступить к следующей партии, однако меня так насторожило чужое присутствие и шуршание ткани — тафты, определила я по звуку, — что миг удовольствия, которого я ждала неделями, унесся, как последний аккорд. Я перебирала в памяти гостей, пытаясь понять, кто же носит тафту в самый разгар лета. Не выдержав, я оттолкнула месье ле К., потянулась к столу и взяла спички. Лампа осветила кушетку под целомудренным взглядом девочки с картины. А на кушетке, без штанов, похожий на ощипанного гуся — Жирар.
А с ним — не чудовище Агата с гнездами на голове, а графиня Морис. И она, и мой муж во все глаза смотрели на нас.
Да, меня поймали — зато тут же освободили. Хвала небесам! Теперь я могла вернуться в Париж!
Оставалось, правда, кое-что напоследок. Позабыв о потерянной туфле, я выскочила через малую залу в главный салон и вернулась с баронессой Оранской. Уж я позаботилась, чтобы Агата ван Солмс воочию убедилась в неверности своего любовника.
В общем, что ни говори, а вечер выдался интересным — я бы ни за что не променяла такой на тысячу других. Когда под утро я легла наконец в постель, Жирар все еще неистовствовал.
— Как ты посмела меня скомпрометировать?! Как могла поставить под удар мое положение?! Разве непонятно, что завтра вся Гаага будет об этом говорить?
Этими словами и окончилась ночь: я отвернулась, укрылась с головой и усмехнулась, вспомнив, как на обратном пути, таща за собой Агату, точно баржу на буксире, едва не столкнулась с месье ле К., крадущимся наружу. Помню, я еще подумала перед сном: «А все-таки жаль, что мы так и не достали гиацинтов».
Об обиде не могло быть и речи. То, что я не нападала на хозяйку Маурицхёйса (которая, дай ей Бог здоровья, впервые познакомила меня с прелестями голландских концертов), не обвиняла Жирара в неверности и оставалась практически безучастной к его судьбе, — все указывало по меньшей мере на холодность наших отношений. Правда, Гаага, как с гордостью сообщит любой голландец, — это город, где разум торжествует над чувствами, и я с радостью ухватилась за то, чего прежде боялась. Измена (его ли, моя — не важно) даровала мне свободу. Лучше побыстрее покинуть этот город — и страну! — чем попасть на язык здешним дамам, которые рассказывают пошлейшие сплетни, жеманно обмахиваясь веером вдали от дочерних ушей. Пораскаиваюсь до конца лета в садах у тетушки в Провансе, а потом — в Париж, к Шарлотте, где театр и опера отвлекут от грустных мыслей. О, благословенный вздох полной грудью, будто при расшнурованном корсете! О, заветная свобода — стоит только попасть в Париж.
Но как оплатить дорогу? Ждать денег от отца немыслимо — на это уйдут недели. Он начнет писать письма с расспросами. А мне лишней ночи нельзя оставаться в Гааге. Надо было подумать. Крепко-крепко подумать. Что у меня есть?
Ответ был горек: картина!
На следующее утро, стараясь не смотреть на изображение, я сняла ее, завернула в прозрачную ткань и послала за экипажем. Бумаги на картину лежали у Жирара под замком; что ж, придется обойтись. Я начала с лавки ван Хула — безрезультатно: он лишь выискивал изъяны в товаре. Я собралась уходить, и мой взгляд невольно остановился на картине. То, что я поначалу принимала в девочке за простоватость, теперь казалось мне чистотой и невинностью. Ее спокойный взгляд жег меня. Я видела в ее глазах не просто юность, а нечто глубже. Когда она дорастет, то готова будет поставить на карту все, пожертвовать чем угодно, перенести любые лишения ради любимого.
— Это тебе не просто картина, — сказала я тогда продавцу. — Ты смотришь в самую душу безгрешной девицы.
Мне было стыдно за наше поведение перед девочкой: я боялась пошлостью ранить ее.
— Вы уверены, что это Вермер? — спросил он меня.
— Совершенно.
— И бумаги подтверждают?..
— Что картина написана Яном ван дер Меером Делфтским и продана с аукциона в Амстердаме около века назад. Точного времени и места не помню. — Я взмахнула платком, всем своим видом показывая ничтожность подобных деталей.
— Подписи нет. Если бы в ваших бумагах говорилось, что автор — ван Мирис, я бы с удовольствием выложил за нее двести гульденов, но за Вермера — пф!
Не говоря ни слова больше, я завернула картину, отнесла ее другому торговцу и сказала, что это ван Мирис.
— А вы уверены, что не Вермер?
— Уверена.
Он тоже потребовал документы, а когда их не оказалось, предложил мне лишь двадцать четыре гульдена. Чего едва-едва хватало на дорогу до Парижа. Я согласилась и всю дорогу до дома проплакала в экипаже.
Слава Богу, Жирар ушел в министерство. Я быстро набросала записку Шарлотте: «Убегаю в Париж. Подготовь отца. А потом приезжай в Прованс до конца лета».
Когда чемоданы погрузили в экипаж и мне помогли забраться внутрь, я уже не плакала. Я хотела зарыдать — но без труда подавила в себе это желание. Жирар останется здесь, будет жить и процветать, поэтому если и лить слезы, то не по нему. И не по месье ле К., и даже не по мне самой. Лишь картина заслуживала слез: ей суждено теперь скитаться сквозь года без авторства, словно внебрачному ребенку, а это заслуживало куда более искренних слез, чем те, на которые я способна.
Любовь — из того, что мне довелось узнать, — большая глупость. Трепещущие сердца, горячая кровь, бездонные глаза… ерунда. Будь практичнее, дорогая: хочешь трепещущее сердце, а получаешь трепещущие ноздри. Если я действительно повидала любовь, то ничего в ней хорошего нет. Впрочем, теперь я точно знаю, чего любовью считать нельзя, а это столь же полезно, пусть и не так приятно, как выяснить, что такое любовь. Там, в экипаже, выглядывая из окошка на крестьян, корячащихся на картофельных полях, я поняла, что могла бы, как и потерянная девочка, постоянно сидеть и смотреть в окно. Оказывается, можно просто сидеть и думать. Настоящая жизнь, увы, далека от фантазий, но это не значит, что нельзя фантазировать. Что же до месье ле К… Хоть я и не помню его лица, я каждое Страстное воскресенье продолжаю возносить за него молитвы в церкви Марии Магдалины. Я от всей души благодарю его за свою новую жизнь.
На рассвете
Через день после наводнения Саския утром распахнула ставни южного окна на втором этаже и выглянула наружу. Их дом был одиноким, отрезанным от мира островком: серый туман размывал очертания четырех соседних зданий, а вода сверкала, как начищенная посуда на кухне у матери. «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, — вспомнила она библейские строки. — И стало так»[14]. Но сейчас «так» не стало, и придется держать у себя наверху корову, пока не станет опять «так». А корова между тем занимает полкомнаты и гадит на полу.
Саския облокотилась на подоконник и вгляделась в даль. Из воды выглядывал одинокий вяз, еще такой молодой, что только верхушка его возвышалась над водой. Она напрягала глаза, пытаясь различить, не прячутся ли среди ветвей их куры. Даст Бог, Стейн их сегодня отыщет. Особенно Саския горевала по Покье — красавице птице с перьями мягкими, как волосики младенца. Как воспитанно и гордо она поднималась, чтобы явить миру только что снесенное яйцо. Потом Саския спохватилась: другие потеряли куда больше, чем нескольких птиц.
Им со Стейном повезло: вода почти ничего у них не отняла. В день, когда река разлилась, Саския бегала вверх-вниз, перенося в безопасное место еду и утварь, а корова внимательно следила за ней большими карими глазами. Саския даже детей привлекла игрой к труду, а потом, когда ледяная вода достигла их дома, еще несколько раз спускалась и на ощупь отыскивала последние вещи. К вечеру у нее ломило ноги, а руки безжизненными плетьми висели по бокам. Ей-то казалось, Стейн обрадуется, что она так много сберегла, но когда муж вернулся после двух дней непрерывных работ над дамбой на Дамстердипе, влез в окно и кинул взгляд на спасенные вещи, на бабушкину прялку, лежащую поверх наскоро уложенных торфяных блоков, то удивленно спросил: «Зачем нам это все?».
Она простила его — он был устал и расстроен.
Теперь же, глядя из окна, Саския заметила, как что-то темное плывет далеко-далеко, поворачивая, словно по собственному желанию, то туда, то сюда.
— Стейн, — позвала она. — Посмотри-ка туда.
Она почувствовала его теплую ладонь на своем плече. В последнее время она смаковала каждое их случайное соприкосновение, пытаясь углядеть в нем проявление любви. Вот и сейчас она замерла, чтобы он не убрал руку.
— Это не кобыла ли Босвейка там плывет? — наконец спросила Саския.
Она обернулась, глядя на его внимательное лицо, на милые сердцу морщинки, собравшиеся вокруг глаз.
— Точно, она, — подтвердил муж, надел толстую куртку и вылез через северное окно, где вчера привязал лодку.
Марта и Пит выскочили из-под одеяла и залезли на сундук у подоконника.
— Видишь, — важно, с четырехлетним превосходством сказала Марта, — лошади тоже умеют плавать.
— Эта лошадка не плывет. Она просто такая высокая, что держит голову над водой.
Саския дала каждому из детей по куску сыра. Хлеба больше не оставалось: придется учиться печь булочки на торфяной жаровне.
— Саския! — раздался тревожный голос мужа.
Протиснувшись между коровой и мешком крупы, Саския добралась до противоположного окна. Стейн протягивал ей из лодки замотанный кулек. Она перегнулась через окно навстречу мужу. Вроде бы не тяжелый, кулек все же выскользнул у нее из рук и упал в мутную воду. Стейн рванулся за ним, опасно раскачивая лодку, схватил, развернул покрывало и протянул ей картину. Саския аккуратно пронесла ее над подоконником и стала завороженно рассматривать красивую девушку, сидящую у раскрытого окна.
— Что там, мама? — спросила Марта.
— Боже мой! — услышала она голос мужа. — Саския!
Она снова перегнулась через подоконник, и он осторожнее прежнего передал ей корзинку с младенцем, а потом опять взялся за весла.
— Ребенок? — ахнула Саския. — Кто-то подбросил нам в лодку ребенка?
— Ребенок, ребенок, — обрадовался Пит. В свои пять лет он повторял все, что слышал, и радовался каждому звуку.
Саския разворачивала пеленки, и дитя становилось все меньше и меньше. Добравшись до платка печального зеленовато-синего цвета, она остановилась. Ее руки отчаянно тряслись: платок наверняка достался ребенку от матери.
— Кто это, мамочка? — спросила Марта.
— Не знаю… Бедняжка, холодно-то ему, поди, как.
— Я знаю! — объявил Пит. — Его подложил святой Николай.
Дети залились тонким смехом.
Саския развела огонь в жаровне, чтобы нагреть воду для малыша. Стала разматывать платок, и оттуда выпал капустный лист.
— Зачем это? — удивилась Марта. Она льнула так близко, что едва давала матери пройти.
— Так, старое поверье. Кладут мальчикам на счастье.
— Можно мы его оставим, мама, ну пожалуйста?
— Что оставим? — осведомился Пит. — Капустный листок?
Марта толкнула его.
— Можно мы оставим малыша?
Руки все еще дрожали, когда Саския вынимала из платка бумагу, какой-то документ о картине. На обратной стороне листа большими печатными буквами было написано: «Продайте картину. Накормите ребенка».
— Господи помилуй, — пробормотала она, и черные жирные буквы заплясали перед глазами. Что за мать могла такое написать? Саския развернула промокшие пеленки. Мальчик. Маленький Моисей[15], голубоглазый, с жидкими светлыми волосиками. Только бы удалось уберечь его от смерти. Саския поставила на жаровню горшок с молоком, отыскала чистые пеленки и к возвращению мужа накормила и запеленала дитя.
— Это и вправду была кобыла Босвейка, — проворчал Стейн. — Глупее лошади свет не видывал. Я привязал ее к лодке и отбуксировал к хлеву, но тупая скотина не пожелала взбираться по доскам, так что пришлось мне с фермерским сыном подвязать ее ремнями и затаскивать на блоках. Из-за нее я еще и на паром опоздал — самому теперь надо грести.
— У нас новая обязанность, Стейн.
— Ребенок? — Муж мельком, хоть и с улыбкой, взглянул на малыша.
— Мальчик, — как бы невзначай упомянула Саския выгодный пол младенца.
— Ну и худющий же. Небось и недели не протянет.
Саския показала мужу бумаги.
— Там написано только имя художника.
Стейн перевернул лист. Последовало столь долгое молчание, что казалось, он больше не заговорит.
— Наказ от самого Господа, — прошептала жена.
— И средства, чтобы его исполнить, — вторил муж. — На следующую же ярмарку поезжай в Гронинген.
— С ребенком? — встревоженно спросила она, памятуя о Гронингенском приюте.
— С картиной. — Стейн взял по куску сыра и солонины, а затем вылез в окно.
Саския не могла налюбоваться на младенца. Контуры его лица с ямочкой на подбородке напоминали ей раскрытый бутон тюльпана. Весь день она просидела возле него, кормила молоком капля за каплей, то окуная палец в чашку, то опуская ему в рот. Она целовала его ножки, грела его, ласкала. А он в ответ широко раскидывал ручки, словно собирался обнять ее, двух других детей, корову — целый мир. Конечно, они попытаются вернуть дитя, но пока Господь дал им его на сохранение.
Не проходило и пары часов, чтобы Марта не спрашивала: «Что нам с ним делать?» и Пит не подхватывал: «Что нам с ним делать?». Однако Саския лишь молча улыбалась в ответ.
Стейн вернулся хмурый. Вода не уйдет, пока не отстроят морские плотины. Только потом можно включать насосы, и когда вода опустится до гребня Дамстердипской дамбы, можно будет приняться и за нее. Зовут на помощь всех мужчин до самого Вольдейка. Обещают пристроить их на время работ прямо в Делфзейле, а поскольку Стейн живет не так далеко, то ему каждое утро придется добираться до места работ на пароме.
Саския потянулась губами к его щеке.
— Не трогай меня: я грязный.
Это не волновало Саскию, но звук его голоса заставил ее отступить.
— Будет чудо, если мы хоть что-то посадим этой весной, — проворчал он.
— Посадим. Обязательно посадим.
Она положила ладонь на руку мужа и ощутила, как напряглись его мышцы. Он всегда готов опасаться самого худшего, и ее задача — поддерживать супруга.
— Малыш уже пять раз поел, — сообщила она.
Стейн глянул в сторону корзины.
— Что за мать бросит ребенка на произвол судьбы?
Он скинул куртку и забрался наверх двухъярусной кровати. Пит со своего места внизу потянул отца за штанину, и Стейн убрал ногу.
— Та, у которой нет выбора, — предположила Саския.
— Его оставил нам святой Николай, — упрямо повторил Пит.
Только тогда Саския вспомнила. Незнакомец в лодке. Он еще просил молока.
— Ш-ш-ш, Пит. Тихо. Спи.
Она выплеснула помои в окно.
— Прелестный малыш, — сказала Саския. Стейн нагнулся над ребенком, и тот раскинул ручки навстречу.
— Видишь? Ты ему нравишься.
Стейн теперь вставал с первыми лучами солнца, а возвращался затемно. «Дудму», как говорил ее отец, — «усталый до смерти». Сил у мужа хватало лишь на еду да на пару слов о работе. Саския боялась заводить разговор о том, как назвать ребенка: ведь это значит признать его своим. Как-то, меняя пеленки, она назвала младенца Янтье — малютка Ян, имя из документов о картине, и Пит с Мартой его подхватили. Только по вечерам, в присутствии отца, они молчали.
Дом оставался для Саскии счастливым островком посреди потопа. Она продолжала заниматься каждодневными делами на крошечном пространстве между мешками крупы, ящиками, шкафами, столами и, конечно, коровой Катриной. День за днем Саския подкладывала ей свежее сено и относила коровьи лепешки сушиться на крышу: когда сойдет вода, ими придется удобрять почву. Вместе с Питом, переносившим заточение тяжелее Марты, она гребла к сараю, куда складывала высохшие лепешки и брала продукты и сено для Катрины. Ради молока они оставили корову, но лошадь Стейн спустил с чердака в воду, привязал к лодке и отвез на канал, где весь деревенский скот завели на баржу и переправили на незатопленные пастбища. На жаровне Саския пекла теперь круглые булочки вместо прежних караваев из печки. Она затащила наверх маслобойку, так что могла сбивать масло. Ничего, они выживут. И они, и Янтье. Он брыкался и куксился и иногда срыгивал молоко, однако голосок ребенка день ото дня становился все звонче. В его глазенках светилась благодарность — по крайней мере так считала Саския, и ее сердце разрывалось от счастья. Хотя по вечерам ее счастье, ее радостные рассказы о дневных событиях, похоже, только раздражали Стейна.
Что ж, библейский потоп был страшнее. И потоп святой Елизаветы триста лет назад — тоже. Он смывал на своем пути целые деревни. Саския вспомнила мрачную бабушкину картину, висевшую у них дома над клавесином. Она называлась «Великий голландский потоп» и изображала озеро на месте некогда населенной деревни. Меж зарослей камыша и гнезд болотных птиц выглядывали церковные кресты. Внизу шла назидательная надпись: «Господь вывел человека из бездны и дал ему власть над миром, но тех, кто не ходит путями Господними, ввергнет Он в пучину всепожирающего потопа». В детстве Саскию завораживала картина, а вот позже, когда она научилась читать, слова отталкивали ее. Ей не хотелось думать о Боге возмездия.
Впрочем, когда вода приносит ребенка да еще и прекрасную картину — это не знак приближающегося конца света, не вопль душ из геенны огненной. Просто вода слегка поднялась — всего-то.
В один из редких пригожих дней Саския посадила детей в лодку, опустила туда корзинку с младенцем и отправилась на прогулку. Она дышала полной грудью и гребла медленно-медленно, наслаждаясь каждым движением. Покачивания лодки убаюкали малыша Янтье. Саския проплыла мимо четырех соседских домов и спрашивала всех через окна, не видели ли они какого-нибудь незнакомца на лодке. «Незнакомца? — удивлялись они. — Сейчас, с этим ремонтом дамбы, здесь только незнакомцев и видно». Она рассказала им о ребенке, показала его сонное розовое личико. «Да, долго ждать придется, пока он тебе сад посадит», — усмехнулась одна из соседок.
Альда, жена фермера Босвейка, вынесла ей немного патоки, которую дома Саския дала малышу. Марта не отходила от ребенка ни на шаг, качала тряпку у него перед лицом, дожидаясь, когда он начнет следить за ней глазами, и как только им показалось, что он следит, Саския устроила маленький праздник, вылив всю патоку в тесто — на сладкие пирожки для детей.
Она повесила картину на крючок для одежды. По вечерам, чтобы полотно не бросалось в глаза Стейну, Саския закрывала его одеждой, а по утрам снова открывала. Иногда она наклоняла картину так, чтобы на нее падала полоска бледного света из южного окна. А одним свежим утром, после ночного дождя, пополнившего запасы их чистой воды в бочонке на крыше и в подвязанных к карнизу ведрам, Саския протерла картину — и о, как она засияла! Пуще прежнего. Коричневое платье девушки заблестело, как кленовые листья под осенним солнцем. Сквозь окно лились солнечные лучи, желтые, как лепестки нарцисса. Они освещали лицо девушки, отражались от ее ногтей. «На рассвете» — назвала полотно Саския. Как говорила ее бабка, любая картина должна носить имя.
«Когда-нибудь ты станешь совсем как она», — обещала Саския Марте, заплетая ей волосы и придумывая истории о девушке из Гронингена, Амстердама или Утрехта, о том, как она прославилась своим шитьем и как к ней приходили со всей округи заказывать одежду.
Эх, если бы только можно было оставить картину себе. В их доме не было красивых дорогих вещей, не было даже шкафа с фарфором — только четыре тарелки на полке да бабушкин сундук на полу. Всего одно кресло. Ничего даже отдаленно похожего на побеленную кухню, заставленную делфтской посудой, в просторном деревенском доме в Вестерборке, где она провела свое детство. На длинный стол из красного дерева, за которым они обедали. На бабушкин клавесин в гостиной, картины на стенах и нежно-голубые льняные занавески.
Девушка на картине носила синюю блузку. До чего же чудесно, должно быть, одеваться в синее — цвет неба, цвет живописного озера в Вестерборке, вдоль которого росла синяя вероника, цвет гиацинтов и делфтского фарфора и всего-всего красивого в мире. Цвет самого рая. Представить только: жить, постоянно окутанной синевой. Саския поднесла Янтье к картине.
«Смотри, Янтье, какая красавица. Может, это твоя мама? Видишь, какая молоденькая? Знатная барышня в благородном доме».
Если девушка на картине и вправду была матерью Янтье, он захочет узнать, во что она одевалась. Платок был недостаточно синим, да к тому же старым и рваным. Янтье нужна эта картина.
И не только ему. Восточная скатерть на столе, карта на стене, позолоченные ручки на окнах — не имея ничего подобного, Саския все больше хотела рассматривать такие вещи на картине. В радостные мгновения — когда Янтье пускал пузыри из крошечного ротика, Пит умилительно гримасничал, а Марта подносила ко рту кусок хлеба, как благородная дама за чашкой чая, — Саския забывала о простоте своего дома, и в душе ее наступал покой. Только недолго это продолжалось.
— Малыш из хорошей семьи, — сказала она Стейну как-то вечером. Тот лишь вопросительно поднял брови, слишком усталый, чтобы спрашивать, откуда она знает. Сидя за столом, сутулый от тяжелого труда, он молча ждал объяснений.
— Только взгляни на картину — на кружевной чепчик у девушки. Она не спешит с шитьем — у нее есть время смотреть в окно, и не важно, пришьет она пуговицы сейчас или на следующий день. И знаешь, что я подумала? Это, наверное, его мама. А ведь только богачи заказывают себе портреты. Надо, чтобы он узнал ее. Плохо его обманывать, говоря, что он наш.
— Завтра в Гронингене ярмарка, — напомнил муж.
— Ой, нет, Стейн, пожалуйста! Давай еще подождем.
— У нас кончаются деньги.
Той ночью она сжалась на узкой кровати, отодвигаясь от мужа. Наутро, когда она раскрыла ставни, пепельно-серый туман застилал все вокруг так, что едва можно было различить их собственный сарай.
— Слава тебе Господи, — прошептала Саския: уж Стейн не отправит ее в город по такому туману — она тотчас собьется с пути. А к следующей ярмарке она притворилась больной, хотя, похоже, Стейн заподозрил неладное. Потом, уже на самом деле, заболел Пит. Так вопрос о картине все откладывался, и Саския то и дело посматривала на мужа, на тонкие морщинки вокруг его глаз, гадая, думает ли он еще о том, чтобы ее продать.
— Сколько у нас осталось картошки? — спросил он как-то вечером, после того как дети улеглись спать.
Вопрос, само собой, касался картошки для еды: ни один фермер, как бы голоден он ни был, не посмеет дотронуться до запасов семенного картофеля, недавно завезенного в их северные края.
— Почти бочонок, — неуверенно ответила она.
Он не стал спрашивать про мясо: оба знали — по все тающим порциям, — что запасы невелики.
— У меня интересные новости с работы.
— Какие?
— В день наводнения в Делфзейле состоялась казнь. Вешали одну дикарку за убийство.
— Ну и что?
— А то, что через пару дней у нас появляется ребенок. Ты ведь знаешь, как принято: брюхатую не казнят, пока не разрешится. По-моему, с ребенком все ясно.
— Его мать не убийца! — ужаснулась Саския. — Даже не простая крестьянка.
— Почем тебе знать?
— Да ты только посмотри на картину! Какой пол! Мозаичная плитка; может, даже мрамор. Это тебе не дом какой-нибудь дикарки, или торфодобытчицы, или даже фермерской жены. — На последних словах губы Стейна сжались в тонкую полоску. Вымышленная родословная малыша становилась чем нужнее, тем правдивее. — Янтье попал к нам из хорошего дома, из Гронингена или Амстердама. Из дома с красивой мебелью, с картиной на стене и с хозяйкой в синих одеждах.
— Янтье?
Она вспыхнула, когда поняла свою оплошность.
— Его принесло к нашему дому, а не к какому-то другому, Стейн. Господь послал его нам.
— И ты нарушишь его волю, если не продашь картину.
— Может, пока подождать? Малыш ведь ничего нам не стоит. Разве что чуть-чуть молока.
— Молока, которое надо пустить на сыр. Молока, которое можно продать. И не забывай: если так будет продолжаться с полями, у Катрины скоро высохнет вымя.
Саския отвернулась. Стейн подошел сзади и ласково взял ее за плечи.
— Я же не приказываю тебе отдать ребенка.
Она кивнула, принимая его условия, и стояла, не шевелясь и наслаждаясь прикосновением. Он приблизил лицо к ее уху, и у нее перехватило дыхание.
— Поезжай завтра в Гронинген. Уж гульденов пять ты за нее точно выручишь. А может, и восемь, если повезет. Так хоть будет на что прокормиться.
— Но…
— Походи с ней по разным торговцам. Около университета. Начни с десяти и меньше чем на восемь не соглашайся. Покажи им бумаги.
Следующим утром, на рассвете, она посадила в лодку Пита с Мартой, положила завернутую в простыню картину, а потом опустила младенца. Она гребла прочь от моря, мимо голых деревьев, растущих вдоль берегов Дамстердипа. Поначалу все вокруг было покрыто водой, но потом начали постепенно проглядывать самые высокие участки земли. По кишащему утками мелководью она добралась до Вольдейка, где стояла первая уцелевшая дамба. Тут Саския привязала лодку и выбралась наружу. Ноги затекли, да только это не важно: куда сильнее была радость от ощущения твердой земли под ногами. Она подозвала мальчишку и дала ему монету, чтобы тот сторожил лодку. Пит с Мартой уже бежали по дороге с криками: «Земля! Земля!», и Саския не трогала их, пока не пришла баржа на Гронинген.
Вид незалитой земли, ожидающей посева, наполнил ее надеждой. Стейн бы почувствовал иное. Не надежда сближала его с Богом, не благодарность, не ожидание весны и не поцелуй любимой. Страх жил в его душе. Страх увидеть пустой амбар, пока с полей не сошла еще вода. Страх, что придется оставить ферму и пойти с сумой по миру. Просить милостыню у каналов в Амстердаме, тянуть чашки за супом в богадельне. Только так не мог поступить Бог, которого признавала Саския.
Вот показалась башня церкви Святого Мартина, затем высокие каменные стены Гронингена. Дети восторженно завизжали и запрыгали по палубе. Где, когда, через что проходит человек, теряя детскую свободу?
Они проплыли мимо сахарорафинадного завода и мимо аллеи жестянщиков, где от грохота ребятишки зажали уши. Для Пита и Марты Гронинген был сказочным городом, полным волшебных домов, ворот и окон, каждое из которых скрывало тайну. Дети обрушили на Саскию целый град вопросов: «Что делает дядя?», «Что везет вон та телега?», «Для чего вот эта железная штука?» — та не успевала отвечать. «А люди! Сколько людей!» — удивлялись дети.
На пристани Саския спросила дорогу к университету и нашла канцелярскую лавку, полную книг, бумаг и чернил. Там же висели несколько картин и подробные схемы строения растений и человека. Саския положила картину на прилавок и развернула ее. Продавать — так быстро.
Продавец, дряхлый старикашка, бросил короткий взгляд на картину и спросил:
— Откуда достали?
Саския почувствовала, как дети прижимаются к ее ногам.
— Мне дали.
Она развернула бумагу о картине и вытянула перед собой. Лавочник потянулся было за ней, но Саския не пустила. Еще, чего доброго, посмотрит на обратную сторону.
Старик начал читать и вдруг нервно зашевелил пальцами. Он вперил в нее недоверчивый взгляд и противно дернул бровями. Пит фыркнул, и Саския сжала руку у него на плече, призывая сына к порядку. Теперь всю дорогу назад он будет дергать бровями и хохотать над собственными выходками.
Взгляд старика скользнул по ее простому платью и остановился на старых башмаках.
— Дали, значит?
— Дали. — Она крепче вцепилась в бумагу.
— А известно ли вам, кто такой ван дер Меер?
— Увы, нет.
— Я заплачу за нее…
Пока он думал, Марта потянулась к краю его стола. Саския сверкнула глазами на дочь, и та быстро отдернула руку.
— Двадцать четыре гульдена, — решительно произнес торговец и с этими словами потянулся за шкатулкой с деньгами, чтобы закончить сделку.
— Двадцать четыре гульдена? — от удивления не сдержала себя Саския. Янтье захныкал, и она сообразила, что слишком сильно прижимает его к груди. Она переложила ребенка на другую ногу.
— Двадцать пять. И ни стюйвером больше.
Как обрадуется Стейн! От двадцати пяти гульденов он потеплеет к ней и уж точно оставит Янтье.
Торговец избегал ее взгляда: он методично отсчитывал монеты. У него были длинные желтые ногти. Разве можно доверять мужчине с длинными ногтями? Картина наверняка стоит дороже…
— Нет, спасибо. — Саския даже поразилась твердости своего голоса. Пит недоуменно поднял голову. Саския завернула картину в простыню, аккуратно завязала края и направилась к выходу. Продавец семенил по пятам и в чем-то горячо ее убеждал, но она не слышала его слов.
На улице от страха ее прошиб пот. Что, если она просчиталась? Что, если так много ей больше никто не предложит? Двадцать пять гульденов! На них мало того что проживешь до следующего урожая, так еще можно купить свинью и хряка. Сбудется мечта Стейна о разведении скота. И все благодаря ей.
— Двадцать пять гульденов, — важно сказал Пит и так дернул бровью, что его лицо перекосилось. Марта захохотала.
Саския быстро и бесцельно шагала по улицам, заглядывая в окна магазинов и не переставая волноваться. Она купила детям сладкие вафли, а увидев сквозь окно антикварной лавки картины на стене, приказала Марте взять Пита за руку и вошла с детьми внутрь. Повсюду стояли кувшины, бокалы, пивные кружки. «Ничего не трогайте», — предупредила она детей. У них же глаза разбегались. Шепотом звали они друг друга посмотреть то одно, то другое: книги, парчовые подушки, индийские фигурки из слоновой кости — а когда добрались до настенного зеркала, то принялись корчить рожи, дергая не только бровями, но и губами, щеками, носами — да всем, чем получалось, — и хихикая над своими отражениями.
— Ш-ш-ш… — одернула их Саския, сама едва сдерживая смех.
Женщина за прилавком о чем-то говорила с покупателем, и чтоб занять себя, Саския стала изучать карту на стене. Названия там все были какие-то странные: не найти ни Олинга, ни Вестерборка. Как будто она из ниоткуда. Грустно. Пит с Мартой хихикали все громче, так что Саския мягко, но решительно оттеснила их от зеркала и повела к выходу.
— Вас что-то интересует? — раздался голос продавщицы.
Саския вздрогнула от неожиданности.
— Нет-нет, спасибо, — пробормотала она и застенчиво улыбнулась. — Впрочем, подождите, есть у меня один вопрос. Вы, случайно, не слышали про Яна ван дер Меера?
— Слышала, конечно. Он из Делфта. Делфтский художник. Вермер. — Продавщица кивнула на завернутую картину. — Хотите мне что-то показать?
Саския подошла к прилавку и развернула картину. Дети притихли. Как и прежде, один взгляд на картину затягивал Саскию в чистую, свободную, светлую комнату, где сидела девушка в синем.
— Свет. Знаете, он любил писать свет. Какая прелесть. — Продавщица поднесла картину к окну. — А кожа-то, кожа! Гладкая как шелк. А знаете, может быть. Вполне может быть.
— Что может быть?
— Вермер, дорогая моя.
Саския развернула бумагу и передала ее женщине. Та несколько раз прочитала, перевернула, пристально вгляделась в Саскию, а потом улыбнулась младенцу.
— Откуда вы?
— Из Олинга. Это деревушка близ Аппингедама. Нас затопило и…
— Отвезите-ка вы эту картину в Амстердам. Там вы выручите гораздо больше, чем могу предложить я или кто-нибудь еще в Гронингене. Походите по магазинам на Рокине. Меньше чем за восемьдесят гульденов не отдавайте. И берегите ее от дождя.
— Восемьдесят! — не веря собственным ушам, воскликнула Саския, и Пит, вторя ей, взвизгнул:
— Восемьдесят!
После дополнительных заверений в стоимости картины и восторженных слов Саския продала синюю льняную скатерть, доставшуюся от бабки, и пошла с завернутой картиной под мышкой через рыночную площадь к мясной лавке.
Всю дорогу домой ее мысли кружились, как воробей в клетке. Что она скажет Стейну? Что не смогла продать картину? Что за нее предлагали только четыре гульдена и не было смысла продавать? Что лучше она продаст свою шкатулку для специй? На этом все и закончится. Стейн никогда не узнает, что предложил ей лавочник или что сказала женщина в антикварном магазине. Он поверит ей на слово. Она никогда не давала ему повода сомневаться в своем слове.
Дома она повесила картину на крючок, даже не прикрывая одеждой. Подумать только — восемьдесят гульденов!
Ожили вымышленные образы. Почему молодая женщина, способная заказать свой портрет у великого художника, почему, как могла она бросить ребенка? Пропало спокойствие, запечатленное живописцем: в воображении Саскии женщина подалась вперед, и ее поза выдавала душевную боль. То была отчаявшаяся женщина, с такими же слабостями, с такими же соблазнами, как и другие; женщина с желаниями; женщина, любившая до полной самоотдачи; женщина, которая, должно быть, слишком много плакала, как и Саския. Испуганная женщина. Женщина, скорее желающая верить, чем верящая. Иначе как же она отдала сына? Женщина, повторявшая в молитвах: «Верую, Господи! Помоги моему неверию»[16]. От этих мыслей у Саскии сжалось горло и покатились слезы из глаз.
Она уложила детей спать до прихода мужа. Уж простит ее Бог или нет, а она ничего не скажет Стейну. Будет спрашивать — ответит про четыре гульдена. И то лишь после того, как дети заснут. Пусть потом при каждом взгляде на картину ее мучит совесть: правда разверзнет между ними пропасть, которую вовек не преодолеть.
Она наблюдала за глазами Стейна, когда муж влазил через окно. Сначала он увидел картину. Потом — полный горшок тушеной говядины. Как давно они не ели мяса! Саския поставила тарелку перед мужем в надежде, что мясной дух хоть как-то смягчит его.
— Я продала бабушкину скатерть, — объяснила она.
Стейн отхлебнул из ложки, даже не садясь за стол, и повесил свою грязную куртку на крючок поверх картины.
Саския ахнула и еле удержалась от того, чтобы скинуть куртку прочь. Марта и Пит высунули головы из кровати.
— Мы видели столько мостов, и церквей, и попрошаек, — сказала Марта, а Пит изображал слепого, протягивающего кружку за подаянием.
— А еще мы ехали на буксире, — добавил он.
— Неужели? — Стейн потянулся и взъерошил Питу волосы.
— Тихо! Вам давно пора спать, — сказала Саския.
— А что с картиной?
— Позже расскажу, — шепотом ответила она, кивнув на детей. Она не могла лгать перед ними.
Саския смотрела, как Стейн уписывает мясо, допивает через край подливку, и добавила еще. После того как он прикончил добавку, оба одновременно встали из-за стола и вместе двинулись сначала в одну сторону, потом в другую, чтобы пройти между мешками и Катриной, которая недовольно взмахнула хвостом от такой неуклюжести. Саския нервно хихикнула. Стейн удивленно поднял брови. Раньше обычного она переоделась в ночную рубашку, задула лампу и залезла на верхнюю полку кровати. Стейн терпеливо ждал объяснений. Только когда Стейн лег рядом с женой, он спросил:
— Так почему ты не продала картину?
— Я не смогла, — ответила Саския, и это было правдой. — Я пыталась. — И это тоже было правдой.
Пусть думает что хочет. Она отвернулась от него, но тут же сильная рука повернула ее назад. Он ждал ответа.
— Стейн, это все равно что торговать матерью малыша. Все равно что сделать его сиротой.
Она понимала, что говорит глупости, однако в темноте было легче признаваться. Тяготы хмурой северной жизни нахлынули на нее, и она заплакала.
— Здесь нет никакой красоты. Да, я знаю, тебе тут нравится, нравится смотреть на ряды своей картошки, нравятся широкие гречишные поля, поля, поля… Я не за этим сюда приехала. Я приехала ради тебя, и если можно прожить, не продавая ее… Я продам шкатулку для специй. Мы займем у отца. Вода скоро сойдет. В Вольдейке уже видны заборы вокруг домов…
Они долго лежали молча в темноте, и потом он спросил:
— Сколько тебе предложили?
Прошло еще время, пока она прислушивалась к звукам, исходившим от кровати детей. И несмотря на тишину снизу, она так и не заставила себя солгать.
— Двадцать пять гульденов, — шепотом призналась она.
Он аж выдохнул сквозь зубы, и ветерок охладил ее шею. Она замерла, пока до него доходил смысл сказанных слов, потом не выдержала, уткнулась головой в подушку и зарыдала.
— Я бы продала ее, если б считала, что это истинная цена.
— Истинная цена? Да что мы понимаем в таких вещах?
— В другом магазине мне сказали, что она стоит восемьдесят гульденов. А ты так небрежно относишься к ней. Вешаешь на нее грязные куртки.
— Восемьдесят, — прошептал он.
После минуты тишины она услышала, как он встал с кровати, а потом раздался звук сброшенной на пол куртки.
Впервые за всю их совместную жизнь она вдруг почувствовала власть над мужем, власть, которую давала правда. Она решила пойти дальше.
— Видишь, я говорила, Янтье — не сын какой-то там разбойницы. Он даже не сын простых фермеров.
Сказав эти обидные слова, Саския отвернулась, и оба лежали тихо-тихо, пока она не провалилась в здоровый мирный сон.
Наутро в полудреме, разбуженная шагами Катрины, Саския ощутила на себе руку Стейна. Она не спешила вставать, наслаждаясь редким проявлением нежности, а потом вложила свою руку в ладонь мужа.
Морские дамбы отстроили быстрее, чем ожидали. Теперь крутились мельницы, откачивая воду с полей. Стейн работал на Дамстердипе, и чем ближе они продвигались к деревне, тем лучше становилось его настроение. Теперь уже и он называл малыша Янтье вместо «ребенок», а один раз даже пощекотал его по животику. Янтье уже вовсю лепетал. Саския не знала, как муж отнесется к словам «мама» и «папа», поэтому пока учила младенца говорить «вода» и «каша».
Если бы Стейн хоть на миг понял, какую задачу возложил на них Бог; если бы он увидел в Янтье то же, что видит в Пите и Марте, и проник бы в глубину Божьего замысла, тогда он, может, доверился бы ей и позволил оставить картину. Но пока все было иначе. Вопрос о картине так и висел в воздухе их комнатенки, а в похлебку день ото дня шло все меньше и меньше мяса, потом все меньше моркови и фасоли, купленных у одного торговца, который время от времени выбирался на плоскодонке в затопленные деревни. Под конец похлебка превратилась в слабый картофельный отвар, и Саския ждала, что муж вот-вот вернется к разговору о картине.
Весна приходила медленно: только воздух слегка теплел, и кое-где над водой проглядывала трава. Дальше от моря, у Вольдейка, вода сошла, и там уже разбрасывали городские отходы в попытке восстановить почву. Может, там даже удастся собрать урожай сахарной свеклы за этот год. Здесь же вода пока стояла, и Стейн хмуро сидел у окна, глядя на затопленные поля. Чтобы хоть как-то ободрить его, Саския показывала на новые ветви деревьев и новые доски сарая, появляющиеся из-под воды.
Работы на дамбах убавилось, и община дала каждому землевладельцу по свободному дню на неделю. На ферме пока было делать нечего, и Стейн пообещал, что возьмет всех на прогулку на лодке.
— А мы доплывем до Вольдейка? — спрашивал Пит, предвкушая бег наперегонки по сухим дорогам.
— Да, и, может, даже до Гронингена.
— И навестим нашу лошадку?
— Обязательно.
Получится настоящий праздник. Уж сколько месяцев они не видели Стейна в таком расположении духа. А за Вольдейком — Саския знала — обязательно отыщется вереск. Горечавка еще не распустилась, зато будут желтые примулы: если их нарвать и привезти домой, то они простоят денек-два. Вот уже солнце пробивается сквозь тучи и играет лучами по воде.
Но сначала Стейн направился в сарай.
Саския сжалась и зажмурилась.
В комнате слышалось только чавканье Катрины.
А потом она услышала крик. Не ругань, даже не слова, лишь крик из самой глубины души, рев раненого зверя.
В окно она видела, как Стейн гребет к дому, яростно разбрызгивая веслами воду. Она положила Янтье подальше на кровать. Старших детей прятать было некуда.
Стейн уже кричал, пролезая в окно:
— Как ты могла, Саския! Как ты посмела?! Семенной картофель! Ты готовила из семенного картофеля!
Пит испуганно вжался в стену.
Каждая хозяйка, каждый ребенок знает, что семенную картошку трогать нельзя. Там осталось всего четверть бочонка. Какие-то жалкие несколько рядов.
Марта отползла дальше от края кровати.
— Я думала, там, за мешками, есть еще бочонок, — солгала Саския. Раз в этом году картошку было не посадить, она решила, что уж лучше пустить ее в пищу. Все равно она не пролежит еще одну зиму — пропадет. Теперь она поняла: он все еще надеялся посадить поздний урожай.
— Еще бочонок? Откуда? Ты прекрасно знала, что у нас нет никаких других бочонков. А еще ты знала, что, если я это выясню, нам придется продать картину.
Он не поднял на нее руки — нет, этого он никогда не сделает, — но во взгляде его читалось такое презрение, что Саския внутренне содрогнулась. Казалось, сам Господь Бог рассержен на нее.
— Жадная, мелочная женщина. Да, я и не понимал, какая у меня жена.
— Тогда я тебе скажу. Это ты решил переехать на это Богом забытое место, не я. Я уже три года не была дома. Мои родители не видели Пита с младенчества — а разве я жаловалась? Разве хоть раз ты слышал, как я сожалею, что приехала сюда? Разве хоть раз я прокляла наводнение, или судьбу, или Господа Бога? Или тебя?
— Семенная картошка — это же наше будущее. Наша жизнь.
— Вот как? И больше ничего? Я не хочу в это верить! Ты злишься, Стейн, и если хочешь знать, злишься не на меня из-за картошки, или из-за картины, или из-за Янтье. Ты злишься на потоп. А это значит злиться на Бога. Ты видишь в жизни только работу: сажать, пахать, полоть, выкапывать. Для тебя, может, больше и нет ничего в жизни. Но не для меня. Мне в жизни нужна еще и красота.
В комнате не хватило места для гнева Стейна. Он вылез в окно, забрав с собой Пита и Марту, верный обещанию взять их на прогулку, а Саския осталась с Янтье и Катриной. И это их первый день вместе за целый год, даже больше. Все насмарку. Всхлипывая, Саския металась по комнате, подняла высохшую коровью лепешку и швырнула лодке вслед. Та и половины расстояния не пролетела.
Сладко же придется с ним детям. Ну и скатертью дорога! Она грузно плюхнулась на кровать, и Янтье подбросило в воздух.
Стейн не появлялся до вечера. Впервые с начала наводнения она боялась. Она всегда верила, что все будет хорошо, — все всегда и было хорошо у них дома в Вестерборке — но Олинг не Вестерборк. И Стейн — не ее любящий отец.
Не то чтобы Стейн не любил. Просто, прожив с ним вот уже восемь лет, Саския все еще не могла отличить его любовь от тревоги. Хотя, надо признать, в одном она ошибалась. Стейн надеялся. Надеялся даже сильнее, чем она, только надежда эта скрывалась глубоко в тайниках его души.
Днем Саския долго сидела перед картиной, потом сняла ее, положила в пустой мешок из-под зерна и зашила края.
В сумерках послышались поющие детские голоса и голос мужа, вторивший веселым детским песням. Чем ближе подплывала лодка, тем тише становилось пение. Наконец Стейн поднял весла, и лодка причалила к дому.
Через окно Марта протянула ей увядшие голубые цветы.
— Спасибо, моя хорошая. Это называется кукушкин цвет.
Саския глянула на мужа, карабкавшегося вслед за детьми: название ничего ему не говорило. Пит взахлеб рассказывал, где они побывали, но Стейн молчал. Его гнев иссяк, остался лишь неприятный осадок.
— Я поеду в Амстердам, — сказала Саския. — Послезавтра. Завтра я сготовлю тебе еды. Детей возьму с собой. Попрошу Альду довезти меня до Вольдейка.
Оттуда на буксире можно добраться до Гронингена, а там — дальше и дальше, пока не попадешь в Амстердам. Весь путь займет два-три дня в одну сторону, смотря как повезет.
Утром назначенного дня Саския ощущала на себе взгляд Стейна и Катрины, пока собирала вещи.
— Если удастся выручить хотя бы близко к восьмидесяти, — сказал Стейн на прощание, — возьми себе пять и купи другую картину. Какая понравится.
Сидя на жесткой скамейке на грузной пассажирской барже, направляющейся к югу от Гронингена, Саския чувствовала себя скиталицей, несущей с собой все свое имущество. Лишь изредка радость детей от новых впечатлений развеивала ее печаль. К чему все это? Она так хотела жить с любимым человеком на собственной ферме, выращивая невиданные доселе растения, способные прокормить весь мир, — и чем это обернулось? Работа, работа, работа и постепенное отчуждение от мужа. Как же так вышло?
За Ассеном им пришлось ждать, пока другая баржа не выйдет из шлюза, и Саския сошла на берег, давая детям размять ноги. На восток от реки отходил узкий рукав.
— Это на Вестерборк? — спросила она работника шлюза.
— На Вестерборк и есть, — откликнулся тот.
Ее душа радостно запела: речушка приведет ее прямо в родительский дом.
— А лодки туда ходят?
В ответ незнакомец кивнул на плоскодонку, готовую отчаливать.
Ах, попасть домой, где мама накормит их чем-нибудь, кроме опостылевшей картошки, — одна эта мысль заставила Саскию действовать. Она позвала детей, собрала вещи, взяла на руки Янтье и объявила: «Дети, мы едем навестить бабушку с дедушкой».
Они пересели на плоскодонку и разместились на палубе, опершись о ящики. Молодые ивовые ветви изящно покачивались на воде. Упоенно крякали утята. Берега желтели от василистника и белели яблоневым цветом. Подул ветер, белые лепестки посыпались на лодку, и дети принялись их ловить. Скоро они приедут в Вестерборк, где все красиво и каждый добр.
За Бейленом начались знакомые места. У Саскии восторженно забилось сердце: перед ней заново проходило ее счастливое детство. На дверях виднелись деревенские картины вроде той, что она изобразила на собственной двери, единственной во всем Олинге и Аппингедаме. Мельницу Котебома теперь перекрасили в зеленый, на фоне которого ярко выделялись красные ворота. А вот та самая каменная церковь, куда она ходила ребенком и где они со Стейном венчались. Церковь смотрела на нее с немым укором, будто Саския чем-то нарушила клятву верности.
Дома мать чуть с ума не сошла от радости. Она ласкала детей — Янтье не меньше остальных, — не оставляла их ни на секунду. Саския прежде думала, что отлично знает матушку, но когда показала ей картину и рассказала, что случилось, та неожиданно нахмурилась.
— Семенную картошку, Саския! Разве ж так можно?
— Знаю, знаю… А что, если я поживу здесь немного, пока Стейн не успокоится? Чтобы он по мне соскучился, захотел забрать меня назад. Здесь так чудесно. Скоро распустятся фиалки. И детям будет где побегать.
— И чтоб твой муж извелся от тревоги по тебе? Нет уж! Завтра же уезжай. В Амстердам. Детей можешь оставить со мной — заберешь их по дороге назад. Это тебе не праздник, Саския. Это важное дело. Ты должна на коленях благодарить Господа, что тебе достался такой работящий муж, как Стейн. Любовь проявляется делом, и дура ты, если не понимаешь. Дитя — вот подарок тебе, Саския, а вовсе не картина.
Двумя днями позже в одиночку Саския шла по Восточной пристани Амстердама, мимо рыбачек, которые выкрикивали вслед обидные слова из-за того, что она не смотрела на их товар. Саския гордо расправила плечи. Издевки смешили ее: пока торговки потрясали жирными от рыбы ладонями, в своих руках она несла Вермера.
Вдоль канала выставили мешки со специями всех оттенков желтого, оранжевого, коричневого, красного. Разноцветная пыль оседала на платье. Саския отряхнулась. В изящных кожаных зашнурованных туфлях она направлялась к Рокину, уверенная в своем вкусе и власти. Она несла Вермера. Стоял солнечный день. Не было никакой нужды торопиться.
Она шла по Рокину, заглядывала в магазины, но не спешила оглашать своего дела. «Торговцы картинами — странный народ», — думала она. Хоть над магазином висит вывеска вроде «Рейнье де Коге, продавец картин» или «Геррит Схаде, искушенный знаток живописи», на деле там продают рамы, часы, посуду, клавесины — даже луковицы тюльпанов, а не только полотна художников. Она показала картину Герриту Схаде, у которого все стены были увешаны сценами кораблекрушений и пьяных пирушек. Казалось, он даже не умел читать: когда Саския протянула ему документ о картине, тот отмахнулся и предложил тридцать гульденов.
— Так ведь это Вермер, — возразила она.
— И что с того? Тут нету действия. А нет действия — нет и драмы.
Саския положила картину в мешок и ушла. Приходилось быть крайне осторожной. После еще трех магазинов она научилась доставать картину медленно, наблюдая за лицом торговца. В магазине Ганса ван Эйленбурга она заметила, как тот при виде картины жадно глотнул воздух. Он предложил ей пятьдесят гульденов, жена подняла цену до пятидесяти пяти, и все же Саския отказалась.
«Матеус де Нефф-старший. Только лучшие картины и рисунки» — гласила очередная вывеска. То, что надо. Саския держала мешок над головой, поднимаясь по крутым ступенькам. Когда она вынула картину, де Нефф даже не пытался скрыть восхищения.
— Изумительно! Великолепно!
— Это Вермер.
— Да. Да, конечно. Исключительная редкость. Он позвал помощника и жену посмотреть на картину.
Саския дала ему бумагу, и де Нефф внимательно прочел. Хотя куда дольше он просто наслаждался картиной. «Какое стекло в окне — прозрачное, точно жидкий свет. Ни одного мазка не видно. Ух, а корзинка! Мельчайшие штрихи — и как сплетаются прутья! Вот уж поистине Вермер!»
Саския пыталась рассмотреть, что видит он, но ее глаза затуманились, и девочка расплылась в синее пятно. Саския знала, что продаст картину де Неффу, еще до того, как он назвал цену: она хотела, чтобы картина попала к тому, кто любил бы ее.
— Я зову ее «На рассвете», — тихо сказала Саския. Ей было важно, чтобы это имя осталось за картиной.
Пока де Нефф составлял договор о продаже, Саския рассматривала картины. Стейн разрешил ей купить взамен что-нибудь недорогое. Тут были портреты богатых дворян, играющих на лютнях или клавесинах, картины, изображающие разрушенные крепости, кухарок за мытьем котлов, церковные убранства, Ноя, получающего наставления от Господа, овощные ряды на базаре, мельницы у речных берегов. Правда, выбрать не получилось. Какие-то картины были приятными, другие интересными, и все же ни одна ничего для нее не значила.
Де Нефф отсчитал семьдесят пять гульденов монетами по пять флоринов, высыпал их в муслиновый кошелек и положил его Саскии в руку, бережно поддерживая снизу своей ладонью. Глядя ласково в глаза, он сжал ее пальцы вокруг кошелька и похлопал по руке.
Ну что ж, пусть не восемьдесят, а все равно хорошо. Они перезимуют. Стейн заведет себе свиней. Янтье вырастет и станет помогать Стейну на полях — Стейн еще будет гордиться им. Но между ней и Стейном все никогда уже не будет по-прежнему.
Саския бродила по горбатым мостам, проводя пальцами по поручням. Купила пять тюльпанных луковиц — по одной на каждого в семье. А затем, пока цвет девочкиной кофты еще не стерся из памяти, купила доброй лейденской шерсти — вдоволь, чтобы одеть каждого ребенка в синие одежды…
Из дневников Адриана Кёйперса
В день казни Алетты Питерс я узнал, как сильны суеверия даже в наш просвещенный век. А на следующий день, день святого Николая тысяча семьсот семнадцатого года, когда началось наводнение, я собственноручно отдал самое дорогое, что у меня было.
Впервые я увидел ее прикованной к позорному столбу на узкой площади Делфзейла: она выкрикивала проклятия и плевалась на деревенских мальчишек, потешавшихся над ней. Ни одна из стоявших вокруг матрон и не думала пристыдить ее обидчиков. Ее волосы дерзко развевались на ветру между побелевшими от усилий руками, сжатыми в кулаки. Волосы тонкие, как шелк, светлые, как ветер. Будто редкую птицу поймали в сеть. Ее глаза, яростно сверкавшие из-под невидимых бровей, остановились на мне, чужестранце с рюкзаком, полным книг. В глазах блеснула коварная искорка. Руки расслабились, и она кокетливо улыбнулась. Шрам в виде тонкого крестика заиграл на ее щеке. Должно быть, я покраснел, увидев безжалостное клеймо на нежной коже. Мне оставалось только вообразить ее тело, скрытое за досками столба.
— Чем же ты провинилась перед добрым народом Делфзейла, что заслужила такое наказание? — спросил я.
— У-у-у, хочешь узнать?
Мальчишки заулюлюкали.
— Жизнь богаче того, о чем пишут в книгах, студент! — воскликнула она. — Подойди-ка поближе, и все услышишь.
По мне можно сразу сказать, что я студент: разочаровавшись в науке, я недавно оставил университет в Гронингене, и коротко остриженные волосы школяра еще не отрасли.
— Шел бы ты своей дорогой, парень, если хочешь быть здесь на хорошем счету, — назидательно заметила одна из матрон. — Это испорченная девка.
Я тогда только прибыл в город пожить у тетки, и зарабатывать дурную славу мне, конечно, не хотелось. Однако необычный шрам и густые белокурые волосы, свободно реявшие по ветру, словно околдовали меня. Я подошел.
— Только чур не плеваться.
— Ближе, ближе, не бойся. Наклонись ко мне, я прошепчу.
Я поднес ухо к ее губам. Ее волосы, как свежий мороз, щекотали мне щеку. Тут она потянулась вперед и лизнула мое ухо.
— Вот тебе знак! — раздался ее крик.
Мальчишки весело зашумели. Я же, хоть и буркнул: «Бесстыдница», был вынужден признать: моя наивность заслуживала такой шутки.
На следующий день я увидел ее в слезах на полу тетушкиного дома, в грубой серой юбке. Вчерашней гордости не было и в помине. Она смотрела на картину, изображавшую девушку примерно ее возраста. После вчерашнего наказания нежная шея Алетты Питерс превратилась в сплошную рану. Я сел на корточки подле нее.
— Не эту ли грозную девицу я видел вчера на столбе?
Всхлипывая, она выбежала из комнаты.
— Что она здесь делает? — спросил я у тетушки.
— Священник подобрал ее на дороге с год назад и привел сюда, грязную и бесноватую, сказав: «Бог одиноких вводит в дом»[17]. Он грозил нам карой небесной, если мы не возьмем ее к себе. «Помогите хоть раз несчастным созданиям Божьим, позаботьтесь о своей душе», — были его слова. Пришлось ее взять как служанку, пока ей не исполнится восемнадцать.
Я недолюбливал тетушку Рику за ханжество и манерность, но понимал щекотливость вопроса. Дело в том, что тетя была женой работорговца, в смысле кораблевладельца, чьи суда вели торговлю в Вест-Индии, которая, как всякий знал и никто не говорил, шла телами и душами. Тетушка вышла за него по любви: увы, чувства и разум — редкие соседи. Теперь она хотела уважения — если не Господа, так хоть сограждан. Поэтому, пока дядюшка Губерт посещал собрания пайщиков в Амстердаме, тетушка Рика хорошенько тратилась. Она жертвовала на церковь и приют в Гронингене, заставляла резной мебелью их роскошный гронингенский дом, украшала его восточными коврами и картинами. Теперь она принялась за домик в Делфзейле, ездила на аукционы в Амстердам и наняла амстердамского художника написать их портрет с дядюшкой Губертом.
Когда Алетта сказала, что портрет тетушки Рики больше походит на привидение ведьмы с острова Амеланд, тетушка обиделась, выставила ее спать на кухню и заставила чистить котлы до зеркального блеска. В отместку Алетта изобразила, дергая занавески над кроватью, что по дому бродят души умерших невольников. А другой ночью, когда стоял туман, она завернулась в простыню, вышла во двор и принялась стонать и греметь горшками, словно привидение, звенящее цепями. Дядюшка Губерт до того напугался, что упал с кровати и разбил голову о ступеньки.
Впрочем, ее повесили не за это. За увечье испуганного дядюшки ее приговорили всего к трем дням тюрьмы и к позорному столбу — в тот самый день, когда я приехал в город. А еще раньше ее высекли, дали две недели тюрьмы и разрезали щеку. В тот раз у одного фермера прорвало плотину и затопило поля после того, как Алетта пробормотала что-то невнятное, проходя мимо него на рынке. «Я только притворялась ведьмой, правда, — заверяла она потом тетушку Рику. — Я вовсе не желала ему зла». Алетту тогда не приговорили к смертной казни за молодостью лет — ей было всего пятнадцать, — хотя некоторые женщины, со слов тетушки Рики, настаивали ради своих сыновей, чтоб ее судили по всей строгости закона.
Алетту казнили за то, что она задушила нашу новорожденную дочку.
Я прибыл в Делфзейл, чтобы изучить устройство ветряных мельниц. Я до смерти устал толковать писания Декарта, Спинозы и Эразма Роттердамского и хотел на деле применить Декартов постулат о том, что наука призвана управлять природой во благо человеку. Я мечтал создавать нужные вещи — приборы, которые позволят определять время, быстрее качать воду, дальше видеть, — а не вести бесконечные споры и писать трактаты. Я хотел общения с плотью и кровью, а не с бумагой и чернилами.
Поэтому когда я в следующий раз заметил Алетту в слезах перед портретом, то сел рядом и принялся изучать картину, пытаясь понять, как такая красота может столь глубоко ее ранить. Нежное лицо девушки было написано кем-то близким и любящим — этого, наверное, Алетте и не хватало. Девушка приоткрыла рот, от уголков которого отражался свет, словно ее только что посетила захватывающая мысль, — поразительный художественный прием. Для меня она стала воплощением Декартова принципа «Мыслю, следовательно, существую». Она представляла собой все, чего не было в Алетте: спокойствие, задумчивость, утонченность.
Когда Алетта наконец успокоилась, я спросил, отчего она плакала.
— Отец говорил, у матушки были такие же глаза и такие же волосы, тоже золотисто-русые, как у этой девушки. Она заплетала их в длинные косы… Она умерла, рожая меня.
— Почему же ты не заплетешь свои волосы в косы? Почувствуй себя такой, как она.
— Я пыталась, сотню раз, но они не держатся — сразу распускаются. Наверное, это проклятие. — И ее глаза снова наполнились слезами.
— У тебя красивые волосы, — сказал я.
— Кругом думают, они ненастоящие. Фальшивые волосы — как у разбойницы, поэтому никто меня и не любит.
Я отвернулся, чтобы скрыть улыбку.
— Неправда.
Она пожала плечами. Рана на ее шее все еще не зажила. Жаль, если останутся шрамы, хотя редко на ком жизнь не оставляет следа.
— А где твой отец?
— Ушел в море на невольничьем судне да так и не вернулся.
— Кто же тебя воспитывал?
— Дедушка. Бабушка умерла еще молодой. Как и прабабушка. Злая соседка наложила проклятие на прапрабабку Эльзу, сказав, что ни одна девочка в нашей семье долго не проживет. Она распустила слухи, будто Эльза заколдовала ее маслобойку, за что Эльзу схватили, связали по рукам и ногам, бросили за борт лодки и провезли по каналу. Она захлебнулась, потому что не была никакой ведьмой. Даже аист пролетел над каналом в доказательство ее невиновности.
— Алетта, все эти ведьмы и проклятия — их просто не бывает. Никто их даже не видел.
— Еще как бывают — я точно знаю. Дедушка сам слышал, как ведьмы шептались о матушке за ночь до родов. — Она взволнованно посмотрела на картину. — Думаешь, где-то девушки действительно так живут? Вот так спокойно, задумчиво сидят за столом?
Ни один ответ не послужил бы ей утешением. Что бы я ни сказал, мои слова не приблизили бы Алетту к девушке на картине.
По выходным, свободный от изучения мельниц, я ходил на прогулки и наслаждался видами. Мне нравились эти ровные обширные просторы, всегда открытые для ветра. Ветер здесь помогал знающему человеку заботиться о земле — прямо-таки Декарт в действии. Меня, правда, всегда смущало, что мы так зависим от ветра. Что, если понадобится включить насосы в безветренный день? Эх, нам еще учиться и учиться.
Одним таким воскресеньем я шел по торфяному болоту между городом и побережьем. Рядом с болотом, в торфяных, крытых соломой лачугах, жили добытчики торфа. Год за годом они выкапывали и резали торф, продавая его — свою землю — на топливо, брикет за брикетом, прямо из-под собственных ног. Некоторые оставляли глину, приносили с морского берега песок, а из города — отходы, смешивали их и засыпали вместо выкопанного торфа. Получалась почва, пригодная для гречихи. Только то была долгая тяжелая работа, поэтому большинство просто оставляли вырытые канавы и ходили по насыпанным между ними дорожкам. Канавы заполнялись водой: вода здесь сочилась отовсюду. Скоро это поселение станет неотличимым от множества других болот вдоль эстуария Эмса. Лягушкам оно, может, и хорошо, но не человеку.
Я наблюдал, как гагары ныряют в грязь, как чирок чистит перья, как болотные курочки строят гнезда в камышах, когда услышал новый звук — не кряканье гагар, а скорее крик дикого гуся. Я всмотрелся: на другом берегу широкого пруда сидела на корточках Алетта. Чтобы не испачкать юбки, она подняла их до бедер. Она не носила черных чулок, как остальные женщины в Делфзейле, и вид ее молочно-белой кожи на фоне болотной грязи поразил меня. Я жадно посмотрел на воду — увы, солнце не пробивалось сквозь серое небо, и пруд не отразил фигуру девушки. Алетта сложила ладони у губ и вновь издала птичий крик, дикий, нетерпеливый, печальный. Ветер всколыхнул ее волосы, и моя душа всколыхнулась в ответ. Я хотел продолжить свой путь, наслаждаясь одиночеством, но, повинуясь внутреннему зову, обошел пруд и подкрался к ней сзади.
— Что ты тут делаешь? — спросил я.
— Пригнись, — прошептала она и дернула меня за руку. — Я тут на днях заметила аиста и пришла посмотреть, вернется ли он. Аисты приносят удачу. Если удастся покормить аиста с руки, то никогда не будешь голодать.
Я фыркнул.
— Не смейся над тем, чего не понимаешь, студент! — горячо зашептала она. — Если аист совьет гнездо на крыше твоего дома — разбогатеешь. Мне ли не знать? Как-никак выросла на острове Амеланд.
Я только улыбался, слушая, как просто устроен ее мир. Кровь хлынула ей в лицо, шрам на щеке загорелся, гордая грудь негодующе вздымалась. Она опустила юбки, завернулась в голубой платок и отодвинулась от меня, надув губы.
— Ну вот, ты всех распугал. Медведь неуклюжий.
— Тогда пойдем гулять со мной.
Она упрямо стояла на месте, и я, разочарованный, двинулся дальше. Почти тут же я увидел серую птицу, расхаживающую по воде на длинных серых ногах.
— Алетта, — позвал я. — Вон аист!
Она вмиг примчалась по мокрому мху, окатив меня болотной водой.
— Да нет, это просто цапля. Видишь, на крыльях нет черных перьев, а ноги не красные.
Теперь она следовала за мной по тропинке мимо торфяных домиков. Впереди, за Дамстердипской дамбой, высилась баржа, груженная торфом, который переправляли в Гронинген.
— Что они будут делать, когда из-за выкопанного торфа их дома утонут в болоте? — вслух подумал я.
— Переедут.
— Ты не понимаешь. Когда-нибудь люди перестанут разрушать природу.
— А пока им надо на что-то жить.
Алетта отломила несколько ветвей с ивы возле одного из домиков и стала отмахиваться от назойливой мошкары. Она была теперь так близко, что я чувствовал запах ее волос, соленый, как морские водоросли.
Мы шли под вязами вдоль Дамстердипа. Она рассказывала удивительные и печальные истории, услышанные от деда, — о кораблекрушениях, о моряках и их женщинах, обреченных на вечное плавание, о том, как их привязывали к мачтам, когда корабли приставали к берегу. Ее прадед Варик, рассказывала она, служил на маяке на острове Амеланд, отделенном от материка ваттами[18]. Он разбогател, давая ложные сигналы торговым судам, и когда те разбивались об отмель, собирал их товары на лодке, а во время отлива и без нее. Алетта говорила об этом без тени стыда, даже, наоборот, гордилась хитростью прадеда. Она рассказывала, как морячки готовят целебный отвар из черепа убитого человека с добавлением двух ложек человеческой крови, куска сала, льняного масла и яванской корицы. Она показала мне ореховую скорлупку, наполненную паучьими головами, которую носила на шее против сглаза, — я же, признаться, видел только нежную кожу под скорлупкой. Я засмеялся, когда она учила меня переворачивать на ночь ботинки, чтобы отпугивать ведьм, и ее глаза грозно сверкнули. Все это казалось забавным и милым, да только было видно: бедняжку терзает не одна сотня демонов.
Мы остановились у подъемного моста через Дамстердип: я принялся жадно изучать его устройство. Мосты, мельницы, замки, плотины — эти творения человеческих рук занимали меня еще с детства, и я вслух восхищался, как из отдельных деталей получаются целые механизмы.
— Не важно, как они работают, — отрезала Алетта. — Если водяной захочет пробраться в город, никакие плотины его не остановят.
Ее слова меня не смутили. Мы перешли через Дамстердип к мельнице, где я с позволения мастера показал ей работу насосов. Здесь в их основу был положен принцип Архимедова винта: огромный винт в кожухе устанавливался под наклоном и погружался одним концом под воду в глубокую яму. Алетта никогда прежде не была внутри такой мельницы и замерла, прижав к себе обе руки, чтобы ничего не сломать. Когда из моих объяснений она начала понимать, как движение лопастей передается на винт, меня наполнила восхитительная, непередаваемая радость.
Объясняя ей работу мельницы, я вдруг подумал: ведь шестерня на валу ветряного колеса имеет шестьдесят восемь зубцов, а верхняя шестерня в передаточном механизме — тридцать четыре. И нижняя — тридцать четыре, и зубчатая передача на верхушке Архимедова винта — опять же тридцать четыре. То есть на каждый оборот ветряного колеса винт вращался дважды. Не значит ли это, что если бы на винте было всего семнадцать зубцов, соотношение между оборотами ветряного колеса и винта стало бы один к четырем? Винт бы вращался в два раза быстрее и откачивал воду вдвое эффективнее. А если расширить винтовую поверхность, он будет забирать больше воды с каждым поворотом…
— Погоди, парень, — прервал меня мастер. — Ты забываешь про мощность ветра, которая понадобится, чтобы вращать такой винт.
Мы с мастером пустились в обсуждение, а Алетта отошла к водозаборной яме, где плавало целое утиное семейство. Мы проболтали столько времени, что по дороге назад попали под дождь. Лужи на мостовой бурлили от капель, и Алетта старательно обходила лопающиеся пузыри, хотя и носила добротные кломпы. «Это дыхание Господне, — говорила она о пузырях. — Что, если оно попадет мне под юбки?» И глаза ее обворожительно раскрывались.
Когда мы вернулись домой, мокрые до нитки, тетушка Рика отвела меня в сторону. «Не связывайся с ней, Адриан. Взбалмошная девка. Из тех, кто от упрямства со скалы прыгнет. Если между вами что-то начнется, пойдешь искать себе новую тетку. И Губерт сказал бы то же самое».
Делфзейл — равнинный городок. Заберешься на колокольню или на мельницу, пойдешь по высоким дорогам вдоль берега реки — далеко вокруг видно. Здесь никуда не спрятаться: каждый сует нос в чужие дела, да и привыкли они к этому, как я вскоре понял, и не беспокоились о соседях. Рика так даже занавески на окнах не задергивала, чтобы знали — ей нечего скрывать. Нам с Алеттой оставалось прятаться только на колокольне, на самом верху, прямо под стропилами. Так мы сблизились гораздо быстрее, чем если бы нам разрешали гулять вместе. Это ей пришла в голову идея о колокольне. «В колокола звонят снизу, поэтому никто на нас не наткнется. К тому же церковь никогда не запирают», — говорила она. Я разделял ее презрение к всеобщей набожности, но при этом у нее были свои нравственные законы, не уступающие в суровости кальвинистским.
Взгляд сверху на бесконечные равнины кружил голову, стирал осторожность, богобоязненность, здравый смысл. Казалось, мы тайком пробрались на корабль, идущий к острову радости и удовольствия, о котором порядочные жители Делфзейла боялись даже подумать, чтобы ненароком не попасть в геенну огненную. С Алеттой я словно проникал в другой мир. Читать по вечерам стало невозможно. Ее звонкий девичий голос волновал меня так же, как всего несколько месяцев назад волновали тихие голоса умерших мудрецов. От ее запаха, запаха ее мыла и пота, меня била дрожь возбуждения.
Под святой кровлей она принимала мои неопытные ухаживания и робкие поцелуи, подначивая меня благодарными, нетерпеливыми звуками, пока одним весенним вечером, в темноте, я не почувствовал, что разрываюсь от желания. Я отодвинулся, и она рассмеялась, как над ребенком. Я потянул за тесьму у нее на платье — и случайно обнаружил, что она клала на счастье боб между грудей. Я нагнулся и поцеловал два розовых теплых кружка, там, где надавил боб. Она прогнулась навстречу мне — настойчивый зов, который нет мочи преодолеть. Ее бедра раздвинулись — и прощай, небеса, — но Алетта, Алетта, Алетта!
После я пристально вглядывался ей в глаза, ожидая увидеть задумчивую отдаленность, верный признак стыда. Ничуть не бывало: она лишь расправила одежду и бодро сказала:
— Значит, все решено?
— Что решено?
— Ты женишься на мне?
У меня вышибло дух от такой непосредственности. Я не сказал ни да, ни нет, но она и не ждала ответа. Слепая вера в счастливый боб убеждала ее в том, что все будет хорошо. На следующее утро, когда надо было показать мастеру мои чертежи улучшенной мельницы, я нашел этот боб в кармане штанов. Тот самый боб, ошибки быть не могло — огромная жертва с ее стороны. Я хотел было выбросить его, однако какое-то нежное чувство заставило меня положить его обратно. Казалось, это залог ее любви.
Немногим позже, ночью, Алетта услышала, как что-то треснуло и упало. Она помчалась по комнатам в поисках причины шума и, увидев, что это портрет девушки упал со стены, попятилась, закричала и стала рвать на себе волосы. Переполошился весь дом. Тетушка Рика отпаивала ее горячим молоком. Я показывал ей, что просто перетерлась веревка, на которой висел портрет, и все-таки Алетта не успокаивалась. «Сам увидишь — случится что-то страшное!» — причитала она. Ее успокоили только мои объятия, что сказало тетушке несколько больше, чем мне бы хотелось.
Следующим утром Рика провожала меня до крыльца.
— Адриан, в ней нет ничего от Святого Духа.
— Вот тут вы ошибаетесь, тетушка, — в ней сплошной дух. Ее терзает столько демонов, что лишь по попущению Божьему она все еще дышит.
С этими словами я развернулся и пошел. Любовь — могучая сила.
К рождению ребенка мы думали перейти через ватты на остров Амеланд, где Алетте причиталось кое-какое наследство. В их большом доме жили только глухой дед и его служанка. Мы бы пожили там, пока решали, что делать дальше. Наши планы расстроил ноябрьский ветер, принесший с моря дожди, так что невозможно было ни вброд перейти, ни рыбаков упросить перевезти нас на лодке. Пришлось разыграть ее побег. И я один знал, где найти Алетту.
Мало-помалу, с большой осторожностью она натаскала на колокольню солому, одеяла, запасы воды и сухарей, свечи и корзину ветоши. День за днем, пока подходил ее срок, я носил ей кувшины с пивом из таверны и еду с тетушкиной кухни. Она просила достать хлеба с маслом и овечьего сыра, чтобы проглотить сразу после родов, а еще капустный лист — завернуть в пеленки, если родится мальчик, и розмариновую ветвь — если родится девочка. Я подчинился, хоть и считал это суеверием. Правда, тогда я был готов выполнять все, что бы она ни сказала.
Я даже смотрел, как Алетта льет расплавленный воск в кувшин с водой, а потом вылавливает затвердевшие капли и раскладывает в ряд, внимательно изучая их форму. Ее лицо исказилось, и она испуганно сгребла капли в кулак.
— Ну и что это значит? — спросил я, досадуя на свой интерес к нелепым предрассудкам.
— Нельзя говорить, а то сбудется.
Помню, я разозлился на этот ответ — даже не знаю почему. Я терял здравый смысл, веру в то, что еще недавно считал истиной.
Она отказалась от повитухи, как я ее ни упрашивал. Говорила, все повитухи в Делфзейле обязаны сообщать о незаконнорожденных в городскую управу, и та может отобрать ребенка, поэтому мне придется принимать роды самому. Когда подошел ее срок, Алетта дала знать, высунув платок под карниз колокольни. Я уж не помню, под каким предлогом отпросился у мастера и в дождь понесся к церкви. Алетта лежала, сжимая от боли балку над головой. «Только не вздумай падать, в обморок», — предупредила она меня. Она говорила, что делать; я повиновался. Прежде Алетта заверяла, что не знала ни одного мужчины до меня, однако откуда-то ей было известно, как происходят роды, и она ничуть не боялась. Так что я даже начал сомневаться, действительно ли я у нее первый.
А потом появился младенец.
Я едва не лишился чувств от того, что происходило передо мной: запах, кровь, и в моих руках — трепещущая жизнь. «Мальчик, — пролепетал я. — Здоровый, красивый мальчик». Алетта только простонала в ответ. Я вытер младенца, положил его в корзину и приготовился принимать послед, который, как она говорила, должен свободно отойти, как вдруг Алетта снова закричала, перекрикивая дождь, барабанивший по крыше. Она напряглась, и на свет показалась еще одна головка. Дрожащими руками я извлек наружу второго младенца.
«Близнецы — худшая из примет», — сказала мне потом Алетта. Тем более эта новорожденная девочка: ее верхняя губка была расщеплена, будто у кошки или у зайца.
— Знак сатанинского когтя, — прошептала Алетта.
— Глупости, — неуверенно возразил я.
Но я не мог здесь дольше оставаться. Я укрыл Алетту и пошел к тетушке Рике.
Когда на следующий день я вернулся с едой, Алетта сказала, что девочка плохо сосет: молоко идет носом, и она захлебывается.
— Она проживет короткую жизнь, полную насмешек, станет злой и нелюдимой и сгинет в одиночестве. Уж лучше бы сразу умерла. Следует отправить бедняжку к Творцу прежде, чем она прилепится к этой жизни.
— Алетта! Не смей даже думать об этом!
Я боялся оставить ее одну после таких слов, однако надо было возвращаться домой, чтобы избежать подозрений.
— Хоть пальцем ее тронь — и навсегда погубишь свою бессмертную душу, — пригрозил я на прощание и запретил покидать колокольню, пока не вернусь. Всю ночь я пролежал без сна, слушая, как раскаты грома сотрясают нашу грешную землю.
Следующим утром, пока я работал над мельницей, готовя модель с меньшей шестерней и увеличенной винтовой поверхностью, дождь продолжал бушевать. Про себя я молился, чтобы он шел и шел, заглушая детский плач, который случайно могут услышать. С едой и молоком в руках я пробрался на колокольню и, морщась от затхлого запаха и чуя недоброе, взобрался по деревянным ступенькам.
Мальчик лежал у нее на груди. Корзинка стояла пустой.
— Где наша дочь?
Алетта подняла голову. Ее искусанные губы набухли, глаза яростно горели.
— Скажешь им хоть слово, Адриан, и меня ждет петля.
— Господи, Алетта!
— Что ты знаешь, студент, о материнских правах?
— А как насчет прав отца?
— Ты не видел восковых капель, Адриан. У меня не было выбора.
— Скажи мне, где она!
Алетта отвернулась. Я увидел ее руки: землю под ногтями. Грязные пятна на платье, локтях и лице.
— Где она?! Отвечай!
Ее ледяное молчание говорило лучше всяких слов. Что бы я сейчас ни сказал — все было бы так же бессмысленно, как Божье проклятие после грехопадения в Эдеме. Я не мог на нее смотреть: она обрекла на погибель свою душу.
Казалось, сама природа восстала против нее. Дождь размыл неглубокую могилку, и на следующий день женщины нашли в грязи труп бедняжки. Тут же к Рике нагрянул градоначальник, и моя честная тетушка выложила ему все про сбежавшую Алетту. Было очевидно, что рано или поздно ее найдут. В добропорядочном городе Делфзейле прятать преступника сложнее, чем мельницу на пустынном пляже.
— Ищите в мельницах, в сараях, она где-то там, — напутствовала тетушка Рика. Она бросила на меня взгляд, полный праведного гнева, и добавила: — И церковь проверить не забудьте.
Несколькими часами позже в дом ворвалась Алетта с криками:
— Адриан! Госпожа! Не выдавайте им меня! — И потом, отбиваясь от градоначальника: — Не дай им сварить мой череп, Адриан, я тебя заклинаю! — Ее взгляд пригвоздил меня к полу. Впрочем, никто не замечал меня, и, что бы я ни крикнул в ответ, все бы потерялось в звуках борьбы, в шуме рук, бьющих их в грудь, и волос, хлещущих по лицам. Они поймали, кого хотели.
Безмолвный и беспомощный, я еще долго стоял у двери.
— Это сейчас тебе кажется, что ты ее любишь, — попыталась утешить меня Рика. — Можешь мне не верить, но придет время, когда ты не сможешь вспомнить ее лица.
Я обернулся и уставился на нее, на аккуратно собранные в пучок волосы. Ни одного непослушного волоска!
— Вы даже не понимаете, что говорите, — пробормотал я.
Два замечательных дня я провел с малышом на колокольне. По нескольку раз на день (и на ночь) я окунал краешек синего платка в овечье молоко, которое доставал у подмастерья, и давал малышу сосать. Я видел, так поступают фермеры с осиротевшими ягнятами, приоткрывая мизинцем ягненку рот. Правда, я не знал, как надо правильно держать младенца, и пытался вспомнить, как это делала Алетта. Когда малыш наедался, его ручонки опускались, а голубые глаза закрывались, будто щелочки. Я чуть не лопнул от восторга, когда его кулачки совершили первое чудо — ухватили меня за палец.
К третьему дню я заметил, что малыш слабеет: голод брал свое. Во время очередного кормления я наконец смирился с мыслью, которую раньше гнал прочь: придется отдать ребенка в чужую семью, где его выходят. Я сменил ему пеленки и положил в корзину, а сам отправился на поиски. Пока я шел, мне вспомнилось, что даже у Декарта в Амстердаме родился ребенок от служанки. Только Декарту посчастливилось вырастить ребенка самому. А тут… Я не видел ни одного красного флажка под карнизом, возвещающего о прибавлении в семье. А если бы и увидел — что с того? Заподозрят, что дитя от Алетты, — ни за что не возьмут.
Во время следующего кормления я научился капать молоко по пальцу ребенку в рот. Думаю, на этот раз ему досталось больше. И все же надо было что-то делать.
В промозглом тумане я перешел по скользкому мосту через Дамстердип в Фармсум. Вокруг стояло оживление: мужчины находили протечки в дамбе, утрамбовывали их землей, подвозили материалы к слабым местам. В Фармсуме красных флажков также не оказалось. Я вернулся накормить ребенка, а потом под непрекращающейся моросью захлюпал вдоль Дамстердипа в Солвенд. Там кипела работа по подъему запасов и загону скота на верхние этажи и крыши. Флажков — ни одного. Я бы прошагал всю дорогу до Аппингедама, да только тетушка Рика начнет расспрашивать, где я был, не приди я к ужину домой. Я снова покормил малыша и, мокрый до нитки, добрался до дома. Тетушка Рика тут же попросила меня затащить наверх деревянный комод: дядюшка Губерт уехал в Амстердам, и я остался единственным мужчиной в доме. Даже после того, как из комода вытащили все сорок восемь ящиков, я едва справился с ним и в полном изнеможении рухнул в постель.
За ночь я так и не сомкнул глаз. На следующий полдень назначили казнь Алетты. Идти смотреть — значит всю жизнь мучиться от кошмаров; не идти — значит бросить ее в последнюю минуту. Лучше кошмары, чем предательство, решил я.
Полуденные казни у ратуши обычно собирают изрядную толпу, в которой можно легко затеряться без боязни быть в чем-то заподозренным. Но когда часы пробили одиннадцать и я под дождем вышел на площадь, то обнаружил, что она пуста. Стоять здесь одному значило открыто объявить себя отцом погибшей девочки. Хотя не поэтому продолжал я шагать: я бы просто не выдержал столь близкого зрелища казни. Как последний трус пересек я площадь и ретировался к колокольне. Оттуда, через зарешеченное окно, открывался вид на ратушу и на эшафот. Может, Алетта сюда посмотрит.
Монотонный шум дождя по черепицам перерос в рев, который, как я тщетно надеялся, заглушит бой часов. Когда пробило полдвенадцатого, лужи уже слились в ручейки, а мужчины потянулись через торфяные болота к морской дамбе с телегами, груженными досками, ивовыми ветками, торфяными брикетами, мешками с песком, шестами, лопатами, фонарями. У всех на уме было наводнение, и никто не пришел смотреть на казнь Алетты Питерс. В городе остались лишь полицмейстер с градоначальником для исполнения приговора, женщины, пытавшиеся загнать коров наверх, девчонки, затаскивающие еду, белье и торф на чердаки, и мальчишки, лазящие по крышам, привязывая лодки длинными веревками.
Ее привезли на телеге, завели на эшафот, надели петлю на шею, привязали руки по бокам к туловищу. Гнев заклокотал у меня в горле: кто-то обрил ее. Теперь она, должно быть, уверена, что ее череп собираются сварить, но на самом деле наверняка это жена тюремщика захотела свить ременные пряжки из таких необычных волос. Горько же она поплатится за жадность: никому еще не удавалось заплести непослушные волосы Алетты.
Я взял малыша на руки и поднес к окну. Его первый взгляд на мир станет взглядом на казнь собственной матери. Сколько ему еще предстоит узнать! Я высунул из окна краешек синего платка в знак того, что мы смотрим, и молился, чтобы она заметила. По-моему, Алетта тотчас распрямила плечи и гордо подняла голову, будто сама тетушка Рика пришла к ней на казнь. В ее позе не было ни малейшего намека на стыд от приговора или на страх перед смертью. Она оглядела небеса. Как мне хотелось, чтобы меж серых туч она увидела аиста. Или посмотрела на пузырящиеся лужи и вспомнила, что Господь дышит вокруг нее. Ее мокрое платье липло к телу, выделяя прелестные, дорогие мне формы. Да, я пережил самое близкое к любви чувство, которое только знал.
Дождь барабанил по булыжной мостовой, бил по окнам; вода стояла стеной. Из окон вокруг площади, несомненно, смотрели жильцы, проклиная дождь, застилающий им вид. Градоначальник, защищенный от дождя крышей ратуши, шагал взад-вперед, как генерал перед войском. Ну же, давай! Чего ты ждешь? О, жалкая рука провинциального правосудия: не обидеть бы кого, верша суд чуть раньше, или чуть позже, или плюнув вконец на приговор. Порядок! Главное — соблюдать порядок! Пусть земля скроется под водой и горы ввергнутся в море[19], главное — соблюсти порядок. Алетту повесят ровно в двенадцать, обрекая провести последние полчаса несчастной жизни под ледяным дождем. Ее обритая голова, дрожащие распухшие губы — ничто не устыдит палачей, не заставит проявить хоть каплю жалости, пусть даже жалость эта — исполнить приговор раньше положенного срока.
Подо мной ударил колокол. Ребенок дернулся, и я крепче прижал его к себе. Колокол бил медленно, неуклонно приближаясь к двенадцати, и каждый удар болью отдавал мне в сердце.
Ощутила бы Алетта символичность картины: серый от дождя воздух, на фоне которого сереет виселица, и позади нее ратуша — окажись она на моем месте? Увидела ли, как льется вода с ее пальцев, продлевая их до земли, словно у костлявой старухи?
Я приказал себе смотреть на ее руки, только на руки, хоть и не мог различить, где пальцы переходят в дождь. Вода все капала и капала с них, пока ее тело вдруг не дернулось (как ни старался я отводить глаза, я все-таки это увидел и буду видеть), ноги лягнули воздух, сбрасывая башмаки, ладони сжались в кулаки — а мгновением позже дождь опять серебряными нитями стекал с ее замерших рук и ног.
Я содрогнулся. Отошел от окна и склонился над ребенком, пока утихало эхо колокольного звона.
— Господи благослови. Даруй благодать свою, Господи, прежде чем нам расстаться, — шептал я, и мое дыхание шевелило детские волосики. — Мир свой, ум превосходящий[20], ждущим душам ниспошли.
Я закрыл глаза и вновь припомнил всю сцену: рывок, брызги воды и ноги, вначале дергающиеся в воздухе, а потом неподвижные.
«Всякий, на кого попали брызги, — подумал я, следуя ее логике, — должен ждать несчастья от воды». Самое легкое — обвариться горячим чаем; самое страшное — утонуть в наводнении, которое вот-вот должно было начаться. «Проклятие разбрызганной воды», — сказала бы Алетта.
Затрезвонили колокола: сигнал тревоги. Я положил ребенка в корзину и, оставив его на колокольне, нетвердой поступью, едва разбирая дорогу, спустился по узким ступенькам и вместе с немногими оставшимися горожанами побежал к морю через болота. Капли дождя ледяными иглами вонзались мне в лицо, я поскользнулся и упал. Мельницы вдоль всего Дамстердипа стояли; их неподвижные крылья предвещали беду.
Гонимые ветром морские волны хлестали через дамбу. Серая безликая смерть лизала берег. Водяной из кошмаров Алетты скалил клыки и капал пеной на прибрежную насыпь. Я присоединился к группе мужчин, достраивавших плотину сверху, и махал лопатой как остервенелый.
Море прорвало дамбу там, где никто не ожидал, и устремилось через болота, заливая выкопанные ямы. Мы вскарабкались выше и работали над хлеставшей водой, пока шкипер не пригнал рыбацкое судно и не завел его боком в пробоину. Мы тут же привязали корабль к дамбе, а оставшиеся щели залатали водорослями, торфом и хворостом. Потом море прорвалось в другом месте. От горя у меня перехватило дыхание. Казалось, море побеждает по всему берегу.
Мы справились с этой дырой, подтащив стену снесенного сарая, привязали ее к плотине и накидали поверх глину. В быстро таявшем свете вы бы увидели, как наша заплата прогибается под напором воды. Всю ночь пролежали мы в кромешной тьме, плечо к плечу, рука к руке, упираясь ногами в землю, а спиной — в заплату. Водяной по ту сторону дамбы поливал ледяной водой мое потное лицо. Руки горели. Я жмурился от боли и представлял себе Алетту: как она петляет, чтоб не наступить в пузырящуюся лужу. Дождь падал мне на шею, на колокольню, на ратушу, на виселицу и на обритую голову Алетты. Вдали от берега горели сторожевые костры, тянущиеся далеко на север. Я сосчитал их, а потом пересчитал еще раз, и когда получилось меньше, понял, что море прорвалось где-то еще. Землю покроет водой. Молнии и гром несли волну за волной удивления, боли и злости, пока из меня не вымыло все удивление, всю злость и всю боль и не осталась только горечь утраты. И голодный ребенок на колокольне, должно быть, проплакавший всю ночь.
Наконец мы почувствовали, что море отступает. Вся вода, которая могла прийти, уже пришла. Постепенно начали вырисовываться тени. Дождь стих и превратился в серебристый туман. В оглушающей тишине забрезжил рассвет, открывая нам вид, одновременно прекрасный и ужасающий. Я отошел на шаг от дамбы и застыл, словно распятый: закоченевшие руки не хотели опускаться. В молочно-сером свете я заметил, что мясистая рука, которую я сжимал всю ночь, принадлежала градоначальнику.
— Ты славный парень, — сказал он. — Гораздо лучше таких, как она.
Ярость вскипела во мне. Кто еще о нас знал?
Я протиснулся на первую же баржу до Делфзейла. Торфяные болота, поля — все было залито водой. От деревьев остались лишь верхние ветви. Крестьянские семьи сидели на мокрых крышах собственных домов или на ветках, вместе с курами. Мельник с женой и детьми взгромоздились на крышу мельницы. Ласковые гронингенские лошади-тяжеловозы безропотно плавали, не понимая всей глубины трагедии. На миг я даже позавидовал их простому горю.
Со скрытыми под водой бесчисленными каналами, окружающими крестьянские участки, мало осталось следов человеческой деятельности. Сам город уменьшился, сморщился. Вода не знала разбора, затапливая и праведных, и грешных. Нижние этажи домов были под водой, равно как и нижний этаж церкви. Ребенку на колокольне вода не угрожала. И мы поплыли по площади между церковью и ратушей, по водяной глади, ровной, как оловянное блюдо. Навстречу, на деревянной двери, выгребала здоровенная крыса. Знамение, сказала бы Алетта. Но Алетту Питерс смыло водой вместе с виселицей.
Дом тетушки Алетты и дядюшки Губерта заметно уменьшился, уйдя под воду по окна первого этажа. Я перелез из баржи через полузатопленное окно и увидел на лестнице тетушку в мокром по пояс платье. Одной рукой она прижимала к себе цейлонскую вазу, в другой держала картину девушки в синем — и то и другое куплено за золото, полученное за людей, обреченных на адский труд в Америке. Никому не удержать меня в этом доме, построенном на деньги угнетателей, и в этом городке, где верят в простое и быстрое правосудие. Слишком легко искупать грехи, неохотно приютив сироту. Мне требовались задачи посложнее.
— Ух, Адриан, ну и вид у тебя…
— Я уезжаю, тетушка.
— И правильно. Я удивлена, что ты остался помогать.
— Вы все знаете?
— Беглая девчонка. Пропадающая еда. Племянник, которого вечно нету дома. Днями напролет сидит в церкви, словно монах какой. Я думала, ты уедешь сразу, как только они… Вчера в полдень…
— Так вы знали, что она в церкви, и послали их туда?
— Да, чтобы спасти тебя от нее.
— Спасти?
— Теперь ты свободен, — чеканно сказала она.
О чем говорить после этих постыдных слов?
— Тетушка, мне нужны деньги.
— Деньги? — Она подняла брови и опустила вазу на ступеньку. — Полстраны затопило, а ты думаешь о деньгах?
— Остался второй ребенок.
Она шумно вздохнула и задумалась.
— Если я кое-что тебе дам, обещаешь забрать его отсюда?
— Думаете, я оставлю его добрым людям Делфзейла?
— Тогда вот, возьми. — Тетя протянула мне картину. — Продай в Амстердаме. Я дам тебе все документы. Она любила эту картину, несмотря на все свои слезы. — Тетушкин подбородок задрожал. — Мне от нее больше нет никакой радости.
— А что с моими чертежами?
— Я сберегла их. Они наверху.
— Передайте их в Водный совет.
Я поднялся, взял картину, купчую грамоту, одеяло, рюкзак с книгами и четверть головки сыра, которую протянула мне Рика, погрузил все в дядюшкину лодку и отчалил от дома. Тетя провожала меня, выглядывая из верхнего окна, как из ковчега.
— Помните, тетушка, — сказал я ей на прощание, — когда Господь раскаялся, что создал человека, то навел на землю потоп?
Я забрался на колокольню, сменил малышу пеленки, накормил его, завернул в синий платок, потом в одеяло и отнес в лодку, на корму, так, чтобы постоянно видеть ребенка при гребле. Рядом с ним я положил картину и рюкзак и накрыл все вторым одеялом, соорудив маленький шатер. Измученный, плыл я прочь из Делфзейла, прочь от здешней мутной правды.
Поначалу река брала верх и несла меня назад по течению, пока я не научился различать быструю воду и избегать ее, держась ближе к берегу. Руки сводило судорогой так, что порой приходилось бросать весла. Уши болели от холодного ветра.
Дальше от моря, у Солвенда, вода успокоилась, и мерное качание лодки убаюкало малыша. Ветер разогнал тучи, и вода серебрилась под солнечными лучами. Спокойная, неподвижная и все же страшно коварная вода. Когда она сойдет, поля будут покрыты морским песком, а почва просолится настолько, что годы не даст урожая. Все мои гордые мечты о человеке, который, вооружившись научными знаниями, покоряет природу, развеялись в ничто. Время бежит наперегонки с человеком. Моя улучшенная мельница появится многими годами позже, а мы с Алеттой родились многими годами раньше.
«Гораздо лучше таких, как она» — это неправда! Я не сражался с армией демонов — я всего лишь плыл по течению, а она… Она никогда не поддавалась страху и унынию. Я любил в механизмах детали, а не центральное колесо, приводящее детали в движение. Не я тогда стоял внутри мельницы, потрясенный силой вращающегося колеса. Все то незыблемое и вечное, что я вынес из университета, уплывало прочь, и Бог казался теперь гораздо дальше от понимания, чем прежде.
Я добрался до Аппингедама за полдень; здесь тоже все затопило. Люди сновали туда-сюда на лодках, спеша подобрать свое добро до ранних сумерек. За городом, в деревеньке Олинг, два ребенка высовывались из верхнего окна, показывали на меня и весело кричали: «Святой Николай! Святой Николай!»
— Нет ли у вас молока? — крикнул я.
Они только хихикнули.
Я повторил просьбу, и дети исчезли с подоконника. На видневшейся из-под воды двери, окруженной плющом, была изображена картина из сельской жизни, как любят делать южане. В окне появилась женщина и опустила ведро, в котором был глиняный кувшин с молоком. Я взял кувшин, поблагодарил ее, отплыл за сарай и привязал лодку к дереву. Я опускал край рукава в молоко и капал им в рот ребенку.
Жаль, я не знал ни одной колыбельной, ни одной нежной песни, которые матери поют своим детям. Я рылся в памяти, но на ум приходил только хвалебный гимн.
«Благословен вовеки тот, — тихо начал я, улыбаясь малышу и капая молоко ему в рот, — кто милость всем живущим шлет».
Эта женщина принесла молоко без всяких вопросов. Я сглотнул комок в горле. Здесь живут счастливые дети. Здесь ему место.
«Кто мир наполнил добротой».
В первый и последний раз пел я песенку сыну. Мой голос перешел в едва слышный шепот.
«Отец, и Сын, и Дух Святой»[21].
Вечером к дому приплыл мужчина, привязал лодку к коньку на крыше, протянул через окно испуганную курицу, а потом влез сам. Я выудил из рюкзака огрызок карандаша и написал на обратной стороне купчей: «Продайте картину. Накормите ребенка». Потом завернул малыша, бумагу и капустный лист в одеяло — и, обессиленный и убаюканный тихим плеском воды о борт лодки, уснул.
Проснулся я уже в темноте. Положил свой бесценный груз в чужую лодку, прикрыл картиной и одеялом, а затем взялся за весла.
Удаляясь, я слышал, как лодка касается дома, покачиваясь на воде, словно робко стучится, возвещая о необычном подарке. Я готов был тогда грести хоть до самого Гронингена — лишь бы снова почувствовать твердую землю под ногами.
Что до такого исхода, то не знаю — не кощунственно ли воздавать за него хвалу Господу.
Адриан Кёйперс, коллеж философии и естественных наук, Гронингенский университет, канун дня св. Николая, 5 декабря 1747 года.
Весь день лил дождь.
Портрет
Йаоханнеса радушно приняли в роскошном кирпичном особняке Питера Класа ван Рёйвена на берегу старейшего делфтского канала и проводили в приемную со знакомыми деревянными стенами. Последние десять лет он одну за другой носил сюда свои картины.
— Хозяин сейчас занят, — сказала ему молодая служанка. — Скажите, по какому вы делу, я передам.
— Да так, хотел увидеть картины.
Служанка хихикнула.
— Вы? Вы еще на них не насмотрелись? — Она провела его в большой зал. — Я скажу ему, что вы здесь.
Оставлен один — как раз то, о чем он мечтал. Его картины мягким светом грели зал со всех сторон.
Крупный «Вид Делфта» одиноко сиял с дальней стены. Затишье перед тем, как город проснется. Свет, единственный актер, любовно ласкает далекую башню Ньиве Керк и желтые крыши вдали. А на переднем плане — городская стена, Снидамские и Роттердамские ворота и даже рыбачьи лодки — неподвижны, темны, прикрыты облаком, все еще спят. Увидит ли кто в этом запечатленном моменте величие Господне? Издалека глаз охватывал картину целиком. Йоханнес подошел ближе и как будто взаправду приблизился к городу. Он и не знал этого волшебного ощущения прежде, когда писал картину из комнатенки по другую сторону реки.
О, чего бы он теперь ни отдал ради той конурки, ради ее заветной тишины. Сейчас приходилось работать в общей комнате их жалкого жилища на рыночной площади. Постоянно под ногами сновали дети, громыхая кломпами по полу. Мальчики то и дело издавали боевые крики, девочки ссорились, деля между собой домашние обязанности. Надрывный кашель маленькой Гертруды. Плач младенца. Шумная таверна матери через стену и пьяница шурин Виллем, голосящий что-то нечленораздельное из коридора.
А Ян мечтал о тишине. Любой неожиданный звук — и мазок может лечь под неверным углом. Свет не так будет падать на бороздки от кисти, и придется класть новые мазки. Исправленный участок возвысится над холстом примерно на толщину шелковой нити — тут уж ничего не поделаешь. И всякий раз, смотря на картину, Ян будет видеть кричащие ошибки. Ошибки, которые, заметь он их сейчас, лишили бы его сил.
Вместо ошибок он теперь выискивал на картине самые удачные, точные, выверенные участки, признаки состоявшегося мастера. Да, вот отсюда глаз радовала приятная синева крыши на Роттердамских воротах, а вот тут, спереди, густые мазки передают рельеф черепичных крыш. Хорошо, что ни говори. Но не случаен ли этот успех?
Что-то в зале изменилось с последнего раза. Что же? Ян обвел глазами вокруг. Ну конечно! Питер перевесил «Улочку» поближе к «Виду Делфта». И впрямь удачное соседство: простота тихой улицы и широкий размах целого города. Кровь быстрее побежала по жилам. Вон та кричащая красная ставня — венецианский кармин, — близость людей, неторопливо занимающихся своим делом, — как правдиво все это смотрится. На бровке тротуара спиной к зрителю уселась девочка в буром платье (натуральная умбра), так что оно раздулось сзади, будто огромная тыква. Ян улыбнулся. Сколько раз он видел своих дочерей, точно так же сидящих и чем-то целиком поглощенных.
Только нужны ли кому-нибудь еще образы простых людей, неспешно занимающихся своими делами? Добавит ли новая картина скромной порции мяса на обеденном столе у художника?
Сзади послышался стук каблуков по мрамору. Ян обернулся.
— Как здоровье, Питер? — спросил он хозяина.
— Ничего, ничего.
— А пивоварня?
— Замечательно. Дело растет как на дрожжах.
Питер предложил Яну бокал вина из пузатого графина, но художник жестом отказался.
— Итак, ты задумал новую картину и пришел подразнить меня рассказами?
— Нет, пока ничего нового. Я все еще решаю.
— Да чего тут решать? Просто усади Катерину или одну из своих дочерей — и пиши! Кисть сама справится.
Ян фыркнул от такой наивности.
— Знаю-знаю, — усмехнулся пивовар. — По-твоему, каждая картина должна нести какую-то особую правду.
— Ну, или хотя бы дополнять действительность.
Чтобы полотно впитало в себя даже крупицу правды, требовалось время на раздумья, порой не один месяц кажущейся бездеятельности. Нельзя приказать себе найти правду — однако можно целиком отдать себя работе над картиной, забыть обо всем вокруг, как та девочка на тротуаре, душой и телом предавшаяся своему занятию. Только сейчас он не мог решиться ни на один сюжет, всякий раз бичуя себя за гордыню.
— Человеку отведено жизни лишь на несколько картин, — сказал Ян. — Нужно правильно выбирать.
— Да уж, выбирать ты мастер. Признайся, тебе просто нравится, чтобы я ждал.
Художник горько усмехнулся этой шутке. Если бы Питер знал, как тяжело приходится между картинами, как всякий раз трепещешь от неотвратимого приближения конца. Заканчивая очередное полотно, Ян, к своему стыду, страшился возвращения в семью, к домашнему очагу. За работой семья расплывалась в небытие, а вот между картинами возвращалась, и с ней возвращалась ответственность.
— Брат предложил мне торговать у него шелком, — сказал Ян. — Я кое-что знаю об этом деле. Мой отец был ткачом.
Питер зажег изогнутую фарфоровую трубку и глубоко затянулся. Его лицо посерьезнело.
— А у тебя ведь есть долг, знаешь ли.
Ян знал. Двести гульденов, взятые под залог двух ненаписанных картин, которые он продаст либо Питеру, либо любому другому. А между тем Ян пришел просить еще двести.
— Я знаю. Как раз ищу сюжет.
— Нет-нет, я не про этот долг говорю — я про долг перед миром в целом. Долг таланта.
«Да-да, продолжай, — про себя просил его Ян. — Убеди меня». Он смотрел на теплый свет, льющийся по рукам девушки с письмом, сидевшей у открытого окна.
— Зачем миру нужна еще одна картина одинокой женщины в комнате? Или сотня таких картин?
Это был опасный вопрос. Может, не стоило его задавать, и все-таки Ян отчаянно желал услышать ответ, который рассеял бы его неуверенность, эту проклятую спутницу, лежащую по ночам, в темноте, между ним и Катериной и отравляющую его радостные мечты о новой картине.
— Мир сам не знает, что ему нужно, — ответил Питер, — Придет время, и кому-то потребуется твоя новая картина женщины у окна.
— Но цена…
И Ян говорил не о выручке за картину. Цена для его семьи. Цена для Катерины, которой он так целиком и не достался: даже наедине с ней он думал о картинах. Цена для малышки Гертруды, которая из-за плохой одежды или слабого огня в камине заболела чахоткой и таяла на глазах. Каждая новая картина, каждый месяц, упущенный для торговли шелком, дорого стоили его близким.
— Ну, раз не с рассказами о новой картине, то зачем же ты пожаловал ко мне, мастер Ян?
— Я… — Язык не поворачивался назвать истинную причину. — Я просто зашел посмотреть на свои работы.
— А, это пожалуйста, друг мой. — Питер хлопнул его по спине. — Мои двери всегда для тебя открыты — приходи, когда пожелаешь. А сейчас, если ты не против, мне пора.
Он прошел к дверям, потом обернулся:
— Пиши, Йоханнес, пиши!
Ян улыбнулся и кивнул. Только другому художнику дано понять его трудности, постоянный поиск компромиссов между законами природы и стремлением проникнуть в самую суть своих персонажей — компромиссов, без которых он навсегда бы остался на задворках искусства, обычным провинциальным художником. С незаметным вкладом в живопись и жалкой горсткой последователей.
Одну за другой рассматривал он картины — девять только в этом зале, — впитывая, как истощенный путник, молоко сердечных чувств. Умиротворенный, он застыл перед «Молочницей». Ее простенькая комнатенка с разбитым окном, крошащейся штукатуркой на стенах, ломтями хлеба на столе — и сколько достоинства в ее действии, в переливании молока, столь живом, что Яну слышался плеск молока на дне глиняной миски. Да! А работая над складками ее рукава, он не просто смешивал краски, как всякий другой художник; он накладывал их с разной толщиной. Когда Ян впервые открыл этот прием, то знал: он больше никогда не будет писать одежду по-прежнему. Это случилось всего через несколько суток после рождения одного из детей — Франциса, а может, Беатрис, — и он разрывался от восторга, не ведая, с кем поделиться столь сокровенным знанием: Катерина бы не поняла. Одно это открытие должно было убедить его работать дальше, но сейчас, в период тоскливого болезненного бездействия перед новым озарением, Ян вынужден признать: оно не убеждало.
Он шел мимо открытых мастерских близ Остендского канала, чувствуя, что ищет что-то, хотя что, Ян не знал. Он прошел мимо свечника, опускающего фитили в дымящийся чан, мимо кузнеца, седельника, плотника, мимо валяльщика, сбивающего сукно в деревянном корыте, мимо столяра, выстругивающего нечто за рядами кломпов и деревянных часов, мисок и ложек, мимо художника по фарфору, расписывающего горы посуды все теми же синими каналами, ивами и ветряными мельницами. Все ремесленники вроде довольны своими станками, корытами, наковальнями. Ни в одном из них Ян не чувствовал родственной души.
Он вспомнил отца, как много лет назад тот склонялся над ткацким станком, воспроизводя на ткани собственные мелкие узоры. Получал ли отец от этого удовольствие?
Из-за угла донесся частый стук деревянных башмаков по булыжной мостовой, и не успел Ян остановиться, как в него врезалась девчушка в растрепанных юбках.
— Магдалина! — узнал он в ней свою вторую дочь.
— Папа!
— Куда это ты несешься? Разве воспитанные девочки так поступают?
Ян пригладил ей волосы.
— На городскую стену. Мама разрешила. Я все свои дела сделала, а ты ушел — не надо было за маленькими следить. Я скоро вернусь. Только одним глазком посмотрю.
— Знаю. Знаю, как тебе там нравится.
Магдалина выбежала из дома, позабыв про чепчик, и теперь ветер играл ее распущенными волосами. Солнечные лучи пробивались сквозь них, ее фигурка казалась воздушной.
— Пойдем со мной, папа, ну пожалуйста! Оттуда столько всего видно!
Она аж дрожала от нетерпения.
Ян усмехнулся и покачал головой. Сегодня утром он уже играл с ребятами в кегли: они так просили его, говорили, будто он обещал. А он и вправду обещал. Только сейчас день уже на исходе, и ему еще много надо успеть.
— Как-нибудь в другой раз. Смотри, возвращайся до заката.
Магдалина побежала дальше, только пятки засверкали. Пятки старых башмаков, сношенные до тонких полосок.
Ее лицо, исполненное ожидания и надежды, — с таким же выражением она просила его прошлой зимой пойти кататься на парусных санях. Тогда он тоже отказался, а зима выдалась на редкость теплой, лед треснул, и они упустили возможность. Ему было больно и обидно. Это его вина, что они живут так плохо: вечно он чем-то занят. От этих мыслей он даже чуть не пошел догонять Магдалину, но передумал и двинулся дальше, выбирая окольные пути под зелеными липами вдоль канала.
Он обошел рыночную площадь, чтоб не попасться на глаза пекарю Хендрику ван Бёйтену. Вчера от Хендрика пришел счет на невероятную сумму: четыреста восемьдесят гульденов. Больше, чем годичная выручка ремесленника. Были и еще долги — бакалейщику, ткачу. А теперь эти изношенные башмаки швырнули его в пучину отчаяния.
Влекомый невидимой нитью, Йоханнес очутился перед домом кузена, с облегчением узнал, что его нет, быстро перешел через торговые ряды и вышел на Папистский угол улицы Ауде-Лангендейк, где жила его знатная теща, Мария Тинс. Он замешкался было у лакированной дубовой двери и тут вспомнил о башмаках Магдалины и взялся за серебряный молоток. Без долгих разговоров, прямо с порога, он спросил, не даст ли теща ему двести гульденов в залог следующей картины.
Она прищурилась, гладя Яну за плечо, как будто что-то позади него — клавесин или трещина в стене — были гораздо интереснее и важнее. Так она заставляла его чувствовать себя попрошайкой, хотя сама была должна ему не меньше, пусть и не деньгами. Не раз он спасал ее безмозглого сына Виллема от тюрьмы за нарушение порядка в общественных местах: стоило Виллему увидеть на рыночной площади Катерину, свою единственную сестру, как он спускал штаны, нагибался и хохотал. А сколько раз ему, Яну, приходилось разнимать драчунов в материнской таверне «Мехелен», когда Виллем обычно оказывался в самой гуще событий. Несмотря на все это, Мария Тинс считала Яна недостойным. Но сейчас он отважно смотрел ей в лицо. Даже дома тяжелые рубиновые серьги оттягивали ей уши.
— Меня наконец-то признали в Делфте, — сказал он.
— Кто? Один пекарь? Один пивовар? Что, кто-то дает заказы? Просят расписать церковь?
— Нет, конечно! Протестантская церковь никогда не наймет обращенного католика.
Она сжала губы и негодующе тряхнула двойным подбородком. Теща потребовала от Яна принять католичество и принести ей подтверждение епископа, прежде чем она отдаст за него Катерину. Ян охотно согласился, невзирая на все предсказуемые последствия для его карьеры.
— Меня избрали старостой гильдии святого Луки, — сказал он.
— Слыхала, слыхала. Мои поздравления. За это хоть что-нибудь платят?
Тонкие косточки ходили ходуном на ее руке, пока она барабанила тяжелыми от драгоценностей пальцами по столу.
— Немного. Хотя, может быть, что-то другое из этого выйдет.
— Может быть, может быть… Все ты за свое. А меж тем Катерина ждет ребенка.
— Да, ждет, несмотря на выходки вашего сына. На той неделе он с палкой гонялся за ней по рыночной площади. Перепугал до полусмерти. Она теперь из дома носу не показывает.
— Мне горько об этом слышать, Ян. Виллем всегда был диким, всегда завистливым.
— Это уже не зависть. Он опасен — пусть не для других, но уж точно для самого себя. И как вы можете его защищать, когда он и на вас нападал?
Она потерла виски, отгоняя воспоминания.
— Что делать? Это он перенял от отца.
— А мне-то что делать?
— Если хочешь, чтобы дома на столе лежали не только сухари, забудь о картинах. Наймись в гончарню расписывать посуду. Уж сейчас-то, с твоим новым положением в гильдии, тебя точно возьмут. Еще не поздно превратить твое умение в деньги. В хлеб, картошку и мясо. В одежду и обувь для детей.
Тарелка за тарелкой, блюдо за блюдом. Он представил посуду, выстроенную перед ним в безжалостную стену, и почувствовал, как слабеют колени. Ян посмотрел по сторонам: он часто находил вдохновение в убранстве комнаты. Вещи способны так умело передавать чувства. Внимание привлек золоченый кувшин на красной скатерти, он стоял словно на алтаре и отражал свет всевозможными оттенками, от алого до золотисто-желтого.
— Какой красивый кувшин. У вас найдется ему замена? Мне нравится, как скатерть отражается в золоте. Может, я взял бы его…
— Бери, бери. И скатерть тоже забирай. — Она махнула рукой на кувшин, однако Ян знал, что теща и на него рукой махнула. — Господи, за что мне такой зять? Что сын, что зять — оба безответственные, оба ненормальные.
— А деньги? — напомнил он.
— Я подумаю. Не обещаю. Виллем разъярится, если решит, что я тебе покровительствую, и опять начнет крушить дом. Он не забыл о прошлом займе. И считает, я принесу вам изрядную сумму на крестины. Только я не смогу. Бейерланды задерживают с выплатой.
— Если бы снять маленькую студию, где меня никто не будет отвлекать, я бы, наверное, писал больше…
— Говорю же тебе, подумаю.
По дороге домой с наступающими сумерками в душе Яна росла тупая душевная боль. Он возвращался без единого стюйвера. Как он посмотрит в глаза Катерине? Все, решено, сегодня он скажет ей, что найдет другую работу. Не в гончарне, нет, пойти туда — несмываемый позор; никто никогда не назовет его больше художником, только ремесленником. Лучше заняться чем-нибудь совершенно новым. Скажем, продавать ткани у кузена. Да, завтра же он и начнет. Всего на пару лет, может, меньше, если дела пойдут хорошо. Хотя он и так слишком долго собирается с мыслями перед каждой картиной; оторваться — значит, нанести непоправимый удар по его мастерству. Долго же потом придется ползти назад.
Едва он свернул к себе на улицу, как услышал крики из собственного дома. Соседи толпились снаружи. Ян распахнул дверь. Дети визжали, Гертруда и малыш плакали, а Виллем бил Катерину палкой. Она упала на прялку и сжалась в клубок, пытаясь защитить нерожденное дитя. Ян размахнулся и с сокрушительной силой ударил Виллема кувшином по голове. Он оттащил оглушенного шурина от Катерины и что было сил двинул его в живот. Виллем рухнул на мольберт. Ян пнул его ногой, заломил руки за спину и навалился сверху.
— Францис, живо неси сюда веревки, все, что у нас есть. Мария, Корнелия, помогите матери.
Ян связал еще не пришедшего в себя Виллема по рукам и ногам, привязал его к стулу, а стул — к лестнице. Потом его взгляд упал на палку: с одного конца торчал железный гвоздь.
— Йоханнес, сейчас же приведи сюда ван Овергау. Он вправлял тебе руку, помнишь? Как выйдешь из дома, беги в сторону церкви; четвертый дом — его. Магдалина? Где ее носит?! Беатрис! Давай за бабушкой Марией. И прихвати фонарь, дочка, там темно.
Комната вертелась вокруг железного гвоздя, пока Ян не услышал, как Катерина шепчет старшим дочерям: «Ничего, ничего. Ничего страшного». Она уже заглаживала перед детьми вину Виллема. «Он же их дядя как-никак», — сказала бы она. Ян взял у старшей дочери, Марии, мокрое полотенце и протер руку Катерины там, где гвоздь оставил длинный глубокий след.
— С чего все началось?
— Он ворвался сюда, кричал как ненормальный…
Виллем зашевелился и начал выкрикивать что-то о дьяволице. Ян заткнул ему рот красной скатертью и вернулся к Катерине, виня себя за собственную беспечность. Останься он дома, такого бы не произошло. Терзаемый муками совести, Ян отер лицо и шею Катерины полотенцем.
— Со мной ничего страшного, — повторила она.
— Да, но ребенок…
В комнате царил незнакомый, тревожный дух. Перевернутый стул, сломанная прялка, перекошенная картина, изображавшая Христа у Марфы и Марии, сброшенная со стола скатерть, глиняные осколки на полу, разлитый суп, качающаяся колыбель и из нее — плач забытого ребенка. Треснул привычный мир. Колыбель ритмично поскрипывала. Город, нарисованный на боку колыбели, когда Ян готовился к «Виду Делфта», то ловил отблески свечного света, то исчезал в темноте, то снова ловил, то опять исчезал. Ян долго не решался остановить колыбель. «Она пережила ребенка, для которого была сделана, — мою бабку», — вдруг подумал Ян. Как же так получается, что вещи живут дольше людей?
Он взял девочку на руки, прижался щекой к ее нежным волосикам, качался из стороны в сторону, успокаивая малышку, вдыхал ее молочный запах, чувствовал, как ее ротик пытается сосать его шею.
Ван Овергау не заставил себя долго ждать. Он осмотрел Катерину и перевязал рану. Мария Тинс же медлила, точно говорила Яну, что не ему ее торопить. Как только она вошла, то обвела комнату широко раскрытыми глазами и метнулась к кровати Катерины.
— Со мной все хорошо, матушка.
Ян выложил Марии Тинс начистоту:
— Я могу созвать сюда магистратов и упечь его за решетку. Или мы сами поместим его в одно исправительное заведение.
— Куда?
— К Тэрлингу.
Виллем отчаянно задергался и попытался заговорить.
Она колебалась. Ян протянул ей палку с гвоздем.
— У Тэрлинга лучше, чем в тюрьме или в сумасшедшем доме.
Испуг показался в ее глазах. Она решилась. Теща оказалась у Яна в неоплатном долгу. Жалобно, не смея посмотреть на сына, мычащего через кляп, Мария Тинс кивнула. Не дожидаясь, пока она передумает, Ян попросил соседа позвать Тэрлинга.
— Да, и скажи, чтобы захватил кандалы.
Ночь Ян и Катерина провели в немом потрясении. Наутро случился выкидыш. Ян днями сидел у постели Катерины. Не зная, чем помочь, он носил ей чашки бульона, починил прялку. И всю неделю просыпался по ночам от криков Гертруды, шатаясь подходил к ее кровати и прижимал к себе горячее мокрое тельце, пока отцовские объятия и стакан теплого молока не успокаивали ее настолько, чтобы позабыть о кошмаре и вернуться ко сну.
Старшие дети быстро возобновили шумные игры и споры. Слишком быстро. Двери хлопали: оказавшись снаружи, дети хотели в дом, а попав внутрь — на улицу. Двое младших сыновей, Францис и Игнациус, принялись подражать случившемуся и устраивали настоящие бои, ударяя друг друга чашками по голове, пихая в живот и связывая побежденного. Они спорили, кто будет папой, а кто дядей Виллемом, отбирая друг у друга чашку, пока игра не перерастала в драку и Яну не приходилось их разнимать.
Он согласился присматривать за Виллемом в исправительном доме. Сторож брату своему[22] — вряд ли лучший способ попасть в Царствие Небесное. Может, живопись откроет дорогу?
Его жизнь утекала.
Мария Тинс дала ему триста гульденов. Пусть это и не заработанные деньги; главное, они давали передышку. Он выплатил часть долга пекарю и бакалейщику, купил детям новые башмаки и парусные сани, а себе — красок и терпентина. На этом деньги кончились.
Если бы только он мог работать быстрее. «Пиши, Йоханнес, пиши», — твердил он себе. Но если работать быстрее, откуда взять время на созерцание и размышление — два единственных способа запечатлеть жизнь так, чтобы ее понять? Ведь все, что он пишет: корзина с хлебом, кувшин, шкатулка с драгоценностями, медное ведро — разве это не сама жизнь?
Он толок в ступке ультрамарин, любуясь глубиной синего цвета, насыщенного, как измельченный лазурит, когда из комнаты донесся детский гам. Его дочь, Магдалина. Давно уж должна была перерасти эти ребячества. Стоило ему войти в комнату, как дети замерли. Никто не смел шелохнуться, даже Игнациус. Благословенная тишина, и только поскрипывание ножек стула по полу, пока Магдалина пыталась отодвинуться подальше от отцовского гнева.
В следующий миг она подняла голову. Щеки горели от стыда, в глазах читалось раскаяние. Ян смягчился. Она стоит здесь, как Божий дар. Синяя кофта топорщилась, словно взволнованное небо. Было в ней что-то, чего он никак не мог уловить: скрытая внутренняя жизнь. Его не переставали удивлять эти полеты фантазии, эта вечная потребность куда-то бежать. Остановить бы на мгновение эту жизнь, чтобы перенести ее на картину. И оставить человечеству навсегда. Да.
Но можно ли писать то, чего он не понимает? О чем даже не знает?
— Сядь.
Только попытка принесет ответ.
Стул опять скрипнул по полу, когда дочь села за стол у окна.
Небесная голубизна ее глаз — как же он прежде этого не замечал? Простое лицо, а на нем нетерпение, которое она старательно сдерживала. «Для меня», — подумал Ян. Передать это лицо — честно, без гордости, перешагнув через знакомые приемы, — в этом была его задача, в этом он видел свой долг, как говорил Питер. Ее лицо отражалось в открытом окне; в одном из стекол светилась ее щека, будто смешанная с жемчужной пылью. Он слегка приоткрыл окно, устанавливая нужный угол. Ветер пошевелил волосы на ее виске.
— Если обещаешь сидеть смирно, я тебя напишу, Магдалина. Но только если ты перестанешь шуметь.
Ее глаза широко распахнулись, и она плотно сжала губы, борясь с улыбкой, которая грозила прорваться в слова. Он принес корзинку для шитья и поставил на столе, размышляя о ее короткой и все же дорогой истории: эту корзинку Катерина выбрала у торговца из десятка других. Он пододвинул к свету Гертрудин стакан молока — стакан, который сегодня кто-то вымыл, и вчера вымыл, и третьего дня. Рядом со стаканом, чуть-чуть позади, он поместил кувшин: тот сверкал на свету и отражал синий рукав Магдалины. Нет. Кувшин, конечно, красивый, однако без него выйдет правдивее. Ян убрал его и положил Магдалине на колени рубашку брата, к которой надо было пришить пуговицы. Выровнял ее плечи, ощущая, как они напрягаются и потом расслабляются под его ладонями. Пригладил платье и белый льняной чепчик, сшитый Катериной. Ее рука легла тыльной стороной кисти на рубашку, пальцы разжались. Замечательно! Всякое действие позабыто; рука в покое.
Жена поспешила забрать стакан с молоком.
— Нет-нет, оставь его, Катерина. Прямо там, на свету. Он наполняет всю картину святостью простой жизни.
«Сцена подготовлена идеально», — думал он, боясь впасть в грех гордыни. Он отступил, глубоко вздохнул — и в золотисто-медовом свете ему предстала замершей скромная, незримая работа женщин, хранящих домашний очаг. Этот портрет, думал он, может быть его единственным взглядом в Царствие Небесное.
Взгляд Магдалины
Как-то к вечеру, закончив стирку и отпросившись у матушки, Магдалина помчалась от их дома близ Ньиве Керк — Новой церкви — через рыночную площадь, мимо пекарни ван Бёйтена, по двум каменным мостам через каналы, мимо кузницы до самой городской стены, где она карабкалась вверх по охровым ступеням, каждая высотой ей до колена, пока не поднялась на свое любимое место во всем Делфте — на круглую сторожевую площадку. С этой высоты чего только не увидишь! О, если бы она могла писать картины! Посмотришь в одну сторону — Снидамские ворота, за которыми близнецами высятся башенки Роттердамских ворот, а за ними — корабли с причудливыми, бурыми, как яичная скорлупа, парусами поднимаются от моря по могучей реке Ски. Посмотришь в другую — там по картофельным полям движутся деревянные плуги, отбрасывая на землю тени, словно костлявые пальцы, и зеленые сады, правильные, какими матушка желала бы видеть своих одиннадцать чад, и дым от гончарен и кирпичных заводов. А что дальше, она не знала. Не знала…
Так Магдалина стояла и смотрела во все глаза. Позади скрипела мельница, работавшая без устали, точно сердце, на горьком морском ветру. Внизу желтоватой лентой извивалась река Ски. Чем напряженнее вглядывалась Магдалина, тем явственнее виделось ей, что река берет свой цвет от неба. Лодки вдоль пристаней покачивались на волнах, звенели цепями, били друг друга о борт — все эти звуки сливались в ее любимую музыку. И не то чтобы сегодня был особенный день: она любила стоять на сторожевой площадке в любую погоду. Даже дождь, стучащий по серому морю и серым мостам, заливающий лицо и руки холодной водой, наполнял Магдалину необъяснимым счастьем.
Магдалина наклонилась над прорезью в стене — и в тот же миг порыв ветра задрал ее юбки. Мужчины на мосту оживленно закричали непонятные слова. Не стоит спрашивать у матушки, что они значат: матушка не хотела, чтобы Магдалина сюда ходила. Она говорит, сторожевая площадка полна охранников, курящих табак, взволнованно говорит, будто пытается напугать. Только как здесь можно чего-то бояться?
Здесь, высоко-высоко над городом, Магдалина думала о том, о чем не догадывались ее близкие. Никто и не узнает, размышляла она, разве что прочтут по ее лицу или она сама наберется храбрости обо всем рассказать. Здесь ее посещали мысли, от которых захватывало дух: сокровенные желания или мимолетные фантазии. Она мечтала, чтобы кто-то другой делал работу по дому и у нее было время каждый день перед ужином бегать на городскую стену или на кладбище при Старой церкви — поднимать опавшие листья с могилы брата. Она мечтала, чтобы малышка не плакала, а мальчики не ссорились, не дрались и не бегали с криками по дому (отец наверняка мечтал о том же самом). Она мечтала, чтобы не надо было мыть столько посуды: тринадцать тарелок после каждой еды. Она мечтала, чтобы в солнечный день на рыночной площади ее волосы сияли ярким золотистым цветом, как у Гертруды. Она мечтала сесть в карету и отправиться по невиданным землям, изображенным на отцовской карте.
Она вспоминала, как рассвирепел бакалейщик, увидев в ее ладони четыре гульдена: все, что дала матушка на покрытие долга, который, насколько ей известно, переваливал за сотню. Если бы только он не кричал — его дыхание едко било чесноком в нос. Пекарь Хендрик ван Бёйтен был добрее. Дважды он списывал отцовские долги за картины. А сколько раз он угощал ее только что выпеченными булками и иногда даже мазал сверху медом!.. Если бы бакалейщик был таким же…
И если бы отец чаще брал на Ски парусные сани. Он купил замечательные сани, с высоким белым парусом. «Восемьдесят гульденов, — пробормотала тогда матушка. — На всю зиму еды хватило бы». Зимой по воскресным дням, если позволяла погода и отец не работал над очередной картиной, он брал детей кататься в санях по хрустальному льду на каналах. Магдалина и не представляла, что бывает такая скорость! Колкий холодный воздух вдувал радость и надежду в уши и в открытый рот.
Она вспомнила, как однажды утром, наблюдая за отцом, смешивавшим свинцовые белила с едва заметной точкой желтой краски, чтобы передать цвет гусиного пера, которым матушка писала письмо, пустилась в мечты о том, как когда-нибудь будет сама писать письма, полные интересных новостей и нежных слов, подписываясь: «Вечно любящая Магдалина Элизабет».
Отец часто писал матушку и один раз — Марию, обернув ее голову золотистым тюрбаном и положив на плечи белую атласную шаль. Пятнадцатилетняя Мария была старше Магдалины всего на одиннадцать месяцев. Здорово, наверное, одеться, как она, нацепить жемчужные сережки и позволить отцу усадить ее в нужную позу. Но желаннее всего, чтобы отец смотрел только на нее, Магдалину, не уделяя больше никому внимания.
И была у нее еще одна мечта, перед которой блекли остальные. Магдалина мечтала писать картины. «Да, — говорила она себе, перегибаясь через край стены, — я хочу писать. Вот это — и все остальное». Как широко простирался отсюда мир! Его красота складывалась не только из цвета и формы, а еще из размеров, размаха, из самого воздуха — и поэтому казалась непередаваемой. Если б одного желания было достаточно! Отец лишь загадочно улыбался, когда она говорила, что хочет писать, — словно Магдалина хотела плавать по морям (что, впрочем, она тоже хотела, ведь прежде чем писать, надо посмотреть на мир). А стоило матушке об этом услышать, как она тотчас вручала дочери корзинку с шитьем.
Часто, затаившись в углу комнаты, она наблюдала, как отец работает. Поскольку он хотел тишины да еще малышня сновала туда-сюда, Магдалина не мучила его вопросами. Все равно он редко отвечал. Тайком она следила, сколько льняного масла он берет, чтобы развести ультрамарин, и как потом накладывает его поверх слоя красно-коричневой краски. И словно по волшебству синий цвет платья выходил теплее, чем на палитре. Он не брал ее с собой на чердак, где растирал в порошок желтый оловянистый свинец, зато частенько посылал ее за свинцом и льняным маслом к аптекарю. На краски всегда находились деньги — только что было отвечать аптекарю, когда он требовал вернуть долг за лекарства для младшего братика?
Ей бы собственные краски и кисти — уж она писала бы не только женщин в тесных комнатушках. Она писала бы их на рынке, на картофельных полях, за беседой, в лодках на Ски и за молитвой в Старой церкви. Она писала бы Ски зимой, когда отцы учат детей кататься на коньках…
Отцы учат детей. Эта мысль оборвала ее мечты.
Не сбыться ее желанию. Здесь, на сторожевой площадке, наблюдая, как облака отбрасывают тени на реку, Магдалина знала: ее доля — мыть посуду да штопать дырки.
Измученная мечтами, она начала спускаться. Надо спешить домой, помочь матушке с ужином.
Так все и шло, пока одним весенним днем, который ничем не отличался от других, разве что днем раньше Магдалина была на городской стене, а по всему Делфту вдоль каналов распустилась липа (зеленые листья светлели от сквозивших солнечных лучей или оставались темными там, где один лист прикрывал другой), не раздался крик. «Не хочу больше штопать! — кричала Магдалина матери, домашним стенам и всему миру. — Хочу творить!»
В комнату зашел отец, взглянул на матушку, потом хмуро — на Магдалину. Она должна была присмирять младших братьев или выгонять их за дверь, если сильно расшалятся, и вот нате вам — громче всех и шумит. Все замерли, даже мальчики. Поначалу Магдалина, оглушенная собственным криком, не смела поднять глаза выше отцовской руки, испачканной ультрамарином. Она любила отца, любила то, что он делал этой рукой, и, как ей казалось, любила то же, что любит отец, хотя они никогда об этом не разговаривали. Ободренная, Магдалина перевела взгляд на его лицо. Оно вдруг смягчилось, словно отец впервые заметил дочь. Он увлек ее к столу у окна, принес швейную корзинку, положил ей на колени рубашку с оторванными пуговицами, приоткрыл окно, потом слегка прикрыл его, нашел угол, под которым отражалось ее лицо.
— Если обещаешь сидеть смирно, я тебя напишу, Магдалина. Но только если ты перестанешь шуметь.
Он повернул ей плечи, и теплые руки на мгновение задержались, успокаивая ее. Матушка хотела было убрать со стола стакан с молоком.
— Нет-нет, оставь его, Катерина. Прямо там, на свету.
Так она позировала целыми днями, неподвижная, насколько хватало сил, и вместе с тем обязанная пришивать пуговицы, чтобы не прогневать матушку. Время будто застыло. Всякий предмет, попадавший ей на глаза, накрепко врезался в память. Скатерть на столе, корзинка, стакан с молоком, каждый день выставляемый в ту же точку, пожелтевшая карта на стене — ей приятно было думать, что все эти вещи, которые она трогала, которые знает как свои пять пальцев, окажутся на картине. На них будут смотреть, восхищаться ими, может, даже любить.
Солнечными днями оконные стекла блестели в ее глазах. «Словно драгоценные камни, переплавленные в квадратные полоски», — думала она. Все прозрачные, но каждое слегка отличается по цвету: вот это побелее, это пожелтее, это будто очень-очень разбавленное вино, это как бледный-бледный тюльпан. Магдалину страшно интересовало, как делают стекла, и все-таки она не решалась спросить. Не хотела его отвлекать.
За окном шла бойкая торговля яблоками, салом, метлами, деревянными ведрами. Особенно интересно было смотреть на подносчиков сыра в их красных широкополых шляпах и ослепительно белых халатах. Попарно они таскали носилки, подвешенные им на плечи и прогибающиеся под тяжестью сырных голов. Две белые фигуры, носилки, отбрасывающие коричневую тень на мостовую между ними, сырные круги — до чего удачная бы вышла композиция. На задний план, против здания гильдии, она поместила бы мальчишку с телегой, полной серебристой трески. А на передний план — наверное, пару сизых голубей, клюющих хлебные крошки. Звон колоколов, отбивающих время на Новой церкви, отозвался в ее груди. «Всем это кажется обычным, — думала она. — Но не мне».
Весь месяц она почти не разговаривала: происходящее было важнее слов. Отец потребовал не шуметь — вот она ни звука и не проронила. В сердце защемило, когда она поняла, что отец даже не удивлен этой тишиной, не замечает ее. Магдалина украдкой поглядывала на отца, так и не сумев решить, что она для него значит. Под конец она разобралась, что была ему не интереснее стакана молока.
Может, это все потому, что она не такая красавица, как Мария? Магдалина знала: ее нижняя челюсть слишком выступает вперед, бледные водянистые глаза сидят слишком широко, а на лбу у нее родимое пятно, которое она всегда старалась спрятать под чепчик. Что, если никто не захочет купить картину, что тогда? Вдруг это ее вина, если не захотят, вдруг решат, что она недостаточно красива? Ей так хотелось услышать что-нибудь от отца, но он разговаривал не с ней, а скорее с собой. Говорил, как солнце белит чепчик у нее на лбу, как на шее отражается синий воротник, как в складках ее платья охровый цвет насыщается венецианским кармином. И ничего о ней, кричала себе Магдалина, только о чем-то вокруг нее, о том, чего она не делала, к чему вовсе не имеет отношения. Тогда-то Магдалина поняла несбыточность другой своей мечты: никогда, даже проживи она целую вечность, отец не посмотрит на нее с любовью — только с интересом, как на натурщицу. «Если два человека любят в жизни одно и то же, — рассуждала она, — то они и друг друга должны любить, хотя бы чуть-чуть, хотя бы без слов». И невзирая на душевные муки, видя, с каким интересом он пишет, как глубоко поглощен картиной, Магдалина продолжала тихонько сидеть и смотреть из окна. Лишь позже, когда она увидела картину, то, что было задумано как спокойствие, оказалось скорее похожим на мечтательность.
Пивовар Питер Клас ван Рёйвен, главный покровитель отца, не купил картину. Он увидел ее, но прошел мимо, к другой. Опозоренная, Магдалина за весь вечер не произнесла ни слова. Картину без рамы повесили на кухне, где спали маленькие дети. Потом пришлось отказаться от комнат в таверне «Мехелен» на рыночной площади и переехать в еще меньшие комнатенки у бабушки Марии, на Ауде-Лангендейк. Отец больше не катал их по Ски на парусных санях: он продал сани. Он редко писал: слишком темными и тесными были комнатки, слишком громко кричали дети. А через несколько лет он умер.
Она умывала его в последний раз, трогала его коченеющие пальцы и думала — мысль до того постыдная, что она ее так и не произнесла: ведь какая бы вышла картина, какой памятник — дочь с синим тазиком и влажным полотенцем положила свою руку на руку отца; обессиленная жена спит на испанском стуле, сжимая в руках распятие; а он, отец и муж, смотрит блестящими глазами уже в другой мир. Художник пишет других, но никто так и не написал его, не сохранил его образа. С какой радостью она взялась бы за дело… Но нет, ей не под силу. Ей не хватало умения, а тот, кто мог ее научить, ни разу не предложил.
Несмотря на все просьбы, матушка продала отцовские краски и кисти в гильдию святого Луки. Деньги пошли на покрытие долга. Когда матушка совсем изнемогла от забот, Магдалина решила отнести свою картину пекарю, Хендрику ван Бёйтену. Она знала, что была у него любимицей. И Хендрик принял картину — ее и «Девушку с гйтарой», списав шестьсот семнадцать гульденов и шесть стюйверов, их более чем двухлетний долг за хлеб. Принял с улыбкой — и дал ей теплую булку.
Через год Магдалина вышла замуж за седельника Николаса, первого мужчину, который ее заметил. Трудолюбивый работник, пропахший кожей и маслом, научил ее плотским удовольствиям и, как она вскоре поняла, оказался начисто лишенным воображения. Они переехали в Амстердам, и Магдалина целых двадцать лет не видела картины.
В тысяча шестьсот девяносто шестом году, похоронив последнего ребенка, дочку Магритту, Магдалина прочла в амстердамской газете об аукционе ста тридцати четырех картин разных художников. «Шестнадцатого мая, в час дня, в гостинице «Ауде-Херен», — гласила заметка, — состоится аукцион, на котором будут выставлены картины исключительного мастерства, в том числе двадцать одна прекрасная работа покойного Я. Вермера Делфтского». Всего через неделю. Магдалина вспомнила Хендрика. Конечно, он ведь не обязан держать картины у себя. И ее портрет может быть здесь. Мысль о картине не давала ей заснуть по ночам.
Когда она пришла на аукцион, ее вновь пронзила давно, казалось бы, угасшая детская мечта: запечатлеть на холсте все, что она видит и как она видит. О, сколько лет минуло с тех пор, а у нее нет даже детей, напомнивших бы об ушедших годах. «Стоило ли тогда жить?» — невольно спросила себя Магдалина и испугалась вопроса. Одних желаний оказалось недостаточно. Может, она ошиблась; может, надо было настаивать, чтоб отец передал ей свое мастерство? А может, нет. Надежда, что когда-нибудь с его помощью она научится писать, только усугубила бы муки от родов и смертей. С другой стороны, умей Магдалина писать, она изобразила бы и роды, и смерть, и собственные муки. В ее жизни была бы цель. Только достаточно ли этого — раскрывать правду в искусстве?
Она не знала.
Среди стольких отцовских картин она словно шла по пути своего детства. Окно, залитое медовым светом, испанский стул, карта на стене, глядя на которую она столько мечтала, золоченый кувшин бабушки Марии, парчовая кофточка — обыкновенные вещи находили у Магдалины столь сильный отклик, что казалось, в них была заключена душа.
И вдруг на обрамленном холсте — она! У Магдалины аж ноги подкосились.
Хендрик отдал картину. Хоть пекарь и благоволил к Магдалине, картину он все-таки не оставил.
Совсем еще девочка, она смотрела в окно, вместо того чтобы заниматься шитьем; будто она одним лишь взглядом могла послать свой дух в мир. А башмачки — она совсем про них забыла! Как она любила эти башмачки, считала себя в них настоящей красавицей. Под конец она протерла подошвы до дыр, но пока, недавно купленные, башмачки сверкали пряжками с холста; каждый — источник золотистого света. Радость будто горячим воздухом наполнила ее.
Что ж, пусть она и не красавица, зато в ее лице были наивность, простодушие, ушедшее с годами, застывшее желание в наклоне ее фигуры, мечта в пристальных глазах. Картина словно говорила: эта девочка еще не знает, что жизнь внезапно обрывается, что состоит она по большей части из повторов и лишений, что пуговицы обязательно оторвутся, как бы усердно ни шить, что мечты редко сбываются. Даже сейчас, все еще переполненная желаниями, она просила Николаса пойти с ней, посмотреть, какой она была, когда бегала мечтать на городскую стену, когда надежды только зарождались и жизнь казалась полной возможностей, — но он не стал закрывать на день магазин по прихоти жены.
Она встала на носочки, едва дыша, услышав, как объявили ее картину. Рука в кармане сжалась вокруг двадцати четырех гульденов — часть одолжена у двух соседок, часть тайком взята из шкатулки, где Николас держал деньги на кожу для седел. Это все, что ей удалось собрать, большего она просить не посмела. Он бы все равно сказал, что это глупость.
— Двадцать, — предложил мужчина перед ней.
— Двадцать два, — сказал другой.
— Двадцать четыре! — так быстро и громко крикнула она, что аукционист опешил. Заметил ли он сходство на ее лице? Он не предлагал повышать ставки. Картина достанется ей!
— Двадцать пять.
Внутри ее что-то оборвалось.
Остаток торгов слился для нее в сплошной монотонный шум. Картина ушла к мужчине, который постоянно советовался с женой. Это хороший знак, решила Магдалина, картина отправится в счастливую семью. Сорок семь гульденов. Большинство остальных картин было продано дороже, но и сорок семь ничего. На миг она даже почувствовала гордость. А потом с горечью вспомнила о Хендрике: сорок семь гульденов минус комиссионные даже близко не равны их долгу перед пекарем.
Она шла следом за парой, купившей портрет, по дождливому Амстердаму, желая представиться им, чуть-чуть поговорить, однако затем отстала. У нее теперь такие плохие зубы — а это состоятельные люди. Женщина даже носила чулки. Что она скажет им? Что они подумают о ней? Она не хотела показаться попрошайкой.
Магдалина медленно брела вдоль мокрой каменной стены, на которой радугой играл свет, и вода отражала синеву ее лучшего платья. Платье быстро мокло, и цвет из светло-голубого превращался в насыщенный лазоревый — любимый цвет отца. Мелкие капли дождя плели из зеленоватой воды в канале тонкие темные кружева, и, глядя на них, Магдалина размышляла, писал ли кто-нибудь такую воду. Может ли что-нибудь, столь несущественное, как жизнь дождевой капли, быть подаренной миру замершей на картине? И нужно ли это миру вообще?
Она размышляла о людях на сегодняшних портретах, не только на отцовских — любых. Их глаза, поворот головы, их одиночество, скорбь, страдание — все это взято художником, чтобы показать спустя многие годы тем, кто никогда не встретится с ними лицом к лицу. Она думала о людях, которые смогут находиться так близко от нее и смотреть, смотреть на ее портрет, но никогда ее не узнают…
1
Пер. В. Микушевича. — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Что за сокровище! И где оно теперь? (гол.)
(обратно)3
Гильдия святого Луки — союз делфтских художников и ремесленников, регулирующий их профессиональную деятельность: только художники — члены гильдии могли продавать и выставлять на аукционах в Делфте свои картины.
(обратно)4
Центральное управление по делам еврейской эмиграции.
(обратно)5
Маурицхёйс — дворец в Гааге, памятник голландской архитектуры XVII века, а также музей живописи.
(обратно)6
Ритуальный ужин на иудейскую Пасху.
(обратно)7
Блюдо из фруктов и орехов в вине, которое подают на пасхальный ужин.
(обратно)8
Здесь: Книга, содержащая историю Исхода и описание седера.
(обратно)9
Кломпы — традиционные голландские деревянные башмаки.
(обратно)10
Время все покажет (лат.).
(обратно)11
Гулянья парижан в среду, четверг и пятницу Страстной недели по аллее Лоншан, близ Булонского леса: некогда здесь был женский монастырь Лоншан, куда собирались слушать песнопения; позже сюда стали съезжаться, чтобы щегольнуть модной одеждой.
(обратно)12
Сторонники демократически настроенной партии патриотов.
(обратно)13
Намеренная или случайная ошибка автора — все эти политические деятели — представители партии оранжистов, а не патриотов.
(обратно)14
Быт. 1:9.
(обратно)15
Согласно Ветхому Завету, дочь фараонова, взяв подкидыша, «…нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его» (Исх. 2:10).
(обратно)16
Возглас отца бесноватого в ответ на слова Христа: «Если можешь верить, все возможно верующему» (Мар. 9:24).
(обратно)17
Пс. 67:7.
(обратно)18
Ватты — часть плоских низменных морских побережий, ежедневно заливаемая морем во время его приливов и освобождаемая от морской воды во время отливов.
(обратно)19
«Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь… и горе сей скажете: «поднимись и ввергнись в море», — будет» (Мат. 21:21).
(обратно)20
«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:7).
(обратно)21
Последнее четверостишие из гимна Томаса Кена «Проснись, душа» (вольный перевод С. Шоргина).
(обратно)22
На вопрос Бога Каину, где брат его, Авель, тот ответил: «Не знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт. 4:9).
(обратно)
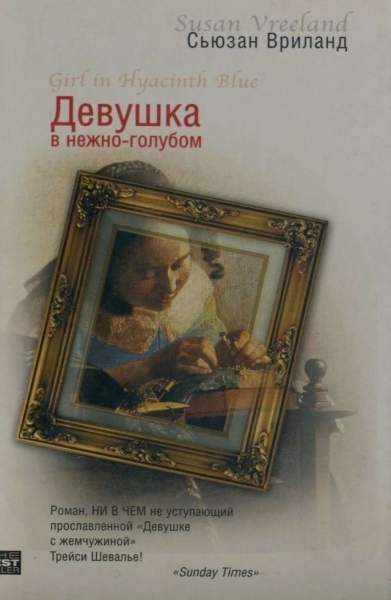


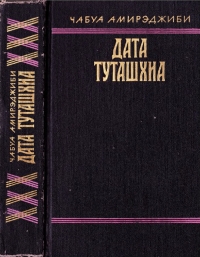


Комментарии к книге «Девушка в нежно-голубом», Сьюзан Вриланд
Всего 0 комментариев