Юрий Павлович Винничук Аптекарь
«В этом городе, как и в Венеции, стало обычным делом встречать на Рынке[1] людей всех стран мира в их одеждах… Город отдален от моря более чем на сто миль. Но когда увидишь, как на Рынке возле бочек с мальвазией[2] бурлит толпа китайцев, турок, греков, итальянцев, одетых так, словно они только что сошли с корабля, то кажется, что порт находится сразу же за воротами города».
Мартин Груневег(1562 – после 1606),немецкий купец и путешественникВступление
Она бежит по лесу, черному и неприветливому, поскальзываясь в своих легких сапожках и спотыкаясь о хворост и корни, ежевика хватает за бедра, сучья дергают за волосы, а она бежит и прислушивается к преследователям. Темные растрепанные пихты тянут к ней свои ветви, дорогу преграждают камни, поросшие скользким мхом, а то и вовсе скалы, из которых торчат черные руки и хватают ее за плечи, зловещий шепот обволакивает со всех сторон. Кажется, все для нее в этом лесу враждебно, нет никакой возможности спрятаться – хоть какой-нибудь норы или пещеры, где можно затаиться, и чтобы никто, кроме нее, не мог туда проникнуть. Хочется превратиться в белку. Страх бьется в ее груди, слезы заливают глаза, она чувствует, что задыхается.
– Не хочу, не хочу, – шепчет она и бежит, а над головой вспархивают разъяренные птицы и разрезают воздух крыльями. Она понимает, что это конец, ей не удастся спастись, но надежда еще теплится. Голоса преследователей сливаются с шумом деревьев, треском веток, громким топотом и лязгом оружия. Она бежит у них на глазах и слышит их хохот. Для них это обычная охота. Они не пощадят ее за то, что она сделала. За такое не щадят. За такое убивают. Потому что она – никто. Она имеет не больше прав на жизнь, чем какая-нибудь букашка.
Ноги и руки пекут от множества царапин, но все это еще можно стерпеть и пережить, главное – спастись, вырваться из леса, ведь он же не бесконечный. Она уверена, что бежит в правильном направлении – туда, откуда ее привезли. Вот-вот должна появиться прогалина, а там и луг, а на лугу – пастбище и люди. И ей уже кажется, что она видит просветы между деревьями, видит целые снопы солнечных лучей. Она бежит изо всех сил, чувствуя, как воздух разрывает ей грудь. Воздух становится жгучим и болезненным, она уже дышит сплошными охами и всхлипами, но впереди манит к себе свет, вселяющий надежду, и не просто свет, а большой светлый простор, который она сейчас распорет своим отчаянным криком, невероятно громким, таким, который сможет достичь стен города.
Лес расступается, она выбегает на сруб, минуя пеньки и спиленные стволы, и теперь уже верит, что спасется. Она ни разу не оглянулась, но слышит их, этих охотников, которые за ней идут. О, нет – они не идут, они едут верхом! И тут ее пронизывает страшная и беспросветная догадка: они просто играют с ней, растягивают удовольствие, и, если бы они хотели, то давно бы уже догнали и затоптали ее копытами. Весь ее побег – лишь забава, развлечение, и не более. Ей не удастся вырваться за границы леса. И тогда силы покидают ее.
Глава 1 Черная повязка
Из записок Лукаша Гулевича, доктора медицины в городе Львове, написанных 23 марта года Божьего 1648-го.
«Во имя Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы хочу я, Лукаш Гулевич, пребывая в сознании и совершенно в уме моем, составить сие признание перед лицом смерти и на случай, если Бог милосердный душу мою с грешным телом разлучит, ее в руки Владыке Богу Отцу Вседержителю поручаю, уповая на милость Его. А тело мое грешное кто бы в землю ни похоронил, за то ему, надеюсь на милость Божию, Бог милосердный заплатит.
Родился я в Страдче под Яновом в семье местного священника, где провел лучшие годы моей жизни, полные безмятежности и тихого детского счастья, которое время от времени все же было омрачено смертями и потерями. Семья моя была не слишком богатой, однако хозяйственной, отец умел не только отправлять службу Божью, но и торговать скотом, перегоняя в Мадьярию коров, а назад пригоняя лошадей, а при этом не раз ему еще и приходилось давать отпор разбойникам. Но с возрастом он все же бросил это выгодное дело и завел пасеку. Так что он любой ценой хотел, чтобы я выучился на кого-нибудь путного, видя, что из меня ни священник, ни торгаш не получится, и откладывал копейку к копейке, отказывая себе в самом необходимом и надевая один и тот же старый выцветший подрясник, в котором отслужил первую службу. Когда же я подрос, и настала пора меня выпровожать в мир, у родителей не осталось кроме меня никого из детей. Старший мой брат, как это было у галичан в обычае, поступил на службу в королевские драгуны и погиб в бою с казаками Тараса Трясило. Две младшие сестры умерли еще во младенчестве.
И когда настал тот день, и отец вывел из конюшни коня, над которым дрожал и на которого дышал, не позволяя его запрячь ни в одну повозку, а предпочитая везде трястись на своей старой кляче, а мама с мокрым от слез лицом обцеловала меня, я с ужасом понял, что могу их больше не увидеть, ведь я был довольно поздним ребенком. У меня подкатил комок к горлу, и я едва сдержался, чтобы не прослезиться, чувствуя, что это только еще больше расстроит моих родителей. Тот мир, который ждал меня, манил и раскрывал мне свои объятия, похоже, выпустит меня не так скоро, и неизвестно, удастся ли мне приспособиться к его капризам и обычаям. Я чувствовал себя птицей, вдруг вывалившейся из гнезда. Впереди расстилалась дальняя дорога без возврата, такое путешествие сильно отличалось от любого другого, которое в конечном итоге вело бы к родным воротам. Моя дорога вела в неведомое и не была ограничена во времени, она могла продолжаться невесть сколько, сплетая передо мной паутину тропинок, лабиринты неизведанных проселков с тревожными знаками на перекрестках. Конечно же я тогда еще не думал о том, что только такое путешествие, путешествие без намерения вернуться, открывает нам новые горизонты и новые окна.
Отец вручил мне небольшой кошелек на дорогу и пояснил, что для безопасности все средства на мое обучение передал Мордехаю Шиферу из Равы, от которого у меня есть письмо его брату в Венеции, положившего такую же сумму, которую получил Мордехай, в «Banca della Piaza de Rialto». У Мойшеля, брата Мордехая, есть небольшой постоялый двор, и он с радостью примет меня. Мама меня перекрестила, и я увидел на ее лице только грусть и отчаяние. Она уже понимала, что мы больше никогда не увидимся, и стремилась отразить мой образ в своей памяти не только отчаянным взглядом, но и прикосновением, взяв мое лицо в ладони и проведя по нему пальцами. Я прижал к губам ее руки, они пахли коноплей, которую мама только что мяла, и запах этот остался у меня в памяти на всю жизнь.
Путешествие мое в Венецию продолжалось две с половиной недели и не запомнилось ничем особенным, разве что в Клагенфурте у меня украли лошадь, пока я обедал в шинке. К счастью, торба моя была при мне. Итак, далее я добирался иногда пешком, а когда и на подводах, стараясь не оставаться в дороге один, поскольку везде подстерегали разбойники и разные бродяги и проходимцы, которые только и поджидали такого, как я, путешественника. Постоялый двор «Под Серебряной Черепахой», расположенный в квартале Риалто, соответствовал своему названию только частично, потому что ничего серебряного я там не заметил, но то, что все действительно отличались черепашьей неторопливостью, это так. И хотя я нашел туда дорогу довольно быстро, но когда стал спрашивать о пане Шифере, никто не мог понять, чего мне надо, но при этом делал вид, что со всей серьезностью задумывается над моими словами, повторяет их, перебирает губами и корчит такие гримасы, словно пребывает в невероятно философских размышлениях. Я уже было и духом пал, когда наконец появился солидный коротконогий толстяк и ударил меня по плечу:
– Не ты ли будешь Лукаш из Страдча? Так я как раз тот, кого ты ищешь. Но здесь я не Мойше Шифер, а Микаэле Чиффери, – и он зашелся здоровым заразительным смехом, который мгновенно подхватили все присутствующие, а мне показалось, что и лошади заржали. – Тебя тоже никто Лукашем здесь звать не будет, – порадовал он меня, – и очень скоро ты превратишься в Луку или Лучано.
Сказав это, он потащил меня всередину и угостил здоровенным куском паштета с тушеной капустой, которую я залил кувшином вина, а затем он объяснил, каким образом я должен получать средства на обучение и проживание. Все деньги были распределены так, чтобы ежемесячно я мог получать десять дукатов. И впоследствии я не мог не отметить мудрости моего отца, который таким вот образом обезопасил меня от молодецких порывов разбазарить средства заранее, что частенько случалось с разными студентами на моих глазах.
Так я начал свое обучение в Падуанском университете, сначала на фармации, а затем на хирургии, и продолжалось оно с перерывами добрых восемь лет, потому что в 1635 году я еще поехал в Кенигсберг, где стал свидетелем первой в Европе хирургической операции на желудке, которую осуществил знаменитый впоследствии хирург Даниэль Швабе. Операция эта была очень интересная, попался ему пациент довольно необычный, а точнее, больной на голову, потому что, насмотревшись на ярмарке на фокусы различных шарлатанов, загорелся что-то подобное показать сельским девушкам. А поскольку больше всего его поразили глотатели ножей, то он, дурак дремучий, взяв обычный нож, стал запихивать его в глотку, не догадываясь, что ловкачи используют для этой цели специальные ножи, лезвие которых легко заходит в рукоятку. Словом, он этот нож таки запихнул себе в горло, а нож и проник прямиком в желудок.
Дальше было так. Пациента привязали крепко к столу, дали ему выпить стакан аква виты, а затем пан Даниэль взял ланцет и вскрыл ему сначала живот, а потом и желудок, сунул руку и вытащил нож, длина которого, когда его измерили, была семь цалей.[3] К счастью, тот парень оказался жилистым и без пуза, так что легко удалось его зашить. Публика приветствовала эту удивительную операцию аплодисментами, а пациента отнесли на носилках домой. Через несколько дней он уже ходил.
Это зрелище так меня поразило, что я решил остаться в Кенигсберге еще немного, тем более, что в 1637 году произошло второе знаменательное событие, а я бы сказал даже революционное, потому что в то время, как по всей Европе расчленения трупов с научной целью запрещали и преследовали, за исключением разве что трупов казненных преступников, а студенты должны были трупы похищать на кладбищах, чтобы проводить опыты, профессор Бутнер построил свой частный анатомический театр, где хирурги имели возможность оперировать и производить вскрытия для широкого круга учащихся. Должен сказать, что и мне повезло участвовать в таких операциях, несколько я даже провел собственноручно.
Там же в Кенигсберге свела меня судьба со студентом Мартином Айрером из Зальцбурга, с которым мы подружились настолько, что не захотели расставаться, и я убедил его продолжить учебу в Падуе. Он как раз решил после двух лет обучения на хирургии перейти на фармацию, а Падуя и Венеция славились своими фармацевтами. Так что, пока Мартин потел над старинными фолиантами по фармакологии, я посещал подпольные анатомические лекции. В Падуе с анатомическими лекциями были проблемы после того, как папа Бонифаций VIII запретил вскрытие трупов. Но безвыходных ситуаций не бывает. Подпольная торговля трупами процветала. Только лишь кого-то похоронят – на следующий день его могила уж пуста. Делалось это, конечно, тайно, а похитители пытались приводить могилы в первоначальный вид. Бывали случаи, когда ради заработка кого-то даже убивали, а труп продавали в университеты. Так что лекции по анатомии читались в глухих подвалах, и чаще ночью, чем днем.
Жили мы с Мартином вместе у одной пани, у которой была небольшая пекарня, так что проблем с хлебом у нас не было, хотя мы больше воровали его, чем покупали. Но через какое-то время она уже стала поставлять нам хлеб даром, после того, как Мартин подговорил ее на омоложение. Процедура заключалась в том, что он стал закапывать ей в глаза сок белладонны, от чего зрачки у нее расширялись, и она выглядела теперь мечтательной и загадочной, хотя и теряла четкость зрения. Лицо она мазала кремом Мартина, который разглаживал морщины, а настроение себе поднимала моими каплями Афродиты, как назвали мы их с Мартином, а на самом деле это был настой на обычных мухоморах. Грибы я перетирал в ступке и заливал очень крепкой граппой, дня через два-три сцеживал и разливал по маленьким флакончикам. Благодаря каплям Афродиты наша хозяйка была всегда веселой и смешливой, могла смеяться без причины, аж заходиться смехом, чем неплохо привлекала покупателей, которые тоже не сдерживались и хохотали, заразившись ее праздничным настроением. И в конце концов ей удалось-таки окрутить одного состоятельного купчика. Теперь они хохотали вдвоем, ибо купчик и сам к тем каплям пристрастился, превознося их как непревзойденный афродизиак, в чем мы и сами убедились, слыша, какие звуки раздаются по ночам из их спальни.
Окончив учебу, я начал соображать, как бы мне использовать полученные знания и каким образом усовершенствовать их на практике, и желательно при этом найти выгодное место работы, потому как родительские деньги закончились, а сами они к тому времени умерли. Возвращаться было некуда, а в Падуе оставаться было нечего. Поэтому я перебрался в Венецию, надеясь отыскать там что-то стоящее. Но вскоре произошло событие, которое решительно повлияло на мою жизнь и повернуло ее так, как мне и не снилось.
Венецианская республика переживала неплохие времена, торговля развивалась, деньги стекались звонкими ручейками, и ничто не предвещало беды, как вдруг пришла беда от рыцарей святого Иоанна, прозванных мальтийскими, унаследовавших от тамплиеров церковь и монастырь в Венеции. Это были люди, которые презирали всех, кто живет за счет торговли, в то время, как чуть ли не вся Венеция торговала, а следовательно, венецианцы и рыцари взаимно ненавидели друг друга и при каждом удобном случае схлестывались. В отличие от венецианцев, рыцарей ничто так не интересовало, как священная война с турками, и их страшно злило, что Венеция, увязнув в эпикурейском быту, блаженствует, тогда как турки постепенно захватывают все более обширные территории Европы. И уж совсем их разозлило, что венецианцы пытались во что бы то ни стало сохранить мир с султаном и ни за что не хотели опрометчивым поступком его нарушить.
Рыцарей венецианцы терпели и ограничивались только нотами протеста, когда те переходили границу, потому что рыцари делали много полезного. В частности, иоаннитский госпиталь в Венеции был на удивление образцовым, я сам в этом убедился, когда проходил там практику по хирургии. Среди рыцарей были очень хорошие врачи, а уж об уровне гигиены нечего и говорить – подобного не было нигде. Не забывали рыцари и давних своих традиций и время от времени громили турок, но не в открытых сражениях, а в пиратских наскоках на турецкие корабли, и, увлекшись этим разбойничьим делом, не гнушались разбивать и христианские корабли, даже венецианские. В конце концов они превратились для Венеции в большую проблему. Но сколько бы венецианские дожи не протестовали и не возмущались, рыцари на это внимания не обращали и продолжали свой разбой даже после того, как в сентябре 1644 года дож пригрозил наложить арест на все рыцарское имущество. Через месяц после этого рыцари спровоцировали войну.
Мы с моим товарищем Мартином, который тоже окончил учебу, находились как раз на одном из рыцарских кораблей, который был частью эскадры из шести судов. Мы занимались ранеными, которых забрали с греческого острова Карпатос, выкупив их из рук местных пиратов. По дороге мы встретили турецкий галеон, и командор эскадры Рино ди Кавалья, чтоб ему пусто было, не долго размышляя, приказал взять его на абордаж. На галеоне воинов было как кот наплакал, поэтому они не сильно сопротивлялись и быстро сложили оружие. Зато, как потом выяснилось, на борту находились богатые турецкие паломники, направлявшиеся в Мекку. Среди них был также старший евнух султанского двора, кадий Мекки, а еще десятка три неплохих гаремных одалисок и около полусотни греческих рабов.
Захватив судно, эскадра причалила у острова Кандии или, как прозвали его греки, Крит, где рыцари высадили рабов и коней и запаслись водой. Но недолго мы находились на Кандии, вскоре появился венецианский чиновник, выругал нас и настоял, чтобы рыцари покинули остров, так как у него не было никакого желания вызывать на себя гнев турок. Поэтому мы еще несколько раз причаливали с разных концов острова, но отовсюду нас гнали, как шелудивых псов, пока мы не прибыли на Мальту, где и покинули турецкий корабль, который был уже совершенно непригоден для плавания.
Султан Ибрагим, которого все считали безумцем, ибо как можно было не сойти с ума, проведя всю свою сознательную жизнь в заключении, услышав о том, что произошло с галеоном, взбесился не на шутку и приказал убить всех без исключения христиан империи. Еле его утихомирили и упросили отозвать этот приказ, но намерений отомстить венецианцам, которых теперь он считал зачинщиками этого бесчинства, он не оставил. Для него было достаточно того, что рыцари причаливали на Кандию, которая принадлежала Венеции, следовательно, венецианцы были в этом замешаны.
Вскоре, когда мы с Мартином снова оказались в Венеции, прозвучала тревожная весть: султан снаряжает большую военную флотилию. Венецианцы, со своей стороны, приготовились к отражению и набрали войско числом в две с половиной тысячи, куда также входили военные инженеры и медики. Мы сразу вызвались в эту команду, тем более что средств на жизнь у нас становилось все меньше и меньше, а работать за так и за еду в рыцарском госпитале мы уже не могли, потому как обносились до того, что скоро на нищих стали бы походить. И вот на тридцати галерах и двух галеасах под руководством Андреа Корнаро отплыли мы 10 февраля 1645 года в направлении Кандии, планируя там задержаться, так как все тогда думали, что турки двинутся на Мальту. Но в марте стало понятно, что турки решили захватить именно Кандию. Теперь все зависело от того, насколько быстро придет венецианский флот.
30 апреля четыреста турецких парусников с пятьюдесятью тысячами воинов прошли Дарданеллы, а 25 июня завоеватели уже высадились на северо-западе острова и захватили Ханью. Если бы мы поторопились, Ханью можно было бы еще спасти, но наш флот задержался в дороге, ожидая еще двадцать пять парусников из Тосканы и Неаполя и от Мальтийского ордена и Папы Римского. Это была большая ошибка, которая потом сказалась. Пока мы прибыли на остров, турки осадили крепость Сан Теодоро. Комендант Бяджо Джулиани, видя, что не удержит крепость, дождался начала осады, впустил как можно больше турок внутрь и поджег склад с порохом – на воздух взлетели и турки, и мужественные защитники, и сама крепость.
А дальше нас подстерегала неприятность за неприятностью, поскольку, к сожалению, венецианские скупердяи выделили на кампанию слишком мало средств, и Корнаро с большим трудом мог набрать войско на самом острове. А затем адмирал Корнаро вдруг сошел с ума. По правде говоря, мы и раньше замечали за ним разные странности и удивлялись, какому умнику пришло в голову выбрать именно его командующим флотом. Потому что он, бывало, закрывался в своей каюте и ни за что не хотел выходить, когда позарез нуждались в каких-то его указаниях, а закрывался он там не ради какой-нибудь там феи Средиземноморья, а просто потому, что играл в восковые солдатики, которых у него было разве что не сотня, и вел с ними баталии, расставляя их на полу и на четвереньках ползая возле них, как нищий, собирающий рассыпанные деньги. Словом, он удрал, пересев на корабль, который должен был отвезти беженцев в Венецию. Мы пробовали отбить Ханью, но из-за штормов вынуждены были отступать.
Вторая неприятность не замедлила приключиться. Часть флота под командованием папского адмирала Николо Людовизи, владельца Пьомбино, который и до того сетовал на экспедицию и демонстрировал свою неприязнь к ней, вернулась домой. Венеция осталась один на один с турками. Что и говорить – Венеция по-прежнему должна была рассчитывать только на свои силы. Поэтому из Венеции на Кандию начали отправляться корабли за кораблями, груженные разнообразным снаряжением и продовольствием, однако не хватало главного: на острове не было верховного главнокомандующего, не было человека, который мог бы возглавить сопротивление туркам. Сенат Венеции долго дебатировал на эту тему, прежде чем выбрал самого дожа Франческо Эриццо – старого трухлявого гриба, только что отпраздновавшего свой восьмидесятый день рождения, да еще и с таким размахом, словно страна не вела войны.
К счастью для Венеции, уже сами приготовления к походу так измотали старика, что через три недели, 3 января 1646 года, он отдал Богу душу. Его кресло унаследовал Франческо Молин, тоже не первой свежести, но венецианцы совершенно отвергли идею назначать верховного главнокомандующего. А поскольку денег не хватало, они стали открыто торговать должностями прокураторов по двадцать тысяч дукатов каждая. Богачи сразу бросились покупать, и скоро удалось продать их около полусотни, но уже по восемьдесят тысяч. Затем за двести дукатов продавали места в Большом совете, а кто хотел войти в состав аристократии, должен был взять на содержание на весь год тысячу воинов, а на это уходило уже не менее шестидесяти тысяч.
Словом, тянулась эта волынка долго, венецианцам никто на помощь не приходил, и союзников у них не было, но их флот мужественно отражал все атаки неверных. Нас с Мартином записали на корабль, который был под руководством Томазо Морозини и назывался «Санта-Каталина». И вот, когда мы в числе двадцати трех кораблей блокировали доступ к Дарданеллам, удерживая турецкий флот в Мраморном море, для нас обоих эта затяжная кампания закончилась.
Как я уже писал, султан Ибрагим был большим безумцем, и то, что турецкий флот никак не мог пробиться сквозь нас, еще больше вывело его из равновесия. Он приказал немедленно отрубить своему адмиралу голову. Следующий адмирал, хорошо понимая, что его ждет, проявил достойную удивления решительность и, в конце концов, пробился сквозь линию наших кораблей.
Что и говорить – наморочились мы с Мартином за все это время так, что ходили будто пришибленные, приходилось доставать множество пуль, а еще больше зашивать ран, ампутировать рук и ног, а поскольку медиков не хватало, то нас и на другие корабли перебрасывали. За такую нашу ловкость сам адмирал вручил нам по целому кошелю дукатов. Пробыли мы в море, участвуя в бесконечных битвах и осадах, почти полтора года, и остались бы еще, но турецкое ядро зацепило мое колено так неудачно, что я сразу стал калекой, а Мартин потерял глаз. Мне было трудно ходить на костылях и участвовать в битвах, как раньше, не имея возможности действовать быстро, да еще и на корабле, который все время покачивался. Пользы от меня как медика было меньше, хотя я и пытался преданно служить богу Асклепию. К счастью, прибыло новое медицинское пополнение, и тогда было решено отправить нас обратно в Венецию, хотя адмирал и был против, пока мы не пообещали ему, что вернемся, когда подлечимся. Однако с меня этой войны было предостаточно, поскольку видно было и невооруженным глазом, что конца ей не будет и края.
В Венеции мы действительно подлечились – Мартин, правда, глаз не спас, но нога моя зажила, и я уже мог ходить без палочки, хотя и прихрамывал. Мы с радостью наверстывали то, что потеряли на войне, погрузившись в гулянки и любовные приключения, порой даже с дуэлями. Но было понятно, что такая веселая жизнь, которую вели мы в ту пору, долго продолжаться не могла – деньги-то заканчивались. Некоторое время я пытался самостоятельно найти, куда бы прибиться, но республика находилась в состоянии войны, на всем экономили, и медикам предлагали работу только за стол и ночлег, хотя и обещали со временем найти какие-нибудь средства. Я подумал, что именно на таких условиях и работал почти все время, редко получая плату, и в свои тридцать с лишним лет должен был до чего-то доработаться, а то – ни дома, ни жены, даже на девку денег ни черта нет. Наконец, хорошенько все взвесив и понимая, что и горсти оставшихся дукатов скоро не станет, я решил возвращаться на Русь, вспомнив о своем университетском товарище, который выехал раньше, получив приглашение в имение черкасского полковника. Он и меня убеждал ехать с ним, мол, полковник заинтересован, чтобы в своей полковой больнице иметь хорошего хирурга, но на то время у меня еще были некоторые амбиции и иллюзии, я думал, что смогу зацепиться где-то в Австрии или Баварии, а может, и в Праге, потому что после Падуи и Венеции не очень-то хотелось ехать в глушь. Однако на все мои письма, разосланные разным герцогам и графам, я получил отказ или молчание. Осенью размышлять дольше уже не было возможности, потому как совершенное безденежье напоминало о себе каждый день.
А тем временем мой друг Мартин Айрер собрался в дорогу во Львов, где его ждало наследство после только что умершего дяди. Покойник был аптекарем, и не простым, а с титулом «королевский», потому что каждый раз, когда король прибывал во Львов, его обслуживали только в этой аптеке. У дяди не было детей, а поскольку он был зажиточным, то полностью оплатил Мартину обучение на фармации, ведь Мартин, как и я, остался сиротой.
К счастью – хотя, кто знает, действительно ли к счастью, о чем, панове, вы сможете судить только в конце моего повествования, – он предложил мне составить ему компанию в путешествии, и тогда меня это очень порадовало. У Мартина во Львове не было никого из знакомых, и он никогда там не бывал, но множество раз слышал об этом известном городе, поэтому он подбивал меня оставаться с ним во Львове и вместе управлять аптекой, при этом не пренебрегая врачебной практикой. Мне не хотелось начинать свою карьеру с того, что я буду сидеть у кого-то на шее, но выхода не было, и мы отправились в путь в ноябре 1646 года. Альпы уже были покрыты снегом, и гигантские сосны вдоль гористого пути приветствовали нас, как стражи в ад – снежная вьюга мела в лицо, а лошади испуганно фыркали и еле брели. С Божьей помощью мы преодолели этот сложный путь, в конце концов, мы были не одни, а присоединились к группе купцов, а уже за Альпами встретила нас теплая осень и роскошные винодельни Кремса и Шпица, где мы на несколько дней остановились и попробовали местные вина. Такая хорошая погода сопровождала нас и дальше, пока мы не проехали Карпаты, а в Галицкой Руси нас уже ждали снега.
Мы ехали по снежной долине, которую продолжали засыпать хлопья снега, склонившись на лошадиные гривы и вздыбившись, словно вороны, в своих черных плащах и черных шляпах, надвинутых на глаза. Иногда бросали взгляд вперед себя, а затем снова успокаивались и дремали, покачиваясь в такт с головами лошадей. Далеко впереди в легкой дымке уже угадывались колокольни Шкла из-за земляного вала с частоколами.
И когда мы радовались, что уже скоро, через несколько каких-то миль окажемся во Львове и, наконец, отдохнем в тепле и уюте, мне показалось, что я заметил впереди движение, что-то темное мелькнуло в кустах и притаилось. Мы придержали лошадей, напряглись и положили руки на пистолеты. Через минуту из кустов раздался выстрел, Мартин ахнул и припал к шее коня. Я выстрелил, в кустах кто-то вскрикнул, а когда вторая пуля пролетела у меня над ухом, то я, не раздумывая, пришпорил коня и погнал его прямо на кусты, не давая нападающему возможности перезарядить оружие. Оттуда выскочил человек с мушкетом, второй лежал вверх лицом в крови и уже не дышал. Конь ударил передними копытами разбойника, сбил его с ног, я соскочил с коня и, приставив кинжал к его горлу, спросил:
– Кто вас послал?
– Мы… мы н-не знаем… – заморгал от испуга он. – Мы сидели в корчме у Краковских ворот. К нам подошел какой-то человек… его лицо закрывали поля шляпы… да и темно там было. Только клинышек бородки торчал. Он описал вас, дал нам кошелек и сказал, чтобы мы вас подстерегли на дороге.
– Обоих?
– Нет, того, у кого на глазу черная повязка. А если бы кто-нибудь был с ним, то и его.
– Ну вы же и стрелки…
– Пальцы, пан, о… окоченели, – голос у него дрожал от страха. – Мы вас долго ждали… с самого утра, а вы только сейчас прибыли. Я говорил, что надо бы руки согреть, но мой товарищ не позволил костер развести.
Он еще что-то нес, надеясь на свое спасение в этом тарахтении, словно этими словами хотел разжалобить, убедить, что здесь нет его вины, что они были лишь наемниками, исполнителями чужой воли, и, когда я выдернул из-за пояса веревку и принялся скручивать разбойнику руки, он с облегчением вздохнул и замолчал, надеясь, что теперь его уже не убьют. После я бросился к Мартину. Он уже сполз с коня и тяжело дышал на снегу. Глаза его были печальны. Ранение в живот явно было смертельным, но я расстегнул на нем кафтан в надежде, что пуля угодила лишь в бок, однако, к сожалению, это было не так.
– Попробую тебя довезти до города. Может, там помогут.
– Ты знаешь, что не помогут, – прошептал Мартин. – Помнишь, сколько мы таких ран насмотрелись, когда возились с турками?
Он был прав, рана в живот всегда была безнадежной, потому что внутреннее кровоизлияние не давало никаких шансов. Мартин терял кровь и бледнел на глазах. Я был вынужден разве что безвольно наблюдать за тем, как он покидает этот мир, но пока он еще был в сознании, я попросил его высказать свою последнюю волю, которую я выполню любой ценой. Он взял меня за руку, сжал и прошептал:
– Обещай, что сделаешь то, о чем я тебя попрошу.
Я кивнул. Тогда он с усилием указал рукой на сумку, притороченную к седлу, и продолжил, запинаясь:
– Там все мои бумаги и завещание дяди. Там также есть немного денег. Я все равно умру, а ты можешь этим воспользоваться. У дяди никого не было, кроме меня. Скажешь, что ты – это я, Мартин Айрер из Зальцбурга.
Я пытался возразить и успокоить его, но кого было успокаивать – такого же медика, как и я? Он знал, что умирает, и с этим ничего было не поделать. Однако согласиться на такую авантюру, что он мне предлагал, я не мог. Мне казалось, что это страшный грех – примерять на себя чужую жизнь и жить ею, жить этой не своей жизнью вместо того, кто умер, и все время осознавать, что это не твоя жизнь, не твоя судьба и не твое счастье, а просто жить и смерть под языком держать. Конечно, я могу говорить так, что никто и не догадается, что я «Lukas Hulevici, natione Vkrainensis de district Galicia», как записался я в университете, а не австриец, могу и венецианцем притвориться, но страх охватывал меня при мысли, как я буду чувствовать себя наедине с собой, как буду пытаться забыть собственное имя и не выдать себя, если оно где-то ненароком прозвучит, хотя и обращенное к кому-нибудь другому.
Все эти мысли пронеслись вихрем в моей голове, а затуманенные глаза Мартина смотрели с надеждой и требовали немедленного ответа. Вдруг раздался глухой топот копыт, и на горизонте появился еще один всадник, тоже весь в черном. Я выдернул пистолет Мартина и взвел курок, ведь это мог быть кто-то, кто нанял убийц. Всадник спешился и замахал обеими руками, давая понять, что не имеет злых намерений. Левый глаз его был закрыт черной повязкой. Выслушав мой рассказ о том, что произошло, он поинтересовался, действительно ли нас подстерегали бандиты.
– Неизвестно, – ответил я. – Им только дали описание. Но под это описание и ваша милость подходит.
Незнакомец улыбнулся.
– Чтоб меня черт побрал, если я не узнаю чего-нибудь больше. Пойду переговорю.
Он пошел к разбойнику, и через минуту мы услышали несколько глухих ударов и стоны: «Пощадите! Пощадите!» Затем раздался еще один удар, хрип, и все стихло. Незнакомец вернулся.
– Похоже, они действительно не знали, кого поджидали. Может, меня, а может, и нет. Единственное, в чем он сознался, что они должны были забрать сумку, но что в ней, им неизвестно. А поскольку у всех нас есть сумки, то и дальше ничего не понятно.
– Может, не стоило его убивать? – сказал я. – Он мог бы знать заказчика.
– Каким образом? По клинышку бородки? Или по голосу, который нашептывал им на ухо? Пусть катится к дьяволу. Я – Иоганн Калькбреннер, рыцарь из Кенигсберга, доктор философии и медицины. А вы кто будете?
– Мы из Венеции, я…
Но тут опередил меня Мартин:
– Я – Лукаш Гулевич из Страдча, а это мой товарищ Мартин Айрер из Зальцбурга… – он перевел дух и вздохнул: – К сожалению, я должен покинуть ваше приятное общество.
– Рана действительно такая серьезная? – спросил рыцарь.
Я кивнул.
– Живот.
– Ого! – Он покачал головой. – Можно посмотреть?
– Мы тоже медики, – сказал я, отворачивая полы кафтана Мартина. – Но взгляните и вы.
Он встал на колени прямо в снег, протянул руку к ране, но сразу же отдернул.
– Пуля там? – спросил, думая, не прошла ли она навылет, но не решаясь переворачивать раненого. – Мне приходилось нащупывать и вынимать пули пальцами. Но не в этой части живота. А ну, вдохните как можно глубже и выдохните.
Мартин вдохнул и тотчас закашлялся, а кровь пошла у него изо рта. Рыцарь посмотрел на меня безнадежным взглядом.
– Дайте чего-нибудь попить, – попросил Мартин, сплевывая красную пену, – сдобрите чем-нибудь горячительным мою смерть.
Он имел в виду тот ром, что мы прихватили в дорогу.
– Питье не сдобрит вашу смерть, а ускорит ее, – сказал Иоганн. – Вы же врач, и сами знаете об этом.
– Знаю. Но добрый глоток рома – это как раз то, что мне нужно перед дальней дорогой.
– Не городи глупостей, – сказал я. – Может, нам удастся еще тебя довезти куда-нибудь.
– Давайте свяжем из веток сани, – сказал Иоганн, – положим пана Лукаша на них и привяжем к его лошади. В Шкле кто-нибудь должен помочь.
Мартин умоляюще посмотрел на меня и прошептал:
– Это всего лишь бесполезные мучения. Вы не довезете меня… – и, взглянув на меня, еще раз повторил: – Сделай, как я сказал… Понимаешь? И да поможет тебе Господь.
Он еще улыбнулся побелевшими губами, и голова его склонилась набок.
– Жаль, – сказал Калькбреннер. – Кто знает, не из-за меня ли такая беда. А я, видите ли, задержался в Ярославе с одной знатной вдовушкой. Ну, да что поделать? Повезете его в Страдч? Я вам помогу.
Вместе мы погрузили тело моего товарища на коня, положив его поперек и привязав ремнями, и двинулись в путь. Мы проехали Шкло и через полторы мили минули Янов, лежащий над замерзшим озером. Далее через заросшие кустарником горы свернули на юго-восток. Покинул я родной дом почти полтора десятка лет назад и был уверен, что никто меня там уже не узнает, особенно учитывая, что я зарос, как черт, ведь когда я уезжал, еще не брился, а сейчас носил черную бородку и лихие гусарские усы.
Я не ошибся – никто меня не признал, зато и староста, и несколько крестьян, осмотрев бедного Мартина, не усомнились, что это их Лукаш. Я оставил им коня Мартина и денег на погребение и панихиду, и мы с рыцарем, отстояв отпевание в церкви, поехали дальше. Сумку Мартина я прихватил с собой, хоть и сомневался еще, соглашаться ли на его неожиданную милость. Но подумав, что все равно некому унаследовать эту аптеку и что она перейдет в собственность города, я решился на эту авантюру. Правда, мысль, что убийцы могли покушаться все же на Мартина, не покидала меня. А если так, то, очевидно, кто-то был заинтересован в том, чтобы Мартин не доехал до Львова и не получил наследство. Итак, это мог быть кто-то, кто знал, как выглядит Мартин, то есть, что у него нет глаза. Но откуда? И что будет, если я назовусь Мартином, имея два здоровых глаза? Не перевязать ли мне один? Но уже поздно, раз рыцарь меня видел. К тому же все время меня не покидало ощущение, что я что-то не то делаю. Я искал и выбрал мирную жизнь, хотя в последнее время привык к другой. Я закрывал глаза и слышал шум битвы, слышал, как трепещут паруса и как бьет мне в грудь ураган. В конце концов я в этом Мартину и признался. Это было в Шпице, мы сидели на берегу Дуная и пили вино. Я сказал, что меня какая-то сила тянет назад. Он засмеялся и ответил, что это говорю не я, а вино. Я пробовал объяснить, что после всех наших баталий я уже не тот, что был, мне снова нужны острые ощущения. Однако он лишь смеялся. Но бывало, среди ночи просыпался, так же, как и я, выкрикивая какие-то боевые лозунги.
– Ну, ты же видишь, Мартин, – говорил я, – что мы уже не те, что раньше. Я вообще не уверен, что мы когда-нибудь снова станем нормальными. Война нас разделила надвое. Одну половину тянет в бой, а вторую – в рутину жизни. И неизвестно, удастся ли нам их как-то уравновесить.
Вот так всю дорогу я размышлял, вспоминая эти разговоры, и мучился сомнениями, пока не появились на горизонте башни львовской крепости. Раскинувшись на холмах, город еще издали открывал множество своих красот, и чем ближе мы подъезжали, тем плотнее он закутывался в заснеженные сады, прятался под крышами, как улитка в свою скорлупу, выставляя на первый взгляд одни лишь стены и шпили церквей за ними. Краковские ворота были открыты настежь, стража только окинула нас взглядом и пропустила. В городе мы с рыцарем попрощались, договорившись сойтись при случае в шинке, и я отправился прямиком в магистрат, где представил все свои бумаги и получил право на наследование всего дома и аптеки в нем».
Глава 2 Книга Октябрь 1646 года
Переломленный хребет осени. Ветры по оврагам разнесли утренние звезды. «Рута! Рута!» Девушка услышала голос, доносившийся из хижины, и, бросив доить козу, поспешила к отцу. Он лежал на скамье под медвежьей шкурой и трясся так, словно стояла не теплая осень, а глухая зима. Руту поразило его пожелтевшее и сухое, как лист, лицо с натянутыми на висках жилами, белые потрескавшиеся губы с красными трещинками, остекленевший взгляд и голос, доносившийся словно из глубин его естества. Сердце ее тревожно билось, она чувствовала, что конец приближается, но мысленно пыталась отогнать его: только бы не сегодня, только бы не сегодня, пусть лучше завтра, а еще лучше послезавтра… и так каждый день…
Старый чернокнижник, ее отец, умирал уже больше месяца, умирал тяжело, как и положено колдунам, душа не хотела покидать его тело и держалась изо всех сил. «Ни Белобог меня не хочет, ни Чернобог, – вздыхал он, – ни в Яве для меня места нет, ни в Наве».
Сегодняшнее утро не отличалось от предыдущих. Быстренько справившись с нехитрым хозяйством, Рута собиралась пойти на луг искать разрыв-траву или камнеломку, которая осенью как раз входит в силу. Как трава выглядит, никто не знает, кроме одной-единственной птицы – дятла. Поэтому сначала надо найти дупло, в котором дятел вывел птенцов, и закрыть его камнем, дятел прилетит, увидит, что ничего поделать не сможет, и улетит, чтобы вернуться с разрыв-травой. Достаточно будет только приложить ее к камню – и он сам расколется на куски. Вот тут и надо следить, куда стебелек упадет, и подобрать его. Так рассказывал отец. Рута мечтала о том, как придет с разрыв-травой к скале на горе Льва, где спят королевские рыцари вместе со своим королем, и вытащит королевский меч, которым можно рубить даже железо. Тогда бы Рута оделась как витязь и уехала куда глаза глядят. Прочь отсюда, ведь и так после смерти отца ничто ее здесь держать не будет.
Она преклонила колени перед скамьей и взяла отца за руку, ладонь была желтая и холодная.
– Рута, – сказал отец, – я не могу умереть, только мучаюсь. Помоги мне.
Эти слова резанули ее по сердцу, она вздрогнула и замотала головой.
– Но как… как я тебе помогу?
– Это все из-за Книги. Это из-за нее я не могу покинуть этот мир. Рута, возьми Книгу, отнеси ее на берег Полтвы и брось в реку.
Среди тайных книг старого чернокнижника были и вполне безопасные, такие, к примеру, как «Большой Альберт. Тайны мужчин и женщин» и «Малый Альберт. Чудесные секреты натуральной и каббалистической магии, или же Нерушимая сокровищница тайн», но лишь одну книгу он называл не так, как было написано на титульном листе, а одним-единственным словом – «Книга», хоть и было у нее название «Эгремонд, или Адские силы, подвластные человеку», и была она величиной в половину человеческого роста и стояла в кладовке, прикованная цепью к кривой балке, Книга была оправлена в кожу того, кто ее сотворил, а поверх кожи, словно благородный рыцарь, закована жестяными застежками и запиралась на замок, ключ от которого хозяин прятал под порогом. Рута знала некоторое количество заклинаний из остальных книг, но Книгу отец не позволял трогать, а когда хотел чему-то Руту научить, то брал в правую руку освященный нож, в левую – головку освященного мака, переворачивал ножом каждую страницу «Большого» или «Малого Альберта», посыпал маком и только тогда читал вслух. Так Рута и узнала кое-что из тайн мира, и хотя душа ее стремилась к большему, отец строго охранял от нее Ворота Тайных Знаний. Она знала, что в Книгу были вписаны имена всех дьяволов и способы их вызывания, там можно было найти все, что угодно, – пентакли, описания талисманов, даже Sanctum regnum – способ заключения сделки с дьяволом. Однажды она подслушала и запомнила заклинание, которое произносил ее отец: «О, Люцифер, заклинаю тебя покинуть ту часть земли или неба, где ты сейчас находишься, и приказываю тебе силой великого Адоная, Элогим, Аагла услышать мой голос и не отказаться выполнить мой приказ», но, чтобы не обречь себя на муки, он при этом писал на пергаменте: «+ Aglas + Aglahas + Agladena + imperibus es meritis + tria pendent corpora ramis dismeus et gestus in medio et divina potestas dimeas clamator, sed gestas ad astra levatur» или же «+ Tel + Bel + Quel + caro + Mon + Aqua». В тех местах, где стояли кресты, он крестился.
Отец общался с ангелами и духами стихий, используя учение аббата Тритемия, труд которого «Стеганография» лежал всегда под его рукой. Он считал, что мысли являются элементами мира духов, точно определенными удаленностью духовного мира, и они никогда не погибают, непрестанно воплощаясь в сознание человека. Самыми коварными и ненадежными из всех были духи воздуха, которые не хотят ничему подчиняться, кроме сильных заклинаний. Рута была свидетелем того, как отец выходил во двор, поворачивался лицом к лесу и произносил заклинания, но говорил их не привычным, а каким-то надрывным, картавым голосом, демонстрируя всем своим телом, каждым движением невероятный импет,[4] небывалый экстаз, которого никогда не проявлял раньше, и Рута тогда дрожала от страха, однако вслушивалась в странные, нездешние слова на иностранном языке, которые срывались с уст отца: «Pamersiel oshurmy delmuson Thafloyn peano charustea melany, lyaminto colchan, paroys, madyn, moerlay, bulre + atloor don melcour peloin, ibutsyl meon mysbreath alini driaco person. Crisolnay, lemon asosle mydar, icoriel pean thalmõ, asophiel il notreon banyel ocrimos esteuor naelma besrona thulaomor fronian beldodrayn bon otalmesgo mero fas elnathyn bosramoth». После этих слов духи должны были появиться, а если нет, надо было повторять еще раз и еще раз, и тогда уже отец оказывался вне этого мира, глухой и слепой ко всему, что происходит вокруг него, кроме одного – появления духов. Когда же наконец ему удавалось вызвать их, Рута видела, как воздух становился видимым, как он сворачивался на глазах, словно скисшее молоко на огне, как возникали в нем фигуры и персонажи, хотя и расплывчатые, но узнаваемые, с крыльями и длинными руками, с растрепанными волосами и лицами, меняющими свою форму.
Духов воздуха приходилось усмирять словно диких лошадей, и когда они наконец возникали, отец говорил с ними уже ласковым тоном: «Lamarton anoyr bulon madriel traschon ebrasothea panthenon nabrulges Camery itrasbier rubanthy nadres Calmosi ormenulan, ytules demy rabion hamorphyn». После этих слов они готовы были слушаться того, что он им приказывает, хоть и вели себя довольно беспокойно, постоянно перелетая с места на место, то опускаясь, то поднимаясь, и крылья их шумели, как шумят кроны деревьев.
Она запомнила навсегда, как однажды не послушалась отца и, выждав, пока он не уйдет на охоту, нашла ключ, открыла Книгу и стала читать. Страницы Книги были яркого красного цвета, просто обжигали глаза, трудно было различить странные, непонятные слова, которые как будто высыпались на страницу, они вселяли страх, потому что были порождением какого-то нездешнего мира, мира тьмы и тайных шелестов. Рута знала, что отец раскрывает эту Книгу лишь только в сумерках, поэтому прикрыла окна подушками, чтобы на Книгу не падали солнечные лучи, а страницы не так раздражали глаза, и, прищурившись, стала вчитываться, слово за словом произносила она вслух, не зная еще, к кому эти слова обращены, когда вдруг острый холод пронзил ее до костей, а в хижину из-под порога вползла сизая густая мгла, которая какое-то мгновение клубилась перед ее глазами, а затем сформировалась в уродливое чудище, тело которого переливалось, как в реторте, мерцало и струилось, словно течение, все время меняя свой образ.
– Чего хочешь? – прохрипело чудище. Девушка остолбенела и не смогла произнести ни слова, а оно повторяло и повторяло свой вопрос тем же голосом, который доносился откуда-то из глубин земли, пока Рута не ляпнула первое, что пришло в голову, чтобы только чудище вымелось из хижины:
– Принеси воды из колодца.
И оно вышло, точнее вытекло из дома, прихватив ведра, принесло воды и вылило на пол, затем отправилось снова к колодцу, и так ходило без перерыва, залив водой весь дом, пока отец не вернулся и не выкрикнул что-то, похожее на скрежет железа, и тогда чудище исчезло. Отец не ругал Руту, он и так видел, что она насмерть перепугана, обнял ее, прижал к себе и сказал:
– Пообещай мне, что больше эту Книгу не откроешь.
Тот, кто владел Книгой, должен был от нее избавиться в свой смертный час, иначе душа его не могла расстаться с телом. Если он жил в селе, то доверялся священнику, и тот, собрав крестьян, приказывал им принести хворост и развести костер, а затем бросал Книгу в огонь. Когда «Эгремонд» превращался в пепел, настоятель собирал этот пепел в мешочек и передавал его умирающему со словами: «Да будет тебе легко». Но Рута с отцом жили на хуторе возле леса и поблизости не было ни одного села.
Рута открыла замо5к, освободила Книгу из цепей и вовремя отскочила, потому что Книга рухнула на землю так, что пыль поднялась и затанцевала в снопах лучей. Она еле сумела поднять ее и положить на тележку. И так, толкая перед собой тележку, она покатила ее к реке. Книга была тяжелая, как семь смертных грехов, и с каждым шагом становилась все тяжелее, тележка то и дело застревала в земле, земля вскрикивала от боли и покрывалась по5том, а над головой клубились тяжелые оловянные облака и давили на душу, черные тени ложились под ноги и наливали их свинцом, чем дальше, тем тяжелее было ступать, тележка уже еле-еле катилась, бурьян с ненасытной яростью путался в колесах, отчаянно хлестал по ногам, раздирал их в кровь, а тревожный крик воронья, сбивающегося в черную стаю и кружащегося в диком хороводе, напитывал сердце страхом. Но Рута отважно шла дальше, слыша уже, как в ужасе клокочет река, как волны шипят и пенятся, разбивая берег и вырывая из его груди целые куски песка и глины, как скрипят ивы над водой, трещат и раскалываются, едва не валясь вниз. Облака пригибали девушку к земле, наваливаясь на плечи, словно тяжеленные мешки, казалось, она не выдержит и вот-вот рухнет под их весом, в конце концов она упала-таки на колени, но, опоясавшись веревками, дальше волочила за собой эту тележку, ползя, ладони кровоточили и жгли, когда она хваталась за пучки травы, за кустики и сухую землю, какие-то голоса за ее спиной обращались к ней, но она помнила, что отец запретил оглядываться, слышала свое имя, слышала голос матери, но была уверена, что это не мать, а дьявол, и, перекрестившись, ползла дальше, пока не оказалась на берегу. Брызги волн ударили ей в лицо, она вдохнула свежий речной воздух и, перекатившись на спину, ногами толкнула тележку с Книгой с берега, тележка не поддавалась, увязнув в размокшей земле, но Рута упорно толкала и толкала изо всех сил, даже крик вырвался из ее груди, наконец, тележка наклонилась, вздрогнула и скатилась с обрыва прямо в воду, в которой тесно переплелись руки утопленников, волны громко всплеснули и подхватили ее и понесли по течению, Книга закачалась на воде, разгоняя волны, затем треснули на ней все застежки, отлетела колодка, и Книга раскрылась, солнце вдруг вынырнуло из-за туч и прожгло ее лучами, вверх взлетело пламя и через мгновение погасло, а Книга ушла под воду, создавая бешеный водоворот на реке. Обессиленная Рута легла на траву и смотрела в небо, там, наверху, начинало светлеть, облака расползались, воронье исчезло, солнце щекотало лицо.
Она лежала и лежала, боясь идти в дом, потому что знала, что уже не застанет отца живым – освободив Книгу, он освободил и свою грешную душу, которая вылетела из-под крыши. Рута нарочно забила в щель под крышей колышек, чтобы ее расширить и чтобы душа могла свободно вылететь на свет. Наконец, поднявшись, она поплелась к святому дубу, который рос неподалеку от дома, упала на колени и начала молиться, но не христианскому богу, а Святовиту, которого отец спрятал в пустом дубе. Деревянного идола он когда-то выловил в реке, выволок на берег, высушил, а затем шнурами и лебедкой подтянул вверх и опустил в середину ствола, который изнутри выжгла молния. Увидеть его можно было, только заглянув в небольшое дупло, до которого надо было дотянуться, ухватившись за ветку, и тогда можно было узреть его лицо – печальное и извечное, встретиться с его пронзительным, но не злым взглядом.
– Святовит – наш истинный бог, – говорил отец.
– Но ведь бог – один? – спрашивала Рута.
– Да, один, – соглашался отец, – и мы его называем Святовитом. Евреи зовут Иеговой, турки – Аллахом… А он – один. И мы должны обращаться к нему тем именем, которое он нам сообщил, а не каким-то другим.
И она молилась Святовиту, чувствуя, как на душе становится легче, а в голове – яснее. Потом она заглянула в дом и убедилась, что отец уже не дышит. Тело его как бы опало, испустив дух, словно стало более плоским, он лежал с открытым ртом – ведь это изо рта душа выпорхнула, – и глаза у него были открытыми и удивленными. Рута опустила мертвые веки, постояла минуту, затем налила в высушенный коровий пузырь сметану, завязала в узелок и, закинув его на плечо и прихватив отцовскую палку, отправилась к старой Вивде, что жила за лесом.
Вивдя была ведьмой и помогала всем, кто к ней приходил. С отцом Руты они были знакомы давно, обменивались рецептами зелий, настойками и лекарствами. Вивдя была единственным человеком, к которому Рута могла обратиться в этот скорбный час. Она вспомнила, как летом ходила со старухой за травами. Вивдя выдернула какую-то былинку и протянула Руте, чтобы та попробовала ее листики на ощупь, они оказались гладкими и теплыми, словно кто-то их подогрел. Вивдя оторвала кусочек листика и попробовала на вкус, закрыв глаза. Так она определяла, сильное ли зелье. Вивдя очень осторожно рвала зелье, стараясь не повредить корней, а когда ей нужны были именно корешки, то кланялась до самой земли и благодарила. Затем складывала зелье в торбочку, висевшую на поясе. Торбочка вся начисто пропахла этим зельем, да не только свежим, но и прошлогодним, и все голоса этого зелья сливались в торбочке в одно целое. Когда Рута брала пустую торбочку в руки, то слышала его шепот и шорох. Она смогла много знаний о зельях перенять от старухи, и Рута чувствовала к ней теплую благодарность, совсем не воспринимая ее как ведьму.
Дорога к ней была неблизкая, вела через густейший лес, скорее, не дорога, а тропа, которую протоптали звери, идя на водопой к реке. Рута зверей не боялась, знала заговоры – один на волка, второй на медведя, третий на змею или на полоза; однажды она таки повстречала волка, но прошептала несколько слов, и тот, съежившись, словно ему стыдно стало, исчез в чаще. Но боялась Рута всякой чертовщины, которая в лесу водилась, и было ее много, и подстерегала она на каждом шагу, особенно в конце дня в темных затененных местечках, откуда уже начинал вытекать черный мед ночи, крадучись, как зверь…
– Рута, – говорил ей отец, – ты же не такая, как все люди. Ты другая. Ты чувствуешь иначе, и видишь иначе, и слышишь иначе. Хочешь знать, каковы человеческие чувства? Надень перчатки и прикоснись к чему-нибудь. То, что ты почувствуешь пальцами, – это и есть человеческие чувства. Натяни шапку на уши и слушай. То, что услышишь, – таким и есть человеческий слух. Закрой глаза краем платка и смотри. То, что увидишь, – таким и есть зрение человеческое.
Рута видела то, что человеческому глазу было недоступно. Она замечала маленьких козариков,[5] которые шныряли под ногами, придерживая ручками свои пестрые шапочки, и при этом что-то пищали, как цыплята, видела, как на деревьях прыгают чеберяйчики, а потом скрываются в листве, и только их глаза сверкают, как роса, и следят за каждым шагом, видела невидимых зверей без тел и безо рта. Она видела, как марево клубится между деревьями и формируется в страшное раздутое чудовище, у которого множество рук, и руки эти тянутся к девушке, вот-вот схватят, но она тогда крестилась и проговаривала «Отче наш», а чудовище сдувалось, уменьшалось и растворялось. Деревья вдоль тропы качались и громко скрипели, как движущиеся скелеты, ветви так и старались уцепить девушку за платье или за волосы, Рута отмахивалась клюкой, и ветви, словно обожженные, отдергивались, а деревья аж вскрикивали и стонали в бессильной ярости.
В лесу пахло грибами и сыростью, в листве возился ветер, сдувая паутинки, которые липли к лицу и не хотели отставать, а на дне ручья постукивали камешки, словно передавая тайную весточку этим постукиванием. И хотя в окружающем воздухе царила смутная тревога, точно вот-вот должно что-то случиться и, казалось, чувствовала это самая мелкая травинка, однако Рута была спокойна, не сбавляла шага ни на мгновение и шла через лес не оглядываясь, хотя за спиной и слышались разные загадочные шелесты и шорохи.
Глава 3 Аптека «Под Крылатым Оленем»
Из записок Лукаша Гулевича
«Ноябрь – декабрь 1646 года.
– Ну, пан Мартин, – сказал лавник[6] и член лавничего суда пан Бартоломей Зиморович,[7] – наслышаны мы о вас и о ваших подвигах. – И, заметив мой удивленный взгляд, сказал: – Дядюшка ваш покойный пересказывал нам ваши письма, как вы с турками воевали. Кто знает, не придется ли и здесь повоевать, потому как тревожная наступила пора. Вот вам ключи от вашей аптеки. Если будете нуждаться в слуге или служанке, дайте знать, кого-нибудь вам подыщем, потому что дом большой и сад там просторный – есть куда руки приложить.
Я поблагодарил и сказал, что сначала осмотрюсь. На том мы расстались. Дом дяди Мартина стоял на углу Рынка и слепой улочки под названием Дорога за оленем, потому что сам дом, как и аптека, назывался «Под Крылатым Оленем».[8] Вверху под крышей и правда был вырезан олень с распростертыми крыльями, а над дверью красовалась вывеска в виде ступки, в которой толкут лекарства. Сразу с улочки вела дверь в аптеку с тремя просторными помещениями, над которыми находились две комнаты, а над ними – заваленный всевозможным хламом чердак. Но этого словно было мало – так еще и большой подвал с отдельным входом, который арендовала винодельня пана Вацлава Прохазки из Брно. Сам пан винодел сразу же поспешил нанести мне визит и поинтересоваться, не продлю ли я ему аренду, при этом вручил десять золотых и несколько бутылок вина. Я сказал, что пока насчет подвала у меня нет никаких планов, и мы с паном Вацлавом распрощались в хорошем настроении, подкрепленном мальвазией.
Индермах, как принято здесь называть заднюю часть дома, выходил в сад, полностью покрытый снегом, из которого торчали сухие побеги малины, скрюченные ветви кустов и тоненькие стволы каких-то молодых саженцев. Вокруг сада возвышались стены – меня это полностью удовлетворяло, потому что я не люблю, когда кто-то ко мне заглядывает.
Первое, что я сделал, – пооткрывал все окна, потому что чувствовался застоявшийся тяжелый воздух. Помещение аптеки и остальные комнаты требовали немало усилий, чтобы их убрать, вычистить, вытряхнуть, потому что все так сильно покрылось пылью, что двигаться я должен был достаточно осторожно, дабы не поднимать при каждым шаге сизые облака. В аптеке все стены до потолка были заставлены шкафами и полками из ясеня. На полках стояли глазурованные кувшины из гданьской глины, красиво разрисованные, и на каждом была каллиграфическая латинская надпись. А в шкафах – ящички и коробочки, запертые на ключ и тоже тщательно подписанные. В стеклянных банках, наполненных чем-то густым и темным, сквозь мутную жидкость можно было разглядеть зародыши каких-то странных сморщенных существ, которые неподвижно зависли в этой жидкости, словно планеты неизведанной галактики, но если их взять в руки, они начинали раскачиваться, подниматься и опускаться, вертясь во все стороны, словно стремясь продемонстрировать каждую мельчайшую деталь своего уродливого желтого тела. В других стеклянных банках и баночках хранились чудодейственные экстракты из целебных трав и минералов, пучки засушенного зелья, всякие корешки свисали гирляндами с балок, наполняя помещение опьяняющим ароматом лугов, степей, лесов и заморских дебрей. К сожалению, и это все было покрыто пылью и паутиной, поэтому придется что-то выбросить, а что-то прополоскать и снова высушить. Днем солнечные лучи играли на стеклянных банках завораживающую мелодию, полную радостных взблесков и безумного танца пылинок, но вечером они выглядели мрачно. Сушеные змеи, черепа и копыта животных висели на стенах, а посреди прилавка щерил большие желтые зубы вылинявший человеческий череп, из зубов у него торчала резная глиняная трубка. Еще на прилавке были весы с мелкими гирьками и медными лепесточками, на которых были выбиты от одного до десяти лотов…
Я сначала просто не знал, за что браться, и в первый день освободил от хлама на жилом этаже только одну комнату, в которой собирался отдыхать, теперь там кроме широкой ореховой кровати и шкафа не было больше ничего. Я выбросил на балкон одеяла, перины и подушки, от души выбил их дощечкой и оставил на солнце, затем все осторожно смел и мокрой тряпкой вытер, но когда, довольный собой, вышел из комнаты, то тяжело вздохнул – лестница, ведущая вниз, и партер тоже были покрыты пылью. Словом, на уборку я потратил весь день, но расчистил лишь небольшую часть дома. Наконец, усталый, я откупорил бутылочку мальвазии и выпил ее у камина. Затем залез под перину, которую удалось немного нагреть у огня, укрылся с головой и заснул. Снились мне снежные Альпы.
На следующий день я через винодела нанял уборщиц, Магдулю и Гальшку, активных молодиц, и они, наконец, привели все в порядок, время от времени строя мне глазки из-под ресниц. А когда я спустился в винную лавку, чтобы перекусить, пан Прохазка тихонько мне сообщил, что Гальшка – та, у которой пышные груди и гибкий стан – сама напросилась ко мне на уборку, и что муж ее умер во время чумы, так что, если мне охота, я мог бы взять ее под перину. Я поблагодарил за совет и поинтересовался, не мог бы пан винодел сам это организовать, потому что их пока две, и поговорить с Гальшкой один на один нет возможности. Он с радостью согласился, но попросил меня, чтобы в дни, когда у Гальшки будут месячные, я не пускал ее в аптеку, не то все его вино может прокиснуть. Да и я рискую тем, что мои врачебные инструменты могут покрыться ржавчиной, а лекарства свернуться, потому что такова страшная сила месячных. Я не стал спорить, зная, что эта мудрость достигает еще времен Гиппократа, и подумал, что неплохо было бы получить немного женской ласки после такого длительного путешествия. Когда вечером я рассчитался с девушками, и они вышли, я услышал, как винодел позвал Гальшку, а через минуту она постучала ко мне. Я открыл, она улыбнулась и сказала: «Ну, вот я пришла».
Я пригласил ее в кухню, придвинул ей скамеечку поближе к камину, в котором взволнованно потрескивали поленья, налил вина и угостил изюмом из запасов дяди Мартина.
– Здесь еще много работы, – сказала она. – Я поглядела в шкафчики – там куча всяких аптекарских причиндалов, но все это тоже в пыли. Сегодня просто не хватило времени. Если хотите, я завтра приду и вытру и вымою все эти стекляшки.
Она краснела и пыталась говорить о деле, хотя объединяло нас что-то другое – то, что должно было случиться, то, чего ждали мы оба, но она стеснялась, и лицо ее в отсветах пламени рдело. Ей не было и тридцати, овдоветь в таком возрасте явно тяжело, так что ей хотелось того же, что и мне. Я взял ее за руку, она ее сжала, продолжая смотреть на танец пламени, я поднялся, и мы отправились наверх. Камина в комнате я не разжег, но холодно не было. Гальшка заглянула под кровать, спросила: «А где?…» – и запнулась. Я догадался, что она имеет в виду ночной горшок, и развел руками.
– А куда же вы?… – засмеялась она.
Я показал на балкон, который выходил в сад, и это вызвало у нее еще больший смех, она спустилась вниз, позвякала утварью, затем захлюпала вода, и, в конце концов, она принесла черный глиняный горшок с двумя ручками. С довольным видом сунула его под кровать и стала раздеваться. В постели было холодновато, но наши тела так горели, что скоро я во время любовных ласк вспотел и должен был сбросить перину. Затем среди глухой ночи я прижался к ее спине и выступающим ягодицам, еще раз вошел, и в этот раз все было медленно и размеренно.
Когда я проснулся, Гальшки рядом со мной не было, а снизу доносились ароматы еды. На столике стояла миска, а рядом – кувшин с водой, рядом свисало полотенце. Я выглянул в окно на улицу и увидел Гальшку, закутанную в теплый платок, с черным горшком в руках. Она ждала телегу, увенчанную большой бочкой, в которую сливали нечистоты. Четверо смуглых причудливо одетых мужчин с длинными усами правили лошадьми. Еще один человек, скорее всего их хозяин, стоял сбоку и смотрел с иронической улыбкой, как люди подходят к бочке и, отворачивая головы, выливают содержимое своих горшков, а потом так, словно совершили какое-нибудь святотатство, быстренько исчезают. Горшки были разные – белые, разноцветные, поменьше и побольше, но черного не было ни у кого. Интересно, что в нем варил аптекарь? Может, квасил огурцы?
Пока я оделся и умылся, Гальшка вернулась и, улыбаясь, поставила горшок снова под кровать.
– Яичницу хотите? – спросила.
Вместо ответа я поцеловал ее, она засмеялась – видимо, ей нравилась моя немногословность. После завтрака Гальшка занялась чисткой аптекарских принадлежностей, а я углубился в учебники. К счастью, в первые годы в Падуе нас усиленно учили приготовлять лекарства самостоятельно, но, предполагая, что аптекарский цех захочет меня проэкзаменовать, я решил освежить свои знания и принялся штудировать самые популярные лекарства, чтобы в день, когда аптека заработает, не ударить в грязь лицом. Многие лекарства практически были мне известны, надо было только восстановить в памяти рецептуру и пропорции. К счастью, в книгах и записках Мартина и его дяди можно было найти много интересного и важного для меня, хотя и случались такие чудеса, как «De quinta Essentia», «Aurora philosophorum», «Philosophia occulta», «Thesaurus thesaurorum» и другие. Видимо, дядюшка Мартина интересовался оккультными науками, и как знать – не был ли он некромантом. Трактат «Сlavicula Salomonis», или же «Ключ Соломона», посвященный практической магии, был здорово потрепан, а на шмуцтитуле выведено каллиграфическими буквами: «Яко эта «Сlavicula» мудрость Соломона открывает, так пусть же она откроет и сердца…». Фраза не была оборвана, а просто затерта. Видно, там указывалось, о чьих сердцах идет речь. Я сразу переставил все ненужные мне книги на самую верхнюю полку, а те, которые нужны были для работы, расположил под рукой.
В книге рецептов дяди Мартина можно было найти немало странностей. Например, масло из щенков: «Взять двух новорожденных щенков, изрезать их на части, уложить в глазурованный горшок вместе с фунтом живых червей. Варить в течение двенадцати часов, пока щенки и черви хорошо не разварятся. Это прекрасное средство для подкрепления нервов, от ишиаса, паралича». Или масло из ящериц: «Возьмите тузинь[9] живых зеленых ящериц, бросьте их в три фунта теплого орехового масла, варите на слабом огне. Средство от лишая на голове и от грыжи». Порошок лунный: «Возьмите по полторы унции из копыта лося и человеческого черепа, стронция серебра, соли из жемчуга, масла из рога оленя, павлиньего дерьма, сухой плаценты женщины, которая при первых родах имела дитя мужского пола, – хорошо от эпилепсии». Пластырь из человеческой крови: «Взять кровь молодого здорового мужчины, высушить ее на солнце, а затем растереть. Такой порошок хорош для застарелых язв». «Взять ласточкино гнездо и изрезать его на мелкие куски, добавить пол-унции кошачьего мозга, полторы унции обжаренного собачьего, совиного и ласточкиного помета. Это средство вылечит от боли в животе».
В то же время мне не хотелось запустить и хирургию, ведь Мартин сначала все-таки учился на хирурга, пока дядя не убедил его перейти на фармацию. В конце концов, мы оба получили хирургическую практику в госпитале мальтийских рыцарей и на Кандии.
Аптека стояла полгода на замке, но, вероятно, как раз перед смертью дядя Мартина получил свежий товар, который еще не успел рассортировать и распаковать. Все лежало так, как прибыло с караваном или на корабле во Львов: в узелках, тюках, свитках, коробках, бурдюках, мешках или лыковых лукошках, на которых черной краской были поставлены различные знаки. Вместе с Гальшкой мы все это разобрали и разложили по шкафчикам и полкам. А было здесь немало галуна, камфары, меркурия[10] и янтаря, в отдельных баночках содержались различные душистые смолы – амбра и ладан, закупленные у португальских купцов, сицилийская манна, греческая мастика, трагант с острова Мореи, который снимает лихорадку, арабское алоэ, сандал красный и желтый, индиго из Багдада, а в жестяном ящичке – ароматные палочки, в мешочках, старательно перевязанных и обозначенных аккуратными наклейками, покоились пряности и приправы: гвоздика, лавровый лист, турецкий тмин, индийский имбирь, кардамон, мускатные цветы и шарики, татарское зелье, различные сорта перца, и самый главный – малабарский, египетская кассия в стручках, шафран итальянский и испанский, корица, разнообразные сорта сахара – и белый, и ледяной багдадский, и бурый гишпанский, сушеная и вяленая бакалея, цукаты лимонные и апельсинные, миндаль, фиги, дактили, изюм и другие лакомства, которые Гальшка удержаться не могла, чтобы не попробовать.
В одном из больших ящиков я обнаружил множество маленьких бутылочек с настойками, ромами и водками с разными вкусами. Аптеки торговали и таким товаром, который спрашивали преимущественно женщины. А пряности приносили куда больше выручки, чем сами лекарства, потому что стоили дорого, как и афродизиаки, сведения о которых публика черпала из календарей и советчиков, где расхваливали эти средства в выражениях: «подъем совершает», «Венеру возбуждает», «женщину разжигает». Поэтому каждая аптека должна была иметь шафран, перец, имбирь, сельдерейную настойку и трюфели. На лекарствах заработать было непросто, учитывая количество аптек во Львове, а ведь кроме городских аптек были еще и монастырские, с которыми цех аптекарский пытался бороться, а еще торговали лекарствами странствующие купцы, которых прозвали масларями, потому как носили они в ящиках за плечами лекарства от многих болезней, а также духи, масла и мыло. Все это были обыкновенные проходимцы, которые не разбирались в медицине, но брались давать советы и выписывать лекарства, распространяя суеверия.
– Бальзам! – прочитала удивленная Гальшка, вытирая пыль с квадратной темно-зеленой бутылки. – Что это такое? Тоже водка? – спросила она игриво, потому что уже сняла пробу с апельсиновой настойки.
– Нет, это лекарство, – сказал я, – бальзам вытекает из особых кустов, похожих на виноградную лозу, а растут они на том самом месте, где отдыхала когда-то Наисвятейшая Дева со Святейшим Младенцем Иисусом, когда должна была бежать в Египет. Эти кусты могут брать влагу только из одного-единственного источника, в котором Богородица стирала пеленки. Любая другая вода для них смертельна. Но этого источника до нее не было. Когда она не могла допроситься воды у местных жителей, маленький Иисус указал ей рукой, где может быть источник, и она раскопала его руками. Теперь там образовалось целебное озеро, куда приходят омываться и христиане, и сарацины. Всего бальзамических кустов четыреста. Но только христиане могут добывать бальзам, потому что он засыхает, если его касается рука неверного. Сарацины только стоят на страже и следят, чтобы никто не украл хотя бы каплю чудодейственной жидкости. В определенную пору года христиане делают надрез на дереве и собирают его сок в сосуды. Надрез делают стеклом или костяным ножом, железо дереву вредит. Но сок не течет, как у березы или клена, а медленно капает, поэтому нужно сидеть под деревом и следить, иногда неделю или две. Этот сок имеет очень приятный запах, настолько приятный, что каждый непроизвольно засыпает. Собрав полный сосуд бальзама, его выставляют на солнце на двадцать дней, после чего на огне собирают пену, и уже чистую жидкость разливают по бутылкам. Чистой субстанции остается немного, и она стоит очень дорого. Поэтому бальзам часто фальсифицируют, растворяя кипрским маслом или медом, а также добавляя сосновой смолы.
– И на что этот бальзам годится?
– Он очень хорошо залечивает раны и затягивает шрамы. Его чрезвычайно трудно достать. Удивляюсь, как это удалось дяде. В Венеции даже богатые рыцари не могли его раздобыть.
– А что такое «те-ри-ак»?
– Он тоже относится к самым дорогим лекарствам. Потому что его умеют производить только в Венеции. И только некоторые фармацевты знают секрет его изготовления. Чтобы получить териак, нужно шестьдесят четыре различных составляющих очень редких и дорогих лекарств, а главным из них является чудодейственное мясо змеи, которую очень трудно найти и поймать.
Гальшка с большой осторожностью положила баночку на полку и, когда красноречиво посмотрела на меня, я обнял ее, и мы исчезли в комнате. За окном был теплый полдень, с крыш и карнизов лениво слезились сосульки, под периной мы быстро разомлели и заснули.
Через несколько дней аптека изменилась до неузнаваемости. Как я и предполагал, большинство посетителей моей аптеки спрашивали не лекарства, а настойки и различные вкусовые водки. Обычно это были пани, которые, стесняясь, обязательно отмечали, что эти напитки нужны им для выпечки. Но тут же выдавали настоящую цель покупки, потому что просили еще и чего-нибудь на закуску: медовика, изюму, миндаля или сахару.
И вот так прошла зима. Гальшка занялась стряпней и уборкой, но ночевать ходила домой, чтобы не подвергаться сплетням, поэтому нежностями мы занимались только днем. Я платил ей в месяц два золотых, и она была довольна».
Глава 4 Битва за душу Октябрь 1646 года
Старая Вивдя считала, что бессчетное количество разной мошкары, поселившейся на ее подворье и даже в доме, – признак ее благосостояния и залог счастья. Пауки свободно сновали по окнам и стенам, окутывая паутиной каждый свободный уголок, а в паутине барахтались зеленые мухи, комары и ночные бабочки, постепенно превращаясь в бесформенную высохшую субстанцию. Старуха собирала в лесу из-под коры красных с черными крапинками жучков, ссыпала их в бутыль и заливала кленовым сиропом, бутыль стояла на подоконнике, и в ней купалось солнце, жидкость постепенно приобретала розоватый оттенок, а когда ведьма подливала яблочного уксуса, смесь темнела до цвета жженого сахара, то, что должно было осесть – оседало, а жидкость становилась прозрачной, и теперь это было первосортное приворотное зелье.
Хата Вивди стояла на холме, и когда начинали дуть ветры, а чахоточные узловатые ветки, словно вороньи лапы, скользили и пронзительно скрежетали по свиному пузырю, затягивавшему окна, дымоход гудел неистово, аж завывал, и холод, как ни топи, все же проникал сквозь щели в дверях и окнах, старая ведьма куталась в лохмотья, забивалась в угол и стучала зубами. «Отлетала, отлетала свое, а где мой покой, где мое доживание века? Промелькнуло мимо меня столько дней и столько деревьев придорожных». Вон уже и крестьяне здороваться начали с тех пор, как она молоко не ворует, заработка никакого, вот разве девушки придут – погадайте, мол, – так принесут копеечку, чтобы с голоду не помереть. Еще повезло, когда мельник обратился к ней, чтобы сглаз с мельницы сняла, она и сняла – попросила водяного Жбура, чтобы лотки не останавливал, а за это отдала ему цедилку, в которую молоко человеческое собирала. Теперь водяной сам молоко крадет, как только коровы на водопой придут. А прошлым летом уже наоборот – попросила водяного, чтобы все-таки остановил лотки, чтобы снова ее позвали сглаз снимать. Отдала водяному терновый платок, который можно постелить на воде и лечь сверху, и он не потонет. Мельник в долгу тоже не остался – каждый раз давал по мешку муки.
Голод завозился в ней, заскулил, горько-сладкая изжога подкралась к горлу, ведьма, кряхтя, встала с кровати, развязала мешок, бросила две горсти муки в кастрюлю, плеснула немного воды, посолила и быстро замесила густое тесто, затем вылепила из него две лепешки и положила прямо в золу, еще тлеющую в печи. Пошарила еще и нашла луковицу, обтерла сухими пальцами и, не чистя, положила рядом с лепешками. Затем вышла из хаты в небольшой огород и выкопала палкой большую морковку, отряхнула с нее землю и огляделась. Тучи собирались и сбивались в темные сытые стада, что-то стонало в лесу и ухало, ветер гнулся в ладонях и дергал за одежду, словно разъяренный пес. Что-то надвигалось, что-то тревожное и страшное. Старуха чувствовала это, и страх погнал ее обратно в дом.
Только она помыла морковку и села на скамью, как вдруг что-то пронзительно засвистело в дымоходе, а через миг выкатился на пол черный клубок, подскочил вверх, ударился о стену и, подкатившись к двери, исчез в щели под порогом. Ведьма глянула на окно – там прошмыгнула чья-то тень, а в дверь раздался стук.
– Кого там нелегкая несет? – вздохнула, но не двинулась с места. Дверь приоткрылась, и в дом вошел худощавый, стройный паныч, одетый по немецкой моде в штаны, которые застегивались под коленями, и в черные чулки и туфли с пряжками. Кафтан с отворотами сидел на нем как влитой. Под черными тонкими усиками играла задиристая улыбка, на щеках пылали огнем лохматые бакенбарды.
– Здорово, старая!
– А-а, это ты, шельма! – узнала ведьма знакомого черта, который уже давненько ее не навещал. – Ты что, не можешь, как люди, спокойно войти, обязательно меня пугать? Думаешь, я не догадалась, что это за клубок из дымохода выскочил?
– Стареешь. А фасон ведь держать надо.
– Да уж, не молодею, Франц. Чего явился?
Черт полез за пазуху, вытащил бутылку водки, кисет с табаком и кусок сала, завернутый в полотно, и положил на стол.
– Не все сразу. Доставай чарки да чего-нибудь на стол.
– Ага, держи карман шире. Хлеба ни крошки нет. Вон паляницы, может, уже испеклись, да есть еще морковка с луком.
– Может, хоть капуста квашеная есть?
– Если заквасилась.
Ведьма вышла в кладовую, набрала капусты, нашла чарки, нож, вытащила потрескавшиеся засыпанные золой лепешки и разлезшуюся луковицу и все это разложила на столе, а черт нарезал сала и наполнил рюмки. Они чокнулись, ведьма выпила залпом и сразу заела салом, чувствуя, как благодать растекается по груди. Давно она уже так не лакомилась. Утолив голод и согревшись, старуха подобрела и уже вполне ласково смотрела на нечистого, а тот, закинув ногу на ногу, разжег трубку с длинным, в локоть, чубуком и пускал дым кольцами. Видимо, он не спешил, да и ведьма тоже, поэтому сидели некоторое время молча. Но вот наконец черт докурил трубку, выбил ее в ладонь и одним махом втянул пепел с ладони носом, а затем несколько раз с наслаждением чихнул.
– А я чего к тебе пришел. У меня тут есть небольшая корчма, а корчмаркой там одна молодичка, которая положила глаз на резвого монашека из монастыря бернардинцев. Монашек тот, по правде, на кабана похож, но вкусы человеческие непостижимы. Вижу я, что монашек и сам не прочь угоститься, а все же сдерживается. В корчме он бывает часто, да никак у них до дела не дойдет. Я и решил помочь им. Дай мне какого-нибудь зелья, чтобы я монашку сыпанул и он бы за корчмаркой хорошенько приударил.
– Зелье? Да есть у меня какое хочешь. Вон в этой бутылочке настой на сердце голубя и на разных кореньях. Капни ему немного в пиво, и он уже от твоей корчмарки не отстанет.
– Вот хорошо. Но это не все. Гулять так гулять. Еще дай мне той мази, намазавшись которой ведьмы на Лысую Гору летают. Корчмарка моя не прочь и сама полететь и посмотреть, как шабаш ведьминский выглядит. А я уболтаю ее, чтобы и монашека соблазнила и вместе с ним полетела. Вот уж я там развлекусь!
– И вот это охота тебе дурака валять?
– Работа такая. В аду, знаешь ли, у каждого свое занятие. А все же выкидывать фортеля куда веселее, чем горбатиться у котлов с грешниками. За такого греховодника-монашека я получу целый месяц отпуска. Займусь, наконец, любимым делом.
– Это каким же?
– Составление атласа звуков.
Ведьма зыркнула на черта исподлобья, словно убеждаясь, не издевается ли он над ней, но черт задрал голову к потолку и говорил так мечтательно, что не заметно было и тени насмешки:
– Да, такой атлас – это немалая ценность. Ведь так, как поют птицы сейчас, лет через двести уже петь не будут. И не будут пахнуть ветром таким, как сейчас. И сосна так скрипеть не будет, как сейчас у тебя за хатой. И ветер так завывать не будет. И огонь не будет так полыхать. И дождь не так лопотать будет. И листья не так… и вода не так… и трава не так… И даже у меня через двести лет будет другой голос… И кто вышел из листьев, в листья возвратится…
Ведьма положила перед ним деревянную коробочку с мазью, налила водки в чарку, выпила и захрустела капустой, пропуская слова черта мимо ушей, так как хруст заглушал его. После, съежившись от холода, заковыляла к печи, чтобы подбросить дровишек, а когда обернулась, то не увидела уже ни черта, ни бутылочки с приворотным зельем, ни коробочки с мазью, лишь голос все еще звучал, затихая и исчезая.
– А мой голос давно разделили между собой пчелы и травы, – прошептала она.
Рута постучалась в дверь и, не дожидаясь кряхтенья старухи, вошла. В доме было сизо, в печи огонь уже угасал и лишь пыхтел и сыпал искрами, а Вивдя курила трубку и задумчиво глядела в потолок, где возились пауки. Увидев Руту, обрадовалась и даже закашлялась, захлебнувшись дымом, а когда заметила сметану, расплылась в довольной улыбке. Весть о смерти чернокнижника вызвала у нее новый приступ кашля, теперь уже со слезами, она засуетилась и начала собираться.
– Куда вы? – спросила Рута.
– Иду с тобой, нельзя тебе одной в доме с покойником. Да еще и… – не договорила, словно спохватившись, и, прихватив какую-то котомку, поспешила за Рутой, не переставая дымить трубкой.
На этот раз дорога через лес была такой легкой, что Руте казалось, будто она не идет, а летит между деревьями, каждый шаг поднимал ее тело на мгновение в воздух и подносил легко, как перышко, впереди так же взлетала и опускалась старая Вивдя, вся чертовщина попряталась, и слышно было только, как шипит она недовольно и кряхтит. Деревья уже не тянулись к девушке своими ветками, а вставали по стойке «смирно» и затихали, и только потом, уже за спиной начинали между собой скрипеть о чем-то. Рута только раз встрепенулась, когда в темноте загорелись два красных уголька.
– Не бойся, – сказала Вивдя, – это Вовкун – волчий пастух. Здорово, старое чучело, – бросила она в темноту, а оттуда ответил густой хриплый бас:
– И тебе здорово, гриб старый. Еще не рассыпалась? – Слова потонули в дребезжащем смехе.
– Где там, еще немного небо покопчу. Волки твои сыты?
– Сыты, сыты, можешь не бояться. Сегодня хорошенько пообедали в долине.
Откуда-то издалека послышался волчий вой и затих, в петле скрюченных деревьев качался задушенный туман. А потом с грохотом упал сухой граб и затрещал на весь лес, казалось, что это шагает по лесу великан, потому как вскоре бухнуло еще одно дерево, но Вивдя махнула Руте рукой, чтобы не обращала внимания.
Вечером Вивдя убедила Руту лечь спать в овине, а сама осталась возле мертвеца. Рот у него больше не был раскрыт, потому что ведьма подвязала ему челюсть платком. Рута послушалась и постелила себе в овине на сене, но уснуть не могла, через щели в потолке проникал свет звезд, вокруг царила тишина, только монотонное кваканье лягушек доносилось с реки, да кричали летучие мыши, пролетая. Рано или поздно отец должен был умереть, и Рута должна была остаться одна, но до сих пор ее эта мысль не пугала, она была уверена, что справится, однако сегодня, когда это наконец произошло, она почувствовала отчаяние и страх, словно должна была теперь двигаться только на ощупь с завязанными глазами, ведь больше не будет рядом никого, кто бы мог что-то подсказать. Вдруг услышала, как что-то громко выстрелило, а затем затрещало, деревья затряслись и загомонили громко и надрывно, словно исповедуясь, а затем застучали копыта, зафыркали лошади. Рута вскочила и припала к щели в стене: какие-то черные тени верхом на других черных тенях гарцевали перед подворьем, а из дома доносилось бормотание Вивди, она что-то беспрестанно бубнила и бубнила, то и дело громко вскрикивая, тени отвечали ей грозным нечеловеческим шепотом, а Вивдя словно ссорилась с ними, прогоняла, а те не уступали да знай гарцевали. Было впечатление, что Вивдя не хотела отдать им то, за чем они примчались. Только сейчас заметила Рута, что посреди двора на колу торчит конский череп. Видать, ведьма прихватила его из дома и намеренно повесила, чтобы отпугивать нечистую силу, потому-то тени не подступятся ближе, только топчутся вдали, а все же не исчезают, добиваются своего. Ведь это отец мой им нужен, думала Рута, как хорошо, что Вивдя со мной, а то бы они меня разорвали, ведь и я бы им не отдавала тело, и они бы победили, а у Вивди, может, и получится.
Ночь была словно зверь, закутанный в страх. За рекой горели огни, красные метлы мельтешили, ошметки их хвостов отрывались и взлетали в небо, а меж огней скакали черные фигуры и неслись к их хате. Рута пыталась рассмотреть, чья это черная большая фигура расшатывается позади них, но огни и дым мешали. В конце концов она легла на сено и закрыла глаза. Она не знала, чем могла помочь Вивде. Разве что снова помолиться Святовиту, чтобы простил отцу грехи и принял его душу. Рута преклонила колени, прижала руки к сердцу и зашептала слова, которым научил ее отец, и теперь в тишине сквозь гарцевание теней прорастали два шепота – Вивди и Руты, сливались в одно, сплетались и барахтались в ночной тьме, а деревья в ужасе болтали кронами, стряхивая гнезда и птиц, вихрь гудел отчаянно в дымоходе и бил кулаками о стены, а Рута бубнила:
– Святовит, мой господин, сжалься над душой моего отца, прими ее, ведь верным он тебе был всегда, молился тебе и жертвы приносил. Не отдай нечисти прах его, прими его душу, как мы принимаем имя твое, и упаси нас от лукавого.
Только когда кислое молоко рассвета разлилось вокруг, все улеглось, черные силы отступили, и Рута смогла немного поспать.
Глава 5 Колдовство Весна 1647 года
Остаток осени и всю зиму Рута жила одна, оплетенная мечтами и маревом, ее воображение было таким бурным и безудержным, что одиночества она не испытывала, так как всегда рядом был кто-то невидимый, кто-то, кого она стремилась любить, кто-то, не сформировавшийся в четкий образ, но она знала, что рано или поздно это произойдет – сотканный из воздуха и солнечных лучей невидимец появится перед ней, и она уже даже пробовала на губах его имя. Она чувствовала себя как мгла, что колышется между двумя берегами бездны, и, не любя никого, пылала любовью.
Ее реальная жизнь переплеталась с мнимой, с ее фантазиями и снами так, что отличить их одну от другой было невозможно. И когда ей снилось, что она берет тоненькую иголочку и пришивает кукушку навеки к лету, а нитка сизая сплетается в одно с паутиной и тихо исчезает, то, вероятно, так оно и было. Или когда осторожно брала в руки озерцо, клала его на кувшинки и несла спрятать в дупле; или когда засеивала колокольчиками берега горизонта и прислушивалась к печальной мелодии цветов; или когда кваканье лягушек приглушала, а взамен делала громче шелест ветвей. Она отшелушивала сны, раскладывала их на травах и колдовала на их гуще, наколдовывая что-то, лишь ей известное, то, что тревожило ее, но потом все равно ночью вскакивала, и очередной сон пришпиливала к стене, шепча его имя и думая, что, вымолвив его, воскресит, добудет из ночи. Всматривалась в перелетные облака, в капли росы на цветках, вслушивалась в звон ручейка, представляя, каким он к ней придет, тот рыцарь из сна, но – ничего, ничего, хотя почему-то была уверена, что он явится в какой-то капельке, перышке, листочке, песчинке. Но не напрасно она вслушивалась в тоненькую бумажку ветра – вот донесся стрекот сороки, который непременно предвещает гостей, а где-то далеко-далеко раздавался топот копыт, и, если ухо приложить к земле, то слышно было их ритмичный стук, колокольчики всполошено звенят, лес тревожно шумит. Рута сорвалась и стремглав побежала в дом, чтобы притаиться мышкой.
Мертвый полдень разлагался в запахах одуванчиков, которые хищно цвели в солнечных лучах, и обжигал сады оранжевый дождь солнца, а небо говорило на зеленом языке травы. Сойка, что свила гнездо на верхушке сосны, прищурила глаз и внимательно обследовала всадника, остановившего коня возле дома. Рута припала к окну – он? Не он? Всадник крикнул в заплесневелое стекло что-то по-немецки, Рута догадалась, что он спрашивает дорогу на Выжев.
Жужжание мух в паутине леса, которые бились о всадника, падали к конским копытам и поднимались снова желтой стеной вверх, было монотонным и успокаивающим, но Рута покоя не ощущала. Предпочитала не отзываться. Это был не он, не тот, кого она ждала. В старой хате царил полумрак, превращавший каждое движение в бездвижение. Дорога на Выжев? Село, которого уже нет, или оно есть, но не хочет появиться перед глазами, в конце концов, как и сама дорога: можно показывать влево, вправо, куда угодно – она может быть всюду и нигде.
И снова он что-то выкрикнул – видимо, есть ли здесь живая душа. Есть, но что с того? Конь гарцевал под всадником, и пылища вскрикивала под копытами и поблескивала на солнце мелкой чешуей. А почему бы и ей самой не стать всадницей, ищущей дорогу на Выжев? Конечно – всадницей на быстром коне в простор сумасшедший и дикий, во вспененные водопады, в оскаленные леса, в зеленые груди гор – мчать и мчать. Покинуть этот темный сумрак, запах навоза и молока, каждодневное блуждание по хозяйству, лугам, лесам. Ведь разве это ее судьба?
Всадник спешился, мухи сходили с ума, шаги приближались. Рута сжала в руке большой нож, которым отец колол свиней. Дверь заскулила, полоса света подожгла пол и скользнула к противоположной стене. Пригнув голову, всадник вошел в дом и остановился, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку. Рута замерла у печи, колеблясь, что делать: то ли, воспользовавшись внезапностью, броситься прямо на него и – в дверь, то ли подождать, пока он освободит проход. Но всадник уже успел ее увидеть и был немало удивлен, что видит именно девушку, да еще одну. Он улыбнулся и сказал что-то по-немецки, Рута ничего не поняла, но догадалась, что ему захотелось теперь чего-то большего, чем дороги на Выжев. Она сжала нож и выставила его перед собой. Всадник сделал несколько шагов, ловко вывернулся, перехватил ее руку и отобрал нож. Тогда она схватила кочергу и хотела изо всех сил опустить ему на голову, но всадник и тут оказался проворнее, хотя кочерга таки задела его плечо, и он зашипел от боли, а через мгновение пнул Руту под колено, и пинок был очень болезненный, Рута упала. Всадник схватил ее за руку, опрокинул на спину и прижал к полу обеими руками, опять что-то пролопотал и ударил ее по лицу, но это было его ошибкой, потому что она молниеносно царапнула его ногтями по щеке, целясь в глаза, аж кровь проступила на месте царапины. Всадник схватился за лицо, а девушка вскочила и бросилась к двери. Всадник поймал ее за подол платья, потянул к себе, девушка сопротивлялась, но он не отпускал, наконец ему удалось обхватить ее ноги и снова повалить на пол. За это он поплатился второй поцарапанной щекой, девичьи руки не покорялись, выкручивались, ему едва удалось заломить их девушке за спину, он навалился на нее и ногами раздвинул ее бедра, но когда высвободил руку, чтобы задрать платье, она снова выдернула руки и теперь уже впилась ногтями ему в нос и губы. Кровь залила лицо нападавшего, а девушка еще и укусила его за руку так, что он взревел, как раненый зверь, и утратил на мгновение контроль над ситуацией. Рута воспользовалась замешательством, поджала под себя ноги и ударила его в пах. Нападающий рухнул на спину, а она подхватила кочергу и теперь все-таки попала ему по голове. Всадник беспомощно всхлипнул и замер. Рута села на скамью и тяжело дышала, поправляя обшарпанное рваное платье. Неизвестно, сколько бы она так сидела, если бы не услышала ржание коня. Он же, наверное, голодный.
Вышла из дома, расседлала вороного и повела в сад, где бушевала густая сочная трава, и привязала за заднюю ногу к яблоньке. Конь сперва дернулся, цвет осыпался, словно волосы старой седой женщины. Рута погладила его рукой, чтобы успокоился, затем вернулась в дом, посмотрела на мертвеца – он лежал неподвижно. Чувствовала, как бьется ее сердце и не может успокоиться, но взяла себя в руки и вышла во двор, оглянулась за лопатой и спустилась в ложбину за садом. Там был сплошной песчаник, только сверху заросший муравой. Легко срезала траву и сложила сбоку, а затем стала копать, лопата легко входила в песок, и яма росла на глазах. Когда она стала ей по грудь, вылезла из ямы и вернулась в дом. Всадник был тяжелый – видела, что ей не справиться. Пришлось привести коня и привязать ноги всадника к его шее. Конь покорно шел за ней и волок за собой мертвеца до самой ямы, он ничем не выказывал страха перед мертвецом, казалось, ему было все равно, возможно, от усталости. Рута высвободила труп и отвела коня обратно в сад – не хотела, чтобы он видел, как она закапывает всадника. Вернувшись, расстегнула на всаднике куртку и обыскала – нашла кошелек с червонцами и охапку каких-то бумаг, еще там была глиняная трубка с мошной табака и шесть золотых пуговиц, на некоторых остались кусочки материи, это указывало на то, что их поспешно срезали ножом. Вероятно, тоже у убитого. Отложила все это в сторону, а потом сбросила мертвеца в яму и засыпала песком. Время от времени прыгала в яму и утрамбовывала песок голыми ногами. И все же песка еще осталось достаточно, и она его рассеяла, а могилу сверху обложила дерном.
Пуговицы она положила в кошелек и спрятала за печкой, а бумаги разложила на столе и с минуту их рассматривала, но, ничего не поняв, спрятала и их. Затем вывела коня из сада и напоила у колодца. Конь был печальным и покорным, было впечатление, что всадник для него чужой, отсутствие его совершенно не тревожило коня, зато, видно, пришлась ему по душе Рута, так как он коснулся ее щеки своими мокрыми губами.
И вот так начали они жить вдвоем – Рута и конь, девушка с конем даже разговаривала и была убеждена, что он все понимает, по крайней мере, видела, как он не раз кивал головой, соглашаясь с ее словами, или же мотал хвостом, когда чему-то радовался. А когда она дала ему немного меда, он даже заржал от удовольствия и затряс гривой. Теперь она на коне ездила в луга за травами и даже не представляла, как могла раньше жить без коня.
Кроме конька, Рута общалась с Вивдей, помогала ей собирать и сушить травы и корешки, училась знахарской премудрости, но не участвовала в колдовстве – только наблюдала. Достаточно было пережить тяжелую смерть отца, чтобы убедиться, как страшно колдунам покидать эту землю. Ей хотелось поинтересоваться у старухи, не боится ли та заниматься всем этим, но она не осмеливалась. Иногда Рута ночевала у Вивди и замечала, как та среди ночи пропадала – выходила на улицу и просто исчезала. Возвращалась утомленная на рассвете и приносила какие-то гостинцы, но Рута к ним не притрагивалась. Еще бывал у Вивди один гость, который даже пытался ухаживать за Рутой, – Франц. Он появлялся из ниоткуда и в никуда исчезал. Рута догадывалась, что это за тип, но никогда о нем у старухи не расспрашивала. Ей казалось, что этим она может ее обидеть, напомнить ей что-то неприятное и болезненное – а ну как у нее с Францем значительно более тесная связь, чем кажется.
К Вивде приходили не только за зельем от разных болячек, но и за колдовством. Делалось все это втайне, но шила в мешке не утаишь. Как-то случилось досадное происшествие, резко изменившее судьбу Руты.
Хлопец Кирило влюбился в дочь кузнеца Парасю, но ей приглянулся другой, и бедный парень очень из-за этого переживал. Напрасно покупал ей кольца, ленты и платки. Парася радушно принимала подарки, а затем смеялась над ним. Кирило терпел-терпел и наконец отправился к Вивде. Та велела ему раздобыть пучок волос и кусочек полотна с рубашки девушки и прийти в полночь.
Ночь была тихая, ясная, полная луна легко скользила в небе. Рута именно в ту ночь осталась у старухи. Парень пришел в условленное время. Вивдя разложила в печи огонь и принялась обкуривать хату зельями, а затем, взяв пучок волос и клочок полотна, подержала над дымом, что-то зашептала, а в конце громко закричала:
– Приди, Парася! Заклинаю тебя! Приди! Появись!
Парень от этих возгласов вздрагивал и молча молился. Вдруг волшебница крикнула:
– Уже идет!
Поднялся ветер, зашумели ивы, застонали совы и, словно из-под земли, раздался пронзительный визг. Дверь распахнулась, хлопец вздрогнул, и в дом ворвался ветер, а на пороге с выпученными глазами, с пеной у рта появилась Парася. Она тяжело дышала, словно преодолела большой путь. Колдунья взяла зелье и стала окуривать им девушку, а затем, силой раскрыв ей стиснутые зубы, влила в рот несколько капель какого-то напитка, отрезала пучок волос с косы и, обкурив зельем, стала что-то шептать.
И тут видение исчезло. Волшебница отдала Кирилу пучок волос и сказала:
– Иди домой и будь спокоен. Парася будет тебя любить. Но никому не рассказывай, что ты у меня был.
Рута не впервые была свидетельницей таких чар, но этот случай вызвал у нее тревогу, хотя и случилось так, как обещала колдунья: дочь кузнеца вышла за Кирила. Однако прожили они вместе недолго. Девушка вела себя так, будто пребывала во сне, часто бредила, вставала по ночам и слонялась по двору, а на утро ничего не помнила. И тогда Кирило не выдержал, пошел в магистрат и рассказал все райцам.[11]
Глава 6 Экзамен
Из записок Лукаша Гулевича
«Март 1647 года.
Мне назначили экзамен, и в присутствии целого цеха аптекарей я ответил на все вопросы, большинство из которых были не такими уж и сложными и касались рецептуры лекарств от самых распространенных болезней. Правда, у некоторых из них все еще были устаревшие и, честно говоря, дикие взгляды. Они никак не могли смириться с тем, что я считал, будто грецкие орехи не притупляют память, а лук и чеснок не сгущают кровь. Я сказал, что орехи, наоборот, очень полезны для памяти и умственной деятельности, а лук и чеснок очень полезны при простуде, а еще их надо есть зимой ежедневно, чтобы не было проблем с зубами. Часть их с недоверием слушала меня, а другая отмалчивалась. Видимо, они все же учитывали то, что я младше их и почерпнул какие-то новые сведения.
По крайней мере, экзамены я сдал, и мне было разрешено открыть аптеку. А вскоре после этого со мной встретился войт и поинтересовался, не согласился бы я занять пост магистратского, или же судебного врача. В мои обязанности должно было входить присутствие при пытках, я должен был следить, чтобы допрашиваемого не довели до смерти. Я заколебался, но он меня успокоил тем, что это не так уж часто случается – раз в неделю, а то и реже. Исключения бывают только во время больших погромов, когда поймают целую шайку разбойников.
– Не бойтесь, не перетрудитесь, – добавил он. – Зато у вас будет постоянный доход. А когда станете магистратским служащим, то за деньги магистрата вам просмолят крышу, подлатают стены и почистят трубу. Ведь ваша аптека еще не приносит хорошего заработка?
Это была правда, поэтому я согласился.
– Тогда вам придется сдать еще один экзамен перед нашими докторами. Вы ведь, наверное, собираетесь также вести врачебную практику? Ваш дядюшка рассказывал, что вы учились на хирургии и посещали лекции ведущих хирургов.
Я ответил, что по мере собственных сил не хотел бы запускать своих знаний по хирургии.
– Чтоб вы знали, – сказал он, – между хирургами и врачами есть существенная разница, которая заключается в том, что если последние являются учеными и черпают свои знания из книг, то хирурги, а точнее, цирюльники, это всего лишь ремесленники, занимающиеся только внешними болезнями. Они одинаково умело пользуются и бритвой для бритья и скальпелем, леча карбункулы, фурункулы, шишки и черную чесотку, практикуя в торговых будках на базарах и ярмарках или где-нибудь у дороги. Получив звание мастера, они не нуждаются уже ни в обучении, ни в знании латыни. Как и каждый ремесленник, они должны всего лишь отбыть свою мастерскую «работу». И люди, скажу вам, доверяют им больше. Вот такой парадокс. Я пытаюсь как-то с этим бороться, потому привлекаю ученых людей. А эти обманщики уже распоясались не на шутку. Им уже мало, чтобы их называли мастерами или цехмистрами, они сами себя награждают научными титулами бакалавра, лиценциата, доктора, хоть и не имеют на то никаких оснований. А еще надевают длинную темную сутану и остроугольную шапку, чтобы сразу было видно, что это за птица. Шуты, одним словом.
И вот я наконец увидел их, этих закостенелых в своих предрассудках и убеждениях тугодумов. Первое, о чем меня спросили, касалось того, как я отношусь к кровопусканию при высоком давлении. Я ответил, что этот метод уже устарел, его можно использовать только в крайних случаях и спустить можно не более полулитра крови. Эти мои невинные слова вызвали бурную реакцию. Доктор Якуб Нигель заявил: «Чем больше воды достают из колодца, тем больше хорошей в нее прибывает; чем чаще ребенок сосет свою мать, тем больше у нее молока. Так же и с пусканием крови».
Доктор Мартин Грозваер спросил, известно ли мне, сколько крови содержится в человеческом теле? Я ответил, что пять литров, и услышал громкий хохот и хлопанье ладоней по коленям.
– Чему вас учили? – кричал Мартин Грозваер. – Человеческое тело содержит двадцать четыре литра крови! А значит, без смертельных последствий можно двадцать литров нацедить.
Я спросил, был ли кто из присутствующих свидетелем такого обильного сцеживания, видел ли кто, чтобы кому-нибудь пустили крови больше, чем пять литров. Никто не ответил утвердительно, но все остались при своих мнениях. Я знал, что спорить с ними бессмысленно, ведь и в Венеции, и в Пруссии я встречал таких же врачей, которые иногда становились причиной смерти своего пациента именно потому, что пускали слишком много крови. Однако никто из них не понес наказания, поскольку вера в целебное кровопускание была повсеместна. Отвергали ее только мальтийские рыцари, у которых на вооружении были арабские медицинские трактаты, а следовательно, и я перенял от них – не раз, в конце концов, убедившись в их правоте – негативный взгляд на частое кровопускание.
Но львовские врачи так просто не сдались и принялись спрашивать меня, какие именно жилы надо вскрывать при различных болезнях. Я уже видел, что только себе наврежу, если скажу то, что думаю и что на самом деле собираюсь делать, поэтому ответил, что вскрывать нужно те жилы, которые находятся непосредственно возле больного места. На просьбу уточнить, я продолжил: «В случае болезни головы, лица, глаз нужно вскрывать жилы на висках, на кончике носа и во внутренних уголках глаз; при язвах во рту и зубной боли – жилы на губах и под языком, при болезнях сердца и легких – срединную жилу на плече; при недуге печени – правую жилу плеча, а при болях в почках и пузыре – подколенные жилы. При геморрое, болезнях матки и нехватке менструации – жилы на ступнях».
Если бы не мои предыдущие заявления, этот мой ответ они бы приняли более живо, потому что на аплодисменты я, ей-богу, не рассчитывал, но они ограничились благосклонными кивками и довольным гулом. Казалось – они приручили меня и выбили из меня всю дурь. По крайней мере, я видел, что они успокоились, а мое невежество относительно содержания крови в теле человека решили счесть несущественным, так как главным в этом споре было не то, что я считаю содержание крови меньше, а чтобы, не дай бог, я не думал, что ее больше.
Я не хотел говорить, что в тех редких случаях, когда мне случалось пускать кровь, я ограничивался только жилами на локтях, плечах и ступнях. И место кровопускания не имело никакого значения. К тому же в некоторых случаях я считал холодные ванны и обливание холодной водой намного более эффективными, чем кровопускание. Но на этом экзамен не завершился, меня стали атаковать вопросами, источником которых были древние, еще античные представления.
– Как вы относитесь к труду медика Гаспара Боэна «Анатомический театр», изданному в 1621 году, где он пишет, – здесь Грозваер надел очки и развернул какие-то свои записки: – «В теле человека есть определенная кость, которая не подвержена уничтожению ни водой, ни огнем, ни одним другим элементом, также не может она быть разбита или сломана ни одной внешней силой. В день Страшного суда Господь окропит эту кость небесной росой, и тогда все члены соберутся вокруг нее и объединятся в одно тело, которое, будучи оживленным Духом Господним, воскреснет живым. Евреи называют эту кость «Люс» или “Люц”».
Что я мог ответить, если, много раз делая всевозможные разрезы, я ни одной похожей на это описание кости не обнаружил? Я так и сказал:
– К версии уважаемого ученого я отношусь с полнейшим почтением, но до сих пор анатомы не сошлись во мнении относительно места расположения этой кости. Везалий настаивал, что она имеет форму горошины и содержится в первом суставе ступни, тогда как талмудисты поместили ее в основании черепа, в первом из двенадцати позвонков грудной клетки.
– Назовите определяющие элементы витальности, которые мы привыкли называть гуморами.
– Тело наше, этот уменьшенный мир, состоит из четырех стихий: теплой – собственно крови, сухой – желчи желтой, влажной – слизи, или флегмы, и холодной – желчи черной или меланхолии.
– Какие функции выполняет каждый гумор?
– Кровь – жизненный сок: когда она потоком льется из тела, то вместе с ней уходит и жизнь. Желчь – желудочный сок, необходимый для питания. Флегма – широкая категория, под которую подпадают все бесцветные выделения, – выступает смазочным материалом и охладителем. Заметная в таких субстанциях, как пот и слезы, она становится очевидной в момент ее избытка – при простудах и лихорадках, когда она выходит из носа и рта. Четвертый телесный сок, черная желчь, наиболее проблемный. Его почти никогда не обнаруживают в чистом состоянии; на него возлагается ответственность за замутнение других жидкостей – например, когда кровь, кожа или экскременты приобретают темный оттенок. Кровь делает тело горячим и влажным, желчь – горячим и сухим, флегма – холодным и влажным, черная желчь дает ощущение холода и сухости.
– С какими аспектами природного мира согласуются эти аналогии?
– С влиянием планет и сменой времен года. У холодной и влажной зимы много общего с флегмой, это время простуд. Кроме того, каждая стихия имеет свой цвет: кровь красная, желчь желтая, флегма бледная, меланхолия темная. С помощью этих характеристик можно объяснить, почему у представителей разных рас неодинаковой цвет кожи, почему у одного человека кожа светлого оттенка, у второго – смуглая, у третьего – розовая, у четвертого – желтоватая.
– Каково ваше мнение относительно того, что «состояние» телесных соков служит показателем «состояния» тела?
– Положительное. Ведь жизнь тоже «течет», поэтому жидкости и витальность принадлежат к одному смысловому порядку. Малейшее повреждение или рана приводят к появлению жидкостей, тогда как твердые части остаются скрытыми. Кроме того, можно наблюдать, как жидкие субстанции – еда, питье, лекарства – попадают в тело и покидают его, превратившись в флегму, слюну, пот, мочу и испражнения. А вот твердые части невозможно «поймать». Отсюда противопоставление тайного и зримого: вход и выход жидкостей, так же, как и их преобразование, становятся нитью Ариадны в лабиринте внутренних органов. Поэтому мы часто используем с диагностической целью мочу.
Я мог бы поиздеваться еще и сказать, что мы привыкли таких медиков называть «мочепророками», но сдержался, ведь все они сидели передо мной. Эти надутые, напичканные устаревшими знаниями медики. Среди них не было никого моего возраста, всем было не менее пятидесяти. Для них наука замерла четверть века назад и с тех пор не продвинулась вперед ни на пядь. Они до сих пор были сторонниками учения Галена и не знали ничего о латинских переводах арабских трактатов. Видимо, поэтому и не желали сдаваться и пытались загнать меня в глухой угол. Но я хорошо ориентировался в античной школе медицины и с легкостью отражал их атаки.
– Как гуморы влияют на физические характеристики и темпераменты? – спросили еще они, и это был последний вопрос, на который я отвечал уже несколько раздраженным тоном, давая понять, что им не удастся поставить меня в тупик.
– Розовый цвет лица свойственен тем, у кого избыток крови; они бодры, энергичны, выносливы. Те, у кого слишком много желчи, раздражительны, имеют холерическую комплекцию. Зябкость и бледность свойственны тем, кто страдает от избытка флегмы. Меланхоликов, в которых доминирует черная желчь, отличает смуглость, мрачный и печальный характер.
После этого их лица расплылись в улыбках так, словно они все вдруг возжелали избавиться от своей раздражительности и мрачности, они жали мне руки, а потом мы пошли на обед в трактир, где употребили ягненка и десяток уток.
Доктор Доминик Гелиас, старший среди экзаменаторов, который не задал мне ни одного вопроса, через несколько дней пришел ко мне в аптеку. Он был очень опрятно одет и при шпаге, а то, как он держал голову, как старался не горбиться, ступая мягко, по-кошачьи, свидетельствовало о том, что он всему своему облику и движениям придает какой-то вес, возможно, пытается выглядеть моложе. Доктор с интересом огляделся и спросил:
– А скажите мне, пан Мартин, эта гуморальная теория, которая пришла к нам из античности, еще актуальна там, на Западе?
Я предложил ему сесть в кресло и засомневался, могу ли ответить то, что думаю, но он тут же добавил:
– Видите ли, я, конечно, сильно отошел от современной науки, но имею свои определенные взгляды на ту или иную теорию, сопоставляя ее со своей практикой. И скажу вам, что практика моя дает большие основания для сомнений. Ведь все идет хорошо, пока жизненные соки мирно сосуществуют друг с другом в состоянии равновесия: каждый из них в определенной степени соответствует постоянным телесным функциям – пищеварению, питанию, живучести и выведению стула. Болезнь возникает, когда один из гуморов накапливается или, наоборот, исчерпывается. Например, при слишком жирном питании тело начинает вырабатывать слишком много крови, приводя к «кровяным проблемам» или же к давлению и, соответственно, к лихорадке. Как следствие – кровотечение, паралич или сердечный приступ. Недостаток крови или плохая кровь вызывают ослабление жизненных сил, кровотечение при ранении – обморок или смерть. Та же логика работает и в отношении других гуморов. Но когда у нас начинают лечить ту или иную болезнь, каждая из которых имеет свою символическую окраску, травами соответствующей расцветки, я начинаю смотреть на это, как на шарлатанство.
– То есть, когда лечат желтуху желтым зельем, а кровяное давление – красным?
– Именно так. К этим средствам добавляется и магия чисел, определяющая благоприятное или опасное время суток, день, месяц или год. Она играет на симметрии цифр: чтобы вылечиться от головокружений, нужно трижды пробежать через поле льна. Лихорадка пройдет, если девять дней подряд поститься и съедать по девять листьев шалфея. Леча от желтухи, поят отваром из воды девяти волн с девятью речными камешками. Важную роль играет также сочетание цифр и цветов: чтобы прошла ангина, нужно девять раз обернуть вокруг горла красный шарф. А наш постоянный страх, в котором мы живем и от которого не можем избавиться, – язва? Существует убеждение, что результатом инфекции является постоянная материя, которая может передаваться через прикосновение и сближение, а также из-за проникновения разлитого в воздухе яда, который люди могут вдохнуть или вобрать порами кожи. Одни говорят, что это такое семечко, которое в организме дает роковой урожай, другие – что это невидимый ядовитый зверек с необычайной силой размножения. Поэтому лечат язву приложением сушеных лягушек, собачьих легких и вскрытых голубей, которые должны вытягивать из больного влагу.
– Знаете, на Западе тоже встречаются адепты такого лечения. Здесь все зависит от степени суеверия владыки той или иной страны. Насколько он позволяет науке двигаться вперед. Ричард Напьер, английский пастор и врач, врачевал с помощью религии: он молился об исцелении своих пациентов. В дополнение обеспечивал их магическими образками и оберегами, которые они должны были носить для защиты «от злых духов, фей и колдовства». Есть врачи, которые утверждают, что здоровье зависит от привычки регулярно менять рубашку, каждое утро принимать таблетки из терпентина и, конечно, носить на шее в качестве амулета заячью лапку.
– У нас еще и не такое услышите. Якуб Нигель, один из тех, что вас экзаменовали, среди своих рецептов пропагандирует следующий: больной должен отварить яйца в собственной моче, затем закопать их в муравейнике, и когда муравьи их съедят, болезнь пройдет. При коклюше надо выйти на берег реки и смотреть на ее течение. Болезнь пойдет вслед за ним. А сколько легковерных хаживают на похороны совершенно чужих им людей! И все ради чего! Чтобы прикоснуться к покойнику, благодаря чему болезнь покинет живое тело, перейдя в мертвое. У помоста или виселицы толпятся матери с больными детьми, чтобы те притронулись к трупу. Эпилептики ловят ртом брызги крови казненного. О-о, вы увидите здесь еще много интересного. Но бороться с этим бесполезно. Приходится закрывать на все это глаза и делать свое дело.
– Я к этому готов, – сказал я. – Но, знаете ли, касательно этих гуморов… сколько я не исследовал трупы, ни разу не видел ни флегмы, ни желтой или черной желчи, ни духа жизни. Все эти греческие фантазии мало что нам объясняют.
– Некоторым для медицинской практики вообще не надо никаких знаний. Вы еще не знакомы с нашим городским палачом? В связи с вашей должностью вы вынуждены будете и с ним общаться. Так вот – он тоже занимается медициной. В конце концов, это у палачей уже стало традицией. Он имеет исключительное право на то, чтобы взять себе отрубленную голову.
– Зачем она ему?
– О, у такой головы немало лечебных функций. Сначала ее нужно положить в муравейник, пока муравьи совершенно ее не очистят, а затем спрятать в подвале, где царит сырость, и ждать, пока она слегка не порастет мхом. Этот мох палач собирает и продает. Многие верят, что он лечит от различных недугов. А вы наведывались в другие наши аптеки?
– Нет, а надо было?
– Конечно, надо. Ведь ваша аптека – не типичная. В образцовой аптеке должно быть так называемое мумие, точнее, менструальная жидкость умершей женщины, маринованное человеческое мясо, человеческий жир, мох, выросший на черепе покойника, а также наливка на костях. Эти аптекари являются постоянными клиентами палача, он их обеспечивает всеми упомянутыми ингредиентами.
– Ну, это мне известно. Видел не раз в немецких землях, где издан был указ, чтобы фармацевты держали у себя под рукой не менее двадцати трех различных частей человеческого тела.
Говоря это, я обратил внимание на шпагу доктора и спросил:
– Вам тоже больше нравятся шпаги, а не сабли, как большинству шляхты? Судя по ножнам, там настоящая толедская сталь?
– А-а, да-да, – оживился доктор. – Это еще моя юношеская забава, но я не расстаюсь с ней никогда. И не раз она меня спасала. Сабля хороша для всадников, а я предпочитаю не подниматься слишком высоко над землей. А вы, я вижу, знаток?
Я снял со стены свою шпагу и, вынув из ножен, подал доктору.
– О-о! – не сдержал своего восхищения тот. – Это лезвие знаменитого оружейника Томаса д’Альяла. Я узнал его клеймо. Замечательная вещь.
– При случае хотел бы спросить, не посоветуете ли мне какого-нибудь учителя фехтования? Есть такие здесь, во Львове?
– Да-да. И не один. Только это у нас называется не фехтованием, а шермеркой. Но у вас уже есть практика?
– Да, конечно. Довелось немного повоевать, но с тех пор как у меня повреждена нога, я ограничен в маневре. Поэтому хотелось бы усовершенствовать шермерку – я правильно выражаюсь? – не слишком прыгая.
– Прекрасно. Я познакомлю вас с мастером Аланом Рамзеем. Он из Шкоции. Здесь у нас есть целая Шкоцкая улица, где живут тамошние купцы. А у Рамзея есть своя школа шермерки. К нему приезжают и из других городов, или он порой выезжает, когда в его учении нуждается слишком уж большая шишка. А знаете, – доктор поднялся, собираясь уходить, – я вас приглашу на наши посиделки. Мы собираемся время от времени в шинке «Под Тремя Крюками». Такая, знаете ли, своя компания. Ведь со временем друзей надо выбирать, как оружие. Там будет также и Рамзей. А еще лицо, вам знакомое, – доктор Калькбреннер. Его несколько демонизируют, но в целом – интересная персона.
– Однако он не был среди тех, кто принимает экзамены.
– Нет-нет, он слишком независим. Поэтому в магистрате его не любят. Зато он делает то, чего не делают другие. А именно – трепанацию черепа. О других его революционных шагах в хирургии распространяться не буду, потому что все это нелегально и тайно.
– О нем рассказывают, что он знаком с дьяволом. Что дало основание для таких слухов?
– Народ у нас суеверный, как, впрочем, много где. Где-то в Андалузии Калькбреннера уже сожгли бы. Он прибыл во Львов вместе с вами, но успел захватить воображение здешних легковерных. О вас, по крайней мере, он отзывался очень положительно.
– Странно. Мы почти не знакомы.
Доктор Гелиас посмотрел на меня и сказал:
– Благодаря вам он спас свою жизнь. Жаль, что ценой вашего же товарища. У него есть своя широкая клиентура. У нас, знаете ли, больше любят иностранцев. Видимо, скоро вы и сами это на себе почувствуете.
Он говорил это, не спуская с меня глаз, словно давая понять, что ему известно нечто большее, чем было произнесено вслух. Мы попрощались, договорившись встретиться в шинке».
Глава 7 Наука меча
Палач города Львова Каспер Яниш унаследовал свою весьма уважаемую профессию от отца, палача города Сянок, у которого он был подмастерьем, и выполнял свою работу с рвением и усердием. Город был доволен его ответственным трудом и исправно платил ему как за пытки и казни, так и за другие, не менее важные обязанности, доверив палачу еще и местный публичный дом, который находился на маленькой улочке под Высоким Замком, прямехонько над шинком Герцеля Гнауфа «Под Желтой Простыней».
Также в обязанности палача входило отлавливать бездомных собак и кошек, выгонять свиней из города, за каждую такую свинью получая вознаграждение; он должен был следить за тюрьмой, распоряжаться в ней, поставлять заключенным свечи и сено за счет города. Естественно, со всем этим сам он справиться не мог, тут ему на помощь приходили подмастерья. Палач чувствовал себя настоящим хозяином города, и община города в долгу не оставалась, оплачивая не только работу, но и все орудия его труда, закупку дров и соломы для сжигания, дерево для виселицы и помоста. Также община заботилась о его домике – за свой счет и печь переставила, и защелки на дверях сменила, даже на лекарства и лечение он мог получить средства, а в случае смерти город его и похоронил бы.
Все виды казней были четко классифицированы, и преступник, ожидая решения суда, уже и сам хорошо знал свой приговор. Воров за кражу, превышающую три гроша, казнили. За кражу, совершенную днем, казнили мечом, а за ночную – веревкой. Поджигателей и колдуний сжигали, как иногда и виновных в мужеложстве, женщин-воровок, распутниц и различных мошенников топили, матерей-детоубийц и тех, кто выходил замуж во второй раз, не сообщив о первом замужестве, могли утопить, а могли и живьем в землю закопать. А уж отсечение головы считалось казнью почетной, но в то же время достаточно универсальной, поэтому применяли ее порой и для упомянутых преступлений, потому как такая казнь привлекала куда больше внимания и ее потом долго обсуждали. Особенно если она не ограничивалась только отсечением головы. Насильника и убийцу Якуба Зембку в 1645-м сначала раскаленными клещами рвали прямо на Рынке, затем во второй раз его рвали уже за воротами и там, на том месте, где он изнасиловал и убил девушку, разрубили на четыре части и развесили на столбах. А одну детоубийцу сначала публично до крови высекли розгами, а затем должны были зашить в кожаный мешок вместе с собакой, петухом, обезьяной и ящерицей и бросить в реку. Таким был изысканный приговор, но когда Каспер представил присяжным счет за воловью шкуру и обезьяну, те решили ограничиться казнью мечом.
Первой казнью, которую провел Каспер собственноручно, было сожжение. Произошло это в 1641 году. Судья рассказал, что задержали мошенника, который выдавал себя за священника-бернардинца. Некий Альберт Вироземский, поступив в монастырь францисканцев и пробыв там где-то с год в новичках, решил, что жизнь в монастыре ему не по вкусу. Поэтому он похитил печать у настоятеля и изготовил бумагу, будто он – священник ордена и может женить, исповедовать, крестить детей, причащать и хоронить. Вот с этой бумагой он и стал ездить по селам в окрестностях Львова и отправлять службу. А поскольку язык у него был хорошо подвешен, то умел наплести он немало. Наконец его поймали и посадили. За мошенничество его ждала смертная казнь. И тогда он сделал ужасную вещь: решил продать душу дьяволу.
Он проколол палец и написал кровью на бумаге, что отдает себя во власть дьявола, отрекаясь от Господа Бога и Матери Божьей – только бы нечистый освободил его из тюрьмы. Писульку эту он спрятал за пазуху. Дьявол не замедлил предстать перед ним в образе юноши, посоветовав, чтобы ради своего освобождения он называл себя в суде священником. Альберт послушно выполнил этот совет. Тогда дьявол сказал ему, что теперь остается разве что ножом заколоться или повеситься, если не хочет жариться на огне. Альберта это удивило, и он показал свою писульку, но дьявол сказал, что документ оформлен не так, как полагается. Он дал Альберту бумагу и перо, а также нож, чтобы тот надрезал средний палец левой руки и записал то, что дьявол ему надиктует, и лишь тогда он той же ночью спасет Альберта.
Бедняга поверил и в одной бумажке отрекся от Господа Бога, а во второй отписал свою душу дьяволу, в чем признался на суде.
– И что вы думаете? – закончил рассказ судья, посвящая палача в подробности дела. – Он всех нас убеждал, что действительно видел дьявола, который приходил к нему сквозь стену. Но черт был хитрый. Он и не думал освобождать этого отступника – и дальше уговаривал его повеситься. Что ж – кто должен гореть, висеть не будет.
Палачу всегда работы хватало, потому как приходилось пытать и казнить не только львовян, но и крестьян и мещан из тех местностей, где своего палача не было. Было и еще одно обязательство, которое лежало на нем, – собирать по домам нечистоты и вывозить за город. Правда, Каспер за этим делом только наблюдал, а телегу с большой железной бочкой везли четверо татар, схваченных когда-то в плен, но жили они вольно и могли, если бы очень захотели, удрать, однако не удирали, а послушно выполняли свою вонючую работу, вывозя все это сокровище за город и выливая в Полтву на радость лягушкам и ракам, которых расплодилось там столько, что целые стаи аистов, гусей и уток дневали и ночевали по берегам и поймам реки.
Когда Каспер еще был юношей, отец иногда брал его в Кросно, Стрый или в Перемышль, где, пользуясь тем, что их никто не знал, они быстро находили веселую компанию и гуляли два-три дня в какой-нибудь корчме. Собственно, в Стрые «Под Короной» положила на него глаз бойкая бабенка, муж которой, перебрав, рухнул под стол и громко захрапел.
– Не были бы вы, паныч, так любезны, – обратилась молодуха к Касперу, – отнести моего мужа в хату? Вы, я вижу, мужик здоровый, а оно такое хилое, что вы, ей-богу, не перетрудитесь.
И при этом засмеялась таким заразительным, таким бодрящим смехом, что у Каспера внутри что-то екнуло, когда увидел ее глаза, горящие огнем, от которого уже и весь он занялся и запылал с ног до ушей. Не долго размышляя, он выволок пьяное тело из-под стола, закинул его охапкой на плечи и вынес из корчмы. Бабенка шла впереди и показывала дорогу. Был поздний вечер, в садах на сладкой траве засыпало лето под колыбельную кузнечиков.
По дороге Каспер узнал, что ее муж – мельник, и живут они за плотиной у реки. Бабенка время от времени спрашивала, не хочет ли он отдохнуть. Но Касперу неохота было сознаваться, хотя под весом тела, залитого по самое адамово яблоко пивом и медовухой, уже и ноги заплетались, и он только перебрасывал пьяницу с одного онемелого плеча на другое. Он уже не смотрел под ноги, брел вслепую, прислушиваясь к шагам и голосу женщины, который заглушал своим храпом мельник.
– Пришли, – наконец сказала она, – занесите его на сеновал.
Каспер почувствовал большую радость, сбрасывая пьяный мешок с плеч. Тот только проворчал что-то невыразительное, и снова захрапел.
– Не знаю, как вас и благодарить, паныч. Дай вам Бог здоровья. Может, желаете вина?
– Не знаю… – замялся Каспер, растирая ладонью онемелое плечо.
– Э, да чего там, щас вынесу.
Через минуту она появилась с корзиной и поманила его к реке, там в лозах они уселись на траву, и молодица угостила его сперва вином, затем колбасой и, наконец, собой. Каспер аж захлебнулся ее горячими поцелуями и дорвался до нее так, словно в последний раз в жизни, на самом же деле – впервые. С тех пор было у него не одно такое приключение, но, как правило, на один раз, потому как он знал, что, собираясь стать палачом, не сможет ни с кем связать свою судьбу, разве что со шлюхой, которые волочатся за каждым войском и готовы на все ради хлеба и вина.
Отец Каспера был образцовым палачом, которого для особых случаев приглашали в другие города, даже в столицу, но после каждой казни или пытки он должен был здорово напиваться, чтобы восстановить расшатанное душевное равновесие, а во время одной такой пьянки в Кросно в корчме он сцепился с мадьярскими вояками и, разбив одному голову кружкой, получил саблей по шее и, истекая кровью, рухнул в канаву у дороги. Тогда Каспера забрал к себе львовский палач в подмастерья, и парень сразу почувствовал разницу между обоими палачами, потому что если его отец был мягкосердечным истериком, то львовский палач Гануш Корбач напоминал бездушную мумию, презирающую весь мир, поскольку держит его в кармане и играет им, как яйцом. Гануш научил Каспера двум очень важным ударам по шее, которые гарантировали мгновенное отсечение – один попадал между третьим и четвертым позвонком, а второй – между четвертым и пятым.
– Казнь мечом – это тебе не молотилом и не саблей махать. Тут мастером быть надо, – говорил он. – Ты должен нанести удар вертикально с максимальной прецизионностью. Потому что если осужденный в последний момент дернется или попытается вырваться, меч попадет ниже или выше. Тогда не удастся отсечь голову одним махом. Люди увидят, как казненный страдает, как у него изо рта булькает кровь, а он еще пытается дышать, и дыхание это довольно громкое. Оно больше похоже на рев. А толпа в этот момент затаила дыхание, и в этой тишине слышно малейший звук. Второй удар в таком случае нанести будет еще труднее. А тогда ты услышишь уже и проклятия, и ругань, и даже, хотя это запрещено, в тебя могут полететь камни. Однажды у меня вышел странный случай, до сих пор не могу его забыть. Довелось мне казнить одного воришку, которого не раз ловили, наказывали плетьми и, наконец, решили отрубить голову. И вот, когда отрубленную голову положили на камень, она развернулась, как будто хотела оглянуться, и, выпучив на меня глаза, высунула язык и даже раскрыла рот, словно хотела что-то сказать. Я остолбенел, все это длилось очень недолго. Теперь меня постоянно мучает один вопрос: что он мне хотел сказать? Может, действительно что-то важное?
У отца Каспера был другой стиль – он отсекал голову, целясь мечом под самый затылок, но наискось, так, что меч срезал нижнюю часть челюсти. И когда подмастерья поднимали голову за волосы вверх, чтобы толпа могла полюбоваться, то снизу вываливался окровавленный язык и дергался, на радость зевакам. Услышав об этом от Каспера, Гануш весьма заинтересовался и, подробнее расспросив, тоже начал практиковать такой способ, срывая аплодисменты и возгласы восхищения.
У каждого есть своя цель в жизни, а какая цель может быть у палача? Единственной целью могло быть желание стать палачом таким же известным, как и его отец или Гануш, а то и превзойти их в мастерстве. Он должен, даже оказавшись вне общества, все же возвыситься над ним, потому что толпа жаждет зрелища, и должна это зрелище получить, и его задача сделать это зрелище незабываемым, чтобы люди, которые его презирают, могли еще долго об этом говорить. Толпа любила казни больше, чем театральные представления, ярмарки или зимние празднования. Страх, пронизывающий преступника, восходящего на помост, так же пронизывал и людей, но и пронизывал их верой в себя, верой в то, что им никогда не придется повторить этот путь, ведь они не такие, они – другие, они – лучше, они никогда не поскользнутся на жизненном пути, а потому они жадно ловили каждое движение приговоренного, каждое слово и взгляд, чтобы носить его в себе и вспоминать до следующей казни. И все же, веря в свою непогрешимость, они часто представляли себя на месте жертвы и то, как бы они повели себя там, на помосте, возможно, поглядывали бы гордо на толпу, как Иван Пидкова, или сыграли бы на свирели, как опришек Гойда, а может, их трясло бы, как в лихорадке, а колени подкашивались бы, и головой бы они вертели по сторонам, ища спасения, и жадно целовали крест, надеясь, что хотя бы здесь их ждет какой-то просвет.
Когда главный львовский палач состарился и понял, что лучше вовремя самому уйти, чем тебя прогонят с насмешками и свистом, с разрешения магистрата он передал свою должность Касперу, а сам вознамерился было выехать куда-нибудь в Мазовию, чтобы затеряться среди неизвестного люда. Но только он выехал за Краковские ворота, как на первом же повороте напали на него разбойники, надеясь на хороший куш, и, ограбив, зарубили на месте. Сколько им удалось украсть, никто не знает, но палач мог скопить неплохой капитал, и в этом никто не сомневался. Похоронили его за пределами кладбища, там же, где хоронили всех, кого он казнил или кто сам повесился или как-то иначе сам лишил себя жизни. Похоронили без священника, как последнего разбойника. Единственными людьми, присутствовавшими при этом, кроме могильщиков, был Каспер и две шлюхи, которые были благодарны Ганушу за то, что он отбил их когда-то от пьяных рейтаров, пытавшихся вывезти их из города на утеху армии.
В наследство Каспер получил жилье палача между двойными стенами, окружавшими город, стол палача в шинке «Под Красной Еленой», куда никто, кроме него, не имел права садиться и даже не пытался, и обозначенное только для него одинокое место в костеле. Раньше палачи вместе с челядью жили в Шевской башне, рядом с которой была еще одна, служившая тюрьмой, где иногда и головы рубили, когда не хотели большой огласки. Евреям, жившим неподалеку, такое соседство скоро обрыдло, потому что стоны истязаемых не давали покоя. После многих прошений им наконец удалось избавиться от громогласных соседей, и палачам выделили жилье у стен Галицких ворот. Каспер жил там вместе с Ганушем как подмастерье, а потом и сам стал хозяином и занял все помещение.
Разбойники, ограбив Гануша, забрали самое ценное, а остальное имущество бросили, и оно вернулось Касперу. Был там деревянный резной сундук с вещами и стопка исписанной мелким почерком бумаги. Когда Каспер внимательно присмотрелся, то понял, что это написанные собственноручно палачом записки, нацарапанные невесть для кого и для чего. Это была своеобразная история разбитых иллюзий и обманутых амбиций. Что вынудило его к этой писанине? Может, он взялся за это, чтобы хоть как-то заполнить бессонные ночи старости, воскресить себя в минувших днях, окруженных стеной воспоминаний, желая вытащить себя из болота, в котором провел всю жизнь, или же чтобы очистить себя от него, чтобы найти там, во вчерашнем дне, хоть какое-то зерно, которое оправдало бы смысл его существования, которое могло бы удостоверить на Страшном суде, что и он был человеком.
Палач конечно же литературным даром не обладал, но процесс писания часто заставляет людей говорить совсем иначе, чем в жизни, и, комбинируя уродливые каменные предложения, возводя словесные монстры, которые не рассыпались только благодаря своему неестественному весу, он создал нечто нечитабельное и скучное. Продираться сквозь эти словесные дебри было трудно и утомительно, однако Каспер погрузился в чтение, надеясь узнать хоть что-нибудь для себя полезное – то, чего ни отец, ни Гануш ему не открыли.
В отличие от Каспера, Гануш не унаследовал ремесло от отца, потому что его отец, собственно, походил разве что на клиента палача, занимаясь различными непотребными делами, точнее – был последним ворюгой, а поскольку такое занятие рано или поздно обрывается, то и здесь не обошлось без досадного случая, который положил конец кражам. Однажды старый Корбач украл коня у самого судьи магистрата, но, как назло, лошадь была особой породы – черный иноходец, которого судья купил у македонского купца. Глупый вор вместо того, чтобы погнать коня продавать куда-нибудь на Буковину или Мультению, отправился с ним на ярмарку в Жовкву, а там добрые люди, знавшие судью и гостившие у него, сразу коня и признали. Вора скрутили и вместе с конем отправили во Львов. Судья, который уже места себе не находил от такой невозместимой потери, обрадовался, как на свет народился, и на радостях велел подвесить конокрада на крюк и с помощью соответствующих методов добился у него признания во всех его прежних похождениях, после чего несчастный папаша напоминал вылущенный гороховый стручок, и казнь через четвертование принял уже с облегчением.
Жена старого Корбача Анна, узнав, что скоро станет вдовой, бросилась по людям и стала расспрашивать, каким образом можно мужа спасти, и одна пани, у которой мать Гануша прибирала, нашла выход. Она не знала законов, но знала обычаи. По ее словам, было только две возможности спасти приговоренного к смертной казни. Первая заключалась в том, чтобы нашелся кто-то, кто согласился бы стать под венец с обреченным или обреченной, тогда наказание ограничивалась только символическим прикосновением меча к шее. Поэтому неудивительно, что на место казни всегда сбегались девушки, чья репутация не давала надежд на теплое семейное счастье. Приходили и те, над кем тем или иным образом поиздевалась природа. Однако этот обычай имел отношение только к парням и девушкам. Но существовал еще один. Если сын осужденного вызывался идти в науку к палачу, стать его подмастерьем, а потом и самим палачом, то отцу отсекали только левую руку.
– У вас двое сыновей, – сказала мудрая пани, – вот и выберите из них того, кто принесет себя в жертву. В конце концов, не такая уж плохая специальность. Заработок стабильный, уважение общества обеспечено, – тут она засмеялась.
Анна с плачем вернулась домой и рассказала сыновьям, какой жертвы ждет от них их дорогой папаша. Старший сын наотрез отказался от такой чести, а младший покорился.
«Был я еще молодым, – писал палач, – чтобы мог предвидеть, какие страшные беды меня ждут, какую беду кует мне судьба. Любил я отца своего искренне и верно, и был я готов на все ради него. Не знал я тогда, что кладу черную печать на жизнь свою, что вверяю душу на муки, и никогда мне не искупить грехов своих, и буду я держать перед Господом Богом ответ на Страшном суде, яко последний из последних, яко ничтожнейший из ничтожных. Не знал я, что с того дня становлюсь юродивым, и будут меня сторониться, яко прокаженного, и плевать на следы мои, и никогда не позволено мне будет, переступив порог святой церкви, сесть возле людей, а навсегда я вынужден буду торчать где-нибудь в углу, чтобы на меня и взгляд людской не упал».
Вот так удалось спасти отца-конокрада, а однорукий вор – не вор, так что пришлось старику искать другое занятие. Гануш пошел к палачу в подмастерья, а опозоренные родители забрали его брата и покинули родные края. Больше он их не видел. И только лет через двадцать, когда пришлось Ганушу казнить сразу нескольких дезертиров, которые разоряли окрестности, в одном из них узнал он своего брата. И брат, также узнав его, заплакал, бормоча: «Видишь, видишь, как нам встретиться пришлось». «Вижу, – сказал Гануш, – но это твой выбор. Ты мог быть на моем месте».
Далее Гануш описывал весь процесс своей палаческой науки, признаваясь, что должно было минуть добрых четыре года, прежде чем он привык ко всем тем жутким зрелищам, которые пришлось ему наблюдать в застенках или на помосте под прангером – этим зловещим каменным столбом с вытесанными фигурами палача и Фемиды, служившим местом, у которого совершались казни. И далось ему это привыкание нелегко. Отсеченные головы мерещились по ночам, выпученные окровавленные глаза пронизывали его ледяным взглядом, множество голосов звенело в ушах, и этот ужасный назойливый звон заглушал другие звуки. Он понемногу чувствовал, как теряет способность слушать щебет птиц, даже нежное пение иволги казалось ему карканьем ворона, цветы на лугах пахли кровью, и даже вино имело ее вкус. После работы, придя домой, он долго мыл руки, тер их песком, но не успевал сесть за обеденный стол, как ощущение грязных рук снова заставляло его бежать на улицу и мыть, отмывать кровь, проступающую на ладонях. Он брезговал этими руками касаться своего лица, руки стали ему чужими, и тогда, когда люди обычно вообще не занимаются своими руками, он все время помнил о них, о том, что они – при нем, что он носит их при себе, и о том, чем они занимались в тот или иной день. Он всегда тщательно подпиливал ногти, чтобы чужой крови негде было спрятаться, но она была хитрее его. Он брил лицо и голову, но кровь всегда находила уютное место, например, уши или нос. Он всегда чутко выявлял ее.
Гануша кроме всего прочего угнетало то, что, став учеником палача, он вдруг лишился всего, чем жили его ровесники: от него отреклись друзья, он с грустью смотрел на их забавы, его, казалось, навеки покинул смех, хищное и жестокое животное поселилось в его душе и подтачивало молодость.
Каспер узнал в этих записках и первые свои ощущения, хотя у него они не были настолько драматичными. Конечно, сны тоже бывали страшными, но днем он стряхивал их, как дождевые капли, относился к своему долгу, как к обычной работе, – заставил себя так относиться. Иначе можно было сойти с ума. Разница между Каспером и Ганушем заключалась в том, что у Каспера отец был палачом, и он с детства оказался в реалиях, с которыми легко смирился. Он не стоял перед выбором, кем быть, он видел, что палач – это очень важная персона, к которой все относятся с опаской. Касперу хотелось стать таким, как отец, чтобы так же гордо расхаживать по улицам и ловить на себе встревоженные взгляды. У Каспера с самого рождения не было ни друзей, ни каких-либо родственников, кроме отца. Матери он не знал, и лишь незадолго до своей гибели отец рассказал ему, кем была его мать – обычной деревенской девушкой, которую соблазнил сынок львовского патриция, гостивший в их краях. «Да, да, сынок, течет в тебе голубая кровь», – смеялся отец. В общем, девушка забеременела и, пытаясь скрыть свой грех, бросила только что родившегося младенца в реку. «Однако ты не утонул, – продолжал отец. – Ты был бойкий мальчик. Тебя выловили нищие, вытащили, завернули в свои лохмотья и, надеясь на вознаграждение, со всех сил побежали в магистрат. Нашелся и очевидец, видевший, как бедная девушка бросала тебя в реку. Ее схватили и приговорили к смертной казни. А детеныша я выпросил и забрал к себе. Нанял кормилицу и вырастил тебя».
«И что стало с моей матерью?» – спросил Каспер дрожащим голосом, предчувствуя страшный ответ.
«Ее утопили. Вот что с ней произошло, – сказал палач и, помолчав, добавил: – Я запихнул ее в мешок, завязал и сбросил в воду».
«А перед тем мучил?»
«Это называется – подверг пыткам. Да. Конечно. Таково правило. Суд должен был узнать имя зачинщика этой беды».
«И узнал?»
«Она сказала, что сообщит имя одному только пану бургомистру на ухо при условии, что он сам решит, стоит ли его разглашать. Так и случилось. Она шепнула ему что-то, он побелел, и на том закончилось. Никто этого имени больше не услышал».
«А как звали мою мать?»
«Гедвига. Она была красивая. Ты очень на нее похож».
С тех пор Каспера как магнитом тянуло во Львов, хоть он и не представлял, каким образом может узнать, кто был его отец.
Глава 8 Мастер малодобрый
Читая записки Гануша Корбача, Каспер невольно проникся жалостью к этому маленькому мальчику, по воле обстоятельств силой вырванному из привычной жизни, чужому среди своих. Став палачом, Гануш все так же искал утех на стороне, уходя в загул в городках, где его еще не знали, но львовский палач – фигура солидная, полюбоваться его незаурядным мастерством не раз съезжались зеваки из близлежащих поветов, а потому бывали случаи, когда его узнавали и ужасались, что сидели с ним за одним столом в шинке.
Каспер вспомнил, как после очередной забавы с мельничихой в Стрые он отправился в корчму. И все было хорошо, он быстро влился в компанию местных завсегдатаев, угостив их пивом, но посреди забавы вдруг влетел запыхавшийся вестовой из Львова и закричал:
– Пан малодобрый! Возвращайтесь скорее – наконец задержали этого разбойника Чугая. Велели вам что есть духу мчаться назад и зарубить его, потому как боятся, что он снова из тюрьмы удерет!
Каспер моментально позеленел, заметив, как глаза присутствующих жгут его палящим жаром, как их рты кривятся в ругательствах и проклятиях, но поднялся, бросил на стол кошелек и вышел. Вслед услышал нервный шум, а затем оханье трактирщика: «Ну разве не цурис?[12] Ну, не цурис? А я еще и с этой шельмой чокался!»
Каспер выскочил из корчмы, а потом гнал коня до Львова так немилосердно, что у самых ворот конь захрипел и, неуклюже перебирая ногами, рухнул на землю. Каспер остаток дороги до Ратуши преодолел бегом. На площади под позорным столбом уже возвышался помост, а вокруг было полно зевак. Завидев палача, толпа оживилась и загудела, подгоняя его. Каспер поднялся к старосте и рванул яростно двери. У старосты от неожиданности задергался глаз.
– Какого черта?! – прогремел Каспер. – Какого черта, я вас спрашиваю, вы не дадите мне передохнуть? Я что – не человек? Засвербело им, видите ли! Как будто нельзя казнить завтра!
– Э-э, вы того, не кипятитесь, а то ведь я тоже могу вскипеть, если что. Мы этого Чугая ловили уже раз пять, если не больше, и каждый раз он давал деру. Говорят, у него в ладони такое зелье зашито, которое открывает все замки. Сегодня утром мы поймали его у любовницы, и не хотим рисковать. Вы уж не серчайте, мы вам сполна заплатим. То есть вдвойне.
– Так хоть послали бы кого посметливее! А этот дурак на всю корчму: «Па-ан малодо-обрый»! Чтоб ему черти приснились.
– Вот за это извините. Мы ему этого не поручали, чтоб вопил на всю корчму. Можете на нем согнать свою злость, если хотите, но вы должны и нас понять. Кто-кто, а мы общий язык всегда найдем. Как-никак, мы слуги закона, разве нет? И нет над нами судьи, кроме Бога.
– Черта, хотели вы сказать?
– Чтоб ему! Белый день, а вы нечистого вспоминаете. Перекреститесь и приступайте к работе.
– Что я должен с ним сделать? – спросил, сдерживая ярость.
– Отрубить голову. Немедля. – Староста отпер сундук. – Переодевайтесь.
– Не хочу. Пойду так.
– Что – и капюшон не наденете?
– Нет.
– Как это? Палач всегда должен быть в красном капюшоне, чтобы преступник его не сглазил. Таков порядок.
– От кого я должен рожу свою прятать? Все меня и так как облупленного знают. А от сглаза у меня есть свои обереги. Возьму только кожаный фартук, чтобы кровью не забрызгаться.
– Гм, как хотите. Фартук ваш почистили и спереди намазали воском, чтобы кровь меньше прилипала. Это пан Шольц посоветовал. Видел, говорит, в Богемии, – староста подал Касперу фартук и меч.
Карающий Меч Палача висел у Каспера дома на стене, но еще был Меч Возмездия, который имел церемониальные функции и хранился в помещении суда; его нес судья перед собой к месту казни, чтобы показать свою власть над жизнью и смертью преступника. Такие мечи были украшены поучительными сюжетами и глубокомысленными надписями. Меч Палача, унаследованный от предыдущего палача, был украшен распятием и надписью:
«Обретя это, потеряешь, пока найдешь. Купив это, ограблен будешь, пока купишь. И умрешь, пока состаришься».В отдельных случаях для казни использовали и Меч Возмездия, когда это касалось известных преступников, и это был именно такой случай. Каспер никогда раньше не держал этот меч в руках. Меч был длиной в локоть и тяжелее Карающего меча, на нем с одной стороны была изображена виселица с повешенным, а с другой – великомученица святая Екатерина. Ниже вдоль лезвия шла надпись:
«Над грешником сей меч я поднимаю, И под ударом смертным обещаю: Хоть потеряешь жизнь ты от меча телесную, Получишь Царство ты взамен Небесное».Каспер попробовал пальцем лезвие, оно было острое. В то же время заметил, что вес меча смещается в зависимости от того, куда его направить – вниз или вверх. Он удивленно посмотрел на старосту.
– А что – не видели еще такого? – засмеялся тот. – Там в мече имеется полость, заполненная до половины ртутью. При ударе ртуть с силой направляется к острию, а это, я вам скажу, значительно повышает силу меча.
– Вон оно что. И сколько лет этому мечу?
– О-о, пожалуй, добрых двести. Точно не знаю, хотя при желании можно заглянуть в магистратские книги. Одно скажу с уверенностью: на нем еще нет ста казней, потому как использовали его не так часто. Так что еще послужит.
Каспер знал, что после ста казней город торжественно закапывал меч в землю, потому что он выпил слишком много крови.
– Так что, могу я дать знак страже, чтобы выводила его? – спросил староста.
– Допрашивать не надо?
– Нет. Мы о нем знаем все, что нам нужно.
Больше всего не любил Каспер подвергать кого-то пыткам. Казнь длилась недолго, а пытки могли затянуться на целый день, а то и на несколько дней в зависимости от того, насколько выносливой и чувствительной была жертва к боли, которая должна была уничтожить сопротивление и попытку скрыть преступление, потому что вера в очистительную силу мучений, в их неоспоримую действенность не вызывала никакого сомнения. Если осужденный молчал, для этого могло быть только две причины: или пытки были слишком слабыми, или осужденный пользуется помощью сверхъестественных сил и, прибегнув к магии, мук не чувствует. Каспер был единственный, у кого были сомнения относительно пыток, потому как он ясно осознавал, что каждый, для кого боль становится невыносимой, предпочтет признаться в преступлении и ускорить свою смерть, чем пытаться вынести пытки. Тем более что конец был очевиден. Любое признание для осужденного было лучшим выходом, чем молчание, потому что тогда его ждало обвинение в колдовстве и смерть через сожжение. Итак, под пытками люди наговаривали на себя невесть что, хотя на суде от всего отрекались. Больше всего мороки было с разбойниками, которые часто готовили себя к пыткам еще на свободе, чтобы быть нечувствительными к боли.
Были, правда, случаи, когда жертва не выдерживала пыток и умирала, так и не признав своей вины. Это считалось значительным просчетом палача, он должен был быть бдительным и внимательно следить за состоянием того, кого пытал, и отпаивать его вином, если тот терял силы. Каспер еще от отца перенял этот очень удобный способ получения показаний, потому что подвыпившая жертва быстрее покорялась и начинала признаваться в том, в чем ее обвиняли. Правда, присяжным такая процедура не очень нравилась, и они давали разрешение поить вином только для подкрепления сил. Каспер на это не обращал внимания и для подкрепления сил у него было красное вино, а отдельно он держал наготове кувшин с белым вином, которым жертву подпаивал. Присяжные на расстоянии отличить вино от воды не могли, а то, что у жертвы язык заплетался, было обычным явлением для каждого, кто терпел большие муки и искусал язык и губы.
Пытки не считались наказанием, наказание наступало только после них, следовательно, палач казнил подозреваемого в преступлении прежде, чем судья признает, что он преступник. Каспер чувствовал себя кем-то очень значительным – от него зависело, кто предстанет перед судом и в каком качестве, но поскольку жертва могла быть невинной, палач должен был надевать перчатки, чтобы не прикасаться к ней голыми руками и тем самым не осквернить себя.
Во Львове, как и в Сяноке, применяли два вида пыток – растягивание тела канатами и прижигание, каждую из них повторяли трижды, попеременно. Первое занимало слишком много времени, второе было более действенным, потому что прижигание железом или огнем не требовало какой-либо особой подготовки.
Когда Каспер впервые должен был растянуть жертву, староста вынул толстую обтрепанную книгу и зачитал: «В одну стену высотой в полтора локтя от земли вбиваем крюк с кольцом, такой же крюк вбиваем в противоположную стену, только немного выше. Шнур, которым сзади на плечах спутаны руки повергаемого пыткам, протягиваем через кольцо повыше, а ноги прилаживаем к кольцу пониже на противоположной стене. Шнур смазывается жиром, чтобы легко можно было его дергать, потому как рывок за шнур вызывает вырывание плеч из суставов».
– Вот, видите? – ткнул староста пальцем в потолок. – Это вам не гоцки-клецки, а качественная работа.
Существовало три вида наказания: банниция, или изгнание из города, телесная кара и наказание смертью. Банницию считали особенно позорной и проводили ее по определенному ритуалу: сначала били в колокола, созывая горожан, потом объявляли на Рынке имя преступника и совершенные им преступления и выводили его за стены города, дорогой бичуя. При этом банит – изгнанный – должен был держать в руках пук соломы, который потом палач поджигал, произнося предостережения перед возвращением обратно. Изгнание могло длиться определенное время, а могло распространяться на всю оставшуюся жизнь, и горе тому, кто вернулся бы в город – тогда уж его ждала смертная казнь. Изгнав банита за стены, ворота закрывали, и на этом экзекуция заканчивалась.
Из телесных наказаний популярными были порки розгами. Одна, самая постыдная, происходила на Рынке у прангера, а вторая, применяемая для лиц более знатных и для мелких преступников, – в погребах Ратуши. Ворам на первый раз клеймили лицо, на второй – отрезали уши, на третий – выжигали каленым железом крест, но каждый раз также пороли от души. Если все это не помогало, то отрубали руки, а мошенникам, которые в игре в кости мухлевали, выкалывали глаза. В пору, когда Каспер стал палачом, телесные наказания пришли в упадок, потому что не имели какого-то особого значения, зато получили большое распространение пытки, как очень действенное средство следствия, после которых преступник все равно покидал застенки искалеченным.
Вешали за пределами города, потому что висельник должен был еще некоторое время висеть на виселице, пока не останется от него один скелет. Висельный Холм, или Гора Казней, вызывал постоянный интерес среди волшебниц и знахарей, вера в особую силу растений, которые там изобиловали, была так же прочна, как и веревка, на которой висел преступник. Но не только за растениями ходили туда тайком, а еще и для того, чтобы отрезать кусок тела повешенного, например, палец, из которого волшебницы варили «любчик» – приворотный настой и средство от импотенции, а то и целую руку, которой затем можно было открыть любой замок, кусок одежды также имел свою ценность, его прикладывали к ране, как и веревку. Рука повешенного славилась невероятными лечебными свойствами, некоторые из врачей носили ее с собой – страшную, черную, иссохшую, но смазанную маслом, чтобы отбить запах. Поэтому в первые дни выставляли у виселицы стражу, но когда смрад становился невыносимым, труп оставался без присмотра. И то сказать – стража была не против и сама отрезать что-нибудь и перепродать.
Приговоренные к виселице отличались тем, что перед смертью прихорашивались – мужики брились, надевали чистое черное платье, девушки надевали белые камлотовые[13] платья и, едя на телеге, сыпали из корзины цветами, заливаясь смехом. Это уже стало странной традицией, и никто ее из будущих висельников не нарушал. Проститутки всегда радостно приветствовали мужчин, которых должны были казнить, встречая их у тюрьмы, и бросали им цветы, которые те прицепляли к своей одежде. При этом проститутки пели:
Прощай, мой сокол, мой игривый! Уже тебя ждет женитьба, Но не на пани-графине, А на виселице женят ныне. Пойдешь не с нами в танец, А только с веревкой, засранец. Будет тя ветер качать, Буйные вихри лохматить. Будет тя ворон любить, Глаза расплющены пить. Совы тебе запоют, Нетопыри на дрымбе заиграют. Ведьмы тя пригубят, Пальцы украдут и затрубят.Но не только проститутки чествовали приговоренных – в зависимости от личных симпатий хозяин выносил кружку с вином и угощал обреченного на смерть, а тот, выпив махом, сразу приходил в хорошее настроение. Когда воз прибывал к Горе Казней, на верху которой стояла виселица, преступника пересаживали на плоский воз без бортов. Кони вытаскивали его под виселицу, преступнику набрасывали веревку на шею, лошадей стегали, и висельник исполнял свой последний танец. А чтобы он долго не мучился, дорогая семья ловила его за ноги и тянула изо всех сил вниз. Потом уже каждый, у кого была какая болячка, спешил прикоснуться к мертвецу или к урине, которая вытекла из него.
Отец Амброзий, старый доминиканец, который смолоду собирал средства на выкуп рабов, а потом ездил по татарским и турецким землям и ни разу не возвращался один, для каждого вида казни составил отдельные молитвы, которые преступники должны были за ним повторять. Тот, кого должны были повесить, говорил: «Пусть эта виселица благодаря Тебе, Иисус, станет для меня лестницей в небо и калиткой в Царство Твое». Тот, кого должны были казнить мечом, говорил: «Иду я охотно, бросая голову мою под ноги святой справедливости Твоей», а осужденный на четвертование: «Мое грешное тело должно теперь согласно справедливому и правильному решению на четыре части быть разделено, и на четырех сторонах света развешено, и на ужасное зрелище на кол насажено. А я буду со всех четырех сторон Святейшего Креста Иисуса Бога славить, с востока, запада, юга и севера. Аминь». Если казнь была через отсечение головы, но с предварительным калеченьем, то приговоренный повторял вслед за святым отцом: «Господь Христос, будь со мной в любое время мучений моих, и как Ты выдержал пробой Твоей святой правой ноги, помоги мне, чтобы я так же терпеливо выдержал пробой моей правой ноги, и как Ты выдержал пробой Твоей святой левой ноги, помоги мне, чтобы я так же терпеливо выдержал раздробление моей левой ноги, как и ломание моей злой руки».
Каспер не мог надивиться терпению отца Амброзия, потому что не все преступники соглашались повторять эти слова и сыпали скорее проклятиями – тогда монах говорил эти слова вместо них. Говорил спокойно, но громко, и ничто не могло сбить его с толку.
На этот раз все было необычным. Раньше палач сам приходил к обреченному на казнь, стучался в его дверь, просил прощения, затем связывал руки и вел к помосту. Теперь разбойника, закованного в цепи по рукам и ногам, вело восьмеро цепаков,[14] позади шел отец Амброзий с молитвенником под мышкой. Чугаю было на вид лет сорок, он был крепким мужиком, цепаки доставали ему только до плеча. Он испуганно вертел головой по сторонам, колени у него подгибались, он падал, но цепаки быстренько его подхватывали и дальше чуть ли не волокли волоком. Уже на лестнице его приходилось подталкивать и поддерживать, потому что он все время поскальзывался и не попадал ногами на ступени. Страх в его глазах был звериный, изо рта текла слюна, а из глаз – слезы. Странно было видеть этого разбойника в таком состоянии, и каждый понимал, что убивать куда легче, чем самому идти под меч.
Наконец, когда он оказался на помосте и взглянул на палача, имевшего спокойное, непроницаемое лицо, ноги у него снова подкосились. Палач стоял, оперев руки на рукоять меча, на его красной рукавице искрилось кольцо с зеленым камнем. Судья развернул скрученную в трубку бумагу и прочитал приговор, а затем провозгласил:
– Напоминаю – никто под страхом наказания телесного и имущественного не должен чинить мастеру малодоброму никаких препятствий, и если случится так, что он промахнется, то никто не смеет поднимать на него руку. Да пребудет воля Божья.
За ним подал голос отец Амброзий:
– Сын мой, – обратился он к разбойнику, окончив короткую молитву, – причастись таинств святых и получи прощение за грехи свои… А теперь повторяй за мной…
Все это время Каспер не сводил глаз с Чугая, о котором до сих пор все слышали как об отчаянном смельчаке, он мог отбиться от десятка воинов, но здесь, на помосте, стоял совершенно беспомощный, пальцы у него дрожали, а на прокушенных губах алела кровь, из его растрепанных волос торчало сено, очевидно, то самое, на котором он предавался плотским утехам утром. Каспер вдруг почувствовал симпатию к приговоренному. Странным образом их объединяло теперь что-то общее – в один и тот же день они расстались с пьянящим запахом сена и еще более пьянящим запахом женщины.
Подмастерья силой заставили разбойника стать коленями на помост, голову его положили на пенек правой щекой, затылком к палачу. Однако разбойник повернул голову на другую сторону и вполглаза следил за палачом. Подмастерья отступили на несколько шагов. Палач поднял меч. Разбойник захлипал громко, закашлялся, давясь слюной, и попытался встать, но меч рассек воздух и с силой опустился на шею. Каспер с непривычки чуть не выпустил меч из рук – так мощно рванула ртуть к острию. Голова отскочила, громко ударилась о доски и откатилась, подмастерье хотел ногой ее придержать, но поскользнулся и грохнулся, измазав в крови плечи, второй подмастерье был более ловким и подхватил голову за волосы и показал толпе, которая одобрительно загудела. Глаза мертвой головы моргнули и закрылись, а губы отворились. Подмастерье, показав голову на все четыре стороны света, швырнул ее в корзину. На помосте между тем билось в судорогах обезглавленное тело, брызгая во все стороны кровью из разрубленной шеи, толпа даже должна была отступить немного назад, охая и вскрикивая, поскольку брызги летели перед самыми носами зевак. Когда же тело, наконец, замерло, тишина воцарилась такая, что слышно было, как кровь, стекая с помоста, капала в каменный желоб и тоненькой струйкой стекала, перемешиваясь с грязью и мусором. Тогда только люди начали расходиться, а их место заняли собаки, жадно лакая еще теплую кровь, скалили зубы и рычали.
Глава 9 Пыточная
Из записок Лукаша Гулевича
«Март – апрель 1647 года.
Итак, я взял на себя обязанность судебного медика, и темные погреба пыточных встретили меня холодом и влажностью, вызывая состояние угнетенности и сомнений относительно выбранной должности. Тюрем во Львове было семь, некоторые – со странным названием: «Верхняя», «Белая», «За Решеткой», «Веселая», «Гелязинка», «Аведичка» и «Доротка». Охраняли их довольно небрежно, так что бывали случаи, когда заключенные сбегали. Благородных преступников уполномочен был вылавливать бургграф, сидевший на Высоком Замке, также он охотился на разбойников, но только тогда, когда ему давали в распоряжение отряд драгун. Пойманного преступника он передавал войту, под чьим началом были двенадцать лавников. Часть из них составляла лавничий суд, который и определял наказание, но когда речь шла о шляхтиче, то не так просто было его осудить. За порядком в городе и в предместьях следил ратушный гутман, или ночной бургомистр. Он должен был ловить преступников, охранять городские ворота и наблюдать за заключенными. Гутман руководил городской стражей, или же цепаками, потому что у них были цепы на вооружении. Кроме лавников, городом правили двенадцать райцев, занимавшихся преимущественно политическими и административными вопросами. С райцами мне приходилось иметь дело редко, а вот с членами лавничего суда – постоянно, наибольший авторитет среди них был у Томаша Зилькевича, еще совсем молодого, и у Бартоломея Зиморовича.
– Вы знаете, как пахнут стены тюрьмы? Это неповторимый запах, – бормотал старый ключник, показывая мне место моей работы. – Каждый, кто попадает сюда, впитывает его в себя, как губка, и потом никогда не может с ним расстаться. А если стены тюрьмы из дерева, то дерево пропитывается этими запахами до глубины своего нутра. Пол в «Доротке» гниет от одного лишь дыхания заключенных. Но вы, пан, не переживайте. Вам здесь не жить. Пришли и ушли. А я врос, как гриб, в эту плесень и сырость. Ношу ее вот здесь, – он постучал себя в грудь, – и сколько бы не выдыхал ее на свежем воздухе, выдохнуть не могу. Разве что с последним вздохом избавлюсь от нее.
Первые пытки, за которым я наблюдал, были над двумя молодицами, которые занимались нежностями с дьяволом и пытались приворожить своего пана, у которого служили. После купели в реке и после того, как им в глотки влили по десять литров холодной воды через специальные воронки, обе признались во всем. Животы у них надулись, как у беременных, я настоял, чтобы их оставили отдохнуть на сене, потому что они уже теряли сознание. Они просили, чтобы им дали спокойно умереть, что они уже ничего нового не скажут, но судьи и войт считали иначе, для них картина была еще не совсем ясна – непонятно, кто кого подбил на контакт с дьяволом.
– Какая разница? – недоумевал я. – Ведь конец одинаковый – обеих сожгут.
– Э-э, нет, разница есть, – махал пальцем судья Зилькевич, – суд Божий! Там, – он ткнул пальцем в потолок, – должны знать, кто больший грешник.
– О, так вы еще больше богохульник, раз сомневаетесь в том, что ТАМ знают обо всем лучше, чем мы все вместе взятые, – подловил его я.
Судья блеснул гневом, но подкожный пронизывающий страх охватил и его, он замахал руками, словно отгонял комаров, и затараторил, брызгая слюной:
– Нет-нет-нет! Не надо меня ловить на слове. Я не это имел в виду. Я имел в виду грядущие поколения. Они должны иметь полную картину преступления.
Обе женщины действительно путались и свидетельствовали одна против другой.
– Уже год, как меня София Будельска подговорила и научила колдовать, но я никому никакого вреда не причинила, – говорила Ганна Шимкова. – У меня был дьявол-шляхтич, имя ему Бартек, недавно меня бросил. А София колдовала на человеческое здоровье – ее и спрашивайте. Когда меня выдали за дьявола, я на Лысую Гору ездила голая в карете, у которой была лошадиная голова. Тогда дала мне Будельска для смазки голого тела мазь, которую я на печи прятала. А еще порошок дала и сказала, чтобы я его посыпала там, где пан ходит, и он будет ко мне добр. Дважды я бывала на Лысой Горе и там с дьяволом моим имела дело…
– Какое дело? – спросил судья.
– Супружеское.
– Каким образом это происходило?
– Дьявол приказал мне наклониться и упереться ладонями и ступнями в землю, ибо только так он мог взять меня. Его стержень был холодный, как лед. Когда он проник в меня, то сразу изверг холодное вонючее семя. А потом приказал мне общаться по-супружески со всеми мужчинами, которые там были. Он дал знак, и факелы погасли. Тогда уже все перемешались и менялись женщинами, и меня брал, кто хотел.
– И что ты при этом чувствовала?
– Ничего… абсолютно ничего… удовольствия не было. Сегодня черт от меня улетел. А чарам научила меня Будельска, когда мы в панском саду пололи. Говорила, что мне будет хорошо и всегда будет мне счастье – только чтобы я ее слушалась. Потом уговорила меня, чтобы от Пана Бога и от Пресвятой Панны, и от всех святых отречься. Говорила Будельска, что человек имеет двенадцать дьяволов в себе. Выдали меня замуж на Лысой Горе. Было там много колдуний, но узнать их было трудно, потому что они были в покрывалах или в черном наряде из китайки. Моего дьявола звали Бартек, а Софииного – Франц. Бартек ходит в зеленом, а Франц – в синем. Когда я за своего дьявола вышла, он оставил отметину – царапнул мою левую руку.
Она вытянула руку и показала на внутренней стороне локтя красную царапину. Зато София Будельска на пытках показала:
– Мы с Ганной Шимковой ходили в лес по ягоды. Там дьявол нам явился, будто знакомый парень, и дал мне шапку ягод, а затем хлопнул меня по плечу и скрылся в кустах. Пришла потом Ганна ко мне и принесла мне котенка. Он был холодным и жался ко мне, а я его отталкивала. На второй день пришел этот котенок ко мне через окно, поцарапал мне колено – это был черт. И тогда у меня было с ним дело женское, а он оставил на мне отметину под грудью и на колене. Я с дьяволом общалась дважды, сам он холодный, а стержень – как у скота. Дьявол мой покинул меня, когда меня купали в реке.
Я не выдержал препирательства с судьями и, делая вид, что меряю пульс молодицам, шепнул им:
– Если хотите, чтобы пытки прекратились, одна из вас должна признать, что это она искусила другую. Не имеет значения, кто это будет. Вы ведь и так хорошо знаете, что вас ждет. Иначе они не отстанут.
София посмотрела на меня усталыми глазами и прошептала:
– Хочу только одного – умереть… Думаете, если бы с вами делали то, что с нами, вы бы не признались, что летали на Лысую Гору?
– Разве ведьм нет?
– Есть. Но это не мы.
– Да ведь всякая ведьма так говорит.
– Пан наш был очень злой… – прошептала Ганна. – Только и всего, что мы хотели его задобрить… а дьявол… это все неправда… если бы мы его знали, он бы нам помог…
Я встал и сообщил суду, что ведьмы признаются, кто из них кого искусил. София приняла грех на себя, и их уже больше не пытали. Затем судья зачитал приговор:
«Суд войтовский Львовский, выслушав все стороны, все взвесив, и после присяги к чтению протоколов приступив, и срочно все добровольные признания рассмотрев, обвиняет Ганну Шимкову и Софию Будельску, которые, позабыв о каре Божьей и страхе Божьем, Христа Спаса нашего, и заповедь Его Святую «не имей чужих богов, кроме меня», соблазнившись ложью бренного мира, дьяволом обещанного, отрекшись Бога всемогущего, Пресвятой Троицы и Пресвятой Панны, и всех святых, вступив в брак с дьяволами, на Лысую Гору летали и там же с ними по-супружески общались, колдовством занимались, и жизнь свою добровольно и намеренно губили, и до сих пор этих безбожных поступков не прекращали.
Чем Наисвятейшее и неограниченное Божье Величие оскорбляли и Святую Заповедь преступили, свои нечестивые и мерзостные преступления совершили, Божий и людской закон нарушили и наказание, в уголовных законах описанное, на себя призвали.
Поэтому суд сей войтовский Львовский, считая обвиняемых лиц, нанесших своими предрассудками дьявольскими большую обиду Божьему Величию, а также вред и ущерб человеческому здоровью, чтобы больше обиды Божьей и людям вреда не было, и от них таким поступким никто не научился, чтобы склонить всех, кто еще колеблется, к покаянию и чтобы поступали в согласии с Законом Божьим, согласно ординарному и магдебургскому праву, которое преступников против Божьего Величия должно наказывать и огнем карать, приказывает: Ганну и Софию на огне сжечь на привычном месте казни».
Я подтвердил состояние здоровья обеих несчастных и пошел домой, не дожидаясь экзекуции. А через две недели уже пытали сумасшедшую, которая рассказывала, как черт водил ее по аду. Она рассказывала об этом так красочно, что невольно казалось, будто она действительно все это видела. Она, очевидно, верила в это и заставила поверить и лавников, и суд. Пожалуй, только я считал ее сумасшедшей, а палач выполнял свою монотонную привычную для него работу без особого энтузиазма.
– Зелень расступилась и сомкнулась за моей спиной, – говорила она, прищурив глаза, – на поляне горел костер и жадно лизал широкую закопченную сковороду. Монахиня лениво тыкала палкой в то, что жарилось, и бормотала под нос молитву, которую я знала когда-то очень давно, но забыла, и теперь припомнила. Может, поэтому я прониклась теплом к этой монахине, как к кому-то мне близкому… Я приблизилась и увидела на сковороде обнаженную девушку, которая извивалась и скворчала, раскидывая руки и ноги, а когда она переворачивалась на бок, видно было, как пузырилась ее спина, взявшись жареной корочкой… – Сумасшедшая облизала сухие потрескавшиеся губы и всхлипнула. – Девушка стонала и выталкивала изо рта распухший язык. Грудь у нее была очень красивая, и еще не совсем припеклась. Как и бедра. Монахиня тыкала девушку палкой: «Жарься, жарься, чертова кукла!» – «Ей не хватает жиру», – сказала я. «Разве на ней мало жира?» – буркнула монахиня, но, оглядевшись, заметила у своих ног кота, схватила его и стала выкручивать над сковородой, как выстиранную рубашку. Кот орал безумным ором, с него тек желтый жир. Девушка с благодарностью посмотрела на меня. Когда жир равномерно растекся по сковороде, монахиня швырнула выкрученную тряпку кота в траву. Несчастное создание попыталось перекрутиться назад, но поняло, что это ему не по силам, и жалобно замяукало. Я двинулась дальше. «Подожди, – сказал выкрученный кот, – я пойду с тобой. Ведь тебе нужен проводник, не так ли?» И мы пошли дальше.
– А где черт? Где черт?! – закричал судья Зилькевич, утомленный этой историей.
– Он был возле меня, – ответила женщина. – Выкрученный кот как раз и был чертом. И он вел меня дальше. Навстречу нам шло два десятка людей, нанизанных на длинное копье. Они все время спотыкались, пытались шагать ровно, но выбоины и бугры им были препятствием…
– Разве вы не видите, что она ненормальная? – спросил я у Зилькевича. – Ее нельзя подвергать пыткам и наказывать.
– Но она уже призналась, что бывала на ведьминских шабашах. И черт вступал с ней в контакт.
– Если бы вас прижгли железом, вы бы признались, что вы этому черту – родной брат.
– Чур меня, – он перекрестился, – такое говорить. Но что с ней делать? – Тут он обратился к остальным судьям.
Зиморовича в этот раз не было, и вся братия колебалась.
– А что скажет пан доктор? – спросил один из них.
– Скажу, что ее надо отпустить. У нее есть семья – пусть ею занимается.
– Семья? – засмеялся Зилькевич. – Да ведь семья как раз и донесла на нее. Видно, она их уже здорово достала своими путешествиями по пеклу. Они ее обратно не возьмут. Слушайте, – обратился ко мне судья, – от нее никакой пользы. Вот будет слоняться и разносить бред. А у нас на нее собраны все доказательства. У нас есть свидетели, которые рассказывали, что из нее говорил сам дьявол дьявольским голосом. Понимаете? Не женским, а мужским. Она могла рычать, как собака, а могла мяукать, как кошка.
– Чтоб вы знали, – присоединился к моему просвещению епископ, – Господь, создав черта, наделил его даром совершенного знания трав, цветов, камней, деревьев и других природных вещей. Тем не менее, черт не способен создать ничего материального, ни вмешаться в небесный порядок, а отсюда – и луну с неба он не может снять. Зато может перевоплощаться в кого только захочет. Берет черт тело из воздуха, из грубых земных испарений. Святого Антония Пустынника он устрашает то в образе страшных зверей, то в образе хищных птиц, святого Пахомия – в образе петуха, святого Ромуальда – в образе оленя, святого Иллариона – в образе лиса, святого Дунстана – в образе медведя, святую Маргариту – в образе дракона. А других он искушал в образе святых и ангелов. В Силезии был черт Рибенцаль…
– Рюбецаль, – поправил я, – по-нашему Личирепа.
– Так вот, он в шутку явился одному стекольщику, который плелся на базар, в образе пенька у дороги. Не превращается он ни в голубя, ни в овечку, ибо все это – существа Христовы, чего я не очень понимаю, ведь черт и в образе самого Иисуса может появиться. Больше всего ему нравится образ кота или козла, который в совершенстве соответствует его мерзости и уродству. И вот вам: кот, который ведет ее по аду.
Как бы в подтверждение этих слов женщина вдруг закатила глаза, раскрыла губы и зарычала грубым тяжким басом, а потом расхохоталась и проговорила:
– Я пришел господствовать! Я среди вас! Если вы сожжете ее на огне, я переселюсь в кого-нибудь из вас!
Присяжные ужаснулись и стали креститься, за ними судьи и епископ. Перекрестился и я, чтобы не выделяться, хотя мне показалось это довольно забавным. Между тем женщина бормотала уже что-то неразборчивое все тем же басом, исходившим как бы из ее живота, и рычала, брызгая пеной.
– Вот видите! – сказал Зилькевич. – У черта часто нет губ или языка, так как, сформировав тело из воздуха и земных испарений, говорит только нарочито артикулированно. Как правило, он прибегает к разговору, превратившись в животное, и вместо рычания, ржания или хрюканья звучит человеческая речь. Слыхал я не раз, как этот зверь что-то лопочет с плохим произношением, будто какой скворец или сорока, ворон или попугай, хотя и не понимает ничего. Именно так поступил этот соблазнитель с Евой, обращаясь к ней устами ужа.
– Жаль времени, – сказал епископ, – сумасшедший человек не способен владеть таким голосом. Завтра надо ее сжечь.
Я подумал, что смерть, возможно, для этой женщины будет наилучшим решением, но мне не удалось заменить сожжение какой-то другой казнью, поскольку присяжные и судьи руководствовались предписаниями закона, а там тех, в кого вселился дьявол, можно только сжечь. Итак, завтра Львов получит свежее развлечение.
– Пан доктор, – догнал меня епископ, когда я выходил из застенков, – вот это возьмите и проштудируйте. – Он протянул мне книжечку в красном сафьяне. – Медицина медициной, университет университетом, а вы должны разбираться еще и в таких вещах, поскольку сталкиваться с ними будете отныне часто.
Книга называлась «О духах злых и нечестивых», написал ее Томаш из Равы Рутенец, а издана она была во Львове в 1563 году. Я поблагодарил епископа и обещал обязательно прочитать. Дома я действительно, ложась спать, развернул книгу, чтобы узнать «О том, какие черти бывают».
«Первый род демонов называется огненным, – было написано там. – Они летают высоко в воздухах и до Судного дня никогда не спустятся ниже. Они общаются с людьми на земле, вращаясь в подлунных краях. Вот и Аристотель утверждал, что в раскаленных печах часто видеть можно мелких живых существ, которые весь век пребывают в огне, потому как в огне они рождаются и в огне умирают.
Второй же род демонов называется воздушным. Некоторые из них, создав тело из загустелого воздуха, иногда видимы для людей. Часто, с позволения Божьего, они взлетают в воздух, пробуждают громы и грозы и все вместе устремляются на уничтожение рода человеческого. Они наделены большой гордостью и завистью, творят разные возмущения. Их чародейки подбивают на злые действия. Характер у них жестокий и грубый, и они только и думают, какую бы пакость выкинуть, какое бы зло учинить. Благодаря дружбе с этими демонами чародейки получают большую силу для своих чар.
Очевидно, что ни одна часть мира не лишена присутствия демонов. Вот почему и демоны Платона, которые мечутся в воздухе в виде яркого снега, видимы желающим рассказать о них, если те в течение какого-то времени будут беспрерывно смотреть неотрывно в небо на сверкающее солнце.
Третий род демонов называем земным. Из этих демонов одни пребывают в лесах, рощах, устраивая ловушки охотникам. Другие живут в полях и ночью заставляют плутать путешественников.
Этот род демонов хорошо знаком колдуньям. Они обещают сумасшедшим женщинам, когда те вызовут их заклинанием в зеркале, бокале или кристалле, ответить на все вопросы.
Четвертый род демонов – водяные, исполненные злобы, тревоги, беспокойства и коварства. Они возбуждают бури на морях и погружают в водяную бездну корабли. Эти демоны обретают видимое тело, обычно женское. У нас они называются русалками и нявками, и часто их можно увидеть на берегах рек и озер, как расчесывают они свои волосы.
Пятый же род называется подземным. Эти демоны живут в пещерах и ущельях, темных пещерах и обрывах. И вот они суть самые злые. Стремясь к погибели рода человеческого, они устраивают в земле трещины, выпускают огнедышащие ветры и расшатывают фундаменты зданий. Иногда по ночам они водят в полях странные и невиданные хороводы, а потом на рассвете в спешке исчезают. Эти демоны также стерегут сокровища, которые спрятала в землю человеческая жадность, но получить их невозможно, потому что черти старательно их охраняют, а иногда переносят с места на место.
Шестой род демонов называется светобоязный, потому как они страшно боятся света и ненавидят его, и днем не способны никоим образом тело сотворить, а делают это только ночью. Они нападают на случайных одиноких прохожих и затягивают в дебри. Но с ведьмами они не встречаются, и заклинаниями их никакими вызвать нельзя, потому что избегают они света и голосов человеческих».
На этих словах я заснул, и снилась мне и несчастная женщина, обреченная на сожжение, для которой я ничего не мог сделать. И единственное, что сделаю, – не пойду на ее казнь.
– Вы не идете? – не могла на следующий день не удивляться Гальшка. – Но это ж так интересно!
– Что интересно? Как тело человеческое пылает и смрад разливается?
– Нет, как дьявол мучается и испытывает еще одно поражение.
– А знаешь, что сказал дьявол ее устами? Он сказал, что если мы ее убьем, то он переселится в кого-то из нас. Подумай, стоит ли тебе туда идти.
– О Господи! – Гальшка перекрестилась. – Он действительно такое сказал?
– В присутствии лавников, судей и епископа.
– Но почему это должна быть я? Там будет столько народу! Хорошо, что вы мне это сказали. Я положу в рот просвиру и буду рот держать на замке.
С этими словами она убралась, торопясь занять удобное место для наблюдения. Я же решил прогуляться за пределами города. Стражи у Галицких ворот проводили меня удивленными взглядами, потому что я был единственный, кто покидал город в то время, как изо всех ворот туда валил простой люд на незабываемое зрелище».
Глава 10 Айзек Май 1647 года
Лукаш любил выходить за стены и прогуливаться пригородами, которые все время увеличивались и раздувались, выстреливая шпилями церквей, укрепленных монастырей, разрастались садами и вспаханными полями. Город был окружен не только двойным рядом стен, но еще и широким рвом, а за рвом с восточной стороны тянулся от одних до вторых ворот земляной вал, высотой равный городским стенам, вырастая благодаря мусору и строительному лому. За валом шел широкий ров, через который были перекинуты подвижные мостки. А там, дальше, где текла Полтва, направляясь к Бугу, а затем к Балтийскому морю, среди пойм и запруд грудились мельницы и наспех сколоченные деревянные домики, в которых никто не планировал жить дольше, чем год-два, потому что очередной вражеский вихрь сметал все с лица земли, домики вместе с овинами и хлевами, из которых заранее забрали весь скот, вспыхивали факелами, бросали растопыренные пальцы пламени в небо, словно угрожали кому-то за эту напасть, и исчезали, рассыпавшись черными руинами. Оставались только деревья с там и сям обожженными ветвями да каменные печи. Но когда волна захватчиков откатывала, погорельцы снова все восстанавливали и заселяли эти места, потому что сердце их оставалось невредимым, сердце их, как и раньше, билось в городе, и там они проводили даже больше времени, чем в предместье, торгуя или занимаясь ремесленничеством.
На этих сельских просторах аптекарь чувствовал себя вполне уютно, пока находился на некотором расстоянии от лачуг, где вся живность жила вместе с людьми, а зимой ютилась у печи; со временем между людьми и животными образовалась какая-то очень теплая и тесная связь, животные считали, что должны оберегать не только свою территорию, но и прилегающие, и достаточно было сделать необдуманно хоть шаг не в ту сторону, как издали уже неслась целая стая разъяренных рычащих шавок, а то и нервный бык срывался с места, наклонив угрожающе голову, вдруг оживали ленивые свиньи и торопились тыкаться своими грязными рылами в незваного гостя, а гуси шипели, цинично прищурив глаза. Но животные и птицы все же не были столь опасными, как люди, так как там, в тех домиках, жили не только ремесленники и крестьяне, но и разная голытьба, выброшенная на обочину жизни, чей быт и потребности были сведены к минимуму, ничем не отличаясь от потребностей какой-нибудь букашки. Пьяницы и дезертиры, фальшивые и настоящие калеки и нищие, престарелые шлюхи и проститутки, прозванные човганками,[15] воры и беглые преступники – все они находили здесь пристанище и кусок хлеба. Неудивительно, что именно здесь можно было пополнить любую разбойничью шайку или нанять отряд для нападения на чье-нибудь поместье. Время от времени городские цепаки устраивали облавы и редко оставались без улова.
Лукаш прогуливался полями, где играли дети и пленяли запахи трав и цветов. На опушке леса несколько мужчин тащили срубленные деревья в сторону, а пни обматывали веревками и корчевали с помощью упряжки волов. Чуть дальше горела целая гора срубленных сырых веток и сильно дымила, но и запах дыма был куда приятнее, чем запах города, хотелось заполниться им и еще долго не расставаться, потому что запах города состоял из запахов стен, запаха земли и всего живого, что по этой земле ходило или прыгало.
Запахи Львова не отличались от запахов других городов, тысячи гнилостных испарений витали в воздухе, поднимаясь от скотобоен, кожевен и красилень, от множества печей, в которых сгорали дрова, солома и торф, переплетались они с запахами серы и смолы, со сгнившими овощами в подвалах Рынка, делая воздух тяжелым и даже видимым. Земля – и добрая, и злая, – земля кормила и земля убивала, изо всех ее щелей сочился поганый пар, сеющий болезни и эпидемии, потому что земля впитывала в себя продукты ферментации и гниения, становилась складом нечистот, а потому время от времени должна была выбросить из себя чумной воздух. Земля сеяла страх, в глубинах ее, пропитанных и рыхлых, а иногда еще и превращенных в вязкую жижу из-за накопленных отходов и сгнивших трупов, там, в глубинах земли, происходили невидимые процессы, что-то постоянно клокотало, пенилось, готовилось и испарялось, становясь источником вони, которая плохо влияла на живые организмы, нарушала жизненное равновесие. Эти темно-желтые, противно-зеленые и ядовито-красные ручейки, вытекающие из-под свалок мусора, могли отравить колодцы и огороды, сады и людей в домах предместья. Но и стены города, которые надежно оберегали от врагов, не оберегали от нечистот, так как ручьи, подплыв под стены, просачивались в них и жили там, становясь вместилищем гнили прошлых поколений. Стены впитывали запахи, втягивали в себя всю подземную вонь, всю гниль тел, когда-то их строивших, всех тех, кто проходил сквозь ворота и был похоронен за стенами. Стены будто консервировали запахи и прикосновения, дыхание и взгляды, они хранили и передавали дальше распад тканей, их ядовитые испарения.
Дома во Львове жались тесно друг к другу, улочки были узенькие, и царило в них удушье, ветер их не продувал, способствуя распространению чумы, а так как окна, которые выходили в эти узкие улочки, никогда не видели солнца, поскольку стены отбрасывали тень одна на другую, то в их комнатах всегда царили сумерки и прохлада даже в самую сильную жару. Во время войн и других ненастий, когда в город наплывали беженцы и войска, нечистоты и навоз оккупировали все, и не было ни у кого сил убрать все это вплоть до окончания разрухи. Но наконец справились и с этим, собирая по полгроша с каждой фуры и так оплачивая вывоз навоза. Хотя и навоз иногда превращался в землю обетованную, потому что во время чумы некоторые умники закапывались в него по уши, веря в его целебную силу, в его защиту, и там и умирали, пока бродячие псы не чуяли их и не вытаскивали.
Практически рядом с Ратушей мясник каждое утро резал и смолил свиней, в мясных будках терпкие тошнотворные запахи переплетались между собой. Вдоль улиц текли темные вонючие потоки, когда мясник выплескивал на улицу кровь вместе с потрохами, которые уже караулили собаки и свиньи, все эти потоки стекались в несколько выгребных ям в разных концах города. В тесных двориках мясников запахи навоза, свежих испражнений, органических остатков объединялись с вонью газов, вырывающихся из внутренностей. А та кровь, что лилась под открытым небом, стекала свободно по улицам, покрывала мостовую коричневым слоем и разлагалась в щелях. Щемящий запах вытапливаемого жира добавлял последний штрих в эту смесь отвратительных испарений. На задворках люди мочились в кустах или под стенами, никто никого особо не стеснялся, а тем временем моча уничтожала стены львовских домов, подтачивала их, как неизлечимая болезнь, запахи нечистот преследовали в садах, в брамах,[16] в узких улочках между домами, вызывая тошноту. А чуть дальше поток, когда-то впадающий в Полтву, превратился в гнилой труп, в нем замерла зеленая застоявшаяся вода, в которой разлагались дохлые коты. Идя по улице, надо было все время следить, чтобы не вступить в свиное, собачье или лошадиное дерьмо, притом последнее было не таким уж противным, так как было суше и не так мазалось, а от его кисловатого запаха тошнило гораздо меньше.
Угрозой всегда была застоявшаяся вода. Движение очищает, бездействие убивает. Полтва, находясь все время в движении, разгоняла, крошила, разводила органические остатки, зато грязь все это консервировала. Город был вымощен брусчаткой, но на некотором расстоянии от его стен, куда сбрасывали нечистоты, царили и жижа и гниль с мертвой зеленой поверхностью, похожая своей невозмутимостью на гигантское желе, которое давно испортилось и сгнило в своем потаенном нутре, и когда аптекарь тронул палкой, оно только вздрогнуло яростно, заворчало и выплеснуло сизое облачко вони. Во время дождей телеги на подъездах во Львов увязали, и приходилось их вытаскивать волами. Живописные луга осенью превращались в болота, в которых зарождалась и изобиловала своя жизнь. В вонючем шламе смешивались между собой блуждающие растительные остатки, гнилые органические отходы и останки всех нечистых существ, рожденные разложением тел. Происходил безустанный обмен паром между грунтом, вонючим торфом, который его покрывал, и водной массой, целые циклы жизни этого ада проходили тайно и невидимо, о них никто не подозревал, но их пульсацию выдавала вонь. Зимой все это покрывалось белой коркой и замирало, но не надолго, так как при любой малейшей оттепели оно оживало, чтобы весной выстрелить в воздух мириадами мерцающей мошкары. Затем вступало в свои права солнце, оно выпивало жижу, всю влагу до конца, личинки и разная мелкая сволочь погибали, и снова наступал роскошный пир трав, расцвеченный характерными для топей баранцами, огоньками и колокольчиками, выступающими над зарослями хвоща.
Лукаш взялся убедить магистрат прокопать канавы вдоль болот, чтобы они впитывали в себя влагу, и вывести их каналами к потокам.
Но все же Львову было чем гордиться, потому что мало в каком городе Европы был такой водопровод. Расположенный в окруженной лесами котловине, Львов был переполнен влагой, ее усиливало множество ручьев. Эти ручьи направили в трубы, а трубы, за которыми следили трубомастера, напаивали фонтаны, а также колодцы во дворах и на площадях. За работой трубомастеров и за регулярным течением хорошей воды во все дворы присматривало специальное учреждение curatores aquarum. Так что воду можно было пить в любом уголке Львова, не обязательно подливая к ней вино, как делали чуть ли не по всей Европе, зная, что кислое вино убивает в воде заразу.
Из города донесся звон колоколов, их музыка перекрывала любую другую, потоки звуков разливались вокруг, врываясь в шелест буков и плеск реки, осветляя пространство и делая острее все краски и запахи. Лукаш стоял, как зачарованный, вслушиваясь в дух колоколов, который заставляет остановиться и сосредоточиться, потому что ничто не передает так атмосферу триумфа, как это бесконечное повторение гармоничных звуков, особенно когда колокола звучат словно на пределе сил, и это уже не колокол, а измученный стон. Колокола звали его назад, и он послушно пустился по направлению к Краковским воротам. Проходя мимо реки, увидел, как на берегу, на лужайке, обедали нищие, деля свой нехитрый скарб, который удалось им выцыганить по церквям и монастырям, при этом они шумели и перекрикивали друг друга, очевидно, не поделив справедливо милостыню, поэтому через минуту учинилась толчея – толстая бабища, вынув из-за пазухи деревянный ковшик, куда собирала пожертвования, принялась бить им по голове, видимо, своего любовника, а дальше уже клубок тел катался по берегу, чтобы через минуту свалиться в реку.
Нищие здесь не только обедали, но и жили, сделав из тростника шалаши. Недавно они организовались в свой нищенский цех, выбрали проводников и пытались упорядочить свою полную приключений жизнь. Их хоругвь с изображением растоптанной деревянной чаши торчала посреди лагеря. К одному из куреней приковылял горбун и крикнул внутрь:
– Эй! Ты что – умер?
– Нет, – прохрипел чей-то голос с таким трудом, будто пробивался из-под руин египетской пирамиды.
– Так чего в трактир не пришел?
– Вчера?
– Ну да, вчера.
– Вчера я умер.
Затем послышался шорох, кряхтение, и из шалаша вылезла растрепанная физиономия со взъерошенной бородой и сеном в патлах. Физиономия принадлежала невысокому, но жилистому широкоплечему мужчине, его правая нога была согнута в колене и опиралась на деревянную культю, а правая рука обнимала костыль.
– Иди обедать, – сказал горбун и пошел к гурту.
Нищий тряхнул заспанной головой, что-то проворчал невнятное, огляделся и, когда в поле его зрения попал аптекарь, радостно воскликнул:
– О, пан дохтур! Кого я вижу! Давно хотел с вами познакомиться.
Через мгновение он уже ковылял к Лукашу и, как для калеки, двигался довольно шустро.
– Подождите, прошу вас, – затараторил он, заметив, что аптекарь не проявляет желания с ним общаться. – Давно хотел у вас спросить, не нужен ли вам слуга?
Лукаш от удивления рассмеялся.
– Даже если бы и нужен был, то не калека. А что, попрошайничество уже не скрашивает жизнь?
– Куда там! Но, чтоб вы знали, – я на все руки мастер. Ну, вообще на все. Лучше не найдете. Да вы только подумайте: вы аптекарь, почтенный пан дохтур, а слуги у вас нет. У всех есть – а у вас нет. Потому не очень и торопятся к вам, думают, что вы неудачник и бедняк. А бедный пан дохтур никому не нужен. Их бин аид. Вот послушайте меня: когда люди увидят, что у вас есть слуга, все сразу поверят, что вы успешный дохтур. А когда увидят, что у вас слугой жид, да еще и ученый, – о-о, вам тогда цены не будет.
– Да, но когда увидят тебя, то подумают, что я плохой врач, потому что не смог тебя вылечить.
– А вот и нет, вот и нет! – затараторил нищий. – Пойдем только за вон те ивы, сейчас я вам покажу, какой вы дохтур.
Как только они отошли в сторонку, нищий отбросил костыли, ловко отвязал культю и, встав на обе ноги, пошел вприсядку.
– Вот видите? Видите, какой вы важный пан дохтур? Мигом меня, бедного Айзека, вылечили! А?
– А что – ты действительно ученый?
– Я, к услугам вашим, – тут Айзек приосанился и выпрямился, – закончил университет жизни с отличием. Сначала я был купцом, имел даже свою лавку колониальных товаров. И шли у меня дела хорошо, пока жена моя, чтоб ее Хапун побрал, снюхавшись с одним пройдохой и украв весь мой заработок, не сбежала. Но это я вам расскажу позже в деталях, потому что это очень поучительная и интересная история, которую можно назвать так: «Страдание и невероятные приключения бедного Айзека».
Он перевел дух и продолжил:
– А еще вам, пан, без меня просто не обойтись. А знаете почему? Потому что вы голову сломаете в наших мерах и весах. Я-то знаю, что вы не здешний. Чтоб мне до скончания века снились песиголовцы, если вы назовете разницу между весами гданьскими, вроцлавскими и нюрнбергскими. А сколько это будет – лашт, камень, квинтал, безмен, ока турецкая, шиф-фунт, гривна? Все эти меры используются в львовской торговле, потому что здесь и немец, и валах, и итальянец, и англичанин, и шкот, и турок торгуют, а каждый по-своему взвешивает и по-своему платит: тот червонцами венгерскими, тот цекинами венецианскими, тот аспрами, пиастрами, тот золотыми, тот леями и так далее… Так что надо хорошенько подумать, пока переведешь все это в одинаковую монету. А? Что скажете? Не смотрите, что я коротышка, – он ударил себя в широкую, как бубен, грудь. – Чтоб вы знали, что тополь гнется, а кол – никогда.
Аптекарь, смеясь, хлопнул его по плечу и кивнул:
– Ну ладно, Айзек, пойдем со мной.
– Сейчас, сейчас, но пан дохтур и сам понимает, что так на раз-два я исцелиться не мог, так что пару дней еще похромаю. И еще вам скажу, что я честный вор. Если что-то утащу, то сразу признаюсь. У меня так: или белое, или черное. Или трефное, или кошерное.
И он снова привязал свою деревяшку, подхватил костыли и направился за новым хозяином. Дома аптекарь накормил нищего и дал ему одежду бывшего владельца аптеки, велев перед тем вымыться в бочке. Затем сам обкорнал ему бороду и космы, чтобы тот не выглядел как дикарь, и поручил расчистить сад, который совсем зарос бурьяном и дикими кустами крыжовника и малины. В траве трещали кузнечики, мигали красочные бабочки и скрежетали шумные стрекозы. Лукаш не раз любовался этим диким непуганым миром, который жил посреди города своей жизнью и ничего не знал о том, что происходит за его чертой, кроме пчел, которые залетали сюда, но задерживались недолго, убедившись, что все душистые цветы и пышные пьянящие сорняки оккупированы яростной мошкарой. Однако он наконец решил засадить сад чем-то полезным – лечебными зельями и зеленью. А поскольку сад с улицы не был виден, то Айзек там уже не разыгрывал калеку, а лихо орудовал косой и граблями. Он очень скоро доказал, что и вправду мастер на все руки – и столяр, и каменщик, и садовник. Через несколько дней, отбросив костыли, он уже всем рассказывал о невероятном таланте «пана дохтура», который поставил его на ноги, хотя все врачи до сих пор от него отмахивались. Айзек был также мастером трепаться, и неудивительно, что ему удалось заманить немало пациентов к аптекарю, да так, что другие аптекари уже начинали искоса поглядывать в их сторону. Понимал он и в торговле, поэтому с успехом начал заменять самого хозяина, когда речь шла о тех же колониальных товарах, в которых он был специалистом. Подстриженный и одетый в приличную одежду, он уже ничем не отличался от любого львовского купчика. И хотя он не был слишком набожным евреем, субботу уважал и за работу не брался. С Гальшкой они, правда, общего языка не нашли. Когда Айзек попытался продемонстрировать свои поварские способности, такое наглое посягательство на ее святую обязанность вызвало у Гальшки бурю гнева.
Кроме других обязанностей, Айзек взялся еще и за охрану пана дохтура, то есть, когда тому приходилось выходить из дому по вечерам, Айзек прихватывал дубинку и шел за ним, хотя Лукаш всячески его отговаривал.
Глава 11 Право палача Май 1647 года
Лавничий судья Бартоломей Зиморович позвал палача с самого утра и сообщил, что удалось поймать ведьму благодаря Федьку Потурнаку, чью дочь она заколдовала так, что бедняга высохла, как лучина, и едва душу Богу не отдала. А чтобы поймать ведьму, Федько прибегнул к старому способу. Зиморович с каким-то особым удовольствием рассказывал палачу о том, как Федько сначала сделал отметку на первом варенике, который был слеплен на Масленицу, а когда он сварился, положил его на печь, чтоб засох. Тем временем стал тесать осиновую скамеечку, но тесал понемногу в течение всего поста до Пасхи, потому что ежедневно надо было этой лавочкой хотя бы на минутку заняться, и этого было достаточно, а на Пасху утром отнес ее в церковь и спрятал так, чтобы никто не увидел. Только служба закончилась, он поставил ее у божницы, взобрался на нее и, положив вареник в рот, посмотрел на бабинец.[17] Как он и ожидал, на голове у одной бабы он заметил цедилку.
– Какую цедилку? – удивился Каспер.
– Ну, ту, в которую ведьмы молоко сцеживают. Они после обедни сразу идут молоко цедить. К сожалению, тогда ее не успели схватить, потому что она мгновенно исчезла. Но несколько дней назад к нам в магистрат пришел парень и сознался, что пытался приворожить девушку, дочь Федька5. С тем и отправился к старой Вивде, живущий около леса. Приворожить она приворожила, молодые даже поженились, только девушка ходит как с креста снятая, пришибленная, и все. Тут уж времени не теряли, схватили ведьму с поличным.
– А что с тем парнем?
– За то, что прибегнул к магии, он должен месяц отработать на городских стройках. Девушку вернули родителям, пока не придет в себя. Брак, наверно, церковь признает недействительным. Но это еще не все. В доме той старой ведьмы нам удалось схватить еще одну молодую ведьму. А девчонка – та еще штучка! Она как раз варила у этой Вивди колдовское зелье. Ей каких-нибудь пятнадцать-шестнадцать лет, и красивая такая – красивей я еще не видал. Теперь у нас неопровержимые доказательства их ведьмовства.
– Такая молодая – и уже ведьма? – пробормотал палач.
– Э, теперь такая молодежь пошла – палец в рот не клади. В наше время – хо-хо… Я и сам не одну под монастырь подвел. И что? Перебесились, да и каюк. А тут, ишь – зельем поят! Это вам наука – берегитесь.
– Куда мне… Разве что пес меня захочет приворожить.
– Свят-свят! Что вы такое говорите? Вы еще мужик молодой, у вас впереди будущее…
– У палача нет будущего… Так вы говорите, та девушка – ведьма. А кто же ее ведьмовству научил?
– Еще неизвестно. Должно быть, такая уродилась. Вам ведь известно, что ведьмы бывают ученые и врожденные?
– Как-то раньше об этом не думал.
Зиморович вынул из шкафа толстую книгу и раскрыл ее. Палач заглянул ему через плечо и прочитал на обложке «Maleus maleficarum, или же Ведьминский молот монахов-доминиканцев Генрика Инститориса и Якова Шпренгера, которую с латыни пересказал монастыря святого Онуфрия во Львове монах Гандрей года Господня 1578».
– Нет, это не то, – покачал головой Зиморович. – Преподобный Гандрей оставил нам еще один драгоценный труд, основанный на наших местных обычаях и законах, а мы все-таки патриоты, разве нет?
Зиморович положил книгу на место и вынул вторую, такого же формата.
– «Львовский молот для ведьм, колдунов, планетников, громодаров, звездочетов, обоясников, нетленных, непростых написал и рисунками украсил монастыря святого Онуфрия во Львове монах Гандрей года Господня 1589», – прочитал вслух Зиморович. – О, это то, что нам нужно. Свой к своему за своим. Та-ак… Ага, вот оно. «Ведьмы суть урожденные и ученые. Урожденные хвост имеют, которого не видно, потому как втягивают его в себя, но когда купаются, тогда-то хвост вылезает и полощется по воде. Урожденные не так страшны, как ученые, потому что та не виновата, что под такой планетой родилась, а те, сиречь ученые, уже сами пожелали сделаться колдуньями. Но и те и другие причиняют зло, и за это зло их должно наказывать. Каждый христианин обязан заботиться о том, чтобы выявить ведьму и уведомить магистрат города, а кто будет покрывать их, хоть бы это его мать была или сестра, или жена, тот предстанет перед судом и будет покаран». – Зиморович поднял указательный палец вверх и помахал им перед носом палача, намекая на особую важность этого священного текста, а затем читал дальше: «Правдой человека есть его тело. Правдой тела есть скрытый дьявол и посмертный тлен. Ежели правдой человека есть его тело и ежели правда вообще существует, то пытки являются лучшим средством добыть ее на свет Божий». Слышите? Это не дурак писал. А теперь должны мы узнать, как этих ведьм допрашивать, потому что, по правде, я еще не имел с ними дела. Зилькевич в этом больше понимает, но поехал в Краков, так что должен я здесь мучиться. «Наиболее используемая проверка на ведьминство есть купель. Колдунью связать в «козла» – правую руку вывернуть за спину и привязать к согнутой левой ноге, а левую руку – к правой ноге. Тогда, привязав длинный ремень к ней, пустить в воду, конец ремня держа обеими руками. Ежели белоголовая[18] пойдет ко дну – это есть знак, что она невиновна, а ежели будет плавать по воде – это есть знак, что ведьма. Если вина доказана, ведьму, спутанную в «козла», сажают в дежун. Следует помнить – есть дежа и есть дежун. Дежа имеет четное число клепок, а дежун – нечетное. Посадив в дежун ведьму, накрывают ее сверху крышкой и пишут мелом «Иисус, Мария, Иосиф». А это для того, чтобы она не имела союза с землей и чтобы нечистых отпугнуть, которые вокруг нее увиваются. Затем приходит пора пыток. Ведьму раздевают догола, и, чтобы в волосах она не прятала никаких штук, с помощью которых не чувствовала бы боли, стригут ее и бреют во всех местах. Признание надо брать водой, уксусом, вливанием масла в горло, обмазыванием серой, смолой, горячей солониной, голодом, великой жаждой, приложением на пуп мыши, шершней или других насекомых, которых накрывают сверху стеклянной банкой». Вы что-либо подобное применяли?
– Нет, ограничивались купелью и прижиганием. В деже не держали и на пуп мышей не клали.
– А я скажу вам, что весь смысл – именно в разнообразии. Наши предки взлелеяли традиции, от которых мы не должны отрекаться. А вы все сводите к такому примитиву, как прижигание. Нет размаха, фантазии, полета мысли. Подумайте над тем, что я прочитал. Итак, завтра рано благослови нас, Боже, на дело святое и гожее.
Палач, выйдя от Зиморовича, забрел в корчму, умостился за свой стол и заказал кувшин венгерского вина. Ловкая Магдуля мигом его обслужила, надув при этом губу так, будто изрядно гнушалась палача, но Каспер на это внимания не обращал, потому что привык, что должен жить так, как живет. Им брезгуют, но боятся. И если бы он случайно коснулся рукой этой девушки, она бы завизжала, как сумасшедшая, но никто не посмел бы его в чем-либо упрекнуть или утешать ее, все сделали бы вид, что ничего не произошло, и дальше сосали бы свое пиво или вино. Палач отхлебнул из глиняной кружки и заметил, что около ушка есть маленькая щербинка – конечно, он припоминает ее, уже видел раньше, значит, они держат для него отдельную утварь, чтобы, не дай бог, какая-нибудь праведная душа не глотнула ненароком из той же посудины. А как с мисками и ложками? Там тоже есть зарубки? Мелочные перепуганные людишки, чье дерьмо он вывозит за пределы города, он видит их насквозь, все их грешки и извращения, все их страхи и боязни, они потому и стесняются его, даже глаза прячут, вынося в ведрах и горшках свои отходы, а он стоит гордый и невозмутимый, следя за их нелепыми движениями, смеясь в душе над поспешностью, с которой они стремятся покончить с этой процедурой и исчезнуть с его глаз.
Сбоку на стене висело старое выщербленное зеркало, обрамленное резными цветами, которые когда-то были позолоченными, а сейчас рябили разнообразными пятнами. В мглистом сером отражении среди трещин и мушиных следов Каспер увидел не свое лицо, а всеми забытое кладбище, ему показалось, что он даже замечает парящих ворон, вспугнутых чьими-то шагами, видит намокшие от дождя листья и слышит стон ветра в расщелинах серых камней. Отражение ужаснуло его, оно напоминало клеймо, которое он вынужден постоянно носить, и любой, при желании, может прочесть в нем его судьбу и его боль.
Жизнь пробегала мимо, а он мог только смотреть, смотреть и вспоминать, понимая, что тоску свою и зависть не удастся никогда ему заглушить, ни открыть кому-нибудь, никто не должен догадываться, какая боль жжет его душу. Да и что им до его души? И есть ли у палача душа? Похоже, что есть. Но где она? Где она запрятана, что никоим образом не дает о себе знать – ни улыбкой, ни словом, ни морганием глаза? Скрыта она на дне сердца, так глубоко, что не добыть ее. Никому не удалось увидеть признаков существования души у палача. Да и сам он чувствует ее существование только в одиночестве, когда остается в тишине дома, отгороженный от мира стенами, а вечер ласково гладит окна. И тогда время от времени нисходит на него озарение, его внутреннее «я» вырывается из оков и мчится в неизведанные просторы вселенной, растворяется в них, постигая глубинный смысл жизни и представляя себя чуть ли не демиургом, властителем дум и душ, а не только тел. И только там, в тех пространствах, он мог чувствовать себя открытым, чистым и светлым. Только там – и больше нигде. Постепенно все щели в нем замкнулись, он погрузился в самого себя и жил только собой, воспринимая все вокруг на расстоянии. Потому что палач должен быть твердым, как камень, нечувствительным, как камень, глухим, как камень, молчаливым, как камень, палач должен быть сплошным камнем, иначе он потеряет свою работу, потеряет уважение и страх общества, потому что палача надо бояться, так принято, палача надо остерегаться, обходить десятой дорогой, не пить за его здоровье, не говорить ему «здравствуйте», не желать спокойной ночи. Потому что палач – это камень. Он не нуждается в чьем-то внимании. Он – сам по себе, а остальные люди – сами по себе, и так всем легче. Только первая кровь важна, только первая, а потом уже никакая, потом уже и первая кровь перекрывает все остальные, забирает с собой весь страх и мороз по коже, всю неуверенность и цокот зубов, и первая кровь живет в памяти до смерти и никогда не высыхает, стоит перед глазами и светит, и кажется, что отдельные ее капли продолжают еще жить на твоем теле, на руках и лице, никогда их не смыть, и места на теле, куда упала та кровь, будут помнить о ней, будут время от времени жечь, чесаться и напоминать о себе, особенно те капли, которые попали на губы и невольно сообщили им свой вкус, вкус чужой крови, а потом… что потом – потом и первая кровь будет требовать следующей, будет клянчить ее, и опять ты почувствуешь ее вкус на губах, и сколько бы ни облизывал губы, все же вкус крови останется.
Но до своего превращения в камень палач должен пройти определенный путь, чтобы его душа достаточно очерствела, чтобы не воспринимала так остро ни криков, ни стонов, ни хрипа, ни бульканья крови, ни самого ее вида и запаха. А когда это произошло, он почувствовал, что снова радостно воспринимает пение птиц, различает запахи цветов и лелеет их на своем огородике, а призрак крови уже не преследует его, не снятся отсеченные головы, и отпала необходимость так тщательно мыть руки. Он научился владеть собой, своим душевным состоянием, и когда решал, что это его не должно волновать – оно его уже и не волновало. Когда он выполнял свою работу, то все эти отрубленные головы, руки, ноги были для него частью какого-то живого механизма, который пришла пора выключить. Это то же самое, что остановить волчок, и когда волчок останавливался, а он переводил свой взгляд на толпу и видел ужас в ее глазах, то знал, что дело было сделано безупречно.
Постепенно, отрубая головы и другие части тел, он начал чувствовать что-то похожее на триумф, каждый такой удар мечом был равноценен преодолению какой-то тяжелой преграды, например, сталкиванию каменной глыбы с дороги. Но отношение к глыбе могло быть только отстраненным, а отношение к казненному было почти интимным, невидимая связь объединяла палача и жертву, то было нечто большее и более крепкое, чем кровная связь. Палач хорошо осознавал, что он овладевает людьми, которых казнил, хоть и не надолго, становится их хозяином, он мог великодушно подарить лишние минуты жизни, а мог и отобрать, и эти попытки овладения жертвой он должен был делать бесконечно, всегда заново, потому что ни с одной из них он не мог установить какого-то другого контакта – только посредством меча, веревки или принадлежностей для пыток. Он чувствовал себя наравне с Богом, ибо тот давал жизнь, а он ее отбирал. Отбирал у Бога то, что принадлежало Богу, частичку самого Бога, убивал ее и чувствовал себя падшим ангелом, вырвавшимся из ада и ставшим рядом с Господом, чтобы вершить Его суд. И порой он ловил себя на мысли, что, глядя на какого-либо человека, оценивал его только с той точки зрения, насколько легко меч срубил бы его шею, с каким звуком он бы рассек ее. И люди, словно читая его мысли и фантазии, невольно втягивали головы в плечи при встрече с ним. И он замечал это не без удовольствия. Это было чувством компенсации за то, что подвергают его анафеме, исключая из жизни города, не позволяя исповедоваться и причащаться, а цеховые уставы строго запрещали любые контакты с палачом. Исключением были лишь служащие магистрата.
Тогда принято было считать, что смерть не лишает труп чувствительности, потому что он сохраняет вегетативную силу – «след жизни». Ведь всем было известно, что существует удивительная способность трупа жертвы выделять кровь в присутствии убийцы. Тело умершего способно слышать и вспоминать, а потому еще жил обычай несколько раз окликать умершего по имени, чтобы удостовериться в его смерти. Труп – еще тело и уже мертвец, говорил Касперу отец. В глазах палача труп превращался в сырье для изготовления весьма действенных лекарств. Это была еще одна возможность заработать деньги, распродавая различные части казненного. Кости мертвеца использовали с профилактической целью, их носили на шее или зашивали в одежду, как амулет. Из обожженных костей счастливых супругов или страстных любовников приготовляли возбуждающий любовный напиток. Некоторые из фармацевтов брались за изготовление «божественной воды», названной так за свои удивительные свойства: труп казненного, который при жизни отличался хорошим здоровьем, разрезали вместе с костями и внутренностями на мелкие кусочки, все смешивали и с помощью перегонки превращали в жидкость. Позже в определенное количество этой «божественной воды» добавляли от 3 до 9 капель крови больного и осторожно взбалтывали над огнем. Если вода и кровь хорошо смешивались, это был знак, что больной будет жить, если нет – умрет. Лекарства из трупов были дорогими, поскольку приготовить их было непросто. Даже короли принимали лечебное питье, составленное из 42 капель экстракта человеческого черепа.
Каспер с отвращением вспоминал запах, который царил у Гануша в доме, где разлагались осклизлые куски, отрезанные у трупов. В отличие от Гануша, Каспер предпочел отдавать трупы на растерзание фармацевтам, а уже от них в уплату получать целебные экстракты, которые затем продавал. Он знал, что, казня преступников и всякую сволочь, принимает на себя всю их ярость и ненависть, всю их порчу и проклятия вместе с брызгами крови, он был подобен стене, отделяющей преступников от добропорядочных горожан. Человек обреченный на смерть и человек казненный вызывали у любого палача одинаковые эмоции, они все были не чем иным, как оболочками, где лишь на время затаилась чья-то душа. Ход обреченного к своей смерти был неуклонным, поэтому человека после пыток, хоть и еще живого, палач воспринимал как уже мертвого. Только так можно было стать равнодушным к человеческим крикам, стонам и хрипам. Но Каспер считал по-иному. Все казненные в его глазах очищались через казнь, их имена Каспер вспоминал, как имена святых – но своих собственных святых, чем похвастаться могли немногие, и постепенно они вырастали в его воображении до незаурядного величия, и он испытывал к ним искреннее уважение и вел с ними мысленно философские беседы, их голоса проникали в его уши сквозь шелест листьев или хруст снега, плеск дождя и хлопанье ветра. Казня их, он перенимал их грехи, и они толклись в нем, не находя себе места. Со временем казненные им превращались в живительное лекарство и оказывались в бутылочках и баночках, и он, исключительно для себя, обозначая на наклейке название экстракта, добавлял еще две маленькие буквы, которые никому кроме него ничего не говорили, а для него обозначали имена казненных. От многих, кого он вешал или отрубал голову, он получал что-то на память, перед смертью они что-то ему дарили. Обычно это были крестики на цепочке, перстни, кольца, серебряные или золотые пуговицы, подаренные вместе с кафтаном. От одного разбойника он получил расшитый персидский пояс, от другого – икону в драгоценном окладе, а от шляхтича-головореза – саблю с рукояткой в рубинах. Все эти вещи он бережно хранил и время от времени пересматривал, вспоминая, при каких обстоятельствах получил и кто что ему при этом говорил. Все это он отложил на старость, когда, поселившись где-то там, где его никто не знает, будет доживать век в добре и достатке. Может, если повезет, то и не один, а с женой и кучкой детишек. Жениться ни на ком во Львове он не мог и мечтать, но мечтать не переставал, представляя, как будет заботиться о жене, покупать ей разные дорогие наряды и ходить с ней на прогулки, любуясь закатом.
Каспер при всей своей твердости и черствости чувствовал душевный трепет в отношениях с природой, любил ходить в лес и приносить оттуда различные деревца и растения, которые затем высаживал на своем подворье, а также куски корней или веток, из которых мастерил зверей, птиц или каких-то монстров. Он не любил культурные цветы, такие как розы, нарциссы или тюльпаны, ставшие модными во Львове, где их высаживали чуть ли не на каждом балконе, – он любил полевые цветы, которые не выдержат в неволе больше одного дня – маки, васильки, огоньки, колокольчики, барвинок. Цветы были как бы его пропуском в мир людей из мира злых богов, в них он вливал все свои человеческие чувства, потому что больше не с кем было делиться ими. Разве что с двумя вороными лошадьми, которые были такими же гордыми, как и он, и не проявляли к нему никаких симпатий. Таким был мир, который окружал его, и вырваться из него было нелегко.
В винодельне стоял тяжелый смрад винных испарений, настоянных на жарких днях, взболтанных и разлитых по всем углам, Каспер вытянул ноги под столом и расслабился, мысли его устремились в завтрашний день, когда будут судить ведьм. Зиморович уже рассказал ему, что магистрат дров не закупил, и их не сожгут. Казнить женщин мечом ему еще не доводилось, он не мог уяснить, с какой силой должен опускаться меч на женскую шею, если она значительно более хрупкая, чем мужская. Тут, правда, будет исключение, потому что шея старой ведьмы потребует сильного и резкого удара, а такой же сильный удар по девичьей шее может повредить меч – он, перерубив шею, непременно застрянет в колоде. Тогда уж смеху не оберешься… Он вспомнил, как Гануша забросали камнями, когда он не сумел с одного удара зарубить осужденного разбойника и вынужден был рубить еще и еще, а затем бросился на него с мизерикордией[19] и пытался проткнуть горло, но тот защищался, и их возня вызвала смех, смех и угрозы, одни кричали, чтобы оставил его в покое, потому что разбойник, которого не сумели одним махом казнить, заслужил помилование, другие кричали, чтобы палач шел свиней пасти, а поскольку судья о помиловании молчал, он продолжал бороться с живучим приговоренным, у которого кровь брызгала из шеи и изо рта, но все же он не сдавался и даже схватил зубами палача за ухо, откусил кусок и выплюнул, на радость толпе. Только тогда взбешенный палач навалился изо всех сил и ударил разбойника в самое сердце, а затем упал, задыхаясь, рядом с ним, высунув язык. Но недолго ему дали отдыхать, потому что на помост полетели кирпичи, брусчатка, палки и все, что под руку попало, палач засуетился и кинулся бежать, счастье еще, что охрана организовала для него коридор, а то могли бы его и до смерти забросать.
Раньше, когда в городе не было палача, царили довольно дикие обычаи. Зиморович показал как-то Касперу старую львовскую хронику, в которой было записано, что «когда кто-то кого-то обвинит в краже или в другом преступлении и подаст в суд, а преступление будет доказано, и суд определит наказание смертью через повешение, то в случае, если нет палача – «cum non esset lictor» – сам обвинитель экзекуцию должен осуществить». При этом ему гарантировали, что за этот поступок ни его, ни его потомков никто не имеет права упрекать. А если откажется, тогда сам будет преступником казнен. В книге прав, по которой судили во Львове, можно было встретить немало диковинок, которые, правда, никогда не применялись. Одна из них касалась поссорившихся мужчин, которые от ссоры перешли бы к драке. Итак, «если бы белоголовая между ними вмешалась, чтобы кому-то одному помочь и, не имея возможности иначе их разнять, только как того, кто брал верх, за член стыдный схватить, то право предписывает, что руку белоголовой, которая дотронулась до такого члена, должно отсечь, а если бы право милостиво дало согласие, тогда такая белоголовая может руку свою выкупить».
Самое ужасное приключение, которое пережил Каспер, произошло с чернокнижником, помещиком Белогорще – паном Нивинским, который, пригласив из Чехии алхимиков и разных проходимцев, проводил таинственные опыты, а прислуживал ему, по словам местных жителей, сам нечистый, так как не раз видели, как большой огненный змей летит по небу и влетает прямо в трубу панского дворца. Люди от него шарахались, а когда должны были везти туда дрова или продукты, то предпочитали все это сбрасывать перед самым мостом, который вел к воротам. Хмурая замковая челядь забирала привезенное и снова скрывалась за стенами.
На расстоянии дворец имел очень неприглядный вид, над ним постоянно кружили вороны и громко каркали, а по вечерам слетались летучие мыши и яростно пищали, а писк их напоминал человеческие крики.
Однажды весной пан умер. Алхимики и другие проходимцы, которые свили здесь уютное гнездышко, после смерти своего патрона быстренько улизнули. Да еще и не среди дня, а глубокой ночью, чтобы их никто не видел, только мальчишки, пасущие лошадей, заметили темные тени, которые неслись по дороге на запад.
У пана не было ни жены, ни детей, следовательно, похоронами его озаботилась челядь. Но когда слуги сунулись к местному священнику, чтобы тот отпел их помещика, батюшка принялся испуганно креститься и ни за какие деньги не соглашался на это. Тогда решили его похоронить без священника, но община Белогорще стала стеной и не пустила гроб на свое кладбище. Не помогла даже сумка золота, которую челядь перед ней высыпала. Пришлось похоронить пана в поле.
После похорон слуги, погрузив, что было ценного, на телеги, покинули замок и разъехались кто куда. Из местных жителей никто в замок не решался заглянуть. А тем временем ночью раздался громкий грохот, и наутро все увидели, что земля не приняла гроб с паном, извергла его на поверхность, а вороны сразу окружили его со всех сторон. Пришлось людям снова хоронить безбожника, но и в следующую ночь произошло то же самое, и в третью тоже. Что было делать?
Тогда послали во Львов за палачом. Каспер, заслышав, что за работу ему предлагают, руками и ногами отбивался, но тогда вмешался магистрат и приказал-таки палачу поехать в Белогорще, потому что делать было нечего. Надо было как-то этого пана наконец упокоить.
Каспер приехал со своим подмастерьем, молодым парнем, на черной телеге, на которой обычно возил тела казненных преступников. Люди привели их на поле, стали поодаль и наблюдали за тем, что они будут делать. Вороньё гневно взлетело вверх и закружилось в диком танце прямо над их головами, порой даже задевая крыльями. Палач поддел мечом крышку и сбросил на землю. Пан лежал в гробу как живой, со свекольно-красным лицом, вишневые губы кривились в усмешке. Каспер махнул мечом и отрубил ему голову, кровь ударила вверх красным фонтаном, обрызгав воронов, те закричали отчаянно и полетели в лес. Подмастерье поднял панскую голову за волосы и положил ее в ногах. Затем палач отрубил ноги, а подмастерье положил их в головах. Одну отрубленную руку пристроили покойнику под голову, а вторую – под ноги. Тогда они подняли крышку, положили на гроб и заколотили большими гвоздями.
И когда Каспер попросил людей взгромоздить гроб на телегу, те нерешительно затоптались на месте – никто не хотел даже приближаться к гробу. Наконец согласились настоятель с пономарем, и когда взялись поднимать гроб, то не смогли сдвинуть его с места. Пришлось позвать еще парней, а те, устыдившись, что старый священник должен гроб таскать, все-таки присоединились к группе, и только ввосьмером высадили гроб на телегу. Общество расплатилось с палачом, он щелкнул кнутом, и телега тронулась.
По дороге Каспер наказал подмастерью сесть на козлы, править лошадьми, но не оглядываться назад, что бы там ни происходило. Сам он сел позади гроба с мечом в руке. Только воз выехал за Белогорще, из гроба послышалось жалобное нытье, а затем раздались ругательства и стук в крышку. Каспер ударил трижды плашмя мечом по гробу, и стук утих. Между тем уже стемнело, где-то высоко над головой снова закружили вороны, запищали летучие мыши, а из леса послышался пронзительный вой, что-то там топало, аж трещали ветки, и громко стонало. И чем дальше они отъезжали, тем беспокойнее становился мертвец. Палачу приходилось время от времени ударять мечом. У подмастерья мурашки по спине бегали, но он не оглядывался, хоть и понимал, что происходит что-то странное, потому что лошади уже выбивались из сил и еле тянули телегу. Было такое впечатление, будто воз доро5гой тяжелел и тяжелел. Вскоре лошади и вовсе встали, а пена с них так и капала. Парень хлестал их кнутом, но ничего не помогало – воз не двигался с места. Вокруг уже была темная ночь, вороны и летучие мыши над головами как взбесились, подлетали чуть ли не к самым глазам и с криком уносились снова в небо, а из леса медленно надвигалась беспросветная темень, ничего чернее им в жизни видеть не приходилось. Из гроба раздавался все более громкий грохот, словно кто-то молотом бил, а Каспер ударял мечом, аж эхо катилось. Подмастерье начал читать молитву, палач посмотрел на него и тоже присоединился, через минуту лошади снова тронулись. Так с Божьей помощью они продолжали везти покойного пана, хоть и очень медленно, потому что лошади все же частенько приостанавливались.
Наконец Каспер решил, что хватит с них этой муки. Они как раз выехали на старую плотину, здесь когда-то журчал ручеек и был пруд, но поток иссяк, а пруд высох и превратился в болото, покрытое ряской и заросшее по берегам камышом.
– Тут ему как раз и место, – сказал Каспер.
За плечами у подмастерья что-то завыло и запричитало, словно сто котов вдруг сплелись в один клубок, и он не выдержал – все-таки оглянулся. Господи! То, что он увидел, не покидало его память еще много лет и мучило в снах. А увидел он целую стаю черных чудовищ, окруживших и гроб, и телегу, и свисавших до самой земли целыми гроздьями. Палач бил мечом, но это мало помогало, потому что чудищ каждый раз становилось все больше и больше.
– А чтоб вас, живодеры! – рявкнул он. – Забирайте его! Он ваш!
Что тут началось! Черти всем миром ухватились за гроб и потянули его с телеги. Слышно было, как отчаянно кричит покойник, как бьется в гробу, а черти с хохотом и визгом сбросили гроб на плотину, а потом и в болото, только чавкнуло. Через мгновение все вокруг улеглось, утихомирилось. Куда и вороны с летучими мышами девались. На небе появился месяц и осветил дорогу. Подмастерье перекрестился, щелкнул кнутом, и лошади побежали, весело мотая хвостами…
Суд заседал в лавничей комнате, которая прославилась тем, что именно отсюда начинал свое путешествие по Ратуше черный гроб или его призрак. Но это было в полночь, а днем черный гроб никому не досаждал. Лавники расселись, и все как один уставились на обеих ведьм, причем старуху они удостаивали вниманием не более чем на минуту, а затем уже не сводили глаз с Руты. У каждого на уме был один вопрос: как она могла колдовать?
Зиморович откашлялся, глотнул воды и произнес таким тоном, словно вещал с амвона:
– Ut ameris, amabilis esto! Хочешь быть любимым – заслужи любовь, как учил нас славный Овидиус. – Тут Зиморович сделал паузу, словно давая возможность лавникам вспомнить, о ком идет речь, или даже поинтересоваться друг у друга, что за тип этот Овидиус, но лавники даже глазом не моргнули, и Зиморович продолжал: – Правда, сей совет не является совершенным и в отдельных случаях непригоден практически. К примеру, не могли им воспользоваться влюбленные, которых природа одарила слишком скупо, или те, чей объект любви уже отдал свое сердце другому лицу. В наше время влюбленные настолько честолюбивы и тщеславны, что совсем не заботятся о том, могут ли они сами предложить что-то, а стремятся прежде всего удовлетворить свое желание, а когда не могут добиться цели обычными средствами, прибегают к колдовству. Не обязательно сразу обращаться за помощью к дьяволу – лица, терпящие муки сердца, могут найти множество советов в книгах, посвященных так называемой белой магии. Особую популярность среди влюбленных имеет любовный напиток. Позволю себе напомнить, что и бедняга Тристан когда-то причастился этим напитком, а к чему это привело? Мы ведь имеем дело с трагической развязкой: объект любви «высох и едва душу Богу не отдал». Удивляться тут нечего, если вспомнить, какие удивительные составляющие имели подобные напитки. Перемолотые в порошок косточки лягушки, сердце ласточки, клешня рака, высушенная и растертая в порошок ящерица, кровь голубя, внутренности воробья, кошачий мозг, различное зелье и магические камни, а еще печально известная кантарида – жук из рода ubeloidae, кровь которого имеет ядовитую субстанцию – кантаридин. Ясное дело, что, напившись такого напитка, хочешь не хочешь, а дуба дашь.
На совести старой Вивди есть еще один грех. Когда пан Олефир из Дидилова влюбился в одну уважаемую молодицу, которая даже в мыслях не желала изменить своему мужу, то, отчаявшийся и измученный своей похотью, решил он прибегнуть к ворожбе. А поскольку женщина кормила грудью младенца, подкупил он ее служанку, чтобы и ему вынесла хоть глоток ее молока, которое она сцеживает после кормления. Хитрая служанка спрятала цехины за пазуху, но вместо спасительной жидкости вынесла козье молоко. Обрадованный пан Олефир из Дидилова произнес магические слова, которые ему сообщила Вивдя, и стал ждать любимую. Однако та не появлялась. Зато на следующий день он встретил по дороге козу, упорно шедшую за ним следом, она ждала под корчмой, а затем провела его до самого дома. Видимо, такое крайне компрометирующее поведение козы вывело пана Олефира из Дидилова из равновесия, и он отдал ее мяснику, еще и доплатив, потому как невинная жертва была довольно солидного возраста.
А потому должны мы подвергнуть испытаниям наших ворожей, и самое надежное испытание в ведьмовстве это купель.
Ворожей повели к реке, целая туча людей двинулась туда же и столпилась вдоль Полтвы. С кораблей слышались издевки и глумливые песни. Моряки взобрались на мачты, повисли на вантах и радовались, капитаны следили за происходящим в подзорные трубы.
Ворожей быстренько связали в «козла» – правую руку вывернули за спину и привязали к левой ноге, а левую руку – к правой ноге. Затем, привязав длинный ремень к поясу, бросили обеих в воду. Палач мысленно обратился к Богу, моля, чтобы девушка сразу же пошла ко дну, поэтому и спутал ее так крепко, как только сумел, еще и перевязал подол юбки. Но ворожеи и не думали тонуть, потому как одеты были в несколько юбок одна поверх другой, не считая рубашки, юбки надулись и держали их на воде на радость горожанам – иначе бы исчезла надежда на такое захватывающее зрелище, как смертная казнь. Девушка не тонула, и палач догадался почему – надо было перевязать не только подол, а так образовалась воздушная подушка еще лучше, чем у старухи. Толпа неистовствовала, звучали проклятия и ругательства, летели комья земли и камни, на кораблях стреляли в воздух из пистолетов и неистово шумели, подзуживая толпу. Когда несчастных вытащили на берег, воины должны были оттеснить всю эту ораву, чтобы она преждевременно не учинила самосуд.
Теперь уже всем было понятно, что это ведьмы. Не дав им обсохнуть, голодными и мокрыми до нитки их закрыли в дежах на остаток дня и на всю ночь. Но вскоре обе благодарили Бога, что им не дали выкрутить одежду, иначе жажда замучила бы их, а так они могли время от времени высасывать влагу из платья. Сквозь тонкие щели в клепках было видно, как день клонится к вечеру, как начинает темнеть и наступает ночь. Рута слышала, как Вивдя что-то бормочет, засыпая, но слов не могла разобрать, потом послышалось тихое повизгивание, поскребывание, а затем звук, будто пузырь сдувается, и наступила тишина. Рута склонила голову на колени, обняв их руками, и заснула.
Проснулась она среди ночи, когда попыталась поменять позу и сдвинуться спиной на дно, задрав вытянутые ноги вверх, так как дежа была хоть и узкая, но высокая. И в тот же миг в глаза ей ударил яркий свет месяца, который проникал сквозь щель. Это был очень холодный свет, словно длинная льдина, похожая на тонкий меч, тянулась от неба к ее сердцу, и у сердца не было сил ее растопить. Сон, который еще минуту назад обволакивал ее, опал лепесток за лепестком и выветрился, и теперь лишь тишина царила вокруг нее и в ней самой. В такой тишине засыпать ей было страшно, шевеление ногами не принесло никаких изменений, тишина все равно выходила победителем, она угнездилась на дне дежи и стерегла ее, как кот мышь. Но это продолжалось недолго, потому что скоро поднялся ветер, зашумели деревья и шелестел дождь, а вместе с ним послышался храп из соседней дежи, и Руте сразу стало легче. Дежи стояли под деревьями, и слабенький, но шумный дождь не донимал. Рута снова заснула.
На следующий день ворожей вытащили из деж и развязали. Зиморович спросил, признают ли они себя ведьмами, но обе отрицали, и тогда их повели в пыточную.
Пыточная – это особый мир, таинственный и скрытый для тех, кто не участвует в следствии, у рядового обывателя это место вызывало страх, но заодно и сокровенное желание хоть одним глазком припасть к какой-нибудь щели и увидеть, что там происходит, чтобы, получив желанную порцию трепета, с тихим удовольствием смаковать его потом и возвышаться в своих глазах, думая о себе, как о чистом и непорочном херувиме. Но это не дано было никому, кроме тех, кому эта обязанность полагалась по службе. Поэтому кроме главных персонажей – палача и его жертвы – там могли присутствовать епископ, судьи, подмастерья, кто-нибудь из медиков и нотариусов. По желанию могли заглянуть в пыточную и лавники, но им хватало одного-двух раз, чтобы навсегда получить отвращение к этому зрелищу. Кроме того, издавна все верили, что не стоит смотреть в глаза истязаемого, иначе его муки могут перейти на тебя и будут донимать всю жизнь. Поэтому частенько лавники и нотариус садились спиной к жертве.
Женщин начали раздевать, а поскольку те отбивались, их приковали к стене за руки и ноги и содрали с них все. Это зрелище вывело палача из равновесия, он не сводил глаз с молодой ведьмы и не мог представить, как будет пытать это прекрасное юное тело, к которому так и хотелось припасть губами, лаская все эти изгибистые линии кончиками пальцев. Холодный пот выступил у него на лбу. Но Зиморович приказал начинать со старухи, подмастерья взялись ее стричь и брить подмышки и между ногами, наляпав как попало густой пены. Закончив стрижку и бритье, подмастерья зажгли пучок соломы и для верности еще и слегка осмолили ведьму между ногами и подмышками, а затем ловко ее растянули между обоими крюками. Палач дернул за шнур, но баба даже не пискнула. Тело ее зависло и закачалось. Старое сморщенное лицо покрылось потом, губы вздрагивали, но молчали.
Епископ спросил:
– Отрекалась ли ты от Бога, и какими словами?
– Нет, – простонала ведьма и далее на каждый следующий вопрос отвечала отрицательно, но епископ продолжал:
– В чьем присутствии ты отрекалась от Бога, с какими церемониями, где и когда? Получил ли от тебя нечистый грамоту, подписанную кровью? А может, она была подписана чернилами? Как он тебе являлся? Как его звали? Как он был одет? Что у него было на ногах?
Наконец ведьма перестала отвечать и, закрыв глаза, высвободила себя из пытками измученного тела, выпорхнула из башни и полетела над рощами и лугами, упиваясь яркими зелеными красками, вслушиваясь в радостное пение птиц и жужжание насекомых, солнце теперь качало ее в своих лучах, и ничто из того, что окружало теперь ее тело, не беспокоило ее, а оказалось далеко-далеко, за пределами ее существования.
Палач кивнул подмастерьям, и они вместе потянули за шнур, тело ведьмы выпрямилось, напряглось, раздался хруст суставов, но крик боли не прозвучал, губы ведьмы были улыбающимися и мягкими, словно шла она не навстречу своей смерти, а навстречу своей юности. Потянули сильнее, но результат был тот же. Присутствующие беспомощно переглядывались. Казалось, вот-вот оторвутся запястья – так вздулись жилы и проступили сквозь сухую кожу кости. Но палач дал знак потянуть еще.
Ведьма почувствовала, как силы ее покидают, уже не могла лететь над рощами, темнота подавила ее, поволокла вниз и бросила на землю – она закричала, что во всем признается, и шнур ослабили. Ведьма опустилась на пол и жадно впитывала его холод, тяжело дыша.
– А ну, плесните на нее воды, – велел Зиморович, а потом наклонился и спросил: – Вивдя Павлючка, признаешься ли ты, что вышла за дьявола и насылала чары на людей и на скот, что летала на Лысую Гору на шабаш и гуляла там на бесовских пирах?
Ведьма открыла глаза, глянула на него с такой ненавистью, что тот аж отшатнулся и побледнел, и воскликнула:
– Чтоб ты сдох, как собака под забором!
– А, черт тебя побери! – выругался судья. – Сейчас ты у меня по-другому заговоришь. Давайте сюда гишпанский сапог!
Зиморович сразу нашел в манускрипте нужный раздел и стал вслух читать, может, не столько для палача и судьи, сколько для обеих ведьм, чтобы те опомнились:
– «Когда пытуемая не созналась в обвинениях, то должно применить орудие «гишпанский сапог», который одевается на ноги. Закручивание железных шипов с зубами, направленными внутрь, вызывает раздробление ног». О! Слышите? А ежели это не помогает, то советуют прикладывать к груди раскаленные куски жести. «Неистовая боль тогда спирает дыхание и выбрасывает из пытуемой через все отверстия густые, водянистые и флегмистые экс… – что за черт?… – экс… га… ляции… – гм… – которые вызывают такую вонь, что без кадила и благовоний не обойтись». Ой, нет, это не для меня, – поморщился Зиморович, но продолжил: «И если не можно добиться правды кроме как пытками, тогда она проявляется в явлениях богомерзких, гнусных, и тогда сама является богомерзкой и гнусной, и должна направить так требующую утешения мысль от видимого ада вони и бессмыслия на территорию, где преисполняетесь Ауторитетом – цена которого не суть важна, лишь бы был он неослабевающим и всемогущим, а когда надо, и жестоким». Ага! То есть отступать нам некуда, мы должны действовать, как в книге написано.
Но когда подмастерье взялся за волосы девушки, вдруг палача неудержимая сила бросила на колени перед епископом, и он затарахтел, забормотал так, словно речь шла не о жизни юной ворожки, а о его собственной, слова сыпались у него изо рта, как никогда, ведь все знали его как мрачного молчуна, из которого иногда и слова не вытянешь, он уже, может, и сам не соображал, что мелет, но молол без умолку, потому что должен был, любой ценой должен был вымолить помилование.
Палач, у которого проснулось чувство милосердия, не палач, и это не на шутку шокировало присутствующих.
– Да он сошел с ума! – воскликнул епископ. – Сатана спутал его мысли!
– Нет-нет, не сатана! – закричал палач. – Я знаю свое право! Это право палача! Раз в жизни я могу им воспользоваться. Отдайте ее за меня! Это мое право!
Епископ с недоверием посмотрел на Зиморовича, ожидая, что тот объяснит палачу всю бессмысленность его просьбы, но Зиморович кивнул:
– Это так. Раз в жизни палач имеет такое право.
– Вы шутите! – вспыхнул епископ.
– Нет, так записано в магистратской книге. И не нам менять законы. Палач имеет свое право, которым может воспользоваться лишь раз. И это, видимо, и есть тот самый случай.
– Да это… – Епископ от волнения закашлялся, надулся, как индюк, покраснел и, подобрав ризы, выбежал из пыточной.
Палач поднялся с колен, взглянул на Зиморовича и поблагодарил шепотом, Зиморович кивнул, подмастерья расковали девушку и подали ей одежду. Рута тряслась, путаясь в одежде, вероятно, еще и не до конца понимая, что произошло и что дальше ее ждет. Зиморович подошел к палачу, толкнул его в бок и, кивая на девушку, шепнул:
– А вы мужик соображающий, хе-хе. Ну, забирайте свое сокровище да скорей возвращайтесь назад, потому что эту старую клячу авось никто не посватает, а? А это же, между тем, ваша теща, разве нет? – Зиморович хлопнул себя по коленям и залился громким смехом. – Вот это да! Га-га-га-га! Ой, держите меня, не то лопну! Не каждому такое счастье выпало – пытать собственную тещу!
Палач схватил девушку за руку и поволок к выходу, а за спиной раздавался хохот, и хохотал уже не только Зиморович, но и подмастерья и нотариусы. Не смеялись только аптекарь и старая ведьма.
Они шли через Рынок, и прохожие оглядывались на них, потому что никто никогда не видел палача с девушкой, видели его только с ветреницами, с которых он собирал налог, но он никогда с ними не прогуливался, а сейчас шел с гордо задранным подбородком, не останавливая взгляда ни на ком. Девушка, наоборот, ковыляла понуро с опущенной головой, иногда спотыкалась на мостовой и тихо вскрикивала – она была босая, большой палец на правой ноге кровоточил, и она пыталась ступать только пяткой.
Дом палача выглядел прибранным, глиняный пол был выметен, на столе – чистая скатерть и кувшин с васильками. Присутствие цветов произвело на Руту странное впечатление: чего-чего, но цветов она здесь увидеть не ожидала. Палач повесил меч на стену и кивнул ей, чтоб села. Рута послушалась и посмотрела на ногу – палец еще кровоточил, она хотела спросить, не даст ли он ей какую-нибудь тряпку, но палач как раз вышел из дома, а через минуту появился с ковшиком, стал перед ней на колени, опустил израненную ногу в ковшик и стал поливать водой, смывая кровь. Затем вынул из кармана кусок полотна, выплюнул на него зелень, которую перед тем разжевал, приложил к ране и завернул ступню. Рута догадалась, что разжеванная зелень – подорожник, она сама не раз так делала, но чувствовала себя неловко из-за того, что палач все время молчал, хотя она и сама была не слишком настроена на разговоры – была такой же молчуньей и так чувствовала себя лучше, но никогда не встречала другого такого же молчуна. Ей казалось, что она его своим молчанием может обидеть, и тогда наконец выдавила из себя «спасибо», но так тихо, чуть ли не шепотом, что, может, он и не услышал, потому что никак не отреагировал, а спустился в погреб и вынес оттуда сыр и сметану, скоренько покрошил зеленый лук с укропом и все это перемешал, добавив щепотку соли. Затем разделил на две миски и подвинул Руте вместе с ломтем черного пеклеванного хлеба. Ели они также молча, при этом Рута заметила, что палач все время следил, чтобы не чавкать и не чмокать, набирал по пол-ложки и вкладывал в рот так, как насыпают сахар в чашку. Хочет казаться лучше, чем есть на самом деле, подумала она, но зачем, что это ему даст, она и так никогда не будет ему женой, хоть бы и замучил. Когда они поели, палач собрал миски и ложки и вышел во двор, в окно Руте было видно, как он полощет посуду у колодца.
Здесь между стенами царила тень, солнце могло заглянуть сюда разве что в полдень. От стен веяло влажностью, густые заросли плюща приютили стаи воробьев, которые заливались щебетом. Ядовито отчаянная печаль охватила Руту, вдруг стало себя очень жалко, она чувствовала себя, как эти васильки, вырванные в поле, им уже никогда не вернуться домой, засохнут и вылетят из окна, неужели и ей придется век вековать с палачом, и не увидит она отцовского дома, конька…
Палач вошел, снял меч и буркнул:
– Иду в магистрат. А ты… – сразу поправился… – вы… отдохните. Я скоро.
Рута проводила его взглядом: идет пытать старую Вивдю, ничего человеческого в нем нет.
Старая Вивдя осталась одна в пыточной, выбритая, остриженная и нагая, с обвисшими персями, она напоминала невиданное существо, которое вылупилось из темного закутка. Руки и ноги у нее были прикованы к стене, ее мучила жажда, и ей хотелось умереть, в пересохшем рту язык онемел и еле-еле двигался.
– Господи, пошли мне скорую смерть, – прошептала она. – Я, Владыка, никогда от Тебя не отрекалась, хотя и зналась со всевозможной нечистью. Я, Владыка, лечила только Твоим именем, и Тебя благодарила, и Тебя прославляла. Пошли мне Свою благодать, пусть я умру поскорее, потому что только Ты знаешь, что невиновна я и ни в чем вины моей нету.
Вдруг в углу что-то зашелестело. Мыши? Вивдя испуганно смотрела, как солома, шурша, ощетинилась, поднялась дыбом и стала расти. Вивдя вытаращила глаза. Солома медленно выросла до уровня человеческого роста, на мгновение замерла, а потом вдруг осыпалась, и перед старухой появился знакомый черт.
– А что? Не ожидала? Ты тут нечистых клянешь, а кто тебе, убогой, поможет, если не я?
– Пить… дай пить…
Черт быстро огляделся, увидел кувшин на скамье, принюхался и только тогда прижал его к губам Вивди. Она жадно хлебала, а вода стекала по ней. Потом черт ударил руками по цепям, и они опали, а Вивдя бессильно рухнула на пол.
– Ну-ну, матушка, – засуетился черт, поднимая ее, – не добавляй мне работы. Ты должна подняться и накинуть на себя свои хламиды. Быстренько, потому что палач уже кончил обедать и плетется сюда.
Он помог Вивде надеть все семь ее юбок, а потом схватил за руку и потащил в угол – туда, откуда только что появился, солома снова зашевелилась, поднялась и накрыла их с головы до ног, а затем опала, и уже в пыточной не осталось ни одной живой или злой души.
Когда Зиморович с палачом и подмастерьями вошли в пыточную, то не на шутку опешили.
– Побей тебя сила Божия! – перекрестился Зиморович и посмотрел на палача, ища ответа, но тот так же стоял ошарашенный и не знал, что думать…
В этот момент приплелся и епископ, сопя, как кузнечный мех.
– Ага! – покачал он головой с таким видом, будто только этого и ждал. – Вот тебе на! А все из-за него! – ткнул он толстым пальцем в палача. – Если бы он не устроил здесь сватовства, то не было бы сейчас такого цуриса. И что? Где ее теперь искать? На Лысой Горе?
– Э, что там… – махнул рукой Зиморович. – Невелика беда. Не иначе, как черти ее забрали. Удрала – значит удрала. Назад уже не вернется. Вот только зрелище народ потерял. А вы, – обратился к палачу, – вы уверены, что и ваша… ждет вас? Может, так же испарилась? – и засмеялся, ударив себя руками по бокам.
Епископ тоже оскалил зубы.
– Да! От этой нечисти всего можно ожидать. Когда-то… – задумался. – Лет вроде как с десять назад… одна такая плутовка в черную кошку обернулась и пыталась удрать, но нам удалось ее схватить за хвост и зажарить до угля.
Глава 12 Паника Июнь 1647 года
Вскоре произошло одно ужасное и неслыханное еще во Львове событие. В шинок «Под Желтой Простыней» пришел посланец, заплатил за девку, которую звали Эмилия, и забрал с собой, сказав, что ее заказал шляхтич из Голоска, Климентович. Эмилия была еще юной и привлекательной особой, влюбившись в морского офицера, сбежала с ним из дома, но долго он ею не тешился и, привезя во Львов, вскоре бросил, а сам исчез. Девушка оказалась в большой беде. Некоторое время еще надеялась, что он вернется, и ждала его, но голод донимал все сильнее. В служанки ее никто брать не хотел, она бродила по городу, прося хоть какую-нибудь работу, но ей предлагали всегда одно и то же, от чего она шарахалась и предпочитала ночевать на берегу Полтвы под мостом святого Винцента, который с давних пор стал прибежищем для всех неприкаянных и бездомных. И в один из осенних дней, когда она промерзла до костей и ее трясло от лихорадки, поплелась она на улицу Льва и постучала в дверь, известную всему городу. Теплый и искренний прием, который ее там ждал, очень тронул ее, ведь хозяйка сразу согрела ведро воды, искупала ее, переодела во все чистое, уложила в постель в пристройке, которую занимала сама, и заботилась о девушке, пока та не поправилась. Так что Эмилия стала проституткой из благодарности, потому что не могла отплатить хозяйке злом за добро, особенно учитывая, что одежду и еду еще следовало отработать. Другие девушки не очень ее любили, потому что своей юностью она отбивала у них клиентов, зато хозяйка нарадоваться на нее не могла и нахваливала клиентам, какая это красотка, скромница, и что держит она ее только для особых гостей.
И это была правда, Эмилия стоила недешево, и не каждый мог себе позволить насладиться ее совершенным, без единого изъяна, телом. Это было не впервые, когда за девушкой присылали слугу, но впервые Эмилия имела дело с посланником, который не говорил ни слова, был хмур и неприветлив. Пройдя около сотни шагов, посланник остановился у кареты и дал знак садиться, сам сел рядом с кучером на козлах, и карета затряслась по ухабистым дорогам за город. Эмилия пыталась рассмотреть, куда они едут, но стекла кареты были занавешены шторами снаружи, а когда она попыталась приоткрыть дверь, то не нащупала защелки. Все это ее, конечно, удивляло, но страха она не испытывала, поскольку видела, что едет к какому-то уважаемому пану, раз уж он карету за ней послал. И, вероятно, пана этого она знает, потому что посланник, заказывая девушку, назвал именно ее имя. Карета раскачивалась, подскакивала и клонила в сон, вскоре Эмилия действительно задремала, а проснулась от громкого шума. Карета остановилась, пестрое многоголосие сразу взмыло в воздух – хохот, крики, звон железа, ржание лошадей, в нос ударил запах хвои, костра и жареного мяса.
Дверца кареты открылась, Эмилия вышла и увидела, что она в лесу на поляне, посреди которой стоит стол, накрытый яствами и напитками, за столом сидит общество, судя по всему, уже хорошо подвыпившее, и, весело галдя, разглядывает ее. На краю поляны притулилась избушка, из трубы которой вился дым. Неподалеку на вертеле жарили вепря, которого вращали двое слуг. Посланник подвел девушку к столу, и она кое-кого узнала, так как здесь были представители известных семейств, некоторые из них и раньше заказывали ее для себя. Девушку усадили за стол и принялись угощать, пододвигая со всех сторон блюда и подливая вино. За таким богатым столом девушке еще не доводилось сидеть, до сих пор никто ее ни на какие пиры не приглашал, она пыталась все попробовать, но ей постоянно подливали, а пить она не умела и очень быстро захмелела. И когда голова у нее закружилась, а мир накренился, кто-то схватил ее в охапку и поволок к избушке. Там сорвал с нее платье и, навалившись всем телом, даже не раздевшись, овладел ею грубо и быстро. Эмилия пыталась терпеть, и когда кто-то следующий навалился на нее и, закинув ее ноги себе на плечи, принялся с силой вгонять свой стержень, она все еще терпела, но третий уже перекинул ее животом через дубовую колоду и гарцевал сзади, держа за волосы, как коня за повод, и выкрикивая что-то непонятное, словно мчался в атаку на врага. Затем ее брали, поставив на колени, а спереди стали совать ей стержень в рот – то один, то другой, но ей никогда этот фрукт не нравился, и она стискивала зубы, вырывалась, ее дергали за волосы, пороли ремнем по заднице, красные полосы покрыли ее белое тело, кто-то засунул ей кинжал между зубов и, разжав их, все-таки вложил свой стержень и стал двигать им, тыча ей в горло, она заливалась слезами и чувствовала, что ее вот-вот вырвет. Внезапно ее изо всех сил ударили по голой спине кнутом, она спазматически сжала зубы. Раздался отчаянный крик, она выплюнула с отвращением кусок плоти, вскочила и бросилась наутек.
Она бежала по лесу, черному и неприветливому, поскальзываясь в своих легких сапожках и спотыкаясь о хворост и корни, ежевика цепляла ее за бедра, ветки дергали за волосы, а она бежала и прислушивалась к преследователям. Темные растрепанные пихты тянули к ней свои ветви, дорогу преграждали камни, поросшие скользким мхом, а то и целые скалы, из которых торчали черные руки и хватали ее за плечи, зловещий шепот обволакивал со всех сторон. Казалось, все для нее в этом лесу враждебно, она не видела никакой возможности спрятаться – хотя бы какой-нибудь норы или пещеры, где можно было бы затаиться, и чтобы никто, кроме нее, не мог туда проникнуть. Хотелось превратиться в белку. Страх бился в ее груди, слезы заливали глаза, она чувствовала, что задыхается.
– Не хочу, не хочу, – шептала она и бежала, а над головой срывались разъяренные птицы и резали воздух крыльями. Она понимала, что это конец, ей не удастся спастись, но надежда еще теплилась. Голоса преследователей сливались с шумом деревьев, треском ветвей, громким топотом и звоном оружия. Она бежала у них на глазах и слышала их хохот. Для них это обычная охота. Они не пощадят ее за то, что она сделала. За такое не щадят. За такое убивают. Поскольку она – никто. Она имеет не больше прав на жизнь, чем какая-нибудь букашка.
Ноги и руки жгло от множества царапин, но все это еще можно было стерпеть и пережить, главное – спастись, вырваться из леса, ведь он не безграничен. Она была уверена, что бежит в верном направлении – туда, откуда ее привезли. Вот-вот должна показаться прогалина, а там и луг, а на лугу – пастбище и люди. И ей уже казалось, что она видит просветы между деревьями, видит целые снопы солнечных лучей. Она бежала изо всех сил, чувствуя, как воздух разрывает ей грудь. Воздух становился жгучим и болезненным, она уже дышала сплошными охами и всхлипами, но впереди манил к себе свет, вселяющий надежду, и не просто свет, а большое светлое пространство, которое она сейчас распорет своим отчаянным криком, невероятно громким, способным докатиться до стен города.
Лес расступился, она выбежала на сруб, минуя пеньки и срезанные стволы, теперь она уже поверила, что спасется. Она ни разу не оглянулась, но слышала их, охотников, что шли за ней. О, нет – они не шли, они ехали верхом! И тут ее пронзила страшная и беспросветная догадка: они просто играют с ней, растягивают удовольствие, и если бы они хотели, то давно бы уже догнали и затоптали ее копытами. Весь ее побег – лишь забава, развлечение, не более. Ей не удастся вырваться за пределы леса. И тогда силы покинули ее.
Она остановилась, подняла глаза к мрачным серым небесам и успела произнести только: «Господи!», как вдруг что-то болезненное и жгущее пронзило ее спину. Она вдохнула воздух, и, почувствовав во рту вкус крови, закашлялась, потом упала лицом в мох, перевалилась набок и нащупала рукой стрелу в спине. Она чувствовала, как стекает кровь, как становится жарко в груди, и зажмурилась…
Мертвое тело девушки нашли в реке. Лавники попытались разведать, кто мог ее убить, но только и того, что хозяйка борделя рассказала, что якобы шляхтич Клементович послал за ней. Однако тот опротестовал это, и нашел свидетелей, что в тот день он находился в Яворове. Кто в действительности заказал ее, так и не узнали.
Каспера эта история изрядно обозлила. Ничего подобного до сих пор не происходило. Он самостоятельно обшарил окрестности в поисках места преступления. Все, что ему было известно, – это то, что во рту и в волосах девушки нашли сено, а поскольку на ней не было одежды, оставалась надежда наткнуться на какие-то следы. Вблизи ему ничего не удалось найти, и он, сев на коня, стал объезжать места отдаленные, обращая внимание на те, что облюбовали охотники, и однажды таки наткнулся на хижину, где нашел и сено, и разорванные платье и рубашку. Здесь останавливались после охоты и устраивали пиры, но место это не принадлежало никому, и любой мог им воспользоваться, конечно, имея состояние, потому что простонародье если и охотилось, то тайком, чтобы не платить налог, и уж тем более не устраивало пиров. Каспер перетряхнул все сено и нашел-таки то, что искал, а именно кусок златоглава, сорванного с чьего-то плаща, который свидетельствовал о высоком положении его владельца, а еще он нашел в сене сморщенный кусок мяса темного цвета, который ничего ему не напоминал, но Каспер завернул его в тряпку и спрятал в карман. Он уже собирался было уходить, когда солнце, до сих пор прячущееся за облаками, вдруг мелькнуло и ударило лучами в открытые двери. В сене что-то блеснуло. Каспер нагнулся и увидел кончик серебряной цепочки, потянул за него и вытащил часы-луковицу, на крышке которых было выгравировано «Carpe diem» – «Лови день». Это было уже что-то, хоть и не говорило ни о чем, потому что такую надпись мог заказать кто угодно и где угодно. Но можно было надеяться, что когда-нибудь эти часы попадали в руки львовского часовщика.
Палач, вернувшись в город, таинственный кусочек мяса положил в банку и залил спиртом. На следующий день утром Зиморович поинтересовался у него:
– Как у вас там дела с этими потаскухами? Порядок блюдете?
– Вроде бы. А что?
– Ну, знаете ли, времена смутные… Войной попахивает… В людях сидит злость, непримиримость. Что-то надвигается тревожное и нехорошее. Та девка, которую так ужасно осквернили… кто-то ведь это сделал… а кто-то еще и смотрел… и, очевидно, им эта забава была в удовольствие. Шлюха она-то шлюха, но и она же человек. Я это к тому, что порядок должен быть.
– Да, – согласился палач, – они уже все успокоились. В смысле девушки. Теперь сами проверяют, куда их кто приглашает, и устанавливают время и место, а не так, как было – иди туда, не знаю куда.
– Это прекрасно, прекрасно. Но у меня к вам важное дело. Только это между нами, понимаете? – Палач кивнул. – Вы должны поклясться, что никому не откроете то, что я вам скажу. – Палач поклялся. Зиморович с некоторым недоверием посмотрел на него, вздохнул, однако продолжал: – У меня беда. Этот голодранец Людко из Малехова втрескался не на шутку в мою дочь. Уже не раз я застукивал их за встречами. Но мне такой зять не нужен, у него кроме лоскута земли ничего нет за душой. Сколько я с ней говорил, и уговаривал, убеждал – бесполезно. Говорит – влюбилась, и ничего не поделаешь. Но решение на самом деле есть. Итак, каждый раз после встречи с моей дочерью этот тип идет в шинок «Под Желтой Простыней». Так вот, вы не могли бы подсунуть ему какую-нибудь лярву с болячками, чтобы напоила его, а затем затащила в кровать и угостила, чем задница богата?
– Гм… Да оно бы можно, а он согласится?
– Попытка не пытка. А я уж, будьте спокойны, в долгу не останусь.
Палач знал всех своих девушек, но у кого из них могли быть болячки, не догадывался.
Глава 13 Каменица[20] «Под Грифоном»
Через Полтву не так давно построили новый пешеходный мост, довольно широкий, в добрый десяток шагов, так что по краям моста смогли разместиться палатки с разной дребеденью: были тут и маленькие иконки, вырезанные филигранно по дереву, четки, какие-то куклы, браслеты, костяные гребешки, ремни, ленты, веревки, а еще сладости и разные орехи и бакалея. Но аптекаря прежде всего интересовали книги, потому что в первую пятницу каждого месяца съезжались сюда книжники из Австрии, большой Польши, Чехии, Венгрии и немецких княжеств, привозя разные интересности. Опасаясь, как бы турки не двинулись дальше на север, из Вены в Прагу перевезли книги из императорской библиотеки, а места для их хранения было мало, и дубликаты пошли в продажу, так что аптекарь мог приобрести немало интересного.
Возвращаясь домой, он увидел у дверей шинка «Под Желтой Простыней» девушку в пестром атласном платье с таким глубоким вырезом над шнуровкой на груди, что, когда она наклонялась, грудь вываливались, и она должна была поправлять ее, но при этом не заливалась краской и не оглядывалась. В ее волосах пламенела роза и красная лента, а в глазах сияли чертики и манили к себе. Аптекарь знал ее, потому что когда она заработала постыдную болячку, пришла к нему, и он ей дал арамейской глины, которую она должна была развести в горячей воде и мыть ею то место, где спряталась болячка, и, видно, она счастливо от нее избавилась, раз снова стояла там, где привыкла стоять.
По ту сторону улицы аптекарь заметил двух братьев-толстяков Шмельцев, похожих друг на друга, как два кувшина одного мастера, но один из них был зрячий, а второй слепой, зрячий смотрел на девушку и что-то шептал своему брату, тот кивал, потом они подошли к девушке, и зрячий спросил, сколько будет стоить, чтобы с ней совокупиться. Ползолотого, ответила девушка и поинтересовалась, кто именно из них собирается с ней спать. Зрячий кивнул на слепого.
– А может, я не в его вкусе?
– Я ему рассказал, как вы выглядите. Я ему всегда все рассказываю.
– Ну, хорошо, пусть входит.
Но когда они оба направились к двери шинка, девушка спросила у зрячего:
– А вы – тоже?
– Да.
– Так вас двое?
– Э-э, понимаете ли… я должен все видеть, чтобы ему рассказать… в этом деле зрение играет важную роль. У него иначе ничего не получится.
– О! Тогда это будет стоить дороже.
– Намного?
– Не очень. Но…
Они исчезли в дверях. Девушка еще успела оглянуться и подмигнуть аптекарю.
– Слава Иисусу, – услышал он хриплый голос отца Амброзия, который плелся, тяжело переставляя ноги и опираясь на клюку. – Должен вам сказать, что мне за целый месяц удалось одну-единственную грешную душу обратить на путь истинный… – сказал монах и тяжело вздохнул. Аптекарь знал, что он имеет в виду – старик пытался образумить проституток, упорно ходил во все злачные места, где они гнездились, и читал им проповеди, читал упорно, даже если его не пускали внутрь – стоял перед окнами и провозглашал слово Божие, веря, что оно непременно должно преодолеть все стены и достучаться до грешных ушей и грешных душ.
– Надо же им на что-то жить, – ответил аптекарь. – Большинство из них были служанками или батрачками, а потеряв работу, они уже не хотят возвращаться к себе в деревню, вот и рекрутируются в ночных бабочек.
– Но каждая из них… каждая из них была безобидным ребенком… была хорошей, вежливой девочкой… невинным творением… я, собственно, пытаюсь им об этом напомнить… о тех лучших годах их жизни, когда все, что впереди, казалось таким розовым и радостным… А что их ждет после смерти? Муки и муки. Есть такие места, где сходятся дороги мертвых. В вечных своих блужданиях, в безудержных мытарствах духи когда-то живых людей пытаются передать нам какую-то весть, что-то важное сказать, предупредить или попросить о помощи. Но все их голоса недоступны человеческому уху и воздействуют не больше, чем гогот гусей, треск цикад или кваканье лягушек. Тогда мертвые сердятся, нервничают и совершают какие-то ужасные вещи, чтобы живые наконец очнулись… Мир катится в пропасть, истину говорю я вам. Грядет бич Божий. Взгляните на эти облака. Вы когда-нибудь видели такие облака? – Он ткнул палкой в небо, где серые разлапистые мешки тяжело нависали над городом и ползли так медленно, что глазу трудно было заметить. – Вчера на рассвете белая всадница на белом коне промчалась по лугам. Не иначе как чума. И мужчину, летевшего в воздухе без крыльев, видели – так его злые духи тащили за собой. Тенью города проехала тень всадника с тенью сабли на боку. А потом многие видели в небе меч. Очень выразительно. Готовьтесь к новым смертям.
Старик помолчал с минуту, словно собираясь с мыслями, и, понизив голос, продолжал:
– А вы слыхали, что Калькбреннер покупает трупы? Не слыхали? Покупает трупы и потрошит их. И не один, а с учениками. Разве это не грех? Но он лютеранин. А им все можно. Плюнул на папу и делает свое. Говорят, в Праге его едва не пришили. Поэтому он и бежал сюда. Здесь он всюду начеку, всегда готов ко всему. Шпага при нем и два заряженных пистолета под жилетом. А в сапоге кинжал. С чего бы без причины так вооружаться? Охо-хо, живем в страшное время. Мне когда-то думалось, что Рай и Ад – в нас самих. Но недавно пришло в голову кое-что другое. Я вдруг понял, где на самом деле Ад – он здесь, где мы сейчас с вами живем. Это и есть тот самый Ад, которого мы так боимся, хотя на самом деле он, может, не так уж и страшен. Мы живем в Аду, не подозревая этого, и плачем, когда кто-то его покидает, и сами со страхом ждем конца. Вы спросите: а где же те муки адские, где чертовщина с раскаленными вертелами и иглами? И я вам отвечу: здесь, среди нас. Человек чуть ли не повседневно принимает какие-то муки. Кому-то они кажутся сладкими. Приходим мы в этот мир с плачем и покидаем его с плачем. Нас постоянно пытают соблазнами, изменами, ложью, неудачами, одиночеством, тоской. Чем, скажем, потеря любимого легче прижигания огнем? Черти с булькающими котлами – это лишь красочная иллюзия того, что творится в наших душах и вокруг нас.
Из-за их спин вдруг появился сам Калькбреннер.
– Я услышал несколько последних фраз и должен кое-что уточнить. В Аду не говорят о смерти.
– Откуда вам о том знать? – спросил старик с недоверием.
– Потому что я там был, – сказал Калькбреннер с каким-то издевательским смешком и, повернувшись на каблуках и подмигнув Лукашу, ушел.
Старик потопал дальше. У аптеки Лукаш увидел палача, который пинал кончиком сапога кочан капусты, видимо, потерянный зеленщиком.
– Нельзя ли зайти на минутку к вам? – спросил палач.
Аптекарь открыл дверь и пропустил его первым.
– Неужели и вы болеете?
– Где там! Меня интересует одно дело, если угодно. Не обращалась ли к вам какая-нибудь из наших шлюх с постыдными болячками?
– Отчего же – обращалась. Но почему вас это интересует?
– Ну, вы знаете, что я должен за ними присматривать. Так что мне нужно знать о них такие вещи, чтобы не распространяли этой напасти в городе.
Палач шмыгал носом и все время переминался с ноги на ногу, словно не мог удержать равновесие.
– Вот только что возле шинка «Под Желтой Простыней» видел одну такую, – сказал аптекарь. – Зофкой зовут. Неделю назад я дал ей лекарство. Не уверен, что она вылечилась, но вижу, уже снова взялась за дело.
– Вот же ж стерва! Сейчас пойду туда.
– Эй, послушайте, только меня не выдавайте. Она ведь не по своей воле это делает. Кто-то ей, видимо, не дает покоя.
– Не переживайте. Но у меня к вам еще один вопрос. – Каспер вынул из кармана баночку. – Посмотрите на это. Что это такое может быть?
Аптекарь открыл банку, взял пинцет, вынул кусочек мяса и улыбнулся.
– Где вы это сокровище добыли? Это кусочек чьего-то члена.
– Человеческого?
– Ну, обезьян у нас нет… Но кто бы кому-то член откусил? В состоянии возбуждения этот кусок мог иметь три цаля, однако кровь из него вытекла, и он потерял форму. Но почему он вас заинтересовал?
– Могу вам рассказать, если обещаете держать в тайне.
С этими словами Каспер рассказал все, что узнал насчет гибели Эмилии, и спросил, не обращался ли к пану Мартину или к кому другому из врачей человек с таким телесным изъяном.
– Ко мне нет, – покачал головой аптекарь. – А к другим… может, и обращались, но кто бы об этом болтал. Тем более, что, судя по вашей находке, это был человек богатый, а значит, любой рот мог заткнуть дукатами.
– Но вы могли бы расспросить. Этот случай слишком громкое зверство, чтобы так его на самотек пускать.
– Ничего не обещаю, но попробую. А вы обойдете часовщиков?
– Нет. Мне это не удастся. Они мне ничего не скажут. Я бы предпочел оставить у вас и этот златоглав, и часы. Может, у вас получится. С вами они будут откровеннее. Конечно, если вы ничего не имеете против.
– Нет-нет. Справедливость должна восторжествовать.
Аптекарь спрятал все в шкафчик.
– А есть у вас какая-нибудь пахучка? Такая, чтобы женщине понравились? – спросил палач уже в дверях.
– Хотите свою ворожку очаровать?
Палач покраснел, но кивнул. Аптекарь вручил ему бутылочку лавандовой и бутылочку розовой воды. Палач понюхал, взял обе и, расплатившись, исчез.
Аптекарь проводил его взглядом, размышляя о том, как ненависть, отвращение и жалость к палачу сменяются в душе рядового обывателя, борясь за право властвовать, но ни одна из них не может перевесить двух других. Казалось бы – чем провинился этот человек, который дарил смерть? Ведь не он устанавливал законы, не он приговаривал к смертной казни, не он демонстрировал жестокость, а порой и несправедливость, а был всего лишь безвольным исполнителем чужой воли, обычной марионеткой. Тем не менее, никто не хотел повстречаться с ним в узком переулке, не хотел знать его, замечать вне его работы, не хотел вспоминать о нем. Однако Лукаш не испытывал к Касперу ни ненависти, ни отвращения, разве что, может, немного сожаления, что этот человек должен жить отшельником, имея, однако, человеческое сердце. Вот вдруг его обеспокоила гибель проститутки. Случай действительно неординарный, но этим должен бы заниматься магистрат, однако там кто-то решил иначе. И можно только догадываться почему.
– Пан доктор! Вы у себя? – послышался знакомый голос Петруня, одного из львовских мусорщиков. А через мгновение он уже входил в аптеку, покряхтывая.
– Что с вами? – спросил Лукаш.
– Спину ломит. У вас есть какая-нибудь мазь?
– Есть. Сядьте удобно на скамье, пока я приготовлю.
Тут аптекарю пришло в голову, что он может выведать кое-что у Петруня, ведь те, что пировали в лесу, принадлежали к патрициям города и жили на Рынке и прилегающих улицах, которые и обслуживал Петрунь. В одном из жилищ лежал кто-то с неприятной раной, а следовательно, там должны были быть окровавленные тряпки.
– Как поживаете, Петрунь? – спросил Лукаш, смешивая составляющие лечебной мази. – Мусор вам еще не надоел?
– Э-э, где там! Мусор – это целый мир. Чтоб вы знали, пан доктор, мусор делится на летний и зимний. Летом мусор легче, но у него богаче букет запахов, полно гнили – разной шелухи, стручков, разлезлых овощей. Зимний тяжелей, так как часть его составляет гарь из печей и зола. Я знаю о каждой хозяйке не только то, что она готовила на обед и на ужин, но и то, как она готовила. К примеру, пани Коляндра готовить не умеет. Что с этой мазурки возьмешь? В ее мусоре все очистки толстые, она никогда не угадает, сколько нужно ее семье, и поэтому выбрасывает много сгнившей зелени. Я всегда знаю, кто суп варит на ребрышках, а кто постный. Я знаю, когда Филюсь Бубела пришел домой пьяный, потому что тогда в мусоре полно черепков битой посуды вперемешку с женскими волосами. Я знаю все, что творится у людей не только в кухне, но и в спальнях, а обо мне не знает никто ничего. Я – тень. Я подъезжаю к каждой каменице со своей повозкой, захожу, беру ведро или корзину, высыпаю, отношу пустую назад и отправляюсь дальше. Я иду и любуюсь миром, потому что он прекрасен, я не вижу мусора, не вижу грязи и навоза, я не вижу луж – я вижу солнечную или дождливую погоду, которые мне приносят одинаковую радость. Я вижу только то, что красиво. А красоту, скажу я вам, можно найти даже в дерьме. Я забираю мусор, но несу в себе солнце. Мне нравится болтать, когда хозяйка, скажем, еще не готова и замешкалась. Это ничего, я могу подождать, потому что очень люблю перекинуться несколькими словами, сказать что-нибудь бодрое о погоде, или что-нибудь приятное о запахах из кухни, или похвалить малыша, ползающего по полу. И не надо, чтобы мне кто-то отвечал. Мне всего лишь нужно заполнить пустоту между приветствием и прощанием, меня она всегда угнетала. А у порядочных панов на праздники мне всегда давали выпить и, если они жили на первом этаже, то я в такие дни помнил, что должен убрать мусор с верхних этажей, прежде чем напьюсь на первом.
Он хитро прищурил глаз, и аптекарь, уловив намек, налил в рюмочку лимонной настойки и подал Петруню. Мусорщик расплылся в широкой благодарной улыбке и, пригубив напиток и причмокнув, продолжил:
– Не раз представлял я, что было бы без меня. Без мусорщика. Мусор затопил бы дом. Завелись бы крысы. Я, знаете ли, горжусь своей работой. Но об этой моей гордости не знает никто, ни-ни. Я счастлив, когда кто-то остановится и скажет: «Бог в помощь» или спросит: «Не тяжело ли?», а я всегда отвечаю весело: «Справимся». Всегда в одно и то же время иду я на ужин в шинок «Под Пьяным Турком». Я там всех знаю. Но меня знают не все, поэтому на мои приветливые кивки головы и улыбки никто не обращает внимания. Но это меня не волнует. Я все равно рад, что могу зайти туда, где мне уютно, и чувствовать себя, как дома. Ведь я тень.
– Вы не заметили в субботу чего-нибудь необычного в мусоре?
– Что вы имеете в виду? – Петрунь сразу оживился. – Мертвого младенца? Кошель с дукатами? Дохлого кота? Выбитую челюсть? Кроличью голову?
– Нет, меня интересуют какие-либо окровавленные тряпки. Может, окровавленная одежда.
– О-о, вам невероятно повезло, что вы встретили меня. Но только между нами. Я, видите ли, эти окровавленные и распоротые штаны оставил себе вместе с чулками. Моя Миля обещала их починить. А что?
– А вы помните, из какого дома они взялись?
– Конечно. Из каменицы «Под Грифоном», но не могу сказать, из какого жилища, так как мешок с мусором уже ждал меня у ворот. Но у меня есть привычка, которая мне передалась еще с деда-прадеда, – я одним глазом заглядываю в то, что должен выбросить. Я, знаете ли, человек хозяйственный. Я всегда найду что-нибудь, что может послужить такому, как я. Нет, я не из брезгливых. И расческа без нескольких зубчиков меня не оттолкнет, я еще ею могу свою собачку расчесать. Или, казалось бы, такая мелочь – стекло. Ну, кому оно может пригодиться? Собственно, кусочек стекла. Но я и его подберу, а потом, если надо, этим стеклом очень хорошо скрести ногти после того, как их обрезать ножом. Чтобы стали гладкие. Или пятки… Нет, я вам так скажу – отбросов не существует. Я мог бы для любой выброшенной вещи найти применение. Но моих рук не хватает… А знаете, я вам не зря сказал о мертвом младенце, потому что да – было у меня и такое приключение. Правда, кошелька с дукатами мне Господь еще ни разу не посылал. Дохлого кота – да, а кошелек – нет. Но я терпелив и знаю, что когда-нибудь Господь вознаградит меня за все. А что, уже и мазь готова?
Лукаш вручил мусорщику мазь, а когда тот хотел заплатить, сказал:
– Вы мне ничего не должны, я услышал много интересного. Это я вам должен. Потому попрошу вас об одной услуге.
Глава 14 Головач
В обеденную пору в невероятную жару тарахтела по Городецкой дороге на Львов одинокая карета в сопровождении охраны из двух вооруженных всадников. Четверкой гнедых лошаков правил сонный и разомлевший на солнце возчик в соломенной шляпе, его голова с закрытыми глазами то безвольно болталась, то резко дергалась вверх, отряхивая обильную пыльцу сна, но только для того, чтобы снова упасть на грудь и беззаботно посвистывать крючковатым носом. В карете дремал львовский лавник Базилий Конопка, чей носище, втайне от хозяина, очень быстро спелся с носом возницы, и скоро это трогательное чудо-пение заглушило даже скрип колес.
Вдруг лошади остановились и зафыркали. Извозчик дернул голову вверх, протер глаза на мглистый нечеткий мир и побледнел: поперек лесного пути он увидел поваленный граб, а за ним – двух молодцов с пистолетами и ружьями наготове. Их рожи не вызывали никакого доверия. Возчик оглянулся на драгун, но те сидели на лошадях неподвижно под прицелом ружей еще двух разбойников. Пятый разбойник с мечом в правой руке подошел к карете и скомандовал вылезать. Это был высокий стройный мужчина с закрученными вверх усами и длинными черными волосами, заплетенными в две косички, как у лемков. Извозчик послушно сошел с козел и принял согбенно-покорную позу, а из окошка кареты высунулась испуганная персона пана Базилия, часто-часто захлопала осоловевшими глазами, шмыгнула носом и пробормотала:
– М-м-м… э-э-э… с кем имею честь?
Однако разбойник не собирался соблюдать правил вежливости, а дернул дверцу и гаркнул:
– Вылезай, чертов Конопка!
Пан Базилий почувствовал, как его сердце проваливается туда, где еще час назад упокоилась печеная индейка с несколькими кружками пива, и, видя, что с ним не шутят, закряхтел и засопел, вылезая из кареты. Он уже догадался, что попал в руки Головача. Уже более года Львов полнился слухами об этом грозном разбойнике, затаившимся в лесах и грабившим путников. Видели его, правда, на разных дорогах, а потому трудно было определить, где он поселился, чтобы устроить ему ловушку. О Головаче известно было немного. Вроде он нанялся в армию, служил драгуном и даже принимал несколько раз участие в битвах, но поскольку терпеть не мог никаких верховод над собой, то вскоре дал деру. Почти месяц бродил без дела, а как кончились деньги, собрал еще несколько дезертиров и в лесной пещере устроил уютное гнездо. Купеческие мажи, одинокие всадники и путешественники – все они становились легкой добычей Головача. Больше всего ему везло в ярмарочные дни. Сам атаман, переодевшись то одноглазым нищим, то бывшим воином с деревянной ногой, то крестьянином с мешком, в котором визжал поросенок или гоготал гусь, появлялся в разных местах и разведывал, где и чем можно поживиться.
– Во Львов, ваша милость? – спросил разбойник.
Пан Базилий кивнул и попытался даже вежливо улыбнуться.
– Парит, а? – ткнул пальцем в небо. – К вечеру, глядишь, и ливень будет.
– Гм, – пожал плечами разбойник. – Это уже как выйдет. А вы нам выделите деньжат для начала.
– Каких еще деньжат? – засуетился лавник. – Побойтесь Бога! Нет у меня деньжат. Откуда?
– Ну, коли нет, так уже и не будет, – буркнул разбойник и, вытащив из кареты шкатулку, отправился к своим товарищам.
– Что вы делаете?! – закричал пан Базилий. – Это деньги магистрата. Вам за это головы не сносить!
– Следите лучше за своей, а наши оставьте в покое, – ответил разбойник, а через мгновение все пятеро исчезли в чаще.
Можно только представить, какой переполох поднялся в Ратуше с появлением пана Конопки – до сих пор нападения разбойников не увенчивались такой крупной добычей, и неудивительно, потому что сейчас им в руки попали все деньги, которые пан Конопка заработал, продав двадцать фур зерна в Кракове. Фуры, извозчики и драгуны были магистратские, а следовательно, и часть денег тоже принадлежала городу. Войт не на шутку разволновался и отчитал Конопку за то, что тот рванул вперед, а не возвращался вместе с фурами. Даром что приехал бы на несколько дней позже, зато деньги были бы целы, так как возницы все были при оружии и могли дать отпор.
В тот же день помчался на место грабежа отряд драгун, но вернулся ни с чем. И еще не раз, не два отправляли войско для поимки сорвиголовы Головача, и все напрасно, потому что выходил он на разбой не часто. Головач справедливо считал, что нельзя быть жадным, и лучше ограбить одного богача, чем десять бедняков, а когда случалось так, что, грабя кого-то, находил он у него совсем уж смехотворную поживу, то не только ничего не брал, но и извинялся и вручал несколько дукатов за беспокойство. Это Головач делал с тайной мыслью, что разнесут о нем славу, как о щедром и справедливом защитнике народа. Но все испортил один жестокий поступок.
Как-то на дороге исчез местный помещик вместе со слугой. Перед тем этот помещик имел неосторожность похваляться на ярмарке, что Головач служил у него на конюшне и не раз получал плетей за лень, а потому у Головача теперь только один выход: прийти к нему, покаяться и просить о помиловании. А если нет, то он, то есть помещик, пойдет в лес с кнутом, который уже разбойнику знаком, и выпорет его, как когда-то в старые добрые времена. А на вопрос, как же выглядит этот страшный разбойник, помещик описал его как мерзкое чудовище с перекошенной рожей, которую ему кобыла копытом подправила, и одним ухом, потому что второе жеребец отгрыз.
Всех эта история очень развеселила, а поскольку передавалась из уст в уста, обрастая причудливыми деталями, то докатилась и до самого Головача и рассердила его не на шутку, так что он поклялся отомстить помещику. Такая возможность предоставилась, когда все паны в округе вместе со своими женами и детьми отправлялись во Львов на ярмарку. Когда карета помещика выехала на проезжую дорогу, вдруг путь ей преградил сам предводитель разбойников, упал на колени, заломил руки и стал просить о милосердии и прощении. Помещик сначала с недоверием и страхом смотрел на эту комедию, но, оглядевшись и не заметив больше никого, надулся, как индюк, и продолжал слушать уже крайне горделиво. Между тем Головач приблизился к карете и сообщил, что хочет передать помещику все свои сокровища, потому что предпочитает уйти в монастырь и замаливать свои грехи. Глаза помещика загорелись.
Головач сказал, что речь идет о целом сундуке, который он сам не поднимет, а так как на днях он разогнал всю свою разбойничью шайку, то просит, чтобы помещик пошел с ним, прихватив своего слугу, и вместе они бы его дотащили. Это недалеко, совсем рядом в домике. Туда как раз, мол, пришла его мать, которая, собственно, была на той ярмарке, и убедила его, что поступить следует именно так, и тогда не только помещик, а может, и сам Господь сжалится над ним, как сжалился когда-то над разбойником Мадеем.[21] Пани помещица и молодая панна пытались остановить его, но жадность взяла верх. Ради безопасности помещик сунул за пояс два пистолета, дал ружье слуге, и отправились они в лес вслед за разбойником. Недалеко и ушли, как на поляне действительно увидели старую наклонившуюся хижину, крытую соломой. Головач зашел в дом и выволок сундук во двор. Видно было, что он довольно тяжел. И когда помещик наклонился к сундуку, чтобы посмотреть, что за сокровища его там ждут, Головач выдернул из кустов меч и молниеносным ударом отрубил ему голову. Слуга не успел нацелить ружье, как и его голова слетела с плеч. Затем разбойник приказал своим закопать оба тела.
На самом деле это было первое его убийство, потому что прозвище Головач он получил, еще когда находился в армии. Этот жестокий поступок главаря напугал некоторых его соратников, и наконец один из разбойников сбежал во Львов, пришел к лавникам и рассказал о том, куда девался помещик и где он закопан. Также открыл он место, где разбойники обустроили свое гнездо. В тот же день драгуны бросились на поимку, но Головач после побега собрата уже не сомневался, что следует ждать гостей, а потому велел быстренько все из пещеры перенести в другое место, а на холмах и деревьях выставить стражу. Так что войско застало в пещере лишь кучи сена да старые лохмотья.
После этого разбойники нашли другое убежище – перешли в пещеры в Стольско и спрятались у подножия отвесной скалы. Их схрон был окружен рвом и частоколом, к тому же был выкопан подземный ход, ведущий в глубь леса. Все это скрывалось за густыми зарослями. Сама пещера заросла плющом, так что входа в нее и видно не было. На скале постоянно стояла стража. И все же Головач не был доволен новым схроном, и внимание его привлек старый запущенный замок, в котором жила вдова когда-то владетельного помещика, промотавшего свое состояние в карты. У замка были толстые стены, прочные башни, а вокруг – болотистый ров. Также ходила молва, что там были еще и просторные подземелья. Вдова доживала свой век, не имея возможности куда подеться, и если бы кто-нибудь выкупил замок, она с радостью бы его бросила, чтобы не жить в этой глуши. Поэтому она искренне обрадовалась, когда ее старый маршалок сообщил, что прибыл в карете гость. Вскоре прилично одетый пан уже целовал сухую сморщенную руку хозяйки и говорил, что интересуется замком. Хозяйка поводила его по различным закуткам, даже подземелье показала, и робким голосом назвала цену, гость сказал, что должен подумать. На том они и расстались.
Излишне говорить, что это был Головач. Через несколько дней его ребята проникли в замок, именно в ту часть, где никто не жил, и принялись стращать. Ночной вой, стоны, бряцание цепей теперь звучали каждую ночь, вспыхивали какие-то огоньки, запах серы наполнял комнаты, время от времени появлялись привидения в белых хламидах и рыдали. В замке и прежде было неспокойно: ухали совы, толклись летучие мыши и голуби, всегда что-то трещало, осыпалась штукатурка, отваливались старые кирпичи, трещали доски пола, хлопали ставни и скрипели деревья. Так что когда к этой какофонии добавилось еще и новое сопровождение, вдова места себе не находила и переселилась в хозяйственную пристройку. Когда она заходила в библиотеку замка, то заставала там беспорядок и следы крови. За короткое время вдова была доведена до крайности, в отчаянии она покинула замок вместе с челядью, переехав к семье, а на воротах повесила замок. Головач только этого и ждал и сразу же поселился там вместе со своими ребятами.
Слухи об ужасах в замке быстро распространились по всей округе, тем более, что разбойничьи агенты щедро сдабривали их подробностями. Поэтому к замку даже днем никто не рисковал приближаться, и хотя в окрестностях росла сочная густая трава, пастушки предпочитали скот сюда не загонять. А разбойники еще и позаботились о том, чтобы каждого, кто ненароком забредал сюда, ждала какая-нибудь неожиданность – то череп человеческий вдруг выкатится, то медведь заревет, то зашипит кто-то в кустах и завоет. Бывали случаи, когда кое-кто и пропадал без вести, приблизившись к замку.
Замок отныне был надежно защищен, главные ворота закрыты, а разбойники для своих нужд использовали только маленькую калиточку, скрытую от людских глаз зарослями дикого винограда. Время от времени они устраивали засады на разных дорогах, а сам Головач, переодевшись в приличную шляхетскую одежду, любил бывать во Львове на пирах и разных игрищах, где шутя кружил головы юным паннам, изображая храброго рыцаря, который громил турок и татар.
Но однажды случилось неприятное для разбойников происшествие. Именно в ту пору остановился неподалеку дальний родственник покойного помещика, владельца замка, гусарский офицер Кордоба вместе со своим полком. И вот он, наслушавшись в трактире страшных историй о духах, вздумал проверить, так ли это, потому что, будучи тертым калачом, в ужасы не поверил и, прихватив своего пажа, такого же сорвиголову, как и сам, отправился в замок. Они смело подошли к воротам, сорвали замок и вошли во двор, но тут навстречу им выскочил медведь. Офицер, не мешкая, выстрелил из пистолета, медведь заревел и упал на землю. Когда же они вошли в замок, их ждало еще более интересное зрелище. Какие-то чудовища вдруг вырастали и пропадали на глазах, по земле извивались змеи, со стен свисала густая паутина, а в паутине виднелись чьи-то иссохшие руки, страшные пауки с горящими глазами держали в лапах человеческие кости. Слуга неожиданно наступил ногой на одну из змей, поднял ее, и выяснилось, что она изготовлена из тряпья, сквозь которое была протянута пружина.
Разбойники старались как могли отпугнуть незваных гостей, но скоро увидели, что не справятся. Их можно было бы, правда, застрелить, но о полке гусар разбойники были наслышаны, поэтому на такой решительный шаг не решились. Тогда Головач не придумал ничего умнее, чем как в своей благородной одежде со шпагой в руке в сопровождении слуги неожиданно появиться перед гостями, будто он тоже случайно сюда забрел. При этом он вскрикнул от неожиданности и так искренне изобразил удивление от того, что застал здесь живую душу, что офицер даже не усомнился. Более того – Головач сделал вид, что очень напуган, и страх этот передался также офицеру, когда он увидел, как вдруг все змеи и пауки исчезли. Головач тем временем рассказал, что, заходя в ворота, наткнулся на медведя, и, когда прицелился в него из пистолета, голос сверху крикнул: «Уже один наглец стрелял в меня! Если жизнь тебе дорога, не смей делать это во второй раз!»
Все четверо вышли во двор, потому что офицер захотел убедиться, что его выстрел не дал никакого результата. И действительно – тот самый медведь вскочил и, страшно ревя, скрылся в башне. Правда, в шкуре медведя прятался другой разбойник, так как первый лежал раненый. Понемногу окрестности заволокли сумерки, Головач с офицером покинули замок и вышли на дорогу. Там разбойника ждала карета. Головач предложил подвезти офицера в трактир, где он остановился, но в дороге они так разговорились, что решили еще немного пообщаться и зайти выпить вина. В трактире офицера уже с нетерпением ждали и с восторгом выслушали его приключения. Головач не забывал вставлять свои замечания, которые должны были подтвердить присутствие в замке духов. Офицер выразил сомнение и продемонстрировал кусок тряпичной змеи. Однако слушатели не очень ему верили, тем более, что среди посетителей трактира были и переодетые в лесорубов разбойники – они как раз больше всего и улюлюкали на офицера. Наконец Головач и офицер поужинали, выдув кувшин вина, и распрощались. А утром все постояльцы были еще более напуганы, когда увидели, что тот кусок змеи превратился в обрубок трухлявого дерева. Теперь уже ни у кого не было сомнений, что замок попал в лапы духов.
Однако над замком сгущались тучи. Однажды в схватке с воинами один разбойник был ранен, а следы крови привели к околицам замка. Итак, разбойники были где-то неподалеку. Некоторые также слышали ржание лошадей, и оно вовсе не было похоже на ржание лошадей с того света. А там уже и вдова собралась с духом и обратилась к армии за помощью. Вскоре отряд с полусотней воинов во главе с офицером Кордобой подошел к замку. Головач узнал об этом, но не настолько вовремя, чтобы разбойники успели покинуть убежище, единственное, что им удалось, – это перенести все сокровища в самые отдаленные погреба. Разбойники вооружились и решили защищаться до конца. На этот раз никакие ужасы пришельцев не поджидали, их встретила мертвая тишина. Офицер приказал занять позицию у ворот и калитки, расставил всадников вокруг замка, а сам с остальными воинами попытался проникнуть в погреба, но первая атака не удалась – плотный огонь из мушкетов отогнал нападавших.
Офицер приказал забрать мешки с зерном из кладовых и, забаррикадировавшись, воины начали обстреливать окна погребов. После трех часов упорного боя выстрелы со стороны разбойников утихли. Воины бросились внутрь, но не застали там ни одной живой души. Однако все понимали, что разбойники не могли так просто исчезнуть, ведь только что они отстреливались. Воины обыскали весь замок и сад, прикладывали даже уши к земле, чтобы уловить хоть какой-нибудь звук, но все напрасно. Тогда офицер снова спустился в погреб и внимательно осмотрелся. Пол был твердо выбит глиной, стены плотно укреплены прочными брусьями – то ли чтобы предотвратить оседание стены, то ли чтобы заглушить звуки. Офицер приказал вырвать все эти брусья, и вскоре выяснилось, что шесть из них были обрезаны у самой земли и только приставлены к стене. Когда их убрали, открылся вход в подземелье, присыпанный землей.
Головач действительно воспользовался этим ходом и оказался в другом погребе, который находился уже за пределами замка, но это мало что дало, потому что везде стояла стража, и незаметно ускользнуть не было никакой возможности. Пришлось завалить вход в последний схрон землей и камнями. У самого входа поставили бубен, а на него – стакан воды, и легли спать. По дрожанию воды и по звукам бубна разбойники могли ориентироваться, насколько далеко от них рабочие, раскапывающие схрон. Все выше плескалась вода в стакане, все громче отзывался бубен. Головач решил дождаться, пока стемнеет, и тогда пробиваться через окружение, причем каждый должен был пособлять себе, как мог, и, соответственно, забрать с собой столько, сколько сможет унести.
Вход в свое укрытие из погреба они завалили окончательно, а выход вел под корни старого раскидистого дуба. Сквозь корни проникал слабенький свет, и когда он потускнел и стало темно, разбойники стали вылезать. Воины, утомленные дневными поисками и охраной, разошлись, и только несколько из них стояло на страже. Разбойники быстро перебили их и скрылись в гуще леса. Офицер с воинами прибыл слишком поздно, чтобы преследовать их. Зато повезло отряду драгун, который отправили на подмогу изо Львова. Им попались в руки двое разбойников, которых сразу переправили в город.
Глава 15 Конек
– Я соскучилась по своему коньку, – сказала Рута как-то утром.
– Где он?
– Остался возле дома.
– Его могли забрать.
– Он никому не дастся в руки. Он будет ждать меня. Можно мне съездить за ним?
Она посмотрела на Каспера таким умоляющим взглядом, что он не мог отказать.
– Поедем вместе. Сейчас запрягу бричку.
Они выехали за стены города. В небе звенели жаворонки, а в воздухе пахло медом. Рута подумала, что могла бы убежать, сесть на коня и рвануть галопом, и палач на своих упряжных вороных никогда бы ее не догнал. Но нет, она не убежит, потому что некуда.
– Вы никогда не примиритесь со мной, – сказал Каспер как можно более равнодушным голосом и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Я для вас что-то нечистое. И это странно, потому что ведь вы такая же, как я: отвергнутая обществом. И мне почему-то думалось, что вы будете чувствовать благодарность за то, что я спас вас. Почему-то я так думал.
– Я чувствую благодарность, – сказала сухо Рута. – Но только благодарность, и ничего больше.
– Наверное, я не смогу сделать вас счастливой.
– Я не несчастна. И я не готова быть счастливой.
Каспер засмеялся. Ему не хотелось выдать ни капли своих чувств.
– Да, – он глотнул ветерок, который дул ему прямо в лицо, – я с детства живу, забрызганный кровью. Моя мать была душегубкой – утопила младенца… то есть меня. Но я выжил, потому что должен был выжить. Ее приговорили к казни и тоже утопили. И утопил ее мой отец. Как выяснилось, не мой родной. А мой родной, быть может, до сих пор живет здесь, во Львове. Я очень хотел бы найти его и посмотреть ему в глаза. Или взять под руку и отвести к позорному столбу. И постоять под ним, под вытянутым мечом. Только постоять, и все. Ведь это из-за него погибла моя мать. А мог погибнуть и я. Я стал тем, кем есть. Потому что кем еще я мог стать, как не палачом?
– Вы могли бросить все и отправиться куда-нибудь.
– Мог? Возможно. Но кем бы я был? Никем. Я мог бы наняться подмастерьем, тесать, строгать, ну или к кузнецу… Но это тяжелый кусок хлеба. Я бы всю жизнь боролся со злой судьбой. А отец мой тем временем не перетруждался.
– Значит, вы любите свою работу?
– Люблю? Возможно. Я все равно не умею ничего другого, кроме как казнить и пытать. Мне кажется, я делаю полезное дело – уничтожаю разное отребье.
– Такое, как я?
– Но ведь это не я судил вас. Не я признал чародейкой.
– Я дам вам один совет. В другой раз, когда будете пытать чародеек водой, поснимайте с них юбки, кроме рубашки. Тогда увидите удивительную вещь: ни одна не удержится на воде.
Каспер посмотрел на Руту с недоверием.
– Вы не шутите?
– Конечно, нет. Когда много юбок, они надуваются и не дают утонуть. Теперь вспомните, сколько невинных женщин вы отправили на тот свет.
Каспер покачал головой. Конечно, бывало такое, и не раз.
– Я должен это проверить.
– Это как же?
– Одолжу у вас юбки и прыгну в Полтву.
Каспер думал, что девушка хотя бы сейчас рассмеется, но она усмехнулась беззвучно одними губами, а через мгновение улыбка на ее губах погасла. Призрачная надежда на то, что лед между ними растает, исчезла, и Каспер замолчал.
Они ехали проселочной дорогой, липы вдоль дороги прятали в карманах зеленых плащей медовую молитву любви, рассеивая над головами торопливое жужжание пчел. Далее дорога вела через цветущий луг. Стаи бабочек, стрекоз, кузнечиков и разных мошек срывались вверх из-под копыт, чтобы через минуту опасть в самую гущу травы и продолжать стрекотать, жужжать и свистеть. Запахло чабрецом. Из густой травы взлетали с шумом перепелки, время от времени выскакивали зайцы и снова исчезали. Густая высокая трава напоминала зеленое море с волнами, бегущими к горизонту, где толпились тучи, словно паломники.
– Остановитесь, – попросила Рута.
Каспер послушался и терпеливо смотрел, как она радостно впитывает красоту лугов и речушки, журчащей неподалеку. Это была ее любимая местность, здесь она искала зелье и корешки, здесь падала в травы и лежала, глядя в небо, а порой входила в ручей и ловила руками рыбу и раков под берегом, а конек ходил за ней следом и мотал хвостом, отгоняя слепней. Вспомнила, как, ловя в речушке пескарей, поранила ногу о выщербленную татарскую саблю, которая покоилась в иле, и кровь ее поплыла по течению продолговатыми ниточками, упрямо не растворяясь. У крови был ее характер – она не могла приспособиться.
Каспер догадывался, что это место для нее чем-то дорого, он и сам любил луга, как и лес; иногда он отправлялся на охоту и искал каких-то острых ощущений, преследуя оленя или дикого кабана. В лесу он чувствовал себя как дома, дикий первобытный мир был для него родней, чем мир людей, и благосклонней к нему. Он тоже мог любоваться травами, цветами и вслушиваться в жужжание насекомых, но это была его самая большая тайна – тайна палача, которой он не мог бы открыть никому. Поэтому он не держал в доме ни кошки, ни собаки, зная, что будет их любить, а любовь для палача – опасна. Как и чье-либо сочувствие к нему. Это было бы самым большим оскорблением – увидеть на себе чей-то сочувствующий взгляд, нет, только не это. Но любить женщину – это немного другое, это как дышать, ее можно любить, не теряя независимости и не посягая на ее независимость. Любить ее голос, тело, движения, запах, прикосновения, иметь возможность обцеловать ее всю с ног до головы, положить голову ей на грудь, засыпа5ть и слышать ее дыхание. Любить и бояться потерять все это. Но никогда не проявлять этого страха, лишь жить с ним и давить в себе любые его проявления.
Каспер осознавал, что появление Руты в его жизни – чистая случайность, которая исключала возможность выбора, и чувства его противились этому осознанию. Два одиночества оказались рядом, два жаждущих любви одиночества, однако отдаленные друг от друга непреодолимым расстоянием, ведь сколько бы Каспер ни пытался его сократить, оно короче не становилось, его слова не приближали их друг к другу, хоть и не отдаляли. Они стояли на двух берегах, а между ними пенилась река, которую не перейти вброд и не переплыть. Каспер вспомнил, что Рута могла так всматриваться не только во что-нибудь видимое и живописное, но и неведомо во что. Однажды вечером, когда туман медленно и ласково плыл от реки, пеленал деревья и льнул к окнам, как большой лохматый пес, Рута стояла на пороге и вбирала этот туман в свои удивленные глаза. Прохлада вечера окутывала ее и отгоняла грусть. Палач вырос за ее спиной, кашлянул, чтобы не спугнуть, и сказал:
– Холодно, идите в дом.
– Нет, не холодно. Как раз хорошо.
– Туман, – сказал он, – такой густой. Во что вы всматриваетесь, ведь ничего не видно?
– Я люблю туман.
– Как можно любить туман?
– Когда он так лохматится и пенится, можно бесконечно вглядываться в него и угадывать какие-то образы.
Каспер попытался что-нибудь рассмотреть в густом молоке, но не увидел ничего примечательного, однако решил не спорить, тихо отступил назад, и то ли послышалось ему, то ли действительно ее губы выговорили странные слова: «Между мной и мной ты прорастаешь травой». Он хотел было переспросить, но не решился, сел у огня и подбросил полено. Ему больше нравилось смотреть на огонь, на пламенные языки, которые так соблазнительно танцуют на дереве, демонстрируя мерцающие таинственные фигуры, а еще на искры, которые прыгают на каждом полене, которое догорело, и этот танец искр бывал весьма увлекательным. Палач наливал себе меду и, потихоньку потягивая, погружался в марево. И опять какие-то слова с неведомых губ пришли к нему: «В твоем лице цветы увядшие, поля почерневшие, озера высохшие, в сны твои пастухи незнакомые коз загоняют»… Кто это нашептывал и кому? Его одолевала дремота. Эта ночь была создана для того, чтобы разделить ее на двоих, как кусок хлеба, и чтобы любить, даже когда тело телу говорит «нет». Огонь был согласен с ним и старался не шуметь. А свеча погасла от страха, что погаснет…
– Слышите? – спросила Рута. – Слышите это пение травы, цветов, тополей, реки? Видите, как дрожит и играет воздух над лугом? Как ярится солнце? Как пьянит все вокруг?
Конечно, он все это слышал и чувствовал так же, как и она, но молчал. Рута посмотрела на него и сухо сказала:
– Всего этого у меня нет в городе. Обещайте, что будете отпускать меня.
– На коне?
– Да.
– Но ведь вы убежите.
– Я и так убежала. Неужели вы не заметили? Я и дня не пробыла у вас. Я была здесь. Все время. А там, у вас, была только моя тень – холодная и неприступная. Но я обещаю вам, что та моя тень не убежит от вас. Она будет вам покоряться во всем. Кроме одного – она не будет принадлежать вам. И если вы ее прогоните, я буду благодарна вам еще больше.
– Время лечит и не такие глупости, – буркнул Каспер, сдерживая обиду и стараясь не показать своих чувств.
Бричка тронулась. Ехали они молча. Наконец Каспер сказал:
– Я не буду запрещать вам ездить на прогулку. Но я не могу убить в себе надежду на то, что что-нибудь может измениться. Это то, чем я буду жить. Такое, знаете, маленькое заблуждение. Но оно будет греть меня. Этого ни вы, ни ваша тень мне не запретят.
– Нет, – согласилась Рута, вдруг почему-то решив его успокоить, и взгляд ее потеплел.
Они проехали еще немного вдоль потока, и бричка остановилась у ее дома. Изнутри слышались возбужденные голоса, похожие на ссору. Кто бы это мог быть? Палач вытащил из-под бамбетеля[22] дубинку, подошел к двери и прислушался. Ссора утихла, а из дома выскочили два разбойника, волоча награбленное. Увидев незнакомца, они побросали все это и выхватили сабли. Но размахнуться им палач не дал, молниеносно огрел одного и другого по голове, они аж носами зарылись в землю. Затем он достал из кармана веревку, связал им руки и приказал лежать смирно. Рута вынесла из дома все, что могло им пригодиться, а Каспер все это вместе с награбленным положил на телегу. Рута также вытащила из печи бумаги, которые нашла у убитого рыцаря, и спрятала за пазуху. Затем она пошла в сад и позвала конька. Палач с удивлением увидел, как тот выбежал из-за кустов, радостно взбрыкивая ногами, и стал лизать девушке шею. Пинками палач поднял бандитов на ноги, привязал их к бричке, и они двинулись обратно.
– Зачем они вам? – поинтересовалась Рута. – Мало получили?
– Это мой заработок. За разбой их ждет смертная казнь. За каждого я получу золотой. Нечего таких жалеть. Они ничем другим заниматься никогда не будут. Если бы я с ними не справился, они с радостью зарубили бы меня, а вас забрали бы и продали татарам.
Когда они подъехали к тюрьме, их обступила куча зевак. Одни рассматривали Руту, другие – разбойников. Прежде чем Каспер отвел их в погреб, кто-то даже пытался пошутить:
– А что, панянка, каково вам было под палачом?
В толпе рассмеялись. Второй брякнул:
– Ишь, как важно восседает! Чисто тебе пани графиня!
– Тише, а то вон какие у нее очи! Еще превратит тебя в лягушку, будешь в Полтве квакать.
Рута сидела молча и не обращала внимания на смех. В эту минуту подошел Лукаш и, увидев эту сцену, рявкнул:
– Прочь! Расходитесь! Чего зенки вытаращили?
Толпа неохотно стала расползаться, а кто не очень торопился, того Лукаш подгонял тумаками, никто сопротивления не оказывал, потому что никому не хотелось ссориться с врачом – каждый когда-нибудь мог попасть ему в руки, а об аптекаре ходил слух, что он не дерет лишних денег.
– Не обижайтесь на них, – обратился он к Руте. – Вы для них – экзотика. Единственная чародейка, которой удалось выжить.
– Да, я знаю, что они предпочли бы видеть меня в припеченном виде. – Она посмотрела на Лукаша и робко спросила: – Я еще никогда не была в вашей аптеке. Можно мне когда-нибудь наведаться?
– Зачем вы спрашиваете? Мои двери для всех открыты.
– Я слыхала. Но я хотела бы наведаться не как пациент, а как… – Она на мгновение заколебалась, подбирая слова.
– Как моя коллега? – подхватил Лукаш.
– Ну, не совсем, – засмеялась Рута, – куда мне до вас. Но я понимаю в травах, и очень хотелось бы куда-нибудь эти знания пристроить, а еще и от вас чему-нибудь научиться.
– Женщинам не позволяется заниматься медициной.
– Знаю. Но я – ведьма, мне можно, – и она подмигнула заговорщицки.
Оба смеялись, когда палач вышел из погреба.
– О-о, что я вижу! Моя жена умеет смеяться! С меня, пан доктор, кружка пива. Но разве вы станете пить с палачом!
– Я ему не жена, – быстро сказала Рута.
– Вот видите! – кивнул головой в ее сторону Каспер. – Не даст соврать.
– Рута хочет помочь мне в аптеке. Вы не будете против?
– Да пускай. Баба с возу, коням легче. А то сидит дома целыми днями. Может, теперь, как конька ее мы забрали, немного развеется. А что там… – Каспер понизил голос, – с нашим делом?
Лукаш кивнул ему, и они отошли в сторонку.
– Немного продвинулось. Тот, кто нас интересует, живет в каменице «Под Грифоном». Мусорщик Петрунь обнаружил в мешке окровавленные штаны и чулки. Штаны были распороты, очевидно, это сделали его друзья, пытаясь остановить кровь.
– О-о, это уже что-то. Но там несколько жилищ. А что, если этого вашего Петруня послать с этими часами? Пусть поспрашивает, не потерял ли кто. Мол, нашел за воротами города, а ведь это вещь ценная, так что должен был кто-то серьезный потерять.
– Я уже думал об этом. Но если тот, кто потерял, догадывается, где именно потерял?
– Если бы догадывался – поехал бы и искал, как это сделал я.
– Но мы же знаем, что он зализывает раны, – сказал Лукаш. – Может, ему теперь неудобно гопать на коне.
Каспер улыбнулся.
– Ну так ясно, что неудобно. Однако он был там не один, а с друзьями. Мог бы сейчас кого-нибудь из них попросить обшарить ту лачугу. В любом случае, он себя рано или поздно выдаст.
Глава 16 Ангел с крыльями
Лукаша позвали в пыточную, потому что как раз привезли двух разбойников из банды Головача. Не далее как вчера винодел рассказывал ему, что ночью снова были ограблены путники, а поскольку они пытались защищаться, то чуть жизнью не поплатились.
– Только стемнеет, за стены города хоть не суйся. А что делать бедным путешественникам, которых в пути застали сумерки? Эх, дали бы мне сотню драгун, я бы этих бандитов переловил и в горячей смоле утопил.
Лукаш спустился в пыточную и увидел обоих разбойников, подвешенных на дыбе. Каспер деловито цеплял к их ногам тяжеленные гири, от чего их тела удлинялись, руки в плечах выдергивались из суставов, а кожа натягивалась. Оба стонали, истекая потом, ужасная боль пронизывала их тела, но они молчали. Каспер вопросительно взглянул на Лукаша и кивнул на дополнительные гири, но аптекарь остановил его рукой.
– Чего там церемониться, – сказал Зиморович, – их и так ждет смертная казнь.
– Сейчас они заговорят, – ответил Лукаш. – От дополнительных гирь они могут потерять сознание.
– Во-оды… – наконец пробормотал один из разбойников.
Каспер быстренько налил из кувшина вина и подал. Разбойник пил жадно, каждый раз икая, вино лилось у него по груди, стекало по ногам. Второй разбойник жадно втягивал носом запах вина и лишь скрипел зубами от бессилия. Он уже понимал, что его товарищ сдастся первым. Так оно и вышло. Разбойник признался, что принадлежал к банде Головача, хотя перед тем оба это отрицали, а также сообщил очень важную вещь: что Головач, переодевшись в шляхтича, иногда приезжает во Львов и даже навещает одну бабенку у Краковских ворот. От этой бабенки у него есть ребенок. Имя женщины пронзило Лукаша, словно молния: Гальшка. Но почему это должна была быть обязательно та самая Гальшка? Разбойники также назвали настоящее имя Головача – Матей Лигенза.
Зиморович покачал задумчиво головой:
– Где-то я уже слышал это имя. Но где?
Лукаш вышел из пыточной и по дороге домой все время думал об этом. Сейчас там, у дома той женщины, устроят засаду, и когда разбойник появится, его схватят. Но что ему до того? Головач заслужил смертную казнь после стольких преступлений. Но Гальшка? Неужели она? Это было бы странно, ведь Головач притворялся шляхтичем – так чего ему ходить к простой мещанке?
Гальшка возилась на кухне. Пахло свежеиспеченным хлебом. Она улыбнулась ему через плечо и наклонилась к печке. Лукаш смотрел на нее и путался в словах, которые хотел сказать, но колебался. Никакой уверенности в том, что Гальшка – это та самая Гальшка, у которой ребенок от Головача, не было. Она говорила, что вдова, что муж погиб на войне. Головач тоже был на войне.
Лукаш тихонько выскользнул из дома и зашел в погребок. Была обеденная пора, в погребке было пусто. Пан Прохазка переставлял с места на место бутылки. Увидев аптекаря, обрадовался и побежал встречать, на ходу поправляя кожаный фартук.
– Вот, прошу пана доктора, только нацедил из бочки свеженького рейнского. Зеленое и играет. Налить? Холодное, как титька столетней старухи.
Лукаш сел за стол, винодел налил две кружки и сел напротив.
– Что слышно? Поймали этих злодеев? Что они говорят?
– Кое-что рассказали. Но пока это тайна. Потерпите, через несколько дней все узнаете.
– А-а, ну да, ну да. Хотя вы знаете – я могила. У вас что, будут гости?
– С чего это вы взяли?
– Так ваша служанка нынче купила у меня четыре бутылки кипрского. Вот я и подумал. Но прекрасное вино можно и самому выпить.
У Лукаша на языке сразу крутнулся вопрос, как часто она покупает вино, но подумал, что это будет выглядеть глупо. Зато спросил, улыбнувшись:
– Да, я люблю выпить винца у камина. А скажите-ка мне, как звали этого ее мужа, который погиб на войне?
– А на что он вам? Это был тот еще шельма! Хорошо, что его в армию забрали, потому что очень уж он драки любил. А звали его то ли Матей, то ли Мадей…
Лукаш почувствовал, как бешено забилось его сердце, и выпил залпом кружку. Стараясь не выдать своего волнения, спросил:
– А фамилия?
– Фамилию я знаю точно. А почему? Потому, что у его покойного отца, бондаря из Малехова, я дежки покупал. Но отец и тогда о нем уже давно ничего не знал. Слух был, что сложил он голову на Моравии. Лигенза его фамилия.
Эту весть Лукаш воспринял уже спокойно, будучи внутренне к ней готовым.
– А ребенок чей?
– Гальшки? А кто его знает! Ребенку, наверное, года три, а ее муж исчез лет пять назад, если не шесть. А что – вскружила вам голову? Она девка ладная. Хозяйственная. А ребенок… что ребенок? Он ведь не виноват.
Лукаш попрощался и покинул винную лавку. Он не знал, что скажет Гальшке, и скажет ли вообще что-нибудь. Чувствовал только гнев и обиду, что его вот так запросто подвели под монастырь. И зачем? Если Головач – ее муж, то должен бы обеспечить ее деньгами, а между тем она нанимается к нему кухаркой, спит с ним, убирает. Разве только для того, чтобы никто не догадался, откуда она берет деньги? Тут он вспомнил, что давно уже замечал на Гальшке платья из блавата[23] и дорогого шелка в цветах и украшения, которые она не могла бы купить за те деньги, что зарабатывает. Гальшка говорила, что все это она одалживает у своей сестры, которая вышла замуж за цехмейстра мясников. Еще вспомнил, что она никогда не заговаривала об оплате: однажды Лукаш забыл ей заплатить, а она не напоминала. Сам он вспомнил, только когда платил в следующий раз. Для одинокой женщины с ребенком и престарелой матерью это было странно. Но что же – так, наверное, и должно было произойти: их бурные ласки требовали бурного финала. Лукаш не был влюблен, но чувствовал к Гальшке привязанность, которая неизвестно сколько еще могла продолжаться. Ему было с ней уютно, она удовлетворяла его всем, а больше всего – своей немногословностью. Она могла молчать часами, и была всегда покорная и тихая, она и отдавалась молча, лишь улыбаясь влажными губами. Они занимались любовью без особой страсти, но ничего другого Лукаш в ту пору и не желал, чувствуя неуверенность в своем положении человека с чужим именем и с чужим состоянием. Казалось бы, ни у кого он его не крал, но жить в личине кого-то другого было непросто, а тем более строить какие-то планы.
Через несколько дней засада сработала – Головача схватили, когда он навещал свою жену, и в тот же день он уже сидел в тюрьме и бушевал, как бешеный, даже вырвал из стены кандалы. Тогда его заперли в холодном погребе, где он заболел. Лукаша позвали, чтобы убедиться, не валяет ли разбойник дурака. Но у того и впрямь была лихорадка. Сырость и холод погреба могли любого уложить на лопатки.
– А-а, вы тот самый пан аптекарь? – улыбнулся разбойник, словно придавая какое-то особое значение этим словам.
Лукаш приложил трубку к его спине и велел глубоко дышать. Разбойник закашлялся и снова заговорил:
– Вы даже не подозреваете, как я вам благодарен. Тот ваш бальзам не одного моего солдата на ноги поднял. Хотя, правда, теперь они все в земле. Только трое нас осталось.
Лукаш побледнел и едва сдержался, чтобы не ответить. Только теперь ему открылась истинная причина появления Гальшки в аптеке. Недаром она все так подробно расспрашивала, ко всему принюхивалась, а как-то раз он застал ее за медицинской книжкой. Что именно она искала, он не успел заметить, потому что она быстро закрыла ее, а потом объяснила, что просто рассматривала рисунки. Теперь уже не было сомнения, что она искала там что-то о том, как залечивать раны. И неожиданно ему сразу стало легче, именно с такой разгадкой ее поступка он как раз и мог смириться, она была проста и понятна, здесь не было никаких подводных течений, это было то, что не поражало его.
Зиморович уже его ждал. Лукаш сказал, что разбойник и правда болен, у него лихорадка, и если не перевести его в сухую камеру, то будет плохо. Судья растолковал это по-своему: он решил, что конечно, разбойника немедленно переведут, но надо торопиться с процессом, иначе тот чего доброго не доживет до экзекуции.
Лукаш пожал плечами – он свое дело сделал, что будет дальше, его не интересовало. А дальше случилось так, что Головача навестили несколько богомольных монахинь с целью принести ему духовное утешение. Он принял их так вежливо и тепло и так растрогал их, что после этого они разнесли по Львову слезоточивые рассказы о заблудшей душе, которая горько раскаивается. Наконец весь город заговорил об этом, и ничего удивительного, что в некоторых даже проснулось чувство сострадания. К судьям начали приходить монахи и священники, испрашивая позволения пообщаться с разбойником и как можно лучше подготовить его для встречи с потусторонним миром, ибо, если он так искренне раскаивается, возможно, есть надежда, что он все же не попадет в Ад, а сначала попадет в Чистилище и сбросит там с себя всю черную чешую преступности. После они увлеченно рассказывали, как Головач душевно исповедовался в своих грехах, и что этих грехов не так уж и много, а только эти две смерти. Все очень радовались, что такой знатный разбойник и такое глубокое раскаяние выражает.
На суде над разбойниками негде было яблоку упасть. Зиморович велел пооткрывать окна, чтобы люди на Рынке могли все хорошо слышать, и говорил так громко, что чуть не сорвал голос. Приговор был предвиден заранее, и никого не удивил – казнь мечом на следующий день. Как особую милость Головачу даровали последнее желание, и оно оказалось вполне обычным, даже симпатичным – он пожелал всего лишь отужинать с теми, с кем в этой жизни столько грешил, чтобы предостережение им сделать и примером своим их сердца разбить. Подобные последние беседы приговоренных к подобной казни случались и раньше. Позволялись они как акт милосердия, определенный вид религиозного торжества. И Головачу также разрешили это последнее желание. Хорошо окропив вином свой последний ужин, разбойники мирно захрапели.
А на следующий день, день казни, небо парило над головой, словно черная птица, покрывая все серостью и влажностью. Моросил дождь, и ветер стегал плетьми над трубами, пригибая дым до крыш. Из загородных болот доносился крик выпи, заставляя людей с непривычки съеживаться, ведь мало кто знал, что это птица, а не дикий зверь или какое-нибудь чудище.
Лукаш возился в аптеке. Проверив лекарства, особенно те, что предназначались для ран и простуды, он увидел, что много чего пропало, а в бутылке с бальзамом, который он использовал очень редко, желтела совсем другая густая жидкость. Это Гальшка постаралась.
Кто-то постучал в окно – доктор Гелиас.
– Ну что? Идете на казнь?
– Иду.
– Пойдемте вместе. Для меня удобное место заняли, сядете рядом. Не каждый день таких разбойников казнят.
Когда они подошли к Рынку, там уже бурлила толпа. Но ближе к Ратуше оставался свободным проход, вдоль которого выстроились солдаты с алебардами. Они пропустили обоих врачей, чтобы те могли взойти на смотровой помост, где сидели все магистратские служащие.
Первым должны были казнить самого Головача. Его вели закованным в цепи, но это не мешало разбойнику ступать гордо и уверенно – так, словно поднимался на трон сам король. У помоста процессия остановилась, потому что, прежде чем обреченный должен был взойти на помост, его надо было расковать. Цепаки вопросительно посмотрели в сторону Зиморовича, сидевшего рядом с войтом. Видно было, что этот вопрос еще не решен. Войт считал, что цепи можно снять, а судья возражал, боясь, что разбойник снова что-нибудь учудит. Наконец Зиморович крикнул:
– Слушай, Головач, обычай и закон говорят, что мы должны снять с тебя цепи, но ты такая шельма, что неизвестно, чего от тебя ждать. Скажи нам, смирился ли ты со своей судьбой и согласен ли принять наказание?
Разбойник кивнул с таким видом, будто делал всем этим людям услугу. Ни один мускул на его лице при этом не дрогнул.
– Снимайте, – махнул рукой судья.
Разбойник взошел на помост уже сам, безразлично посмотрел на широкое бревно с четырьмя железными скобами и, повернув лицо к отцу Амброзию, поцеловал крест. Каспера смутила эта безумная смелость и пренебрежение к смерти. Пока отец читал молитвы, разбойник смотрел куда-то поверх толпы, покусывая длинный ус, и, казалось, парил мыслями очень далеко. Впервые палач почувствовал симпатию к обреченному и уважение к его бесшабашности.
Он знал, что Головач на самом деле не из тех разбойников или повстанцев, которых воспевал народ, потому что он не отбирал у богатых и не раздавал бедным, лишь иногда позволял себе какую-нибудь выходку, поведение его никогда не было благородным. «Меня тоже можно было бы прозвать Головачом», – горько улыбнулся палач и, невольно обратив взор в ту сторону, куда смотрел разбойник, все понял. Головач смотрел туда не от нечего делать – там, позади толпы, на лошади сидела молодая женщина. Ветер трепал ее длинные каштановые волосы, задувая их на лицо. Каспера поразило ее спокойствие. Ничего необычного не было в ее облике. Чтобы лучше видеть, многие сидели на лошадях или на деревьях. Если бы не одно отличие: рядом с ней стоял еще один конь, на котором сидел маленький мальчик, слишком маленький, чтобы самому скакать на коне, поэтому женщина придерживала его одной рукой. Каспер посмотрел на Головача, но его лицо и дальше оставалось невозмутимым.
Лукаш заметил взгляд палача и тоже посмотрел в ту сторону. И вдруг почувствовал, как ему становится жарко – он узнал женщину на лошади. Она пришла попрощаться и прихватила с собой ребенка. Зачем? Чтобы сын увидел смерть отца? Это было довольно странное желание. Разве что… Но тут его размышления прервало неожиданное.
Откуда-то с горы оглушительно прозвучала труба. Все задрали головы – на самом верху Ратуши стоял голый человек с белыми крыльями за спиной и трубил. Тело его было местами облеплено перьями, которые при каждом его движении опадали и, колышась, плавно опускались на людей. Толпа зашумела и стала креститься: «Ангел святой! Ангел! Страшный суд!» Стражники, сдерживающие толпу, нарушили строй, и всё мигом перемешалось. Пожалуй, никто в этот момент не заметил того, что заметил Каспер: Головач спрыгнул с помоста и нырнул в толпу. Женщина подхватила мальчика на руки, освободив второго жеребца, а через минуту два всадника исчезли в глухих безлюдных улочках. Каспер мог помешать бегству, но что-то его удержало. Не вид ли женщины с ребенком? Ему до боли захотелось, чтобы и его кто-то ждал вот так, кто-то любимый, и чтобы можно было умчаться на лошадях вместе вдаль, туда, где никто не знает тебя, где можно затеряться в человеческом муравейнике. Он и сам поднял голову, наблюдая за ангелом, чтобы никто не заподозрил его в сговоре с разбойником.
А ангел потрубил, потрубил и тоже внезапно исчез. И только тогда все увидели, что Головача нет. Переполох поднялся невообразимый. Одни кричали, что его забрал ангел, другие – что черт, судья ругался и пенял на войта, который позволил снять цепи, староста сыпал проклятиями и приказаниями, одни стражники бросились в Ратушу, другие на лошадях помчались во все концы города. Даром судья и войт с лавниками пытались прекратить беспорядки, чтобы узнать, нет ли свидетелей удивительного исчезновения, – толпа бурлила, крестилась и расползалась, словно муравейник.
– А вы? Вы что-нибудь видели? – кричал судья Касперу, но тот замотал головой и развел руками, давая понять, что, как и все, смотрел на ангела.
И вот ангела вывели из Ратуши. Им оказался юродивый Стах, он что-то испуганно бормотал, прижимая трубу к груди. С большим трудом удалось вытянуть из него, что к нему приходили два ангела во всем белом и велели влезть на Ратушу и провозгласить день Последнего Суда. Ночью они потихоньку завели его в Ратушу, вывели по ступенькам наверх, раздели, вымазали жиром, обсыпали перьями и прикрепили крылья. Затем вручили трубу и велели ждать знака и сидеть тихо, потому что дьявол не спит и может помешать. А как рассветет, он должен был, не сводя глаз, смотреть на черную каменицу, и, когда с ее крыши ему помашут белым платком, начинать трубить.
Большинство слушателей этой истории хохотали, но ни Зиморовичу, ни войту было не до смеха.
– Всыпьте ему, так его растак, чтоб помнил ангелов, черт бы их побрал! – выругался судья. – Остальных разбойников казнить в цепях!
Глава 17 Первые два
В тот день Петрунь управился засветло, обойдя свои дома и забрав мусор. Он уже мечтал о том, как отправится на ужин в шинок «Под Пьяным Турком» и закажет флячки с пивом, а потом придет домой и скажет жене: «Что? Опять горох с капустой? Нет уж, лучше буду голодный». Пан дохтур дал ему десять грошей, этого хватит на вторую кружку пива, да еще останется. А еще наверняка ему перепадет и за те часы. И уж верно больше, чем двадцать грошей. Похоже, будет прекрасный день. Но почему пан дохтур отправил его именно к этой каменице, а не к какой-нибудь другой? Не связано ли это с теми окровавленными штанами? Кто знает, стоило ли соглашаться. О-ой, темное дело! Но пан дохтур не дурак, он бы не отправил его на что-то плохое. Петрунь отволок свою тележку во двор Ратуши, приковал цепочкой и двинулся к каменице, в партере которой находился магазин тканей и блаватов. За прилавком стоял пан Михал Регула, раец, и как раз отмерял на локте свиток зеленого бархата.
Петрунь поздоровался и, вынув часы, показал лавочнику, но тот даже не дал мусорщику рта раскрыть и затараторил:
– Что? Хочешь продать? Нет, меня это не интересует. Хотя погоди, погоди. Где-то я их видел! – Он повертел часы в руке и вернул обратно. – Нет, не вспомню. А где ты их взял? Это вещь ценная… Нашел? О, так ты честный малый. Можешь оставить тут, я повешу на гвоздик, и может кто узнает.
Но Петрунь сказал, что поднимется вверх и покажет еще там. На первом этаже жили уважаемые люди – доктор Леон Урбани с женой и сыновьями. Над ним жил также раец, доктор свободных искусств и философии Микола Зихиниус с женой, дочерью и сыном.
Петрунь вежливо стучал в дверь к каждому из них, показывал часы и объяснял так, как научил пан доктор, что, мол, нашел эти часы у дороги за городской стеной. Они были все в грязи, но он их почистил и, поняв, что это вещь дорогая, сразу определил, что не так много людей, у которых они могли бы быть. Вот он и решил обойти несколько камениц с уважаемыми людьми и расспросить, может, кто из них подскажет, чьи это часы. Однако никто из жителей каменицы часов не признал, все только удивленно пожимали плечами. Петрунь загрустил, что не удалось ему в тот день заработать еще пару грошей, но решил засветло навестить еще и соседнюю каменицу. Он и там обошел всех хозяев, показывал часы, но и тут ему не повезло. На следующий день он решил обойти еще и другие каменицы, хотя пан дохтур не просил об этом. Выходя из ворот, он увидел пана Регулу, который закрывал оконные ставни своего магазина.
– А что? И там никто не признал потери? А говорил я тебе – оставь у меня. Рано или поздно кто-то отзовется.
– Хорошо, так и сделаю. Но сначала я должен посоветоваться с одним паном.
«Под Пьяным Турком» собирались клиенты высокого полета – сапожники, мясники, дротари,[24] веревочники, седельники и другие уважаемые ремесленники. Пили они не какие-то там мальвазии или аликант,[25] а преимущественно пиво или вишневку, грушовку или сливянку, заедая жареными колбасами, шкварками, луком и хлебом. Да развлечения у них были, соответствующие именно такой публике – например, соревнования на количество пуков, желательно при этом мелодических. Рекорд в двадцать два пука мясника Микулки еще никому не удалось побить, хотя легенды гласили о грандиозном случае столетней давности, когда столяр Григораш исполнил мелодию горниста со львовской Ратуши в тридцать четыре пука. А попытки потушить свечу за один пук иногда заканчивались серьезными ожогами ягодиц, как-то раз даже вспыхнули шторы. Правда, такие развлечения устраивали уже в довольно позднее время, и только избранная публика могла за ними наблюдать. Поэтому шинок «Под Пьяным Турком» не терял репутацию уважаемой забегаловки, шкварки тут стояли на каждом столе, и их в счет не вписывали. Такой цимес мог существовать только благодаря тому, что шинок держала семья мясников, которые проблем с салом никогда не испытывали, потому как ежедневно топили целую кадку смальца, заливая им жареные колбасы в крынках.
Петрунь подсел к своим коллегам, таким же, как он, мусорщикам, и крикнул дать флячек с пивом и большим кусманом ржаного хлеба. Ему очень хотелось рассказать об окровавленных штанах и о часах, но пан дохтур просил держать язык на привязи. Петрунь не очень понимал, по какой-такой причине он должен носить при себе такую интересную историю, но подумал, что рано или поздно все прояснится, и он тогда таки сможет об этом рассказать.
После второй кружки Петрунь решил идти домой, коллеги пытались его удержать, соблазняя третьей кружкой и обещанием интересного зрелища, которое должно было в тот вечер произойти, потому что мельник, у которого была мельница на Сороке, поспорил, что в течение часа выдует десять литровых кружек пива, не сходя с места. В это никто не мог поверить, чтоб после четвертой или пятой кружки мужика не потянуло на улицу, поэтому было много желающих принять пари. Однако Петрунь чувствовал усталость и желание нырнуть под теплую перину. Но когда товарищ вызвался выставить ему третью кружку, Петрунь таки соблазнился. Пиво было темное, крепкое и ударяло в голову. После него хотелось спать, а язык заплетался. Закусив хлебом со шкварками, Петрунь наконец покинул шинок как раз тогда, когда мельник принялся с очень серьезной миной дуть пиво. Большинство из тех, что поспорили, мельника перед тем и в глаза не видели, и, когда в шинок ввалился здоровяк с таким пузом, что в нем, играючи, уместился бы целый поросенок, кое-кто явно опечалился.
На улице уже стемнело. Дом мусорщика стоял у самой стены недалеко от башни торговцев. Собственно, это не был его дом, он жил в полуподвале, который был одновременно и комнатой, и кухней. Петрунь шел, внимательно глядя под ноги, чтобы не вступить в лужу или в какое-нибудь дерьмо. Вокруг было темно и ветрено, моросил легкий дождик. Петрунь поднял воротник и поежился. Что-то хлюпнуло позади, словно кто-то ступил в лужу. Затем раздался приглушенный кашель. Мусорщик оглянулся, но тьма была такая, что видно было не дальше, чем на два-три шага. Оглядываясь, он поскользнулся на чем-то мягком и выругался. Голос его отразился от стен и утонул в шуме ветра. Кто-то шел позади довольно тихо, но в такой тьме невозможно было красться, потому что ноги время от времени попадали в лужи или цеплялись за камни или какие-нибудь черепки. Петрунь ступил в сторону к стене и решил пропустить того, кто шел позади. Но из темноты никто не появился. Вокруг царила тишина. Но недолго, потому что кто-то как будто снова кашлянул. Петрунь не выдержал и крикнул в темноту:
– Чего прицепился ко мне? Чего хочешь? Только подойди – я тебе как дам, сразу отстанешь!
Но никто не отозвался и не шелохнулся. Наверное, показалось, подумал мусорщик и двинулся дальше. Вдали уже виднелась башня, на ее вершине горел огонек. На душе сразу стало спокойнее, и Петрунь прибавил шагу, не обращая внимания на лужи. Вдруг он услышал позади себя чье-то дыхание, оглянулся – темная фигура взмахнула рукой, что-то острое вонзилось ему в грудь. Горячая кровь залила его, он хотел крикнуть, но сил не хватило, и, когда он упал на землю, изо рта вылетело лишь невнятное бульканье. Темная фигура наклонилась над ним, пошарила в лохмотьях, взяла то, что искала, и через мгновение исчезла в темноте.
Утром уже весь город знал о гибели Петруня, и никто не мог понять, какая кому с того выгода. Может, с кем-то в шинке схлестнулся? Но нет, никто этого не подтвердил. Лукаш осмотрел труп и, не найдя при нем часов, сразу догадался, что стало причиной убийства. Михал Регула встретил его настороженным взглядом. Да, он видел вчера вечером Петруня, видел и часы, но не знает, чья это вещь. Лукаш заметил, что он волнуется и нервничает, чего-то недоговаривает, пальцы его не слушались, и он не мог застегнуть свой кунтуш. Успокоился он только, когда аптекарь ушел.
Регула действительно узнал часы, и теперь не мог решиться ни на один из вариантов, которые промелькнули в его голове. Ему было страшно. Когда в магазин пришел доктор Микола Зихиниус, пан Михал вообще потерял дар речи и стал путаться в словах, а должен был всего лишь рассказать пану райцу то, что говорил Петрунь. Вроде бы ничего важного он не сказал, но своей нервозностью Регула как будто подтверждал, что знает больше. Доктор сказал, что Петрунь показывал ему часы, и вроде как он где-то их уже видел, но не может вспомнить где, а пан Михал не поможет? При этом доктор прищурил глаз и внимательно посмотрел на Регулу, а тот вдруг почувствовал, как сердце его проваливается в пятки, и стал жаловаться на головную боль.
– Этот ветер, знаете… – Он подбирал слова, но все время замолкал и, наконец, махнул рукой, давая понять, что плохо себя чувствует.
Доктор пожелал ему доброго здоровья и ушел. Регула выпил настойку и успокоился, но ночью не мог уснуть – из головы не шел Петрунь. Едва дождавшись рассвета, он подскочил, написал на листке несколько предложений, сложил вчетверо и, залив сургучом и подсушив, спрятал в карман. Через несколько минут он уже бежал к костелу Святого Андрея – монахи вставали рано и можно было кого-то застать. Но в костеле не было ни души, хотя с ризницы доносились голоса. Регула огляделся и увидел у исповедальни монаха в капюшоне. Он опрометью влетел в исповедальню и протарахтел то, что лежало у него на душе и душило его, а затем вручил монаху свое письмо, которое надлежало распечатать в случае его внезапной смерти. После того, как эта гора свалилась с его плеч, он вернулся домой и, окончательно обессилев, упал на кровать и уснул. К обеду он спустился в магазин. Там распоряжался его сын. Он рассказал, что очень выгодно продал свиток шелка и что пан Грозваер уже дважды заходил и спрашивал хозяина. Регула на такую новость отреагировал нервно, засуетился и хотел было улизнуть, но пан доктор не замедлил явиться, и снова его могучая фигура выросла в дверях магазина. Как выяснилось, у пана доктора к Регуле было срочное дело, потому что он ждал прибытия товара из самого Китая и очень хотел посоветоваться с таким хорошим специалистом, как лучше этим товаром распорядиться, а потому был бы рад, если бы пан Михал заглянул к нему на небольшое угощение. Однако у Регулы не было аппетита, и он отнекался. Когда доктор ушел, он налил настойки и махом выпил. После полудня он спустился в подвал по крутой и узкой каменной лестнице, низко наклоняя голову, окинул взглядом свитки тканей, подошел к полкам, взял ящик с разными пуговицами и направился к выходу. Когда он стал подниматься по лестнице, ему показалось, что кто-то за спиной глухо кашлянул. Лавочник оглянулся, но в тот же миг ему на голову со страшной силой рухнул каменный потолок. Шея хрустнула, и он повалился с лестницы, даже не вскрикнув, ящик выпал из рук, пуговицы рассыпались.
Смерть Регулы не вызывала никаких подозрений – каждый мог грохнуться головой о камень, особенно после того, как немного причастился.
Глава 18 Под флагом корсаров
Парусный корабль «Сан-Иеронимо», принадлежавший к типу пинас, от латинского названия сосны, из которой был изготовлен, отчалил от порта Дюнкерк в начале июня 1647 года, через более чем полгода с тех пор, как французы вместе с запорожскими казаками отбили Дюнкерк у испанцев. Пинас был одним из любимых кораблей корсаров севера, а Дюнкерк в последние годы как раз стал их надежной базой. Испанцы давали корсарам специальные разрешения на захват и грабеж судов, которые принадлежали врагам испанской короны. «Сан-Иеронимо» был одним из них, а его название – одним из многих, которыми этот корабль нарекали. Вовремя сориентировавшись в ситуации при штурме Дюнкерка, капитан Корнелис ван Марлант быстренько переметнулся на сторону французов и поддержал их штурм своими пушками. Зато теперь он мог спокойно отправиться туда, куда ему хотелось. На корабле было немало награбленного товара, который французы не конфисковали, и его надо было распродать.
На носу, опираясь на фальшборт, стоял красивый юноша и смотрел щурясь на горизонт, где скоро должен был появиться Гданьский порт. Шляпу свою он держал в руке, чтобы ее не сдул ветер. За все дни путешествия никто из пиратов не смел его задеть какими-либо бессмысленными разговорами или вовлечь в свою компанию. Капитан Корнелис строго запретил это, и корсары знали причину, потому что именно этот юноша, которого звали Лоренцо ди Пьетро, спас капитану жизнь, когда тому раздробило ногу из мушкета. Юноша – а он был доктором медицины Падуанского университета – умело остановил кровотечение, пережал капитану яремную вену, отправив его, таким образом, в небытие, и отнял раздробленную ногу. Теперь капитан хромал на деревянной культе, но зато был жив и полон планов. На радостях он даже выделил молодому доктору отдельную каюту. Но и он не знал тайны юноши, потому что под его личиной притаилась совсем другая личность, настоящее имя которой было Юлиана.
Девушка, переодевшись в парня, поступила в университет, и все годы обучения старательно хранила свою тайну. Ее призванием была хирургия, а лучшей практики, чем военные баталии, еще поискать, и Юлиана отправилась в Нидерланды и присоединилась к французской армии, воевавшей с испанцами. Под Дюнкерком оказалось особенно много работы – бывали дни, когда она оперировала без перерыва, с ног до головы забрызганная кровью, только изредка подремав часок-другой. Чтобы помыться, она должна была ждать ночи и пробираться к каналу, стараясь не попасться кому-нибудь на глаза. За годы такого перевоплощения Юлиана в свои двадцать шесть приобрела уже множество мужских привычек, от манеры ходьбы до голоса, единственное, чего не хватало – растительности на лице, поэтому никто не давал ей больше двадцати лет, не видя в ней доктора, разве что бакалавра.
Хотя с тех пор, как закончились сражения, в которых она принимала участие, прошло уже несколько месяцев, видения кровавых побоищ ее не покидали. Кровь Юлиану давно уже не шокировала, запах смерти стал таким же привычным, как и запах пота. За эти несколько месяцев мирной жизни ее ладони и пальцы наконец снова стали гладкими, избавившись от порезов и царапин. Один мушкетер, которому она вынимала пулю из груди, даже схватил ее за руку и прокусил до крови, раздробив перед тем палочку, которую обычно вкладывали оперированным в зубы. К счастью, подвернулся доктор Иоганн Калькбреннер, который научил ее способу нажатия на яремную вену, после чего пациент на время терял сознание. Правда, когда его пронизывала острая боль, он мог очнуться, однако, предвидя это, раненых воинов привязывали за ноги и за руки к столу.
Целью Юлианы был не Гданьск, а Львов, где капитан собирался распродать оставшийся товар, понимая, что в Гданьске ему все распродать не удастся, ведь остановиться он там сможет не более чем на пару дней, прежде чем спохватятся местные власти и догадаются, с кем имеют дело. Тогда придется на всех парусах давать деру. Зато во Львове законы были более толерантны, и там можно не только все распродать, но и изрядно погулять в местных кабаках и с местными потаскухами.
Бродя по улочкам Гданьска, Юлиана избегала больших компаний, питалась в каких-то скромных забегаловках, где не пьянствовали моряки, а собирались преимущественно степенные купчики. Любые попытки заговорить с ней завершались короткими «да» и «нет». Она жила в своем замкнутом мире и пространстве, и ей было вполне уютно, молчаливость и погруженность в себя давно уже стали привычным способом ее существования. Она не трогала никого, но и не хотела, чтобы трогали ее.
На одной из уютных улочек она услышала тихий вкрадчивый голос: «Не хотите ли полюбоваться моими розами?» Юлиана оглянулась и увидела панну у калитки, за калиткой был сад, там действительно цвели розы. Голос девицы был печален, розы были тоже печальными, но панна не выглядела как проститутка. Юлиана на миг остановилась, не зная, что ответить. Панна приоткрыла калитку, словно приглашая в сад, но при этом выражение ее лица не повеселело; кто знает, какую трагедию она пережила и какую потерю решила компенсировать этим приглашением. «В ваших глазах слишком много печали, – сказала Юлиана, – как и в моих. Две наши печали, соединившись, не принесут нам радости». Панна хотела что-то сказать и открыла было рот, но не сказала ничего, только отпустила калитку, та скрипнула и захлопнулась. А Юлиана двинулась дальше. Она была полна решимости отречься от множества желаний и множества ожиданий, пусть даже и легких для достижения, однако ее внутреннее сопротивление перевесило. Иногда она представляла, как появится перед кем-то избранным в роли женщины, но не могла представить никого конкретного, а кроме того, боялась этого, потому что с тех пор, как сбросит с себя маску юноши, она перестанет заниматься хирургией. Могла ли она ради кого-нибудь пойти на такую жертву? Можно ли было представить кого-то, достойного этого? И сколько времени она могла бы приносить эту жертву без разочарований и сожалений? А та, печальная панна? Кого она потеряла и кому хотела отомстить? Ее решительный шаг навстречу первому попавшемуся юноше был похож на прыжок в воду со скалы – так раз и навсегда обрезают все концы. Или же заканчивают жизнь, или же начинают новую, лишенную старых связей, симпатий, терзаний и недомолвок. Вот только печаль никуда не денется, а будет, словно собачка, идти следом и тихо скулить.
Там, во Львове, у нее есть своя цель, и осуществить ее можно, лишь находясь и дальше в той роли, к которой она привыкла. Хотя есть человек, которому она сможет довериться, если этот человек, конечно, согласится принять ее. Играть и перед ним роль юноши, живя под одной крышей, как она планировала, было бы слишком рискованно.
Корабль корсаров действительно не задержался в Гданьске; уже на второй день после полудня городские власти заинтересовались происхождением товара, который так дешево и с бешеным успехом продавали моряки. Капитан, не мешкая долго, приказал сняться с якоря и поднять паруса. «Сан-Иеронимо» покинул порт без проблем и вышел в открытое море, затем, проплыв около пятнадцати миль, завернул в устье Вислы. Движение по реке, да еще и против течения, шло медленнее, чем в море, зато здесь не бушевали ветры, и Юлиана, устроившись в гамаке на баке, могла свободно читать. На третий день они вошли в Буг, еще через четыре дня – в узкую и причудливую Полтву, а на рассвете пятого дня Юлиана увидела в сизой мгле шпили, купола и башни, знакомые с детства, они буквально вырастали на глазах, а поскольку туман все время находился в движении, все эти здания вели себя как кокетки перед зеркалом, открывая то ту, то эту часть своего тела. Зрелище было таким увлекательным, что она не могла отвести глаз. Отвлек ее только сладковатый запах табака, она оглянулась и увидела капитана, который прихромал к ней, довольно улыбаясь.
– И вы удивлены этой беседкой посреди рая? – Он покачал головой с видом человека, который чувствует себя здесь как дома. – Когда туман рассеется, покажутся роскошные сады, которых вы не увидите ни в одном другом городе этого края. Здесь растут орех и слива величиной с куриное яйцо, их упаковывают в большие бочки и вывозят в Московию. Из здешнего винограда делают превосходные вина, которые трудно отличить от заморских. Кипарисы и розмарин можно увидеть не только в горшках, но и возле домов. Каштаны, дыни, баклажаны, артишоки здесь не редкость. Цветы выращивают круглый год. Весь скот, который гонят с Подолья и Молдавии в Италию, проходит через этот город. Я объехал всю Европу, побывал в самых известных городах мира, но ни в одном не видел столько хлеба, как здесь ежедневно приносят на Рынок, и каждый чужестранец найдет здесь такую же выпечку, как в его родной стране. Здесь огромное количество пива и меда, не только местного, но и привозного. Как и вина, которое поставляют из Молдавии, Венгрии, Греции, Италии. Иногда на Рынке можно увидеть в кучах более тысячи бочек вина! Здесь, как и в Венеции, снуют торговцы из всей Европы и Азии, а больше всего греков, турок, армян, татар, валахов, венгров, немцев и итальянцев. Каждый, на каком бы языке ни говорил, найдет здесь свой язык. Как-то на Рынке я заговорил с торговкой по-испански, а она мне ответила на чистой латыни! Феноменально!
– Так вы здесь много раз бывали? – спросила Юлиана.
– О, нет, – вздохнул капитан, пыхтя трубкой, – не так много, как хотелось бы. К сожалению, мы нигде не можем задерживаться слишком надолго. А после того, как Дюнкерк оказался в руках французов, мы вечные скитальцы.
– Но есть Тортуга, Ямайка… Разве там вы не чувствуете себя хозяевами?
– Только не мы. Моя команда состоит в основном из голландцев и немцев, также итальянцев и испанцев. А там – англичане, французы… Нам с ними трудно найти общий язык. Но надо, надо найти уютное место, чтобы была возможность отдохнуть и восстановить силы. Если бы таким местом стал Львов, я был бы самым счастливым человеком на земле. Хотя Львов – город-хамелеон. Изменчивый и непостоянный, как красивая женщина, которая знает себе цену. Здесь богатые делают вид, что они беднее, чем на самом деле, бедные – что богаче, чем кажутся. Львов манит к себе и одновременно отдаляется, влюбляет и изменяет, продается, не продавшись. Ты думаешь, что он уже твой, а он – как песок сквозь пальцы.
Глава 19 Юлиана
Сны ему иногда мешали своими видениями, снились битвы, в которых он побывал, снилось, как стучат в его окно и зовут на новую войну, которой нет конца, и он отправляется, и снова слышит, как хлюпают весла по воде, как шумит море и бьют пушки, но эти сны о войне не пугали его так, как те, что вели куда-то в неведомое, когда он бродил в каких-то неизведанных просторах, где-то на обочине долгой серой ночи, в прохладной темноте под молчаливым, как гроб, небом, а лунный свет все отвердевал и сунулся по поверхности земли, как невод, зачерпывая каждое живое существо, также заблудившееся в этих сумерках. Так, идя наугад в своем сне, он вдруг увидел перед собой что-то темное, а коснувшись рукой, нащупал стену – влажную и скользкую, под пальцами закопошились слизни. Где начало этой стены и где конец? Он шел вдоль стены, скользя по ней рукой в надежде нащупать ворота, и при этом чудилось ему, что кто-то неизвестный крадется за ним, как убийца, что-то там двигалось в его сторону, что-то похрустывало на сухих ветвях и дышало в спину. Он боялся обернуться, хотя дыхание уже обжигало ему затылок. Наконец рванулся и проснулся весь в поту.
Сны поспешно растворились, повстречавшись со светом, хотя и довольно тусклым и робким, а заспанные глаза начали различать образы реального мира, последние минуты перед сном и первые после пробуждения – это моменты, которые не позволяют сориентироваться: жив ты или умер, это как переход от тени к свету, когда теряется острота образа и все окутывает хаос, но знакомые предметы приобретают медленно узнаваемые очертания, а сознание, с неохотой покидающее неизвестные территории, удивляющие своей таинственностью, теперь успокаивается и обретает свое место в пространстве.
Аптекарь плеснул холодной воды в лицо. Из кухни доносился запах еды: Айзек наконец дорвался до печи и с удовольствием распоряжался там, удивляя хозяина своими кулинарными талантами. В этот раз на завтрак была гречневая каша с молоком. Завтраки были простыми, зато на обед Айзек готовил всегда ароматный суп и что-нибудь из мяса, которое покупал каждое утро у одного и того же мясника – австрийца Кугеля. Его мясная лавка отличалась чистотой и не шокировала запахами. Сюда опасались соваться собаки, потому что крепкий парень с палкой в любой момент мог пересчитать им ребра. Пан Кугель знал Айзека еще с тех пор, когда он был уважаемым купцом, и очень обрадовался, что сейчас ему, наконец, повезло в жизни и он нашел применение всем своим разнообразным способностям.
Позавтракав, Лукаш решил пойти к реке посмотреть, не прибыл ли корабль из Португалии, на котором должны были доставить ему много ценного товара. Рассвет медленно вливался в город по тихим переулкам, как слепец, нащупывая удобный путь, и пытался вытолкнуть мглу, уютно улегшуюся между домами, разбрасывая здесь и там, как тайные знаки, сизые клочья тумана, а город вбирал их и поглощал, будто несытый удав. По дороге Лукашу встречались проститутки с помутневшим взглядом, которые тянулись домой после ночных оргий, из шинков вываливались заспанные и захмелевшие моряки и, шатаясь, брели к своим кораблям.
Мгла таинственна и непроницаема, загадочна и тревожна, но иногда хочется всматриваться в нее, пронизывать ее взглядом, хотя это все равно, что пытаться разглядеть дно в ведре с молоком, а однако же она очаровывает и привлекает взгляд. Мгла, которая заволокла Полтву, была столь же загадочна и маняща; мачты подплывающих кораблей лишь верхушками выглядывали из нее, словно шпили соборов из снежных лавин, а из непроглядной мглы раздавались возгласы моряков, хлюпали весла, скрипели мачты и канаты, небрежно скрученные паруса звонко хлопали и трепались на ветру, чайки клекотали и кричали, и в небе закипал их лёт, плескалась река и накатывалась на берег. Но понемногу корабли преодолевали мглу, и можно было их рассмотреть. Из двух только что причаливших кораблей спустили на воду лодки и высадили путешественников. Лодки одна за другой выползли на гравий, прибывшие вышли на берег с сумками и мешками, сундуками и ящиками, и вскоре исчезли в улочках, а лодки вернулись за остальными.
Корабля из Португалии не было, зато причалил корсарский корабль из Дюнкерка, который, словно черный лебедь, грациозно вынырнул из густого тумана. Сначала появился нос, украшенный вырезанной из тиса Венерой, а затем натянутые белые паруса, увенчанные голландским флагом. На носу стоял капитан; держал руку на эфесе шпаги и свысока поглядывал на толпящийся люд, даже дыхание затаивший от той красоты, которая надвигалась на него. Казалось, если бы корабль, причаливая, не остановился, а двинулся дальше на берег, толпа даже не расступилась бы, очарованная им и загипнотизированная, как кролик удавом. Но корабль встал и бросил якорь. Корсары грузили на лодки товары, которых с нетерпением ждали толпы народа, чтобы быстренько скупить все, не особо рассматривая, ведь известно, что у корсаров всегда есть чем поживиться. И когда лодки приближались к берегу, перекупщики сбивались в неуправляемый сгусток тел, который находился все время в нервном движении и толчее, а кое-кто даже вырывался вперед, заходя чуть ли не по пояс в воду, чтобы первым коснуться рукой какого-нибудь мешка и, угадав его содержимое, первым же услышать цену.
Сразу за корсарским причалил корабль из Кенигсберга, с него тоже спустили шлюпки. Аптекарь стоял на берегу и завороженно ловил все звуки, он уже никого не ждал и никого не встречал, ведь прибывшие корабли его не интересовали, но что-то ему подсказывало, что на берег вот-вот сойдет кто-то очень для него важный, хотя он и не понимал, кто бы это мог быть. Через минуту с лодок, причаливших к берегу, вышло несколько купцов, галдевших по-испански, четыре шотландских воина в клетчатых юбочках, у одного была на плече волынка, остальные были немцы.
С каждым таким кораблем Львов разбухал, разрушались очередные препоны, и мир распахивался настежь, чужие голоса сплетались в хоры и раздавались в торговых кварталах, где магазины и палатки жались один к другому, и из каждого доносились галдеж, гогот, восклицания. А среди всего этого гула внезапно выстреливал в небо невероятно звонкий крик мальчишки, которого нанимали армяне, сарацины или турки, чтобы он как можно громче расхваливал их товар. Но пока еще господствовало утро, палатки только открывались, извещая об этом громким хлопаньем ставен, прибывали сотни фур с товаром, безжалостно громыхая разводными мостами, переброшенными через фортификационные рвы, торопясь к главным воротам – Краковским и Галицким – внутрь города, а затем те же фуры тарахтели на выбоинах, и кислый запах конского навоза уже витал в воздухе.
От корсарского корабля отчалила последняя лодка и поплыла к берегу. Из нее вышли несколько человек, среди них – хромой капитан, уже на берегу он гаркнул команде: «Деньги будем делить “Под Пестрой Уткой”!» – и в сопровождении двух моряков отправился в город. Минуя аптекаря, моряки на мгновение остановились и внимательно присмотрелись, было такое впечатление, что они собирались подойти, но внезапно передумали и двинулись за капитаном. Лукаш проводил их взглядом и заметил, что один из них оглянулся, а второй дернул его за руку.
Аптекарь хотел было вернуться домой, когда услышал за спиной женский голос, окликавший его по имени. Он оглянулся. К нему приближалась фигура, закутанная в плащ, лицо скрывал капюшон, левая рука лежала на эфесе шпаги, в правой была дорожная сумка.
– Пан Мартин Айрер? – промолвила женщина. – Я не ошиблась? Откуда вы узнали, что я приеду?
– Что? Нет, я здесь совершенно случайно. Ожидал другой корабль. А вы ко мне?
– У меня для вас письмо. Вот. – Она протянула запечатанное сургучом письмо. Он поблагодарил, спрятал письмо и снова намерился идти, но женщина сказала, что письмо он должен прочитать при ней, а когда прочтет, то поймет почему. Аптекарь кивнул и сказал, что сделать это они могут у него дома. Он взял у нее сумку, и они пошли по Краковской улице на Рынок, шли молча, лишь иногда аптекарь подсказывал женщине, куда ступать, чтобы не угодить в грязь.
В аптеке за прилавком распоряжался Айзек. Из трубки, торчащей из желтых зубов черепа, вился легкий ароматный дымок. Эта идея Айзека удивляла не одного клиента. Лукаш отвел женщину в соседнюю комнату. Когда она сбросила плащ, под которым было мужское платье, он смог, наконец, ее разглядеть. Это была молодая девушка, ее черные волнистые волосы были подстрижены до плеч. Красивое лицо, увенчанное острым орлиным носиком, кого-то Лукашу напомнило, но вспомнить он не смог.
Он подошел ближе к окну и распечатал конверт. Письмо было адресовано, понятное дело, Мартину от Михала Родзейовского из Кракова, старого товарища, с которым Мартин учился медицине. Лукаш тоже хорошо его знал и слышал, что тот вскоре стал помощником епископа.
«Дорогой друг, девушка, из рук которой ты получил это письмо, моя родственница. Очень прошу прислушаться к ее просьбе. Все остальное она передаст тебе на словах. Можешь доверять ей, как доверяю я. И пусть тебе Господь и Пресвятая Матерь Божия помогут во всех начинаниях».
Пока он читал, девушка оглядывалась по сторонам. Он сложил письмо и спрятал в карман. Письмо было на удивление лаконичным и ничего не объясняло. Аптекарь поднял голову и внимательно посмотрел на девушку.
– У вас есть ко мне просьба?
– Да. Я хочу быть вашим учеником.
– Вы хотите быть учеником скромного аптекаря?
– Нет. Помощником хирурга.
– Вы? Женщина? Но что вы в этом понимаете?
– В хирургии? Кое-что понимаю. Я ведь тоже училась в Падуе в университете.
– Не может этого быть! Туда женщинам хода нет.
– А кто вам сказал, что я была женщиной? Я была парнем. Я переоделась парнем и так проучилась все годы.
– И на протяжении всего этого времени никто даже не заподозрил, что вы не мужчина?
– Один случай был. Я снимала квартиру у одной пани в годах, которой доверила свою тайну. Однажды, когда я купалась в лохани в кухне, хозяйка, не сказав мне ни слова, хотя всегда была в таких ситуациях бдительна, вышла из дома и увидела, как ястреб упал на ее петуха. Она бросилась спасать петуха, а тот был увесистый, и ястреб никак не мог взлететь, только тащил бедного петуха. И хозяйка побежала, чтобы его схватить. А тем временем в дом зашел мой друг, тоже студент. Ну и… – Девушка развела руками. – Он увидел, кто я.
– И что дальше?
– Дальше… я не нашла другого способа закрыть ему рот, кроме как отдаться ему.
– И вы стали его любовницей до конца учебы?
– Нет. Мне не нравилось, что он вбил себе в голову, будто завладел мной. Кроме того, он шантажировал меня, прохода не давал. Я поняла, что этому не будет конца, и рано или поздно правда всплывет, а я вынуждена буду бросить университет. Однажды во время студенческой вечеринки в таверне я поиздевалась над ним столь остроумно, что все присутствующие разразились хохотом. Он вскипел, но я была уверена, что он меня не выдаст, иначе потеряет то, чего добился. Пьяный, он бросил в мой адрес несколько оскорбительных слов, а я выплеснула ему в рожу вино. Он выхватил шпагу, я тоже. Боец из меня не очень, но я была трезвая и видела, что у него мир в глазах шатается. Поэтому пыталась все время отступать, отскакивать, прятаться за столами, пока не уловила момент, когда он потерял равновесие. Я не могу сказать, что не хотела его убивать. Другого способа избавиться от него не было. Случилось так, что острие моей шпаги задело сонную артерию, и он истек кровью, хотя все бросились его спасать. Это была страшная смерть, ибо, умирая, он полностью осознавал свой конец и пытался что-то сказать, выдавить какие-то слова, может, даже кого-то в чем-то обвинить, но кровь заливала рот, и оттуда доносилось лишь бульканье… Что с вами? Вам неприятно это слышать?
Аптекарь действительно изменился в лице, слушая эти жуткие подробности.
– Мне странно слышать такое от девушки.
– Но ведь вы хирург, кровь для вас – все равно что дождь из желоба.
– Для вас тоже?
– А вы как думали? Когда нам приносили трупы на вскрытие, поначалу меня тошнило, но со временем я привыкла. Иногда эти трупы выглядели подозрительно свежими и еще теплыми. Но никто не жаловался, потому что это были какие-то бродяги, которые и так рано или поздно скончались бы где-нибудь под мостом. Я принимала участие в хирургических операциях, в частности в битве под Дюнкерком. После первой отрезанной ноги, первого вправления кишок в распоротый живот, первого доставания пули из груди – ничто уже не отвратительно и не трогает меня. Я научилась быть холодной, и ни одна смерть меня уже не растрогает. Разве что моя собственная.
Она засмеялась. Лукаш кивнул на шпагу.
– Можно посмотреть?
Девушка подала ему шпагу, Лукаш вытащил лезвие и внимательно рассмотрел. Оно было плоское и обоюдоострое, рукоятка заканчивалась головой льва, из которой выпирали глаза. Лукаш нажал на них, и вдоль лезвия выстрелили из гарды два маленьких тонких кинжала. Их роль была понятна – поймать лезвие врага и вырвать из рук или сломать.
– О! – удивился Лукаш. – Такую шпагу я уже где-то видел. Хорошая работа.
– Мне ее подарил Михал после того, как избрал церковный путь. Даже в образе юноши я должна себя как-то защищать.
– Почему вы выбрали Львов?
– Я здесь родилась, но покинула этот город еще маленькой. Теперь возвращаюсь и к нему, и к самой себе.
– Иногда такое возвращение становится возвращением в одиночество.
– Да, я знаю. Здесь уже никого нет из тех, кого я знала. Во мне еще живут голоса тех людей, но их уже нет. И когда я об этом думаю, меня пронизывает страх, потому что мне кажется, что и меня на самом-то деле нет, что я только отзвук того, кто был до меня. Так тяжело носить в себе чужие голоса, запахи, прикосновения. Они не смываются.
Ее печальные глаза смотрели куда-то мимо аптекаря, их взгляд терялся в окне и исчезал в узких улочках. Аптекарь молчал, ему знакомы были эти ощущения, но он еще не готов был этим делиться, хотя это было невежливо по отношению к девушке – ведь она ему доверилась, а он – нет. Однако он чувствовал настороженность, и словно боялся, что, начав рассказывать что-то личное о себе, слишком сблизится с ней, а кто знает, не окажется ли это сближение преждевременным.
– На самом деле мы никогда не оставляем тех мест, где родились, где прошло наше детство, – говорила она с грустью. – Мы остаемся там навсегда. Та жизнь является нам во сне, мы скорбим по ней и когда утром просыпаемся, то на минутку пробуем удержать сон. Разве с вами такого не бывало?
– Бывало, и не раз. Итак, вы хотите ассистировать мне при операциях? Тогда вам придется и дальше изображать мужчину.
– Я к этому готов, – вдруг сказала она измененным голосом, который мог действительно принадлежать молодому парню.
– О, у вас еще и актерский талант!
– Столько лет притворяться юношей – от этого трудно избавиться. Так как?
– Ну, если меня об этом просит мой товарищ, я отказать не могу. Интересно, ведь если вы учились в Падуе, мы могли где-то видеться?
– А мы и виделись.
Лукаш почувствовал легкую тревогу. Если они виделись, она никак не может спутать Мартина с ним, а это означает, что она знает, с кем разговаривает. Он внимательно присмотрелся к девушке, и то, что ему раньше казалось, лишь стало более отчетливым – да, он где-то видел это лицо и слышал этот голос, но где?
– Странно, что вы не узнали меня, – продолжила она улыбаясь. – Неужели не помните? Я – Лоренцо.
– Лоренцо! – Удивлению Лукаша не было предела. – Лоренцо ди Пьетро? Тот самый ангелочек? Но ведь…
Он запнулся, подбирая слова, но она его опередила.
– Да, я знаю, что вы – не Мартин. Но я также знаю, что здесь нет никакого подвоха, и вы им стали не добровольно, а по желанию самого Мартина. – Заметив удивленный взгляд Лукаша, она пояснила: – Ведь там был еще один свидетель. Мы с Калькбреннером знали друг друга с давних пор, я слышала, что он во Львове, и написала ему, спрашивая совета, к кому могла бы обратиться, чтобы усовершенствовать свою практику. Он назвал вас и очень хвалил. Иоганн также подробно рассказал в письме, как на вас напали разбойники, спутав его с вашим другом. И когда я прочитала, что Лукаш – одноглазый, а Мартин прихрамывает, я спросила, ничего ли он не перепутал. И он ответил, что Лукашем назвался тот, что был без глаза. Я не стала ему возражать, поняв, что, видимо, такова была последняя воля вашего ближайшего друга.
Лукаш потер лоб. Такого он не ожидал.
– Вы меня просто потрясли. Так Иоганн тоже знает, что вы – не юноша?
Она засмеялась:
– Знает, но из другого источника. Он дружил с моим отцом. Отец увлекался разными изобретениями, механизмами и алхимией. Так что у них было много общих интересов. Он меня, в конце концов, и подтолкнул пойти учиться.
– Почему же вы не идете в ученье к Иоганну?
– Мне не подходят его методы, – она тряхнула головой. – Все эти темные дела с похищением трупов… Я на них вдоволь насмотрелась. Я не верю, что удастся приживить орган умершего живому человеку. Даже при помощи магии. А это то, чем он уже годами занимается. Пока из Кенигсберга наконец не вынужден был бежать в Прагу. А из Праги удрал сюда.
– Вы знаете, за что его хотели убить?
– Почему вы думаете, что именно его? Охотились за сумкой. А самая важная сумка была у Мартина, с бумагами на дом и аптеку. Кто-то, очевидно, хотел их захватить.
– Те разбойники говорили, что охотились на мужчину с повязкой на глазу. А Калькбреннер считал, что охотились на него.
– Я знаю. Он решил быть в кои-то веки деликатным. Вам не сказали, а ему сказали. Выслеживали двух всадников, у одного из которых был перевязан глаз. И обоих должны были убить.
Лукаш задумался, вспоминая детали. Девушка поспешила его успокоить:
– Насчет Иоганна можете быть спокойны. Он симпатизирует вам. У него свои планы, и он ни в коем случае не станет вам помехой.
– Каково же ваше женское имя?
– Юлиана.
– А как вам удавалось изображать итальянца?
– Мой отец был купцом из Триеста. Когда моя мама умерла, мне было восемь лет, и отец забрал меня вместе с сестрой в свою семью. Там я и воспитывалась.
– Хорошо, – засмеялся Лукаш. – На этом закончим, иначе я не смогу этого всего переварить. Видите, как вы меня заговорили – я даже не предложил вам перекусить. Сейчас Айзек что-нибудь приготовит.
– Он живет с вами? – насторожилась Юлиана. – Ему можно доверять?
– До сих пор нареканий не было. Попрошу, чтобы он приготовил для вас комнату.
Когда Лукаш приоткрыл дверь в аптеку, то чуть не стукнул Айзека по лбу.
– Подслушиваешь?
– Какое там подслушиваю! Это называется – всегда быть на страже своего пана! А ну как вас беда могла подстерегать. Когда в 1623 году вспыхнул во Львове мор, я единственный, ничего не боясь, прислуживал пану доктору бургомистру Павлу Кампиану[26] и ходил за ним, как тень. Он однажды так и сказал: «Айзек! Ты – моя тень».
– С какого момента ты слушал?
– С… с… э-э… как вам сказать. Я слышал не все, потому что должен был время от времени бегать к печи и, боюсь, самое важное пропустил. Но должен вас заверить, что я на вашей стороне, и никогда не предам вас, как предал Иисуса святой Петр или Павел… или Петр… – Он нахмурился. – Кажется, Павел…
– Прекрати. Немедленно признайся, что именно ты слышал.
Айзек опустил глаза.
– Я все слышал, пан. Что вы теперь живете жизнью своего товарища. И не вижу в этом греха. Особенно, если он сам того захотел.
Лукаш вздохнул.
– Ну, если ты уже все и так знаешь, остается только попросить, чтобы все это ты держал в тайне. Понимаешь? Панна на людях будет моим учеником. То есть юношей, а не девушкой.
– О-ой! Так это ж цурис! Лучше бы я этого не знал! Теперь я должен это хорошенько утрясти в голове, чтобы чего-то не напутать. А как мне ее называть?
– В образе девицы она – Юлиана, а в образе юноши – Лоренцо. Запомнил?
– Хе! Если я мог запомнить все меры, вес и цены, то каких-то два имени – как носом шмыгнуть. Побежал я есть готовить. У меня там в печи нога ягненка. Словно именно для такого случая. А потом откупорю аликант из самой Флоренции для Лоренции.
– Какой Лоренции?
– Ну, это – в рифму. Мы, поэты, любим рифмами баловаться. А если между нами, пан доктор, – он перешел на шепот, – девушка – высший сорт. Берите и не думайте. Только бы она в кухню не совалась. А ваша Гальшка – хитрая бестия. Хорошо, что вы ее прогнали.
– Я ее не прогонял.
– Нет? Как это так?
– Иди, готовь, что там у тебя. Позже при случае расскажу.
Глава 20 Гости из прошлого
Из записок Лукаша Гулевича
«На следующий день мы с Айзеком и Юлианой обедали в саду, сидя в плетеных креслах. В саду хозяйничало разбушевавшееся солнце, под расцветшим кустом жасмина на круглом столике, покрытом розовой вышитой скатертью, дымился грибной суп. Любопытствующие лучи ныряли, переламываясь, то в бокалы, то в бутылку красного вина. Вдруг зазвенели колокольчики на входе, я открыл дверь, и в аптеке появились незваные гости. Я узнал обоих моряков, которые глазели на меня на берегу, и сразу почувствовал, что меня ждут неприятности. И я не ошибся. Один из них, улыбаясь во всю ширину своей желтозубой рожи, произнес:
– Сеньор Мартин! У нас к вам очень важное дело, – и, взглянув на Айзека, который оценивал их строгим взглядом, добавил: – Но лучше бы нам переговорить наедине.
Я отвел их в соседнюю комнату, дав знак Айзеку все подслушать. Желтозубый, снова улыбаясь, спросил:
– Вы нас как будто не узнаете?
– А должен узнать?
– «Санта-Каталина», – промолвил он, и я онемел. Именно на этом корабле Мартин потерял глаз, а я получил ранение. Итак, эти люди знали, кто я на самом деле. Сам я их не вспомнил, потому что мы пересаживались на столько кораблей и столько моряков мелькало перед нашими глазами, что удержать в памяти все их лица было невозможно. Но запомнить медиков, конечно, было куда легче. После первого шока с появлением Юлианы новости о Калькбреннере – это было уж слишком.
Гости расселись на скамье, хоть я им и не предлагал, а желтозубый продолжал:
– Мы очень рады, что вы нас узнали, сеньор Мартин. Так приятно увидеть старых друзей, вспомнить боевые подвиги. Помните, как мы туркам трепки задавали?
– А как вы меня у пушки подменили, когда меня оглушило? – вмешался второй, которого я мысленно прозвал лопоухим. – Э! Я даже удивился: вы с первого раза им мачту подбили. Я тогда вас зауважал. Мачту! С первого раза!
– Да-да, – кивал головой его товарищ, – нет теснее дружбы, чем та, что скреплена кровью. Боевая дружба. И так приятно видеть вас в полном здравии!
– Ну. И глаз исцелился. А мы же видели, как он у вас вытек. Но теперь медицина творит чудеса, – корчил радость лопоухий. – Вот только ножку вы тянете, но это не беда. Куда хуже быть одноглазым, правда, Гуго?
– Ты прав. Моя матушка, когда потеряла глаз в бою с бугаем, совсем взбесилась. Пришлось из дома бежать. Совсем сдурела.
– Чего вы хотите? – перебил я.
– Немногого, – утешил меня Гуго. – Мы тут слегка в вашем городе поиздержались. Шинки, девки, карусели. Казалось бы – только одна ночь. Но какая! Чтоб мне лопнуть, как та кишка с кашей,[27] которую мы вчера наворачивали, но ночь на Тортуге мне обошлась дешевле. Но то такое. Через два дня мы отплываем, и очень сомневаюсь, что когда-нибудь заплывем сюда еще. Поэтому будет очень хорошо, если у нас останется память о нашем с вами боевом братстве. Что-нибудь такое, что бы мы могли потом с удовольствием вспоминать. Какая-нибудь мелочь. Ну, скажем, – сотня дукатов.
– Только и всего, – подчеркнул лопоухий и хихикнул.
– Да, – подтвердил Гуго. – И даем честное слово, что больше никогда-никогда-никогда не причалим в вашем городе. Мы вообще здесь по чистой случайности оказались. Просто в Гданьске не удалось все распродать, и там нам посоветовали завернуть еще и сюда. И вот такая милая встреча.
Я задумался. Заплатить им я не мог, если бы даже хотел: у меня не было таких денег. С другой стороны, мне хоть садись на коня и беги куда глаза глядят, если они разболтают об этом в магистрате или еще где, понятно же, за вознаграждение. Я лихорадочно размышлял, как выбраться из этой переделки, когда дверь открылась и вынырнула голова Айзека:
– Пан, могу ли я угостить ваших уважаемых гостей замечательным венгерским вином, которое вам передала графиня Корнелия из Корнельска? А к вам тут пришел пан барон де Жабульйон.
Я догадался, что Айзек что-то задумал и, желая получить возможность поразмыслить над всем этим, согласился. Моряки радостно приветствовали поднос с вином и нарезанной колбасой. Я вышел за Айзеком, и первое, что он сделал, это прижал палец к губам. Из-за прилавка улыбалась Юлиана, и я сразу заподозрил подвох, поэтому махнул им рукой и вывел обоих в сад.
– Ну и что тут затевается? – обвел я их строгим взглядом.
– Ничего страшного, – сказала Юлиана, – вам просто нужна минутная передышка. Чтобы собраться с мыслями.
– Да-да, – подтвердил Айзек, – я вам так скажу. Когда я служил в армии короля Сигизмунда, и мы перли на Московию, то именно минутная передышка спасла жизнь королю. А почему? Потому что они, выйдя из палатки, сразу поспешили на холм, с которого было лучше видно битву. Но тут поспел я и увидел, что они стали одной королевской ногой в конский кизяк. Я мигом подскочил с пучком сена, и пока я вытирал этот кизяк, пушечное ядро бахнуло прямехонько туда, где короля ждало красиво убранное кресло и столик с угощением. Два генерала хлопнулись, как спелые груши. А светлейший король был цел, невредим и до глубины души удивлен. Поэтому минутка отдыха очень важна.
Я видел, что они просто заговаривают мне зубы, это было видно по глазам Юлианы, которые аж светились. Я сказал:
– Налей-ка мне, Айзек, вина, и я продолжу с ними глубокую и содержательную беседу, выхода из которой не вижу.
– Но его видим мы, – сказала Юлиана.
Я взял кружку, пригубил, и в голове моей стало светлеть, всходило солнце, просыпались птицы, лопались почки и цвели крокусы. Я взглянул на моих друзей и все понял. Я догадался, каким образом они мне помочь решили, и онемел.
– О Господи! – сказал я. – Вы это сделали.
Они скромно опустили глаза.
– Это был единственный выход, – сказала Юлиана тихим голосом.
– Это была моя идея, – признался Айзек.
– И мое исполнение, – уточнила Юлиана.
Я налил вторую кружку и сказал:
– А что, если они кому-нибудь рассказали, что идут сюда? И куда мы подеваем их самих?
– Мы можем закопать их в саду, – сказал Айзек.
– И я после этого смогу там отдыхать? – не на шутку возмутился я.
– У меня идея получше, – сказала Юлиана. – Мы бросим их на телегу, вывезем в лес и зароем.
– Я вам скажу, пан доктор, – поднял указательный палец Айзек, – она мудра, как доктор философии и медицины Мартин Никанор Анчевский,[28] которому я прислуживал при очень важных сделках.
– Получается, ты служил у самих Мартинов? – удивился я.
– Конечно! Это мой счастливый знак. В имени Мартин есть имя смерти, а значит, смерть для них не страшна. И когда я с Мартином Кампианом во время чумы ходил по городу, заглядывая в разные уголки, а рядом с нами умирали сотни людей, с нами ничего не случилось, потому что он был Мартин, а я – под его мартинским омофором.
– Как вы собираетесь вывезти их на телеге средь бела дня? Ведь вечером вас не выпустят за ворота.
Когда наступал вечерний час, с Ратуши раздавался сигнал о закрытии городских ворот, и тогда все чужеземцы и приезжие купцы покидали центр города, оставляя на складах и в подвалах товар, заполняя заезжие дворы, которыми изобиловали пригороды, особенно Галицкий, где селились купцы с Востока. Ключи от запертых ворот передавали уполномоченному для их хранения ночному бургомистру.
– Об этом я не подумала, – сказала Юлиана.
– А вот для таких случаев есть Айзек.
Но прежде чем он озвучил еще одну свою неповторимую идею, дверь приоткрылась, и вошли Каспер с Рутой.
– Ну, вот, привел вам ученицу, – сказал он, а взглянув на Юлиану, добавил: – Хотя вижу, у вас уже один ученик есть.
– Э-э, – обрадовался не знамо чему Айзек, – нам учеников никогда не бывает мало. Для всех найдется занятие. Мы, доктора, всегда заботимся о том, чтобы передать наши знания грядущим поколениям.
Каспер взглянул на меня удивленно. Я пожал плечами. Рута смотрела на Юлиану с явным восторгом. Ну, конечно, красота этого «юноши» не могла не поразить.
– Э-э, – проблеял я, – сегодня, быть может, не самый лучший день.
– Да отчего ж не лучший? – затараторил Айзек. – К нам зашли наши друзья. А ну – по кружке!
И он сразу засуетился и, закрыв дверь аптеки, принялся выставлять на прилавок вино, сыр и мясо. Я не успевал реагировать на это безумное действо, которое происходило на моих глазах с невероятной скоростью, но Айзек и Юлиана чувствовали себя, как сыгранная пара актеров, которые понимают друг друга с полуслова. Через несколько минут Айзек придвинул лавочки для каждого, и вот – отличная компания угощается за прилавком. Кроме вина, есть сыры итальянский и немецкий, кусок жареного мяса, колбаса и хлеб, испеченный Айзеком. Колбаса у меня доверия не вызвала, зная, что точно такой же угощались предыдущие гости, но Айзек, заметив мой задумчивый взгляд, первый кусок кинул себе в рот. Ага, значит, истина была в вине.
– У вас проблемы? – спросил Каспер, рассматривая свою кружку, вероятно, ища какой-то знак.
– У нас, докторов, без проблем никак, – сказал Айзек. – Но все проблемы решаются. Неразрешимых нет. Главное – иметь единомышленников. Вот мы с паном доктором Мартином и Ю… – тут он прервал свою тираду и принялся накладывать закуску на тарелки, когда я глянул на него.
– Могу ли я вмешаться? – спросила Юлиана. – Меня зовут Лоренцо. Я ученик пана доктора. Сегодня случилась у нас досадная вещь. Пана доктора хотели отравить и прислали ему в подарок отравленное вино. И так случилось, что пришли к нему люди… точнее пираты, которые предложили купить у них бочку оливкового масла. Конечно же краденого. Они сторговались, ну и пан доктор, как гостеприимный хозяин, угостил их вином, которое получил в подарок.
– И что? – замер Каспер с кружкой в руке.
– И что? – Юлиана закатила глаза и вздохнула: – Два трупа. Там, – кивнула она на дверь.
Каспер выпил вино и улыбнулся:
– Надеюсь, это уже другое вино.
– Это вино с винодельни пана Прохазки, – поспешил объяснить Айзек. – Отныне никаких подарков мы не принимаем.
Рута коснулась плеча Каспера, он вздрогнул от неожиданности, но сразу посмотрел на нее теплым взглядом, будто благодаря. За что?… Хотя она и не вымолвила ни слова, ее прикосновение явно проняло Каспера, он словно давно ждал от нее какой-нибудь просьбы и возможности услужить. Вытерев ладонью рот, он качнул головой, словно собираясь с мыслями, и сказал:
– Ну, что ж поделаешь. Придется помогать.
Айзек вскочил и, бросив: «Сейчас их быстренько приготовлю», – исчез, не объяснив, что он под этим «приготовлением» подразумевает, и я, опасаясь новых сюрпризов, приказал Юлиане проследить. Потому что, как знать, не возьмется ли он их кромсать на куски. Каспер сказал, что пойдет подгонит телегу, и вышел. На минуту повисла тишина. Я смотрел на Руту и думал об их непростых отношениях с Каспером. Он ее боготворит, а она шарахается от него. И чем это может закончиться? Из соседней комнаты слышалась возня. Первой отозвалась Рута.
– Это ничего, что я буду приходить к вам? Мне и так нечем заняться.
– А вы разве не занимаетесь хозяйством?
– Нет. Каспер нанял сарацинку. Она все делает. К счастью, он позволил мне выезжать верхом за город, я без моих лугов не могу. Я собрала и насушила разного зелья и могу вам помочь готовить настои. Я также забрала из дома книги отца. Там есть немало редких рецептов. А еще я хочу дать вам это, – она вынула из-за пазухи скрученные в трубку бумаги. – Здесь написано по-немецки. Может, вы прочтете?
– Откуда они у вас?
– Один рыцарь ехал во Львов и не доехал. А я нашла их при нем.
Я не спрашивал причины, почему рыцарь не доехал, и решил, что просмотрю их позже, потому что как раз появился Айзек.
– Ну, все, мы готовы, – провозгласил он, потирая руки. Я не без облегчения заметил, что крови на них нет. – Думаю, вы будете не очень жалеть о потере двух старых выцветших ковров, которые и так стояли скрученными на складе. Вместо двух трупов у нас – два блинчика с мясной начинкой.
Он, видимо, думал, что над этой шуткой мы будем хохотать как сумасшедшие, но был разочарован. Тогда он подошел ближе и положил передо мной два кошелька.
– Здесь не много, но и не мало. Это все, что при них было. Я честный вор.
– Тогда один кошелек отнеси в госпиталь Святого Духа, а второй, потуже, отдашь Касперу. Он ведь должен заплатить своим людям.
– А если он не возьмет? – с надеждой в голосе спросил Айзек.
– Если не возьмет, то отнесешь и второй в госпиталь Святого Духа. Тебе мало тех денег, которые я тебе плачу?
– Да нет, не мало, но, знаете, еще моя бабушка говорила: надейся на лучшее, готовься к худшему. Видите ли, старость не за горами, а в шалаше доживать не хочется.
– Я тебе обещаю, что в шалаше жить тебе не придется.
Притарахтела повозка. Каспер вошел и спросил, все ли готово, затем позвал татар, и те вынесли скрученные ковры. Я подошел к Касперу и спросил, что он думает об убийстве Петруня.
– Убийца, вероятно, там, где мы и думали.
– Не совсем, – сказал я. – Петруня видел раец Регула – как тот выходил из соседних ворот слева. Так что он обошел не один, а два дома. И где гарантия, что мешок с мусором не могли подбросить в ворота дома «Под Грифоном»?
– Я об этом не подумал.
– Я сначала тоже. Знаете, кто там живет, в той соседней браме?
– Да, знаю. Там три жилища. В подвале находится винарня «На ступеньках», а выше живет лавничий судья Томаш Зилькевич, вдовец, с малолетними дочерьми, пан Станислав Гайдер, владелец винарни, с сыном и женой, и доктор философии и медицины Мартин Грозваер, раец, с женой и двумя сыновьями, он торгует тканями, и у него там же, на этаже, магазин. Кстати, вы слышали, что Регула умер? Ударился головой о каменные своды подвала.
После этих слов Каспер пошел за телегой, Айзек двинулся с ними. Я задумался. Странное совпадение – эта смерть Регулы. Но было ли ему что-либо известно? Он божился, что не узнал часы. Юлиана взялась паковать изюм из мешка по маленьким пакетикам, но я заметил, что она прислушивалась к нашему с Каспером разговору. Рута встала и сказала, что придет завтра утром и принесет обещанное. Мы попрощались. В дверях она посмотрела на Юлиану и покраснела, когда та ответила ей взглядом.
– Ну, что? – подмигнул я Юлиане. – Любовь с первого взгляда?
– Для меня это не в первый и, возможно, не в последний раз. А она хорошенькая, правда? Вы бы в нее влюбились?
– Никогда не знаешь, когда и в кого влюбишься. Как-то я влюбился в девушку, которую давно знал и не обращал на нее внимания. И как-то ночью она мне приснилась, и мы так нежно любили друг друга, что меня вдруг осенило: вот она моя мечта – рядом!
– И что с ней?
– Мы с Мартином отправились на Кандию, а когда я вернулся, она была уже замужем. Но что же вы будете делать, если она вам признается в любви?
– Ну-у, возможно, мы поцелуемся. Но отбивать жену у палача? Нет-нет, ни за что.
– Она ему не жена, – ответил я и рассказал, каким образом Рута оказалась в доме Каспера. А затем спросил, что ее заинтересовало в нашем разговоре с Каспером.
– Трудно сказать. Я просто подумала, что могу чем-нибудь помочь.
Я решил, что, возможно, она права, и поделился историей об убитой проститутке. Юлиана слушала внимательно, но ничего не спрашивала, не слишком проникшись, однако заверила, что если мне нужна помощь, то она готова. Далее я заварил липу с жасмином и, разлив в чашки, угостил ее.
– А вам уже случалось влюбляться? – спросил я, сосредоточенно размешивая мед в чашке и не глядя на нее. При этом я чувствовал, что она внимательно смотрит на меня, мне стало даже жарко и я, не сумев до конца доиграть в свое притворство, тряхнул головой, словно поправляя волосы, и встретился с ней взглядом. Она улыбалась так снисходительно, будто раскусила меня и догадывалась, почему я ее об этом спросил.
– Приходилось… – наконец сказала она. – Но не так, как вы себе представляете.
– Интересно, откуда вы можете знать, как я это представляю.
Теперь я уже смело смотрел на нее, но ее снисходительная улыбка не исчезла, она что-то не договаривала, и при этом не считала нужным рассказать, что именно.
– Я думаю, у всех мужчин представления одинаковые. У кого-то они оформлены в вычурные выдумки в стиле барокко, у кого-то – простые и примитивные. Но это не имеет значения. Потому что имеет значение лишь суть.
Я не удержался и взял ее за руку, ладонь ее была ледяной. Она высвободила ее и сказала:
– Не удивляйтесь – я мерзлячка.
Затем вздохнула, и тишина в тот же миг стала глубже.
К вечеру вернулся запыхавшийся Айзек и очень неровным голосом сообщил, что отправил телеги за Галицкие ворота, а оба кошелька отнес в госпиталь, потому что Каспер взял из них только два золотых для татар. На мой вопрос, почему его так долго не было, он объяснил, что должен был успокоиться, а лучшего успокоения, чем посещение шинка, еще никто не придумал.
– Понимаете, пан доктор, когда вам грустно, тревожно или кошки на душе скребут – нет лучше лечения, чем шинок. Ага! Сядете в углу, закажете кружку вина и думаете о своем. Или не думаете, что еще лучше. И вот, собственно, я после стольких нынешних переживаний, к которым вы и не очень-то руку приложили, скажу вам по правде, должен был обязательно расслабиться. Поэтому я ничего не думал… Хотя… А нет – думал! Я подумал, что я в этот день, пожалуй, единственный еврей, который ни о чем не думает. Ибо мы, знаете ли, должны все время думать. Также и за других. Леонардо да Винчи пытался изобрести перпетум мобиле. И что? Пшик. Знаете, где этот перпетум? Здесь! – он ударил себя в грудь. – Каждый еврей – это перпетум мобиле. И пока мы перпетум, мир стоит ровно. А стоит немного непер… Непер-пер-тум, то…
Тут я заметил, что язык его уже начал заплетаться, и отправил его в комнату. Юлиана все это время хихикала в углу, надписывая мешочки красными чернилами, предварительно взвесив.
– Вам с Айзеком повезло, – сказала она. – Я бы не справилась с этими вашими мерами и весами.
– Да я бы и сам не справился».
Глава 21 Казнь
Из записок Лукаша Гулевича
«Октябрь 1647 года.
Лето прошло без особых происшествий. Юлиана с успехом ассистировала мне при каждой операции, часто даже заменяя меня, рука у нее была легкая. Рута обеспечивала травами, и благодаря этому я мог сэкономить на лекарствах. Она каждое утро приходила в аптеку и помогала, а ее познания в зельях поражали. К тому же она открыла мне удивительное средство, о котором я до сих пор не знал, а именно – соляной компресс. То есть она брала плотную тряпку, мочила ее в соляном растворе, слегка выжимала и клала на рану – и рана никогда не гноилась и очень хорошо заживала. Только надо было не переборщить с солью, она не должна была составлять более десяти процентов от количества воды.
Все это время меня не покидало гнетущее ощущение, что я стал причиной гибели несчастного мусорщика, а может, еще и Регулы. Их смерть оборвала нить, за которую я начал дергать. Дальше можно было двигаться разве что вслепую. Наконец я подумал, что пора бы все рассказать Зиморовичу и выслушать его мнение. Мы с Юлианой как раз вышли из госпиталя Святого Лазаря на Калечей горе, завершив операцию по удалению гнойника на ноге у одного драгуна, и, кажется, предотвратили начало гангрены. У Зиморовича был свой дворец с садом на Шембековой улице, у подножия горы. Там мы его и встретили, когда он собирался выходить, но, увидев нас, он чуть ли не силой затащил нас к себе в гости. Там, в саду, мы расположились в живописной беседке, украшенной в античном стиле изображениями богов и нимф. Я рассказал ему о находке Каспера, и каким образом это повлекло за собой убийство Петруня. Он был немало удивлен, что обе смерти – проститутки и мусорщика – так тесно связаны.
– Значит, она была убита в лесу на том месте, где собираются охотники, – констатировал он. – И убил ее кто-то, кто живет в одном из двух зданий. Но живут там слишком серьезные люди. И в этом самая большая проблема. Потому что когда речь идет о жизни проститутки и мусорщика – никто не будет забивать этим голову.
– То есть вы не собираетесь расследовать это убийство?
– А что я могу? Прийти с цепаками к райцам, а точнее к их сыновьям, этой золотой молодежи, привыкшей на все плевать, и заставить их снять штаны? Вы знаете, что у нас уже было? Наши лавники приговорили одного такого разбойника из благородного рода к смертной казни – так он подал королю жалобу с требованием казнить судей. Ну, правда, до этого не дошло, но он оказался на свободе.
Я напомнил также о смерти Регулы, но он сказал, что я слишком преувеличиваю, потому что эта смерть была чистой случайностью. Юлиана не вмешивалась в беседу. Мы уже прощались, когда громкий крик «Везут! Везут!» прозвучал на Рынке. Выяснилось, что поймали Головача вместе с остальными разбойниками. Детали этого знаменательного события выслушали мы лично от бургграфа, который радостно потирал руки.
Итак, Головачу, которому удалось сбежать в лес, было очень важно вновь завладеть сокровищем, закопанным в тайном месте. Собрать новую разбойничью шайку без шеляга за душой было трудно. Но тайник оказался выпотрошенным. Крестьяне, вырубая и корчуя кусок леса, наткнулись на клад и разделили его между собой. Головач разозлился донельзя, но зацепляться с крестьянами не стал. Вскоре к нему прибились несколько разбойников из других шаек. В лесу недалеко от Жовквы разбойники напали на пещеру, в которой жил отшельник. Пещера им понравилась, отшельник тоже, и они заставили его научить одного из них, как себя вести, чтобы походить на отшельника. Неподалеку была еще одна пещера, и разбойники соединили обе пещеры подземными переходами. Теперь Головач жил с Гальшкой, ребенка они оставили у семьи в селе. Свои нападения разбойники совершали подальше от укрытия, а в свободные от разбоя дни слонялись без дела по окрестностям, загуливали в шинках, транжиря деньги. Наконец такая расточительность бросилась в глаза многим. В пьянках трудно было проследить, чтобы не сболтнуть лишнего. Этого только и ждали специально подосланные шпионы. А вскоре войско окружило пещеры так плотно, что вырваться разбойники не могли. Их стали выкуривать дымом, тогда они взорвали входы в пещеры, но войско собрало живущих поблизости крестьян, и все вместе с палками в руках начали сужать круг, стуча при каждом шаге по земле и заглядывая под каждый камень. Таким вот образом им удалось найти четыре выхода из подземелья.
Они рассчитывали, что разбойников заставит выйти на поверхность голод, но у тех были запасы еды, и они не очень беспокоились. Снова воины разожгли костер, бросая головешки в норы, но это ничего не дало. Не оставалось ничего другого, как подорвать две норы так, чтобы земля обвалилась и засыпала выходы. Затем разбойникам объявили, что взорвут следующие две норы и похоронят их под землей. На ту пору продукты у них заканчивались, воды не было, они держались только на вине. Первым вылез отшельник. Выглядел он ужасно. Рассказал, что всего под землей два десятка разбойников, но несколько из них погибли во взорванных норах, а нескольких застрелил Головач, когда увидел, что запасы истощаются. Отшельника он пожалел, потому что его пугала кара Божья. Затем вышла на поверхность похудевшая Гальшка в панском бархатном платье, в первый раз надетом. Под ним были скрыты кошели с талерами, но все это у нее отобрали. Далее пришла очередь остальных разбойников – всего их оказалось шестеро вместе с атаманом. Затем смельчаки обследовали эти норы и обнаружили кое-что из награбленного, которое теперь выставили на Рынке, чтобы люди узнавали свои вещи.
Разбойников вместе с Гальшкой привезли закованными в кандалы. Женщину собирались отпустить, потому что и она говорила, да и разбойники утверждали, что удерживали ее силой, но как только воз приехал под Ратушу, жена купца Мордковича узнала свое платье, которое у нее было украдено, когда она ехала на ярмарку. Теперь судьба Гальшки была решена.
В тот же день, дав толпе вволю налюбоваться на пойманных разбойников, всю шайку перевезли на Высокий Замок и поместили в самый низ Шляхетской башни, где не было печей, а окна находятся слишком высоко, так что еду им спускали на шнурах. Правда, долго они там не пробыли, потому что их, наконец, загнали в пыточную, чтобы пытками заставить признаться, где они спрятали свои сокровища. И когда настал тот день, что за мной пришел посланец, известив, что пытки скоро должны начаться, я почувствовал, что ужасно не хочу принимать в них участие.
– Не очень приятная у вас работа, – сказала Юлиана, колдуя над микстурами.
– Да уж не слишком радостная.
– Пан доктор, – отозвался Айзек, – я бы вам советовал хлопнуть кружку вина. Потому как разбойники разбойниками, а эта ваша, лучше б не вспоминать, будет вам на нервы действовать. По себе знаю. Как-то топили в реке одну нищую, с которой у нас было немного общего счастья в шалаше под мостом, – так мне было очень грустно. Но она украла кошелек у подвыпившего сотника, и делать было нечего. Когда на такое отваживаешься, то должен понимать, что тебя может ждать неминуемое наказание. Хотя, с другой стороны, живешь, живешь, и не знаешь для чего. Все время кажется, что вот-вот узнаешь. Потому и живешь.
Тут он налил кружку и сунул мне в руки. А Юлиана спросила:
– Я чего-то не знаю? Кто эта «ваша, лучше б не вспоминать»?
Я взглянул на Айзека грозно, но ответил:
– Она была у меня кухаркой. И я не знал, что она жена разбойника.
– А-а, – улыбнулась Юлиана с таким видом, будто ей уже известно абсолютно все, что между мной и Гальшкой было. Но мне нечего было стыдиться, хотя наблюдать за тем, как бедную женщину будут прижигать железом, мне не хотелось.
Я опрокинул не одну, а две кружки и почувствовал бодрость духа. На улице Юлиана меня догнала и протянула маленькую бутылочку.
– Что это?
– Дадите палачу. Кажется, вы с ним нашли общий язык.
Я посмотрел на нее удивленно, но по выражению ее лица сразу же догадался, что она имеет в виду. Однако я заколебался и поднес бутылочку к носу.
– Экстракт роделии, – сказала она и исчезла. Удивительно, что я сам не догадался воспользоваться им.
На Рынке уже ставили помост, сбивая его из готовых брусьев и досок, несколько зевак следили за этим. В пыточной не было никого, кроме Каспера, который раскладывал огонь в печи. Подмастерья рубили дрова во дворе.
– Можете ли вы оказать мне одну услугу? – спросил я.
Палач выпрямился и с интересом посмотрел на меня. Очевидно, с просьбами к нему не так часто обращались.
– Что, нужно сердце, печень или мизинец Головача? Как для вас…
– Нет-нет, – сразу перебил его я, потому что времени было мало, – я лишь хочу, чтобы вы вылили это в воду или вино, которыми будете поить его жену.
– И что будет?
– Она через некоторое время потеряет сознание. И умрет, даже этого не осознав.
– У вас все еще к ней какие-то чувства?
– Нет, просто остались некоторые воспоминания.
Каспер кивнул. В ту же минуту в пыточную привели разбойников вместе с Гальшкой и стали приковывать их к стене. У всех был покорный, напуганный вид, и все, кроме самого Головача, тряслись. Он вырывался и защищался, но цепаки его скрутили, и вскоре он тоже стоял у стены. Палач положил клещи на огонь. Разбойники с ужасом следили за его движениями. Гальшка уже была без своего дорогого платья, в хламиде из мешковины. Растрепанные потные волосы прилипли ко лбу, под глазами были синяки. Проживание в пещерах сказалось. Она только раз взглянула в мою сторону и отвела глаза. Но когда клещи раскалились докрасна, она посмотрела на меня долгим тоскливым взглядом, и я незаметно ей кивнул. Тогда на ее губах появилось нечто похожее на печальную улыбку.
Затем пришли лавничие судьи, четверо лавников и отец Амброзий. Судья Зилькевич спросил разбойников, куда они спрятали награбленное, которое им и так больше не пригодится, так как все они будут казнены в тот же день. Разбойники все как один клялись, что кроме найденного в подземных тайниках ничего больше нет.
Зилькевич обратился к лавникам, чтобы те высказали свое мнение. Те сказали, что от предписаний отступать нельзя, надо допросить как положено. Подмастерья стали обнажать груди разбойникам. Мешковину Гальшки просто вспороли и бросили в угол, под ней она была голая. Я старался не смотреть на нее. Палач вытащил из огня клещи и прижал их к груди первого разбойника – зашипело мясо, запах паленых волос и кожи заполнил пыточную. Разбойник закричал. Палач перешел к следующему. Третий разбойник потерял сознание. Один из подмастерьев плеснул на него водой и дал напиться. Когда дошла очередь до Гальшки, я посмотрел на нее, она же понуро смотрела под ноги. Губы ее дрожали. Я не знал, как привлечь ее внимание, и не придумал ничего умнее, чем сделать вид, будто что-то попало мне в горло и я стараюсь это выкашлять. Гальшка наконец подняла голову, а я посмотрел на нее довольно красноречиво и закрыл глаза раз, и второй, и третий. Она догадалась, что должна сделать, и когда прижигали разбойника, который был прикован перед Головачом и ней, она притворилась, что теряет сознание. Каспер сразу кивнул, чтобы ее облили водой, и прижал к ее губам ковшик, Гальшка выпила, а ковшик выпал из его руки и разбился. Головач выдержал прижигание без крика, лишь шипел, стиснув зубы, а поскольку он не выказывал никаких страданий, с ним возились дольше, так что скоро его грудь напоминала сплошную рану. Тут уже вмешался я и настоял, чтобы пытки над ним прекратили. Когда палач приблизился к Гальшке, она уже обессилено висела на руках. Обливание холодной водой ничего не дало. Я подошел и пощупал пульс. Она была еще жива, пульс едва бился.
– Она умерла, – сказал я. – Не выдержало сердце.
Судьи велели расковать ее. Гальшку положили на сено под стеной и накрыли мешковиной. От разбойников добиться так ничего и не удалось, вероятно, у них действительно не было никаких других схронов. В конце концов, то же утверждал и отшельник, однако ему почему-то не очень доверяли, считая, что он за время неволи у разбойников сжился с ними. Разбойникам дали вина, а потом вывели во двор и посадили на телегу. Войт с удовольствием наблюдал за тем, как их подсаживают, ведь сами они в цепях не могли справиться.
– Ну, наконец-то, – сказал он мне, – наконец-то. Надеюсь, на этот раз неожиданностей не будет.
Когда я увидел, что Гальшку несут к телеге, спросил:
– А ее зачем? Она мертва.
– Мертва не мертва, а кара Божья должна постичь и ее. Вам, чай, известно, что она воровала у вас лекарства и поставляла разбойникам? Нам об этом рассказал отшельник. Вам повезло, потому что, если бы не он, подозрение могло пасть и на вас. Конечно, после их побега такой возможности уже не было, но отшельник говорит, что слышал, как она шептала Головачу, будто спрятала для него остатки чудодейственного бальзама. Так что свое наказание она заслужила.
Воз тронулся. На Рынке уже бушевала толпа. После экзекуции у разбойников был угнетенный вид, будто они смирились со всем, что их ждет, сидели ослабленные и посоловевшие. А уже у помоста все они внимательно слушали слова священника, целовали с пристрастием крест и крестились со слезами на глазах. Кроме конечно же Головача, который хоть и целовал крест, но так, словно делал Господу одолжение. На этот раз Каспер продемонстрировал свое привычное мастерство – каждая из пяти голов была отсечена одним ударом. Подмастерья подбирали головы с помоста и сбрасывали их в корзину, а тела вытаскивали крюками на телегу. Предпоследним был Головач. Он приближался к палачу с гордо поднятой головой, еще и улыбаясь, ему, очевидно, было важно, чтобы народ запомнил его именно таким – гордым и величественным, и он шел как невесть какой вельможа, бросая презрительные взгляды на толпу. Его дух торжествовал, это был момент его наивысшего взлета, и толпа впитывала каждое движение вытаращенными от удивления глазами. Далее должен был наступить тот особенный драматический момент, когда приговоренный стает на колени и кладет голову на колоду. Тут тоже есть очень хорошая возможность продемонстрировать свой героизм, но Каспер решил иначе. Он улыбнулся разбойнику, когда тот подошел ближе, и этим изрядно озадачил его, а потом посмотрел на меня, и, слегка подмигнув, повернулся на одной ноге так, что меч молниеносно взлетел в воздух, описал полный круг и отсек голову Головача, еще когда тот стоял в полный рост. Все это произошло очень быстро, но толпа успела заметить дикий страх в глазах Головача, страх и разочарование, что представление, которое он спланировал, которое обдумал до деталей и которое должно было стать его последней легендой, так неожиданно оборвалось. Голова качнулась и рухнула на помост, из шеи брызнула кровь, а вытянутое тело лишь на мгновение замерло, а затем упало, как срезанное дерево. Толпа охнула и загудела.
Последней выволокли под руки Гальшку, ноги ее тащились по земле, мешковина все время сползала, подмастерья поправляли ее и тянули дальше, поскальзываясь на окровавленном помосте. Наконец они прижали ее грудью к колоде, положили сверху голову и отбросили волосы набок. Каспер примерился мечом, но увидел, что шея лежит неудобно для удара, и дал знак подвинуть тело ближе к колоде. И в этот момент я увидел ее глаза. Они едва открылись, хотя Гальшка, пожалуй, и не осознавала, что с ней происходит, находясь в отупении, но эти глаза смотрели на меня, смотрели так же прищурившись, как тогда, когда она шутила со мной, когда строила глазки и, казалось, принадлежала только мне».
Глава 22 Сердце разбойника
Работа в аптеке Руте очень нравилась, а еще больше ей нравилось делать что-нибудь вместе с Лоренцо и при каждой возможности прикасаться к «нему». Когда «он» проделывал какие-то механические движения – переставлял баночки, мешочки или бутылочки на полках, – она незаметно подставляла свою ладонь туда, где, по ее расчетам, могла оказаться рука Лоренцо. Ей казалось, что если бы «он» вдруг обнял ее, она потеряла бы сознание. Пьянящая, неистовая любовь затопила ее доверху, она еле сдерживалась, чтобы не выдать себя, и вместе с тем стремилась, чтобы все, наконец, прояснилось и не надо было бы прятаться. Но при упоминании о Каспере ее охватывали грусть и уныние, нередко по ночам она от отчаяния плакала, укрывшись пледом, чтобы ее не услышали, и прижимала к груди вытесанного из дерева Святовита, прося спасти ее и исповедуясь ему в своих грезах.
Юлиана конечно же все это подмечала, как и замечала внимание к себе аптекаря. Она попала между двух жерновов и пыталась проскользнуть между обоими. Лукаш ей нравился, и при других обстоятельствах она бы не задумываясь позволила чувствам глубже захлестнуть себя, но то, что ее сдерживало, было непреодолимым, оно тяготело над ней, лишало воли и заставляло быть твердой. Даром, что впереди ее не ждало ничего хорошего – она не чувствовала страха, но чувствовала свой долг.
Рута во время казни разбойников решила прогуляться над рекой, она не любила того, что называли театром смерти, не любила также больших людских сборищ, от которых у нее кружилась голова. Вместо этого она чувствовала огромное волнение, которое заставляло лихорадочно биться ее сердце и покрываться румянцем щеки. Рыцарь, о котором она мечтала, появился, она его увидела и сразу догадалась, что это он. Она узнала того, о ком мечтала, кем бредила, а самое главное, что он в ее мечтах выглядел именно так. Каждая мельчайшая черта его лица, глаза и губы, его походка, его движения и привычки – все это было для нее знакомым из снов, и она, не познав еще ни одного поцелуя, теперь жаждала этих губ превыше всего. Она радовалась и плакала, и разговаривала сама с собой, время от времени спохватываясь, что ее может кто-то услышать и решить, что она снова принялась за колдовские чары. Рута сорвала мак и прижала к губам. Губы Лоренцо были красными, как мак. «Ло-рен-цо… Ло-рен-цо…», – шептала Рута, представляя, как будет произносить это имя, когда окажется с ним наедине, как он возьмет ее за руку и сожмет, чтобы дать понять о своих чувствах, ведь им придется их скрывать. Они будут встречаться втайне где-то на лугах и там, в душистых травах под плеск реки, они будут разговаривать обо всем-обо всем, а однажды они больше не вернутся, а уедут куда глаза глядят, далеко-далеко, возможно, на родину Лоренцо. Туда, где никто ее не обвинит в ведьмовстве и не заставит жить с нелюбимым.
Она прихватила своего конька, но не ехала верхом, а шла по заросшей дорожке, которую проложили телеги, в колеях стояла вода, земля была влажная и пружинила. Конек топал послушно за ней. Прохлада рассекала пространство, свежесть воздуха пьянила, Рута подставила лицо ветерку, который развевал ее распущенные волосы, и жмурилась на солнце. Она вся была полна музыки, которая звучала в ее душе, серебряный перезвон листьев подыгрывал ей, а жаворонок над головой звал вперед и вперед, к горизонту, мерцающему в разреженном воздухе. Она уже давно заметила удивительную способность души отождествлять себя с окружающей природой, сливаться с ней, как сливается маленькое насекомое, чувствовать себя одновременно и лесом, и лугом, и рекой, и травой, и небом над головой, и даже тем облачком, что медленно исчезает вдали. Ей казалось, что она в такие моменты невидима, невесома, как перышко, ветер подгонял ее и вел под руки, как в танце, и если бы не Лоренцо, она бы уже не остановилась, вот так летела бы и летела стремглав в неведомое, сев на коня, оставляя позади все страхи жизни, все, что ее донимало и мешало в свободном полете хоть бы к какому-нибудь, даже крошечному, как горошинка, счастью.
Бабье лето было в разгаре. Рута села на берегу, разулась и свесила ноги в воду, вода была холодная, но холод этот не обжигал, а бодрил. Конек лег в траву, он понимал Руту без слов и любил эти прогулки. По глади воды проплывали облака, и казалось, что река серпом воды отрезала кусок неба. Маленькие рыбки подкрадывались и щекотно клевали волосинки на икрах, при каждом движении пальцев они враз разлетались во все стороны. Солнце пригревало, и на душе становилось так легко-легко, хотелось взлететь и парить над этими кленами и тополями. Рута чувствовала себя невероятно счастливой, ей казалось, что нет никаких препятствий для ее счастья теперь, когда она встретила Лоренцо, и была также убеждена в том, что и Лоренцо влюбится в нее, ведь была уверена в своей красоте и видела, как заглядываются на нее юноши. Единственное, что их отпугивало от общения с ней – то, что она живет с палачом. Но на самом деле она с ним не живет, не живет, не живет! Она обязательно расскажет об этом Лоренцо. Нет, она сначала попросит аптекаря, чтобы он передал Лоренцо ее историю, чтоб тот узнал, что она попала в руки палача случайно и силой, что у нее нет к Касперу никаких чувств. Нет и не будет. Никогда-никогда-никогда. Чтобы Лоренцо об этом знал. Это очень важно. Хотя, правда, есть еще другой выход – попросить у Вивди приворотного зелья. Или же его приготовить. Там, в «Большом Альберте» есть разные рецепты. Вот только неизвестно, какой из них верный. Если ты этого никогда не делала, то можно ошибиться и все испортить. А потом закончить, как та женщина, что на днях сожгли за то, что отравила мужа, которого на самом деле хотела вернуть, но что-то пошло не так, а она под ужасными пытками так и не выдала того, кто дал ей приворотное зелье, потому что ничего другого не хотела – только поскорей отправиться вслед за любимым. Но это на крайний случай. Это если уж не будет никакой надежды на взаимность, ведь действительно очень хочется настоящей любви, а не поддельной. Разве она ее не заслужила?
Конечно, Вивдя умела привораживать и многим помогала, но, правда, уже дважды чары старухи подействовали совсем не так, как нужно. Еще до того, как она приворожила девушку, которая потом очманела и из-за которой ее выследили, старуха согласилась приворожить гуляку. Однажды вечером к ним приехала в бричке знатная пани и рассказала, что ее муж волочится по любовницам и уже неделю как дома не ночует. Вивдя поинтересовалась, есть ли у нее при себе что-нибудь, что принадлежит ее мужу, но та ничего такого не прихватила, пришлось ехать к ней домой. Там Вивдя велела разжечь в котле огонь и выполнять все ее указания.
– Сыпь это просо в кастрюлю и держи над жаром, – сказала она хозяйке, – а в другую руку возьми веер и раздувай огонь, приговаривая: «Как это просо в кастрюле лопается, пусть так мой муж меня ищет». Чары, чары, приведите домой ее мужа. Жгу, жгу эти сухие ясеневые листья! Как эти листья сгорели, не оставив пепла, пускай так ему сердце жжет! Топлю, топлю воск на огне! Как воск тает, как та земля, что от дождя размякает, так и он пусть преет и млеет. А над целомудренной женой пусть не насмехается. Кручу, кручу веретено. Как крутится веретено, так пусть выкручивают его ласки его любовницы. Пусть покоя ему не будет, пока к жене не вернется. Пусть это его во сне мучает, и мучает наяву. Вяжу, вяжу этот платок тройным узлом! Завяжу и косу. Пускай почувствует, как мысли его вяжутся, пока не покается.
Вивдя развернула узел, который прихватила с собой, и сказала:
– В этой крынке я залепила живую летучую мышь. Поставьте ее на огонь. Как она в этой крынке со всех сторон пропечется, так пусть жжет сердце его.
Летучая мышь пищала и бросалась, потрескивая крыльями, а вонь заполнила комнату. Наконец она стихла, из крынки пошел дым. Вивдя попросила какую-нибудь вещь хозяина. Женщина дала ей платок, которым он в танце, вспотев, вытер лоб. Вивдя бросила платок в огонь, тот вспыхнул и задымился, а на дворе залаяли собаки. Молодица схватилась за сердце – раздался стук в ворота.
– Это он, он, – вскрикнула она испуганно и одновременно радостно, и хотела уже бежать, но старуха ее остановила.
– Нет, еще немного подержим его.
– Но он здесь, собаки его учуяли!
– Погоди, не спеши. Будет лучше после того, как его накажешь. Еще успеешь его встретить, а пока подождем, пусть остынет. А то ведь, несчастный, бежал, взопрел. Так ему и надо – раз не хотел делать по воле, сделает поневоле. Пока огня не гаси. Жги эти жилы и говори: «Как эти жилы сжимаются и корчатся, так пусть сжимается и корчится сердце той шлюхи, что моего мужа приворожила». Возьми эту тряпку и тащи по полу, приговаривая: «Пусть живодеры так ту изменницу волокут по улице, пусть ее грудь пробьет огненная клешня, пусть ее мерзкое мясо собакам на жир выбросят».
Из леса донеслось уханье. Вивдя посмотрела в ту сторону и забормотала:
– Сова! Ты ухаешь в лесу, но напрасно. То, что потаскуха совершила, тайной не будет. Пусть так за ней все голосом твоим ухают, пусть ее шлюхой все называют. – Затем обратилась к хозяйке: – Сплюнь трижды и приговаривай: «Как слюна эта падает на землю, пусть так ее лицо короста облепит! Пусть ее язвы обложат! Пусть на себе червей собирает, в навозе лежит с паршивыми нищими!» У меня в ухе зазвенело. Хватит этих чар. Обидчица понесет наказание. – Вивдя выглянула в окно и кивнула: – Иди теперь, приветствуй своего гостя. Знать, припекло ему, раз в одном сапоге прибежал. Но не очень домой спеши, чтобы мы успели прибрать наше чародейство.
Женщина выбежала к воротам, а Вивдя с Рутой вынесли котел через другие двери за дом и опрокинули в траву. Старуха разбила палкой крынку, а черепки разбросала. Они вернулись в комнату. Женщина была в отчаянии – ее муж сидел в кресле, положив руки на колени, и тупо смотрел перед собой. Она что-то ему говорила, но он словно не слышал. Женщина бросилась к Вивде, не сомневаясь, что это все последствия чар, главным образом потому, что Вивдя не пустила ее сразу к воротам, а продолжала колдовать. Старуха успокоила ее, как могла, и велела принести яйцо и бокал с водой. Далее уже Рута держала этот бокал над головой мужчины, а Вивдя разбила яйцо и влила его в бокал. Мужчина сразу вздрогнул и обхватил лицо руками, а яйцо стало темнеть, аж почернело. Тут только он пришел в себя и, приговаривая: «Боже, как я устал!», поплелся к постели. Через несколько дней молодица прислала им в благодарность поросенка. Но все это время Вивдя ходила сама не своя и очень переживала, чтобы мужчина совсем не обезумел.
Рута и не заметила, как из-за изукрашенных тенями и тишиной лип появился вечер и стал развешивать клочья тумана по деревьям и кустам ивняка. Остатки дня мягкими бархатными свитками сползали в реку, только круги разбегались, словно циркулем начерченные, вынырнуло что-то из тумана, забормотало, зашелестело, плюхнулось в траву, умерло, и тишина, наконец, разлилась молоком, и потонуло в ней все живое. Со стороны города бамкнули колокола. Пора было возвращаться, пока ворота не закрыли. Но конек домчал ее вовремя, как только она вошла в ворота, за ее спиной поднялись разводные мосты, заскрипели засовы, а тяжелые, окованные железом решетки опустились. В городе Рута спешилась, и когда она шла, держа в одной руке уздечку, а в другой корзину с разным зельем, ее догнал стройный высокий паныч, одетый, как королевский паж, в обтягивающую куртку и штаны.
– Вам привет от Вивди, – прошептал он довольно игривым тоном, как бы заигрывая.
Рута вздрогнула, догадавшись, кто рядом с ней.
– Вы знаете, где она?
– Живет в Винниках. Ведет тихую спокойную жизнь добропорядочной хозяйки – куры, гуси, утки. Хотя для постоянных клиентов, таких, как я, ее сердце всегда открыто.
– Я бы хотела ее проведать.
– В любое время, только дайте знать. Я приеду за вами в бричке. А хотите – в карете, запряженной шестеркой вороных.
– Нет, я поеду когда-нибудь сама и верхом.
– А-а, понимаю. Вы же теперь пани палачиха. Вивдя просила, если вам не трудно, скопировать страницы 148 и 149 из книги «Большой Альберт». Странная просьба, если я мог бы играючи надиктовать ей эти страницы. Но она говорит, что там важна каждая запятая. Ну, слышали вы такое! Каждая запятая! Я катался со смеху. Как будто в те дремучие времена, когда писали «Альберта», существовали запятые. Но и у меня к вам есть одна просьба. Мне нужна совершенно ничтожная малость. Ну, практически ничто. А именно – сердце Головача. Точнее, нужно не мне, а доктору Калькбреннеру. При условии, что сердце не будет вырвано, а бережно вырезано вместе со всеми сосудами. Вам не трудно будет попросить вашего… э-э… ну, скажем так, спасителя? Он ведь и так приторговывает частями тел своих казненных. А Калькбреннер подарит вам чудодейственный бальзам, которого у пана аптекаря уже нет, а купить его очень сложно, даже за большие деньги.
– Так это вы сделаете услугу аптекарю, а что получит Каспер?
– О-о, он получит от Калькбреннера то, что для него является самым ценным. Он получит одно имя. Имя, о котором он мечтает. Так ему и передайте: имя.
– А если он не поверит? Да и не могу я сказать, что встречалась с, прости Господи…
– И не надо. Скажете, что встретили слугу Калькбреннера.
– Так вы с доктором заодно?
– Да, у нас общее дело.
– А что я скажу, чтобы Каспер поверил?
– Скажите, что его мать звали Гедвига Кребиль. И что у той молодички, с которой он играл в жмурки в Кросно, под левой грудью родинка в виде сердца. А у него от нее память на правом плече, которое она прокусила до крови. И еще я знаю, что5 именно передал ему аптекарь перед пытками разбойников. Думаю, этого достаточно. Ага! И желательно сердце принести еще сегодня вечером, потому что завтра оно уже будет никому не нужно. Я буду ждать вас в шинке «Под Пьяным Турком». А имя отца Каспера появится выжженным на любой тарелке, на которую укажете пальцем, завтра после полудня.
Паныч поклонился и, завернув в боковую улочку, исчез. Рута обрадовалась известию о Вивде, но не представляла, как воспримет Каспер просьбу нечистого.
Сарацинка встретила хозяйку на пороге.
– Ужин, пани, готов. Подавать?
– Нет, я подожду Каспера.
Ей подумалось, что когда они сядут ужинать вместе, так будет лучше, ведь они этого раньше никогда не делали. Удивленный взгляд сарацинки тоже об этом говорил.
Каспер вернулся мрачный и измученный. Но глаза его прояснились, когда он увидел, что Рута садится с ним за стол. Под конец сарацинка подала пирог с яблоками, узвар[29] и вышла на кухню. Это была хорошая возможность для разговора. Рута пересказала все, что ей сказал нечистый, мол, Калькбреннеру нужно сердце Головача, а взамен он сообщит то имя, которое так интересует Каспера.
– Имя? – удивился палач. – Меня интересует только одно имя – имя моего отца.
– Он его и имел в виду.
– Но откуда он может знать?
– Ну, он занимается магией, читает тайные книги.
– Почему же он не обратился ко мне, а к вам?
– Он не хочет, чтобы вас увидели вместе. Он же покупает трупы. И на вас может пасть подозрение, что вы ему их поставляете.
– Ничего не понимаю. Он не так давно приехал и уже пронюхал, кто мой отец?
– Как по мне, цена, которую он просит, не такая уж и большая.
– Но я хочу быть уверен, что это будет мой отец, а не кто-нибудь другой.
Тогда Рута передала остаток разговора с нечистым, изрядно удивив Каспера, что Калькбреннер знает о нем такие вещи. Это его обезоружило.
– Сердце я должна передать еще сегодня вечером, – закончила Рута. – Слуга Калькбреннера будет ждать меня в шинке. А имя вашего отца появится выжженным на этой тарелке завтра после полудня, – тут она показала на деревянную тарелку на полке.
Каспер вытаращил глаза:
– Черная магия? Он что – такой могучий?
– Ну, я не знаю, как вам еще доказать, что человек, который может на расстоянии выжечь чье-то имя, вполне способен выяснить, кто был ваш отец.
Глава 23 Мандрагора
Из записок Лукаша Гулевича
«Вечером мы с Юлианой готовили микстуры. Айзек лег пораньше спать, чтобы успеть на рассвете купить овощи у хозяев, вместо того, чтобы переплачивать потом перекупщикам. Тут я вспомнил о бумагах, которые мне оставила Рута, и принялся их просматривать. Несколько частных писем было адресовано местным купцам, я не стал их распечатывать, но письмо из канцелярии императора Священной Римской империи Фердинанда II магистрату города Львова меня заинтересовало. Осторожно нагрев его над пламенем, я поддел ножом сургуч и распечатал. В письме сообщалось, что Калькбреннер похитил в Праге очень важные манускрипты, а кроме того, прихватил бумажку, которую ребе Леви вложил в уста своего Голема. Император потребовал немедленно арестовать Калькбреннера и отправить его в Прагу вместе с похищенными вещами. Я показал бумаги Юлиане, и она, прочитав, спросила, что я с ними собираюсь делать.
– Письма я отнесу в магистратуру, скажу, что их нашли у убитого разбойника. А с этим письмом императора… не знаю…
– Нам лучше не ссориться с Иоганном. Он нам еще пригодится. Можем его навестить.
– Вы знаете, где он живет?
– Во дворце графа Тилли на Снесении. Тилли – большой поклонник алхимиков, сам почти всегда живет в Кракове, а дворец уступил Иоганну.
В дверь постучали. Я открыл и впустил Руту с Каспером, немало удивившись их появлению. Каспер спросил, может ли говорить в присутствии Лоренцо. Я заверил его, что от «него» у меня нет секретов. И тогда он сообщил, что наступила моя очередь оказать ему услугу. Калькбреннеру нужно было сердце Головача для своего Голема, за это он обещал отблагодарить меня бальзамом. Я сначала не понял, какая во всем этом моя роль, но Каспер пояснил, что сердце нужно вырезать так, чтобы его не повредить и чтобы сохранились частички сосудов. Ему, мол, не раз приходилось вырезать сердца преступников, на которые есть значительный спрос у разных ворожей и алхимиков, но здесь речь идет о сердце, которое Калькбреннер собирается каким-то образом приживить.
Что было делать – я согласился и быстро собрал инструменты, прихватив шпагу. Юлиана вызвалась пойти с нами, и я заметил, какими восторженными глазами смотрит на нее Рута. Вероятно, она видела в ней кого-то, о ком давно мечтала, потому что Каспер не был героем ее грез, как я догадывался. В это время на улицах людей не было, везде царила тьма, из-за оборонных валов доносился лай собак, а на самых валах звучали шаги часовых. Трупы разбойников находились в погребе под пыточной, накрытые рядном. Здесь было довольно холодно, толстенные стены не пропускали тепла с улицы. Единственный стол предназначался для пыток, но вполне подходил и для наших нужд. Мы с Каспером положили труп Головача на стол, Каспер обнажил ему грудь. Она выглядела ужасно после прижигания. Я уже хотел было начать операцию, но Юлиана предложила провести ее сама. Я не имел ничего против, она засучила рукава и, решительно приставив ланцет к груди трупа, сделала вскрытие. Далее мы с Каспером взяли крюки и с обеих сторон растянули грудную клетку, а Юлиана тщательно обрезала со всех сторон сосуды так, чтобы часть их оставалась в сердце. Рута не сводила с нее глаз, внимательно наблюдая за всеми ее движениями. Бедная девушка, думал я, ее ждет большое разочарование, и в то же время я почувствовал и какие-то признаки ревности – Юлиана мне нравилась, а может, и не просто нравилась. Правда, выглядела она слишком независимой, и порой нелегко было вообще воспринимать ее как женщину, настолько удачно она вошла в роль юноши. Операцию она провела довольно быстро, и я не удержался, чтобы ее не похвалить, а Рута даже зааплодировала. Каспер тоже выразил свое восхищение, сердце оказалось теперь в его руках. Юлиана спросила, не зашить ли разбойнику грудь, но Каспер сказал, что это лишнее, потому что завтра на рассвете он вывезет разбойников за город и похоронит. Он спрятал сердце в мешочек, застегнул одежду на трупе, а мы положили останки разбойника на место. Каспер полил нам на руки воду из кувшина, и на этом наша миссия была завершена. Но Рута сказала, краснея, что сейчас она должна передать сердце разбойника слуге Калькбреннера, который будет ждать ее в шинке, так что, не могли бы мы с Лоренцо ее проводить?
Мы, конечно, согласились. Каспер хотел идти с нами, но Рута его отговорила, а он, на удивление, покорно согласился. У меня сложилось впечатление, что она его приручила, как приручают медведя, и теперь могла управлять им. Но что она могла ему пообещать? Их отношения казались мне довольно странными, ведь она не скрывала своего восхищения Лоренцо, это так выразительно бросалось в глаза, что Каспер не мог не заметить. Однако он ничем не выдавал себя, словно смирившись со своей судьбой.
В шинке горел свет и играла музыка. Несколько пар топтались на расшатанных скрипучих досках, взбивая вверх опилки, которыми был посыпан пол. Мы все трое вошли и огляделись. В нос ударил тяжкий смрад смеси пива и вина. Из-за стола, где сидела компания картежников, нам помахал рукой парень, похожий на Калькбреннера, у него тоже была черная бородка клинышком и вьющиеся черные волосы, разве что он не был слепым на один глаз. Мы подождали, может, минуты две, как он хлопнул картами по столу и воскликнул:
– Есть! Я выиграл!
Его коллеги недовольно загудели и с мрачными лицами наблюдали, как он сгребает свой выигрыш. Идя к нам, он бросил горсть мелочи на стол, чтобы они подняли себе настроение с помощью вина, а потом вышел с нами на улицу. Рута протянула ему мешочек, он заглянул внутрь, довольно хмыкнул и поблагодарил, затем окинул нас взглядом и сказал мне:
– Франц, к вашим услугам, пан доктор. Ваш ученик, – тут он поклонился Юлиане, – прелестен, если бы я был девушкой, то влюбился бы, – и засмеялся, словно давая понять, что ему известно, кем является на самом деле этот ученик. Потом еще раз поклонился, уже мне: – Ну, что же, я поспешу к своему пану доктору, потому как дело срочное.
– А где он вас ждет? – спросила Юлиана. – Мы как раз тоже собирались к нему, у нас есть то, что его заинтересует.
– О! Тем лучше. Он конечно же у графа Тилли. Пойдемте.
– Как же вы попадете к нему, если все ворота закрыты? – спросил я.
Франц рассмеялся:
– У меня есть свои небольшие секреты. Следуйте за мной и сами убедитесь.
Рута заколебалась, но я подмигнул ей, шепнув:
– Вам будет интересно.
Мы прошли к стене между башнями цеха жестянщиков и каменщиков, совершенно заросшими густым плющом. Франц просунул руку в эти заросли, что-то заскрежетало, и плющ раздался, а в стене мы увидели маленькую низкую калиточку, в которую можно было пройти лишь согнувшись. Через минуту мы уже были за валами, дальше шли между небольшими домами и лачугами, на нас лаяли собаки, но Франц знал на них управу. Это было что-то похожее на сычание. Как только он засычал – собаки умолкли, а некоторые, поджав хвосты, заскулили и убежали. Я попытался подражать его сычанию, но эффект был жалкий. Он, очевидно, вел нас напрямик, потому что мы шли через сады, и под нашими ногами хрустели опавшие яблоки. За садами и соснами появился дворец графа Тилли.
Во дворец вела дорожка, окаймленная диким камнем, что отделяло ее с одной стороны от леса, а с другой – от обрыва. В воздухе слышался странный запах как будто чего-то горелого, и не покидало ощущение, что лица касаются тоненькие ниточки паутины, слегка щекоча. Я несколько раз пробовал смахнуть их, но пальцы не почувствовали ничего. Повсюду царила тишина, но в ушах звучало что-то непонятное, что-то похожее на свист, он неожиданно выныривал откуда-то из чащи и катился то за нами, то впереди нас, исчезая в пропасти, и там визгливо отзывался. Я посмотрел туда, но ничего не увидел, там не заметно было ни одного движения.
Когда мы приблизились ко дворцу, раздался громкий собачий лай. Однако на этот раз Франц не воспользовался своим способом, видимо, почитая собак своего хозяина. На крыльце стояла стража, а собаки на привязи рвались и метались. Увидев Франца, стражи прикрикнули на собак, и те замолкли, лишь тихо ворчали и скалили клыки. Просторный гостиный зал был освещен несколькими канделябрами, но было довольно темно. Наши тени упали на стены причудливыми фигурами. Навстречу нам по лестнице спустился Калькбреннер.
– О, кого я вижу! Мартин! Лоренцо! А вы, если не ошибаюсь, Рута? Очень приятно. Это для меня большая честь, что вы посетили меня. – Он пожал мне руку, а Юлиану заключил в объятия и расцеловал в обе щеки, затем взял из рук Франца мешочек, заглянул в него и прищелкнул с удовольствием. – Ну, пойдем, пойдем ко мне наверх в мой кабинет. Когда-нибудь станете свидетелями эпохального эксперимента.
Кабинет был с высоким потолком и с большими окнами, которые были сейчас плотно зашторены, здесь освещение было значительно ярче, чем внизу. На сдвинутых вместе нескольких столах лежало чудовище серого цвета. Оно было похоже на человека, но в два раза выше и несуразная, такое впечатление, что лепили его лопатой, а тесали топором. На месте груди зияло большое отверстие, из которого торчали проволочки.
– Вот, прошу, легендарный Голем. Точная копия пражского. – Он вынул сердце, повертел его в руках и снова прищелкнул. – Фантастика! Палач оказался мастером хирургического дела! Так аккуратно, так деликатно вырезать сердце! – Тут он посмотрел на нас. – Хотя… о, пожалуй, я догадываюсь! Это вы ему помогли? Тут видна рука мастера!
Потом он опустил сердце в стеклянный сосуд с какой-то желтоватой жидкостью. Сердце опустилось сначала на дно, но тут же всплыло и остановилось посреди жидкости. Из обрезков сосудов начали сочиться тоненькие струйки крови.
– Отлично, – потер руки Калькбреннер, – оно еще оживет и забьется в этой груди. Но не сейчас, еще не сейчас. Франц, принеси нам вина и сыру, я должен угостить дорогих гостей. – Заметив, что я обратил внимание на множество различных препаратов в баночках и целую стаю жаб в аквариуме, он сказал: – Жабы – чувствительный индикатор ядов. Особенно обнаженное сердце жабы. Оно реагирует на малейшую дозу яда. А вот это видите? – Он указал еще на один пузырек, на дне которого лежал серый скомканный клочок. – Это то, что я украл из Праги. Клочок бумаги, на котором ребе Лев Иегуда Бен Бецалель вывел одно-еднственное слово «amet» – «истина». Если его вложить в уста этого болвана, – он кивнул на Голема, – он оживет и будет выполнять мою волю.
– Я слышал, что не только ребе Леви работал над созданием Голема.
– О-о, да! Ребе Элияху из Холма тоже его сотворил. Но так по правде, трудно вспомнить город в нашей стране, где не было бы раввина, который не задумался бы над созданием какого-нибудь андроида.
– Так вас поэтому разыскивают?
– М-м… не только. Но откуда вы знаете, что меня кто-то разыскивает?
Я вынул из кармана бумаги и протянул ему. Иоганн пригласил нас сесть у небольшого столика, а сам стал читать, и его лицо вскипело от гнева. Франц принес вино, бокалы, большой кусок сыру и тоже сел неподалеку. Иоганн закончил читать и выругался.
– Откуда это у вас? – Он помахал бумагами в воздухе.
– Это я их добыла, – сказала Рута. – Всадник, который их вез, напал на меня в моем доме и хотел изнасиловать. Я защищалась и ненароком убила его.
– Хо-хо! – воскликнул Иоганн. – А дальше что?
– Дальше я его обыскала, отволокла в сад и закопала. Он до сих пор там лежит. А конь его у меня.
– Прекрасная история. Франц, налей всем вина. Мы должны это обмыть. – Он поднял бокал с вином и произнес: – За здоровье юной панны Руты, победительницы рыцарей. Ибо тот, кого вы убили, был рыцарем по имени Альдорф фон Фуссенбруннер. Я знал его. Но ничего хорошего припомнить о нем не могу. Вижу, мне надо ускорить свой эксперимент, опять меня выследили.
– Да вы не очень-то скрывались, – сказал я. – О вас многие болтают.
– Таинственность всегда манила простолюдинов. Я стараюсь мало с кем общаться. А это выглядит подозрительно в глазах примитивов. Вы знаете доктора Гелиаса? Мы иногда встречаемся в небольшой компании с другими уважаемыми лицами. Разговариваем на разные темы, иногда и на медицинские. Этого мне достаточно, чтобы не чувствовать себя отшельником.
Неожиданно откуда-то выплыла панна в длинном шелковом платье зеленого цвета. В пышных рыжих волосах, ниспадающих волнами на плечи, белели вплетенные цветы кувшинки, а ее большие губы, казалось, пили, а не вдыхали воздух. Вся она излучала здоровье и силу, на щеках играл румянец, а грудь поражала своими формами. Иоганн сразу встал, обнял ее за талию, усадил возле себя и вручил бокал.
– Это Амалия, – сказал он радостно. – Как видите, у нее две руки, две ноги, две груди, два глаза, два уха и, к сожалению, только одни губы. Не считая, конечно, еще одних, тайных, скрытых, магических губ ночи. Если бы у нее было этих губ гораздо больше – рассыпанных, как ягоды, по всему телу, везде, куда коснешься, – я бы только то и делал, что целовал и целовал, и припадал бы к ним всем телом, а они – удивительные волшебные пурпурные пиявки – высасывали бы меня до остатка. Но у нее только одни губы. И ими она, кроме поцелуев, ест разное свинство – пляцки,[30] конфеты, шоколад, мармеладки, бурбуладки, пьет вино, чай, воду, пиво, соки, компоты, валерьяновые настои, молоко… А еще она этими губами говорит, болтает, мямлит, бубнит, тарахтит – о Господи, это нашествие слов, которое можно остановить только поцелуем! И когда я целую эту мельницу еды и слов, этот механический слововыдавливатель, я не могу побороть чувство, что во время поцелуя какие-то ее непроизнесенные слова проникают вместе с настойчивым языком Амалии в мои губы и уничтожают все, что я еще не успел выговорить, все мои только что рожденные слова, слова-младенцы – слабенькие, хрупкие и хилые. А их место занимают ее слова, которые берут в плен мой язык, и я часто ловлю себя на том, что говорю не своими, а чужими словами. Вполне возможно, что это происходит и сейчас. И не я вам это рассказываю, а Амалия.
Амалия расплылась в довольной улыбке. Она, казалось, уже слышала подобную тираду, и теперь спокойно попивала вино, закинув ногу на ногу и покачивая ею.
– Кто же тогда я? – продолжил Иоганн. – Я, очевидно, лишь инкубатор ее слов. Хорошо, хоть думать я могу сам. Любовь Амалии безгранична. Она своей любовью пленит настолько, что я не только говорю ее словами, но и начинаю смотреть на мир ее глазами. Смотреть на мир глазами женщины – это временами забавно. Хотя и бессмысленно. Это все равно, что смотреть на мир глазами пчелы, или белки, или сойки, или инфузории,[31] которая, казалось бы, и глаз-то не имеет. Вообще, любовь – это дикая прихоть, это кара Господня, которую мы должны нести невесть за какие грехи. Вот за что терзаюсь я? Почему я непременно должен Амалию любить? – Он положил руку ей на колено и внимательно посмотрел в ее лицо, ни на минуту не изменившее своего самодовольного выражения. – Меня это любовь высасывает, лишает сил, я так часто думаю о ней, что иногда кажется, что если я о ней забуду, то перестану существовать. Страх перед несуществованием заставляет меня любить все глубже, и можете представить, какой я идиот, раз в этом признаюсь. Я знаю, что не стоит этого делать. Нельзя женщине говорить о таких сильных чувствах, достаточно лишь иногда выдавить – если она уж очень попросит: «люблю!», и все. А я, дурак, лепечу и лепечу, покусывая ее ушко: «Боже, как я тебя люблю… Как я тебя… Как я…» И я вижу, что она принимает это совсем не как дар. Я вижу, что она заранее знает каждое слово, которое я произнесу, и у нее есть приготовленная реплика, приготовленный жест и движение губ. Все в ней отработано до мельчайших тонкостей, словно она с самого рождения только и делала, что играла одну и ту же пьесу. То есть меня.
Иоганн встал, подошел к шкафчику, достал банку, в которой находился узловатый, похожий на человеческое тело, корень. Я узнал мандрагору, которую ценят все алхимики.
– Мандрагора, или же альрауне! – изрек Иоганн. – Присмотритесь внимательно – разве она не похожа на Амалию? Это чистой воды Амалия. Это экстракт Амалии. – При этих словах корень начал корчиться и изгибаться, словно пытаясь выбраться на поверхность. Слабый, но пронзительный писк раздался из банки. Амалия закрыла уши, но хозяин на нее не обращал внимания. – Амалия – это только мелкая частичка огромного женского организма, который оплел своими хрупкими ласковыми лианами всю землю. – Он понизил голос, в то время как Амалия продолжала закрывать уши, а корень – тоненько скулить. – Женщины все знают. Им все известно. Поэтому их называют ведьмами. Но существа они внеземные, и Земля для них – лишь гигантская лаборатория, в которой уже веками продолжается научный эксперимент. Женщины родились на Луне, и Луна управляет ими. Луна владеет ими до конца. Да самого тонкого волоска женщина принадлежит ей. Это только мы – дураки-мужчины – думаем, что обладаем женщинами и можем делать с ними все, что нам заблагорассудится. Мы и не подозреваем, что существует кто-то третий. Это она – Луна. Мы даже обречены на этот проклятый треугольник: он, она и Луна. Что бы мы ни говорили женщинам, как бы мы ни клялись в любви, для них все это – только приятный шелест губ. И не более. Потому что ими владеет Луна, которую они слушаются и выполняют только ее приказы. Луна скажет: «Покорись!» – и женщина подчинится. Луна шепнет: «Отдайся!» – и женщина отдастся. Хотя еще за минуту до того защищала каждую частичку тела от ваших настойчивых рук. Луна скажет: «Брось!» – и женщина бросит. Хотя еще минуту назад говорила: «О Боже, как я тебя люблю!»
Я видел, как Юлиана давится со смеху, а Рута, пожалуй, и не слушает, потому что любуется Юлианой. Франц внимал речи хозяина с довольно ироничным выражением, видимо, и для него тут не было ничего нового. Я же не мог понять, к чему Калькбреннер клонит.
– Порой нам кажется, что мы также бросаем женщин, – он подошел ко мне ближе. – Но это только заблуждение легковерных. Мы никогда не способны покинуть женщину по собственной воле, это случается только по желанию женщины, которая навеяла нам такую решимость. Потому что таким было распоряжение Луны. Луна превратила женщин в своих слуг, они слушаются ее, совершенно не задумываясь о последствиях своих поступков. Я скажу больше. Мы наивно полагаем, что женщин оплодотворяем мы, мужчины. Но это ерунда. На самом деле Луна использует нас для своих надобностей только с одной целью: чтобы мужчины оплодотворяли женщин для рождения еще большего количества женщин. Дело в том, что на Луне живут одни женщины. Земля же – это огромный рассадник для женщин. Они здесь проездом, их здесь ничто не держит. Как каждого из вас, когда вы оказываетесь в какой-нибудь заплеванном придорожном трактире в ожидании следующей брички. Ночью женщины делают вид, будто спят. Причем они еще и пытаются рассказывать нам свои сны, хотя на самом деле это никакие не сны, а то, что с ними происходит на Луне, куда они каждую ночь улетают, оставив в постели свою оболочку. Душа их выпархивает, как птичка из клетки, и убегает обратно на свою родину. Женщина имеет удивительную способность находиться одновременно в двух местах – на Луне и в вашей постели. Женщина имеет не одну, как мы, а две души. Вспомните, как церковь долгое время дискутировала, имеет ли женщина душу вообще. Ха! А тут – сразу две! Та, что ночью улетает на Луну, – это душа, принадлежащая Луне, она значительно сильнее той, другой, которая остается в теле. Но, хотя она и очень слаба, Луна не имеет на нее влияния, не может ее контролировать, пока не вернется на рассвете первая душа и не поглотит вторую. Попробуйте понаблюдать за женщиной ночью – какой это нежный, беззащитный зверек, как он прижимается к вам, как покорно его дыхание… А голос! Голос женщины ночью – это журчание лесного ручья, стрекотание кузнечиков и дрожание фиалок. Когда вы попробуете овладеть сонной женщиной, то почувствуете что-то неизведанное, до сих пор невиданное. Почувствуете рядом с собой существо, которое полностью принадлежит вам, и все ее тело, натянутое, как тетива, слушает каждое ваше движение, отвечает на него – но так как-то странно, необычно, как бы в невесомости… Это только женщина может одновременно и спать, и заниматься с вами любовью. Но счастье это недолго. Лишь до рассвета. Как только начнет восходить Солнце, возвращается собственная душа Лунной дочери, и в постели оказывается снова дикая необузданная стихия, для которой вы – лишь глупый бумажный кораблик. Это женщины выдумали сонники, которые на самом деле являются закодированными священными книгами, где они ищут ответы на свои вопросы.
Иоганн остановился над Амалией и положил руку на ее голову. Она ничего из того, что он сейчас говорил, не воспринимала или не слышала – и уши, и глаза ее были закрыты. Писк мандрагоры делал ее бессильной.
– Женщины бережно хранят свою тайну, – Иоганн говорил это, поглаживая волосы Амалии. – Зная все и вся, женщина просто не может быть дурой. И я пойму ваше удивление, когда вы мне возразите, назвав целую кучу знакомых вам дур. Но я объясню вам это очень просто. Если какая-либо из них дура, то это – только ее роль, которую она должна сыграть для большего разнообразия. Женщины выполняют указания Луны, своего мозгового центра. Собственно, Луна – это сплошной титанический мозг. И это он дает отдельным женщинам указание быть идиотками, проходимками, стервами, проститутками, безумными шлюхами, разгильдяйками, лентяйками, скандалистками, вертихвостками…
– …и феминистками, – вмешался Франц.
– Что ты сказал? – удивился Иоганн. – Какими еще феминистками?
– А-а, это такие чудища, которые появятся лет эдак через двести, – рассмеялся Франц.
Иоганн кивнул в его сторону:
– Вы слышали? Вот такие теперь слуги пошли. Они иногда знают больше своего хозяина. Но я продолжу. Единственное возможное состояние, когда женщина выходит за пределы влияния Луны, – это состояние опьянения. Алкоголь действует на женщину настолько сильно, что полностью меняет ее сущность. Но именно потому, что тогда женщина теряет над собой контроль, а Луна не может уже ничем ей помочь, ее умственные способности атрофируются. Женщина очень быстро и легко может превратиться в пьяницу, перестав получать лунную энергию. Такая женщина уже ничего интересного вам не скажет, память ее полностью стерта. Но гораздо более интересной может быть женщина, которая тяпнет с вами. Вот тогда не считайте ворон, а попробуйте расспросить ее об отношениях с Луной. До сих пор еще ни одна пьяная женщина этого не отрицала. Которая похитрее – может хихикать, шутить, баки забивать, а некоторые таки выложат правду-матку, аж мороз по коже пойдет. А, кстати, вот что пишет Джованни Боккаччо в трактате «Ворон». – Иоганн взял в руки книгу в сафьяновой оправе и зачитал: – «Женщины изображают из себя пугливых и застенчивых существ. Посмотреть вниз с высоты не могут – закружится в голове. Купаться в море – живот заболит. Выйти в темноте на улицу – упаси бог, боятся духов, призраков, мары всякой. Мышь пробежит, ветер хлопнет ставней, камушек упадет с крыши – они уже дрожат, бледнеют… Но когда их ждет любовник, становятся они бесстрашными, как тигрицы, и крадутся по крышам среди ночи, несмотря на вооруженную стражу, даже через кладбище, упорно стремясь туда, где их хорошенько отдерут. Все женщины изменчивы и непостоянны. За один час успевают они тысячу раз захотеть и расхотеть одно и то же, за исключением любовных ласк, потому что этого им хочется всегда. Все они обычно самоуверенны и убеждены, что все им принадлежит, что они стоят высоких почестей и громкой славы, и что без них мужчины не стоят ничего. Господь святой знает, где женщина держит наготове слезы, чтобы пролить их по первому же желанию».
Он отложил книгу, опрокинул бокал и, обведя нас взглядом, сказал:
– Амалия – венец моего искусства. Вероятно, вы уже догадались, что создал я ее из мандрагоры. Я! Сам!.. Ну, не совсем сам, а вот с ним. – Он кивнул на Франца, а тот довольно улыбнулся. – Она – идеальное существо! Безотказная. Покорная. Добрая. Ничего нежнее я в своей жизни не встречал. Идеальная женщина, а ведь вы знаете, что в каждой женщине живет теща. Но не в Амалии. Она – сама по себе. И, казалось бы, независима от Луны. Но однако… однако есть определенные подозрения, что все же зависима.
– Как же это возможно? – поинтересовался я. – Ведь не Луна ее сотворила.
– Луна сотворила мандрагору, – сказала Рута, – но та, что годится для магии, вырастает только под виселицами.
– Вот! Именно! – подхватил Иоганн. – В этом вся загвоздка. Я просил Франца, чтобы он, выкапывая корень, следил, не выглядывает ли Луна из-за облаков. Однако, видно, он не уследил. От Луны трудно скрыться. Когда я работаю над своими записками, где раскрываю самую главную женскую тайну, Луна всегда заглядывает в окна. Ее взор падает на стол, устланный бумагами, она внимательно вчитывается в то, что я написал. Я смело всматриваюсь в ее бледное лицо и вижу, как меняет оно краску, наливаясь гневом. Я не могу помешать ей в чтении, ее взгляд проникает сквозь любую преграду. И страх пронизывает меня: что она сделает со мной, прочитав все до конца? А потом я слышу теплые шаги Амалии, она приближается ко мне, и мое сердце сжимается от предвкушения неизвестного. Вот она входит, и нежный ее голос обволакивает меня, словно золотая паутина: «Что ты пишешь так поздно, милый? Тебе еще не хочется спаточки?» Ее руки ложатся мне на плечи, щекочут шею, уши, она наклоняется, и я чувствую спиной прикосновение ее упругой груди. Лицо ее прижимается к моему, губы наши встречаются, но я вижу, что глаза она не закрыла, как делает это всегда при поцелуе. Глаза ее открыты и скошены в сторону стола. Она целует меня, ласкает, а глаза ее вчитываются в рукопись. И я вижу в глазах ее холодную ярость, я вижу в глазах ее конец. Тем не менее, покорно встаю из-за стола и иду за ней, за рукой, что ведет меня, иду в сумерки соседней комнаты, где мы оба падаем в глубокие снега простыней, одеял и подушек, где она сплетается со мной в одно целое. И вот я, тот, кто разгадал ее тайну, покорно лежу на волнах, качающих меня. На волнах, несущих меня к смерти.
Калькбреннер замолчал, потом убрал банку с мандрагорой, писк утих, а Амалия открыла уши, открыла глаза и снова стала попивать вино с безразличным видом, словно только проснулась от легкой дремоты, в которой мерещилось ей что-то приятное.
– Не правда ли – она чудесна? – Иоганн наклонился ко мне и шепнул: – Если пожелаете, я вас научу, как создать что-нибудь подобное и для себя. Не пожалеете. Кстати, мандрагора – это лишь средство для создания тела, а душу она вытягивает из простора. Каждый человек является кем-то, но в каждой из жизней он другой, а какой на самом деле – неизвестно. И хотя живет он многими жизнями, но это всегда один и тот же человек. И не имеет значения, каким образом он получил новое тело. – Он посмотрел внимательно мне в глаза. – Вы понимаете меня?
И тут я неожиданно почувствовал взблеск какого-то удивительного озарения, мне показалось, что на мгновение я открыл для себя что-то сокровенное и вечное, но оно так же мгновенно исчезло. Я кивнул и встал. Пора было идти. А в то же время что-то осталось недосказанным и угнетало меня. К счастью, я получил довольно большую бутылочку обещанного бальзама, которого хватит мне надолго, ведь добавлять его в лекарства достаточно лишь каплю-две. Иоганн поручил Францу провести нас обратно в город, и это было правильно, потому что самим найти ту калиточку в стене было бы непросто. Когда мы прощались, я заметил, что Рута подошла к Францу и что-то ему шепнула. Что у них могут быть за дела?»
Глава 24 Имя
Каспер не ложился спать, пока Рута не вернулась. Он стоял на пороге и смотрел в ночь. В непрозрачной тьме ночи растворяется все: тревоги и чувства, крик и одиночество, отчаяние и боль – она до краев наполнена мутью и прохладой, оседающей на дно, пока невидимые руки сквозь марлю не процедят ночь, и очищенное утро не упадет белым туманом на город. Каспер вслушивался в приглушенные звуки ночи – где-то еще чуть слышно играла музыка, прерываемая криками гуляк, далеко на лугах ржали лошади, от реки доносились возгласы с кораблей, а над головой вкрадчиво шумела липа. Конек неподалеку обнюхивал месяц в темной луже. В разреженном ночном воздухе все запахи города сгущались, становились более отчетливыми, обогащаясь еще и запахами пригородов, среди которых возобладал запах чего-то жженого. И вот наконец послышались знакомые голоса – это аптекарь со своим учеником провожали Руту. Каспер с тоской почувствовал, как теряет ее, даже не получив. Она смеется так, как никогда не смеялась в этом доме, голос ее тоже изменился, он стал звонким, более игривым, чуть ли не каждое ее слово обрамлено смехом. Она цветет только ТАМ, и увядает ЗДЕСЬ. Каспер ударил кулаком о дверной косяк. Она влюблена, но влюблена не в него, а в этого пижона, больше похожего на панночку, чем на пана. Сколько ему? Наверное, нет и двадцати. Усы еще даже не пробились. Странные вкусы бывают у женщин. Почему бы ей не влюбиться в аптекаря? Он прихрамывает… Но это не очень бросается в глаза. Такое может даже женщинам и нравиться, как нравятся шрамы на лице, особенно здесь, во Львове, – женщины просто без ума, когда видят человека с красивыми рубцами и шрамами. И аптекарь получил увечья, не упав с лестницы, а все-таки в битве. Однако она выбрала это юное создание с узкими плечами и изящными ладонями. Это не укладывалось в голове. Каспер вспомнил, как, оказавшись в другом городе, не имел никаких проблем с женщинами, они сами липли. И не обязательно в шинке, он мог задевать их и на улице, а они радостно откликались, видя перед собой высокого видного мужчину атлетического сложения. Итак, причина одна и та же, та, что висит над ним дамокловым мечом еще с детства, и преодолеть ее невозможно, пока он – тот, кем является. А если бы знать, что, уехав с ним куда-нибудь далеко, где он начнет жить другой жизнью, она его полюбит? Но он сам в это не верил, видя, как она шарахается от его рук, словно они были навеки окровавлены.
Голоса умолкли вместе со смехом. Темень всколыхнулась, и из нее показалась Рута.
– Где вы пропадали? – спросил Каспер.
– Я ходила с ними к Калькбреннеру, – сказала девушка голосом, который отличался от того, каким она только что щебетала с аптекарем и Лоренцо. – Почему вы не спите?
Она прошмыгнула мимо палача так ловко, что даже не коснулась его.
– Я же не знал, что вы еще куда-нибудь завеетесь. Думал, может, выйти навстречу.
Он проводил ее печальным взглядом. Спать не хотелось. В камине еще мигали поленья. Каспер уселся с бутылкой мальвазии и попытался думать о чем-нибудь более хорошем, но хорошего было не так много. Наконец он погрузился в приятную полудрему и не заметил, как уснул, сидя у камина.
Утром Каспера ждала свежая экзекуция. Он наскоро позавтракал творогом со сметаной, заедая черным хлебом. Рута доила козу. Сарацинка хлопотала в огородике, выпалывая сорняки. Она была молода, покорна и тиха. Каспер несколько раз уже брал ее, когда Руты не было дома. Делал это просто, без выкрутасов – клал ее грудью на стол, задирал юбки и входил в горячий нежный мякиш, а она что-то лепетала ему на незнакомом языке, что-то ласковое и похотливое, нечто такое, что не требовало толкования. В конце концов, это было куда удобнее, чем ездить куда-то к черту на рога. Он не боялся, что она выдаст его Руте, ведь могла потерять работу, на которой не слишком утруждалась. Каспер обеспечил ее одеждой и едой, давал какие-то деньги. Вряд ли у кого-нибудь другого ей было бы лучше. Иногда она к нему ласкалась, как кошка, но он предпочитал держать ее на расстоянии. Когда он прошел мимо, она выпрямилась и улыбнулась. Он кивнул ей.
Каспер вернулся домой под вечер и с трепетом вошел в дом. Сарацинка сидела в углу и дремала. На столе мерцала свеча. Каспер повернул голову к полке с тарелками. Все они стояли ребром к нему, и только одна тарелка лежала плашмя. Он подошел, протянул руку и замер. Пальцы, коснувшись тарелки, почувствовали, что она еще теплая. Он перевернул ее и увидел выжженное имя. Прочитал, и сердце его забилось в бешеном темпе. Он знал этого человека, трудно сказать, насколько был на него похож. Теперь он будет смотреть на него другими глазами. И бояться, что выдаст себя взглядом. Потому что открыться своему настоящему отцу он не мог. Только не в образе палача. А как иначе? Есть ли у него другая личина? Можно только представить, какой ужас вспыхнет в глазах почтенного пана, когда он узнает, что его сын – палач. Нет, тогда им не жить в одном городе. Каспер с удивлением осознал, что и ненависть к отцу, которая теплилась в нем ранее, значительно поугасла. Он не раз думал о нем, и часто в этих размышлениях проскакивали какие-то оправдания для молодого человека, который соблазнил его мать. Ведь он мог и не знать, что она забеременела, мог ничего не знать о том, что она избавилась от его ребенка и что ее приговорили к смертной казни, так как он покинул Сянок еще до того. Почему же она его не искала? А может, и искала, и, найдя и услышав, что он от нее отрекается, решилась на детоубийство. А как бы он сам поступил, если бы оказался на месте своего отца? Если бы он был таким паном, то, по крайней мере, обеспечил бы бедную женщину деньгами, нанял для нее служанку, отправил бы ребенка учиться. Нет, он бы не отрекся от них. Хотя и держал бы это в тайне. Он бы не допустил преступления.
Но кто, кроме дьявола, мог выжечь эту надпись? Значит, Калькбреннер дьявол? Каспер почувствовал страх. Он знал, как поступают с теми, кто общался с дьяволом. Если кто-то об этом узнает, то сожгут их обоих – и Руту, и его. Он взял тарелку и швырнул в камин. Тарелка вспыхнула, но имя не исчезало, оно выделялось особым белым пламенем и шипело. Каспер толкнул тарелку палкой, имя перескочило на палку и горело на ней. Швырнул палку в огонь и следил терпеливо, пока все не исчезло.
Глава 25 Треугольник
Из записок Лукаша Гулевича
«Зима 1647 года.
Я воспользовался советом доктора Гелиаса и с ноября стал ходить учиться фехтованию. Рамзей, испытав меня, удивился, зачем мне нужны уроки, раз я и так хорошо «шермую». Я объяснил, что мне нужно усовершенствовать свое умение, чтобы быть в состоянии отразить атаку, стоя на месте и не делая слишком много шагов или прыжков с моей искалеченной ногой. И здесь действительно была возможность приобрести такую сноровку. Юлиана решила на один из уроков прийти со мной. Рамзей мгновенно выбил у нее шпагу из рук и раскритиковал ее стойку, удивляясь, что она не постигла хотя бы азов «шермерки». Она надулась и больше не ходила.
– Я же не собираюсь участвовать в поединках. Мне достаточно, чтобы защитить себя от какого-нибудь разбойника, – сказала она.
…Рута меня ошарашила. Я никогда не думал, что когда-нибудь она выберет меня посредником в своих отношениях с Юлианой, в которой видела юношу Лоренцо. Она говорила дрожащими губами со слезами на глазах, ее переполняли чувства, которых она уже не имела ни сил, ни мужества сдерживать, но боялась разочароваться во взаимности своего избранника, боялась разорвать это сладкое заблуждение, которое согревало ее и наполняло надеждой. Рута уловила момент, когда Юлиана пошла с Айзеком за покупками, а я остался в аптеке. Девушка подошла ко мне так близко, как никогда, ее грудь возбужденно вздымалась и время от времени касалась моей груди. Она была прекрасна, и я искренне завидовал этому несуществующему Лоренцо, ведь меня так никто еще не любил и не желал. Рута рассказала, запинаясь и торопясь, глотая слова и отдельные звуки, о своих чувствах к Лоренцо, начиная с того, что все это с ней впервые, что она никогда еще никого так не любила, что она все это время, с тех пор как Лоренцо появился в ее жизни, любила его, и ей кажется, что он тоже может иметь к ней какие-то чувства. Поэтому он должен знать, должен узнать о том, кем она на самом деле является для Каспера, а я ведь знаю ее историю и могу засвидетельствовать, каким образом она попала к палачу. И если есть хоть малейшая надежда, что Лоренцо любит ее, она упадет на колени перед Каспером и будет умолять его отпустить ее, будет целовать ему ноги, а если нет, то клясть и проклинать, и призывать на помощь все темные силы, с которыми был знаком ее отец. Она не остановится ни перед чем. Такой сильной и неодолимой является ее любовь. А если надежды на взаимность Лоренцо развеются, она не знает, что дальше делать, как жить, как мечтать и зачем жить.
Я слушал, затаив дыхание, никто еще мне таких слов не говорил, я закусывал губы, чтобы не вырвалось из меня то, что могло вырваться. Что будет, когда она узнает, что ее Лоренцо на самом деле девушка? Если ее любовь зашла так далеко, что жизнь ей не мила, это может убить ее окончательно. И что будет, когда она узнает о моих чувствах к Юлиане? Холодной и неприступной, закрытой на ключ. Нет, так, как она, я Юлиану не любил. Я контролировал свои чувства, не давая им развернуться настолько, чтобы совсем потерять голову. Я просто был готов влюбиться по уши, втрескаться самозабвенно, но не сейчас, и не в фантом. Юлиана была на расстоянии вытянутой руки, но в то же время где-то за горизонтом. Я тоже ловил, как и Рута, ее прикосновения, но несколько шустрее, по крайней мере, мне так казалось. Я ничем себя не выдавал, но видел, что Юлиана предпочитает держать дистанцию, она что-то скрывает, носит в себе то, о чем я не догадываюсь. Нечто похожее у меня в жизни уже было. Удивительно, как все совпадает. Там, в Падуе, я часто ходил на прогулку с дочерью одного лавочника, мы ездили в Венецию и катались на гондолах, держась за руки, потому что в Падуе такая прогулка была бы невозможной. Как-то гондольер предложил отвезти нас на Лидо. Он отвез нас туда около полудня, а вечером должен был забрать. Остров был пустынным, песчаные дюны дымились желтыми клубами. Мы разулись и бегали по песку, а когда в один из моментов я поймал Мариэтту и, прижав к себе, хотел поцеловать, она замотала головой так яростно, словно я пытался откусить ей нос. Я заподозрил, что ей это неприятно, но не мог поверить, что такое возможно, ведь мы уже долгое время были вместе, правда, ограничиваясь лишь прикосновениями и не слишком тесными объятиями. Она побежала, я догнал ее, повалил на песок и снова попытался поцеловать, но она отбивалась от меня изо всех сил, повторяя без остановки: «Нет, нет, нет!»
– Что такое? – не выдержал я. – В чем дело?
И тогда она сказала мне такое, от чего я долго не мог прийти в себя. Она сказала:
– Ненавижу все это… поцелуи… мокрое с мокрым…
Ее лицо действительно демонстрировало отвращение. Я поднялся, все еще стоя над ней на коленях, положил ей руку на лоно, лишь на мгновение ощутив под ладонью его густой пушок, потому что она тут же смахнула мою руку, как лягушку, и спросил:
– А мокрое в мокрое тебе тоже не нравится?
– Не пробовала и не хочу.
– Почему ты до сих пор не монашка?
– Потому что отец не позволяет. Хочет, чтобы я рожала ему внуков.
Она резко выпрямилась и отряхнулась. Движения ее были нервными. На просвет я видел ее длинные ноги, налитые бедра и не верил своим глазам, что такая красота недостижима.
– И куда же ты денешься?
– Сбегу в монастырь.
Дальше мы почти не разговаривали. Зайдя на старинное кладбище, где были похоронены умершие от чумы, мы молча вчитывались в их имена, смотрели, сколько они прожили, и ждали гондолу. Больше мы с Мариэттой не виделись. Впоследствии я узнал, что она действительно сбежала в монастырь, отец пытался ее оттуда похитить, но вмешались власти, и старик смирился.
С Юлианой у меня повторялось нечто подобное, хотя я никогда даже не пытался ее поцеловать или обнять, но, возможно, это был такой же случай. И фраза «мокрое с мокрым» меня долго не отпускала. Я не мог даже представить, что кто-то может так брезгливо трактовать поцелуи или нежности. Но передо мной стояла Рута, и глаза ее блестели от слез. И я мог ее коснуться. И я взял ее за руки и сжал. Пальцы ее были теплые и непокорные, она не выдернула их, только продолжала смотреть на меня с надеждой. Я молчал, подыскивая слова, но не находил, а продолжать так дальше стоять было бессмысленно, я отпустил ее руки, и они опали вдоль тела, а через минуту поднялись к груди, и пальцы ее сплелись, словно для молитвы.
– Я боюсь вас разочаровать, – наконец сказал я. – Не все так просто. И я не могу пока всего вам объяснить.
– Но почему? Почему? – не поверила она услышанному. – Что вы знаете такое, чего мне не следует знать? Я хочу это знать. Я должна знать. Иначе никогда не успокоюсь. Это будет меня мучить.
– Да, наверное… меня тоже несколько мучает… Но вы должны немного потерпеть. Я всего и сам не знаю. Верьте мне – немного выдержки, и все прояснится.
Я отвернулся, скрывая свое волнение, потому что не находил слов, как не находил их и для себя».
Глава 26 Предчувствие войны
Из записок Лукаша Гулевича
«Март 1648 года.
Как-то в воскресенье доктор Гелиас пригласил меня с Юлианой после службы Божьей в шинок «Под Тремя Крюками» на обед. С самого моего появления во Львове в образе Мартина я вынужден был изображать пусть и не ревностного, но католика. По крайней мере, я ходил в костел еженедельно вместе с Юлианой. Рута ходила в православную церковь, но – пожалуй, из тех же соображений, что и я, – чтобы не выделяться, я заметил, что молится она по-своему. Я на это не обращал внимания и не расспрашивал ее ни о чем. Я обычно ходил в доминиканский костел Божьего Тела, но доктор предложил посетить с ним кафедральный собор, где должны были также собраться все приглашенные на обед. Вот так я увидел на службе немало достойных людей, включая войта, лавников и райцев.
Первую часть службы, когда отправляют по-латыни, я привык погружаться в свои мысли, на которые обычно не хватает времени. На этот раз мысли мои занимала Юлиана, которая в образе красавца-юноши стояла рядом со мной и шептала молитвы, сложив руки на груди. Я вполглаза следил за ней, любуясь ее красотой и осанкой. Мне очень хотелось прикоснуться к ней, но это было невозможно – ни здесь, ни дома. Мне до боли хотелось женской ласки, но не купленной и не выпрошенной, а такой, что идет от сердца – ее и моего. Ее хладнокровие меня удивляло и угнетало. Ясно, что она не могла сблизиться ни с одним из мужчин, не посвященных в ее тайну, но я был тем, кто знал, но однако она почему-то уклонялась, избегала близкого контакта, прятала глаза и не объясняла ничего.
Такое впечатление, что та пустота, которая образовалась с исчезновением Гальшки, сама собой заполнилась чем-то другим, более качественным и привлекательным, разделившись на три персоны – Юлиану, Руту и Айзека. С той лишь разницей, что с Юлианой у меня отношения были дружеские, но не близкие. Я пытался воспринимать ее как юношу, чтобы не выдать ни себя, ни ее, и когда она дома разговаривала своим естественным голосом, мне порой было непросто убедить свое сознание, что она – это тот самый человек, который час или два назад лихо брался за ланцет и не уворачивался от брызг крови. Я действительно убедился, что она очень хорошо освоила науку, и удивлялся, с какой смелостью она делала вскрытия или ампутировала ноги или руки. Я видел, что ей это нравится, она как будто чувствовала удовольствие, когда что-то резала, вспарывала, зашивала. Я наблюдал подобное у мужчин-хирургов, да и в конце концов, я сам в такие минуты входил в подобное состояние, но видеть это в женщине, в тонких женских пальцах, мне было странно. Кстати, о пальцах. Я давно заметил, что в основном у хирургов пальцы колбасками, такими не сыграешь на клавесине. У Юлианы были красивые длинные девичьи пальцы, и это было фактически единственное, что могло ее выдать. Когда я порой касался их, она не отвечала на мои прикосновения, рука ее была всегда холодна, словно неживая. Я видел, как Рута не раз тоже пыталась ее коснуться, делала это всегда как можно незаметнее, отводя взгляд и словно невзначай, но и она испытывала разочарование – рука Юлианы только на одно короткое мгновение позволяла себе попасть в плен, а затем исчезала. Это раздражало Руту, она сразу мрачнела, а как-то чуть не заплакала, потупившись и скривив губки, но сразу же взяла себя в руки, сделав вид, будто укололась булавкой. Эти игры могли продолжаться до бесконечности, а я терял терпение, я хотел как можно скорее разорвать всю эту паутину неопределенности, каким бы ни был результат, я хотел приблизить его, уже и немедленно. Хотя смелости все равно не хватало.
Иногда глаза Юлианы были словно замерзшие озера, из которых не удавалось выловить ничего, кроме следов раненой памяти, едва видимых вспышек сладкой тоски, которая, как казалось мне, объединила нас, но в чем заключался глубинный смысл этой тоски, я не мог распознать. Она была всегда на расстоянии, а вместе с тем была рядом со мной, с удовольствием общалась и часами могла разговаривать, а время от времени мы ходили на прогулку, то вдвоем, то с Рутой, и они, словно две козы, скакали на лугу. В такие моменты можно было, наблюдая за ними, все же заподозрить, что эта веселая, смеющаяся пара – на самом деле не юноша и девушка, а две девушки. Однако Рута ничего такого не замечала – она была совершенно ослеплена своей любовью и смотрела на Лоренцо очарованным взглядом. Любовь слепа настолько, что не видишь очевидного. Скажем, когда мы выбирались на прогулку, прихватив еду и напитки, Юлиана не уходила со мной в кусты, как делают все мужчины, а пряталась отдельно, а потом делала вид, что нашла какие-то особые цветы и дарила Руте, вызывая в ней еще более сильную вспышку симпатии и безудержного вожделения.
Я осознавал, что любовь – фантом, что ее нет, или же она бывает только нашим заблуждением, которое помогает нам жить, заставляет жить. Но чтобы это понять, надо сначала влюбиться и не ожидать от любви того, чего она дать не может, осознавая, что любовь ничего не изменит в твоем одиночестве, в твоем путешествии по пустыни жизни, она ничего не меняет, не меняет ничего даже в самой любви. Ибо любовь – это соломинка, за которую мы хватаемся, утопая в одиночестве, в собственном эгоизме. Даже смерть мы воспринимаем эгоистически, как Нарцисс, который сходил с ума от возможности потерять самого себя. Нужно иметь в себе что-то от Нарцисса, чтобы это понять, потому что смерть эгоистична. Античные боги были бессмертны, потому что никогда не существовали. Ни один из нас не в состоянии представить минуту, когда его не станет. Все умершие вокруг нас не умерли в нашем сознании – они просто ушли, исчезли, оставив после себя пустоту, похожую на ту, что появляется на месте портрета, который сняли со стены. Эта пустота еще долго будет угнетать нас и причинять боль, но не страх, панический страх, который возникает только ночью, когда начинаешь думать об исчезновении собственного портрета из галереи знакомых и друзей. «Я перестану существовать» – это невозможно, невозможно произнести. Лучше об этом не думать, и я пытаюсь изменить течение своих мыслей.
Очнулся я только тогда, когда началась проповедь, и святой отец с пристрастием поносил дьявола, призывая быть бдительными.
– Вы спросите, как дьявол, у которого нет материального тела, может иметь телесные сношения? На это можно ответить, что он иногда заимствует человеческий труп или формирует тело иным образом. Если женщине взбредет фантазия понести от дьявола – а это может произойти только с его согласия и по его желанию, – то дьявол предварительно превращается в женщину-суккуба и соединяется с мужем или вызывает у мужчины какое-нибудь срамное сновидение, во время которого похищает его семя и переносит его в лоно женщины, вызывая зачатие.
Иногда дьявол, в виде инкуба или суккуба, совокупляется с мужем или с женой, хоть они и не поклоняются ему и не приносят жертв, которых он обычно требует от колдунов и колдуний. Это просто страстный любовник, у которого нет иной цели, кроме владения особой, в которую он влюблен. Можно привести множество примеров женщин, которых соблазняет дьявол-инкуб. Они сначала сопротивлялись искушению, но впоследствии таки уступали его просьбе, слезам и нежностям. Выстоять против натиска такого безумного любовника бывает очень трудно. Дьявол совокупляется не только с женщинами, но и с кобылицами; он осыпает их заботами и ласками: так заплетает гриву в косички, что потом невозможно ее расплести; но если они сопротивляются, он бьет их, всячески вредит и в конце концов убивает.
– Дьявол среди нас! Дьявол везде! – вдруг возвысил голос священник, а совсем рядом кто-то тихонько прыснул от смеха, я повернул голову и увидел Франца, закрывающего кулаком рот. Калькбреннер толкнул его, и тот выпрямился, пытаясь придать своей физиономии максимум серьезности. Амалия, видимо, не слушала проповедь, пребывая, с прищуренными глазами, в каких-то заоблачных мечтах.
– Поведаю я вам, братья мои и сестры, историю белоголовой Пелагии, – говорил священник. – Не так давно жила в нашем городе высоконравственная замужняя женщина, о которой все, кто ее знал, говорили только хорошее. Как-то женщина заказала у пекаря хлеб. Пекарь принес ей готовый хлеб и, кроме того, еще большой корж странной формы. Женщина очень удивилась, потому что не заказывала корж, и отказалась его принимать.
«Но вы мне уже заплатили за него, – ответил пекарь, – наверное, вы просто забыли об этом корже».
Пожав плечами, женщина взяла корж и вместе с мужем, маленькой дочкой и служанкой съела его. А ночью вдруг проснулась от шепота, похожего на тихий нежный свист: «Как тебе понравился корж?» Испуганная женщина принялась креститься, обращаясь к Иисусу и Деве Марии. «Не бойся ничего, – шептал голос, – я не хочу тебе зла, я готов на все, чтобы тебе понравиться; я пленен твоей красотой, и мое самое большое желание – насладиться твоими объятиями».
Тут же она почувствовала, что кто-то поцеловал ее в щеку, но так легко и нежно, словно ее коснулся лебяжий пух. Она пыталась защищаться, беспрерывно повторяя святые имена и крестясь. Муки продолжались около получаса, а затем соблазнитель исчез. Утром женщина пошла к своему духовнику, который поддержал ее в вере и убедил продолжать мужественное сопротивление, посоветовав запастись святыми реликвиями.
В последующие ночи повторились такие же искушения с поцелуями, перед которыми она твердо выстояла. Утомленная этими тяжелыми и длительными испытаниями, она решилась обратиться к священникам, которые умеют изгонять нечистую силу, чтобы убедиться, не одержима ли она бесом. Священники освятили дом, комнату, кровать и приказали инкубу прекратить свои притязания. Но все напрасно! Соблазн продолжался: хитрец валял дурака, что умирает от любви, плакал, вздыхал, чтобы смягчить женщину, которая по милости Божией оставалась непобежденной. Тогда инкуб изменил тактику: он стал являться красавице в образе юноши удивительной красоты с золотистыми кудрями, в одежде богатого венецианца.
Он продолжал ее преследовать даже на людях и, как поступают влюбленные, плакал, посылал воздушные поцелуи, словом, делал все, чтобы добиться ее расположения. Она одна видела и слышала его, для других он оставался невидимым. Но честная женщина ни за что не уступала, и разъяренный инкуб похитил у нее серебряный крест со святыми мощами, который она всегда носила при себе. Затем стал жестоко избивать ее – на ее лице, руках и теле появлялись синяки, которые через день-другой внезапно исчезали, тогда как природные синяки исчезают постепенно. Бывало, он переворачивал вверх дном все хозяйство, бил горшки и прочую утварь, и мгновенно восстанавливал все в первоначальном виде.
Как-то ее муж пригласил своих друзей в гости. И когда гости мыли руки, вдруг исчез стол, миски, тарелки, блюда, все кувшины, бутылки и рюмки. Гости не могли надивиться! Но пока они обшаривали все закоулки, ища, куда оно исчезло, вдруг раздался страшный грохот в гостиной, и все увидели стол, заставленный роскошной посудой с блюдами, которых раньше здесь не было. Под стеной стоял большой буфет с хрустальными, серебряными и золотыми графинами и кружками, которые были наполнены мадьярскими, рейнскими и кипрскими винами. На кухне в мисках и блюдах лежали яства, никогда ранее не виданные. Гости сомневались, попробовать ли эти блюда, однако, ободренные более смелыми, сели за стол и принялись за обед, который оказался просто восхитительным. Но как только они закончили обедать, и настало время товарищеской беседы с вином, как все сразу исчезло, и появился старый стол с теми блюдами, которые были наготовлены хозяевами. Но гости были так сыты, что никто не захотел ужинать.
Итак, братья и сестры, это доказывает, что дьявольское наваждение не всегда бывает заблуждением и случаются настоящие дьявольские дары. Эти напасти инкуба продолжались несколько месяцев, пока женщина не обратилась с молитвой к святой Параскеве и даже дала обет целый год носить рясу монахини, надеясь, что сможет под покровительством святой освободиться от этого бедствия. Именно так и произошло. Три дня и три ночи провела Пелагия в храме Святой Параскевы Пятницы, надев на себя монашескую рясу. Молилась и била поклоны, не беря в рот ничего, кроме воды. А в это время над церковью раз за разом трещали громы и били молнии, но на четвертый день Пелагию встретил погожий день. Она, как и обещала, проходила весь год в рясе, и тот нечистый прелестник таки отступил от нее.
Поэтому говорю вам, братья и сестры, будьте внимательны, ибо подстерегает нас огромное количество, целая армия демонов, и много демонов поселилось в людях. Недаром Христос на вопрос: «Как имя твое?» – слышит в ответ: «Легион, ибо нас множество». Дьявол не спит. Он, как говорит апостол Павел, «аки лев рыкающий, ходит вокруг и хочет нас сожрать».
И снова легкое фырканье Франца и пинок Калькбреннера. Амалия тем временем стояла недвижимая, словно статуя Мелюзины на Рынке. Ни один признак эмоций не вырисовывался на ее красивом личике. Туго зашнурованный корсет стягивал ее талию, делая более выпуклыми идеально круглые ягодицы, на которые не один богобоязненный прихожанин бросал взгляд искоса. Да, турки не дураки, раз решили, что женщины должны молиться сзади, потому что во время поклонов ничего святого в голову не полезет. Как, к примеру, мне.
В винарне кроме доктора Гелиаса, Бартоломея Зиморовича, нас с Юлианой, Калькбреннера с Амалией и Францем, которого Иоганн представил как рыцаря Франца фон Фуссенбруннера (где я уже слышал эту фамилию – а-а, да ведь это тот насильник, которого прибила Рута, только имя у него было другое), были еще доктор философии и медицины, раец Мартин Грозваер, доктор свободных искусств и философии, раец Микола Зихиниус, пан Станислав Гайдер, владелец винарни, доктор Леон Урбани – все с женами, лавничий судья Томаш Зилькевич, вдовец, и Юрий Немирич,[32] дипломат.
Со всеми я был знаком, кроме последнего.
– Вы не знакомы с Юрием Немиричем? – засуетился доктор Гелиас. – Это автор знаменитого трактата «Discursus de bello Moccovito», в котором он основательно описал, как разбить мосхов.
– О, – обрадовался я, – конечно, слышал. Когда я учился в Падуе, этот трактат старательно изучали. Венецианцы пытались обратить внимание турок на Московию, чтобы они оставили в покое Европу. И с этой целью отправили ваш труд в Константинополь. Во времена султана Мурада дела шли вроде как хорошо, но когда его сменил сумасшедший Ибрагим, все пошло прахом. Жаль, что этот план так и не был осуществлен.
– Ничего, – сказал Немирич. – Мы его еще осуществим. Беда только, что многие в Речи Посполитой не понимают, какая угроза подстерегает с Востока. И вместо того, чтобы превратить Речь Посполитую двух народов в Речь Посполитую трех народов, вы ведете себя как варвары. Запрещаете русинам открыто проводить свои религиозные обряды. Не далее как вчера я был свидетелем прямо-таки возмутительной сцены. Православный священник со свечами и звонком, как это принято, шел причастить человека, лежащего на смертном одре. И что же? Городские райцы оштрафовали ставропигийское братство на тридцать золотых. А бывало, что за такое и в тюрьму сажали!
– Католицизм стоит на страже порядка, порядка морального и государственного, – провозгласил важным тоном Грозваер.
– Это только слова, – сказал Немирич. – Добавьте сюда еще «интересы государства», «историческую справедливость», а все это сводится к тому, что святые отцы призывают с амвонов к священной войне с неверными. Но как же мало католиков находится в поисках справедливости! С помощью странных софизмов вы ухитряетесь совместить понятия нации и религии. А потом проклинаете народ, среди которого живете, как и народ, чьим духом обозначены псалмы Давида. Для того ли мы существуем, чтобы сеять ненависть и насилие?
– Ну-ну, пан Немирич, – покачал головой Зиморович, – если здесь каждый, кому вздумается, будет публично демонстрировать свои обряды, во что превратится город? У нас ведь здесь и мусульмане есть. Может, нам еще и мечеть им построить?
– Не преувеличивайте. Мусульман здесь как кот наплакал. А русинов – целое море. Но вы их за людей не считаете. Наши магнаты привезли из Польши в Украину арендаторов, ввели налоги и раздали им ключи от церквей в селах. Поэтому каждый посполитый, чтобы окрестить ребенка, жениться или похоронить кого-нибудь, должен платить по шесть венгерских монет. Арендаторы издеваются над людьми, без оплаты церковь не открывают. Неудивительно, что ненависть к ним такая неуемная, и все теперь держится на волоске. А поскольку этими арендаторами являются исключительно евреи, то вот вам готовая бомба, заложенная вами же между двумя народами, которые до сих пор жили в мире. Но это вы их столкнули лбами. Вы и никто больше, забывая, что право сильнейшего – наисильнейшее бесправие.
– Так-то оно так, да немного не так, – сказал Зиморович. – Потому что эти церкви наши же магнаты и построили для схизматиков. Построили за свой счет. И на свои средства переселяли людей на новые земли. Вот они и хотят теперь понемногу эти деньги вернуть. И в целом мире люди платят налог на то, что их войско охраняет. А наши магнаты – и вам об этом хорошо известно – не раз защищали простонародье от татарвы. А то, что отдали церкви евреям в аренду, так это понятно: у них это получается лучше, а магнат не имеет возможности все села объезжать и поборы собирать.
– Почему бы не доверить это сельским старостам? Или вы считаете, что русины – все до одного злодеи? Я, кстати, и сам русин.
– Ничего удивительно, каждый из наших самых больших магнатов говорит о себе, что он «gente Rutenum nacionae Poloniae», – буркнул Мартин Грозваер. – Но вы хотите схизматиков приравнять к нам. Этого никогда не будет. Пусть сначала бросят свою поганую веру.
– Упрямство – оружие слабого. А вся ваша вера сводится лишь к тому, чтобы посетить раз в неделю церковь и во время проповеди бросать взгляд на женские фигуры, – засмеялся Немирич.
Грозваер сразу надулся:
– Что это вы такое выдумываете? Я в церкви думаю только о спасении моей души.
– Ну-ну, пан Грозваер, – вмешался Калькбреннер, – не изображайте уж такого богомольного. Фигура моей Амалии хочешь не хочешь, а все же привлекала ваше внимание. А поскольку для меня это честь, я хочу выпить за наших прекрасных женщин.
Бокалы и кружки поднялись в воздух, и как раз вовремя, потому что подали двух печеных поросят, начиненных гречкой и таких румяных, что у всех сразу внимание переключилось на еду.
Мне было обидно, что я не мог принять участие в дискуссии на стороне Немирича, но такова была моя участь – не быть собой. В такие моменты мне казалось, что я совершил ошибку, согласившись на предложение Мартина и не поехав к черкасскому полковнику. Вот там бы я был в своей тарелке и, может, вместе с Немиричем попытался бы воплотить его планы, потому что его трактат был очень подробным, и, с точки зрения искусства ведения войны с московитами, совершенным.
– Вы еще не понимаете, – продолжил Немирич – не понимаете, что нет врага более подлого, жестокого и лживого, чем мосх. Даже от турок и татар можно получить согласие сладить и договориться с ними о чем-то. Но не с мосхом. Коварство у них размыто в крови. И пока мы будем вязнуть в распрях, они воспользуются этим, чтобы нас расколоть окончательно, а затем по очереди захватить.
– Речь Посполитая не так слаба, – сказал Зихиниус, – ведь мы уже ставили Москву на колени.
– Ставили в союзе с казаками, – ответил Немирич. – Но не добили. За это время она снова окрепла. В своем трактате я, собственно, написал о том, что не стоит ждать их экспансии, а напасть надо первыми. Их сила – преимущественно в людях, а не в воинах, в количестве, а не в качестве. Редко какой народ поддается так сильно панике, как мосхи. Вспомните битву под Оршей, когда в 1514 году князь Константин Острожский разгромил их войско. Тогда мосхов охватила такая паника, что их больше погибло в болотах, чем от пуль и сабель.
– Ну, не хватает нам еще и самим начинать войну, – покачал головой Зиморович.
– Война начнется, так или иначе. Но инициатива будет тогда не в наших руках.
– Мосхи пока избегают войны, – сказал Зихиниус. – Зачем их трогать?
– Бойся не тех, кто воюет, а тех, кто избегает этого, – стоял на своем Немирич. Видимо, он окончательно убедился, что у него здесь нет единомышленников.
– Ой, не напоминайте мне о Московии, – покачал головой Урбани, – я был в том походе с нашим королем. Более убогого края еще не видел. Люди живут в хлевах. Им не страшна никакая война, потому что их бревенчатые дома, которые они себе построили, можно восстановить в любом месте заново. Им нечего терять. Скота у них очень мало, ни садов, ни огородов нет. Есть только общие поля. Если на мосхов напасть, они будут отступать, оставляя после себя выжженные поля и деревни. А на такие большие территории нам придется идти с обозом, который будет в десять раз больше армии. Иначе начнется голод. Ведь и тогда мы не гнушались кониной, воронами, лягушками и корнями рогоза. Я был молодым, поэтому со всей этой бедой справился, а сколько наших умерло от того, что их так кормили!
Неожиданно вмешался Франц:
– Война – это прекрасно, – сказал он, словно смакуя каждое слово. – Война очищает. Это как дождь после длительной засухи. Война – это тайна, эпос, молодость, опьянение, безумие. Мир и война неразлучны, потому что именно в мире зарождаются ростки войны. Мир и война похожи, так как между слабостью и миром, как и между жестокостью и войной существует очень призрачная связь. Если вам кажется, что живете в мире, вы ошибаетесь. Вы живете при зарождении войны. Именно в это время, когда мы сидим за столом, она прорастает, а вскоре и зазеленеет. И мы все почувствуем ее на вкус и на ощупь.
Его слова восприняли как шутку, и разговор снова повернул на обыденные темы.
– Подумать только, – сказал доктор Гелиас, накладывая целое блюдо тушеной капусты, – еще не так давно люди угощались из одной тарелки, брали руками мясо, разложенное на одной доске, пили суп из одной миски и мочили губы в одной чаше.
– Не думаете, что это объединяло их больше, чем нас? – спросил Зиморович. – Мы пользуемся не просто отдельными приборами, но и вилки, ножи и ложки предназначены отдельно для любого общего блюда. И каждый из нас, накладывая еду, следит, чтобы этими приборами не коснуться его тарелки. Каждый из нас словно заперт в невидимой клетке.
– Но, панове, когда мы выезжаем на природу и устраиваем угощение, то ведем себя, как наши предки, – засмеялся пан Гайдер. – Хлеб ломаем руками, а отдельных приборов для каждого блюда нет. Природа нас высвобождает из невидимых клеток.
Когда все насытились и хорошенько окропили еду, у кого-то возникла идея, чтобы Немирич прочитал свои стихи, так как он был еще и поэтом. Он долго не артачился и прочитал стихотворение на хорошей латыни:
Солнце как разомлевшая ящерица, Девушки высыпают из корзин виноград, И вырастают у них неожиданные перси. Любимая моя, волосы твои – ночь без конца и без края. Послушай, может, в последний раз дано нам любить — Не отводи моих рук, Дай напиться мне из этого бокала, Полного до краев горячим медом лета. Неизвестно, что завтра ждет – смерть или неволя. Вечер огни разжег в степи, И было одно звездное небо вверху, А второе было у ног. Сколько маков расцвело в эту ночь! Сколько маков погасло! Свечами желаний горят ее руки, И источник звонкий проснуться пытается Меж уст, истерзанных заморозками. В бедрах она сохраняет ночи прекрасные, Даже спотыкается кровь на излучинах. Меч мешает – в сторону. И колчан, и лук. Другой меч выскользает из ножен, К другим бокалам прикипают уста, другое льется вино, Другая стрела натягивает лук. Дрожит тетива, и роса брызгает во все стороны. Пейте росу, упивайтесь, Целебной она бывает лишь на праздник Купала.Его выступление было награждено аплодисментами и разомлевшими улыбками дам.
– Странные дела творятся в нашем богоспасаемом городе, скажу вам, – качал головой Зиморович. – Сначала пропало двое моряков. Бесследно. Такого еще не бывало. Пусть они корсары, пусть разбойники, но чтоб вот так, средь бела дня исчезнуть? А дальше хуже – уже у нас две смерти. Сначала погибает бедная девушка, что тоже удивительно. А затем – простой мусорщик. Кому он нужен? Человек-козявка! Его вообще никто не замечал.
Воцарилась тишина. Я внимательно следил за реакцией каждого, но не заметил ничего особенного. Все изменилось, как только Зиморович вдруг, обращаясь к доктору Грозваеру, сказал:
– Я слышал, ваш сын должен был ехать на учебу в Краков, однако задержался. – При этих словах Грозваер нахмурился, предпочитая, видимо, не слышать этих слов. Но Зиморович продолжил: – Может, вам нужна помощь? Рекомендации?
– Нет-нет, – отмахнулся доктор, – он простудился на охоте. Ничего серьезного.
– А как охота – удалась?
– В этот раз были лишь зайцы.
– Что ж, раз на раз не приходится. Нечасто случаются такая замечательная охота, как та, что была летом, когда охотники привезли ах двух кабанов и четырех серн и жарили на заливных лугах, – сказал Зиморович. – Кажется, на том пиру были почти все здесь присутствующие со своими сыновьями. А вы, пан Зилькевич, вы были на той охоте?
Зилькевич заерзал и принужденно улыбнулся.
– Да что я, я лучше орудую вот этим, – он показал вилку и нож, – это моя рогатина и мое копье.
Все рассмеялись. Я снова внимательно окинул взглядом всех присутствующих. Кто-то из них или их сыновей был замешан в обоих убийствах. Такое впечатление, что Зиморович затеял этот разговор не зря, потому что и он внимательно следил за реакцией каждого. Когда вскоре все разбились на маленькие группки и окунулись в какие-то свои приватные разговоры, доктор Гелиас предложил мне отойти к окну, объяснив, что хочет посоветоваться.
– Знаете, я хочу довериться вам в том, что со мной произошло этой ночью. Это такое странное приключение, что я не могу прийти в себя. Представьте, что где-то под утро, еще только начинало светать, я почувствовал на губах чью-то ладонь в кожаной перчатке. Холодную и шероховатую. А у горла – кинжал. Я открыл глаза. Надо мной стоял неизвестный. Лица его не было видно. Я подумал, что это сон. Но услышал отчетливый шепот. Голос был хриплый. Он напомнил мне давнюю историю моей безумной юности… Я тогда соблазнил одну девушку, ну, а потом, как это часто бывает, бросил. Я не имел никаких известий от нее. А теперь из уст этого незнакомца узнал, что она родила от меня ребенка и, пытаясь скрыть грех, бросила его в реку. За это ее утопили. А ребенок выжил. И этот ребенок стоял надо мной. Это был сын. Взрослый сын. Он говорил, не выказывая никакой ярости, говорил спокойным твердым голосом. Я слушал, затаив дыхание, и не мог ничего ответить. Да и что я должен был ответить? Чем я должен был оправдать себя, если загубил чью-то жизнь? Я не хотел. Совсем не хотал… Хотя… это, наверное, не совсем так.
Он замолчал и вздохнул. Я немало удивился, что он признается в этом мне.
– Я мог бы поинтересоваться, какие у него есть доказательства, что он мой сын, но он сам назвал имя своей матери. Назвал город, где это произошло. Назвал год. Он не говорил, как он жил все это время, кто его воспитал. Ничего больше. Только бросил на прощание: «Я только хотел, чтоб ты знал: я выжил и живу с тобой в одном городе!» И исчез… И что мне теперь с этим делать? Как жить, осознавая, что мой сын где-то здесь?
– Вы бы хотели с ним встретиться еще раз?
– Даже не знаю. Прошло больше тридцати лет. Возможно, мы уже где-то пересекались… Это ужасно. Я сегодня исповедался, батюшка наложил на меня епитимью. Но от этого мне легче не станет… – Он взял бокал с вином и отпил. – Теперь я буду внимательно ловить на себе его взгляды. Это кто-то, понятное дело, не из нашего круга. Какой-то извозчик, конюх, сапожник или…
– Не похоже. Человек, который осмелился прокрасться ночью в вашу комнату и приставить кинжал к горлу?
– Вы правы. Его мог спасти и взять на воспитание не обязательно простолюдин. Может, это воин или моряк. И все же каким образом он узнал обо мне? Теперь меня это будет терзать. Возможно, придется уехать в Сянок. Может, там откроется тайна. Мне хочется ее знать и одновременно – нет.
– Жаль, что я не могу вам ничего посоветовать.
– Нет, мне нужен был не столько совет, сколько возможность выговориться. Дома я ведь никому ничего не могу рассказать. Но я буду благодарен, если вам когда-нибудь придет в голову, как выйти из всего этого. Он меня не предупреждал, чтобы я не искал его. Возможно, намеренно. Возможно, он как раз хочет, чтобы я его сейчас нашел, как он меня.
Как только мы с доктором Гелиасом снова вернулись к столу, меня взял под руку Калькбреннер и зашептал:
– Так что? Не надумали еще добыть панну из мандрагоры?
– Трудно понять, когда вы шутите, а когда говорите серьезно, – сказал я.
– Я всегда немилосердно серьезен. Франц говорит, что скоро начнется война. Всем нам придется плохо.
– Немирич говорил то же самое.
– Немирич предугадывает, а Франц знает. Есть у него такой дар.
– Значит, Голема вы создаете для войны?
– Для самоутверждения. Такое сладкое чувство – осознавать себя демиургом! Создавать новые существа, а в каждом таком существе строить свой, только ему присущий мир. Попробуйте – это довольно заразительно. Дальше уже трудно остановиться. Хочется раскрывать какие-то великие тайны. Например тайну смерти. Что было с нами до нашего рождения? А что будет после? Вас это никогда не интересовало?
– Почему же нет? Интересовало. Но я знаю одно: нам не дано это узнать.
– Ошибаетесь. Я уже на пороге познания. А вы никогда не задумывались, что будет, если когда-нибудь изобретут эликсир бессмертия? Такое изобретение станет фатальным доказательством того, что ранее умершие никогда уже не воскреснут. Бедняги навеки мертвы! Нет-нет, это будет несправедливо, – он засмеялся, приобнял меня и предложил выпить. К нам присоединились Юлиана, Амалия и Франц. Мы отошли в глубь зала и умостились за пустым столом. Франц принес кувшин с вином.
– В воздухе уже летает запах пороха, смерти, трупов и крови, – проговорил Иоганн неожиданно печальным голосом. – Предчувствие войны всегда пьяняще и завораживающе, но только вначале. Затем, когда война наступает на самом деле, а ты не принимаешь в ней непосредственного участия, воцаряется тоска, постоянная дрожь, тревога. Это давит на сознание, отвлекает, не дает сосредоточиться, и тогда ты не выдерживаешь и идешь на войну. И, уже уходя, чувствуешь себя так, словно рождаешься заново для какой-то новой жизни. Тебе начинает казаться, что с твоим приходом все изменится, произойдет какой-то сумасшедший перелом. Но это только такой обман. Ведь на самом деле ничего не меняется, не переламывается. Дни сражений медленно превращаются в рутину. Так же, как и какой-либо брак. Хочется изменений, побед, атак. А взамен наступают дни, полные ожиданий, перемирий, ленивых выстрелов. Когда 19 мая 1643 года французы под командованием принца Конде разбили испанские войска в битве при Рокруа, я был в армии Конде, а затем, как и Юлиана, – под Дюнкерком. И, несмотря на все, прекрасное было время.
– Я слушала тебя и… – начала было девушка своим естественным голосом, и, заметив мое удивление, пояснила: – Франц знает все. А мне хочется, наконец, побыть самой собой… Так вот, я слушала тебя, и мне подумалось, что человек, уже оказавшийся когда-то в горниле войны, никогда больше не сможет чувствовать себя уютно, когда война закончится. Потому что, пройдя войну, ты становишься кем-то, кто познал истину, и ты даже готов ее проповедовать. Но некому слушать. Пробыв сколько-то времени в грязи и крови, ты хочешь видеть мир чистым и неискаженным, честным и справедливым. Но видишь совершенно другое… И действительно, как ты говоришь, хочется изменений. Атака воспламеняет, ты чувствуешь за спиной крылья, и в момент, когда атакуешь, ощущаешь неистовый восторг. Поэтому позже, когда наступают эти скучные дни, о которых ты упомянул, душа с этим не умеет смириться. Душа бунтует и рвется в бой… Французы стояли под Дюнкерком десять лет. Не знаю, как столько времени можно выдержать. Для меня года хватило, чтобы чуть не взвыть, когда не происходило ничего. Я жила только штурмами и ночными враждебными наскоками. Потом зашивала раны, кромсала, резала, рубила…
– Дюнкерк был неприступной крепостью с глубоким рвом и высоким валом. И пока не прибыли казаки во главе с Богданом Хмельницким, дело не продвигалось, – сказал Иоганн. – Только тогда и начался самый большой праздник. Не было дня без боя. А потом казаки, разведав околицы, коварством проникли в крепость, открыли ворота, и, наконец, ворвались мы. О, какой это был восторг – бежать вперед! В правой руке – меч, в левой – пистолет. И этот крик, этот сумасшедший крик атаки – он до сих пор звучит у меня в ушах. Иногда просыпаюсь среди ночи и кричу… кричу что-то невнятное, бессмысленное… то, что кричат в бешеной стычке с врагом… когда криком своим хочешь его оглушить…
– Меня тоже никогда не покидают сны, где ревут пушки, скачут кони, раздаются крики и команды, – продолжила Юлиана. – Запах крови, гниющих ран, разорванных животов с вывалившимися кишками, вонь экскрементов – все это не забывается, все это рядом, хоть бы ты сидел в корзине роз. И поэтому подсознательно ты ожидаешь новой возможности оказаться на войне. Ибо зверь, которого она пробудила в тебе, уже никогда не успокоится, а будет постоянно мучить, рваться на волю. Потому что ты, видя, как гибнут товарищи, как их кровь и мозг брызжут тебе на лицо, не можешь успокоиться, пока не отомстишь, пока не убьешь столько, сколько тебе будет казаться достаточно. Но достаточно никогда не бывает. У вас не так, Мартин?
Я был застигнут врасплох этим вопросом, мне почему-то думалось, что она говорила это все не для меня, но я согласился с ее мнением, потому что уютность моей мирной жизни была напускной, на самом деле я никогда не лишался беспокойства, я все время находился на пороховой бочке. В то же время, хотя война и была жестокой и страшной, но понятной, в ней не было тайн и загадок. Враг был известен, намерения его – тоже. Откуда он нападет – можно было рассчитать. У войны были свои правила и законы. Между тем правила и законы мирной жизни держатся на волоске, потому что какая-нибудь чума может разрушить их, а вместо этого ввести свои правила. И правила эти будут еще жестче, потому что не дано тебе приспособиться к ним, угадать, что нужно сделать, чтобы не подхватить заразу. Война действительно очищала каждого из нас от каких-то мелочных дрязг, манерности, лжи, и даже от страха. Но она же и будила зверя. И зверь этот дремал также во мне. И дал себя знать, когда я смирился с убийством тех моряков, которые всего лишь хотели денег. Мне была безразлична их смерть. А теперь я понял, почему она была безразличной и для Юлианы. Мы носили в себе одного и того же зверя. Впрочем, как и Айзек, который тоже бывал на войне. Теперь нам с этим жить.
– Ожидание войны, – сказал я, – это то, что теплится где-то глубоко во мне, и я его чувствую, но боюсь раздуть. Боюсь, что снова испытаю то опьянение, о котором вы говорили. А вы, Франц, тоже воевали?
– О-о, где я только не воевал! – покачал головой Франц. – Но скажу вам, что ваши войны – это детские забавы против тех войн, которые придут после вас. Это будут войны миллионов и миллионов. И по сравнению со страшным зверем, который вырвется тогда на волю, зверь, сидящий в нас, – лишь маленький шкодливый котенок. Мой большой друг магистр Ульрих фон Юнгинген[33] всегда подчеркивал, что война, как и женщина, не прощает предательства. Война – в каждом из нас. Мы помолвлены с ней навсегда. Каждый воевал где-то, но теперь нас ждет общая война. Потому что всех нас объединяет тот самый шкодливый котенок. Не называйте его зверем. Он не заслужил этого. Хоть и не позволит нам пересидеть, а будет тихонько скрестись, когда пробьет час. И это время уже близко.
Он говорил как-то загадочно, словно был убежден в том, о чем говорит. Возможно, он действительно обладает даром предвидения, и нас ждут новые испытания?»
Глава 27 День Мораны
Из записок Лукаша Гулевича
«Уже целую неделю Львов похож на закипевший котел, в котором все булькает, бурлит и кружится, скоро, уже скоро 21 марта – Посевной Праздник, праздник Мораны, и народ кинулся готовиться к этому мрачному празднику, как к чему-то веселому и светлому, хотя и был далек он от светлости, поскольку Морана связана с чумой, которая собирала всегда щедрую жатву в городах и селах. И хотя во Львов чума еще не пришла, она была уже не за горами, и коса ее ловко косила, поэтому страх сковывал все мысли горожан. В небе мерещились знаки, кто-то видел Белую Даму на горизонте верхом на белом жеребце, кого-то атаковали муравьи и жуки, тревога проростала и пускала побеги, которыми оплетала все вокруг. Народ требовал развлечений, возможности выплеснуть наружу все свои страсти и забыться хотя бы на какое-то время. Праздник Мораны, когда поминали умерших, на самом деле ничем не напоминал День поминовения усопших, когда засохшие цветы, опавшие листья, дожди, пасмурные дни и длинные ночи вызывают усталость и желание уснуть, когда конец года напоминает конец жизни. И совсем иначе все это воспринимается в марте, когда природа просыпается и дает о себе знать красками, запахами и звуками. В душах людей тогда тоже просыпается весна. Поэтому весь Львов уже неделю жил этими чумными задушками, и каждый мастерил маску какого-то своего предка, умершего или от чумы, или от другой напасти, холеры или оспы, находил в сундуках или на чердаках старое его тряпье, примерял, крутился перед зеркалом и подправлял, где надо. Неважно было, насколько хорошо оно сидит и выглядит, никого это не интересовало, потому что все и так носили маски, за которыми чувствовали себя, как за забралом в своей крепости, могли и голыми выйти в город; стыд пропадал, все условности падали под ноги. Поскольку считалось, что одежда покойника имеет оздоровляющее действие, то это переодевание играло еще и такую важную функцию. Но не только одеждой и маской изображали предков: при этом еще вспоминали какие-то обычаи или особенности умершего – его язык, поведение, все желательно было воспроизвести так, чтобы, появившись на людях, можно было встретить какого-нибудь старого трухлявого деда, который радостно воскликнул бы: «Э, да чтоб меня драный козел в задницу лягнул, если это не пан Цвайгольд!»
Все усилия этого культа были направлены на то, чтобы преодолеть панический страх перед смертью от чумы, а возвращение умерших в их внешней оболочке было похоже на попытку что-то исправить в днях минувших, когда человек был еще жив, но не получил того внимания и того уважения, которых заслуживал. И со временем в живых просыпалась любовь к какому-то своему пращуру, а точнее к его духу, к чему-то эфемерному и лишенному телесной оболочки, к чему-то идеальному, лишенному недостатков, все воспоминания, которые могли бы испортить этот засахаренный образ, немедленно отправлялись в забытье. И как когда-то герои становились богами, так же и мертвые превращались в героев. Ведь известно, что мертвые правят живыми, но не своими капризами и несовершенством, а наоборот, своей добродетелью, чистыми примерами для подражания; мертвые молятся за живых, а потому их нельзя забывать, мертвые хотят жить в живых, а потому надо стараться воплотить в своей жизни то, к чему они стремились при жизни.
В такие дни духи умерших насильственной смертью возвращались, неотмщенные и встревоженные, как возвращались и похороненные без обряда, а их присутствие ощущали все. Духи были рядом, иногда доносился их шепот, иногда приходилось с ними разговаривать, спорить или оправдываться. Но под новой полученной личиной люди были уже защищены от их домоганий, они как бы сами становились духами и вели себя так, как никто из них в другие дни так себя не вел.
А поскольку душа не имеет формы, которая могла бы быть связана с какой-то материей, и о ней нельзя судить по очертаниям тела или по чертам лица, то эстетическая сторона всего этого маскарада не отличалась особой изысканностью. Будучи убеждены, что и несуразное тело может прятать в себе прекрасную душу, определенная категория горожан превращала этот праздник в пародию, натягивая на себя что под руку попало, в том числе иногда и уродливые маски, изготовленные наспех и так разрисованные яркими красками, что если бы бедный предок встал из гроба и увидел, каким его видят потомки, то сошел бы с ума на месте. Среди таких масок преобладали звериные и птичьи головы, украшенные пучками разрисованной шерсти или клочьями перьев, или морды каких-то страшилищ с окровавленными клыками.
А еще было другое, не менее увлекательное занятие – возведение высоченного, страшного чудовища, в создании которого участвовал чуть ли не весь город, потому что все приносили для него кучу всяческого хлама – старую посуду, доски, тряпки, ветки, веревки, все, что могло пригодиться, чтобы страшилище, которое должно было изображать Чуму, выросло до впечатляющих размеров да еще и могло передвигаться на колесах, потому как строили его у Краковских ворот, а везти должны были на Рынок. Постепенно это чудище действительно выростало, приобретая все более и более странный вид, и походило на старую потрепанную цыганку с черным лицом, на котором выделялись большие красные губы с оскаленными клыками и круглые выпученные глаза. После того, как чудище построят, оно должно было постоять два дня на Рынке, а на третий, а именно 21 марта, его сжигали. Чудовище было общим созданием, принадлежало всем и никому, каждый мог приблизиться и вставить свои пять крейцеров, но всегда находился кто-то, кто следил за порядком и мог что-то поправить, изменить или перевесить в другое место. И этим кем-то вот уже несколько лет был палач, потому что, в конце концов, он же и должен был казнить чудище, следовательно, имел на то свое твердое палаческое право. Каспер по несколько раз в день ходил к пугалу и следил, но никогда не вмешивался, если там был тот, чей вклад во всенародное произведение был ему не по вкусу, – ждал, пока он уйдет, и только тогда что-то поправлял и, удовлетворенно осмотрев результаты своего вмешательства, уходил. Не у всех было такое утонченное чувство красоты, как у него.
И когда приходил тот самый главный день, когда весь город надевал маски, бешеный эротизм вырывался из замаскированных, потому что невозможно было отличить престарелую пани в парике и узкой шнуровке, которая туго стягивала стан, подпирая исключительно грудь, от панны, и в тесных улочках раздавались писк, смех, хлопанье и причмокивания, пары уединялись и предавались неистовому безумству, забиваясь в уютные уголки, прячась в брамах, даже залезая на крыши. Запах страстей бил в ноздри, возбуждал и призывал к борьбе к поискам тела, к которому можно прилипнуть, взять от него все, что хочется, и все отдать взамен. Всюду звучала музыка, кто-то танцевал или пел, кто-то что-то выкрикивал, горели огни, на которых жарили мясо и колбасы, грохотали бочки с вином и пивом, на кораблях стреляли из пушек и запускали фейерверки.
У меня не было никакого намерения идти на Рынок. Айзек с Рутой и Юлианой приготовили какие-то причудливые маски, изображавшие невесть кого, потому что ни один их предок не умер во Львове от чумы, и убеждали меня идти с ними. Я пошутил, что предпочитаю побыть в одиночестве и поразмыслить о смысле жизни.
– Знаете, пан, – затараторил Айзек, примеряя свою маску, – жизнь состоит из вопросов и ответов, из вопросов и ответов, и в каждом вопросе, который рождается в человеке, уже сидит зародыш ответа, а в каждом ответе сидит зародыш нового вопроса. И так по кругу, по кругу. Но конец наступает, когда звучит ответ, в котором нет этого зародыша нового вопроса. Такая, знаете, голая мысль, простая, как подошва. Вот тогда – безусловный знак, что наступает конец. Но вы не переживайте, у вас еще все впереди.
– Спасибо, ты меня успокоил, – буркнул я.
– Да. Я же вижу, что вас что-то мучает. И вы не идете с нами, потому что хотите побыть наедине со своими мыслями и наконец сосредоточиться, найти ответ на вопрос, в котором вы еще не открыли зародыш ответа. Но никогда не надо искать исчерпывающего ответа на любой вопрос. Надо смотреть шире. Вот почему, думаете, наши еврейские книги написаны только согласными? А потому, чтобы каждый мог сам подставить те тайные гласные, которые лишь ему одному открывают скрытый смысл каждого слова. Потому что слово – не гвоздь, а ртуть. Оно живет и движется. Прикоснитесь к шарику ртути – и он сразу распадется на множество мелких, и так без конца. Возьмите слово на язык, покатайте его, посмакуйте, попробуйте на зуб, и оно вам тоже откроет множество скрытых смыслов.
– Наш Айзек – философ, – засмеялась Юлиана. – Недавно я подсмотрела, как он читал «Каббалу».
Я глянул удивленно.
– С каких это пор ты читаешь мои книги?
– Ну, пан доктор, читаю я их давно. Мне ведь хочется подняться до вашего уровня. Потому что нам, докторам, нужно постоянно совершенствовать свои знания. Это для того, чтобы ни один вопрос не оставался без ответа, а ни один ответ – без зародыша нового вопроса. Иначе жизнь остановится. А сейчас нас зовет чума и еще один ответ на еще один вопрос. Как и вас.
Я проводил их взглядом, не поняв ни одного из его намеков. Затем подбросил поленья в камин и сел с книгой анонимного автора «Description de sabbat» о специфике ведьминских шабашей. Ее мне дал Зиморович и очень хвалил, советуя прочитать, потому что замечена была необычная активность нечистой силы, особенно ведьм, гулянки которых начались на Лысой Горе. Весь город видел, как горели там огни, и красные зарницы выстреливали в небо. Но когда бургграф с цепаками попытались устроить облаву, то застали там только сгоревшие головешки.
– Все это не просто так, – говорил Зиморович, – что-то затевается. Казаки зашевелились, да еще и с татарами вдруг начали искать дружбы. Слух прошел, будто нового гетмана объявили. Я этого Богдана Хмельницкого хорошо знал. Он где-то года на два меня старше, а учился здесь, у нас, в иезуитском коллегиуме. Был студентом, как и мы все. Не раз загуливали в винарнях и пивоварнях. Никогда за ним никаких гетманских или, сохрани Бог, схизматских амбиций не замечал. Но, видно, это сидит в человеке. Имею в виду эту его врожденную сущность. Рано или поздно кровь заговорит, не может не заговорить.
– Земля тоже говорит, – ответил я.
– Намекаете, что эта земля принадлежит им? – загнал он меня в угол.
Однако я выскользнул из его ловушки:
– Земля сама выбирает, к кому обращаться. Думаете, если бы вы оказались на родине своих предков-армян, к вам бы тамошняя земля не обратилась?
Он пожал плечами.
– Не знаю. У меня нет какого-то определенного самосознания. Чувствую себя, прежде всего, львовянином, как и мой бедный брат Шимон.[34] Он был талантливым поэтом, но покинул нас слишком молодым.
– Что с ним произошло? Чума?
– Где там! Вы читали поэму Джироламо Фракасторо «Сифилис, или же Галльская болячка»?
– Конечно. Он когда-то был профессором Падуанского университета, правда, умер уже давно. Мы зачитывались этой поэмой, ведь кроме эстетической роли, она выполняла еще и роль медицинского учебника.
– К сожалению, этот учебник не спас моего брата. Он уехал лечиться в Краков, где ему впрыскивали ртуть. А последствия – сами знаете какие. Я хочу издать его стихи.
Вспомнив этот разговор, я отвлекся от книги, а когда снова взглянул на нее, то почувствовал скуку, но не успел я отложить ее, как в аптеку вошло трое гостей – Калькбреннер с Францем и Амалией.
– Не помешаем? – спросил рыцарь.
А Франц сразу кивнул на книгу:
– И охота вам эти глупости читать? Ведь это писал монах-пройдоха, который настоящей ведьмы в глаза не видел. Где он мог у ведьмы увидеть хвостик? А если между нами, то из тех несчастных, которые были сожжены, может, десятая часть была ведьмами. Остальные – все оболганные соседями бедолаги или сумасшедшие.
– О, Франц – тонкий специалист по ведьмовству, – похвалил рыцарь. – Можно сказать – самоотверженный исследователь. Ты бы, Франц, может, и сам какой-нибудь манускрипт наваял, а то пропадут все твои знания ни за что ни про что.
– Почему же ни за что ни про что? – засмеялся Франц и подмигнул Иоганну. – Чем ваша душа не бесценный подарок? Несказанно рад нашей дружбе. И зря вы подкалываете, ведь я работаю над двумя грандиозными проектами: атласом звуков и атласом родимых пятен. Ведь родимые пятна не умирают вместе с их хозяином, а, оставив тело, перебираются на другое. А значит, каждое из них имеет свою историю, историю множества жизней, к которым было причастно. И когда ты рассматриваешь родимое пятно, которое было когда-то на плечах Нефертити, а сейчас живет на плече какой-нибудь девушки легкого поведения, то чувствуешь блаженный трепет… Конечно, это работа не на год и не на два, но времени у меня предостаточно. Этот драгоценный труд обессмертит мое имя не хуже Николы Теслы, который через двести пятьдесят лет будет обязан своей славой нашему брату.
– Что ты, Франц, мелешь, – поморщился Иоганн. – Да никогда неотесанный плотник не будет знаменит. Чушь.
Я пригласил их сесть и угостил вином. Амалия отпила и медленно и чувственно облизала свои яркие губы, не сводя глаз с меня, словно хотела что-то сказать. Если это правда, что он создал ее из мандрагоры, то произведение вышло чудесным. Странно лишь, что он говорил о потоке слов, который извергает Амалия, но я почему-то этим потоком еще не насладился.
– Чего мы к вам пожаловали, – перешел наконец рыцарь к делу. – Я слышал, что вас заинтересовало убийство той девушки из борделя. И я попросил Франца, а он, если вы заметили, сообразительный парень, попросил, чтобы он разнюхал что там, походил, порасспрашивал. И вот он выведал, что пан Михал Регула узнал часы, которые ему показал невинно убиенный мусорщик. Узнал, но мусорщику не признался, потому что намеревался сам эти часы вручить их владельцу. Однако мусорщик ему часы не оставил. Но еще тем же вечером пан Михал встретил владельца и рассказал, что к нему приходил Петрунь с часами. Владелец удивился, потому что был убежден, что часы лежат у него дома сломанные. Но не отрицал, что это могут быть его часы, потому что он купил их в прошлом году в присутствии пана Михала… Вы следите за нитью моего повествования?
Я кивнул.
– И вот, в тот вечер Петруня убивают. И что делает пан Михал? Он перепуган не на шутку. Он составляет вместе два и два и получает шок. Он переживает ужасную ночь, на рассвете дрожащей рукой описывает свое приключение и, едва рассвело, мчится что есть духа в костел, ловит исповедника и вручает ему конверт, открыть который просит в случае его неожиданной смерти.
– Откуда вам об этом известно?
– Так случилось, что этим исповедником… точнее, на месте этого исповедника был кое-кто другой… если быть точным – это был близкий друг нашего дорогого Франца.
Франц довольно улыбнулся и закивал головой.
– То есть это был священник или монах?
– Ну-у, можно и так сказать, – вмешался Франц.
– Но как он мог выдать тайну исповеди?
– Франц пошутил, – сказал Иоганн. – Это не был святой отец. Там сидел, скажем так, один остроумный парень. Такие чудеса, знаете, иногда случаются. Эти ребята любят пошутить.
– Еще бы! – засмеялся Франц.
– Какие ребята?
– Бурши. Школяры. Бурсаки. Словом, когда пан Михал примчался в церковь, в исповедальне его ждал бурсак в сутане отца Климентия с капюшоном, натянутым на самый нос.
– Значит, вам известно имя владельца потерянных часов?
– Ну а как же. Это доктор Грозваер. Вот сами прочтите.
И он показал мне письмо пана Регулы. Я был потрясен. Доктор Грозваер? Не может быть.
– Но это еще ничего не доказывает, – сказал я. – Возможно, он покупал часы не для себя, а кому-то в подарок.
– Мы тоже так подумали. И Франц несколько дней провел в обществе нашей золотой молодежи, которую еще незабываемый Кампиан пытался довести до ума. Францу удалось увидеть часы с такой же надписью у Михаэля, сына доктора. Там была довольно большая компания, в которую можно было играючи влиться, имея лишние деньги. А у Франца они были. И вот, когда все уже изрядно выпили, слово за слово удалось кое-что вытянуть о той охоте, на которой была убита девушка. То есть о самой девушке никто ничего не рассказывал, но об охоте говорили с удовольствием, потому что это была выдающаяся и успешная охота. Два кабана, четыре серны – такое не забывается. К тому же они вечером устроили на лугах пир, где жарили дичь и угощались. И таким образом удалось составить список тех, кто там был.
Рыцарь вручил мне бумагу, на которой выведены были имена Михаэля Грозваера, Яна Зихиниуса, Матиаса Урбани и Стефана Гайдера. Все это были известные своими скандалами и буйным характером сыночки.
– Это неполный список, – продолжал рыцарь. – Не хватает еще одного имени, но насчет него у меня сомнения.
– Кто же это?
– Судья Зилькевич.
– Зилькевич? А что у него может быть общего с этой бандой?
– А почему же нет? Он вдовец, а по возрасту недалеко ушел. Еще молодой мужик, почему бы не развлечься.
– Почему же вы не вписали его имени?
– Потому что он рано покинул их общество и не пировал на лугах. Я и подумал, что, видимо, он не был свидетелем убийства. К тому же, он не участвовал в тех пьянках, которые происходили в присутствии Франца.
– Может, он порвал с ними именно поэтому?
– Возможно. Но вы же с ним часто видитесь, значит, можете о чем-то расспросить. – С этими словами рыцарь откинулся на спинку кресла, посмотрел удовлетворенно на Амалию и сказал: – Не правда ли – она дивная? Сами же видите, сколько мы здесь болтаем, а она ни слова. Мечта любого мужчины. Безотказная, немногословная, довольная жизнью и собой. Более самодостаточной женщины не найти. Если хотите, могу организовать и для вас такое же счастье. Мандрагора у меня еще есть. Процесс продолжается каких-то два-три месяца, в зависимости от того, в каком возрасте вы захотите ее у себя дольше продержать. Это может быть подросток, а может быть девица, которая будет принадлежать только вам. Ну, и тому, о ком я вам рассказывал в прошлый раз. От этого нам не избавиться. А тело, как сами понимаете, лишь раковина, в которой поселяется моллюск – душа. И в этом постоянном переселении душ может так случиться, что убийца впоследствии станет потомком им же убиенного.
– А вор – потомком обворованного или когда-нибудь владельцем вещей, которые именно сейчас ворует, – дополнил Франц.
– Именно так! Но мое предложение – только из дружеских побуждений. Просто в воздухе чувствуются ароматы любви, – Иоганн игриво пошмыгал носом. – Особенно здесь, в вашей аптеке. Как говорил один философ, за любовь нужно бороться. Но мне лень. Я предпочитаю готовый продукт, выращенный собственноручно в пробирке.
– А как же легендарный поток слов?
– О, это управляемое свойство. И только тогда, когда у меня возникает такая потребность. Тогда она фонтанирует словами, разбрызгивая их во все стороны. И, знаете ли, очень часто там существует рациональное зерно, которое я стараюсь тщательно зафиксировать.
– Я тоже, – отозвался Франц. – Из нее говорит глубинная мудрость веков. Иногда на каких-то мертвых языках. Но я все это записываю и расшифровываю. Довольно занимательное занятие.
– Любимая, – обратился Иоганн к Амалии, – открой ротик и высунь язычок.
Она послушно высунула язык, на котором было наклеено что-то белое, похожее на лепесток вишни. Рыцарь содрал его, и Амалия моментально заговорила:
– Апрельская яблоня растрепанного дыма растет над пыточной. Трепещут черные лепестки или перья и припадают к окнам. Крик проламывает в теплом воздухе гигантские дыры, сквозь которые проваливаются птицы. Вместе с дымом разлетаются души… Отчаянные взмахи рук – ветер терзает их без сожаления. Небо их с нежностью прижимает к сердцу и успокаивает их рыдания… Посмотрите – отрубленные головы ухают, словно перезрелые груши. Катятся удивленные лица. Глаза катятся, раскрытые настежь. А в них катится мир. И у каждого – свой, и это – самое страшное. У каждого такой крошечный мир, что места ему хватит даже в одной слезинке… Вот они идут мыть окровавленные руки в реке. Вода охотно принимает кровь. Рыбы ее пробуют и – сходят с ума… Работа завершена. Свыше трехсот голов – за один день… Они моют руки… Один всхлипывает… Другие удивленно поглядывают на него…
Белый лепесток возвращается обратно на язык, Амалия замолкает.
– Ну? Вы слышали? – спросил рыцарь. – Это очередное пророчество ничего хорошего нам не сулит. Вот такой это поток слов. Главное – вовремя его выключать.
Рыцарь встал и сделал знак Францу и Амалии.
– Так что – расскажете обо всем Зиморовичу?
– Зиморович и так их подозревал. Но ведь доказательств нет. Никто не будет из-за проститутки трогать шляхту. Поэтому… – Я развел руками. – Но спасибо. По крайней мере, буду знать, с кем имею дело. А для всего остального есть другой суд – Божий.
Франц закашлялся от смеха.
– Ой, рассмешили! Придется долго ждать. Канцелярия Господня забита исками на сто лет вперед. Лишь недавно там рассмотрели жалобу на казнь Марии Стюарт. И что? Наказывать уже некого.
– Идемте с нами, – предложил Калькбреннер. – Закрывайте аптеку. Никто все равно сегодня сюда не сунется. Зато приобщитесь к народному безумству.
– У меня нет маски.
– Не беспокойтесь. У нас есть лишняя. – Рыцарь подал мне круглую, налитую кровью рожу. – Будете очень симпатичным упырьком. Я – оборотнем, Амалия – старой ведьмой, а Франц… ну, Франц будет…
– Ах, дорогой Иоганн, – начал кривляться Франц, притворно розовея и надевая маску черта, – не поминайте всуе. Я буду просто Францем.
Я подумал, что, может, и мне пора развеяться, и положил список потенциальных убийц в ящик. Только мы вышли из аптеки, как столкнулись с Юлианой и Рутой. Выяснилось, что у Лоренцо разболелась голова, Рута «его» проводила. Юлиана действительно была бледна. Она сказала, что немного полежит, а потом присоединится к компании. Рута пошла с нами».
Глава 28 Меч возмездия 21 марта 1648 года
Сын Леона Урбани Матиас вышел из дома к вечеру, чтобы, украсив себе маской, приобщиться к почтенной публике на Рынке. Именно сейчас, когда стемнеет, наступит пора главного действа – сожжение пугала чумы. Он шел не спеша по узенькой Кривой улочке, довольно тесной, которая и пахла не слишком приятно, стараясь держаться на одинаковом расстоянии между домами, чтобы не попасть под ведро помоев. Его жена со своими болтливыми кумушками уже куда-то поплелась, полагая, что муж не узнает ее в маске. Но Матиас был тертый калач и успел подсмотреть, какую маску она приготовила и какое платье надела. Сам же, старательно выбрав наряд на праздник, в последнюю минуту надел другой, как и маску. У его маски был длинный закрученный нос, из-под которого были видны только губы. Из ворот сбоку вдруг кто-то вышел и перегородил дорогу. Матиас удивленно остановился. Перед ним вырос кто-то в черном плаще и черной шляпе и в красной маске, изображавшей сову, с большими отверстиями для глаз, обведенными черной краской. В руках у незнакомца блеснула шпага. Матиас оглянулся – улица была пуста. Он выхватил свою шпагу и крикнул:
– Ты кто? Какого черта?
– Расплата настигнет каждого рано или поздно, – прошептал нападающий. – Этот день для тебя настал.
– За что?
– За ту, кого вы убили в лесу.
– За ту шлюху? Не смеши!
Шпаги сверкнули в воздухе, Матиас удачно отражал атаку за атакой, одновременно осознавая, что нападающий очень умело владеет оружием, а потому сам не нападал, только отбивался, затягивая время в надежде, что, в конце концов, на улице кто-то появится, но, как назло, ни одно окно не открылось на звук драки. Все пошли на Рынок. Рука Матиаса начала неметь, он терял силы. От отчаяния он бросился в атаку, и ему даже показалось, что его шпага через мгновение погрузится в грудь нападавшего, но вместо этого он сам словно напоролся на шпагу ртом. Почувствовал кислый вкус стали, лезвие пробило ему затылок и выскользнуло назад. Незнакомец вытер шпагу о шляпу убитого, спрятал ее в ножны, затем наклонился и, схватив пальцами кончик языка Матиаса, отрезал его кинжалом, спрятал в кошелек и снова исчез в браме.
…В жилище доктора Грозваера было тихо. Хозяева вместе со слугами уже толклись на празднике. Остался только старший сын, Михаэль. Его целый месяц донимал коклюш, хоть сильной лихорадки и не было. Когда он лежал в постели, ему становилось легче, но как только выходил на улицу, сразу начинало мучить удушье. На коленях у него лежала тарелка с изюмом и сушеной клюквой, он задумчиво клал ягоду за ягодой в рот и медленно жевал. Вдруг, несмотря на шум, доносившийся со двора, его уши уловили чьи-то шаги. Кто-то вернулся. Видимо, кто-то из слуг. Он крикнул, но ответа не получил. Между тем шаги раздавались все громче. Кто-то зашуршал бумагами, выдвинул и задвинул обратно несколько ящиков. Михаэль поднялся на локте, поставил тарелку на пол и снова крикнул. Но никто не отозвался. В комнате царили сумерки. Михаэль спустил ноги с кровати, взял светильник и встал. В тот же миг дверь резко отворилась, от внезапного сквозняка свечи погасли, а в дверях выросла черная фигура в маске совы.
– Кто ты?! – вскрикнул испуганный Михаэль.
– Ты был там?
– Где? Кто ты?
– В лесу. Там, где вы убили несчастную девушку.
Черная фигура медленно приближалась, а в руках ее виднелась шпага. Михаэль засуетился, он почувствовал, как его заливает пот. Рядом не было никакого оружия. Куда-то девалось огниво, и он не мог зажечь свечи. Шпага уперлась ему в грудь.
– Это не я, не я, – тараторил он испуганно.
– Но ты был там!
– Был, но я…
Шпага опустилась к его животу и перерезала пояс, штаны спали. Длинная белая рубашка доходила до середины бедер. Шпага приподняла край рубашки. Михаэль, наконец, понял, в чем дело. Он схватил в руку свое достоинство и показал:
– Вы же видите – это не я.
– Кто?
Он, бледнея, назвал имя. Шпага поднялась выше.
– Ты был там и тоже издевался над ней.
– Нет-нет, я не…
– Почему ты ее не спасал?
– Я… я…
Михаэль резко отскочил в сторону, пнул табурет под ноги незнакомца, сорвал со стены саблю и замахал ею беспорядочно, словно давая понять, что так просто он не сдастся. Однако путь к двери был все еще отрезан. Михаэль схватил в левую руку светильник и швырнул в нападавшего, а сам попытался преодолеть те несколько шагов, которое отделяли его от двери, но нога его попала в тарелку с изюмом, он поскользнулся и упал на спину. Шпага оказалась у Михаэля между зубами. Он попытался уклониться, но шпага была проворнее. Убийца отрезал ему кончик языка и спрятал в кошелек.
…Вечер заполонил улицы. Ян, сын Зихиниуса, выйдя из шинка, почувствовал легкую тошноту. Пошатываясь, минул площадь Рынок, протолкавшись через толпу, и свернул на Капитульную. Слуга шел впереди с фонарем. В темноте Яну послышались глухие шаги, но откуда они доносились, он не мог понять – спереди или сзади? По крайней мере, это не были шаги слуги. Он оглянулся, но увидел лишь тени деревьев, раскачивавшихся на ветру. Двинулся дальше, однако снова остановился, услышав, как что-то звякнуло.
– Илько! Это ты?
– Я, я, пан, – отозвался слуга и помахал фонарем.
Но через мгновение раздался звук удара, что-то упало и зазвенело еще громче.
– Илько! Где куда ты подевался?
Ответа не было. Ян рывком выдернул карабелу из ножен и, выставив ее вперед, двинулся дальше, но на каждом шагу тьма сгущалась, и он на всякий случай даже несколько раз стегнул саблей воздух. Затем припал спиной к стене и водил саблей в разные стороны, словно рисуя магический меловой круг. Вот перед ним мелькнула тень.
– Кто ты? – вскрикнул он. – Почему прячешься? А ну, подходи!
Он ждал нападения, раздумывая, что случилось с Ильком. Вероятно, его ударили по голове. Воры?
– Пся кость! – ругался он. – У меня нет денег. Все только что пропил.
Но никто не ответил. В загустевшей тьме он различил на фоне что-то более темное и сделал резкий выпад. Сталь ударила о сталь, шпага резко увернулась, дернулась, и через мгновение сабля вылетела из руки Яна и упала на мостовую. И сразу же он почувствовал острую боль в правом предплечье.
– Что за черт! Кто ты?
Теперь уже он видел высокую черную фигуру в черной шляпе. Неизвестный прошептал лишь одно слово. Ян побледнел и воскликнул как ужаленный: «Меня там не было!» – но шпага пробила ему рот и вышла через затылок. Он упал и замер. Незнакомец наклонился, отсек кусок языка и, закутавшись в плащ, исчез между деревьями.
…Сын Гайдера Стефан с восторгом наблюдал за тем, как поджигают чудище. С четырех сторон к нему поднесли факелы, и оно, облитое смолой, радостно вспыхнуло, треща искрами. Народ захлопал и закричал, по рукам пошли бутылки и кружки с кружечками. Стефан, обняв какую-то кралю, показавшуюся ему привлекательной, опрокинул вместе с ней кружку вина, а затем с удовольствием ее поцеловал. Кто-то дернул его за полу плаща. Он оглянулся, но никого знакомого позади себя не увидел и снова уставился на горящее пугало. Краля прижалась к нему спиной и соблазнительно потерлась. Стефан прижал ее к себе, положив ладони на грудь, она повернула голову и провела языком по его губам. Он почувствовал приятный вкус сладкого вина и потянул ее в сторону, краля послушно шла за ним, пока он проталкивался сквозь толпу, наконец они нырнули в первую попавшуюся улицу. Там было безлюдно и темно. Стефан припал губами к незнакомке, лихорадочно путаясь в ее платье, наконец нащупал ее задницу и больно сжал. Краля пискнула и зашептала, что лучше поведет его к себе, это совсем рядом, в соседней браме. Ее муж в это время пьянствует в кабаке. Она только убедится, что дома больше никого нет. Стефан кивнул, он уже изрядно захмелел, и ему было все равно. Даже если муж их застанет, то с каким-то несчастным мещанином он справится. Он стал к стене и спустил штаны, чтобы помочиться. И когда он уже завершал процедуру, внезапно из ворот выскочил кто-то в черном и гаркнул:
– Бездельник! Моей жены захотелось?!
Лицо незнакомца прятала маска, в руках блеснула шпага. Стефан мгновенно одной рукой подтянул штаны, второй достал саблю:
– Ты – кабан! Видал я твою жену там же, где и тебя. А ну-ну, подходи ближе!
Стефан был уверен, что мещанин от одних только его слов даст деру, а если увидит саблю, то и подавно, ведь сабля тяжелее шпаги, и если удастся хорошенько по ней ударить, можно переломить. Однако нападающий оказался расторопнее, и шпага его, каждый раз избегая угрожающего удара, со свистом рассекала воздух, Стефан чувствовал ее то у одного уха, то у другого. Она, как оса, пыталась ужалить его, не задерживаясь ни на минуту дольше, чтобы он мог отразить ее. Наконец шпага задела Стефана по лбу, рассекши кожу, кровь залила ему глаза, он вдруг ослеп и теперь уже махал саблей наотмашь, пятясь. Ему еле удалось поймать момент и вытереть глаза, да только затем, чтобы увидеть, как шпага летит ему просто в лицо, потом он почувствовал страшный удар в зубы, которые сразу покрошились, а лезвие пронзило ему горло. Он захрипел и осел на землю. Убийца отрезал кусок языка и растаял в толпе.
Глава 29 Груди 22 сентября 1648 года
Весна была теплая, но львовские дома со своими каменными метровыми стенами упорно еще держали зимнюю прохладу. Юлиана на ночь укрывалась одеялом и бараньим кожухом, ей казалось, что она лежит под тяжелыми снежными заносами, но под этой тяжестью она чувствовала себя уютнее. Едва открыв глаза, она почувствовала смутную тревогу, будто что-то должно было произойти, что-то не слишком приятное и нежелательное. Она и раньше ловила себя на мысли, что предчувствия редко ее подводят. В такие минуты она предпочитала не вставать с постели, а лежать и смотреть в окно, хотя там видны были только облака и голые вишневые ветви. Разве не хватит ей того, что случилось вчера поздно вечером, когда Лукаш попытался ее разговорить, выжать из нее то, что его больше всего его интересовало, – ее отношение к нему. После того, как было сожжено чучело, аптекарь с Айзеком и Рутой спустились в винный погребок пана Прохазки. Юлиана скоро там их и застала, напрасно пытаясь отыскать на Рынке. Они выпили вина, немного поговорили и начали расходиться. Айзек поднялся в аптеку, а Лукаш с Юлианой провели Руту. И вот на обратном пути это произошло – этот разговор, которого она так боялась и о котором предпочитала не думать. Она видела, что все труднее становится выскальзывать из словесных капканов Лукаша, избегать разговоров, которые все больше ее угнетали, потому что вели в никуда, заставляли теряться в пустыне слов, выпутываться не всегда удачно. Но она, правда, была готова к этому, она знала, на что идет, и предполагала, чем все закончится; единственное, чего ей хотелось – как можно дальше отсрочить звучание последних аккордов этой музыкальной драмы. В отличие от Лукаша и Руты, она все знала наперед, и ей было грустно потому, что вынуждена была обращаться с ними так жестоко, было бы куда благороднее с самого начала открыться, но это тогда бы разрушило все ее личные планы и намерения. Вчера, когда Лукаш перешел от намеков и недомолвок к прямым вопросам, она сказала:
– Мне очень жаль, но я не смогу вам дать того, на что вы надеетесь. Прежде всего – своей любви. Я не могу принадлежать не только вам, но и любому… в этом городе…
Она с ударением произнесла «в этом городе», но Лукаш не заметил тут никакого для себя сигнала, его задели слова, которые были произнесены перед этим, и он ухватился за них, стремясь заставить развить их, объяснить. Но что она могла объяснить? Не сегодня и не здесь.
– Скоро вы поймете, что я имела в виду, – сказала Юлиана. – Каждый носит свою печать. Моя печать черная и горькая. В другое время и в другом месте, – она снова сказала это, – возможно, у нас что-нибудь бы и вышло. Но не при таких обстоятельствах.
И снова она загнала его в тупик своими рассуждениями, потому что он сразу проникся этими загадочными «обстоятельствами», о которых она упомянула. И это была последняя капля. Она знала, что ей лучше молчать, а не говорить, потому что каждый раз она открывала в своей обороне очередную брешь, в которую он во весь опор пытался прорваться. И она умолкла, покорно слушая его исповедь. Действительно ли он ее любил? Или любил в ней только свою любовь, выпестованную в воображении? Но даже если действительно любил, что с того? Так только больнее и хуже. Он остановил ее, не доходя до аптеки, положил руки ей на плечи и продолжал говорить, и слова его давили в ее сознании на какие-то давние раны, на какие-то очень чувствительные места, которые она никакими усилиями не могла закрыть. Она едва сдерживалась, чтобы не заплакать, но годы пребывания в роли мужчины сказались – она выдержала этот натиск. Правда, это стоило ей прокушенной губы. Она подумала: «Хорошо, что я успела выпить перед этим вина» – это придало ей силы и твердости. Она упорно молчала и только смотрела в его лицо, не отводя глаз, а он под ее взглядом терялся, терял нить мысли, время от времени опускал глаза и говорил куда-то в землю, и все, что он говорил, было ей и так давно понятно, и в какое-то другое время она бы с радостью это услышала и приняла, но не здесь, не здесь, не сейчас, не сейчас… Она уже была на грани того, чтобы вырваться из кружев его слов и убежать, забиться в свой уголок, но, к счастью, он, словно догадавшись, что разговаривает с холодным сфинксом, замолчал. Далее они возвращались в тишине, в гнетущей тишине взаимных недоразумений и безнадежных недомолвок.
Юлиана выскользнула из-под одеяла и выглянула в окно. В саду возились Айзек и Рута: он сгребал в кучу прошлогодние мокрые и перепревшие под недавним снегом листья, а она выкапывала из влажной земли корешки моркови, пастернака и петрушки, которые перезимовали под этими листьями. Юлиана охотно присоединилась бы к ним, но не сейчас, не сейчас. Рута уже чувствует себя хозяйкой, и это замечательно. То есть было бы замечательно, если бы она не положила глаз на Лоренцо. Это чересчур – отбиваться сразу от двух людей, к которым чувствуешь глубокую симпатию, и она желала бы, чтобы они были вместе, счастливые и влюбленные. Но почему-то все пошло наперекосяк. Почему я, а не Рута? – подумала Юлиана. Неужели он не увлекся ею только потому, что она живет с палачом? Но он ведь знает, как все на самом деле. А вчера, в тот тяжелый вечер, когда они с Лукашем вернулись в аптеку, произошло еще одно знаменательное событие: Каспер привел Руту обратно и заявил, что она может быть свободна, что он отказывается от своего права на нее. Он был печален, но тверд в своих намерениях. Рута светилась радостью. Еще одна разбитая любовь. Точнее, еще две: Каспера к Руте и Руты – ко мне. Итого – три! Три разбитых сердца. Из которых, по крайней мере, одно об этом пока не подозревает.
Юлиана почувствовала легкую панику. Ведь вечер не закончился так, как должен был закончиться, потому что Рута начала рассказывать, каким образом освободилась от Каспера, и ее рассказ, конечно, адресовался прежде всего Лоренцо. Рута упала перед Каспером на колени, заломила руки и со слезами на глазах умоляла, призывая на помощь всех святых, даровать ей свободу. И чтобы подкрепить свою мольбу чем-то весомым, не нашла ничего мудрее, хитрее и остроумнее, чем как заверить Каспера в том, что она смертельно влюблена… о Господи!.. В аптекаря!
Лукаш с Юлианой не на шутку были огорчены этим известием. Но чего можно было ожидать от этого экзальтированного ребенка, все эмоции которого – на поверхности? Она решила, что именно такое объяснение произведет на Каспера необходимое впечатление. Любовь – и не больше. Чтобы уже окончательно уничтожить все его надежды и любые аргументы. При этом она, правда, не удержалась и намекнула, что знает, как Каспер в ее отсутствие развлекается с сарацинкой. Так что ему одиноко не будет. Правда, Каспер поинтересовался, почему такая безудержная любовь пробудилась именно к аптекарю, в то время как он не раз замечал, какими глазами смотрит Рута на Лоренцо. И если бы Рута сказала, что выбирает вместо зрелого мужчины… – Тут девушка со всей своей наивностью извинилась и произнесла слова, которые употребил Каспер… – «какого-то безусого сопляка», то он бы никогда с этим не смирился. А вот аптекарь – другое дело. Тем более что Каспер всегда чувствовал к нему симпатию.
– Вот как мудро я все решила! – засмеялась она в заключение, погрузив всех в глубокую задумчивость.
При этом она так выразительно посмотрела на Юлиану, словно у них все уже было договорено, все преграды преодолены, и теперь осталась только эта несущественная мелочь, с которой они тоже совладали.
Юлиана стала одеваться. Вчерашний вечер выбил ее из колеи – слишком много событий, слишком много неожиданностей. Все, очевидно, близится к финалу. Но какому? Будет ли в нем свет впереди? И если Рута попытается сделать то же, что и Лукаш, сохранить душевное спокойствие будет не так просто. «Я не вытерплю, не вытерплю еще одного выяснения отношений. Снова эти словесные плетения, в которых теряешься, в которых вязнешь и не способен освободиться, запутываясь все сильнее. Что я могу ей сказать? То же, что Лукашу? Почти то же самое. Потому что место или город уже не будут играть никакой роли. Хотя я могу сказать правду. Что меня здесь удерживает? Чего я боюсь? Разве есть что-то, что может изменить мои планы?»
В круглом зеркале на стене Юлиана увидела свое лицо. Оно было мрачным и насупленным. Она попыталась улыбнуться и почувствовала, как к горлу подкатывает комок. Тряхнула головой, плеснула несколько горстей холодной воды в лицо, затем окунула щеточку в меловую пасту и стала чистить зубы, одновременно прислушиваясь ко всему, что происходит в саду. Айзек и Рута все еще были там. А где Лукаш?
Прихорошившись, Юлиана подкралась к лестнице и посмотрела вниз. В аптеке никого не было. Со склада доносилось шуршание – видимо, аптекарь был именно там. Она тихонько спустилась, стараясь ступать на самый край ступенек, чтобы не скрипели, и выскользнула из дома. Кажется, ее исчезновения никто не заметил.
Город уже жил своей обычной бурной жизнью. Рынок был битком забит телегами и палатками, все, что должен был употребить Львов съестного, было здесь. Мещане и мещанки, слуги и служанки, горничные и повара – все они сновали между рядами, набивая свои корзины. Визжали свиньи, кричали на все голоса пернатые, стучали топоры, разрубая кости. Это утро не отличалось от любого другого, кроме воскресений, когда площадь перед Ратушей становилась к обеду безлюдной. А уже после обеда народ выходил из церкви, и начиналось движение, непременно завершавшееся в шинках.
Юлиана дошла до Краковских ворот и в растерянности остановилась. Навстречу ей немилосердно грохотали фуры с бочками, в которых плескалась рыба, с поросятами и свиньями, с горами зелени, с дровами и торфом, с кувшинами и горшками. Казалось, этому каравану не будет конца и края. Девушка никогда не выходила так рано из города и сначала колебалась, что же ей делать – ждать или попробовать протиснуться. Наконец она выбрала второе, хотя это было нелегкой задачей. Но на берегу реки было тоже шумно и людно, как и всегда в день, когда прибывали корабли из дальних краев. Купцы толклись здесь с самого утра, и когда товары оказывались на берегу, набрасывались со всех сторон, рассматривали, щупали, громко торговались и сторговывались. Неподалеку уже ждали повозки и тележки, а около них – слуги, готовые паковать покупки и везти на склады. Некоторые торговались, не дожидаясь, пока товар причалит на лодке, и кричали еще с берега, а с корабля отзывались, называя цены и меры. В этих нервных криках, которые раздавались на разных языках и с разным уровнем эмоций, тонуло все.
Воздух был налит свежестью и солнцем, но дул сильный ветер, поднимая пыль. Юлиана, кутаясь в плащ и надвинув шляпу на самые глаза, быстрым шагом прошла сквозь толпу. На причале стоял знакомый ей корабль «Сан-Иеронимо». Она выхватила глазами капитана Корнелиса и приблизилась к нему. Капитан сидел на бочке, вытянув свою деревянную культю, уже изрядно потемневшую, лоб его был повязан черным платком, а на коленях он держал новенькую аркебузу.
– А-а, Лоренцо! – радостно закивал он. – Как дела? Хорошую ли аркебузу я приобрел? Еще не стреляная. Можно сказать, невинная, как целомудренная девушка. Но, к сожалению, я еще не скоро ее испытаю, – он показал забинтованную правую руку. – Испанцы нас немного потрепали. Видишь, я сказал, что уже к вам сюда не попрусь, а все-таки пришлось. Снова товара больше, чем могли проглотить другие города. Что ты оглядываешься? Мои все сидят на корабле. Никого не выпустил на сушу. А то чего доброго опять кто-нибудь пропадет к чертовой матери.
– Наш уговор в силе?
– Уговор как погода – сейчас так, завтра иначе. Но не для тебя. Брехуном я никогда не был.
– Сколько?
– Шутишь? Это я у тебя в долгу, – он постучал по своей деревяшке и кивнул, подмигнув: – Завтра утром. Как пробьет восемь. После восьми нам запрещено оставаться. Должны отчалить. Но мы и так хорошо справились – почти все распродали. Осталось немного. О, кстати – этому твоему аптекарю не надо сушеных бананов? Отдам за полцены. Или даже не так: за четверть цены. Представь – здесь ни одна холера не хочет их покупать. Дикие люди!
Юлиана отошла, разочарование и грусть пронизывали ее до боли. Она брела, ничего не видя перед собой, на глаза наворачивались слезы, которые она быстро смахивала, поэтому и не заметила Руту, которая следила за ней от самой аптеки, а теперь шла следом, то приближаясь, то удаляясь. Разговора с капитаном Рута не слышала, до нее доносились только отдельные слова из капитанской глотки. В конце концов она не выдержала и, поравнявшись с Юлианой, коснулась ее плеча. Юлиана вздрогнула и со страхом посмотрела на девушку, она и не подумала, что кто-то может за ней следить.
– Лоренцо… – сказала Рута. – О чем ты договаривался с капитаном?
Юлиана не скрывала своего замешательства, лихорадочно вспоминая, не было ли сказано чего лишнего. Вроде бы нет. Она успокоилась и ответила ровным уверенным голосом:
– Мартин мне поручил купить бочонок ямайского рома.
– А почему же так секретно?
– Потому что не хочет переплачивать. Пошлина слишком высокая. А ты что думала?
– Я?… Ничего.
Они шли рядом вдоль реки. Обе погруженные в самих себя. Оказавшись на безлюдье, Рута торопливо заговорила:
– Лоренцо, я хотела спросить, говорил ли с тобой Мартин?
– О чем?
– Обо мне.
Юлиана насторожилась. Вот, кажется, и наступило то, чего она так боялась. Она посмотрела на Руту и закусила верхнюю губу, у нее недоставало смелости сказать правду. Хотя она была уже близка к этому, но Рута перехватила ее так неожиданно, что Юлиана потеряла всю свою отвагу. Еще не сейчас, не сейчас.
– Да, – наконец выдавила – да… говорил.
– Он говорил, что меня с Каспером ничего никогда не связывало?
– Говорил. Ну а какое это имеет отношение к делу? – Сухость, с которой она ответила, поразила Руту. Однако Юлиана знала, что именно так она должна себя вести – равнодушно, без эмоций, не давая ни капли пустой надежды.
Рута чуть не заплакала от обиды, но сдержалась и сказала:
– Ты считаешь, что это действительно не важно?
Она смотрела в глаза своему Лоренцо и пыталась уловить хотя бы намек на то, что он играет, говорит неправду, но глаза его были холодные, а в уголке губ сквозила ироничная улыбка, так, словно он смеялся над ней. Рута представляла множество раз сцену выяснения отношений с Лоренцо, но ни разу в ее воображении не возникала столь ужасная картина. Ей хотелось броситься в его объятия, припасть к нему и вышептать всю свою любовь. Она чувствовала себя, словно парусник, который стремится навстречу горизонту, но якорь его не пускает. Она собиралась разговаривать с Лоренцо, излучая радость и счастье, но вместо этого ее лицо отражало муку и унижение, и она не могла ничего с собой поделать, не могла этого преодолеть, понимая, что это никогда не вызовет к ней сочувствие, как вызвало подобное состояние Каспера у нее, она тоже была жестокой и не подыскивала для него слов мягче тех, которые звучали. Это расплата за его боль, подумала она, эта его боль никуда не исчезла, она теперь перешла на меня. Вчера я причинила ее ему, а сейчас получила сама. Наконец, решив, что терять больше нечего, она спросила:
– Ты в кого-то влюблен? Скажи… только правду… ведь я… я не выдержу больше…
Юлиана молчала и смотрела на девушку, не решаясь ответить. Могла ей соврать: «да, влюблен», но боль это не уймет. А что уймет? Что? Правда? На одного человека больше, на одного меньше, знающих, кто она на самом деле, уже ничего не меняет. Особенно сейчас, когда… Юлиана выдохнула воздух с таким видом, будто собралась перепрыгнуть ров, и улыбнулась Руте. Эта улыбка предваряла то, что она решила сказать, наконец, собравшись с духом, но не успела.
Они стояли под развесистыми тополями, в кронах нещадно трещали воробьи, а у подножия деревьев, затопленных паводком, голосили гуси и утки, вместе с плеском реки и шелестом ветра это создавало довольно громкую музыку, и, словно этого всего было мало, со стороны города доносился звон колоколов сразу нескольких церквей. Руте показалось, что она слишком тихо говорит. Она подошла к Юлиане ближе и, прежде чем та успела среагировать, положила руки ей на грудь, которую девушка всегда перематывала полотном, хотя это спасало ее только от взглядов – но не от прикосновений. В другой раз Юлиана мгновенно отшатнулась бы, но не сейчас – она и так уже отважилась на этот последний шаг. Рута вскрикнула от неожиданного открытия и приложила ладони к губам, чтобы не закричать. Она не могла поверить, что произошло что-то такое, о чем она никогда не догадывалась, хотя они так часто общались. Как возможно, что она ничего не видела, не замечала? Теперь обе молчали. Юлиана преодолевала смущение, а Рута – шок. Никто из них не решался заговорить первой. По лицу Руты текли слезы, а в голове проносились сцены, где они с Лоренцо бегали по лугу, хохотали, падали в траву, и ей казалось тогда, что она находится на вершине счастья, о котором столько времени мечтала. Итак, это был не рыцарь, марево рассеялось с особой жестокостью, перед ней была женщина, такая же, как и она. Хотя и старше. Женщина, которая изображала юношу и позволила в себя влюбиться. Ведь она не могла не замечать знаков внимания Руты, невинных прикосновений, не могла не прочесть по ее голосу восторга и хмеля любви. Почему она это позволила? Почему сразу не оборвала?
– Это неправда, – прошептала Рута, запинаясь от волнения. – Я не могу в это поверить. Я так ждала тебя!
– Ты ждала не меня, а свою мечту, – сказала Юлиана своим естественным голосом для большей уверенности. – Все ждут только свою мечту. Возможно, я тоже.
Но Рута не желала это осознавать. Для нее мечта была всегда так реальна, она могла представить ее, время от времени вызывать из воображения и общаться с ней, потому что это не была мечта о мечте – это была мечта о рыцаре. Теперь эта мечта разбита. Рута вдруг почувствовала себя настолько обессиленной, что опустилась на траву и, обхватив руками колени, зажмурилась. Это продолжалось мгновение. Юлиана терпеливо ждала. Наконец девушка повернула голову к Юлиане и спросила:
– Ма… Мартин знает?… – Юлиана кивнула. – И Айзек?… – Юлиана снова кивнула. – Боже, неужели только я одна такая дура?
Юлиана села рядом и обняла ее, Рута уже не могла удержаться, она дала волю своим чувствам и зарыдала. Вот и сбылась ее мечта, они обнялись. Какая ирония! Когда она перестала всхлипывать, Юлиана тихо и спокойно рассказала о себе. Рута слушала, время от времени что-то спрашивала, лихорадочно вспоминая, не показалось ли что-нибудь в поведении Лоренцо ей подозрительным, и ловила себя на том, что да – что-то иногда было, но она была ужасно невнимательна. И Юлиана сама напомнила ей отдельные моменты, когда можно было догадаться, что она не мужчина, а женщина. А поскольку эти моменты были забавными, то Рута сквозь слезы улыбалась. Она вслушивалась в голос Юлианы, и отдельные его тона были ей на удивление знакомыми, да-да – это было не раз, когда Лоренцо смеялся и, смеясь, что-то говорил, тогда его голос становился женским, хотя Рута на это внимания не обращала. Все эти маячки, разбросанные на протяжении всего их общения, вернули девушку к реальности, она медленно начала принимать этот удар судьбы с пониманием, потому что вариант, что Лоренцо на самом деле не юноша, а девушка, все же был для нее гораздо менее трагичным и ужасным, чем если бы Лоренцо просто отверг ее, сказав, что не испытывает к ней ничего. Это была бы настоящая трагедия, с которой ей невозможно было бы смириться, и, скорее всего, она и не смирилась бы и забилась в глухой угол подальше от всех, чтобы в одиночестве пытаться выровнять мир в своем сознании, подавить чувства и восстановить спокойствие. Еще вчера ей казалось, что жизнь без Лоренцо пропащая, она изо всех сил рвалась из клетки и таки вырвалась, даже Каспера она проняла своим бурным словесным потоком, закручивая его вихрем безумных чувств, заставляя слушать и воспринимать все, что она говорила. Она старалась не давать ему ни слова промолвить, хотя он и пытался перебить ее, но она на это не обращала внимания – она должна была выговориться и доказать, что намерения ее тверды и назад дороги нет. В дверях мелькнула фигура сарацинки, но Каспер глянул на нее раздраженно, и она исчезла. Однако Рута была уверена, что та слушает, и так же, как и она сама, переживает, потому что от этого вечера многое и для нее могло решиться в лучшую сторону. Трудно сказать, сколько это продолжалось, сколько она стояла на коленях, потому что умолкла она только тогда, когда Каспер подошел и поднял ее. Затем сказал, чтобы она собралась. Рута, как во сне, сложила свои вещи, и они вместе пошли в аптеку.
Что бы она делала, если бы то, что произошло сегодня, произошло раньше? Рвалась бы она тогда на свободу? Пожалуй, да, но можно с уверенностью сказать, что сделала бы это уже без таких впечатляющих эмоций, без такой страсти, которая растапливает камень, без боли в словах. А значит – ничего не добилась бы. Осознание этого немного подняло ей настроение, с сердца свалился груз, который все время мучил ее, теперь ей уже не надо страдать, терзаться, что-то фантазировать. Все закончилось. Не так, как она бы хотела, но все же… все же она теперь живет у аптекаря, а не у палача, и может заниматься любимым делом. А мечта о рыцаре так и осталась мечтой, он все еще едет к ней на своем коне, он все еще преодолевает трудный путь, пробиваясь сквозь преграды, но с каждым днем он ближе и ближе, Рута в этом не сомневалась и готова была снова ждать.
Они шли дальше по берегу, каждая погруженная в свои мысли, наконец Юлиана спросила:
– Почему ты не влюбилась в Мартина?
– Не знаю, – шмыгнула носиком Рута. – Мне показалось, что именно ты – мой идеал, тот рыцарь из снов. Ты заменил… заменила мне весь мир. – Она посмотрела на Юлиану: – А почему ты не влюблена в Мартина?
Юлиана улыбнулась с горечью:
– Возможно, когда-нибудь я кого-нибудь полюблю, но… это будет нескоро.
– А Мартин? Он не был в тебя влюблен?
– Нет, – Юлиана решила не посвящать Руту в свои отношения с аптекарем. – Я не давала ему для этого никакого повода. Если честно, я всегда искренне желала, чтобы вы были вместе. Вы так хорошо подходите друг другу.
– Не знаю. Это тоже, наверное, будет нескоро. Если будет. Наконец, это не от меня зависит.
– По крайней мере, сейчас ты свободна. Каспер оказался порядочным человеком.
– Да, я благодарна ему за это. В общем, если бы не он, я бы уже давно превратилась в пепел. И все время с той минуты, когда меня помиловали, я как бы живу другой, второй жизнью, в которой мне не хватает меня прежней. И эту вторую жизнь я ценю больше, чем ту, первую, когда я не боялась смерти, и мне кажется, что я изменяю той моей первой жизни.
– Сейчас боишься?
– Сейчас боюсь. Где-то безумствует чума, и как знать, не приближается ли к нам, и тогда придется куда-то бежать. А я этого тоже боюсь. Я одна. У меня никого нет, кроме моего конька. А теперь и мечта растаяла.
Юлиана подумала, что Лукаш тоже живет другой жизнью, жизнью Мартина, а она – жизнью какого-то несуществующего Лоренцо, их уже трое таких, живущих не своей жизнью, но она не сказала бы, что ее вторая жизнь ценнее первой, скорее наоборот. Та была куда беззаботнее, она ей снилась, вызывая сладкие приступы ностальгии.
Юлиана обняла Руту и поцеловала в губы с такой страстью, что у Руты закружилась голова, и она едва не упала в траву, но в то же время почувствовала, как тело ее просыпается от сна, как язык Юлианы щекочет ее нёбо, и как она отвечает на ее поцелуй. Казалось, это длилось целую вечность. Когда они наконец оторвались друг от друга, Рута еще несколько минут дрожала, как в лихорадке, и не могла произнести ни слова. Юлиана взяла ее за руку и повела в город. Рута почувствовала себя маленькой девочкой, которую мама вывела на прогулку. На губах она несла вкус своего первого поцелуя, он был пьянящим и крепким, как ямайский ром.
Глава 30 Последний в списке
22 – 23 сентября 1648 года
…Когда город очнулся от гуляний, из ушей в уши полетела страшная история об убийствах.
– Четвертый! Охо-хо, что делается? – качал головой Зиморович, стоя возле трупа на Капитульной. – Кому нужно было его убивать? Ведь его не ограбили. Он как раз вышел из шинка, и у него не было ни шелинга. Вот видите, на руке даже перстень остался, а на шее цепь золотая.
– Кажется, он защищался, – сказал аптекарь.
– Да, но неудачно. Карабелу выбили у него из рук и проткнули его, как цыпленка на вертеле. Странный удар. Собственно, четыре странных удара, и четыре трупа. Я еще такого не видел. Уберите, – кивнул цепакам. – Нападающий, бесспорно, был мастером своего дела, если ему было достаточно одного удара. Кроме того, он очень хорошо ориентировался в темноте. И что интересно, – он внимательно посмотрел на аптекаря, – все убитые были, скорее всего, причастны к гибели той… – он, видимо, хотел сказать «потаскухи», но передумал, – …той несчастной. О которой мы с вами недавно беседовали.
В разговор вмешался бургграф:
– Есть свидетель. Он видел, как выглядел нападавший.
– И как же? – усталым и лишенным доверия голосом спросил Зиморович.
– На нем была красная маска совы с большими отверстиями для глаз, обведенными черной краской.
– Маска совы… – повторил задумчиво Зиморович. – Да, это очень ценное свидетельство. Теперь эта маска лежит где-нибудь на помойке или плавает в канале. Нам это свидетельство ничего не дает. Но какой скандал! Убиты уважаемые люди.
Он наклонился к Лукашу и спросил шепотом:
– Вы их хорошо осмотрели? У кого-то из них оказалось то, что нас интересует?
Лукаш догадался, что речь шла о надкусанном члене, и отрицательно покачал головой.
– Значит, был кто-то пятый, – заключил Зиморович.
– Есть одна особенность. У каждого из них отрезан кусок языка.
– Побей его сила Божья! Это разве что в сказках такое видано, чтобы рыцарь обрезал языки драконам. Но чтоб людям?
– Эти обрезки еще возникнут – как доказательство того, кем был убийца.
– Дай-то Бог. – Зиморович наклонился к Лукашу и понизил голос. – Оно, можно сказать, справедливость торжествует, но… смерть за изнасилование проститутки? Это слишком.
– Смерть за смерть.
– Она была убита одной стрелой, а не четырьмя или пятью. Итак, убийца только один. А остальные не заслуживали такого конца. Это скандал, который докатится до короля и поднимет тучу пыли. Что о нас там подумают? Я ни в каких наших хрониках ничего подобного не читал.
– Если бы вы видели, как выглядело ее тело – все истоптанное, в синяках, в полосах от плетей, – вы изменили бы свое мнение.
– Никогда, – покачал головой Зиморович. – Если бы за каждую избитую девку у нас убивали, то полгорода уже легло бы трупом.
Откуда-то появился запыхавшийся Зилькевич.
– Это ужасно! Такие убийства! – Он заметно нервничал и дергался.
– Я вас искал, пан Зилькевич, – сказал Зиморович. – Вы не ночевали дома?
Зилькевич покраснел, и усы его дернулись.
– Ну-ну, не переживайте, – успокоил его Зиморович. – Ваше дело холостое.
Но тут и аптекарь не удержался:
– А правда, что вы тоже были на той охоте?
Зилькевич налился гневом и стал походить на вчерашнюю маску Лукаша.
– Какой охоте? Не ввязывайте меня ни в какую охоту.
– Я могу вам объяснить, – продолжил аптекарь. – Эти люди были замешаны в убийстве проститутки. Это все, что их объединяет. Если и вы были там, вас ждет то же самое.
Теперь Зилькевич уже побледнел и вытер холодный пот со лба. Но твердо ответил:
– Меня там не было. Бог знает, когда я в последний раз был на охоте. Я вообще плохо стреляю.
– Нас ждут в магистрате, пан Зилькевич, – сказал Зиморович.
– Знаю, но я завтра на рассвете отправляюсь в Краков. Так вы уж за меня там извинитесь. Я должен еще собраться.
– Вы надолго?
– Наверное. Это будет видно после беседы с маршалком. Я обязательно сообщу в магистрате.
К вечеру суета в доме судьи Зилькевича улеглась. Вещи были упакованы. Судья ехал один, оставляя дочерей на нянек. На эту поездку он возлагал большие надежды. Возможно, маршалок пристроит его при дворе, предложив более приличную должность, чем здесь. Слугам было строго наказано никого не впускать и постоянно сторожить входную дверь. Лестницы, ведущие во внутренний двор, также находились под охраной. Любимая охотничья борзая, которую до сих пор держали во дворе за загородкой, бегала теперь по дому и чутко принюхивалась к запахам, исходившим из кухни. Присутствие собаки успокаивало значительно лучше, чем стража на дверях.
Однако ночь была неспокойная, все время слышались надоедливые звуки, что-то поскрипывало, шуршало, попискивало. Раньше судья не обращал на такое внимания, потому что и жучки, и мыши не раз себя проявляли, но сейчас просыпался и поглядывал на борзую, и снова засыпал, убедившись, что та спит спокойно, не проявляя никакой тревоги. Утром Зилькевич проснулся с тяжелой головой. За окнами моросил дождь и было мглисто. В доме все еще спали, но судья велел одному слуге бежать за каретой, а второму носить вниз ящики и пакеты. Он отказался завтракать дома, велев, чтобы ему упаковали корзинку в дорогу. Через полчаса карета уже ждала, на козлах в плаще сидел мрачный извозчик Войтих, спрятав голову под капюшоном, дождь стекал у него по груди, козырек над ним прикрывал только спину. К счастью, это не был ливень, и теплилась надежда, что дождь скоро перестанет. Судья с гордостью посмотрел на лошадей с крашенными в красный цвет гривами и хвостами, на карету, украшенную китайской росписью с бронзовыми листьями, расцеловался с дочерьми, погладил борзую и открыл дверцу. Внутри карета была обита бархатом, пурпуром и зеркальными пластинками. Зилькевич удобно устроился на мягком диване, обшитом кожей, и положил возле себя корзинку с едой и питьем.
Извозчик соскочил с козел, выбежал перед упряжкой и хлестнул кнутом крест-накрест, как велит обычай, перед дальней дорогой. Затем, плотно кутаясь в плащ, снова вскочил на козлы и щелкнул кнутом уже в воздухе. Лошади послушно двинулись. Зилькевич облегченно вздохнул, когда карета выехала за ворота, и принялся завтракать. К завтрашнему вечеру он рассчитывал добраться до Кракова, переночует у кузена в Ряшеве. За городом царила слякоть, дорога была размыта, и колеса время от времени застревали. Чего доброго, до Ряшева засветло не доберутся. Ничего, можно и в Ярославе заночевать. Не забыть бы только остановиться перед тем где-то около потока и карету вымыть, а то забрызгается, как жидовская балагула.[35]
Карета покачивалась и клонила в сон. После бессонной тревожной ночи веки быстро сомкнулись, и судья заснул. Проснулся он, почувствовав, что карета стоит. Откинул занавеску на окне – стоит, еще и в лесу. Он открыл дверцу и вышел. Дождь прекратился. Только мокрая трава и листья напоминали о нем.
– Эй! – крикнул судья извозчику. – Чего не едем?
Извозчик оглянулся, и судья с ужасом увидел, что это вовсе не Войтих, а кто-то, кого он уже где-то видел, но вспомнить не мог. Ужасная догадка потрясла его. Он выхватил пистолет и направил на незнакомца.
– Ты кто?
Тот спокойно соскочил с козел и откинул капюшон. Перед судьей стоял молодой парень.
– Ты ученик аптекаря? Какого черта? Чего тебе надо?
– Нет. Я не ученик аптекаря, – ответила Юлиана. – Я – сестра той, кого вы убили на охоте. Узнаешь этот лес?
– Что ты несешь! Меня там не было.
– Снимай штаны.
Юлиана вытащила шпагу. Зилькевич нервно оглянулся, все еще не веря, что оказался на безлюдье. Он попытался выстрелить, но порох только зашипел и погас. Он вынул саблю и стал атаковать. Сапоги поскальзывались на мокрой траве. Юлиана ловко отступала, избегая ударов сабли по шпаге, судья напрасно рубил воздух. Юлиана левой рукой отстегнула плащ и взмахнула им перед глазами Зилькевича. Тот на мгновение потерял ее из виду, когда же она снова появилась перед ним, то он уже стоял с перерезанным ремнем и со спущенными штанами. Судья путался в штанах, но поддернуть их не давала ему нападающая, потому что теперь она атаковала с разных позиций. В один из моментов она вонзила ему острие шпаги глубоко в руку над локтем, он вскрикнул, сабля выпала. Теперь он стоял беззащитный.
– Подними рубашку, – приказала девушка.
– Я ее не убивал, – лепетал Зилькевич, – я только развлекался с ней… это не я… когда она делала то самое со мной… ее хлестнул кнутом сын Грозваера, и она, может, сама того не желая, укусила…
– Подними рубашку.
Зилькевич, всхлипывая, поднял рубашку левой рукой, и Юлиана увидела именно то, на что рассчитывала.
– Я ее не убивал. Это Матиас! Матиас стрелял из лука! Они ее догоняли, а как увидели, что убежит, Матиас выстрелил. Меня там не было.
– Да. Ты в это время скулил, лежа на сене и прижимая руки к своему сокровищу. Здесь, где ты стоишь, ее догнала стрела. Я нашла это место. Нашла ее волосы, выдернутые колючками ежевики, когда вы волокли ее по земле к реке.
– Я не волок. Это был не я, – он все время оглядывался, ища спасения.
– Это ничего не меняет. Вас было пятеро. И все вы все равно виновны. Вы сделали это потому, что знали – за проститутку никто наказывать не будет. Но вы на этом не остановились. Кто убил мусорщика?
– Михаэль, сын Грозваера.
– А Регулу?
– Тоже он.
– Что же – отправляйся к своим друзьям.
Шпага блеснула на солнце и пробила рот судьи. Он тяжело рухнул на землю. Юлиана быстрым движением отрезала ему язык, вытащила из-за пазухи флягу со спиртом, где уже лежали другие обрезки, добавила последний и бережно завинтила. Затем села на козлы, быстро вывела карету на дорогу, выпрягла одну лошадь и помчалась в направлении города, где на причале ждал ее корабль. Покидая город, у дороги в кустах неподалеку от Краковских ворот она спрятала сумку со своими вещами, но времени, чтобы их забрать, уже не было – как раз пробило восемь. Юлиана пришпоривала лошадь, не спуская глаз с причала, последняя лодка вот-вот должна была отчалить от берега. Она еще с коня кричала и махала шляпой, потому что моряки начали отталкиваться веслами от берега. Наконец они ее таки заметили и задержались. Девушка соскочила с коня и подозвала одного из мальчишек, что крутились на берегу и были всегда на подхвате, когда надо было помочь что-нибудь разгрузить или занести в город. Маленького Стася она хорошо знала, он всегда отличался добросовестностью, на него можно было положиться. Юлиана объяснила, как найти сумку, которую она спрятала в кустах. Сумку надо было отнести в аптеку «Под Крылатым Оленем».
– А еще позовешь аптекаря и отдашь ему это письмо и вот эту флягу. Только ему в руки, понимаешь? Поклянись.
– Да чтобы я, пан Лоренцо, трижды провалился, если кому сболтну. Вы же меня знаете!
Стась перекрестился, а Юлиана вручила мальчишке золотой. Затем села в лодку, в изнеможении упала на доску и, вытерев пот со лба, посмотрела с грустью на город.
Капитан помог ей подняться на корабль и хотел отвести в каюту, но Юлиана отказалась – она хотела еще попрощаться с городом, для нее он был так дорог, но уже неприступен. Она смотрела, как он исчезает в тумане, как в клубах мглы мелькают и тают башни и купола, и ее затопила непреодолимая грусть, она сжала ее сердце и, чтобы не разрыдаться перед всеми на палубе, она побежала в каюту и заперлась там. Теперь она дала волю слезам. На столике у кровати стояла бутылка ямайского рома и поднос с фруктами. Юлиана сделала большой глоток, откинулась на подушку и закрыла глаза. Она отомстила и могла двигаться дальше. Какой будет ее дальнейшая жизнь – уже не так важно, потому что самым важным было то, что она это сделала.
Глава 31 Маска совы
Из записок Лукаша Гулевича
«23 марта 1648 года.
Наша камера довольно просторная, но с одним лишь маленьким окошком под потолком, так что царит здесь полумрак, к которому быстро привыкаешь. И когда появляется стража, принося нам воду и пищу, приходится отворачиваться от света, льющегося из открытых дверей. Утром ежедневно выводят нас во двор, где можно помыться и пройтись от стены к стене, решетчатые ворота в такое время всегда облеплены зеваками, которые наблюдают с интересом за нами. Подозреваю, что моя личность вызывает у них куда больший интерес, чем разбойники. Ночью слышен шорох, попискивание мышей, шелест соломы. Если приложить ухо к стене, можно услышать глухой стон сотен страдальцев, которые побывали здесь перед своим последним путешествием в небытие. С некоторыми из них и я был знаком.
Как удивительно все возвращается! Еще вчера я был уважаемым горожанином, а теперь я – убийца. Потому что каждый висит над своей бездной. Моя бездна разверзлась передо мной с самого утра. Я одевался, когда раздался громкий стук в дверь. Айзек побежал открывать и остолбенел, увидев бургграфа с цепаками.
– Где хозяин? Позови.
Айзек хотел уже было бежать за мной, но я сам спустился, заправляя на ходу рубашку.
– Пан доктор, – сказал бургграф, – у меня, к сожалению, неприятная миссия – арестовать вас. Сегодня на рассвете в лесу был убит судья Зилькевич. А за Краковскими воротами мы нашли сумку с вашими вещами.
– Откуда вы взяли, что это мои вещи?
Бургграф кивнул, и один из цепаков принес сумку, на которой был вышит крылатый олень – эмблема аптеки. Таких сумок в аптеке было десятка два; когда я делал заказ на какие-то заморские товары, то передавал их на корабль пустыми, а возвращались они набитыми. Так делали и другие аптеки, у каждой была своя вышитая эмблема, чтобы товары не путались и не терялись. Бургграф раскрыл сумку и стал вынимать вещи. Там была одежда Юлианы. Я был потрясен.
– Это одежда моего ученика, – пояснил я.
– И где ваш ученик сейчас?
– Не знаю. Где вы нашли эту сумку?
– При дороге в кустах. Она ваша?
– Моя. Но зачем мне прятать ее в кустах?
– Чтоб была под рукой, когда будете покидать город. Возможно, вы планировали еще какие-нибудь подвиги под маской совы. Откуда мне знать.
– Вы думаете, что я убийца?
– Может, не сами, а вместе со своим учеником.
Цепаки разбрелись по аптеке, заглядывая в каждый уголок. Ничего не найдя, они ждали распоряжения бургграфа, когда вдруг один из цепаков выдвинул ящик моего стола и обнаружил список, который мне дал Иоганн. Я онемел.
Бургграф бросил взгляд на бумагу и рявкнул:
– Еще раз осмотрите все! Загляните повсюду! – и взмахнул в воздухе бумагой: – Ты погляди – все они здесь! Все, кроме одного!
Следующая добыча была еще лучше – под угасшими с ночи поленьями в очаге они нашли красную маску совы. Она лишь немного обгорела. Бургграф покачал головой:
– Теперь вам не выкрутиться. Вы должны идти с нами. – И бросил цепакам: – Захватите его шпагу.
– Пан бургграф, – вмешался вдруг Айзек, – но пан доктор был все время дома, он никуда не выходил ни ночью, ни на рассвете.
– Откуда вам о том знать? Вы что – за ним в постели следили?
– Я следила, – вклинилась Рута, краснея. – Пан доктор… Мартин никуда не выходил.
Она сказала это довольно уверенным голосом, что немало меня удивило, но бургграф имел свое мнение.
– Это меня не убеждает. Девушки в вашем возрасте спят, как хомяки.
– Пан доктор! – крикнул вдогонку Айзек. – Это я! Я виноват! Господи! Прости меня, грешного!
Я так и не понял, что он имел в виду. А вскоре я оказался там, где не раз бывал как врач, а теперь – в роли узника, да еще в обществе разбойников, которых недавно поймали и приговорили к смертной казни. Разбойники ждали своей участи без особого волнения, но я их игривого настроения разделить не мог. Сначала они меня задевали, пытались угостить вином, но, увидев, что я нахожусь в безнадежно угнетенном состоянии, оставили эти попытки, и я мог наконец погрузиться в свои невеселые мысли. Я не знал, что должен думать об исчезновении Юлианы и о маске совы в камине, которую она собиралась сжечь. Но по подлому стечению обстоятельств маска осталась невредимой. Что Юлиане помешало забрать сумку? Может, с ней что-то случилось? Не могла же она мне подложить такую свинью сознательно. Мне не верилось, что все это происходит со мной. Кто убивал сыновей патрициев города? Неужели Юлиана? Она владела шпагой, но плохо. Во время шермерки это бросилось в глаза. Разве что она притворялась. Но девушку, которая обладает таким странным и редким ударом, сложно представить. Далее мои мысли перешли на Руту и на ее отважный поступок. Она пыталась мне помочь любой ценой. А цена могла быть высокой, если бы выяснилось, что мы принадлежим к разным вероисповеданиям. Полторы сотни лет назад во Львове уже сожгли армянина и польку. Но Рута, словно предвидя проблему, вдруг стала еженедельно ходить со мной и Юлианой в костел Божьего Тела. Итак, с этой стороны угрозы не было».
Стась собирался бежать к Краковским воротам сразу же, как получил поручение, но увидел, что мальчишки бросились к причалу – как раз прибыли лодки с товаром. Пропустить такую возможность было выше его сил, а сумка могла и подождать. Когда Стась освободился и подошел к тому месту, которое описала Юлиана, то наткнулся на целую гурьбу цепаков. Они уже нашли сумку. Он пошел за ними следом, проводил их до самой аптеки и видел, как вывели пана доктора, которого он хорошо знал, потому как и от него не раз получал разные задания, и каждый раз добрый пан Мартин кроме платы угощал его конфетами или изюмом. Теперь мальчишка засомневался, что делать с конвертом и флягой – ведь он поклялся передать их лишь в руки доктору. Его добросовестность на этот раз оказалась лишней, но он об этом не догадывался. Стась, потупившись, пошел домой.
Айзек с Рутой, проводив аптекаря, поначалу не имели представления, за что браться и к кому стучаться. Аптекарь – убийца? Это не укладывалось в голове. Хотя, конечно, ни во время карнавала, ни ночью никто из них не мог гарантировать, что он этого не мог сделать. Из аптеки можно было выбраться и из сада, перелезши через стену, увитую виноградом. Но версия, что убийцей была Юлиана, выглядела еще более странной. А ее исчезновение вызвало еще больше вопросов, чем сумка, спрятанная в кустах. Так, может, Юлиана еще появится?
Айзек места не находил из-за маски.
– Дурак же я, дурак! Это ж надо! Взял и залил на ночь поленья водой. А оно вишь, как обернулось!
– Не убивайтесь так, – утешала его Рута, – пана доктора ведь арестовали из-за того списка убитых.
Суд над аптекарем назначили на следующей неделе. Из-за того, что весь город был встревожен убийствами, слухи витали один другого причудливее, а убийца в маске совы вырастал до размеров ужасного маньяка, которые рождаются разве что раз в сто лет, расследование решили не затягивать. В конце концов, и так все было понятно. Однако каким был интерес аптекаря в тех убийствах – никто не мог взять в толк. Единственное, на чем сходились все: убийства начались с тех пор, как он появился во Львове, хоть и не сразу. До сих пор такого количества убийств за короткое время не случалось.
Айзек сказал Руте, что пойдет к раввину Мейеру, который прибыл во Львов из Сандомира, и, говорят, такой премудрый, что мудрее просто не бывает. К тому же он имеет медицинское образование и славится среди евреев как очень успешный доктор. Зато Рута рассказала Айзеку о том, что видела Юлиану на причале, как она договаривалась с капитаном якобы о бочке рома.
– Странно, – покачал головой Айзек, – не далее как неделю назад я закупил две бочки рома. Не было никакой надобности еще в одной.
Теперь Рута не сомневалась, что разгадка кроется где-то на берегу реки.
Была пятница, в пятницу вечером после богослужения евреи обычно поют дома песнь, посвященную добрым Ангелам, которые охраняют человека в течение всей недели, а в пятницу освобождают место другим. Итак, евреи той песней с одними Ангелами прощаются, а новых приветствуют. И вот Айзек пришел именно в то время, когда раввин Мейер, спев последние строки, вдруг замолчал, углубился в мысли, и только через час очнулся, а все присутствующие, затаив дыхание, терпеливо ждали, когда он откроет глаза и объяснит причину такого странного поведения. И раввин наконец открыл глаза и сказал:
– Провожая Ангелов будней, я оказался у ворот Рая и заглянул внутрь. А тут вижу – едет фура, запряженная парой лошадей, которых погоняет здоровый такой балагула, посвистывая кнутом. Я очень удивился, как мог попасть в Рай такой балагула вместе с лошадьми и подводой, да еще и на такое почетное место – прямехонько у самых ворот. И тут мне все объяснили. Этот балагула, мол, зовется ребе Израэль. Он был при жизни великим грешником и ничего хорошего не сделал, но один хороший поступок открыл ему врата Рая.
Это было зимой во время сильного мороза. Балагула Израэль вез путешественников в Сокаль, все они были укутаны в теплые плащи и прятались в крытых санях. Извозчик вскоре сильно замерз, и, чтобы согреться, пошел рядом с санями. Вдруг нога его споткнулась обо что-то твердое под снегом. Извозчик остановился, посмотрел и вытащил из-под снега полумертвого человека, который, казалось, уже несколько часов здесь спит. Извозчик стал приводить его в чувство, растирать снегом, вливал ему водку в рот, потом укутал своим плащом и положил на телегу. Когда замерзший восстановил силы, то рассказал, что отправился на богомолье к своему цадику в Бэлз, а когда мороз и усталость сморили его, он заснул. Балагула, грубиян и неотеса от природы, конечно, не разбирался, что такое паломничество к цадику, когда никакие морозы, никакие ливни или жара не могут стать преградой, если душа верного рвется к святому. Так что он насмехался и смеялся над бедным евреем: «Эх ты, бездарь, как можно в такой мороз переть пешком в такую дальнюю дорогу, да еще в такой легкой одежде. Какое у тебя может быть важное дело к цадику? Неужели цадик не подождал бы?».
Так вот он насмехался над замерзшим жидом, а тот лежал, трясся, Бога благодарил и спасителя своего благословлял. Остановившись в корчме, извозчик крикнул: «Сегодня вы должны мне дать двойную порцию. Я нашел по дороге замерзшего неудачника. Чуть не окоченел под снегом».
Накормил он бедного еврея, не переставая все время над ним потешаться. Потом отвез его в Сокаль и там хотел отпустить, чтобы дальше шел сам в Бэлз, но подумал: «Как я могу этого глупого еврея отпустить одного в дорогу. Чего доброго, снова грохнется в снег и загнется к черту». Итак, отвез он жида в Бэлз. Жил тот жид, жил после того случая два года, посвятив себя науке и молитвам, не забывая при этом молиться за своего спасителя.
Когда же он умер, на том свете поинтересовались у него, кого он выбирает другом в раю. Жид ответил: «Я выбираю другом балагулу ребе Израэля». Начали искать его среди умерших, но человека с такой фамилией нигде не было. Наконец нашли его среди живых, однако время его смерти было еще далеко. Набожный еврей оставался одиноким и ждал настойчиво избранного им товарища. Когда пришло время смерти балагулы, на небе убедились, что не было такого греха, которого бы он не совершал. Как такому грешнику позволить стать товарищем набожного еврея? Но жид напомнил небесным властям о поступке балагулы и сказал, что всю свою богоугодную деятельность за последние два года он осуществлял во славу этого балагулы, не переставая за него молиться. Так и приняли его в Рай. Но балагула, оглядевшись и разведав, что в Раю за жизнь, сказал: «О-ой, боюсь я, что буду только всем глаза мозолить. Так как ни молиться, ни обучать, как другие, я не умею. Мне бы телегу и пару лошадей…»
Так и произошло. Уважили его желание, и балагула смог продолжить свое любимое занятие. Вот все то время, – заключил цадик Мейер, – пока вы видели меня, погруженного в мысли, я слушал этот чудесный рассказ.
Айзек очень обрадовался, что пришел как раз вовремя, чтобы услышать такую диковинку, а затем склонился перед раввином и рассказал ему о неприятностях аптекаря и поинтересовался, не был бы ребе так любезен, чтобы посоветовать что-нибудь. Раввин Мейер подумал с минуту и ответил, что, может, и мог бы помочь, если бы пришел на суд и услышал все, что там происходит, но кто же его, еврея, пустит на суд к гоям. На это Айзек сказал, что возможность слушать процесс суда будет, судить будут аптекаря при открытых окнах, поскольку все желающие в зале никак не поместятся, а интерес у всего города огромен. Ребе согласился прийти в магистрат при условии, что Айзек обеспечит ему кресло, потому что стоять он так долго не сможет.
Между тем Рута прошлась по берегу и расспросила, не было ли чего интересного утром на причале, и услышала о всаднике на коне, который примчался в последнюю минуту перед тем, как лодка должна была отчалить от берега. Кто-то из лодочников узнал во всаднике Лоренцо. Затем Рута нашла и мальчишек, и те указали на Стася, который разговаривал с Лоренцо. Стась рассказал, что ему поручено было занести сумку к пану аптекарю, но он замешкался и не успел прийти за ней раньше цепаков. На вопрос, передавал ли всадник что-то еще, парень отрицательно покачал головой. Хотя он и знал Руту, но считал, что не может нарушить клятвы. Рута заподозрила, что он что-то скрывает, потому что мальчишка заикался и краснел, она положила ему руку на плечо и сказала:
– Стась, подумай хорошенько, ты ничего не забыл? От этого может зависеть жизнь пана доктора. Разве он не был к тебе добр?
Стась закивал головой и задумался. Будет ли хорошо, если он нарушит клятву и отдаст письма не доктору, а Руте? Конечно, он ее знал, но клятва есть клятва. Он хотел покачать головой, но Рута его опередила:
– Я вижу, что ты не все мне рассказал. Но если доктора приговорят к смертной казни, ты этого не простишь себе до конца жизни.
И Стась сдался.
Глава 32 Последняя услуга палача
Суд начался с молитвы. Зал был забит до отказа, но поместились только райцы с лавниками, родственники убитых и разные достойные лица. На Рынке столпился жадный до сенсаций народ. Судьей был избран лавник Стефан Рогач, прокурором – доктор и раец Мартин Грозваер, адвокатом – Бартоломей Зиморович, который и ранее занимался адвокатурой. Бартоломей пробовал отклонить прокурора, поскольку именно его сын был убит, но лавники не согласились. Судья дал знак возному,[36] и тот зачитал обвинение Мартину Айреру в убийстве достопочтенных граждан королевского города Львова. Далее выступил прокурор и привел свои неопровержимые доказательства вины аптекаря, продемонстрировав сумку, маску и список убитых молодых людей.
Зиморович же заявил, что на самом деле никаких доказательств нет, потому что ученик аптекаря бежал, а это вещи его, а не аптекаря. Касательно списка, то он и сам подозревал этих парней в том, что они изнасиловали и убили девушку. В списке нет пана Зилькевича, но при осмотре его останков обнаружено доказательство того, что он тоже был замешан в убийстве. Тут Зиморович поведал драматическую историю надругательства над девушкой и продемонстрировал откушенный стержень, который перед тем принес ему Айзек. Однако весь драматизм этой истории сильно блек из-за того, что речь шла о проститутке.
Далее один из свидетелей узнал маску. Доктор Грозваер вызвал в свидетели доктора Гелиаса, и тот подтвердил, что познакомил Мартина с мастером шермерки, а поскольку убийства были совершены именно шпагой, которая не так распространена, как сабля, то все доказательства сходятся. Одобрительный гул всех, кто прислушивался к словам Грозваера, показал, что сомнений уже ни у кого не осталось. Учителя шермерки Рамзея спросили, как он оценивает способности Мартина Айрера, и публика с большим удовольствием услышала то, что и хотела услышать: аптекарь оказался мастером шпаги, и Рамзей учил его только отдельным специфическим выпадам. Зато его ученик Лоренцо – совершенно никудышный шермер.
Попытку Зиморовича вызвать свидетелями Руту и Айзека, которые подтвердили бы, что аптекарь не покидал ночью дом, только высмеяли. Как можно слушать показания колдуньи? А жида? Пусть идет свидетельствовать по своим еврейским судам. Здесь ему не место.
Но Айзек был на Рынке вместе с раввином Мейером, Калькбреннером и Францем, и все внимательно слушали.
– А я играючи мог бы заверить, что мы с ним всю ночь играли в карты, – сказал про себя Франц. – Но меня никто не попросил.
– Я вас прошу! – схватился за последнюю соломинку Айзек, загоревшись.
– И это мудро с вашей стороны. Но меня надо просить трижды.
– Так я прошу, прошу и еще раз прошу.
– Франц, прекрати, – буркнул Иоганн. – Никто тебе и так не поверит после всех этих доказательств. Не видишь, что ли, как они настроены?
– Ну, мое дело предложить, – обиженным тоном ответил Франц. – Поэтому, как говорил мне мой друг Пилат при известных обстоятельствах, я умываю руки.
Зиморович сделал еще одну попытку и предложил, чтобы пан Мартин примерил одежду и маску. Лавники согласились, что надо ведь убедиться, чьи это вещи. Как и следовало ожидать, одежда оказалась маленькой, а маска, изготовленная из нескольких склеенных слоев ткани, далеко не полностью закрывала лицо аптекаря, оставляя при этом на виду черную бородку. Зиморович поинтересовался у свидетеля, который видел убийцу, узнал ли он его сейчас. Свидетель был явно потрясен. Он не видел бородки, которая торчала бы из-под маски, лицо же тогда было закрыто полностью.
– А что может сказать свидетель о том, как убийца атаковал свою жертву? – продолжил Зиморович. – Не прихрамывал ли он часом?
– О, нет, – замотал головой тот, – он довольно ловко прыгал, уклоняясь от сабли.
Но тут вмешался доктор Грозваер и поинтересовался, который тогда примерно был час, а потом радостно сообщил всем присутствующим, что в это время уже темнеет, и свидетель не мог все доподлинно разглядеть. Он говорил так убедительно, что свидетель заколебался и признал, что не так уж и хорошо все рассмотрел.
И тогда раввин Мейер спросил Айзека:
– А какое лезвие у шпаги аптекаря: плоское или трехгранное?
– Трехгранное. А что?
– Подскажи секретарю, чтоб допросили доктора, который осматривал трупы, какой формы были у них раны. А также пусть осмотрят шпагу доктора. Может, это и поможет, а может, и нет, но хуже все равно не будет.
Молодой секретарь Зиморовича, который не раз приходил в аптеку за разными наливками, стоял у открытого окна, облокотившись на подоконник. Айзек передал слова раввина. Через минуту Зиморович сделал последнюю попытку спасти своего клиента. Доктор Нигель, который осматривал трупы, заявил, что раны были колотые, сделанные плоским лезвием. Когда продемонстрировали трехгранную шпагу аптекаря, публика взволнованно зашумела. Но прокурор спросил доктора, может ли он быть на сто процентов уверен в том, что лезвие было плоским, если, как известно, мышцы после смерти сокращаются, и рана, нанесенная трехгранным лезвием, могла просто стянуться, как стягивается шея под отрубленной головой. Доктор Нигель вынужден был согласиться с этим.
Рута, получив от мальчишки письмо и флягу с неизвестным содержимым, изо всех сил спешила на Рынок. Она с ужасом осознавала, что малейшая надежда на спасение аптекаря тает с каждой минутой. По дороге она молилась и Пресвятой Деве, и Даждьбогу, чувствуя, как ее затапливает новая волна любви, которая до сих пор дремала в глубине души и не подавала признаков, а теперь пробилась на поверхность. Она верила, что получила то, что может спасти аптекаря, хотя и не имела никакого представления, что там могло быть, но ее вдохновляла уверенность, что Юлиана не способна на подлость.
Рута подоспела как раз тогда, когда прокурор успешно разгромил последний довод в пользу обвиняемого – итог был ясен. Судья готовился зачитывать приговор. Рута передала письмо Айзеку, а тот бросился, как таран, в самую гущу толпы, расталкивая ее своими крепкими плечами, и вручил секретарю эту последнюю надежду. Судья огласил приговор – аптекаря должны были четвертовать, и разные части тела развесить на въездах в город. Прокурор еще настаивал на пытках перед казнью, чтобы заставить убийцу сознаться в своих преступлениях, но судья, пошептавшись с лавниками, сказал, что это лишнее – мол, доказательства неоспоримы, а кроме того, врачей и государственных чиновников пытать не позволяется.
Рута оперлась на Калькбреннера, ноги у нее подкашивались. Зиморович распечатал письмо, и, пробежав глазами, удивленно взглянул на секретаря. Тот взял письмо, повертел в руках и тоже ничего не понял. Айзек все еще стоял у окна, секретарь вернул ему бумагу со словами: «Здесь ничего нет. Вероятно, должно быть другое письмо». Айзек посмотрел на лист и прочитал: «Дорогой пан доктор! Если возникнут трудности, к которым вы не были причастны, то это мое признание от этих хлопот должно вас избавить. Лоренцо ди Пьетро». Ниже были приписаны две строки на латыни. Остальная часть листа, как и его обратная сторона, были чистыми.
Айзек вернулся к Руте и раввину.
– Это все, что тебе передал мальчишка? – спросил он девушку. – Это письмо неполное. Должно быть еще что-то.
Рута показала флягу. Айзек открыл ее и понюхал. Запах спирта ему ничего нового не сообщил. Он подал письмо раввину. Рута посмотрела через его плечо и оторопела. Письмо ей тоже ничего не говорило. Но раввин покачал головой:
– Здесь и вправду все. – Зачем зачитал: – «Dixitque Deus: «Fiat lux». Et facta est lux». Это цитата из Библии, которая означает: «Сказал Господь: «Да будет свет». И стал свет». Ниже видим две буквы «SH». Ваш друг Лоренцо позаботился, чтобы письмо, попав в чужие руки, осталось непрочитанным. А также чтобы не пропало, если окажется в воде или огне, – написанное в нем не исчезнет. Текст будет читаться даже на обугленной бумаге. Но сейчас прочитать его не удастся. «SH» – не что иное, как Silberhornerz – роговое серебро, или кераргирит, от греческого kéras – «рог» и árgyros – «серебро». Это минерал, который имеет удивительную способность менять цвет и темнеть на солнце. Письмо, написанное раствором кераргирита, в сумерках остается невидимым до тех пор, пока не полежит несколько часов на свету.
– Несколько часов! – ужаснулся Айзек. – А у нас есть эти несколько часов?
Их не было. Судья назначил казнь на пять вечера, чтобы успеть все подготовить, зеваки из пригородов могли вернуться домой до закрытия ворот. Публика одобрительно встретила приговор и разбрелась по шинкам.
– Что же нам делать? – спросила Рута.
– Ждать, – ответил раввин Мейер, передавая письмо Айзеку. – Летом это дело, ясно, пошло бы быстрее. А мартовское солнце капризно – то вынырнет из-за туч, то спрячется. Но когда ветер стихает, надежда кроется даже в пепле. Буду молиться, чтобы у вас получилось.
Он попрощался и пошел домой. Айзек с Рутой поторопились в аптеку. В сад они вынесли столик, положили сверху бумагу и прижали уголки медными гирьками. Затем оба посмотрели на солнце, не отличавшееся особой яркостью, и понуро приступили к привычной своей работе, которая хотя бы внешне могла отвлечь их от грустных мыслей.
«Я следил за тем, как письмо сначала оказалось в руках секретаря, затем у Зиморовича, а потом отправилось обратно. Последняя надежда на спасение угасла. Судья вместе с лавниками решил не откладывать увлекательного зрелища, особенно учитывая, что публика уже собралась, а с улицы доносились удары топоров, которыми сколачивали помост. Зиморович шепнул мне, что это письмо от Лоренцо, но там было только обещание избавить меня от хлопот, и больше ничего. Такое впечатление, что должно было быть еще одно письмо, но его нет. Меня отвели снова в тюрьму, я сел на солому и закрыл глаза. Все это не укладывалось в моей голове. Куда девалась Юлиана? В чем заключается загадка ее письма? Какое отношение имеет она к убийствам? Что делала у меня дома маска совы? Неужели это Юлиана убивала? Удивительно, как можно столько времени искусно скрывать свои намерения и, несмотря на дружеские отношения, ни разу их не выказать. Но если бы она мне доверилась, то нет гарантии, что я бы ее не отговорил от такого поступка. Она никогда не выказывала особой заинтересованности в убийстве проститутки. Так почему же вдруг принялась мстить? А может, это не она, а кто-то, кому она помогала?
Дверь приоткрылась, вошел Каспер и, следуя процедуре, попросил прощения за то, что меня вскорости ждет. Как странно было мне слышать это из его уст. Спросил, не нуждаюсь ли я в чем-либо. За ним стояли двое лавников, и он не мог сказать ничего лишнего, но взгляд его говорил, что он, вероятно, намерен мне помочь так же, как Гальшке. Возможно, это действительно выход. В тот день, когда меня арестовали, я попросил бумагу и чернил и принялся описывать свою историю. Сегодня меня еще должна проведать Рута, и я передам ей эти записки, адресованные в никуда.
Я сказал Касперу, что хочу вина. Он кивнул. Я сказал – белого и красного. Он понял, потому что после «белого» я сделал красноречивую паузу. Белое вино будет сдобрено экстрактом роделии. Такой будет последняя услуга палача. Хотя от четвертования это меня не спасет, но все же казнить будут уже бесчувственное тело. Как-то раньше я никогда не задумывался над тем, что очень часто казнь назначали в тот же день, когда был суд. Мне была безразлична эта особенность, пока она не касалась меня. Теперь осознание того, что все происходит слишком быстро, угнетает меня, я начинаю погружаться в воспоминания, но они так болезненны, хочется оказаться снова где-то там, в Венеции, подальше отсюда. Господи, прими мою грешную душу!»
…Лукаш тянул красное вино и медленно погружался в равнодушную блаженность, освобожденную от страхов и паники. Кувшин с белым вином, залепленный сверху кружком вощины, ждал рядом, и он иногда поглядывал на него. Но еще было время. Сверху в окно был виден краешек неба, приковывавший взгляд. Иногда пролетала птичка, и мысли летели за ней следом.
Пришла Рута в сопровождении двух цепаков, они не позволили ей подойти близко. Видно было, что она очень переживает, но поговорить им не дали, разрешили только девушке забрать бумаги аптекаря и сразу вывели ее из тюрьмы.
Время тянулось медленно, неожиданно напала дремота, Лукаш пробовал ее преодолеть, но, в конце концов захмелев, заснул и проснулся от грохота дверей. Cнова появился Каспер, на этот раз с двумя подмастерьями и с теми же лавниками. Он посмотрел на кувшин, все еще залепленный вощиной. Лукаш спросил: «Уже?» Каспер кивнул. «Я заснул», – сказал Лукаш, чтобы объяснить свое промедление, и рука его потянулась к кувшину. Он отлепил вощину и поднес кувшин к губам. Вино было терпковатым, но мед, который капал в вино с вощины, придал ему приятный привкус, аптекарь делал большие глотки, чтобы выпить как можно больше. Оставлять его нельзя, чтобы у Каспера не было потом проблем. Что не допьет – выльет. Он осилил только половину, остальное выплеснул на пол и сказал, усмехаясь лавникам: «Это на счастье».
Его вывели из тюрьмы и усадили на телегу. Позади телеги шел судья, держа высоко над головой меч возмездия, за ним – палач с подмастерьями. «Кажется, моя казнь как раз и будет сотой, – подумал Лукаш, – а затем меч торжественно похоронят за крепостными валами на заливных лугах. Вместе с каплями моей крови». Он был откровенно захмелевшим, в голове его мелькали отблески последнего сна, в котором он искал кого-то, это была девушка, но Юлиана или Рута, понятно не было, он искал ее, бродя по городу, и страшная тоска пронизывала его, во сне он приближался к аптеке, она была закрыта, он пытался заглянуть в окна, но там было темно, он снова брел по улицам, выходил за крепостные валы, туда, где они вместе гуляли, шел вдоль реки, рассматривал следы на песке, узнавал их, но следы вели в воду. Так вот, проблуждав весь сон и никого не найдя, он в тот же миг проснулся, и последнее, что он еще успел увидеть в своем сне, как чья-то рука поманила его из-за кустов краснотала, он тогда почувствовал невероятную радость, но на этом сон оборвался. Ему было очень жаль, что он его не досмотрел, ибо во сне, в котором он оказался сейчас, уже не могло быть светлого окончания, впереди зияла темнота, и никто ему из нее не помашет рукой.
Народу на Рынке собралось множество, все с нетерпением ждали действа, толпа встретила телеги с приговоренным громким гулом. Мало у кого закрадывалось сомнение, что аптекарь и есть тот жестокий убийца, который наказывал юношей только за то, что те надругались над шлюхой. Чужак, который решил установить свои порядки в их свободном королевском городе, должен понести кару в назидание будущим поколениям. Эту казнь запишут в хроники города и будут не раз еще вспоминать.
Каспер взошел на помост первым. Затем Лукаш соскочил с телеги, удивляясь легкости, с которой двигался, и не понимая, почему вино с ядом до сих пор не подействовало. Какой же он дурак, что заснул. Надо было выпить значительно раньше, а он все медлил и медлил. Каспер смотрел на него с удивлением. Он тоже не понимал, почему Лукаш еще стоит на ногах. Подмастерья взяли аптекаря под руки и вывели на помост. За ним поднялся отец Амброзий, Лукаш заметил в его глазах слезы, молитва и целование креста прошли в тумане.
– Крепись, сын мой. Я буду молиться, чтобы на тебя снизошла благодать Небесная. Повторяй за мной, и да помилует тебя Господь: «Мое грешное тело»…
– «Мое грешное тело…» – повторил Лукаш, чувствуя, как кру5гом идет голова, но не от выпитого яда, а от страха, от того, что лишь шаг отделяет его от небытия.
– «…должно теперь согласно справедливому и правильному приговору…» – бормотал отец Амброзий, а Лукаш повторял, лихорадочно ища возможности как можно дальше растянуть общение с ним, чтобы дождаться, пока вино подействует. Он посмотрел на Каспера, тот скривил губы, давая знать, что не понимает, в чем дело. Как только формальность завершилась, Лукаш дрожащим голосом сказал, что хочет исповедаться, и, не дожидаясь разрешения, упал на колени перед священником. Этого никто не мог ему запретить, но толпа недовольно загудела, не понимая, почему он не исповедался еще в тюрьме, тем более, что время поджимало. Отец Амброзий тихо спрашивал приговоренного к казни про его грехи, тот так же тихо отвечал пространными длинными предложениями, внимательно прислушиваясь к своему состоянию в ожидании отупения. А оно все не наступало и не наступало. Лукаша стало морозить, он чувствовал, как в ужасе бьется его сердце. Он бросил взгляд в толпу. Несколько воинов с копьями стояли неподалеку. Лукаш решил, что в последний момент прыгнет на копья, а там будь что будет.
Глава 35 Письмо
– Есть! – закричал безумным голосом Айзек. Рута выбежала в сад и увидела, как на бумаге появились бледные, еще трудно читаемые буквы. Солнце делало свое дело, хотя и очень медленно, ужасно медленно, день клонился к вечеру, и свет тускнел, а облака лохматились все больше.
Рута со стиснутыми кулаками стояла над письмом и словно гипнотизировала его – ей казалось, что от одного ее взгляда письмо проснется от спячки.
В аптеку вошел Калькбреннер вместе с Францем и очень удивился, что они используют только свет солнца.
– Огонь тоже может влиять на появление букв, – сказал Иоганн. – У вас в камине есть поленья – вот ими и посветите. Жар очень хорошо влияет.
Айзек радостно ударил себя по лбу, бросился в аптеку, выхватил полено из камина, край которого весело пылал, и встал у столика с письмом. Тепло и свет теперь действовали на письмо куда интенсивнее, он уже корил себя, что не додумался сам до этого раньше, одновременно оправдываясь тем, что раввин подчеркнул слово «свет», а они восприняли это, как свет солнца, тогда как свет ведь мог быть каким угодно. «Ну разве ж так?» – спрашивал он Руту, а та плакала и кивала, подбадривая его. Искры с полена сыпались Айзеку на руку, но он не обращал внимания, стиснув зубы, пронизывал взглядом бумагу и радовался, когда в разных местах проступали новые и новые буквы, а из них уже можно было понять, что Юлиана написала письмо, которое должно спасти аптекаря.
– Не забывайте, что есть еще я, – сказал Франц. – Я могу иногда пойти против своих принципов и сделать доброе дело.
– Я знаю, – отмахнулась Рута. – Но это не тот случай.
– Ну, как хотите, – вздохнул Франц. – Хороших людей не так много, чтобы разбрасываться ими, как поленьями. Его еще не вывезли из тюрьмы, и я мог бы…
– Разве для этого не нужно его согласие? – спросила Рута.
– Я же говорю – есть исключения.
– Такие, как Альберт?
– Ой, не напоминайте мне об этом свинтусе и прохвосте. Я конечно же поиздевался над ним, но он это заслужил.
– О чем вы? – не понял Айзек.
– Да так, о личном, – сказала Рута.
– Не знал, что между вами есть что-то личное, – удивился Айзек.
– Это не то, что вы подумали, – засмеялся Франц. – У нас отношения исключительно платонические.
– Еще эта фляга, – вспомнила Рута. – Кто-то может посмотреть, что там?
Франц поднял флягу к глазам и прищурился.
– Почему вы ее не откроете? – спросил Айзек. – Она ведь не стеклянная.
– Это для вас она не стеклянная, – засмеялся Франц и прищелкнул языком от удовольствия. – Здесь находятся замечательные вещи – все обрезки языков. Они хорошо сохранились, но давать их судье в таком виде не годится. Переложу-ка я их в хорошенькую коробочку с надписью «Дольки имбиря засахаренные». Как по мне, довольно остроумно.
Гомон с Рынка дал знать, что приговоренного привезли. Рута, увидев, что полено начинает гаснуть, побежала за другим. Теперь она держала огонь у бумаги, а искры сыпались ей на руки. От жара бумага на глазах начинала сворачиваться, но зато буквы выныривали из ее глубин, словно диковинные рыбы, и сбивались в группы, чтобы явить правду. Ветер, однако, сдувал пламя, Иоганн кивнул Францу, тот стал с противоположной стороны и принялся дуть на бумагу. Руте показалось, что из его рта вырывается прозрачное пламя, но процесс ускорился, хотя бумага и темнела на глазах. Наконец весь текст, хоть местами и бледный и пожелтевший от жара, предстал перед их глазами. Айзек сбросил гирьки, схватил его и хотел бежать, когда ветер рванул бумагу и оторвал маленький кусочек. Бумага слишком пересохла и стала ломкой. Рута взяла альбом лекарственных растений, Айзек осторожно вложил письмо между страницами, и только тогда они побежали на Рынок.
Они искали Зиморовича, но его не было видно среди уважаемых людей, которые сошлись на казнь. На глаза им попался доктор Гелиас. К счастью, он быстро понял их скороговорку и поспешил вместе с ними в шинок «Под Красной Еленой». Там они и застали Зиморовича за кружкой вина. Перебивая друг друга, они объяснили, в чем дело, и раскрыли перед ним альбом с письмом. Бартоломей взглянул и сразу же вскочил, но заставил себя дочитать до конца. Затем выхватил из рук Айзека коробочку и побежал изо всех сил к помосту, на ходу слушая объяснения Айзека о ее содержимом.
Лукаша подвели к широкому бревну. Он посмотрел на копья, но вдруг осознал, что не допрыгнет до них, потому что под напором толпы воины отступили немного назад, а их место заняли цепаки. Еще и эта слабая надежда лопнула. Лукаша положили лицом вверх на бревно, на руки и ноги накинули петли и затянули плотно вниз. Лукаш уставился в небо, оно было седым и неприветливым. Каспер, не торопясь, подошел к судье и взял из его рук меч, поднес к глазам и внимательно обследовал лезвие. Делал он это с таким важным видом, будто это относилось к обязательному палаческому обряду. Толпа внимательно следила за всеми его движениями.
Вдруг народ всколыхнулся. На помост вскарабкался Зиморович и раскрыл перед судьей атлас с вложенным письмом. Тот сначала ничего не хотел слушать, но Зиморович не сдавался и зачитывал ему отдельные строки. Судья мотал головой, но постепенно смягчился и наконец покорился. Толпа заволновалась, никто не мог понять, что происходит. Лавники встали с мест и двинулись к помосту. Когда же пристав взял письмо, на Рынке воцарилась мертвая тишина.
«Я, Лоренцо ди Пьетро, гражданин Триеста, родившийся во Львове, – читал громко пристав, – свидетельствую и подтверждаю, поклявшись перед Господом Богом, что говорю правду и только правду, и пусть Господь мне в этом поможет.
Когда моя мать умерла, мой отец забрал меня вместе с двумя сестрами и отвез в свой родной город Триест, где мы и росли у его родственников. Моя младшая сестра Эмилия влюбилась в офицера генуэзской флотилии и убежала из дома. Больше мы ее с сестрой-близняшкой не видели. Я не раз пытался ее разыскать, но все напрасно. Однако недавно я получил известие о том, что она может находиться во Львове.
Уже когда я собрался в дорогу, мне написал доктор Калькбреннер, что офицер, с которым Эмилия сбежала, покинул ее на произвол судьбы. Не имея средств к существованию, она оказалась в публичном доме. Узнав, какие издевательства и мучения она испытала перед смертью, я утратил покой, поклявшись, что отомщу ее обидчикам. Посему это известие моего решения не изменило – я отправился во Львов. И все эти дни, что я жил здесь, я думал только об убийцах. Я жил местью и ненавистью.
Поскольку я окончил Падуанский университет, то попросился на практику к пану доктору Мартину Айреру, о котором слышал много хорошего.
Воспользовавшись тем, что доктор Айрер и Иоганн Калькбреннер и сами пытались выследить убийц, я внимательно прислушивался к каждому свежему известию. Так крупинка за крупинкой я собирал сведения о тех, кто был на охоте, где со всей жестокостью убили мою бедную сестру. В ящике у доктора Айрера я наткнулся на полный список убийц, который составил доктор Калькбреннер. Там не было только одного имени. Но я узнал его уже сам.
Я понимаю, что граждане Львова не испытывают никакого сожаления или сочувствия к судьбе заблудшей души – моей сестры. Но она тоже, как и вы, была человеком, а не насекомым, которое любой может раздавить. А те, которые издевались над ней неестественным и зверским образом, людьми не были.
Поэтому мне оставалось одно: ждать подходящего случая. И он наступил во время последнего карнавала.
Я надел маску совы, выследил и убил всех насильников одного за другим в честном поединке, Господь Бог мне свидетель, пробив каждому из них глотку так, что лезвие шпаги выходило на затылке. Этому редкому удару я научился еще в Падуе, в течение нескольких лет посещая школу фехтования. Здесь, в Львове, я нарочно делал вид, что владею шпагой как начинающий.
У каждого из убитых я отрезал кончик языка, и эти доказательства моей и только моей вины прилагаю к письму. Это письмо я пишу в последнюю мою ночь во Львове. Утром я, переодевшись извозчиком, буду ждать пана Зилькевича, последнего, кто глумился над моей сестрой. Доказательство его участия в надругательстве находится в аптеке «Под Крылатым Оленем». После я сяду на корабль и навсегда покину этот город.
Пусть Господь мне будет судьей, но там, где не действует закон, действует месть и закон крови. Меч возмездия рано или поздно настигнет каждого.
Доктор Мартин Айрер не знал ничего ни о моих планах, ни о моих поступках. Тщательно все спланировав, я решил не затягивать своей мести и исполнить приговор моего сердца в кратчайшие сроки. Надеюсь, что и последний из насильников понесет заслуженную кару.
Свидетельство это я, с добрыми помыслами составив и рукой своей собственной написав, перед всем честным людом представляю и открыто чиню.
И пусть Господь мне будет судьей за все мои поступки грешные, за которые я готов принять покаяние от Сына Его Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, сидящего одесную Отца, что придет со славою судить живых и мертвых, его же Царствию несть конца».
С этими словами Зиморович открыл перед глазами судьи коробочку, тот заглянул в нее и, скривившись, передал ее лавникам. Он ждал, что те сами решат, что делать, но они только пожимали плечами, передавая коробочку из рук в руки, и передергивали плечами, откровенно полагаясь на него. Тогда судья осмелел и произнес:
– Именем закона нашего магдебургского я, Стефан Рогач, судья магистратский, объявляю: доктор Мартин Айрер, гражданин королевского города Львова, освобождается от всех обвинений в убийствах! И никто не смеет никогда упрекать его в том, чего он не совершал.
Каспер стал развязывать Лукаша, еще когда письмо не было дочитано, но уже было понятно, каким может быть решение. Поэтому свое помилование аптекарь выслушал стоя, внимательно прислушиваясь к своему умопомрачительному состоянию и думая, что было бы совершенно несправедливо именно сейчас свалиться под действием яда.
– От себя добавлю, пан доктор, – продолжил судья, – что вам стоит тщательнее выбирать учеников.
На удивление, толпе, которая, казалось, горячо ждала смертного приговора, помилование тоже пришлось по вкусу, и она встретила его аплодисментами и довольными возгласами. Единственный, кто не разделял этой радости, был Грозваер. Он протиснулся к Лукашу и прошипел ему на ухо так, чтобы никто сторонний не услышал: «Вам удалось обмануть целый город, но не меня. И мы еще сочтемся!» Лишь в эту минуту Лукаш, смотря на Грозваера, вспомнил о показаниях убийц, которые подстерегали их с Мартином. Но после пережитых душевных мук эта угроза выветрилась так же быстро, как и была озвучена. На Рынке аптекаря приветствовали уже целые толпы, ему едва удалось пробиться к Айзеку и Руте.
– Пан доктор, – радовался Айзек, – я страшно за вас переживал, ведь перспектива оказаться снова безработным и ночевать под мостом меня не радовала. Поэтому я обратился за помощью к ребе Мейеру, который дал ценные советы пану Зиморовичу. Они, правда, не помогли, зато помогла его подсказка, что нам делать с тем таинственным письмом. Но я вам об этом позже в деталях расскажу. Потому что вот и пан Калькбреннер, и Франц не дадут соврать, как мы все за вас волновались. А особенно Рута. Если бы не она, вам пришлось бы таки повиснуть на четырех сваях. Это она раздобыла письмо от Юлианы и передала его через Стася. Иди сюда, малой! – подозвал он мальчишку. Тот робко подошел.
– Простите, что я не успел забрать сумку из кустов, – сказал малец, смутившись. – Лоренцо мне сказал, чтобы я нашел ее и отнес вам.
– Ничего. Хорошо то, что хорошо кончается, – сказал аптекарь. – Придешь ко мне завтра, я найду для тебя работу.
Мальчишка обрадовался и, перед тем, как убежать, не удержался, чтобы не поцеловать руку Лукашу.
– Удивляет меня одна вещь, – сказал Лукаш, чувствуя, как одолевает его сонливость. – Я выпил от отчаяния отравленное вино, но оно на меня не подействовало.
– И не могло подействовать, – засмеялся Айзек. – Потому что когда Каспер пришел к нам за экстрактом роделии, а мы как раз колдовали над тем письмом, и буквы с черепашьей скоростью проклевывались, Рута дала ему немного вашего чудодейственного бальзама. Ведь мы верили, что удастся-таки это письмо оживить.
– Бальзама? – удивился Лукаш. – И сколько же она его дала?
– Да что там! – махнул рукой Айзек. – Всего лишь на один бульк!
– О Господи! Ведь если его выпьет здоровый человек, он заснет на сутки, а то и на двое. Только этого мне еще не хватало!
– Ай, пан доктор, – утешал его Айзек. – Хорошо выспаться еще никому не повредило. Право, сон на сутки-двое куда лучше, чем вечный сон, не так ли?
Лукаш посмотрел на них туманным взглядом.
– Хорошо. Берите меня под руки и ведите, если не хотите, чтобы я улегся под забором.
Айзек с Рутой подхватили его и повели, чувствуя, как тяжелеет его походка.
– Спокойной ночи! – крикнул вдогонку Калькбреннер. – Как очухаетесь, дайте знать. Нужно ведь будет скропить его счастливое воскрешение.
Рута прижималась к Лукашу, глядя на него какими-то совсем другими глазами, не в состоянии произнести ни слова, она улыбалась, и в глазах ее сверкали слезы. Но это были слезы радости. Когда они отошли от толпы, она наконец сказала:
– Я была так слепа.
– Я тоже, – сказал Лукаш, зевая, и ему показалось, что он узнал руку, которая махала ему во сне.
Примечания
1
Рынок – центральная площадь Львова, центр экономической, политической и культурной жизни города.
(обратно)2
Мальвазия – вино из одноименного винограда, растущего в Средиземноморье.
(обратно)3
Цаль – как и дюйм, имеет 2,54 см.
(обратно)4
Импет – напор, сила.
(обратно)5
Козарики, чеберяйчики – персонажи украинского фольклора, маленькие лесные существа.
(обратно)6
Лавник – член судебной коллегии («лавы»).
(обратно)7
Зиморович Бартоломей (1597–1677) – поэт, историк и бургомистр Львова.
(обратно)8
«Под Крылатым Оленем» – это здание стояло на месте нынешнего дома № 45 на углу Рынка и Печатной улицы.
(обратно)9
Тузинь – дюжина.
(обратно)10
Меркурий – ртуть.
(обратно)11
Райцы – члены магистратского совета.
(обратно)12
Цурис (евр.) – беда, неприятность.
(обратно)13
Камлот – дешевая хлопчатобумажная ткань.
(обратно)14
Цепаки – львовская городская стража, вооруженная боевыми цепами.
(обратно)15
Човганка – от укр. «човгати» – таскать, волочить; потаскуха.
(обратно)16
Брама (галиц.) – ворота, также подъезд.
(обратно)17
Бабинец – часть церкви, где стояли женщины.
(обратно)18
Белоголовая – женщина.
(обратно)19
Мизерикордия – кинжал милосердия, которым добивали врага.
(обратно)20
Каменица – каменный дом.
(обратно)21
Мадей – легендарный разбойник, который после многих преступлений заслужил прощение.
(обратно)22
Бамбетель – деревянная раскладная лавка-кровать.
(обратно)23
Блават – шелковая ткань голубого цвета.
(обратно)24
Дротар – от укр. «дріт» – «проволока», скитающийся мастер, который с помощью проволоки чинил глиняную посуду.
(обратно)25
Аликант – испанское вино из Андалузии.
(обратно)26
Кампиан Павел (1527–1600) – доктор медицины, предприниматель, раец и бургомистр Львова.
(обратно)27
Кишка – традиционное блюдо – колбаса, фаршированная разными начинками.
(обратно)28
Анчевский Мартин Никанор (? – 1676) – львовский раец, бургомистр, купец, доктор медицины и философии.
(обратно)29
Узвар – напиток из сухофруктов.
(обратно)30
Пляцок (галиц.) – пирог, торт.
(обратно)31
Инфузории – их впервые открыл в 1670-х годах Левенгук, но само слово существовало и раньше и означало микроскопические организмы, которые обильно развиваются в различных растительных настойках.
(обратно)32
Немирич Юрий (1612–1659) – украинский магнат, патриот, военачальник, государственный деятель и дипломат эпохи войн Б. Хмельницкого. Автор проекта Гадячского соглашения.
(обратно)33
Юнгинген Ульрих фон (1360–1410) – Великий Магистр, возглавлял войско Тевтонского ордена в битве под Грюнвальдом 15 июля 1410 года.
(обратно)34
Зиморович Шимон (1604–1629) – брат Бартоломея, поэт.
(обратно)35
Балагула – еврейский возчик, также таратайка.
(обратно)36
Возный – судебный чиновник, следивший за ходом следствия и за порядком в суде.
(обратно)
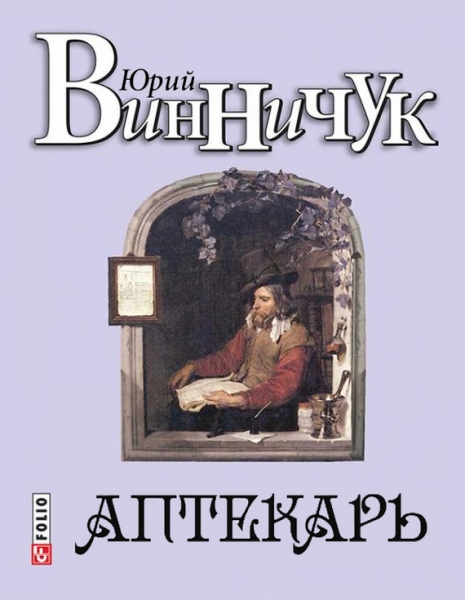





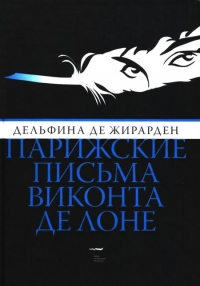


Комментарии к книге «Аптекарь», Юрий Павлович Винничук
Всего 0 комментариев