Нелли Карпухина-Лабузная Постник Евстратий: Мозаика святости
© Н. Карпухина– Лабузная, 2017
© ООО «Издательство Буквально», 2017
* * *
Святой Евстратий был уроженцем Киева и обладал немалым богатством. Но душа его не была привязана к тленным сокровищам. Почувствовав влечение удалиться от суеты мира сего, он раздал все свое имущество бедным и поступил в обитель преподобного Антония. За свое великое воздержание он получил название «Постника».
В 1097 году половцы неожиданно напали на Киев и сожгли Печерский монастырь. Сильно пострадала от диких язычников Печерская обитель; церковь была сожжена, иноческие келии разорены, монастырь разграблен, много братии было убито, много взято в плен. В числе пленных был и Евстратий. Половцы продали его в рабство вместе с 50-ю другими христианами-пленниками одному херсонскому еврею. Тот начал побуждать своих новых рабов к отречению от Христа, угрожая в противном случае уморить их голодом в узах. Но мужественный Евстратий ободрял и укреплял своих братьев по вере, говоря:
«Не будьте, братие, отступниками обета своего, бывшаго при крещении. Смертию временною мы получим жизнь вечную»!
И пленники решились скорее умереть, чем отречься от Христа. Один за другим скончались они от голода, кто через три дня, кто через семь, а иные через десять дней.
Евстратий, привыкший к продолжительному посту и воздержанию, 14 дней провел без пищи и остался жив. Жестокий еврей, видя в лице Евстратия причину погибели своего золота, данного им за пленных, решил отомстить праведнику.
Когда наступил у евреев праздник Пасхи, враги Христовы пригвоздили святого Евстратия ко кресту и издевались над ним. Святой же в это время благодарил Господа, Который сподобил его пострадать способом, каким совершились и Его живоносные страдания.
При этом Евстратий предсказал еврею, что за христианскую кровь на них придет отмщение. Услышав это, раздраженный еврей копьем пронзил распятого Евстратия, и потом тело его велел бросить в море. Это происходило в 1097 году.
Христиане извлекли из воды мощи св. Евстратия и привезли их в Киев, где они и поныне почивают в пещерах преподобного Антония.
Евреи же за мучение христиан, по приказанию греческого императора, вскоре понесли достойное наказание: некоторые из них были изгнаны из Херсона, другие преданы смертной казни.
Так исполнилось над ними предсказание святого Евстратия.
Он продан был жидам, распят ими на кресте и прободен копием во время Пасхи за Христа
(Патерик печерский или Отечник, издание Киево-Печерской лавры, 2004 г., стр.268)
(«Полное собрание житий святых» Православной Греко-Российской церкви под ред. Е. Поселянина, месяц март, Бесплатное приложение к журналу «Русский паломник» за 1908 г., изд. С.Петербург книгоиздательство П.П.Сойкина).
(По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: переиздание Донского монастыря. Издательский отдел Московского патриархата при участии ТОО «Светлячок», Москва, 1992 г).
Предисловие ко второму изданию
Это второе издание книги о самом забытом святом из сонма Православных Святых.
Перед выходом в свет первого издания меня терзали сомнения: будет ли интересен мой скромный труд о временах далёких и давних, о жизни православного святого.
Не всякому в радость вникать в смысл старинных понятий, старинного быта, не любящим историю нашего прошлого.
Но если Вы любите Русь, Украину, и особенно если Вы христианин, смело читайте эту полу быль– полунебыль, сказ или правду. Я писала о том, что было тогда, в далёком первом тысячелетии от Рождества Христова…
Русь, Византия, Дикая Степь, половцы, печенеги. В смешении рас горнилась страна, в духовных битвах истинных христиан со всякого рода языческими верованиями крепилась вера в Христа, крепилось и православие.
Херсонес! Колыбель православия на Руси, давшая нам великий сонм православных Святых. Прославили веру святую папа Мартин и папа Климент, епископы православные, отдававшие жизнь за Христа и во имя Христа.
Но особенно выделяется среди них, самых достойных, великий святой. Великий, и самый забытый! На целое тысячелетие забвением покрылось имя его, Евстратия, что был иноком Лавры Печерской во славном городе Киеве, еще при жизни прозванном Постником за великое свое воздержание и служение Христу, принявшему мученическую смерть во имя Бога Единого на Херсонесе, в далёком-далёком 1097 году.
Первое издание моего труда выдержало, надеюсь, читательский суд, к тому же достаточно много накопилось за прошедшие несколько лет дополнительной информации, и я решилась на второе издание, исправленное и дополненное, которое и отдаю на суд моих друзей, моих читателей.
Я далеко не случайно назвала свой опус мозаикой. Сознательно не соблюдала хронологию всех событий, и, по моему мнению, поступила я правильно.
Насколько могу судить по откликам на книгу, информация подана правильно.
Хочется вот ещё вам сказать.
Я была не первой, написавшей в художественной форме про православного святого. У меня есть предшественница, ныне уже покойная (умерла 30 апреля 2011 года), белорусская писательница Ковтун Валентина Михайловна, написавшая прекрасную книгу под названием по-белорусски «Покликанная» о Святой Ефросинии Полоцкой.
Надеюсь, что появятся новые книги, говорящие о святых. Православных святых.
Ну, с Богом! Я начинаю.
Севастополь, 2017 г., автор.Дромоны
Император суров, и византийцев дромоны[1] скользили по морю, ветер гнал судна на Север, на Корсунь, на Херсонес.
Разведки пиратов от Кипра до Азии Малой и Калос Лимена были точны: то императорский флот! Тому и держались подалее, в маленьких бухтах Калос Лимена (Прекрасной Гавани, ныне – пгт Черноморское в Крыму) и Симболона (Балаклавы). Вдруг император задумал опять пиратов повесить на реях? Нет, лучше подалее держаться от грозного флота!
Были бы это торговые корабли гордых ромеев, что везли драгоценное масло иль пряности, ткани и шелк, то дело другое! А так, силы были слишком неравны…
К Херсону, к его главной пристани, пристали в ночи. Сонная стража «собаки» (стража собаки – время раннего утра с 3 до 5 утра) едва не проспала спешный приход воинов власти. Привычно захлопали сходни, и гостеприимная гавань открыла гостям Херсонес.
Красива окраина византийской империи, ох, как красива!
Сиял Херсонес в лучах благодатного раннего солнца. Бухты синели чистейшей водой, фелюги рыбачьи серебряной рыбой слепили глаза, на дальних холмах, Гераклейских садах виноградники зеленью тешили взор. Воздух чистейший был напоен и звенел ароматами трав. Бесконечные бухты опоясали город. Белели вдали инкерманские горы.
Парадная пристань шумела с рассвета: в самом разгаре погрузка и выгруз. Скоро-скоро, и яркое солнце заставит искать прохладу затишья. Пусть март, пусть даже рано весна наступила, но солнце палило, как в жарком июле. Тому торопились, особенно водоносы. При красоте Херсонеса, его несметном богатстве проблема была – питьевая вода.
Разрушенные русичами в результате похода князя Владимира, того самого, Владимира Красное Солнышко, впоследствии крестившего Русь, водоводы засыпаны грязью и пеплом, те, что остались, те берегли. А за колодцами особо: смотрели: вода – это жизнь в самом её обыденном понимании.
Не так, как безводье, был страшен кочевник-сосед…
Но с половцем, иже куманом, даже дружили, обмен и торговля шли каждый день, и херсонесец степи не боялся. Пока через город-полис нескончаемой чередой шли плененные вятичи и мурома, черниговцы и черемисы (племена словян), Херсонес за себя не боялся. Осторожность не помешает, выйти за город и попасться пиратам, то не проблема, дашь откуп богатый, и ты на свободе. А херсонесец богат, ему хватало на жизнь, на достойную старость, на утехи и вина и на десятину на храм. Далекие войны отголоском победы несли городу всё: рабов и пушнину, золото, серебро, юфть и сыромятную кожу. И соль. И мёда запасы. И зерно, очень много зерна.
И очень много рабов…
Кто воевал, то было не важно. Русичей князь побеждал или половец-хан, рабами торговали оба, не брезговали. С половцем даже лучше дружили: товар на пути сберегал, рабов накормить, так подкармливал. С князем похуже: продавая людишек, торго вался нещадно, на дальний прокорм деньги обычно зажиливал, рассуждая не здраво, авось, доберутся.
ИИСУС сказал им (евреям):
«Если бы Бог был отец ваш, то вы бы любили Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел, ибо Я не сам от себя пришел, но Он послал Меня…
Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего;
он был человекоубийца от начала и не устоял в истине; ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».
(Евангелие от Иоанна: 8, 42-44)Комнин
Император ромеев дремал. Редкое счастье вздремнуть после жаркого полудня перепало повелителю христиан.
В покоях дремота настигала даже рабов. Сонный Константинополь переживал полуденный зной.
Спать не спалось, сказалась привычка. Усталостью власти привычка была, устал от ежеминутного напряжения: вдруг да отравят, нож в спину воткнут? Опасность бодрила, щекотала чуткие ноздри.
Власть дорого стоила Алексею Комнину. Император ромеев, т. е. шелка и парча, блеск бриллиантов, несметны сокровища, поданных масса, почти миллион только в столице, и нож, или меч, а то и просто отрава сонному в ухо. Так лучше не спать, а так, подремать. Полумрак почивальни не беспокоил никто и ничто, даже парчою и золотом вышитые шторы не колыхал ветерок. Духота мучить не мучила, так, слегка беспокоила сонного.
В дремоте полумрака вспомнилась то ли жуткая, то ли смешная история, что случилась давненько, лет так шестнадцать назад.
В зимнюю ночь варанги (варяги, так греки называли наемников с Севера) из русов напились на дармовщинку вина, сицилийского зелья. Своя медовуха давно уж приелась, и одурели, конечно. Прорвались, смяв по пути англосаксов, к дворцу, пронеслись по нескончаемой анфиладе покоев, наконец, ворвались к нему, басилевсу. Одни еще сдуру ломились в открытые двери, другие уже натянули тетиву тугих и тяжеленьких луков. Стреляли в него, как в мишень.
Тогда басилевсом, как и сейчас, владело оцепенение сна. Он стоял, как стоял, то ли спал, то ли грезил. Смотрел на себя, на пьянющих варангов, как будто жрецы показали, как в детстве, бегущие картинки царского бытия. Нет, он тогда испуганным не был. Воин есть воин, спокойно стоял, молившись в душе Пресвятой Богоматери.
Громкие без церемоний излишних поступи греческой стражи нарушили этот бардак. Греки кольцом окружили пьяных варангов, сбили с лестниц и погнали к небольшой крепостице, там удерживали до утра, до императорского личного повеленья.
Утром варанги проспались, обалдевшие головы с трудом вспоминали ужас вчерашнего дня. Буйные головы повинились, просили прощения. Император был вынужденно милостив с ними: куда же деваться от мощной дружины, оплотом ведь были, надёжною твердью. Но разогнал их по гарнизонам, по крепостям, где была понадежнее стража, решил, пусть в ссылке опохмелятся. Такой опохмел недовольных руських бойцов его даже потешил.
Даже сквозь сон засмеялся, как вспомнил могучие лбы глупых варангов, что, как бычки молодые, с глупой надеждой томно смотрели на него, Базилевса: повесит или простит?
Тишину темных покоев нарушили скоро: с докладом к нему порывался пройти недремлющий и не спящий, как сфинкс, держатель царских покоев Лука.
«Ну что там еще?», – голос императора был равнодушен, и стража вздохнула. Крут был их император, ой, как крутёнек! Встал бы не с той ноги, и многим досталось бы от царской тяжёленькой длани.
Доклад был короток. Сам в бывшем военный, император любил военный порядок в докладах: в Корсуни дальнем, как звали город словяне, или Херсонеcе, как привычно по-византийски он называл, распяли монаха.
Вначале спросил равнодушно: «За что?».
Ответ Луки выбросил последнее марево полудрёмы:
«Там, в Херсонесе, Всемилостивейший Повелитель, ты разрешил поселиться восточным евреям, перебравшимся из Хазарии. Им разрешили торговлю любую, кроме рабов, христиан, разумею. За всеми проблемами, Государь, мы упустили контроль над неразумными теми евреями. Да на беду там эпархом-правителем стал тоже еврей. Он, Государь, принял крещение, и мы знаем его под именем христианским, конечно, Аркадием. Он тайно поддерживал связи с общиной, и те настояли, а в вере он слабоват, ненадежен, а потому позволил негласно своим гнусным собратьям по вере торговать русинами да словянами.
Добро, были б язычники, Государь, а то часть их хранит нашу истинную веру. Как только в мае три года назад война началась, половцы, они же куманы, погнали русских рабов на невольничий рынок в наш Херсонес. Невольничий рынок стал переполняться рабами, тощими, скованными, босыми и бледными, а потому евреи их скупали задешево целыми партиями, и продавали пиратам. А те уж везли рабов-христиан к Фатимидам в Египет.
Три года войны, Государь, и три года рабы-христиане скупались задаром. Мы, Государь, долго не знали…
Но Церковь Святая вступилась за падших. Евреи не только рабов продавали, они зачастую морили несчастных жаждой и гладом, и те умирали. Тех, кто от веры истинно христианской был готов отказаться, тех евреи щадили. Их продавали. А те, что страдали за веру Христову, тех морили в подвалах без пищи и влаги.
В последней партии пленных был постник, монах Лавры, что в Киеве-граде, именем Евстратий. Его две недели продержали без пищи и влаги, пытали, он стойко держался. С его партии умерли все: кто дня через три, кто через десять, а он продержался все дни, молился всечасно. Отдали еврею, и тот изувер распял на кресте инока веры. Говорили, даже смеялся над верой Христовой: дескать, виси, как Бог твой, Христос. И сняли с креста как Господа нашего, и так же пронзили копьем. И даже времечко подгадали, ровно на Пасху распяли.
Знамения веры
«Однажды трое князей Ярославичей, кои есть: Изяслав, князь Киевский, Святослав, князь Черниговский и Всеволод Переяславский, отправляясь в поход против половцев, пришли за благословением к преподобному Антонию, что вырыл печеру на пагорбах киевских, да и молился за нас, христиан денно и нощно. Он же, провидя духом над ними гнев Божий, прослезился и сказал им: «Из-за ваших грехов вы будете побеждены и обращены в бегство неверными; многие из воинов ваших потонут в реке, другие будут взяты в плен, некоторые падут от меча…».
Это и сбылось на реке Альте, так что едва сами князья спасли свою жизнь и бежали. Изяслав скрылся в Киеве, половцы вольно рассеялись по всей Руськой земле, грабили и уводили в плен насельников».
(Патерик Печерский или Отечник. Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, первоначальника русских иноков, начавших подвизаться в пещерах. Изд. Киево-Печерской Лавры, Киев, 2004, стр. 7).
И это было в 1068 году.
Но несколько ранее, ранее случилось такое:
«А в год 6569 (по летоисчислению от сотворения мира, или 1061 год по новому летоисчислению от Рождества Христова) впервые пришли половцы войною на Руськую землю. Всеволод же вышел против них месяца февраля во второй день. И в битве победили Всеволода и, повоевав землю, ушли. То было первое зло от поганых и безбожных врагов.
Был же их князь Искал» («Повесть временных лет», издание под. ред. Академика Д.С. Лихачева).
А в году 6573 (1065 г. от Р.Х.): «в те времена было знаменье на западе, звезда великая, с лучами как бы кровавыми; с вечера всходила она на небо после захода солнца, и так было семь дней. Знамение это было не к добру, после того были усобицы многие и нашествие поганых на Русскую землю, ибо эта звезда была как бы кровавая, предвещая крови пролитье. Знамения эти бывают не к добру» (там же, год 6569).
Итак, что же случилось в 1068-ом, спустя три года после знамений красной звезды?
«В год 6576 (1068 г. от Р.Х.) пришли иноплеменники на Руськую землю, половцев множество. Изяслав же, и Святослав, и Всеволод вышли против них на Альту-реку. И ночью пошли друг на друга. Навел на нас Бог поганых за грехи наши, и побежали русские князья, и победили половцы».
И не дали князья собраться людям русским для рати отпор дать поганым, и пошли половцы по Руси: жечь, грабить, насиловать.
И далее летописец сетует: «Наводит Бог в гневе своем иноплеменников на землю, и тогда в горе люди вспоминают о Боге, междоусобная война бывает от дьявольского соблазна, Бог ведь не хочет зла людям, но блага; а дьявол рад злому убийству и крови пролитию, разжигает ссоры и зависть, братоненавидение, клевету. Когда же впадает в грех какой-либо народ, казнит его Бог смертью иль голодом, или нашествием поганых, или засухой, или гусеницей, или иными казнями, чтобы мы покаялись, ибо Бог велит нам жить в покаянии и говорит нам через пророка: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим, в посте и плаче. Если мы будем так поступать, простятся нам грехи наши. Но мы к злу возвращаемся, как свинья».
Опустошились руськие земли, обезлюдели… Но нарожали бабы опять детвору, будущих богатырей, да еще протянулись года и годочки, и наступил год очередной, год кровавый!
Повторилась история вновь в 1096 году, когда половецкий хан Шелудивый Боняк осенью снова напал на русскую землю… На Киев святой…
Не повод войны, а причина
Замятня с печенегом длилась два века.
Мирная жизнь печенегам не снилась, жажда набегов бурлила в крови. Их набеги – удар молнии, отступления тяжелы и легки: тяжелы от добычи, легки от скорости бегства. Не имея земли, не имеют привязанностей. В мирной жизни видят несчастье, блаженство для них войны, набеги, смех над договором о мире. Осами кружат над русичей землями, осами роями кружат над Таврикой-Крымом.
Ромеи и русичи, славяне, мадьяры, болгары и половцы, они все ненавидели рать печенежью. Невысокие, худорослые, чёрные печенеги на маленьких невзрачных лошадках появлялись незнаемо как, не знаемо как исчезали в степи. Что жены, что их мужья в бою бились одинаково. Черные стрелы черных луков метали в оседлых людей, ровно как рои осиных укусов, раня смертельно, что бабу с младенцем, что ратника пешего, что ратника конного.
Воевать с печенегом Русь не умела, воевать с печенегом Византия боялась.
И, вот когда печенег подступил почти к фемам, климатам (в нашем смысле, к предместьям города) уже Херсонеса, в степи появились новые люди, половецкие орды.
Половцы страха не знали! Не ведали даже, что это такое страх, и слова такого в лексиконе не знали.
Мощные орды ханов Боняка, Тугоркана, Итларя да Китаня Дикую Степь разделили, и в этой степи места не дали своим извечным врагам – печенегам.
Тугоркан завладел степью донской, Боняк – приднепровской. И Итларь, и Китань были землей не обижены. Степь принимала всех, буйная и бескрайняя: от Днестра до Иртыша, и за Яиком (ныне– р. Урал) места племенам буйных куманов нашлись.
Половец бил печенега, влекомый столетней враждой. Делить пастбища с кочевником-гузом, куда бы ни шло, но делить необъятную степь с вероломным худым печенегом быть не должно, и бысть невозможно. Союз с печенегом ради набегов на земли хазаров иль асов результатов не дал: печенег, прихватив ближнюю добычу, с поля брани всегда исчезал, оставляя половецкую рать погибать под ударом хоробрейших асов.
Не в крови у половцев предателем быть, предательству да прислуживать, и потому печенега половец гнал по степи вплоть до мадьярских степей…
Враг моего врага – мой временный друг! И потому, что русичи, что греки, а равно болгары с половцами мир некрепкий держали. Худой мир лучше доброй свары, и половцы с русичами некрепкий худой мир кое-как, но держали.
Союзники отчаяния
И наступил тот достопамятный одна тысяча девятьсот первый год.
Десять правил Комнин Алексей, десять лет прошло, как один, в борьбе и сражениях. Но тяжелее девяносто первого был только предсмертный год императора (Алексей Первый Комнин правил 37 лет с 04.04. 1081 по 15.08.1118 г.).
Тогда печенеги подступили к самой столице и почти миллионный город завыл. Страшнее черных рож печенегов были только рожи бесов и чертенят, так думало всё население. Народ взвыл и кинулся в ноги правителю своему, кинулся к базилевсу.
Алексей внял стону народа, стал кидаться за помощью, куда только мог, а иноди (иногда) куда и не мог: писал слезные письма на Запад, молил о подмоге, сетуя, что вражеская сила иконы, святыни, храмы сожжет. Что народ его падет под игом сельджуков и печенегов, что враги страшны своим видом и силой. Как прибрежный песок, так их было много. И, как песок поглощает оазис, печенеги могли поглотить оазис культуры, и веры святой, его Византию, и Константинополь. Язычники, значит, враги общие, враги веры.
«Спешите, спешите, со всем народом, напрягите все ваши силы на то, чтобы такие сокровища (бесчисленные богатства и драгоценности, святыни) не попали в руки турок и печенегов. Действуйте, пока имеете время, и, что еще поважнее, Гроб Господень не были для вас потеряны и дабы вы могли получить не осуждение, но награду на небеси, и Аминь!», – писал базилевс, бегая от города к городу в поисках пребывания, пристанища от печенегов.
Византии Император великой империи, его Византии, перед глазами чужих латинян (православная и католические ветви христианства разошлись в 1054 году на тысячелетия, так называемая «схизма») раскрыл всю бездну позора, стыда, униженья, в которые были повергнуты он и его Византия.
Просил, слезно просил, и получил от ворот поворот. Запад для вида прислал крестоносцев, малую толику рати своей, а эта жалкая кучка брони и железа, неповоротливая и тяжёлая, что могла сделать против бури песчаной грудка железа!? Ржа, да и только!
И обратил тогда взоры свои имперский вожак к извечным врагам печенегов, к половецкой орде, нет, даже к двум могучим ордам: к достопочтимым ханам Боняку и Тугоркану.
Империя, наконец, прибегла к союзу с половецкою ратью.
И посреди весенней распутицы в одна тысяча девяносто первом году печенег был разбит, как разбился горшок в руках нерадивой служанки, на мелкие дребезги, на обломки.
Дикие и суровые ханы (а так уж ли дики?) с почетом приняты были в золотых базилевса палатах, самый льстивый прием и роскошные трапезы ожидали друзей. Сам базилевс называл их братами! И пили, и ели, и верили базилевсу: «дикие» ханы не знали обмана, не терпели предательства и подлости типа убийства послов. Вероломство и отцеубийство, то смертельный грех для кочевого народа. Верили, что за помощь в союзе даст им от несметных богатств своих малую толику.
И дали половцы слово, слово– кремень, нерушимое слово, клятвенное. И бились совместно греки, отряды руських князей, половецкие орды Боняка и Тугоркана.
И побежал печенег! В самом конце распутицы месяца квитня (29 апреля 1091 г.) была страшная битва и разгромлены печенеги и практически все были убиты.
«Можно увидеть необычайное зрелище: целый народ, превышающий всякое число, с женами и детьми, целиком погиб в этот день» (Анна Комнина, «Алексиада»).
И сочинил византийский народ песню победы:
«Из-за одного дня они (печенеги) не увидели мая!»
Разрозненные орды печенежьи не смогли объединиться пред объединенною силой мощных полков византийских и стойкости половецкой орды. Половечья орда была слитной, единой, и печенеги не выдержали натиска высокорослых желтоволосых хозяев степи.
А император с победой вошел в свой стольный город и пел Константинополь, чуть не переименовав город в честь Алексея, славя его и победу его.
И приказал базилевс всех убить печенегов. Убить! Свой позор, свое унижение император забыть был не вмочь и до конца правления помнил, как зайцем бегал по Византии, ища пристанища у ромеев, боясь за себя, за детей, за Ирину – жену. И более всего порфирородный боялся за государство, за Византию.
Снова мощна Византия, и Алексей уже сам, без помощи половецкой, уничтожил союзничка печенегов: пират-Чаха разбит и убит никейским султаном, щедро окормляемым союзником Византии.
И уже не мог помешать ему Псевдо-Лев, объявивший себя претендентом престола. Он якобы был сыночком родимым императора Романа Диогена, ослепленного и умершего лет двадцать назад.
Сослал Алексей Псевдо-Льва и куда? Да в Херсонес. Сбежал мошенник, сбежал, успел даже жениться на дочери Мономаха. И увлек было друзей половецких хана Итларя и хана Китана (Кытана) в поход на Византию напасть. Но попался в сети греческих войск, где по примеру отца и по личному указанию императора его ослепили, бросив в темницу.
А Итларь и Китан? О них речь будет ниже. Но и империя вновь увидела мощь половецкую! Не потому ль сразу в ночь после битвы императорские охоронные полки вырезали почти тридцать тысяч половецких воинов, не щадя даже женщин, детей.
Надолго запомнил хан Тугоркан «верность» императорских гвардейских сынков, спешно топча копытами степь, убегая к Дунаю. Тогда дал себе клятву не верить ромеям, заодно не верить и временному союзнику, «другу на час», руському витязю. Что греческий базилевс (басилевс), что худородные руськи князьки, эти оседлые сраму не имут, долга и чести не знают, мира для них неведома суть, так рассуждал великий хозяин степей…
Недаром во время самой той страшной битвы-сечи император Комнин Алексей у главного шатра половецкого поставил стражу ночную со знаменем и знаменосцем своим.
Гордо реял флаг Византии, развевался по ветру, скалился вздыбленный лев с двоеглавой короной.
Половецкие бунчуки были метром пониже, и воины половцев, видя такое бесчестие, что хана Итларя, что хана Китаня псами прозвали. Боняка тогда шелудивым назвали, и прижилось позорное прозвище, ой, как прижилось, на веки позором покрылся доблестный хан.
Ждали половцы долгих три года, выждали еще почти год, да были разбиты еще раз локально вероломным венгерцем Ласло, и повернули коней ближе до Дону на русичей земли, на буйный Днистер да вплоть до Ворсклы. Разбили половцы рать Святополка, и «створи бос я плачь велик у земле нашеи и опустеша села наши и городе наши и быхом бегающе пред врагими нашии», заплакал наш летописец.
Потужил-поплакался князь Святополк, князь земель старорусских, потужил-потужил, да и взял с великим почётом в жёны себе дочь Тугоркана, нашел князь счастье себе, зеленоглазое счастье с соломенными волосами. Половецкого имени княгини летописи не сохранили, сохранилось только имя в крещении: Елена, дочь Тугорканова.
Значит, замирились навек, на надолго?
Да не тут-то было!
И снова напасть, и снова печаль налетели на русскую землю.
И не половцы были причиной печали.
А дело случилось такое:
Хан Итларь и Китан-хан пришли к князю Владимиру, «на мир».
«Дикий» половец срама не знал и долг гостеприимства соблюдался им свято. Того ожидал и от зовущего в гости Владимира Всеволодовича, внука Ярослава Мудрого и внука императора Византии Константина Мономаха.
И потому, в году одна тысяча девяносто пятом, пришел хан Итларь к князю к Владимиру в его Переславль (Переяславль), пришел с миром, вести долгие переговоры о замирении, пришел с другом своим, побратимом Китаном (Котяном, Кытаном). Владимир был рад: быть скорому миру. Отдал сына свого отрока Святослава в лагерь большой, половецкий, что окружил Переяславль боевым полукругом.
Итларь без опасения, с малой, но лучшей, дружиной вошел в город князя. А чего, собственно, опасаться? Мальчонка, княжеский сын, под присмотром вернейшего друга.
Дали покои ему из самых из лутчих (лучших) у боярина Ратибора, по-особенному хана уважили: дали вина заморские, сплошь ромейские, свои медовухи крепчайшие к винам добавили, дали хлеба и мяса вдосталь, с серебра-блюда яства вручали. Хмелел хан, в сытости, холе и неге день проводил, но ночевал по привычке кочевника на сеновале.
Друг его, Котян-хан стережил малого сына князя Владимира, княжичу Святославу было под десять лет. Мальчик был шустрым, все бегал по стану, лучших коней искал да лучших сабель подыскивал. Хан любовался шустрым княжичем-сыном, в мечтах младшую дочь в жёны ему намечал.
Ввечеру, когда сильно стемнело, в покои князя вошли други верные, воины ратные боярин Словята да воевода Ратибор. Стали князя уламывать-уговаривать: «к чему замирение с Китаном да Итларом-ханом? Роды у них невелики, коши худые (бедны), мало скота у них, мало дружины. Малые ханы они, невеликие. Да и замирения с ханами большими у них давно нет. Боняк да хан-Тугарин ныне далече, в Дунай-речке коней своих поят. Зачем тебе мир с невеликими ханами? Придут ханы большие, обиды творить тебе будут, что их не дождался, с малыми ханами дружбу заводишь.
Думал долго князюшка, думал, даже отнекивался: «Как я могу это сделать, ведь я дал им клятву!» Но, как думал, правы воеводы, раз говорят: «с малыми мира сего дружбу заводишь, большие обиды тебе натворят, княже! Нет в тебе том греха: они ведь всегда, дав тебе клятву, губят землю Русскую и кровь христианскую проливают непрестанно. И нет нам греха, а почто половцы губят землю русскую, и кровь христианская проливается бесперестанно?»
И послушал Владимир совета, свет князь Мономах.
И приказал верным торкам (если что, на торков свалится грех да обида, пусть кочевники друг другу глотки перегрызут) с малой дружиной направить копыта коней в стан к хану Котяну: сначала выкрасть сыночка, потом хана убрать с его боевою дружиной.
Ночная напасть – дело привычное, и торки резали боевую дружину, как ровно баранов. Хана вначале хотели к хвостам конским привязать да в чисто поле коней разослать, чтоб порвали хана навпил-напополам, да дружина князя им не дала: велено хана убрать, так мечом понадежнее, чем чиста ветра в поле искать. Опустился тяжелый меч на шею Китана, брызнула кровь и не стало хана Китана!
Наметом дружина бросилась к князю. Доклад был коротенек: хан уничтожен, дружина его вся повырезана, а кошт-войско бросился от стана в Дикую Степь.
Вечер тогда был субботний, и Итларь в ту ночь спал у Ратибора на дворе с дружиной своею и не знал, не ведал, что створили с Китаном, его побратимом.
Спал князь той ночкой спокойно или метался в кровавом бреду, про то былины и сказы молчат. А вот что утречком на ранней заре отправил отрока своего Бяндюка (Бияндюка) за Итларевой чадью, сказы поведали. И повеленье его передал Бяндюк Итларю: «Зовет вас князь наш Владимир, и, обувшись в теплой избе у воеводы, у Ратибора, позавтракав плотно, приходите к нему». Сказал Итларь-хан: «Да будет так!», и пошел он в теплую избу. И, как вошли они в избу, так и заперли их. Забрались на избу, «прокопаша истьбу», то есть раскидали кровлю крыши, и знатный вояка Ольбер (Ельбех, Ольгер) сын Ратиборич, взял лук, вложил туда стрелу, и поразил Итларя сразу в сердце. А следом и дружину его всю перебили.
Так, перед заутраком был убит Итларь-хан с боевою дружиною. Перестреляли их как куропаток или овец прямо в княжьих покоях, ибо мирно шли половцы к раннему завтраку, безоружными, про то были-сказы потом верно поведали.
Хоть не любили руськие летописцы «поганых», но написали в сказах своих чистую правду, что резали княжеские люди безоружных друзей, как куропаток.
И так страшно кончил жизнь свою хан Итларь, в неделю сыропустную, в часу первом дня, месяца февраля в 24-й день. (По «Повести временных лет», год 6603).
Но умолчал Нестор о русском позоре! В дальнейших сказаниях, сказах и песнях убитых ханов ханами не величали, даже к именам их приставки почетные «опа» не прибавляли («опа, опе, обе» – титул головы куреня). Молчала Русь о своем великом позоре: позор, диким варварам только присущий – послов убивать!
Летописец встал на сторону князя? Но ведь запятнал себя свет князюшка Володимир, внук Мономаха и сам Мономах.
Не брезговал князюшка ранее приглашать половцев с ратью на Минск, да так разорил этот город, что там не осталось ни душеньки из живых! И заключал с половцами аж 19 миров, как сам признавался.
Но посла убивать!?
Для русского уха убийство посла только позор. И христианин монах– летописец, и князь-христианин мыслили тут одинаково. Но для кочевника посланников смерть – обида смертельная, и потому обычай степей требовал ее кровью великою искупить, только кровью. И кровью немалою!
И добро бы на Руси обычай не знали, так нет, знали прекрасно князья половецкую жизнь: великий князь Святополк Изяславич оженился на дочери Тугоркана, сам Владимир оженил двоих сыновей на дочке хана Аепы и внучке того ж Тугоркана, другие князья тож не гнушались половецким житьем и родством.
И потому прекрасно понимали или должны были понимать последствия действий своих.
Да русским каганам (практически официальный титул русских князей в те времена) было мало векового позору. Владимир-князь да князь Святополк послали гонца к князю Олегу: «убей, дескать, сына хана Итларя, его Итла-ревича, либо выдай нам юного хана, бо есть он нам ворог и руськой земле тоже ворог». Отказал братец двоюродный бесчестным князьям: «негоже судить меня епископам, игуменам или смердам». То есть прекрасно понял мятежный Олег, что звали его на расправу. И потому из-за столь «пустякового» расхождения в собственных мнениях убивать послов или нет, стала между братьями-князьями вражда, «бысть нежи ими ненависть», заключает наш летописец.
Брата Олега братья-убийцы два года осадою держали в Стародуб – граде, выгнав перед тем из града-Чернигова, пока не вырвали обета придти на суд княжий в Киев на совет по обороне русской земли. Совет состоялся в 1097 году, и не в Киеве, а в Любече, где князь Олег Святославич был душой и совестью честного собрания. Сохранилось письмо Владимира Мономаха к Олегу, ярко рисующее Олега как симпатичную личность, несмотря на то, что в битве с Олегом под Муромом погиб сын Владимира Изяслав. Другой сын Владимира, Мстислав-новгород ский, взял силу над Олегом, советовал князю Олегу замириться с князьями, дабы не лишиться русской земли. Согласился Олег, и недолгое замирение тишью пролилось на Русь.
Да недолго пировали братья-князья удачу: скорою тризной пир их покрылся.
В то же лето пришла саранча, месяца августа, в 28-й день, и покрыла землю, и было страшно смотреть, и шла она к северным странам, поедая и просо, а потом и траву. (По «Повести временных лет», год 6603.)
И за что страданья такие? За что бились князья? Зачем гибли в ратях-сраженьях и так, запертые в домах, простолюдины?
«Весной выедет смерд в поле пахать на коне, и приедет половчанин, ударит смерда стрелой, и возьмет его коня, потом приедет в село, заберет его жену, детей и имущество, да и дом его зажжет», – сетовал Мономах на Любечском съезде, – «а половци землю нашю несуть розно, и ради суть, оже межю нами рати».
Вся, как коростой поганой, покрылась земля, земля русичей и словян, покрылась коростой вражды, посеянной между Степью и Русью оседлой.
И вставал волей-неволей вопрос: кому это было выгодно?
Кому выгодна бойня с половцами, что просили мира и замирения? Кому выгодно использовать подлости, тупость и корысть руських князей да бояр?
Русские крепости взять тяжело, оружия было в избытке, дружины сильны, ополчение многочисленно, и исход войны предрешался заранее. Полегли б степняки по русской земле, покрыли б тела их добрую землю, и выть матерям, детям не рождаться. И разве так выгодно жить, воевать за свое уничтожение?
Но и русским война не нужна. Пусть великий князь русских земель Святополк Второй (назвать государством тогдашнюю Киевскую Русь рука не поднимается из-за разрозненности правления и разнородности племен) занимался провокациями да предательством братьев и своего народа (об этом поведаем вам чуть ниже), а половцы отвечали набегами (подчеркиваю, не масштабной войной! ведь сила их нам уже известна), так кто богател от бессмысленной бойни?
Пока однозначно одно, что Олег Святославич понимал бессмысленность войн, и платил за свое понимание братовой ненавистью, отниманием земель да поражением на реке Колокше, когда отобрали у него, забрали богатый Чернигов, взамен братья отдали «на корм» в 1097 году Новгород-Северский, захудалый тогда городишко против второго по величине после стального Киева Чернигов.
Но ему повезло (хорошее было везение, надо сказать), когда великий князь принял участие в ослеплении Василька, князя Теребовльского. И только тогда Владимир Мономах пришел в ужас и заплакал, как пишет летопись, и ужаснулось русское общество, осудив великого князя, и на Русь и к Олегу пришло долгожданное и чуточку запоздалое замирение.
Но это случилось значительно позже, в тысяча сотом году, а пока мы вернемся к вопросу: кому было выгодно истощать русскую землю, и увеличивать количество рабов, будь то русичи или половцы? Ответ однозначен – работорговцам!
А кто торговал людской силою, товаром людским? Конечно, те силы, которых кормила война.
И тут нам придется вернуться к политике великого русского князя, большого позора русских земель, Святополка.
Три силы было в Киеве при Святополке: во-первых, народ. Ну, куда же стране без народа. Затем, боярство из старых, что помнили Ярослава Мудрого, и, наконец, «уные» (юные), что наперегонки пятки лизали Святополку Второму. Народ откровенно князя любить не мог и вы дальше поймете, почему так случилось, старое боярство князь отстранил от власти с помощью мощной дружины, и потому они тоже были князю не рады. Оставались «уные», что жили за счет княжьих подачек, и потому силы своей не имели.
Сел князь на княжение вполне по закону, как самый старший внук Ярослава Мудрого. И с чего же он начал княжение? Посадил «в погреб», то есть в тюрьму, половецких послов, за что Русь немедленно получила набег и даже войну, где князь проявил себя трусовато, а половцы сожгли город Торческ, и увели громаднющий полон. Тогда то князь с перепугу и женился на дочери Тугоркана: нужно было прекратить набеги могучей орды.
И так было во все годы его длинного княжения: половцы жгли русскую землю, уводили полон, а великий князь занимался мошной да интригами. Самое что ни есть наиактивнейшее участие принимал в ослеплении кровного родственника Василька, князя Теребовльского, за что получил от братьев двоюродных, Владимира Мономаха, Давыда Святославича и Олега Святославича, «злое» письмо: «Зачем ты учинил это зло в Русской земле и всадил в нас нож? За что ослепил брата своего? Объяви нам вину его!»
И что им ответил «наидоблестнейший из князей», как он сам себя называл? Сдал с потрохами Давида Игоревича, чьи люди слепили Василька. Да признался, что ужас как боится потери власти своей: «Мне ж надо голову свою блюсти».
И такими действиями во внешней политике великий князь, что правил с 1093 по 1113 годы, всю жизнь отличался.
Да и во внутренней политике княжеской особенной доблестью не засветился: негодяйствовал во всю мочь.
Так что удерживало князя на троне до самой что ни на есть естественной смерти?
Была реальная сила! Давала деньги на подкуп князей, на оплату дружины, на содержание Киева. То были евреи-ростовщики. Сплели свои сети на Западе, заручились поддержкой власть имущих людей, которых тоже опутали сетью долгов, и кинулись в Киев, богатейший из городов того времени.
Три города сильны были в те времена: Кордова (ударение на первом слоге), центр Испании, Константинополь и Киев. Да еще посмотреть, какой город был побогаче, ибо Кордова шла к закату давно, Константинополь страдал от внутренних распрей и ежегодных всякого рода нашествий, а Киев тучнел, разрастался, мощнел.
Евреи умнели, и после разгрома Хазарии власть в Киеве не стали захватывать: достаточно было в руках удерживать князя, и Русь на коленях. Постепенно прихватив не только торговлю, но и ремесла, они и только они ростовщичествовали в стольном городе. Славяне позором считали и страшным грехом, недаром Иисус выгнал из храма торговцев, давать деньги в «рост» в долг, то бишь, под проценты. Евреи помогли (без кавычек) выгнать «смысленых» советников князя, то есть умных, совестливых, честных, и энергичных. Тому вам пример ослеплённого Василька и опального Мономаха.
При Святополке стало крайне просто управлять стольным градом: еврейские ростовщики, обложив непомерно простых киевлян поборами и долгами, получали несметно доходы (заметьте, без налогов и сборов), отдавали немалую долю князю, а тот уже содержал войско, дружину, тем самым в зародыше на корню изводил народные бунты.
Князю казалось, и, как история ведает, он, к сожалению, оказался правым, что раздор меж князей, безоружная чернь холопов и смердов и киевляне, что денно и нощно были под присмотром властей и опутаны кабалой ростовщиков, создают ему крепкий порядок.
И только после смерти великого князя (правда, правда, рука не поднимается писать его с заглавной буквы), что последовала естественной причиной от старости в 1113 году, все изменилось.
Но об этом – потом.
А сейчас вернемся к работорговле. Она приносила доходы. Очень большие доходы.
Прежде всего, кадры рабов пополнялись войной. Пленников продавали купцам, те, по давней и предварительной договоренности с местными князьками, вели пленников по извечным дорогам, а охраняли их те же князья.
Такие купцы были не из половцев (те воевали), не русичи (те брезговали таким ремеслом), причем те и другие часто-густо дружили с Византией, крайне отрицательно относившейся к продаже рабов-христиан. Значит, работорговля перешла в руки посредников. А ими оказались евреи: и рахдониты (буквально: «знающие путь), и «западного образца».
Рынок любой, а рынок рабов исключением не является, требует двух вещей: спроса и предложения. Спрос был у Фатимидов, владетелей Египта (оставляем за рамками, зачем, слишком длинная была бы история), а предложение было у их царственных собратьев, христианских государей всех масштабов и мастей. А связующей нитью служили евреи. Работорговцы.
Причем торгаши должны были быть уверены, что ни они сами, ни их имущество не пострадают. А такая безопасность в то время существовала в двух полисах-городах: Киеве и Херсонесе. Оба города были практически для врагов недоступны, стены их непреодолимы, и потому там неизбежно возникли колонии-поселения еврейских общин: назовем их диаспорами.
И была между ними брань лютая!
Ворочались из дальних далей боевого похода славные воины хан Тугоркан и Боняк из рода Манги, тоже доблестный хан. Вели за собой большую добычу, вели за собой отряды в сто тысяч верных каждому хану воинов славных. Да у малой речушки, у брода большого бежали навстречу им курени китанские, курени итларские, бежали без добычи, без плена-полона. Бежали в панике, охватившей кочевья.
Паника – страшная вещь! Не удержишь народ, разбежится, в паническом страхе иль гневе даже хану снесет буйну голову: за все хан в ответе, за жизнь и за смерть члена рода и племени.
Хан, если он хан, должен быть тверд, как алмаз, гибок, как сабля, верен, как мать.
Боняк с Тугорканом были великие ханы, не просто ханы, каганы. Каганы и только каганы имели право заключать мир и решать вопрос о войне, делить бескрайнюю степь на кочевья.
Обычай требовал: месть за убийство посла смывается кровью, и не просто кровью людей, убивших послов, а великою кровью руських людей. Так велит половецкий обычай, а за десятки тысяч годов обычай прижился в степи, и прижился навек, въелся в плоть и душу кумана. Кто обидел посла, тот обидел целый народ. А потому целый народ не может простить нанесенной обиды. И дело не в Итларе или Китане, дело стало в обиде народа. А раз народ обидел другой народ, то и расправа должна быть с целым народом, допустившим святотатство убийства посла иного народа.
И почалася война! Тут уже были не просто набеги степные, когда выскочил из степи, награбил, пожёг и домой. Нет, теперь года два ходили половцы по русской земле, сожгли Юрьев дотла. Весной хан Боняк прошел по Поросью, огнем и мечом выжигая поросскую землицу, потом в горячке бросился к Киеву. Город не взял, но сжег Берестово, сжег там княжеский двор.
Донская орда Тугоркана ходила боевыми походами по левому брегу Днепра, верный друг его Куря сжег все окрестности Переславля, в конце мая подошел к Берестову сам хан Тугоркан. Почти семь недель длилась осада, семь недель держался княжеский город. И только в июле Святополк со Владимиром подоспели с полками, идя от Днепра. Перешли реку Трубеж, со свежими силами ударили половцев. Побили русские половцев и сильно побили. 19 июля 1096 г. на реке Трубеж войско князей Владимира Мономаха и Святополка Изяславича разгромили половецкую рать Тугоркана. «Побежене быша иноплененьице, и князь их Тугоръкан убьен быс и сын его, и иншии князи мнози ту падоша…»
Плакала ночью зеленоглазая дочь Тугоркана, металась по брачным покоям, отметая княжевы ласки, и Святополк направил стопы свои на поле брани, нашел там труп тестя, и похоронил его «на могиле» близ Берестова «между путем, идущим на Берестово, и другим, ведущим к монастырю», как летописец пишет.
Долго не решалась дружина хана сообщить о смерти друга кагану Боняку из рода Манги, долго мялась у полога ханского многоцветного шатра, да делать нечего, исполнили долг. Сдали сабли у входа в шатер верным князю нукерам, повалились снопами у входа в шатер. Звездное небо мигало миллиардами драгоценных алмазов. Хан только качнулся, будто острый клинок пронзил его мощное сердце. Стоял хан, смотрел на белые кошмы, устилавшие землю в шатре, долго стоял, ворсинки ковра едва колыхались под тяжелым дыханием хана, долго смотрел на миллиарды алмазов на черно-черном небе, как будто хотел отыскать там душу своего побратима, великого хана Тугора (Тугор-хана, то есть хана Тугора).
В горле у хана сам собой протолкнулся комок и хан гаркнул:
«На Киев!»
Половецкие орды собираются тихо. Утра жадать не стали, шатры свернулись как сами собой, кони «обулись» дикой травою, и бесшумный бег тысяч коней пошел ночью на Киев. Кони стелились в диком намёте, бесшумными тенями шли степняки на стольный город ручисей и словян: славная будет добыча от тысяч смертей киевлян и гостей славного города.
Киев-город могуч! Киев-город богат! Киев-город несметно богат! Там руськии девы с голубыми глазами и длинными русыми волосами, там терема и подвалы со златом да серебром, там полумраке блестят драгоценные камни. Там несметно еды, несметно пива, квасов и вина.
И двадцатого дня того же месяца мая в пятницу, в первый час дня, подкрался Боняк к граду-Киеву и «отаи хыщнык къ Киюву внезапу и мало в городъ не вогнаша Половци, и зазгоша по песку около города и сувратишас на монастыре и пожгоша монастырь Стефанечь деревне и монастырь и Гер-ианечь (Германов монастырь) и придоша на монастырь Печерьскыи».
И поставили два стяга перед вратами монастырскими, и бежали монахи задами монастыря (по крайней мере, так в своей Повести временных лет пишет сам летописец Нестор), а другие взбегали на хоры, но безбожные сыны Измаиловы вырубили врата монастырские и пошли по кельям, круша и сжигая все двери, выжгли и дом Святой Владычицы нашей Богородицы.
Беззащитных монахов гнали из келий, разили стрелами, отсекали главы ударами сабель. Братия гибла, едва успевая промолвить «Отче наш, иже еси на небеси…»
Монастырские кручи горели: огонь с жадностью хватал вековые деревья, чадный дым выгонял старцев из Ближних пещер. На выходе из благодатья пещеры их ждал острый свист половецкой стрелы. Полегла братия в вечном смертном сне, отошла к Божьему суду. Ложилась братия в неведении: за что набег половецкий на их земли, серебром да златом они не сильно богатые, за что смерть имают души христианские?
И смеялись поганые: «Где есть Бог их? Пусть им поможет и даже спасет их!» И не ведали, что Бог учит рабов своих напастями ратными, чтобы сделались будто как золото, испытанное в горне кровавом, ведь христианам только через горе, напасти и скорби войти в небесное царство.
Поганым же участь иметь на этом свете довольство и счастье, на том примут муку, ибо с дьяволом обречены на вечный огонь!
И некому заступиться на земле из сильных мира сего за люд христианский, никто из князей меча не послал в защиту монахов. Распри мешали? Жадобность? Или сговор?
Всем ждать Высшего Суду! Всем! И неверным, и верующим.
И пошли в половецком плену уцелевшие: «мучими зимою и оцепляеме оу альчбе и в жаже и в беде, побледневшие лицом и почерневшие телесы, незнаемою страною, языком испаленомъ, нази ходящее и боси, ногы имуще избодены терньем, со слезами отвещеваху другъ друг, глаголяще: аще бехъ сего города, а другим изъ сего села, а тако съвьспрощахуся, со слезами родъ свои поведающе»…
С весельем на конях и пешие
Огни диких пожаров калили сердце Боняково, калили сердца его воинов, их отмщение было великим! Брал Русь за душу, за христианскую суть. Язычнику было ведомо, как крепко за веру душа у руських людей крепостью держится, тому и выжгли Дубецкий (Выдубецкий) и Печерский монастыри, добрались даже до Зверинецких пещер. Драгоценные книги кидали в огонь, церкви горели, оплавлялись лики святых, Богоматери и Сына Её слезами за руськие души, за грехи князей киевских, берестовских и преславских, а понеже всего князей киевских. Сожгли половцы и Красный Двор (загородные терема великого князя, располагавшиеся близ Зверинецких пещер), «где начинались ловы звериные и пташиные» (как писал исследователь этих пещер И.Каманин).
Под сводами пещер вместе с иноками монастыря пытались укрыться и приняли мученическую кончину и скромные поселяне, обслуживающие дворец, и обитатели княжеского дворца-терема. Хан Боняк приказал завалить пещеры землей, и там, заживо погребенные, нашли свою смерть и иноки, и простолюдины, и знать из дворца.
Отметим: в 1888 году художник Д.Зайченко обнаружил ход-провал в Зверинецкие пещеры. Его соседка-крестьянка Феодосия Матвиенкова видела в этот миг многоцветную радугу-символ как завет Божией любови, опоясавшую склон. Затем ей трижды было явление монахов в черном облачении, которые просили накормить их. Она собрала и отнесла в Свято-Троицкий монастырь продукты и попросила отслужить панихиду по невинно погибшим. Обнаруженные в пещерах беспорядочно нагроможденные человеческие останки в непосредственной близости от входа, неестественность поз почивших свидетельствовали о мучительной смерти тех, кто нашел себе последнее пристанище в Зверинецких пещерах. Сегодня в Зверинецких пещерах можно своими глазами увидеть мощи святых мучеников, из которых источается благовонное мирро.
В этом огне возгорелась слава Боняка Манги, пусть прозвищем Шелудивого, но молва разносила о грозном хане поведание по всей южнорусской степи, дым от костров и пожарищ донес славу хана даже в далекие дали, и соседние страны стали бояться Боняка, памятуя огонь монастырских пожарищ.
И по русской земле будет веками словами калик перехожих вестись сказ про хана Боняка, голова которого, даже отрубленная, катается по сырой земле, уничтожая все на своем долгом кружастом пути.
От себя мы вам скажем, что будет не скоро, очень не скоро бонякова смерть.
Успеет Боняк по степям да по весям пройтись со своею вдвое мощной ордой (часть орды Тугоркана перешла к Боняку), да нападать на страны иные, страны другие, поменее, чем Киевська Русь да послабее её. Успеет лиха он натворить!
Как, например, походом прошелся по землям угорским, да не сам в одиночку в набеги подался, захватывал с собою и руських князей. К примеру, Давида.
В «Повести временных лет» поётся да сказывается, как Боняк перед битвой с венграми-уграми гадает: он воет по-волчьи, и когда волк «отвыся ему», предсказывает победу себе. Действительно, хитроумным маневром заманивает Боняк угров в засаду-западню и наносит им сокрушительное поражение, и то было в 1099 г.
Тогда шли тоже намётом, потом встали на ночной привал-бивуак, а когда пришло время полночи, встал Боняк, отъехал от стана. И стал выть по-волчьи, и волк ответил воем на вой его, и завыло множество волков. Боняк, повернувшись, поведал Давиду, что победа ждет их над уграми завтра.
И наутро Боняк исполчил своих воинов, и было у Давида воинов сто (тысяч (?), а у самого триста (тысяч(?), и разделил их на три полка и пошел ратью на угров. И пустил Алтунопу (Алтунопа, скорее всего, переводится как «золотой хан», то есть «Алтын-опа»,) нападать с 50-ю (тысячами (?), а Давида поставил под стягом, а своих воинов разделил на две части, по 50 (тысяч(?) на каждой стороне. Венгров же было 100 (тысяч(?) и построились они в несколько рядов.
Алтунопа же, подскакав к первому ряду, пустил стрелы, и притворно бежал от венгров, венгры же погнались за ним. На бегу они промчались мимо Боняка, и Боняк погнался за ними, круша их с тыла, и Алтунопа вернулся обратно, и не пропустили они угров назад, и так, во множестве их избивая, «сбили их в мяч, как сокол сбивает галок».
И побежали венгры, и многие потонули в Багре, а другие в Сане-реке. И бежали они вдоль Саны на горы, и спихивали друг друга, и гнались за ними два дня, сбивая их, рубили их, как кочаны капусты. Тут же убили епископа их Купана и многих бояр. Погибло их сорок тысяч.
Нелишне напомнить, что угры тоже кочевники. Битва состоялась на реке Выгор в 1099 году, где союзником Боняка выступал русский князь Давид Игоревич, противником их было угорское войско во главе с царевичем Коломаном.
В последний раз хана Боняка упомянуто под 1166 г., когда его в Приднепровье разбивает черниговский князь, все тот же Олег Святославич. Попутно скажу, что сын его, доблестный Севенч-хан (убит в 1151 году), хвалился, что он, как и отец его хан Боняк, оставил зарубки на Золотых Киевских воротах. Брат хана по имени Таз, был убит в 1107 году под Сулой.
А Тугоркан о себе в русском народе оставил память другую. Приведу вам пример из песни– сказания, полубылины-полусказки о нём:
«Да числа-сметы нет! А закрыло луну солнце красное, А не видно ведь злата – светла месяца, А от того духу половецкого, От того же пару лошадиного, Ко святой Руси Шурк-великан (Тугоркан) Широку дорожку прокладывал, Жгучим огнем уравнивал, Людом христианским речки-озера запруживал…»И становиша вежи свои
Так вот почему тогда страх охватил базилевса, когда увидел орды бесчисленные кочевников соломоголовых. Вот почему все пышнее подарки, все пышнее приемы. И так вот почему все длиннее застолья, все дороже вина и сладости.
Коварный базилевс свято верил, что лучше таких «союзничков» прикормить, чем иметь их врагами: кочевники за спиной базилевса найдут общий язык намного быстрее, чем думает он, и возьмут яства и вина, города и деревни без его на то позволения. Половецкий ломаный «койнэ» печенеги поймут намного быстрее его чеканного греческого языка.
Широка земля половецкая! Захватила степь меж Дунаем и Волгой, дошла до Перекопа в Тавриде, заходила орда и за земли Яика (р. Урал).
Ни валы, в том числе Змиевы деревянно-земляные высотой до 3,5 м и шириной 6-7 м, ни рвы перед ними шириной 5-6 м и глубиной 1,5-2м, не спасали от бега коня половецкого.
От Роси, Коломыи, Юрьева, Лубена до Хорола, Ворсклы и Псела, до Выри и Понаша, чуть не Курска да Мценска, к Дону, Воронежу текли белые, чёрные орды куманов.
Белая Калитва, Черная Калитва: нет «во всем мире земли приятнее этой, воздуха лучше этого, воды слаще этой, лугов и пастбищ обширнее этих», говорится про Кипчакские степи, где вольно пасутся кони, верблюды, овцы и скот.
Приходили в днепровские степи, «становиша вежа, беша бо ходяпде, яко и половцу». Становились вежи-становища на зимний пост, орда в сорок тысяч селилась на землях, что ханы «на круге» решили.
Ставили вежи, ставили «балбала» (каменные изваяния), богатый род ставил до десяти святилищ, меньшие – меньше, великие ставили больше.
Растекались половецкие орды по степям как свежий мед по блюду, намереваясь стечь с ровной тарелки. Текли орды, захватывая новые земли, пустоша мертвой травой прежние пасовища-пастбища.
С краев половецкого «блюда» половецкие орды не истекали лишь потому, что за краями этого «блюда» на юге мешали мощные волны водной стихии, на севере им мощные волны лесов.
«Смерть до того презирали, что охотнее соглашаются умереть, нежели уступить неприятелю, и, будучи разбитыми, грызли оружие, если не вмочь уже сражаться или помочь себе», – это общее мнение о все тех же половцах в те времена.
Не менее пятнадцати орд воевали по степям, не менее пятнадцати орд плодило новые жизни. Кочевия-города многолюдны, богаты и ханы: Тарукан (Тугоркан) за собой вел воинов тысяч так сто, в обозе держал табун из десятка тысяч коней, да сто тысяч овец блеяли, плетясь за табуном этих дивных коней.
Хазары, сувазы, болгары боялись и кара-куманов («черных» куманов-половцев) и воинов Белой Калитвы (кимчаков-половцев).
Да что там кочевники, боялся их сам базилевс!
Как утверждает Нестор-летописец, «вышли они из пустыни Евтривской, вышло же их 4 колена: торкмены и печенеги, торки и половцы. Измаил родил 12 сыновей. От них и пошли и торки, и печенеги, и куманы, иже есть половцы, и после этих колен выйдут заклепанные в горе Александром Македонским нечистые люди» (из Повести временных лет).
Страх жил в душе самодержца, страх.
Потому и разрешил тогда базилевс своим воеводам убивать половецкие жизни, и тридцать тысяч душ отдали жизни безвинно по приказу царя-базилевса.
Разорил хан Боняк киевские земли, разорил да пожёг города и людей. Понахватывал хан добычи несметной, понажились и люди его.
Уцелевших людишек забирали в полон, и ценились те пленники после набега Боняка по цене одного барана. Вдумайтесь только, человек шел по скотской цене!
В обычный полон брали всех, кто подвернулся под руку буйному половцу. В полон брали, конечно, детей, жен боярских, купеческих, жёнок от челяди и смерди, мужичков из простых, что поплоше, да послабее.
Но тот набег был особым, особенным был!
В полон забрали монахов!
Тридцать монахов да двадцать прислужников связали верёвкой за шею, руки за спину, и цепочкой-гуськом повели среди прочих людишек полона.
Шли пленники, месили пыль дальних дорог, безвинно несли провинность-вину в ответе за злобу и жестокость князей, базилевса и ханов.
Юрко
«Юрко, а Юрко!» Голос матери ласков и светел. Несмышленыш еще, лет пяти, мальчуган обернулся на мать. Она стояла на резном красивом крыльце, ажурная вязь его выдавала богатство в дому. Ни одной щербатой ступени, так все прочно, налажено и красиво.
«Юрко!» – мать повторила. Мальчуган досадливо отмахнулся:
«Некогда, мати! На Лыбедь (река в Киеве) бежим! Там нынче огнища жечь будут, весело! Я, мам, не сам: мне дворовые подмогнут.»
Не убежал, не успел: сильные руки большого отца подхватили ребячье легкое тело, руки взметнули до неба, до Солнца.
Отец засмеялся:
«Что, чадо? На Лыбедь собрался? А то пошли с нами товар торговать. Гостинец матусе прихватишь. Сам выберешь, я оплачу. Торг нынче большой, да мы тороваты (здесь, ловки и удачливы), мошна-то звенит, так денежки много.
Мальчишка аж ротик разинул: на Лыбедь хотелось, на торг с тятенькой – тоже.
С мольбой оглянулся на мать: серо-зеленые глазищи ребенка ждали, что мати ответит, какое примет решение.
Отец вновь со смехом:
«Что ты на бабу уставился, сыне? Ты же мужик, сам и решай».
Но женщина резко ответила, беспокоясь за сына: «Торг!», – и новые из тёса ворота закрылись за сыном и мужем. Материнское сердце смутно чувствовало что-то недоброе: а что может быть хорошего на реке? Где мальчишки, там и проказы, а вдруг да утонет? Сколько русалок детей перетащили, не перечесть. А торг, он относительно безопасен, да и рядом отец.
Отец по дороге не выдержал, тихо ругнулся на жёнку: «Ишь, как гостинчика захотела, на речку не отпустила.»
Мальчонка поднял глазищи, посмотрел в лукавые отцовские очи. Отец почему-то смутился, поправил тугой кожаный поясок с латунною пряжкой, недавно надетый и вышитый ловкими жениными руками. Мальчуган поневоле поправил свой поясок таким же движеньем, отец засмеялся: «ну, ладно, пошли!» И двое очень похожих, один только маленький, другой, сильный, большой, пошли по дороге к торжищу, скоро смешавшись с людной толпой.
Велик Киев-град, ой как велик! Город большой, могучий и тучный (тучный – здесь, мощный, богатый), он мог поразить не то что дитя несмышленое, что шло сейчас, крепко вцепившись в руку отца. Толпа, что перла к торжищу, могла разделить, раздавить, расцепить его и отца, потому малец вцепился в палец отца, как клещами. Люди в толпе шли, выбирая местечко почище. Деревянные тротуары проложены не везде, канавы со всякою жидкою дрянью могли замочить или вывалять в жидкой грязи новенькие чьи-то онучи, тому толпа шла не кучно, как на бунт, а наразбродку. Но все больше и больше поднимавшиеся и спускавшиеся с крутых киевских горок люди захватывали свободные места и местечки. Толпа валом валила к Подолу, торг обещался большим.
Сытые вершники (конники) из дружины зорко всматриваясь в гущу толпы, поигрывали плетями: порядок должён соблюден. Жерло толпы сожрёт, не помилует, настроение биомассы могло поменяться в любую секунду, тому держались другу друга по ближе, искусно поигрывая кручеными сыромятными плетями, что потом через пару сотен лет назовутся нагайками. Игривые сытые кони звенели уздечкой: их тоже толпа веселила. Общая масса людей бродила весельем, будущим дармовым пиршеством. Князюшка, хоть завсегда скуповатый, обещался сей час выставить киевлянам квасы, сикеру (сикера– хмельной напиток, по технологии близкий к медо– или пивоварению, но без гонки), меда варё ные, медовуху, и, конечно же, ол (ол, олуй, – практически то же, что в нашем понимании пиво, сравните с английским «эль»). В общем, всякое питие, что тогда называлось пивом. А к княжескому дармовому питию те, кому покажется за мало, добавят и свою березовицу пьяную, хмельную и чистую, что ровно младенца слеза (березовица пьяная -самопроизвольно забродивший сок берёзы, сохраняемый долгое время в открытых бочках и действующий после заброживания опьяняюще).
А к хмельному давались калачи да другие харчи, вот и пёр народ на дармовщинку, в центр, на Подол.
Отец уж не рад, что и сам пошел на Подол, и ребенка малого с собой прихватил, но толпа несла, как река, и не выплывешь. Отец взял сына на руки, и мальчонка стал вертеть головенкой, что тот совёнок. Да ещё и ротик раскрыл: досада брала, что глаза да и память всё сразу взять не могли. Глаза выхватывали то вершников, что как на подбор, сидели на мощных конях и зорко взирали на лаву толпы; то миловидных боярышень, что сдуру отправились не в возке, а пешими на рынок, уже одуревших от жутковатой массы людей, от дурных шуток молодчиков, что шастали рядом, и жавшихся к мамкам-нянькам своим, что те цыплята к наседке; то на резко выделявшуюся из толпы ватагу человек десяти мощных мужчин явно военных. Отец шепнул: «русы!» и постарался обогнуть этих молодцов, как обходят вепря (вепрь-дикий кабан) или быка. Мальчонка не успел даже переспросить, кто такие эти русы, что их так с ходу нужно бояться: мужчины были веселы и вовсе не грозны на вид. Но не успел: новые впечатления захлестнули ребёнка.
Толпа все несла и несла, и, наконец-то вот оно, торжище. Людская масса гудела, что улей. Скромные наряды поселян мешались с богатой одеждой киевлян. Горожане могли ещё позволить себе одеваться богато, не все князюшка вытряс, не всё дружинушка понаживилась, не всю процентщики-ростовщики рухлядь (одежда, в том числе и меховая) из клетей и коморок у людей повытаскивали.
Рыжие русы, что на голову выше были любых киевлян, ходили ватагой по рынку-базару, всё больше прицениваясь к военным рядам. Чаще презрительно ухмылялись на зовы мастеровых, что торговали военным товаром, призывно кликавших покупателей. Изредка брали в руку кольчугу, меч или шлем, картинно пытались кольчугу надеть, или шлем нацепить на мощные головы. Демонстративно показывали, мол, маловаты будут, и с грохотом бросали товар, стараясь не в руки отдать продавцу, а пихнуть, да еще и, желательно, в грязь.
Мастеровые молчком поднимали омытый потом своим драгоценный товар, клали на место: с русами связываться было не можно. Рыжие русы, довольные и весёлые, хохотали, широко открывая громадные рты.
Юрко посмотрел на отца: «Что, мол, тятенька, это такое?» Отец молча дёрнул за руку: пошли!
Дошли до ювелирных рядов. Здесь было потише. Нарядные девушки стайками перемещались от лавки до лавки, стараясь если всё не купить, то хотя бы на всё посмотреть. Мужчины солидно и долго рядились с ювелирного дела мастерами. Те хвалили товар, отцы семейств или суженые (суженые– женихи) рассматривали серёжки да бусы, обручи, колты, венцы да другие мелочи для женской услады. Мелочи-то они мелочи, но как дорого стоят! Отец тоже подошел к одному из торговцев. Тот, видно, был из знакомых: здоровался проще, торговался поменьше, больше для вида.
Отец понабрал всякой разности. Мальчику было не интересно смотреть на лалы да бирюзу, червленую эмаль и прочее. Он с удовольствием, как только в детстве бывает, уминал белый калач с маком да медом, что отец прикупил по дороге. Калач все уменьшался да уменьшался, и кончился, наконец. Вилявшей хвостом бродячей собаке так ничего не досталось, несмотря на все её усилия мотать тертым хвостом. Пёс, поняв, что в этой ситуации он проиграл, жалобно заскулил, и не успел мальчонка ротик раскрыть, попросить ещё калача, как отец пнул пса так, что пёс не просто вскулил, завыл от боли и нежданной обиды.
«Тебе что, дворовых псов мало?», – и мальчик молча вытер слезинки, так некстати закапавшие из громадных глазищ.
Отец недобро взглянул:
«Ты что, девчонка? Или мамкины жалости перенял? Я из неё эту дурь выбить никак не могу, а из тебя смолоду вытравлю». И уже с другой, недоброй силой взял, как клешнями, детскую ручку, и опять пошли по рядам.
Детские слёзы недолги, и скоро опять детский дискант мешался с басом отца. Дело шло к вечеру, уже торопились домой, как встретил отец незнакомца. Раньше Юрко не видал этого человека в горнице у отца. Отец славился хлебосольством, но этого, богато одетого, Юрко видел впервые. Мужчины говорили недолго, урядились о чем-то, наверно, раз отец из калиты (калита – денежный мешок) деньгу-гривну (слово деньги пришло к нам с приходом татаро-монгол на Русь, на Руси тогда в денежном обращении ходили гривны и куны, но мы называем привычно деньгами и гривны, и куны) достал.
«Кто это, тятенька?»
«Так, огнищанин (огнищанин– близкий к князю дворцовый слуга). Я ему должен. Долг и отдал. Да смотри, матери не говори, она это не любит».
Мальчик с готовностью закивал, хотя ни слова не понял: что такое матушка его не любит, и почему ей нельзя говорить, что отдали долг?
Усталые ножки хотели домой, и так писать хотелось! Тут не до дяди, которому тятенька денежку должен, тут дело живое и очень уж невтерпёжное назревало!
«А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?
Обратите сердца ваши на пути ваши.
Вы сеете много, а собираете мало;
Едите, но не в сытость; пьете, но не
Напиваетесь; одеваетесь, но не Согреваетесь; зарабатывающий плату
Зарабатывает для дырявого кошелька.
(Книга пророка Аггея). 1-(5-7).Богатства великая тягота!
Богатство отца тяготило, мешало, как им казалось, дышать. Матушка милая, доки была жива, где тайком, где, нарываясь на окрик супруга, кормила в сенях да при поварне убогих, несчастных. Особенно жалела детишек. Как увидит за воротами сирого, покличет, да что-нибудь даст. На окрики мужа только молчала. Поправит платок, да и в дом.
Тверда была только в одном: десятину на храм выпросила у супруга. Отец как-то сильно, но очень по-своему, любил мать. То принесет ей с торжища ожерелье червленое, а то преподнесет ей кулачищем под глаз. Мать всё терпела. Обновки носила, воли супруга перечить не вмочь, синяки под глазами тоже переносила с привычным терпением.
Вечерком, когда солнце садилось, присядет устало на лавочке у ворот: так хорошо! Изумрудная зелень травы большого подворья как ярким ковром покрывала дворище, фырканье отборных коней вперемешку с мычаньем подходивших ко двору бурых коров, кудахтанье запоздалое серенькой курочки да победный клекот рыжего петуха, и задорные крики дворовых мальчишек вкупе с дискантом её малыша, да далекие била церков (до применения колоколов в храмах устанавливали била, то есть чугунные изделия, издававшие мощный и протяжный звук), – что может быть слаще для женской судьбины?
Тятенька дома редко бывал: постучит вершник какой нагайкой по тёсаным воротам, и отец за порог. И, поди знай, когда он вернётся, и особенно знай, каким он приедет. Может с порога ножищей в сенях по кладям постукать, перевернется какая лохань, он к матери: «твой недогляд!?» А может и от ворот подкинуть мальца до неба, до светлого солнца, высыпать из кармана сласти мальцам: гуляем, робята!
Дом весь держался на матери: дворовые слуги, чистая горница в тереме (мать грязь не выносила совсем!), воспитание дитяти родного, поварня да живность, всё требовало неустанного нагляду да дозору.
В поварне стряпуха нет, нет и ворчала на мать: весь дом старается есть куском пожирнее да слаще, а хозяйка постится. Эвон, одни синевой глазищи и блещут на исхудалом лице!
Все едят, люди как люди, а ей на поварне наварят простеньких щец из капусты да проса (просо– пшено), а она ест да нахваливает. А по средам да пятницам в рот ничего не возьмет, взвар ей и тот отсцеживали!
А двор то богат: свое масло коровье едали. Неужли володарке– хозяйке не дали бы? Так нет, отвернется от мяса да молока, пустые ей щи, видите, подавай!
В светёлке (светелка– комната в доме богатого киевлянина, обычно располагалась на втором, светлом этаже, потому и «светелка», «светлица») у матери, как в келье монаха киот да иконы. Грозные темные лица христианских святых смотрели на суетный мир грешных людей: мальчик боялся.
Всё чаще мать сыну шептала: «окрестить бы его!». Сын понимал: мать об отце. Мать, поправляя на шейке у сына крестик из дуба, гладя по светленькой голове, начинала рассказ про быль недавней уже старины: про князя Владимира, как рос он буйным язычником, наложниц имел больше некуда (мальчик не уточнял, кто такие наложницы, стеснялся спросить, отвлечь мать от плавного нараспева), буянил по Киеву да Днепру, ходил с дружинами воевать земли заморские, на греческую землю дань понакладывал да степь усмирял…
А как ожениться на сестре базилевса (базилевс, басилевс– византийский император), так в Корсуни и крестился. С тех пор усмирел, эвон как ладно дела то пошли. Не иначе, как Красным то солнышком народ его величает. И Русь богатеет. Ты видел, как Киев хорош? Как строятся храмы? Лепота! В Киеве жить – превеликое счастье.
За Киевом, сын, не везде христианство бытует, да и в Киеве, погляди, через раз христиане живут. Даром что князь наш Владимир тогда, давно то и было, да и недавно, дедов уже нет, что при нем тогда жили, ведь лет больше ста-двести прошло, так князь, как вернулся с греческой земли, народ окрестил одним махом. Загнал в Днепровскую воду на Почайне-реке, там византийцы– попы народ и крестили.
Мальчик, как сказку, слушал про князя, видел в детских грёзах своих ладьи по Днепру, Корсунь-град, что мощно стоит на море, про то, как витязи князя штурмуют крепости башен, и сам князь на боевом коне (конь-это Лыска, дворовая толстая кляча, что часто возила его на хребте, и долго жевала губами, когда подадут ей хлеба шматочек с крупной сольцой…).
Очнулся от грёз, когда мать говорила:
«Сейчас, мой сыночек, есть уже иереи и из славян, а тогда приехали с князем строгие батюшки…
Окрестить бы его, окрестить…» Мальчик перебивал:
«А какое оно, море?»
Мать пожимала плечами:
«Даст тебе Боженька, и увидишь… Наверно, большое!!!»
Мать умолкала, вдаваясь в свои тяжёлые думы. Мальчик молчал. Свеча обгорала на тонком оконце, лампада с киота теплилась живым. Мальчик смотрел то на светлое личико матери, то на строгие образа Спасителя и Девы Благой. Сумрак прохладой втирался в горенку (горенка, светелка – комнаты в доме. Горенка– комната, что «на горе», то есть на верхнем этаже богатого дома) дома; мать, встав на колени, молилась. Долго молилась и истово. Мальчик боялся, но повторял, кое-где спотыкаясь на трудных словах: «Отче наш, иже еси на небеси…» Потом спрашивал:
«А Богородица тоже из греков?»
Мать улыбалась и вновь повторяла историю света, историю тьмы.
Иногда мать доставала величайшее из сокровищ – книгу. Коричневый кожаный переплет пах застоявшимся ладаном, красные буковки сплетались в славянскую вязь. Мать говорила:
«Учи, сынок, азбуку, учи, мой родной. Осилишь, сам книгу прочтешь. Видишь, сынок, буковки разные? Они наши, славянские. Учители из словен научили нас азбуке. Теперь читаем на нашем, родном языке. И все понимаем. А у латин там читают всё по-латыни, не разберешь! А у нас всё родное, знакомое: «Аз» значит я, «Веди» – поведать, узнать, «Глагол» мальчик радостно обрывал:
«Говорить?»
Мать ласково гладила по голове: «какой ты у меня умница, кровушка мой…».
Термы
Раннее утро, а солнце палило, будто не март. Пусть дело к апрелю, и скоро Песах, но все же, но все же… Анна молча брела, легкие коччи (кожаная обувь типа сандалет) едва задевали щели плиток. Мощеная улица разветвлялась, ведя к храмам и баням.
Главная улица Херсонеса, что проходила с востока на запад Бело-Желтого города, была главной артерией города. Улицы-вены шли под прямыми углами, кварталы ровно делили город на почти равные части, с весьма и весьма маленькими расстояниями между кварталами. Мощёные плитки межались с ровной брусчаткой, под которой текли в море стоки, надежно упрятанные в керамических трубах. Двухэтажные дома стояли так рядом друг к другу, ну, ровно в обнимку. В первых этажах почти всех домов располагались лавки с товаром, двери которых всегда широко были распахнуты. Ах, какая роскошь цвела, расцветала в лавках с товарами, поневоле заглянешь хотя бы в одну.
А в подвалах этих домов хранились товары мука и крупа, зерно и соленая рыба, вино и еще раз вино, масло из южной оливки, из русского льна и конопли. Пифосы (большие толстостенные глиняные сосуды) надежно хранили свое содержимое.
А в лавках стояли, весьма горделиво, одноручные плоскодонные глечики стандартных размеров, в которые из пифосов слуги переливали или перекладывали нужный товар.
Облицовка домов источала тепло, черепица на крышах краснела багроватым оттенком.
Но дамам нужно было не в лавки. Дамы шли в бани.
Легкая пыль оседала на ступнях, утренний ветер то приближал к уху, то отдалял стрекотанье то ли цикад, то ли кузнечиков малых, то ли Сарино бормотанье смешивалось с неумолчным стрекотаньем цикад. Анна не слушала Сару – зачем? Вечные сплетни, новости ни о чём.
Дыхание толстушки и вечные сплетни так надоели! Но Сара считалась не просто соседкой, а подружкою Анны, и Анна терпела. Остановилась, вытряхнула из коччи камешек малый и перешла на сторону ветра. И Сарино стрекотанье ветер стал относить в сторону моря.
Дамы шли в бани.
Бань в Херсонесе городе много. Конечно, стало поменьше с тех давних и давних времен, что как сказку, старые бабки шамкали вечерком, когда русичей князь Володимир взял и засыпал водопровод. В те времена ромейки из знати каждое утро спешили в своих паланкинах в термы полумрак, где ждали их сплетни, легкие воды бассейна бликами освещали стены, и оживали картины сражений из Илиады. Бассейны для дам неглубокими были, а некоторые даже с морскою водой, и мрамор бассейна теплел, оживал, принимая тела патрицианок. Курился дымок миндаля, ароматом своим наполняя черные с рыжиной волоса гордых гречанок. Да, тогда хорошо было жителям!
А сейчас? Сейчас, дело иное. Как уж эпарх добился, чтоб дамы из иудаис посещали бани гречанок, незнаемо, во сколько мужьям обошелся их разговор со стратигом. Но ромейки предпочитали иные дни, чем дни посещений евреек. Те внешне обиды совсем не держали, зачем? Не ходить же к словянам в их общие бани?
Вот и сейчас Сара, хихикая, стрекотала:
«Представляешь, вчера, у словян в их бане, ну, в термах, что у словян, в общей их бане, проходили смотрины. Рус рыжебородый, да помнишь его, здоровый такой, вчера на базаре мешки опрокинул с пшеницей. Ну, помнишь, как было смешно? Как греки орали, а он только башкою вертел, языка-то не знает. Не помнишь? Ну куда уж тебе с твоим Фанаилом чужих мужиков вспоминать!
Так рус этот, рыжий, в невесты себе запросил кого бы ты думала? Не угадаешь! Рабыню! Вот смеху-то было. Говорят, так с ходу влюбился, что на выкуп сразу деньги давал, на все был согласен, рыжий верзила».
Анна не удержалась:
«Сара, откуда ты знаешь? Если вечером бани, а сейчас солнце только встает, откуда ты знаешь?»
Сара взорвалась: так обидеть бедную Сару!
«Как это знаю? Да просто мой муженек, мой Иаков посредником будет! Девчонка-рабыня – словянка? Словянка! Креста на ней нет? Нет. На игрища ходит, Перуну уста мёдом мажет? Значит, можно и выкупать. Вот Иаков и будет для руса, зовут его вроде «меда едящим», да, точно, Ведмедем, девочку выкупать. Она еще вроде маленькая, лет так двенадцати».
Анна не утерпела опять:
«Что значит маленькая? Невеста вполне!»
Сара снова всплеснула руками:
«Анна, ты что? Это наши девчушки – невесты, а у словян это рано, но рус так влюбился, прямо горит! Иаков же хочет на комиссионные с выкупа Мириам браслетики докупить. Знаешь, такие стеклянные, плоские, дорогие, со змейками золотыми. Ну, такие же, как покупал ей недавно».
Анна кивнула:
«Да помню, я помню…»
Анна спросила так, разговор поддержать:
«А что хозяйка девчонки?»
Сара остановилась: идти тяжело, солнышко припекало, полою утерла лицо:
«Хозяйка – крещёная. В те бани, известно, не ходит. У них в нашей бане есть дни, а то и с ромейками ходят. Православные, знаешь. Да и подворье их, русское, рядом. Их много, словянок. Её, между прочим, представь, тоже Анною звать. Иаков просил, если в бане увижу, поговорить…»
«Ну, как ты увидишь? Сегодня день не ромеек».
Сара: «А вдруг?»
Анна махнула: Сару не убедишь. Еще на рынок потащит, не дай Яхве такому. Опять на неё, на Анну будут смотреть да смеяться.
Худое, тощее тело обвевал утренний бриз, хламида обвилась вокруг бледных костей, Сара взглянула, и перевела разговор на тему другую. А тем у Сары, да рано с утра, было много, а тут на тебе драгоценный подарок с утра– свободные уши подруги.
И Сара разливалась ручьем-водопадом:
«Представляешь, сегодня чуть свет дромоны приплыли. Так много военных. И византийских монахов. Я видела, видела, они по храмам пошли. И с ними красавец такой, богатый-богатый! Наверно, посланник Комнина. Стратига не видно… Наверно, остался в Константинополе. Ой, Анна, красавец какой!»!
Анна не удержалась, съехидничала:
«Кто, император?»
Сара шутку не приняла:
«Тоже мне, скажешь, посланник, конечно. Ой, да что это я тебе говорю! После твоего Фанаила остальные просто уроды. А этот – красавец. Высокий, прямой, молодой-молодой»!
И прошептала на ушко:
«Знаешь, если бы мы были не иудаис, я бы Мириам отдала за такого. А что? Жалко, просватана». Скороговоркой проговорила:
«Иаков свадьбу отложил почему-то, ну, да мужу виднее..», и далее продолжала про дочь:
«Она у меня – прелесть какая! А он? Красавец, и знатен, конечно. В Константинополе б жили. И – я…»
Анна резко одернула глупую бабу:
«Ты что? И думать не смей! Ты же ивраис.»
Сара сильно обиделась на подругу: кричит, а кричит то чего? Подумаешь, сильно кичится своим иудаис. На каждом шагу твердит, она иудаис. Конечно, конечно, похвастаться больше то нечем. Рыжая рожа, волосенки реденьки, тощая кляча, ни рожи, ни кожи, груди вовсе нет, так, два прыщика, да ключицы торчат, и ягодицы, что те осколки, с веснушками на бледненькой коже.
Сара тихо вздохнула: надо же, и этой груше печёной достался первый красавец. Конечно, припёр её из далекой-далекой теперь Иудеи, вот и кичится теперь: я – иудаис! А вы, остальные, конечно, ивраис. Гордячка тощая!
Анна искоса глянула зелёными глазками на подружку, мысли которой секретом не стали, и тоже вздохнула: вечный позор её внешности снова давил, пригибал, так что плечи ссутулились вновь. А что скажешь – уродка. Конечно, потешная Сара с её полнотой тоже восторгов не вызывала, но у Сары муж-то не Фанаил, а обычный Иаков.
К термам они припоздали: дамы уже плескались в бассейне. Гул разговора касался мраморных стен и возвращался к бассейну. Общей сенсацией стало прибытие императорской свиты.
Сара мгновенно включилась в толщу дамских телес, ухнула в воду так шумно, что фонтаны воды полились за ограждение. Если бы так позволила сделать гречанка, то точно б разбила драгоценные вазы стекла, что шиковались на бортиках, соблазняя иссиним то виноградом, то сливой, то яблоком красным. Но вазы разрешалось ставить только ромейкам. Любая ивраис могла бы позволить с десяток таких ваз расставить в бассейне, но банщики донесли бы мгновенно Демитре, и тут бы эпарх был бы бессилен.
Общая тема: красавец– посланник, и дамочки из ивраис обсудили все абсолютно, до последней детали хитона.
И громче всех слышался бас Сары:
«О, прямо там, скажешь, однако, да я тебя умоляю! Я сама видела, фибула (фибула – металлическая застежка-заколка, застегивавшаяся на правом плече длинного плаща) золотая, вот только камень не разглядела. Да нет, плащ без меховой оторочки, что он тебе, херсонесит, чтоб оторочку носить? Ты еще скажи, что он вышивку носит или штаны по-херсонски!»
Общий смех опозорил Сарину оппонентку, и та поплыла к скучавшей наедине Анне:
«Ой, Анна, здравствуй, как там детишки?»
Анна вымученно начала рассказывать про своих милых детишек, старательно обходя колючие взгляды красотки по своей горблой спине, тощеньким ягодицам, рыженьким волосам: как всё привычно до боли. Убрать бы их всех, поплескаться бы в одиночку в бассейне!
Наконец красоточка, натешившись униженным видом жены первого из первейших красавцев планеты, отплыла, и Анна было вздохнула, но следом плыла новая стерва. И жертва очнулась:
«Ой, здравствуйте, милочка! Вы знаете, у нас, иудаис…»
Та долго унижения пытки не выдержала и отплыла. И Анна наконец-то занялась именно тем, за чем ходят в бани.
Прибытие
Всё раздражало: слепящее море, которое корабли резали напрямую, и безутешная качка, которую он не мог вынести и снести. Раздражала команда, усмешки её по поводу качки, что, он базилевса посланник, не мог пережить. Раздражал вид самой пищи, и запах её, что шел от камбуза, где властвовал хитренький армянин. Одно утешало, как прыскали от дромонов шустрые торговые корабли. Кось парусов арабского типа давали возможность маневра, и корабли, поди, разбери, торговец идет или под флагом торговца пират притаился, корабли шли наутек, едва зоркий глаз отчаянного юнги натыкался на паруса военного флота: желтые паруса с красным крестом видны издалече.
Напряженная трасса свободной воды гнала корабли за добычей. Дело шло к разгулу весны, когда путь оживал, и каждый день мог принести прибыль, или не дай нам Всевышний, погибель. Тому развлечением стало смотреть, как нагруженные корабли, едва пыхтевшие, как старая толстая бабка, парусиновые юбки которой едва обнимают необъятное тело, прытко бегут от дальнего вида его кораблей.
Раздражали грязные херсаки (презрительная кличка ромеев по отношению к херсонеситам), из-за которых он должен отрываться от благодатной столицы и мчаться в провинциальную глушь.
Раздражали даже монахи, что кучкой теснились около Захарии, и даже их благодатные молитвы Богу Единому не утешали его.
Поставили кресло. Посланник сидел, наслаждаясь мизерною властью, пока приступ качки не заставлял напоминать, что он самый простейший из смертных простых.
Раздражали даже дельфины, что стали резвиться близ кораблей. Подошел капитан – «скоро Херсон, севастократор!»
Пристали к пристани мощной, что разместилась в гавани круглой, протопали по сходням и разбрелись.
Посланец со свитой, натощак, утром, пока рассветало, по храмам пошли. Храмов колонны видны издалеча, а снизу, от морских берегов, храмы на взгорье казались и выше, и краше. Взобрались по ветвистой дороге к храму Пресвятой Богородицы, что с третьего века стоял, окруженный малыми часовнями да храмами. Мозаичные полы святилища в полумраке отсвечивали желтоватой керамикой, узоры по камню так въелись в гранит, что доныне как новые. Да, в древности даже рабы умели работать, так постарались.
Осенились крестным знамением, выстояли половину службы, а тут и эпарх. Крещеный еврей поклоны бил прямо неистово, припадая к кресту, крестился без устали. В храме равны и посланник, и воин, эпарх и монах. Кланяясь низенько Богу Единому, гражданский наместник поглядывал на пришельцев, осматриваясь, кто есть посланник? Глаз зацепил за двоих: первый убранством одежды, дорогой плотной тканью да блеском алмазов, второй, стоявший поодаль, смиренностью позы, монах в черной рясе. Ага, промелькнуло, первый, то императора человек, басилевса посланник. Монах? Ну как сейчас без монаха! На корабле службу служить, грехи свиты да челяди отмаливать, ну как без монаха. Взгляд равнодушно скользнул по согбенной иноческой спине. Поодаль крестные поклоны отбивали иные монахи, и стало понятно, наверное, прибыли миссионеры.
Не диво, что военные корабли понавозили монахов: империя строго следила за христианским обрядом громадной страны.
Обеспокоенный было приездом военных, эпарх распрямился и тревога ушла. Потом возвратилась, и мысли закопошились опять. Зачем внезапно прибыли эти дромоны? И воинов масса? Война? Так недавно утихла. Бунт? Так не было бунта. Если донес кто на шалости да грешки его да пары – трёх приближенных, то просто вызвали бы в Константинополь, как отозвали недавно стратига. Жалко, конечно, было бы денег и власти. Жалко, если бы сняли с поста базилевским указом. Мало попользовался властью он, мало. Денег, что денег, денег не жалко, деньги давала община.
Вспомнил, как на кагале его выбирали. Шутка ли, Херсонес возглавлять! Его выбрали не за красоту (какая уж тут красота, сам понимал, что далеко не красавец), не за деньги (деньгами тут всех рок не обидел), а за изворотливый ум да находчивость. Хитрость его была также известна. Потому и прощалось ему многое, пакостливое и блудливое, что въелось в натуру.
Прощались «мелкие шалости» вроде известных по слухам. За руку-то не ловили, но шепотком, шепоточком болтали, что баловался малолетними мальчиками из рабов, что пригонялись весной каждый день. Отбирал, дескать, самых молоденьких, даже и шестилеток, ходил по рынку, прищурясь, наслаждаясь согбенным видом рабов. Отбирал, объясняя, что надо детишек смолоду приучать к виноградарству да кухарству. Люди кивали, как будто и верили, ведь эпарх говорил, гражданский наместник от власти имперской.
Ещё болтали еле слышным шепотком и прямо на ушко, что, мол, если ночью детские крики из дома эпарха, то потом одного из рабов-малышей не досчитаешься. Но мало ли врут люди из зависти? А вот то, что безъязыкий раб из словян Егорий ранехонько утром из дома эпарха в пифосе выносит тяжелое что-то в пищу свиньям, это факт. И боровы в усадьбе на диво жирны, тоже факт. А если какая свинья и разгребет в свежайшем навозе детскую хрупкую косточку, так тот же Егорий, почему-то, крестясь, закапывал косточки где-то далеко-далеко, а в городе катакомб да подвалов хватало. А еще замечала людская молва, что часто плакал Егорий, хоронясь от людей и почему-то в те утра, как детские крики, что рвали душу на части, были слышны из усадьбы эпарха. Но кому нужен был старый раб, безъязыкий, из варваров, да и как ты возьмешь с него показания?
Дневные хлопоты
Открестились, молитвами да поклонами поизлозили мозаичный пол главного храма и поплыли на выход.
У выхода храма крещёный еврей изгибался поклонами, даром что тучен, как тот кабанище. Встретил у дальнего входа, императора свиту встречал, как будто сам басилевс по красной дорожке явился в дом его бедный. Правда, дом его бедным назвать было трудно: белый камень строения очи слепил на полуденном солнце. Местный камень хорош, и везти недалеко. Рабы приносили его с плотов или барж, груженных настолько, что нижние камни пропитывались морскою водой чуть не на треть. Инкерманские каменоломни камень давали и в Херсонес, и везли в метрополию, где константинопольские евреи продавали его богатеям задорого, ибо камень был прочен и бел. Росписи дома кое-где выцветали, хозяин скулил про несчастную бедность. Нижний ярус хозяйской усадьбы пестрел людским гамом: из винных складов выкатывались бочки с местным вином. Хозяин, увидев, что гости взор устремили на стройные ряды виноградных лоз, что зеленели на ближнем холме, стал расхваливать местные вина, рассказывать, какие виноградники он обустроил с общиной на дальних холмах, где жить невозможно, ветрено очень, а вот виноград удается на славу.
Один только взгляд при слове «община» протоспафарий (византийский титул ниже патрикия. Но достаточно высокий, типа генерала. Обычно предоставлялся лицам, являвшимися почетными стражниками императора и имевшими право участвовать в торжественных выходах базилевса) Константин бросил на потное, жиром поплывшее личико наместника города, как свита всё поняла: двор императора школой отменной был царедворцев.
Крутость Комнина известна была не понаслышке. Не угодишь, и на плаху. Императора шутки давно были известны: император-солдат оставался солдатом, и кому же хотелось висеть! Ссылка, то счастье, избавление от базилевсного гнева. Взоры свиты мигом в упор перестали замечать тучные стада баранов, что паслись через бухту, строй лоз винограда стал для них словно дикие прутья малины.
Полуденное солнце палило. Эпарх истекал потом, капли которого стекали по бочкообразному тельцу. Сходство с бочкой было разительным: обруч на голове и пояс на месте, где у людей бывает талия, а тонкие ножки едва держат оплывшее тело. Но чёрные глазки зорко держали все: и поведение гостя, и свиту, что в полпоклона от порученца была, держали и город, кто там идет, и как смотрят соседи, и как тянется вереница рабов с пристани на возвышенья холмов. Но вот взгляд базилевсного порученца на слово «община» не углядел: засмотрелся, как дюжий детина отбрасывал пса от порога винодавильни. Пес так забавно вцепился в волосатую ногу, так забавно болтал лапами, что никак не могли обхватить вожделенную ногу ударившего его, что эпарх поневоле заулыбался. Эта улыбка от порученца не ускользнула, и взгляд порученца стал ещё жестче и цепче.
Эпарх перекатнулся на тему обеда: солнце полуденный круг перешло. Намеки на виноградники да еду цель не прошибли и эпарх стал настойчив: желудок просил подогрева. И, как назло, утром не успел перекусить. Как рано увидел, что чуть не перевернулась баржа с драгоценными шкурами нерожденных барашков (каракульчи), так и рванул (а бегал на диво так быстро!), семеня ножонками к берегу моря. Ну, а потом дела другие захлестнули.
Одним из важнейших дел, не делишек, была тайная встреча с советом общины: делили добычу. Очередной караван запыленных рабов, пропавших перекопской полынью да просоленных Сивашем, томился за изгородками, что наспех когда-то сложили на дальней окраине Херсонеса. Ловкий торговец Мехаим сбивал цену, а половец юный, что пленных пригнал, погнался за блеском очей юной рабыни суданской. Её, как диковинку, отдавали на ночь тем, кто был очень нужен или выгоден, потому деньги взял, не считая.
Приятное золото тяжелило карман.
Эпарх был доволен. Половец – тоже. Он недавно научен был койнэ (обиходный греческий язык), страшно гордился перед сотоварищами, томившимися по обычаю за западными стенами Херсонеса. По звычаю да обычаю торги невольниками шли за стенами града. И степнякам так было сподручней дышать степью родимой да подаваться в бега от конницы греков на случай расправы над ними за тайный или вольный грешок перед властью громадного «желтого города».
И грекам привольно вести бесконечный торг вдали от таможни да сборщика податей на торговлю. Экономия велика, так велика, что перевешивала опасность работы с гордыми степняками.
Не раз уж бывало: получит деньжищи степняк удалой, нехристь степной, свистнет товарищам и подается в бега с добычей, что у града прихватит. Ищи потом по степи, откупай душу христианскую у вольницы. Половцы, те что, вот с печенегами было трудно, но ладить пытались – политика! Печенеги трудностей политических реверансов перед вроде далеким, но в сутки прогона близким Константинополем не понимали: дикари они и есть дикари. Недаром половцы лет десять назад громили орду печенежскую, гнали в степи, и пыль поднималась такая, что клочья ее несли от Херсона за море. Битвы сраженья шум за далью не слышен, но скорые волны новых рабов пополнили рынок. Дикари-печенеги и тут дикари: ни толку, ни проку от этих рабов. Бабы, что мужики, в штанах да нечесаных космах, поди, отличи. Невзрачны на вид, худы, сильны только злобой. Скоро от немногочисленных печенежских рабов отказались и вовсе: купишь такого раба, пожалеешь, накормишь, а он ночью неслышно-потиху нож в спину иль петлю на шею благодетелю да и накинет. Вздернешь его за стенами града на зубцах башен столетних, а он да его соплеменники, что редкими стаями вились за стенами града на низеньких лошаденках, только зубы и скалят. Ни страху, ни радости в чёрных диких очах.
Потому не любили херсаки степной вольный народец, не жаловали. Торговать торговали, зачастую успешно, но радости от торгов не испытывали.
Не то половец. Народ смышленый, веселый, на рослых конях смотрелся картинно: светлые волосы ветер степной трепал в стужу и в жаркий полуденный день. Степняки клобуков не носили, в отличие от караколпаков (черные клобуки), что изредка забредали через Тамань на крымские земли. Светлые лица половцев с чуть искоса светлыми же глазами были как то ближе, роднее. Народ хитроват, как и херсак, столь же радушен и торговаться умел.
И за рабами следили, не то, что поганый исчерна черный печенег. Холить не холили, но за рабами следили. Не то печенег: тот предложит на выбор выкуп за волю или к ним перейти на житье постоянно. Кто откажется, сам виноват, что голову отсекут, не жалея. Сам тот выбор избрал, тебе и ответ.
Доволен утренним торгом остался юный половец, по прозванию Атрак: золото так приятно тяготило карман.
А как довольным не быть, раз полон попался хороший: справные девки тешили взор, мамки с дитятями выжили по дороге, рослые мужики бунтовать не хотели, в степях им воли не видно: Дикое поле диким и было. Куда убежать? В степи или аркан половецкий достанет, или, не дай Господи, на аркан печенегов наткнешься. Хоть и разбил их половец лет так с десяток, а все печенежские банды рыскали по степям, искали добычу. Наткнутся этак на невольничий караван, положат и стражу, да и невольников не пощадят. Лишние рты в степи не нужны, раз путь к рынкам Херсона половцы перекрыли. Тому и дошел караван до Херсона спокойно без бунта или погони за давшим стрекача каким-нибудь рослым рабом.
О, Атрак был доволен! Чёрное тело суданки приятно щекотало юношеское тело еще так недавно. Вот дивная девка, кусается, а приятно. Черным черна, только очи да зубы блестят белизной. Атрак было подумал, что не поверят в орде его сказкам про чёрную девку, и решил промолчать. Соврет про гречанок, про светлых русинок или аланок, поди сосчитай, сколько в Херсоне блудных девиц. В каждой корчме, при каждой гостинице они есть. Хочешь, рабыню, но есть и свободны, торгуйся за ночь, сколько хочешь. Нет, хорошо, что койнэ ему удается. Другие из племени рабынями из полона пользуются, пока атаман недосмотрит. В город не входят, боятся. Только зубы и скалят на пришлых девиц, что изредка за ворота города выходят самые смелые да голодные. А что проку от тощей девицы, что думает не о телесных утехах, а корке хлеба горелого да глоточке местного винца. Нет, такая девица ему не нужна.
Атрак опять улыбнулся. Дорого ему обошлась чернокожая краля, да ладно уж: в степи полону навалом, Русь велика, а князья жадобны, добыча сама в руки идет, да еще и сезон. Степь расцветала красками алыми маков, жёлтыми глазками дикой ромашки. Зелень степи ветер клонил так красиво, и моря не надо. Атрак видел море не раз, а что в нём красивого? Что так херсаки свое море лелеют? Вода и вода, да еще и солёная: ни коню дать напиться, ни самому глотка выпить. Степь, то дело другое! Дали великие, степи безмежные, травы густые с седым ковылем. Там и лошади вольно, и самому есть где прилечь, где присесть, а где и набег сотворить. Степь все покроет.
Конечно, в степи чернокожим красоткам быть не бывать, ну и зачем? Свои половчанки не хуже. Волосы длинные, в светлые косы вплетенные, змеями по спине, ах, как девки красивые! Глаза большие, чуть заметным разрезом азиаток, так глянут в душу юного половца, что куда там суданкам или херсачкам. Да и худые те горделивые ромейки не в меру. А вот половчанки… Мысли Атрака совсем перекинулись на думы про девичий стан да гордые очи родных соплеменниц. Ровный бег лошадей мысли не путал, воздух степи очищал грешную душу.
Да вдруг ни с того ни с сего припомнился прошлый полон, что недавно гнали в степи: вереница тощих монахов, грудка людей с бабьим вытьем. Как звали монаха того, самого тощего? Нет, и не вспомнишь… «Тощий», так звали его дядя и люди охраны. Тощий… Где он теперь? Тощим тощен, а дошел до Херсона, и люди с ним не погибли.
Чудные эти монахи, чудные! Всю путь да дороженьку бормотали и пели дивные песни, поминая Единого Бога. Бабы с полона к ним притулились, так они баб не трогали, лишь утешали, да песни свои напевали над детишками малыми, что мерли в дороге. А что умирать? Степь велика, конь дышит ровно, и людям есть где пройтись-разгуляться! Еды было вдоволь: степь давала добычу, и стража кормила своих из полона. Так нет, мёрли и мёрли. Так жалко, сколько можно было пленников с выгодой распродать.
Кагал
Орали, шумели, кое-где и дрались. Собрались хоть тайно, и сильно шумели, но шум был не страшен: в темном подвале было сухо и тихо. Века назад здесь был первый храм христиан, что тайно сбирались на ночные моленья. Сохранился еще полукруг алтаря, стены надежно тверды. Города шум, лай бродячих собак еле был слышен. Не слышно и их. И потому, не стесняясь, орали, хватая друг друга за пояса. Дело было не шутка: выбирали эпарха. Ранее сумму, что взяткой давали, давно уж решили: давать так давать, при любом неприятном раскладе выгода есть. В столице деньги любили (а кто их не любит?), называли «подарками» такие деньжищи, что очи на лоб вылезали. А все же выгода слаще, а и не одному же деньги давать. Круговою порукой общие деньги руки связали. Кряхтели, плакали даже, на сиротскую долю жалкуясь, а все же давали. Ивраис в городе много, община большая, так что плакали так, скорей по привычке. Да и давали, втайне тешась надеждой, что на кагале вдруг! (ах, это нежное вдруг!) изберут не «бочку», а его, обычного Моисея иль Исаака. Потому и дрались, вспоминая друг другу застарелую ненависть и заклятых друзей. И как-то подзабылось, что Исаак уже принял крещение, зовется именем христианским Аркадием, как нарекли при крещении (Аркадий – пастух из Аркадии (греч.) и право на должность имеет лишь он. Ну и что же? За ради должности да посады не только крест поцелуешь, надо, и схиму возьмешь. Вон, не побрезговали же христиане на развалинах синагоги свой храм-базилику построить, так что пример есть.
Выгода, выгода манит, светит лучами золота, серебра. Страсть накалялась, шум перекинулся и на передний ряд лавки, где восседали старейшие да мудрейшие из ивраис. Докатившись до переднего ряда, волны шума и гама людского затихли. Тут старейшие думали.
Взятку в столицу дали большую, и ошибиться нельзя. Нужно поставить эпарха? Конечно же, нужно. Потому и не важно, что выкреста– перекреста назначим. Похотливый? Да, очень. Хитер? Еще как! Да, а если изворотливая похотливая «бочка» предаст, то есть выручку от рабов однолично присвоит? Дело-то тайное: за продажу рабов-христиан полагалась суровая казнь. Потому и добыча тайной была, а ну как жадный Исаак, сын Моисея, что крещение принял под именем, будто в насмешку или в издёвку грек ему дал, Аркадий, ну какой из него там Аркадий, из этой бочки на ножках? Опять деньги зажилит? Не раз же ловили на обмане своих (за обман чужеродцев хвалили), но извертался хитрейший их хитрых, иногда козырь бросая главнейший: вытащит из глубокого тайника золота прелесть, и тихо опять, благопристойненько в иудейском квартале.
Думали долго. Первые петухи подавать стали голос, тогда и решили: пусть будет он, а там видно будет. Не справится, мигом напомним, что он из рабов. Вольноотпущенник это сегодня, а завтра, если обманет, вернется в рабство, и потеряет все, даже свободу. Ну, а если работать будет исправно, наградой героя мы не обидим. Кагалу сказали приличную вещь: мол, Исаак окрещен, а с вступлением в должность надобно торопиться, выгода ведь уходит.
Жди очередной партии рабов до весны, а золота оборот пропадает.
Тем собрание и убедили: оборота приятного сердцу золота миновать невозможно.
И Аркадий работал, себя не жалея: рабы исправно тореными тропами потекли в славнейший Херсон. Наладили связь с удалыми князьями, что торговали людишками из-под полы. Киевские иудаис помогали исправно, и караваны рабов шли каждый день, если сезон. Осенью работорговля стихала: капитаны судов рисковать не хотели, нет, не жизнью рабов, а той долей добычи, что за них полагалась.
Прелестная Мириам
Отец Мириам досточтимый Иаков улыбался лукаво, встретив эпарха, того, что был Моисеевым сыном, кланялся низко. Долго рассказывал про тяжелую жизнь: как пропал виноградник на студеных ветрах, как тяжело содержать большой двор, вся-то надежда на Мириам. И отца распирало от прелестей дочери, все хвалил и хвалил, как будто тот сам и не видел распустившегося за лето бутона. Красива Мириам стала, очень красива. Из худой, обожженной загаром девчонки, как бабочка из серого кокона, появилась прелестница молодая. В двенадцать годков большие глаза смотрели так нежно, так ласково. Отяжелевшие всего лишь за лето бедра девицы манили любого, ведь община большая. И пел родный папаша про дочку младую, косясь на эпарха, проняло или нет? Тот как будто со всем соглашался – да-да, красива! Да, грудь высока, да, бедра обильны. И оба делали вид, что первый не знает о тайном пороке второго, второй собеседник, что первый не знает о том. И расходились, будто донельзя довольные долгой беседой.
С Мириам мы с вами встретимся на страницах повествования не раз и не два. Прелестная девочка станет одной из главных в нашем рассказе, ну а пока нас половцы ждут.
Не спастись от бега коня половецкого
Половца-то никто и не ждал!
Великий князь Киевский в своей замятне (столкновения, разборки) с другими князьями половца то точно не ожидал. Вроде совсем недавно замирились, заключили «вечный» мир с Тугорканом, званым в русских былинах Тугарин Змей, Тугарин Змиевич. (Тут словопонятие «змей» может означать самоназвание половцев «куманы», «кумаки» – «змеи»). Да с вечным другом его, Боняком, то воевавшим с Русью, то мирившимся с Русью, то воевавшим с Русью совместно с общим врагом, печенегом, мир непрочный нашли…
Договоры касались извечного: обмена мяса на хлеб, пленных на золото. Эх, княжье золото было кровавым! Разлады были только о неравенстве дележа. Печенегов били упорно, ибо русичам с печенегами замириться не вмочь, орда была неуправляемой изнутри, а потому и с внешним врагом управление миром речь невозможная.
Тут воедино совпадали интересы и Византии, и половецкой орды, и нарождавшейся с кровью Руси Киевской. Никому печенег другом не стал, зато стал общим врагом, врагом жадным, вероломным и глупым. Никакой политики печенеги не ведали, знали одно: грабь и спасайся, а потому грабили и тикали что от витязей русских, что от регулярного византийского войска, что от половецких коней.
Прошло уже времечко, когда благодатно лились по степи печенежские орды, сметая на конном пути осёдлые становища и жизни, оставляя в степи кровавый след убитых и разорённых кочевий торков и угров, разорванных в клочья половецких шатров.
Шутка ли, чуть-чуть, и взяли бы Константинополь, и пала бы Византия под копыта лошадок низкорослых людей. Нахапались бы вдосталь, и по степи, не зная межи, постоянных кочевий и дисциплины, стали бы растекаться перекати-полем.
Да отвел Господь от напасти Комнина и всю Византию, пусть даже с великим трудом досталась ему эта победа.
Давно ли, недавно топтали копыта печенежской разудалой орды становища, вежи и крепости на пути, а память народов хорошего не сохранила о печенегах. Ни в одном из народов ничего нет о доблести печенегов, их славе и ратных подвигах. Ничего!
Ну а сам народец бесписьменный, ровно как безъязычный. Вот и некому стало нести по столетиям рассказы о чем-то хорошем из жизни народа, народа большого да непутёвого.
А вот половецкие ханы Степь разделили по-честному. Доблестный Тугоркан почти не знал поражений, и Шелудивый Боняк гонял по степи то печенегов, то гузов, то византийцев.
Боняк гонял печенегов, Тугоркан гонял печенегов, Итларь тоже гонял печенегов.
И Котян и Китан, Сутр, Шарукан, Итлар и Куря тоже сжигали дотла курени врага, отбирали кибитки, отбирали детей.
Только двое из ханов не совершали набеги: Осень (ударение на втором слоге) и Бегубарс, почему? Про то летописи нам умолчали. А половцы летописей не вели, эти кочевники были бесписьменны, азбук не знали, книжек не видели и не писали.
Разве мог князь Руси подумать, что эти дурные нехристи нападут по ничтожному поводу: убили послов. Убить то убили, так откупиться хотим.
А поганые взяли, да и напали. Сожгли Берестов. Сколько церквей и церквушек погибло, народищу пало невесть и сколько – беда!
Монастырь, что в пещерах недавно заботами преподобного Антония да молитвами братии был основан, был не просто разрушен. Половцы били иноков так, будто те смерды простые. Оставшихся взяли в полон. Разоренные келии запустели. Черные угли церкви сожженной тлели, дымились…
Мрак, запустение воцарилось в пещерах… Надолго?
Степь. Плен.
Половцы гнали полон.
Дикая степь, как ты прекрасна! Жила себе степь, как жила до того еще тысячи лет: восходы, закаты, разнотравье под ветром стелится и встаёт. Перекати-поле носится по степи, как бродяги-людишки, что реденько-редко головешками из густой травки торчат.
Половцы гнали полон.
Стража большой не была, привычно разметили отряды доставки: добыча з-под Киева дюже большая, делили на всех.
Боняк давно был в обиде на Башлу-опе: его гордость и редкая справедливость раздражали великого хана. На курултаях (собраниях ханов) Башла мог запросто правду хану в глаза выплюнуть, как нагайкою свистнуть по крупу коня.
Хан, как тот конь, только прядал ушами, но терпел, скрипя желтыми крепкими (кости дробил!) ровными, без выемок и лунок, зубами. Да еще и улыбался старому другу, ведь сколько лун вместе стан сторожили, сколько юных девиц-полонянок делили, сколько утренних рос на выгулах табуна повстречали. Потому и терпел великий хан выходки старого друга, и старый друг позволял себе говорить то, о чем думала почти вся орда. А орду и сам хан побоится.
Башла мог позволить и дерзость: отбирать при делёжке то, что его кошт при набеге отвоевал. Курень Башлы силен, воины опытны, потому и при набегах лучше войну воевали, нюхом чуяли, где хранят жертвы лучший товар. Отнятое у мирного населения пожитое было у Башлы лучшим, зачастую красивым новьем, а не рухлядью старой и залежалой.
Да и то, в чужом огороде всегда огурец толще родится…
Терпел хан, много лет терпел выходки старого друга.
Но расширилось племя, подрастали новые башлы да итлари, старый друг одряхлел. Настало время хану вспомнить обиды.
Потому при разделе добычи достались Башле ошметки от боевого набега на Киевскую Русь: кучка монахов, что из пещер киевских выгнали разом с их челядью да прислугой, да людишек под десять десятков. Людишки попались так себе, разве это товар? Бабы с младенцами? Так младенцы скоро помрут по дороге. Ладно, хоть баб еще можно продать для работы евреям. Подростки-унаки, что больно злобно косились на половецкую стражу, так они или сдохнут от сильных побоев, иль удерут. В степи смерть все равно их настигнет. Несколько баб, совсем непонятных, одеты не бедно, но ни куны при них (куны – денежная единица Руси), ни серебришка. Видно, как выскочили из подворья боярского, так и попали в аркан молодецкий. Одна только и выделялась красой да убранством. Да одна-то – не все! Да три на десять мужчин, так тех изрубили на выходе с Киева. За них, если дойдут, может, дорого евреи дать то дадут, а по дороге опасны здоровые, взрослые мужики сильно опасны.
Половцы давным-давно ведали, что руськие племена очень разные. Племена их великие, родов не счесть, селились оседлые по селениям, городам вдоль рек и речушек, плодились во множестве. И разными были. И отношение к пленным по-разному шло. Есть племена, где мужики землю орали (орати– пахать), не приучены к бою. Тех брали в полон в великом во множестве, как баранов. Были другие, те, чуть что, хватались за палку или копье, короче, что под руку попадётся. Тех изрубали – опасны. Вот и сейчас изрубали крепкое мужичьё: такие и сами на бунт быстро поднимутся, и смутят всех остальных. Опасны! Иль, на худой то конец, ведешь их ведешь по степи, кормишь, обогреваешь, а они утекут или хуже того, нападут по сговору на половецкую стражу. Опасны! И уничтожены были, иссечены.
И выло бабье по упавшим сородичам, выло и голосило, пока свист плётки из сыромятной кожи тот вой не прервал.
Монахи шли молчаливо. В брань не пускались, в драку не лезли. Вместе со стадом людишек их не вели, опасались, вдруг на стражу да нападут. Убить не убили: не сильно похожи они были на воинов да бодрецов. Больше боялись: монахи худые, вдруг испытание степью не перенесут? Серые от пыли степной рясы, серые от усталости, горя изможденные лица страха у стражи степной вызвать не могут, только усмешку. Связали одною веревкой все пять десятков братии коричневорясой, и повели, как овец на закланье.
Ветер вечерний дразнил запахом ранней весны, а холод степной пробирал до костей, будто не лето вовсе, а задержавшийся май. Костры жгли равномерно, соблюдая приказ: у костра одного больше пяти полоненных собирать было не вможно. Пищу кидали прямо на землю, на холонувшую к ночи траву вперемешку с комьями грязи. Люди хватали объедки, жадно глотали большими глотками воду, что драгоценней алмазов в длинном пути. На первых-то днях бабы старались еду пацанве подложить, по извечной бабьей привычке. Уные (юные) ели, съедали свое, хватали, что бабы давали, глазами голодными в рваную ранили материнские сердца.
Меньше всех ели монахи. С первого дня самый тихий и скромный из них, что меж ними звался Евстратий, пищу брал так, что ровно старая бабка: пожует ломоточечко хлебца да водичкой запьет. За ним и другое иночество в пище сдержалось, про себя говоря: «пост, братие, это всё-таки пост». Стража вначале ругалась, потом подостыла: пусть меж собой еду делят, как им удобно. Авось добредут… Вечером, у костра, когда узы– веревки спадали: зачем пленнику ночью веревка? удирать – хуже смерти, волки людей одиноких рвут на шматочки, голодный их вой слышен невдалече.
Так вот, вечером, у кострищ, братия к людям подсаживалась и говорила и говорила. О чем шли молва с разговорами, половцы слушать не слушали: кто языка мало знал, кто пленными брезговал. Бабы тихонечко плакали – братия молилась. Молодежь рвала душу, буянила – иноки плакали вместе с ними, и снова молились. Отдельная было вначале группка жён, что была побогаче одета, скоро расшилась: поодиночке женщины поприставали к группкам другим. Кто к юным подросткам, как матери будто. Кто к бабам-родильницам, детвору помочь выхаживать. Кто ближе к монахам, всё же мужчины. Пусть не защита прямая от сабли поганого, но всё же как-то надежнее, чем самому. Монахи держались учтиво, тихо шептали Писание, уговаривая, что уныние – страшный грех.
Дорогою, шутка ли, почти тысяча верст! люди в пути разузнали, что гонят в далекий Херсон, на тёплое море, где мощные корабли отвезут их, кто выживет (если и выживет) к дальним морям, берегам, в навечное рабство. Сознание рабства жгло, как крапивой, жгло каждый день, но жила и надежда. Кто мелкий душой, тот утешался: в рабстве же тоже люди живут. Вначале их презирали, ругали, даже стыдили. Потом, в дальне-дальней дороге таких становилось все больше.
Да и то, рабство в Руси не новеха-новьё. Рабство привычно, хотя и противно. Да мало ли как люд на Руси жил-приживался за тысячи лет.
Столетиями, перетекавшими в тысячи лет, гнался полон из славянских племён. Римляне гордые даже имя придумали «рабы», значит, склавы, скловене, то есть славяне. О масштабах налаженного бизнеса, торговли славянами это многое говорит. И римляне, и южные страны, Египет, к примеру, с охотою брали славян. Работящи, честны, в массе здоровы, выносливы, как верблюды. Таких что не брать?
Торговля славянами кончилась только при Екатерине, когда Крым-Таврику или Тавриду, она волей указа и силами славнейших из полководцев вернула Руси роскошь южных земель Тавриды.
Мертвых младенцев половцы отдирали от материнских грудей, бросали на дикие травы, а кто и под копыта привычного боевого коня. Матери даже уже не рыдали, только мертвой тоской застывали глубокие синие очи, согбились плечи, как у старых старух, да из под плата сединою покрытых торчали пряди нечесаных русых волос.
Молились монахи за души усопших младенцев, утешая скорбящих, что ангелом с неба младенец на матерь дивится. Ангелом вечным, что от смертной той жизни в небо поднялся.
Бабы тянулись к Евстратию, он утешение исповеди в смертных грехах он принимал вовсечасно. Вместе копались в глубинах души, как солгала перед Богом или людьми, да натворила делов, раз в наказание в полон поганым попала. Ругать не ругал, больше искал в понимании веры. Веры в себя, но, а главное, в Бога. Тех, кто в отчаянии Бога мерзил (ругал, оскорблял), он не ругал, он тех жалел, одно повторял: «Бог поругаем не будет».
Мало-помалу, на дальней дороге стала беда пригибать и монахов, ведь они тоже люди. Разбитые ноги, лютый голод людей озлобляли. Евстратий страдал за иноков, за братьев, за послушников да монастырский народец, что вместе с ним горе мытарит. Страдал и, бывало, даже от них терпел поношенья.
Однажды у вечернего загасавшего костерка притчу поведал:
«Пришел новагородец в земли чудские, и повстречался он с неким кудесником, прося его волхвования. Тот же по обычаю своему начал призывать бесов в дом свой. Новогородец сидел на порожке, а кудесник лежал, будто в цепях, и вдруг ударил им бес. Встал кудесник, и сказал новогородцу, что, дескать, боги мои не смеют придти, имеешь ты на себе нечто такое, чего они так боятся. А новогородец тут вспомнил, что на нем крестик нательный и снял его. И положил вне дома того. Вновь волхв стал призывать своих бесов, которых называл он богами. Стали тут бесы трясти кудесника, и рассказали про то, зачем пришел новгородец. Потом новгородец спросил: чего это бесы боятся? Того, чей крест мы на себе носим? Тот отвечал, что, мол, крест, то знамение Небесного Бога, которого наши боги боятся. Тогда новгородец спросил, каковы, мол, будут ваши боги и где обитают? Кудесник ответил: в безднах. Крылаты, обличьем черны, имеют хвосты, взбираются же и под небо послушать ваших Богов. Ваши ведь Боги на небесах. Если кто умрет из ваших людей, то его возносят на небо. А умирает если кто из наших, его несут к нашим богам в бездну.
Так ведь и есть: грешники в аду пребывают, ожидая муки вечной, а праведники в небесном жилище водворяются с ангелами». (Использовано из «Повести временных лет» Нестора Летописца).
И помните, братия, что говорил нам наш игумен Феодосий?
Учил нас поститься, молиться. Бесы нам вкладывают мысли дурные и помыслы, разжигают желания, тем самым портят молитвы. Отгоняйте их крестным знамением и говорите: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, и аминь». Противьтесь, братья мои, бесовского наущенья, имейте в устах ваших псалмы Давидовы и ими прогоняйте унынье бесовское.
А более всего имейте любовь ко всем меньшим и старшим, давать примером себя воздержания, бдения и смиренного хождения.
Бог учит нас любить даже врагов, они ведь тоже человеки и люди. Послал нам Господь испытание, так вытерпим, братия. Нужно терпеть, нужно страдать».
Искушения
В сумерках вечера племянник кошевого Атрак, юноша шустрый, сметливый и донельзя жизнью довольный, подсел к одному из монахов. Тот поднял темной зелени очи на стража. Молчали. На плохом арамейском стражник спросил, почему-то смущаясь: «хочешь, я её приведу? И в степь отпущу. Ненадолго. Вижу же я, как смотришь на ханшу». Монах улыбнулся: «ханшу?» И понял: юнец говорил про неё, боярыню, что подруги Еленою звали. Сердце рвануло из впалой груди, глаза вспыхнули облаком света, но губы сказали твердое «нет». Очень тихое, очень, но твердое, как скала или слово мужчины.
А за этим «нет» обвалом крушение надежды на близость. Как душу рвать на две части, если душа-то одна! Рвешь, брызгов крови не ощущая, так велика эта боль. Два человека, два тела – мужчина и женщина, а словно одною душой их Бог наделил. Можно молчать, можно идти, знаешь, ты вместе, оба – в одном.
Телесная близость дать так не может, как единство души. Телесная радость на порядок или даже и больше ниже духовной, тихой, светлой и чистой радости бытия. Как редко людям даруется радость такая, так редко, что сумасшедшими или больными смотрятся со стороны наделенные радостью этой.
Как много грязи вокруг. Ошметками чистых задеть, как скудное сердце радо-то будет, ошметками сплетен, слухов, просто помоев и, авось, чистый измажется, как измазан и я. А, когда все вокруг грязи грязнее, я, может, самый чистый из них? Тогда вовсе не стыдно, и срам не берет за поступки дурные да мысли нечистые. Каждый считает, что только он чист. Все рядом в грехах, а я слегка, может, и грешен. Но милостив Бог! А совесть? Утишить её можно, если грязью плеснешь в стоящего рядом. И только праведникам да святым достается тягчайший удел чистому быть. Горький и сладкий удел эта драгоценная ноша светлой души.
Потому и звучит тихое «нет» соблазну недальнего счастья. Не может радуга счастья земного, пусть даже и со второй половинкой твоей исстрадавшей души, не может существовать. Просто не может, потому как превыше всех радостей жизни земной – ожидание мира небесного.
Отрекается монах не только от имени, что давали в миру, не только от отца или матери, отрекается от всего, что было в миру, ради единой любови к Богу Единому.
Выше этой любви нет ничего. Трудно понять простому мирянину, как можно отречься от имени, от тех, кто тебя породил? А если вдуматься: кто нас рождал? Кто же решил быть тебе или нет? Жить тебе или нет? И когда умереть? И когда заболеть? И когда здоровому быть? Неужели мать или отец?
Нет, конечно же, нет! Мать, она выносит и родит, отец выкормит, вырастит, если силенки останутся. А кто душу вдохнет в тело людское? То-то же, то-то же, то-то же!
Три таинства, что люди постигнуть не могут, ибо им знать не дано, три таинства, три вещи, что даются нам Богом, Им и отнимаются. Это рождение человека, смерть его. И, конечно, любовь.
Может человек предугадать, предсказать, кто и когда родится, и у кого? Нет, не может. Придумали люди разности разные, хотят заменить собой волю Божью, тут тебе и клонирование, тут тебе и зачатие через пробирки. А для смерти придумали эвтаназию или казнь через суд. Вдумаешься в философию, а воля Божья – вот она, в каждом зачатии или рождении, в смерти и миловании от нее.
И тайна особая, это – любовь. Не высший сорт любовь человеческая к человеку. Приходит, бывало, в нищую хижину, минуя дворцы. И счастлив, поёт человек, с которым и в шалаше истинный рай. Или посетит роскошь дворца, даруя правителю дар драгоценный к рабыне (пример Роксоланы и Сулеймана Великолепного), или иноплеменнице. И крушит правитель традиции да обычай ради любви, готовый на плаху ради избранницы. А со стороны посмотри на неё, так, ничего, есть множество лучших. А он, то есть правитель, лелеет, холит свою драгоценную половинку, пылинки сдувает. Или казнит, если грехом грешна (Генрих УШ и Анна Болейн, например). Сочиняет ей песнопения, гимны любовные (Соломон и Суламифь). В ад спустится за любимой. (Орфей и Эвридика). Такова сила любви, любви плотской.
На порядок выше её любовь матери к детям. Ну, тут примеры приводить и не надобно: оглянитесь вокруг, всмотритесь в себя, всё видно воочию.
Но есть высший сорт любви человека, это любовь его к Богу. Ах, как далеко не каждому она воздана! Подарена Высшим. Много людей на планете, аж миллиарды, а к Богу любовь даруется единицам. А почему? То таинство Бога, в которое монашество стремится войти, постичь и достигнуть блаженства.
Пути? Молитва! Соблюдение заповедей и любовь к человеку.
Помолиться за грешную душу можно и самому, можно священнику, чей долг обязует за нас, грешных, молиться в тиши алтаря. Попросит священник прощения за грехи и свои, и чужие, попросит за душу заблудшую, душу загнившую.
Однако, священник в миру. У него хлопот полон рот, он в ответе за храм, за собственных детушек, за жену и родителей, за ежедневное их пропитание. За паству ответчик, вконец!
И только в тихом монашестве, вдалеке от суеты мира мирского, может монах предаться молитве вседенно, всенощно: скорбеть за людей, просить за них, за себя и за всех грешных. Отмаливать и просить, а грехов в мире столько, что молиться нужно непрестанно и непременно, и не одному, пусть даже самому праведному изо всех праведных. Не одному человеку, а тысячам тысяч нужно нести свет чистоты в людской мир, обуенный страстями, грехами, и молиться, молиться, молиться за них.
Да не каждому то дано уходить от мира, приносить молитвенную чистоту Богу. Только кого Господь призовет, тому суждено уходить, отрекаясь от радостей бытия. Но человеку трудно решать принимать обет иночества или остаться в миру, принося людям радость.
Призывает Господь, и схиму монах принимает, держит обет. Трудно праведным на земле, ох, как бывает им трудно!
…Нелегкая жизнь пришла и к Елене. Разговор тот не слышала, далеко. Видеть то видела, как подсаживался к пленному страж, ухнуло сердцем: не дай Бог, убьют! Встрепенулась, ожглась. Села, голову наклонив. И набатом по сердцу тихое «нет». Как громыхнул каждый звук короткого «нет», как веткой крапивы по очам и по сердцу. Ясно ведь было и ранее, какова судьба у монаха. У пленных надежда мягким комочком теплится в глубинках исстрадавшихся сердец: а вдруг выкупят или отпу стят? Или дружина доброго князюшки отобьет?
А у схимника вечный пост да воздержание, служба Богу Единому греха не потерпит. Помыслы грешные, и те отмоли. А все едино: надежда маревом манит, туманом стелится по ранам души. Душа одна, а людей двое: она и монах. Все б отдала за зе леные очи! От срыва спасала только лишь вера, что гранита крепче да слова людского. Нет, осуждения бабского бояться не стоило, любовь всех пересудов крепче и слаще. Но гвоздем застряло, что в голове, что на сердце бедном – нельзя! Нельзя навредить, нет, не себе, раз мой грех, мой и ответ за содеянное. Нельзя навредить монашеской чести, монашеской чистоте, схиме навечной. Знала, кара господня настигнет любимого. Любое себе наказание пережила бы, а вот кара любимому? Лучше погибнуть, чем дать пострадать невинному иноку.
Тихое «нет», и стопы побрели за бабёнками, что собирали сухое травье для разжива костра. Тихое «нет», и сгорели в костре, как сухая трава, без остатка, надежды на счастье с любимым, с отрадой души и сердца надеждой.
Печенеги!
Ночью туман поднимался над степью, клубы вились над спящей землею, как будто матушка мать-сыра-земля ровно дышала, дав себе отдых. За каплями рос поднимался и разнотравья настой, коням раздолье. Теплело: шли явно к югу. Теплая степь уже не холодила ночами уставшие члены, босые ноги легкий холод тумана остужал натругу и боль. Стан умолкал, отдыхая перед трудной дорогой. Стража дремала, привычно косясь на полон: ложились отдельно. Унаки стайкой держались круг монастырской братии, женщины чуть поодаль, греясь у загасавших угольков костерка.
Вечер удался на славу: стража поймала косулю в силки, даже свиста стрелы не понадобилось половцам. Стрелы они берегли: путь-то далекий, где стрелу изготовишь в походе?. Наевшись досыта сами, бросали обглодки полону. Те обсосали до зеркального блеска обглодки, были б собаки, досталось б и им. Но шелудивые псы отстали в дороге, доставаясь в добычу волкам.
Ни стону, ни храпа: устали. Стража тоже ведь люди, поди, за день намаяться вдоволь пришлось, полон невелик, а догляду много. Да и сытность после мяса косули расслабила члены.
Легкий свист стрел тучей накрыл группку людей. Люди валились, подкошенные меткими стрелами. Падали молча, носами втыкаясь, теперь уж навечно, в мать-землю сырую. Прежде всего выкосили уных с полону. Кто-то поднялся из них и кинулся стрекача в степную траву. Стрелы градом валили и правого и виноватого. Монахов, лежавших поодаль, своими рясами схожих с цветом земли, печенеги не тронули: не заметили вроде?
Женщин хватали в аркан и за косы: ловко-привычно мотали длинные косы, молча-привычно отсекли группу женщин в сторонку.
Половцы очнулись в мгновенье: привычка войны есть привычка войны. Стрелами не пользовались, а понеслись врукопашную. Часть отряда набега отсекла группку из баб и погнала в гущу травы, часть развернулась навстречу страже отряда. И жуткая сеча, страшней еще тем, что бились в молчанку, развернулась в поле том чистом. Женщины отворачивались, закрывая глаза от ужаса боя.
Уцелевшие унаки в серости раннего утра через туман, искажавший картину сраженья, жадно смотрели на бой: люди казались вчетверо выше, глаз вырывал из тумана то ли гриву коня, то ли клочья тумана; черно-фиолетовые бешеные глаза лошадей, оскал конских морд, кусавших коней супротивника, острый блеск сабелель. И все это молча. Слышен было только густой храп да топот коней, бесподкованными копытами топтавших упавших в смертельном бою.
Кто свой, кто чужой, поди разбери славянскому взору? Печенеги, те вроде в штанах на меху, несмотря на жару. Черные волосы косматились из-под шапок, тонкие сабли серебрились над клоком тумана. Лица сплошь в масках-забралах, и от того страшнее и мощнее казалась их сила.
Половцев меньше. Забрала в котомках, притороченных к седлам. В молнии набега печенегов никто не достал ни шлема, ни маски.
И то, никто ждати не ждал печенега!
Разведка, а дядя доверил Атраку разведку, разведка обрыскала степь ближе к вечеру, изловив ту косулю: ни тебе стану врагов, ни обычного клина отряда, ни круглого стана телегами внутрь, ни «живого питанья» – скота, которое гнали впереди или сзаду отряда. Даже запаха конкурентов не было чути!
Как разбили их несколько весен назад в степи вместе с греками, так печенеги не смели появляться даже в обычной ранее Таврике (Крыму). Боялись, ой, как боялись они половецкого плена! Смерть не страшила, смерть вожделенна воину смерти, страшил плен половецкий, злой, без пощады. Тому и рыскали по степи подалее от половецких отрядов.
А тут, на тебе, сами напали! Много – немного, но людей порубали в шматки, на кусочки. Ни копья, ни аркана враги не применяли, сражались вручную, легкими саблями сшибая чужие ненавистные головы половцев. Кое-кто по старинке крутил мечом, разрубая всадника на две ровные половинки.
Почему да зачем, чья тут вина, некогда думать! Половцы, поменьше числом, да удалее уменьем, оголтались быстро: дядя недаром был славным воителем. Две-три умелых команды, и печенеги исчезли, прихватив по дороге пару-десятку полона, хватая женщин за косы, легко перебросив легкий полон на спину коня.
Напоследок один печенег обернулся, люто оскалил желтые зубы, и стрела, свистом крутясь, дядино сердце пробило. Сколько войн пережил, сколько сражений, боев, а тут от простого набега не спасся.
Утро настало, и птицы запели. Черные дрофы, будто почуя, что людям некогда их ловить на силок да арканы, шелестели в траве, отвлекая людей от подросшего поколенья, только одна самка дрофы забавно волочила притворно крыло, уводя от потомства людей.
Но люди на дроф не смотрели, они хоронили умерших. Хоронили отдельно: половцы своих погребали, насыпая курган; русичи с панихидой монахов – своих. Разбирать, кто христианин, а кто заблудшую душу Богу не отдал, не стали. Молча копали могилу, молча клали тела. Земля была рыхлой и теплой, супесь песка помогала рыхлить дерн теплой земли.
Евстратий прочел над общей могилой заупокойную, наскоро крест смастерили, воткнули в изголовье общей могилы: «упокой, Господи, рабы твоя!» Постояли молча над тихим и вечным покоем уставших насмерть людей, стояли долго, без слез. Слезы давно иссушило пленением.
Половцам было не до русинов, онихоронили своих.
Большой курган насыпать не смогли: сами рыли могилу, худые монахи шатались от голода, какой от них прок. Да и общее горе сближает людей, пусть ненадолго. Дали плененным отпеть своих мертвых, дали охоронить по странным для половца обрядам– обычаям. Да чего кочевникам лезть в чужую религию?
Смерть уравнила и нападавших, и пленных.
Половцы в невеликой могиле положили павших воинов головами к востоку, рядом с каждым покойником-воином положили наконечники стрел, нож, саблю кривую, кувшин из грубой глины: будет в чем там, за земельным пределом, из чего сладкий кулеш с мясом и просом отведать. Да и сладкий рис, сваренный на молоке, хлебать будут вдосталь. Там, за мирным пределом, воину слава! Вечная слава и вечный покой. Там покой новых сражений, новых баталий и битв. Живые жалели, что коней в путь далекий воинам не предоставили, авось простят. Понимают, небось, что не могут живые, жалкая кучка отряда, поставить курган, как положено по обряду-традиции с навершием на нём каменного истукана со шлемом на голове, монистом на шее, надплечьем из стали, руки сложены на животе и держат посуду с погребальной едой. Да где им взять истукана в дикой степи? И вот как обидно: до цели оставалось дня два или три пешего перехода, как тут этот дикий набег!
Но все же обычай, не ими придуманный, а обычай старинный, доставшийся от прадедов-дедов, воины соблюли.
По обычаю поубивали коней павших воинов: храп коней, фиолетовые очи наполнялись предсмертною болью. Кони, как люди, может, и лучше людей, как без коня в загробном мире кочевнику обойтись? Ели за тризною погребальной мясо конины, оставив в целости голову, ноги, кожу и хвост. По обычаю, следовало на деревянных распорках сотворить чучела, да где брать дерево в дикой степи? Положили в могилы останки коней: каждому воину – его конь.
Пели погребальную песню: «это его лошади, на них он поедет к Тенгри-хану!», на большом камне вырезали количество тех врагов, что убивал каждый воин при жизни, продолжая петь погребальный мотив: «вот его отроки, которые будут служить ему у подножия хана Тенгри!», набросали в могилу камней по числу убитых покойным врагов. Жалели, что не могли сотворить балбалу (грубые изображения из дерева или камня убитых врагов), прошли кругом вокруг могилы боевым строем, прошли кругом вокруг могилы пешим танцем, пропев последний раз боевые песни белых половцев-кимаков.
Напоследок по обычаю половецкому на вершине холма, что поднялся над вечной могилой, поставили камень, что символом воина-половца означался. И вечный покой опустился на павших…
Атрак принял остатки отряда, как должно пристало воину славы. Дядя из ханского рода, значит Атрак после дяди воином первым. Не плакал, воину плакать не стало, просто душа онемела, застыла-замерзла.
Одно дело было слушать дяди рассказы про битвы-сраженья, переживая с ним «хур-а-ха» громких побед, шевеля от наслаждения грохота битвы безусым ртом, другое, самому испытать боль этой утраты. Нет, в бою Атрак дядю не посрамил, честь рода не осрамил. Иначе отряд не встал под его руководство, а воины высказали бы трусу всё, что хотели. Могли и с лишением жизни приговор огласить, на то право имели, право обычая, право традиции, ибо трусам не место в славных кочевьях.
В недавнем бою Атрак был силен, злобен и страшен: бил печенегов, как взрослый. Даже саблю кривую у врага перехватив, так же крутил ею над головами врагов, как самый опытный воин. Не одну вражью голову снесла удалая рука, а вот дядю не защитила. Как в замедленном кадре видел Атрак оскаленный лик повернувшего печенега, его лук, и стрелу, что со свистом летела в половцев стаю. Как он мог не успеть защитить дядю, как? «Не успел, не успел», – ровными, точными, быстрыми толчками пульсировала кровь у виска, – «не успел!»
Воины все понимали, молчали, вздыхали. Сами товарищей потеряли, да и атамана отряд уважал. Ветеран был суров, справедлив, в разделе добычи не жаден.
За печенегом вдогонку гнаться не стали: мало нас стало, ой, как мало, а потому и смирились с позором.
…Атрак очнулся от прикосновения: главный монах что-то шептал, утешая. Искренний взор, искренний шепот, и Атрак ожил от боли. Где-то внутри кровь била толчками, ранила сердце в боли от смерти больше чем дяди. Дядя был всем: мамкой и братом, отцом и начальником. Бывало, и бил за проказу или непослушание. Детства обиды прошли, пролетели, сам понимал, что тяжелая воина рука и убить могла, не то что отшлепать. В детстве терпел, стерпит и тут. Монах что-то продолжал говорить, утешая. Руський язык был вроде понятен, но множество слов в голову не проникало, а в сердце входили слова незнакомого брата, что скорбел вместе с ним за погибель чужого ему человека. Монах сожалел, утешал и скорбел вместе с ним. Атрак понимал его сердцем, слова не нужны, чужие слова, их было много. Язык русичей многословен, лишних слов много. У по ловцев речи короче, звуки поглуше, слова коротки. Не слова, будто команды в говоре половецком.
Словянин говорил, и незнакомая песня молитвы стишала бродившую кровь.
Наконец-то заплакали бабы, раздирая ногтями землю могилки. Атрак очнулся, боль утихала, и монах, это почуя, отошел ко своим одноверцам. Бабы столпились близ него и монахов, рыдая и воя.
Стон утешений продлился недолго: время есть время, и Атрак отправил свой караван, пусть поредевший, но все же богатый, в Херсон.
«Елена, Елена», как плакало сердце, как сердце молилось! «Елена, Елена», а ни слова не скажешь, ни взгляда не кинешь в сторону милой. Память все время возвращала в застывший кадр плена: мощные руки воина-печенега хватают Елену, русые косы взметнулись к седлу, бессильные ватные руки Елены болтаются у седла, в белом обмороке лицо кажется не просто белым, а прозрачным от боли. Открытые глаза безучастны: обморок надолго захватил боярыню-свет.
«Елена, Елена!», – что я могу, что? Ни бежать, ни кричать, ни помочь. Бессилие плена держало монаха, как в кованых кандалах.
«Елена?» – удивился Атрак.
Евстратия возглас, вырвавшись с уст, прервал мысли Атрака.
«Елена?», – и злость юного атамана гортанным выкриком собрала всю команду.
Елена была самой лакомой из добычи. Дядя, когда смотрел на Елену, приказывал сам себе и команде ханшу не трогать, хотя очень хотелось.
Боярыня была хороша! Русые волосы хотя истрепались за время полона, красотой и густотой поражали мужские нескромные взгляды. Очи так очи, глаза, голубые, как небо весеннее над степью, губы, что маки. Ровная стать, походкой легка, всегда ровна и спокойна. Не баба, утеха. На мужиков не смотрела, как иные другие в надежде на шмат или похоть, нет, не смотрела, зато мужики сами глаз с неё не сводили.
Дядя аж скрипел зубами иногда, так полонянка впала ему на сердце. Но добыча была велика, и отряд не принял бы его слабость: за эту полонянку можно было взять столько, сколько за всех прочих оптом, да и еще вполовину бы прибавили.
Атрак был готов погнаться за печенегом отбить красавицу-ханшу, отряд еле удержал молодца-командира:
«Всех врагов положить не положим, а сами тогда пропадем. Надо идти в Херсонес с остатком полона, а там как нам повезет, может, за этих монахов у церкви что-нибудь выпросим. Церковь христиан своих любит, монахов откупит за деньги немалые, а если за Еленой погонимся, и там не найдем, и здесь потеряем».
Атрак на ломаном койнэ объяснял сгорбившемуся пленнику: «понимаешь, печенеги они с полоном не злые. Они или продадут твою ханшу, или предложат выкупить кому из родни, или к себе в орду примут жить, детишек рожать, кумыс мужу варить». Утешал-утешал, пока не дошло, что раны сердечные клинком ковыряет.
Гикнул, отряд встрепенулся, обернулся последний раз на небольшой холмик-курган, и знакомой дорогой отправился на Херсонес.
К югу
Долгой дорогой огибали жилье: Дикая Степь, она вроде и дикая, а народами полнилась. Мотались по свету белому разного рода людишки, порой нежданно можно встретить даже норманна, злого варяга с далеких окраин сурового севера, не говоря про ватагу мелких орд половецких, орд печенежских. Степь за тысячу лет исхожена да проезжена стежками-дорожками неприхотливых лошадок неукротимых орд степняков.
Встретить друга иль недруга было одначе опасно: дружок половецкий из враждующего стана полон отобьет, да и хану твоему из твоего же полона дань передаст, и ищи потом справедливости в поле. А уж врагу-печенегу под копыта коней попадаться и вовсе лихо-беда.
В схватке с печенегами отряд значительно поредел, да к тому ж несколько человек получили раненья-увечья кто от сабель, а кто от стрелы печенежской. Застывшие комья бурой крови черными пятнами выдавали следы вражьей навалы (набега).
Ослаб, ой как ослаб Атрака отряд!
Гибель дяди чуть не подкосила боевой дух половецкой ватаги, да к тому ж у взрослых мужей сосунок-вожачок не прибавил отваги. Атрак косые взгляды молчаливых дядиных побратимов чувствовал, как стрелу печенега, так вонзались в спину, не вырвешь.
Путь удлинялся, отряд петлял по степи, и как тут быть довольным отряду? Лишние версты, то лишние тяготы: на отряд ложились дополнительно хлопоты и проблемы пищу добыть себе и полону.
Полон не прокормишь, все потуги зря. К чему смерть до бывать, раз резону нема? Еще надо воду добыть, что в степи намного трудней, чем в обильных водою славянских местах. Воду, прежде всего, нужно было давать коням и полону: и те, и другие тяжело переносили отсутствие влаги. Люди отряда могли без воды обойтись, их конская кровь питала, спасая воинов не однажды в долгих походах.
А вот кони, как им без воды? Да и люди полона с каждым петлянием степями слабели, босые ноги струпьями покрывались, вечная пыль долгих дорог равняла обличья. По одной по одежде и различишь, баба или мужик бредут по степи, не поднимая взору до неба. Низко опущенные головы, почти полное отсутствие воли, так рабская доля породнила людей.
Да и куда убегать? В Дикую степь, где стрела печенега не лучше стрелы буйного половца, да и варягу на его разбойничьей стезе лучше б не попадаться. Буйный варяг меча не поднимет, он руками задушит лишний рот, и, поди разбери, из полона человечек сбежал иль тать-вор-разведчик по степям блукает, в уши князей доносит про отряды чужие? Удави лишний рот и гуляй по степи, ищи буй-добычу да подвигов ратных. Что пёс шелудивый, что отставший от полона раб, разбойникам были только помехой.
И люди нутром чуяли, что не стоит бежать. Смирялись с самой позорной долей своей, с долей рабов. Отсутствие пищи и влаги, монотонная пыль вечных дорог, короткие зябкие ночные привалы, это все отнимало силу людей, давило на волю.
К тому же порывы к побегу карались жестоко: половцы на виду, наслаждаясь, казнили виновных, рубая им головы, тренируя руку и саблю.
Доля людская, что та пыль на дорогах степных: песчинкой больше, песчинкой меньше. Завтра будет новый набег, будет новый полон из юных девчат и детей. Степь оправдает затраты. Русь велика, людишек в ней много, продажных князей не перевесть, и будет половцам снова пожива.
Этот привычный набег не сулил неудачи, и добыча в отведенное время по исхоженным издавна трем мощным потокам славянской добычи рано иль поздно приходила в Херсон. Что Черный путь изберешь, он между Бугом и Днепром, что Кучманский, он между Бугом и Днестром, что Муравский, тот между Днепром и Донцом, три дороги сходились в низовьях Днепра. Одной только дороги ватага Атрака избегала доныне, Покутской, что между Прутом и Днестром протянулась. Хоть и короткой дорога была, да далече очень. Да и обычай не позволял лезть на территорию, подвластную побратимам, близким половец ким ордам.
Потому и избрали самый прямой, хотя и извилистый путь. Шли от Киева, сожженного едва не дотла, избегая водных путей, а все равно вдоль днепровских потоков. Шли к низовью Днепра, к его перекатам-порогам.
Атрак с завязанными глазами мог привести полон до низовьев могучей реки, он сколько раз проходил под бдительным дядиным оком по этим степям.
Да, хорошо было при дяде!
Атрак едва заметно вздохнул, и принял решение. Свистом подозвал одного из вояк, наклонился, нашептал что-то, тот будто ожил, повеселел. Атрак нагайкой показал дальним сторожам отряда направление, и отряд свернул с привычной дороги.
Теплое мощное солнце скоро сказалось на изменении пути. С каждым днем все суше становились травы, все реже каменные изваяния далеких скифских плоских баб маячили на горизонте, все чаще ветер степи доносил незнакомые ароматы. Солью ветер питался, солью отдавал людям запах степи.
Атрак вел людей ему одному знакомой тропой, не однажды радуясь, что в этот полон не брали ни стада волов, ни отары баранов. Как дядька был прав, отмахнувшись под Киевом от скота, легко продав стадо перекупщику из армянского племени и подался только с людскою добычей в далекий Херсон.
Миновали валы и рвы Перекопа, заросшие лесом, стали попадаться мелкие озерца мутной водицы, но кони даже не прибавляли шагу: озерца едва ли на треть были наполнены жижей, соленой и горькой. Среди ровной степи все чаще под копыта коней стали попадаться вкрапления каменных осыпей; мелкие камни резали ноги, все опаснее тем, что середь травы не выглядишь мелкие разящие камни.
Атрак все чаще взмахивал старой нагайкой, полоща людские спины с «хозяйскою лаской». Люди пытались встрепенуться, да размеренный ритм привычного хода менять не пытались, едва находя силы для каждого дневного перехода.
После одной из ночевок Атрак поднял отряд утра раньше обычного, погнал, все чаще махая кнутом. Не отставали от него и прочие конники, все чаще поднимаясь над спинами коней, всматриваясь в приближающуюся синюю даль. Наконец и усталым пленникам открылось то, во что так всматривались половецкие всадники.
Синяя ровная тарелка до краев наполнена громадной массой воды, вода едва колышется, набегая на берег белыми кучеряшками, наполняя берег густой белой пеной.
Резала глаз синяя гладь воды, резала до слез. Люди плакали, белые слезы проторили дорожки по черным от солнца и грязи исхудавшим личинам.
Люди встали, как вкопанные.
Половцы не мешали стрессу людей из полона. Каждый полон так вставал, замирая перед толщей воды.
Стихийная мощь тяжелого масла воды равняла людей, каждый ощущал себя едва ли не песчинкой-пылинкой на вечном пути жития.
Мощная сила извечного моря, и мощный доселе хозяин земли, человек становился песчинкой-пылинкой перед силой природы.
Никто из полона ни разу не видел столько воды, и полное ощущение синего, синего моря, моря бескрайнего, моря из сказок, былин и сказаний, ранила сердце, и тому слёзная градь бежала по изможденным сухим лицам полона.
Монашеская братия, как и все, стояла вкопанной кучкой, дивилась на море. Море вливалось в людей своей мощью, щедро даруя силу и влагу, а легкий ветер вливал в запыленные легкие свежесть соленой воды.
Стояли недолго, и вскоре Атрак вновь погнал людей. Миновали каменные осыпи дырявых камней (ракушняк), в очередной раз навпивались в ноги колючки репейника вперемешку с мелкими острыми камнями-ракушками, свернули и через пару часов побрели по меж ласковым морем, и меж солеными озерцами с гуртами соли на берегах. Песок мелкими барханами застилал побережье, но по песку не брели: тяжело.
Атрак вел коня меж дугой побережья и ровным озером, белые берега которого издали тоже казались гладью морскою.
Среди соплеменников Атрака слышалось вздохом: «Сасык-Сиваш, Сиваши!» (сиваши – общее название соленых мелководных озер, из которых естественным путем на жарком солнце выпаривается соль).
Атрак повелел:
«Запомните путь! На обратной дороге соль запасём, на Руси можно дорого соли продать, оправдается всё. И лишку прихватим, а на крайний на случай на воск обменяем, так оно дороже-то будет.».
Ватага духом воспряла, кони и те, будто слово «добыча» касалось и их, замахали живее длинными хвостами, заодно отгоняя злых оводов-паутов.
За спинами остались громады строений людного города, шум которого заглушался волнами моря да хохотом птицы баклана. Атрак не повел людей в людный город климата Херсона – Керкинитиду (Евпаторию): и кони устали, и полон из-за дальней дороги поредел, пострашнел. Худые изможденные тела, что из прорех дырявых одежд смотрелись, ну ровно скелеты, избитый боем отряд, запекшиеся следы ранений от сабель и стрел, с таким отрядом идти на посмешище, ну уж, погодьте!
Невольничий рынок людного города богатенек. Издавна при входе в городские ворота глашатаи в урочный час оглашали время торгов, и самый пёстрый люд спешил на ярмарку сбыта рабов.
Самые лучшие из рабов продавались, конечно, в Херсоне, но всё же рынок рабов в вечно солнечной Керкинитиде за тысячи лет прижился в обычай.
Греки рынку рабов не мешая, привычный налог собирали жестоко. Сборщики податей не щадили ни половцев, ни случайно заезжих пачинакитов (так греки называли печенегов), хотя те и могли отомстить внезапным набегом, уводя жён и детей, разоряя климаты.
Вовсе недавно одна из таких оголтелых орд печенегов разорила дотла район ближних каменоломен, угнав богатый полон. Ума, правда, хватило не продавать этих рабов в самой Керкинитиде, бедняг погнали к Боспору.
Разведчики печенегов, вездесущие армянские купчики, суетились на рынке, скупая да продавая товар. Скупались ткани: рытый бархат, парча и драгоценнейший шелк; скупались изящно выделанные козьи красные кожи (юфть) и драгоценный сверхдальний товар – специи, специи, специи!!! Купцы брали на специях прибыль в десять, а то и в сто раз. Тяжело и опасно везти специи, зато как прибыльно. Жменька шафрана, пара гвоздичек, листики лавра, все уходило с рынка мгновенно. Ноша была не тяжелой, зато как золото от продажи обогощало карман.
Армяне донесли печенегам, что все спокойно на землях климатов, пара отрядов византийских погонялась для вида за пылью от печенежских коней, да отряды наймитов, к услугам которых все чаще и чаще прибегала империя, заведомо удачи не принесла, и город зажил привычной размеренной жизнью, скоро забыв про утрату людей.
Была и еще одна, и очень веская, причина у юного предводителя половецкого отряда: нельзя было попадаться в климатах с таким непривычным товаром, как монашеская братия. Пусть в лохмотьях коричневых ряс, пусть смертельно уставших от долгих мучительных переходов, но монахов было видно издалече. Не долгие рясы, не длинные космы давно не мытых волос выдавали монахов.
Что-то незримое, неосязаемое шло от группки монахов, что-то такое, что было вразрез с общим видом плененных.
Продать монахов на рынке и враз лишиться не прибыли, а своих буйных голов, нет уж, тут против империи не попрёшь. В миг отряд для погони найдётся, и деревья для висящих в петле не переведутся. За продажу монахов не возьмутся даже абсолютно не брезгливые и отважные купчики из армян.
Потому отряд свернул с наезженной, веками проторенной дороги, по которой спешили каждодневные императорские гонцы, везя почту, монеты от климатов в Херсонес и обратно.
Херсаки больше любили перевозки по морю, так им ближе, дешевле добраться до Калос Лимена (пгт Черноморское ныне), Симболона (Балаклавы), Керкинитиды (Евпатории), но всё же обычай гнать гонцов ежедневно по районам климатов давал результат. Гонец по дороге заметит, запомнит всё нужное и ненужное, донесет по команде: так империя бдила, а кочевники-то, вот они, рядом!
Гонцу доставались лучшие кони, давалась лучшая пища, и свежий и бодрый гонец успевал видеть всё, и потому встретить по дороге такого гонца, который враз бы заметил кучку монахов, нет уж, лучше избрать другой путь, понадежней.
Белые барашки берега Сасык-Сиваша солью напитаны. Соль Сасык-Сиваша считалась наилучшей по составу и качеству соли, имея своеобразный привкус. Пища, посоленная этой солью, уже не нуждалась зачастую в драгоценных приправах-специях. Потому и ценилась, очень дорогой была её стоимость, что в византийском Херсоне, что на столах у славянских князей. Да и у далеких варяжских конунгах на столах подавалась эта драгоценная соль, что издалека казалась пеной морской, а была отложениями соли.
За ложечку соли купишь раба, за пригоршню соли меняли овец на коней.
Сивашская крупная, белая, сочная соль, ее не спутаешь ни чешской, ни с какой там иной солью, добывавшейся в подземельях.
Конь Атрака, учуяв запах соли, повернул голову к озеру, но Атрак легким похлопыванием нагайки повернул его на верный путь. Шли как-то веселее, будто чуя привал, кони уже не поворачивали головы к озеру, лишь вдыхая глубже драгоценный аромат.
Узкая естественная дорога меж двумя водными гладями уходила вдаль, поворачивая за лукой моря. Кони легко шли по этой каменистой тропе, пленники плелись вслед за хвостами коней, как будто чуяли близкий конец длинной дороги.
Наконец Атрак выдохнул счастливое слово: привал! В сумраке вечера, дымке пара от моря в легком тумане зрились недалече какие-то низкие развалины бывших построек. Но встали на ночлег не у них, Атрак заставил полон присесть прям на дороге. Привычно-обычно набрали сухой травицы, разожгли костерца. Разведка прискакала с хорошим донесеньем: опасности нет. Разведчики по пути добыли зайчатины, и пленники, вдоволь наглотавшись голодной слюны, наконец получили свою долю от пиршества временных хозяев.
Монахи по примеру Евстратия нажевались всухомятку каких-то ягод остатков, хлеб давно закончился по дороге. Попили чистой водицы, не обращая внимания на привычную боль в животах, положились вповалку кругом костерков. Хоть и теплынь дня опускалась теплым пологом на людские тела, ветер от моря гнал влагу ночную, принося прохладу летнего бриза.
Утром пинки половцев подняли людской плен от плена сна, погасшие угольки костров заметали травой и песком, протоптались кони по биваку, и ничто уже не говорило о людском нахождении на этом отрезке пути.
Атрак вел людей к дальним низким постройкам, за которыми снова виднелась гладь озера. Озеро было мутным, и издали казалось очень глубоким. На берегу пенным барашком стыла соль, но кони, брезгливо понюхав белые барашки соли, фыркнув черными ноздрями, отказались есть соль и пить мутную воду.
Купальни
Половцы смотрели на юного вожака: к чему привел этот дальний путь? Ни коням водопоя, ни людям напиться. Тогда к чему мутное озеро с глубокими каменными ямами вкруг озерца? Каждая яма неглубока, не широка, на домовины (захоронения-гробы) славян не похоже, на могильники кочевников тем паче, что за странные выдолбленные ямы? Ямы были явно древними очень, свежая поросль фиолетовой травы пучками окружала ямы странного черно-серого цвета.
Недоумение воинов смешило Атрака. Поняв, что люди ждут пояснений и от недоумения готовы перейти к резким вопросам, усталость пути сбивала привычный ритм дисциплины отряда, Атрак пояснил:
«Как-то дядя привел нас сюда, когда посекли пол-отряда. Тогда посеклых людей мазали черной грязью из этого вот озера каждый день, грязь застывала серою коркой, тогда снова мазали. Семь лун мы были у озера, семь дней мазали люди раны свои. Дядька и меня мазать заставил спину ему да шею, в которой стрела печенега след дырявый оставила. Так вот, не поверите, на седьмую луну рана та затянулась. Грязь мы смывали этой водою. Знаете, как люди противились? Дядьке орали: «половцу – мыться!? Обычай нарушить, сдохнуть прикажешь!?» Так дядя пример подавал, грязью из озера ладонью зачерпав, на раны ту грязь положил. И люди привычкам своим изменили, согласились, что лечение грязью, это ж не мыться в воде, а просто лечиться.
И вам я советую: грязи приложим, здесь отдохнем не семь лун, как дядя, но три луны дам, отдыхайте, впереди – Херсонес!
(Речь идет о знаменитых сакских грязях, лечивших еще Плиния Старшего сотоварищи. То есть древние римляне добирались морем и берегом по провинциям, добредая до сакских озёр, которые лечили-излечивали тысячи болячек. Радикулиты, прострелы, кожные заболевания, раны, и даже проказу, как гласила молва, лечила чёрная грязь. Лечила чёрная жижа даже бесплодие.
И тащились в дальний путь, очень далёкий путь и патриции, как Плиний, и простолюдины, болеют то все. А после Плиния ромеи из Византийских провинций протоптали путь к сакским озёрам, даже поначалу облагородили их, но потом запустили, почему, невдомёк.)
Атрак дал отмашку, и полонянам дали место привала у самых дальних каменных купален. Славяне с величайшим наслаждением лезли в воду, вспоминая родные баньки, березовые венички, глубину и чистоту озерцов или речек близ банек. Тут было хоть и не то, но все же вода. Озеро было не глубоким, женам по шею. Купались совместно: сказался старый обычай русских селений.
Монахи отбрели подальше от гама людского, тоже с наслаждением окунались в небывалую иордань. Каламутилась со дна черная грязь, щипля усталые ноги, раны от соли зудели, черная грязь впитывалась в мелкие ранки, застревая на струпьях. Чистила вода, очищала, Иордань, да и только. Счастливые лица полона смешили конников стражи: что такого в воде находит полон? Вода – это пить, а мыться, то блажь или дурость отсталых словянских племен!
Воин половец степью силен, а водой ослабляется. Мыться в воде даже не блажь, это смерти обычай.
Но раны болели, а болеть не хотелось, и инстинкт жизни заставил лечиться, мазаться грязью, смывая её и снова набирая полные горсти мазать и мазать больные места. Но полностью мыться нельзя, пусть рабы-полоняне тешатся рабской забавой. На то и рабы, что рабам достается рабская радость.
Грязь, и вправду, лечила. Легко застывая серою коркой на жарком солнечном свете, она на глазах залечивала болячки, переставали ныть ноги, слезиться глаза. Женщины, радуясь чистой водице, волосы мыли, грязь, как мыло, смывала не только грязь, но и вшей. Вши, блохи мучили всех, и рабов, и хозяев.
Одно удивляло: монахов вши не трогали, питаясь остальным человеческим стадом. Остальные к вшам привыкали, переставая брезгливо морщиться при виде сатанинских отродий.
Эти три дня людям прибавили толику счастья: как только сильнее пригревало щедрое солнце, люди лезли в теплую воду, лечась, наслаждаясь.
Много ли надо человеческой особи? Водицы глоток да пищи кусок, горсть чистой водицы умыться да в чистое переодеться. Не до злата иль серебра: что то злато иль серебро, когда главного нет, нет воли.
Немного надо славянскому человеку: прежде всех преждь нужна воля. Свобода и воля! Ветер свободы, не надышишься им. А после воли испить водицы глоток, съесть пищи кусок, водицы помыться да в чистое переодеться. Да детский смех, что душу родителя тешит, забавит. Да избу и баньку у речки поставить, пахоту натворить, да жито собрать…
Как мало надо простолюдину: мира, покоя, воли глоток.
И как много надо князю да тиуну.
Нужен терем высокий, подвалы глубокие да злата, серебра до краю подвалов. Челяди много, холопьев так много, чтоб и на полон продавать жадным печенежским, половецким ватагам, да золотишка в подвал добавлять, да и себе на потребу чтобы хватало. Людишек много надобно, много: поля житом засеивать, деревья рубать, дороги прокладывать, заморские вина к столу подавать. Да, людишек надобно много.
За хлопотами да заботами о чистой воде, хлеба куске думать не думаешь, тебе челядь и водицы поднесет, и хлебца душистого из пода печи на стол выставит. Да не то что воды, денежки на вина заморские да пива хмельные вдосталь будет хватать, коли злато да серебро в подвалах-то водится.
Много, ох, много надо тиуну. А в сто крат больше нужно боярину, да в тысячу раз больше князюшке!
…Наплескались, намылись в душистой водице теплого озера, а на третью луну Атрак погнал полон уже проторенной дорогой к Херсону.
Как вышли из стольного града Киева, так все не уставали удивляться, как все теплей и теплей идти по дороге, где незнакомые травы цвели и степь колосилась, отдавая ночным ароматом напоенную дневным солнцем жизнь.
Погоды стояли, ну как ровно как бы в июле.
Бабы за вечною трескотней, и то, бабе рот за шить везде невозможно, хоть и в плену, а трещат языками, как у себя на подворьях. Так вот, бабы у вечерних костров вздыхали, болтали, что теплынь-то какая, смотри, сколько травы пропадает. Накосить столько травушки, сколько скотины можно пасти, удои рекою польются.
Но дикая степь колосилась своим разнотравьем в девственной чистоте, не пахана, не боронена. Не видала она отроду серпа или рало-сохи.
Сотни, тысячи верст непаханой пустоши, и крестьянская кровь бунтовалась: столько земель пропадает без взору, без нагляду.
И только топчет копытом благодатную землю извечный кочевник, гунн или половец, печенег или торк. А будет топтать вскоре кочевник-монгол.
Курган
Дорога по-прежнему шла вдоль побережья, но с каждым шагом пейзаж изменялся, и холмистей становился путь. В синей дали виднелись белые горы, середь гряды виднелись провалы.
К вечеру добрались до первого привала, разрушенной насыпи давнего кургана. Ориентир во все ещё степи виделся издалече. Курган был уж очень правильной формы.
Атрак пояснил:
«Печенежский могильник, разворован давно, а старые люди мне говорили, что тут еще очень старые люди своих хоронили, наших, из степняков, из дальних преданий гуннов останки покоились здесь. Да время и люди курган не щадят, вот, только остатки остались. Тут заночуем и предков дыханье, духи их нас сохранят: сородичей трогать нельзя. Тут заночуем».
У ночного костра, когда усталый полон спал-отдыхал в мареве снов, Атрак присел у костреца ночной стражи. Ему не спалось: то ли черные грязи силы придали, то ли ближний Херсон манил красотой да ближними благами. Молодость бурлила, свежая кровь требовала выхода.
Атрак присел у костра, помешал угольки, и, с удовольствием заметив любопытство своих визави, начал неспешную речь:
«Мне дядька поведывал, а ему его дед, а кто деду рассказывал, тот от своего деда-прадеда слышал, наверное. Вот этот курган здесь издревле. Много, ох, много лун закатилось над степью, а курган всё стоит. Деды говорят, что кони народов, ведомых, неведомых, тысячу лет топчут травы степные, тысячу лет солнце восходит над степью, тысячи лет мы, степняки, пасём здесь свой скот, шатры раскидаем над дикой ковылью, тысячи лет, мы, степняки, кружим степями, вольно вдыхая наш ветер. Мы – степ няки, и степь только наша»!
Юнец аж пристукнул ногою от полноты своих чувств.
«В этом кургане, мне дядька рассказывал, а он сам лазил в курган, спасались они от печенежской орды, что налетела внезапно, как ветер, вот и по лезли в курган отдышаться.
А там глубоко, дико и страшно. Дядька рассказывал, они хотели удрать из глубины старого кургана, да не смогли: вход до кургана внезапно засыпало, и они пошли по тоннелю, вниз, только вниз вел их курган. Он не был пустым: валялись белые кости белых коней, раз даже попалось чучело скакуна, правда, до крупа. Кости лежали рассыпанные по могиле, а чуть вдалеке воин лежал. Остались от воина шлем да кольчуга, железная маска проржавела насквозь, сабля зажата в некогда мощных руках. Страшен был воин в смертельном оскале, страшна улыбка смерти, каждый раз новой и каждый раз древней. Дядька рассказывал: Тезге (имя образовано от слова «тезге», что значит «колено») хотел было пнуть по костям печенега, думал, враг, хоть и мертвый, а все же вражина, да дядька ударил его по рукам, ибо негоже кости из вечного покоя тревожить. Дух отомстит и тебе, и потомкам. Не тревожьте старые кости, не надо. Дорого стоят шлем и кольчуга, дорого стоит сбруя коня, тускло мерцающая серебром с золотистым отливом, дорого стоят золотые монетки, рассыпанные у ног воина-печенега. Дорого стоят они, очень дорого, да жизнь всё же дороже. Покойника прах беспокоить не следует. Вечные духи вечных могил витают над нами. Может, даже сейчас слушают нас, дышат в затылок»…
Воины вздрогнули, им холодок ветерка или духа виденье дохнуло в затылок, но стало холодно и душно одномоментно, хотелось вдохнуть свежий ветер степи, вскочить на коня и гнать жеребца до первых лохмотьев белой пены, так схожей на пену от моря.
Но! Степь далеко, орда вдалече рыщет добычу, а здесь только море, курган да полон, спящий некрепко.
Стараясь скрыть страх, Бакстак (от «бакста» – счастье, удел) привстал, поворошил багрово-черные угольки остывающего костерца, огонь благодарно привспыхнул, а добавленные шары перекати-поля прибавили жару, кизяк сизым дымком шлепнулся в сердцевину костра. Запахло мирным покоем родного кочевья, огнищем костров.
Люди успокоились, и, довольный своим рассказом, Атрак продолжал:
…«Дядька рассказывал, что то мог быть как печенег, а, может, и древний их враг, уз или торк. Смерть всех уравнит, всех успокоит.
Так вот, туннель, по которому дядька с охраной полз по туннелю, вел их все дальше в глубину кургана. Там, внизу, было темно, душно и сильно страшно. Снова попались кости, древние желтые кости. Древний воин лежал, разметав свои косы. Стрелы и лук лежали поодаль, изогнутый лук был почти позабытой конструкции. Дядька говорил, что это очень древний останок древнего воина, первого хозяина этих земель (возможно, киммерийца? Проживали на территории Крыма в 1Х-УП в.в. до н. э.). Древний воин спал, сторожа кочевья и воду, главные богатства своей безбрежной степи. Прах его трогать никто не решился: мощные кости, мощная тетива древнего лука, острые стрелы. Такой воин и в смерти был страшен.
Ползти дальше было так страшно, что люди, повинуясь инстинкту, поползли назад задом к верху, к воздуху степи. И пусть там ждал их враг, известный лютостью печенег, но живой враг для сердца милее, чем неведомая смерть в душной могиле. Смерть от удара живого врага даже почетна и смерти в бою бояться не стоит, но смерть от неведомо страшной потусторонней вечной силы позорна. Тлеть под наглядом духов, да еще и вражьих, мало почетно, со всем недостойно воину, и люди с удвоенной силой полезли наверх, готовясь к стычке с врагом-печенегом.
Стычка. Башла.
Остатки злых орд кочевали по степям, гонимые половецкими заградными отрядами. После сечи 1091 года, что совместно затеяли византийцы да половецкие ханы, мало печенегов отважилось оставаться в половецкой степи. Вот и гонялись за добычей-удачей по краешкам половецких владений, мстя по пути за поруганную честь да славу былую.
Народ-змей победил («каи»= «змея» – одна из транскрипций этнонима «кимаки»= половцы), светловолосый народ белых куманов. Орды хана Балуша, Шелудивого Боняка, могучего Тугоркана, Алтунопа, Белдуза, их и орды иные селились в Дикой Степи, сметая печенежкие вежи.
Ромеев империя приняла новый народ. Вначале просто терпела, затем заключала «долгий» мир, хотя бы на пару столетий.
Половцы приняли на себя охрану границы, ромейские мирные поселения множились вдоль побережий, близ монастырского бытия окружались селенья. Часть поселений становилась богаче и многолюдней: Бакла, Эски-Кермен, Сюирень, древняя Каламита… (города-крепости в Таврике-Крыму на Крымской горной гряде). Поневоле уживались половцы и ромеи.
Атрак продолжил дивную речь, то ли сказку, то ли сказ, то ли повесть из жития старшего в роде:
…«Ни печенегам, ни половцам терять было нечего, кроме собственных жизней.
Печенеги ждали их с другой стороны древнего могильника. Сабли наголо, луки натянуты. Вид запыленных, серых от комьев земли половецких людей рассмешил вражью силу и печенеги заржали, аж вздрогнули кони. Дикое ржание диких людей продрало до глубины, до костного мозга пронял стыд и срам за временный страх, за то, что смалодушничали, да опустились в курганную глубину.
Половцы подскочили! И битва не битва, бой или драка, но смертные били смертных до смерти. Как будто дух старого киммерийца вселился в половецких людей, те с удвоенной, если не с тройной силой кинулись на врагов. Печенеги, вонючие печенеги, опешили от наших вождей. Драка не драка, бой или битва, но наших было раз в пять меньше, а победили»!!!
Атрак давно уж вскочил, показывая в лицах бой извечных врагов. Слушатели с наслаждением сопереживали рассказчику: свои сильные и могучие, враги маленькие, черненькие кривоногенькие печенеги, сильные своим количеством, их было много. Но наши могучие богатыри, сильные не числом, а воинским духом, бились с врагом отважно и страшно, ибо знали, смерть настигнет того, кто слабее, если не силой, то духом уж точно.
И слушатели охотно верили, что дядя Атрака могучий великан-богатырь, и соратники (верное слово: со-ратники) его не отставали, вставали перед глазами могучими великанами, бьющими врага голыми руками. Кончились стрелы, бились изогнутыми саблями, тупились сабли о вражьи тела, скидывали печенежскую рать с низкорослых лошадок, могучей десницей били по дурным головам заклятых врагов, те падали, и затаптывались собственными скакунами, привычными раскалывать черепа никогда не коваными копытами.
Так народилась легенда о могучем богатыре кошевом-апе Башле, с головой, что казан, с руками-клещами, с ногами-столбами, бил он врагов-печенегов без устали три луны и три солнца, богатырскою саблей круша черепа злоклятых злобных врагов. Легенда гласила: отсекли у него правую руку, бился он левой, отсекли левую руку, бился ногами, стрелы зубами хватал, забрало перед злющим врагом не опускал.
А как кончилась битва, пошли люди к черным озерам, где Башла мазал черною-черною грязью места, где были руки его. И отрастали руки его, еще больше могучими, чем были доныне.
«Потому и вожу вас к этим черным грязям, пусть ваши руки и ноги будут сильны!», – добавил Атрак, грозя пальцем двум слушателям, что так забавно раскрывали рты в такт его речи.
И нашли в легенде люди себе утешение, оправдав заодно ночную промашку, и хана Башлу прославляли навек. И юному хану эта легенда путеводной звездой всю жизнь освещала: когда уходил повзрослевший Атрак со своею ордою в горную Грузию, куда их пригласил сам царь Строитель Давид (в 1118 году), то царь отвел ему лучшие земли по южным и восточным границам, и подарил благодатные земли Картли, напомнив при встрече заслуги Башлы-богатыря, его силу и справедливость.
И когда была названа одна из крымских гор по имени сына его – Артеком, то помнили люди о хане Башле, о подвигах ратных, что отблеском славы легли на потомков, Атрака и сына его. Артека (Артыка, Артука), тоже воинов доблести, половецкой отваги.
Но тосковали родные степи о хане Атраке, и хан Саручан, едва получил весть о смерти Владимира Мономаха, направил гонца в стан Атрака, и пел хану Орев-сказитель, певец, песни родные половецких степей. Но хан, слушая песни, молчал. Сказывал новости, что накопились в степи, хан долго молчал. Рассказывал сказки о подвигах хана Башлы и смерти Итларя, тут хан не молчал, напевая про дядю. Устал половецкий посланник, устал: не удается направить орду Атрака на земли родные, хоть плачь. И решился тогда Орев на последний намек, на надежду: достал из широких штанов травку родную, полынь, что называлась «авшан». Тогда только вздрогнул могучий, заматеревший Атрак.
И сказал тогда фразу, что веками потом неслась по степи: «Лучше на своей земле мертвым быть, чем в чужой славным живым!» И направил орду на Донец, в родимые, родинные степи.
Но это будет потом, очень и очень не скоро. А пока…
Ни рассказчик, ни его благодарные слушатели в пылу сказа не замечали, что и полон, и члены отряда давно уж проснулись от шума и гама, от гортанных выкриков что рассказчика, что его двоих сопереживателей. Пленники, хотя ни словечка не понимали из гортанной речи половецкой, с улыбками да тихим смешком наблюдали за молодецкой горячностью. Тлели, серым пеплом покрывались уголёчки костра, за живостью сказа о бое и рассказчик Атрак, и два стража не заметили угасавшего костерца…
Почти у цели
Серый рассвет раннего солнца поднял отряд, и люди стали живее, ощущая в новой природе пейзажа могучее дыхание жизни. Ярче становились краски трав и деревьев, деревья становились все пышнее и гуще, дорога живее. И хотя отряд избегал проторенной дороги, шагая по балкам, но и в балках кипела могучая жизнь. Косули шарахались по низким кустам, ежи забавно фыркали длинными носиками, из далеких лесов вечерами слышался волчий вой. Плавно парили орланы, дикие стаи бакланов дерзко хохотали над недальним морским побережьем.
Половцы знали дорогу. Дорога петляла между холмами, дикими виноградниками, где зеленые гроздья кислели, еще не налившись медового сока, вброд переходили узкие речки Бельбек или Альму, речки не речки, так, в эту пору скорее ручьи. Ручьи то ручьи, но половцы знали, что в зимнюю пору, когда полноводны потоки, эти речушки превращались в бурные сели-потоки, смывая с корнями деревья, сметая косуль и траву, неся в недалекое море добычу. Но сейчас речушки дали напиться коням, человеку. И те, и другие жадно пили чистую сладкую воду, что тихо лилась с недалеких горных вершин.
Все ближе гряды холмов, все круче холмы, они на глазах превращались в горы. Могучая природа Таврики-Крыма-Тавриды, буйная зелень, множество зверья, все вливалось в тела отупевших людей живительной силой, и пленники оживали.
Атрак был доволен: полон, очищенный черными грязями сакских озер, наполнялся крымской природой, полон оживал, кормимый обильно мясом косуль, зайцев и какими-то ягодами и травами.
Атрак был доволен: полон становился все выгоднее для продажи. Чистые лица славянских рабынь, чистые русые волосы привлекут много купцов-перекупщиков, все равно, армян или евреев.
Атрак был доволен, доволен отряд. Отряд все сильнее ценил юного командира, все меньше было недовольного роптания по вечерам от приказов вчерашнего сосунка.
Клан принял вождя! Род понял главное: юность пройдет, а ум и отвага юного племяша вчерашнего повелителя рода и железная воля уже приносили отряду удачу. Юный кошевой-атаман и сказителем становился. Страшно редкий дар дали ему духи предков, ибо талант сказителя давался не каждому. Не каждый род или племя могли дать сказителя. А тут вот он, юный певец славы вечного рода.
Бесписьменный народ тысячи лет хранил легенды и сказки, передавая их из уст в уста словами сказителей, и дар передачи народного слова, алмазов мудрости рода был даром великим, даром бесценным. Не каждый, явно не каждый мог рассказать, мог удержать внимание племени, коша иль рода при рассказе о том или этом…
…Атрак взмахом руки остановил движение отряда: «Кача! (река в предместье Херсонеса-Севастополя) Последний привал. Завтра утром нас ждет Херсонес!»
Помилуй нас, Яхве!
Весь день как-то не удался с ранней зари. То сдуру сплоховал перед заносчивым эпархом, а давно ли вместе сшибали первую копеечку? Уж как он ни распинался перед пузатым гордецом, то скоса, то спряму хвастаясь красавицей-доченькой, тому всё нипочем, подлому любителю малолетних мальчишек. И что он только в них, сопливых, находит? Не дал, толстая собака, к главному-то перейти: как уж хотелось этажик надстроить. Нет, конечно же, нет, мечталось давно о расширении владений, хоть на чуть-чуть потеснить друга-соседа. Зачем тому столько земли под строения? Семья у него вроде мала (про себя же хитрил, у самого, кроме дочки, детишек не было), рабов в услужении, что котик наплакал, зачем ему столько землищи? Представил все тяжбы за землю и тихо вздохнул: хотя бы этажик надстроить!
Земля в Херсонесе ценилась как золото: где-то его залежи, а тут за пластик землицы сражались, бывало, и насмерть. Вот и суетился с утра перед толстопузым эпархом, так этажик надстроить очень хотелось. Красавица-дочь стала хорошим товаром. Волосы – роскошь, грудь, о, то была грудь, и тонкая, тонкая талия, что даже не верилось, что бывает такая. Круглые, желто-кошачьи глаза невинно смотрели скромно на землю. Нет, дочка стала хорошим товаром. Недаром ждал несколько лет, холил, лелеял единое чадо, одевал, обувал, не стыдно перед соседками девчушку на люди выводить. Нет, разумная доченька у него, от матери с бабушкой – ни на шаг. Старая мать его век доживала в комнатушке рядом с девичьей постелькой. И нагляд за дочкой, и самой вроде нескучно.
На жену свою, Сару, надежды не было вовсе. Сплюнул с досады, вспомнив супругу. Рыхлые толстые груди мотались чуть ли не до колен, громадные бедра, такие, что боком входила в любые двери, хриплый то ли голосище, то ли лай с ранней утрени до поздней ноченьки – такова его женушка.
Ах, как он радовался приданому за нее, хорошему, доброму приданому: дом чуть не в центре Херсона. За этот домище, как ему тогда показалось, готов был взять не то что громогласную Сару, хромую собаку в жёны бы взял. А Сара тогда была ничего, и груди на месте, бедра тоже пленяли своей крутизной. Ну, а что и тогда была толстовата, на то были причины, но округлый животик её ему не мешал.
Она же жрала тогда с утра до ночи, прорва такая. Вздохнул, и опять плюнул. Мысли к хорошему уже не вернулись, а потекли про торговлю. Не задалось! Принесла погода некстати византийский караван, и нет, чтоб с добром, да товаром хорошим, радости было б до утра или ноченьки. Так нет, же, военный эскорт, явно то не к добру, не к добру. Сам себе покачал головой, тихонько вздохнул: эх, помоги, всевидящий Яхве!
К дому приплёлся тихонько: донимала жара, будь и она неладна и проклята, как прокляты им византийцы и варвары, херсаки, да и все, в этом треклятом городишке у моря.
Не радовало синее море, певшее вечную песню любви и свободы, раздражали до зуда зоркие птицы бакланы, воровавшие сдобычь у зазевавшихся рыбаков. Слегка вроде отвлекся: надо завтра же будет самого ловкого из рабов, из ручисей или словян (русичи и словене в те времена еще не сростились в единое племя), народ этот честный, прямой и открытый, и можно ставить такого на фелюги рыбачьи, пусть орёт на бакланов с утра да хоть до ночи, абы добыча морская шла не бакланам, а ему, в хозяйские добрые руки. Да заодно пусть, подлый, проверит, рыбаки или бакланы добычу воруют?
Подплелся к задам своего двора и очумел: невинные девичьи дочкины губы смоктал какой-то верзила. Здоровенная ручища бандита с рыжими волосками хваталась за трепетно поднятую грудь его дочки, его Мириам. Дочка застыла в невинном экстазе: ой, что будет дальше?
Сонный плеск синего моря, кудахтанье кур да крики бакланов затмил общий ор: Иаков бил свое чадо. Из круглых глаз миленькой Мириам круглыми виноградинами слезы катились ручьем. Причем, странное дело, глазки ее не краснели, личико не опухало: девочка впрям была очень красива. Не дочка орала, эта кошечка знала, чье мясо съела, и предпочитала терпеть силу отцовских, крепких пока кулачищ.
Орали две дуры: Сара, да мать его, старая стерва. Мамаша в свои сорок семь с небольшим орала, как молодая, и с наслаждением, а как же, она была в центре скандала. Будет о чём потом говорить да плакаться таким же древним старухам, как и она.
Сара в мгновение ока принеслась с соседских, обычнейших для неё посиделок, куда «на минутку» завернула после банного утра, где с утра до ночи толстые бабы обсуждали да осуждали всё население Херсонеса, как еврейское, так и греческое, задевали даже славян, народ многолюдный, спокойный, прямой. Знали, почём у кого шла рыба, кто вчера в стельку напился, от кого сегодня с утра спозаранку крался пригожий херсак. Всё знали, толстые дуры.
Она принеслась на ор мужа: таким она его давно не видала, ой, как давно, с тех пор, как без спроса обменяла пару монет херсонесских на красивое покрывало, что в моду входило тогда. Тогда муж орал, но не бил, пожалев неродившееся чадо. Сейчас Сара неслась, как рыбачья фелюга от близких пиратов: груди мотались ненужным придатком к толстым филейным местам, покрывало сбивалось с сальных волос, глаза округлились, топот ножищ заглушал хрип дыханья: в доме беда! Первое, что на ум приходило: кто-то ограбил! Кто?
Домыслиться не успелось: толстенький нос с ходу нарвался на кулачище. Дальше Иаков управлялся так, будто каждый день упражнялся в битье домочадцев: один удар Саре, другой – Мириам. Постепенно сила ударов и мощь переходила на Сару: с Мириам было довольно. Только тогда Мириам тихо завыла, отползла к ступеньке порога.
Там уже ждали подружки-соседки. Мигом принялись за утешение милой девицы, слезы которой катились горохом. Подружки наперевес суетились, обнимая подругу, в душе пела-звенела их радость: наконец-то досталось красивой гордячке. А вот за что? Любопытство распирало, давило дыханье, но хитренькая Мириам только страдала, картинно страдала. Подружек всё больше душила толстая зависть.
Из того, что орал, понятно одно: какой-то товар мог быть испорчен. Какой? А, какой? Рыба ли стухла, так в пищу рабам. Меха от славян? Так как их испортишь? Кожи протухли? Гадали, судили, а Мириам промолчала: а что, про рыжего молодца рассказать? Того след простыл, как только папочка ротик открыл. Мириам понимала: подружечки разнесут молву, разметелят её красоту. Тогда что, за раба выходить, самой в рабыни податься? Не маленькая уже, видела, как отец рабынь заставляет ему угождать. Те плакали молча на кухне, боялись, что Сара узнает, со свету сживет. Забавы отца её не смущали, отец в доме хозяин.
А тетёньку Анну разве расспросишь? Вон как папочка воздает жене по заслугам. Ристалище боя влекло иудеев, те быстро столпились с трех сторон забора из ракушняка на бесплатный театр в доме Иакова.
По двору вихрем носилась старая мать Иакова, вопила так, что от дома эпарха приближался стражи наряд: греки не вмешивались в дела хозяйственные иудеев, но вопли старой мешали отдыхать каким то очень важным ромейским персонам. И тут шутки закончились: старая ведьма вмиг замолчала, подсела к внучке, отирая потную пыль с сине-красных щек.
Иаков напоследок так вмазал женушке ненаглядной, что стражник аж крякнул – вот то был удар. Сара кулём оселась на плиты двора (щёголь-хозяин двор вымостил плитами, как будто богач), Иаков хлопнул дверями входными. Все стихло, как вымерло. Двор опустел.
Иаков сидел в полумраке опочивальни: жар донимал даже сюда. Теперь, кроме сонного тихого моря, не слышно было ни звука: утихли бакланы, не кудахтали куры, не стонала привычно старая мать. В тишине так думалось хорошо и спокойно. Гнев весь ушел с последним ударом по телу жены, ватному, теплому, потному. Передернуло, так было противно.
Думалось хорошо, и решение загадки пришло, да такое простое, что только не прыгнул. Жилья теснота? Пустяки! Этажик надстроить, оно, конечно же, можно, но столько затрат, и для кого? Для дуры его толстомясой, Сарочки драгоценной? Нет уж, позвольте! Дочку, ну, ту быстренько замуж с отходом, в дом зятя. На её красоту нужный зятёк уже приискался-нашелся. Жалко, срочно отъехал тёзка Иаков назад в стольный свой Киев: сватьба-то сорвалась. Осерчал, ну будто младенец. Ну да ладно, он в дочку так уж влюблен, что воротится, да навряд ли с пустыми руками. Вернется еще и с подарками для будущей драгоценной жены.
А эта дура-дурища, доченька Мириам? Жених за порог, так она варягу-верзиле в руки пошла?! И что сталось бы? Как он, взял Сару с довеском?
Нашелся же он когда-то на Сару, пригожую, пусть и с довеском в виде округлого брюха. Нет, когда маленькая Мириам появилась на свет, он годика два не смотрел на ребенка, ему чужое претило. Но когда понял, что детишек от него ни у Сары, ни у других, более миловидных подружек или даже рабынь его быть не могло, тогда полюбил Мириам. Потешный ребенок, тихий, спокойный, так лепетал заветное «папа», что он ни разу! довольный, подумал, и вправду, ни разу, не упрекнул свою Сару за грех. Мириам поднимал, как свою, и вредные старушонки отстали от гнусных намёков. Да и мать его постаралась, доказала противным старухам, что внученька от него, единого чада Иакова. Ну, а что Яхве больше детей не даёт, так то невестушка виновата, толстая дура. Сара молчала. А что скажешь? Судьба! И так мужу готова была ежечасно ноги омывать, раз спас от позора.
А так всё хорошо, дочка растет красавицей из красавиц, дом – полная чаша, есть чем похвастаться перед соседками да подружками, подразнить их браслетами да медальонами.
Иаков тихо утешился милым браслетом, что на днях подарил Мириам: синее прозрачное стекло с золотыми на нем завитками так мило легло на легкую ручку дочурки. Уплощенный браслет как будто родился для дочки. А нитка патовых бус, а прово лочный браслет, из бронзы, между прочим! А серьги к нему, а серебряный перстень с плоской жуковиной. Правда, перстень был сильно уж великоват для тоненьких пальчиков милой девчонки, но не Саре же его отдавать. Так, похвастаться можно, и всё. Жди, пока в приданое девке пойдет, а там пальцы её разжиреют, если в мамашу пойдет.
Приданое, сватьба, это потом. А сейчас можно приняться за мать. Зажилась старая дура, хватит. Корми и пои, а толку на грош. С утра до ночи или на кухне жрет все подряд или талдычит с бабёнками, сплетни разносит. Хватит, свое пожила! Конечно, спасибо ей за дочку, за дом, но что-то уже заживаться стала старуха. А если бы он сегодня не вовремя подошел? Ей, видите ли, сплетни на улице дороже невинности внучки становятся. Нет, уж, позвольте! Решения он принимал достаточно быстро: научила торговля, и тут мешкать не стал.
С утра рабам строго-настрого было приказано: старую не кормить. Воду давать только раз в сутки, и то вечером. Всё! Провинившимся – кандалы. Или на скорую распродажу, туда, к Фатимидам, в далекий Египет, где или на буйной войне голову сложишь или от дикой жары пропадешь.
Бабка промаялась очень недолго…
На упокойном обряде Иаков рыдал, ой, как рыдал! Плакала Сара, ни на шаг не отходя от дочурки, обливалась слезами хорошенькая Мириам. Их все жалели. Выли соседки, оплакивая свое затянувшееся бытие, выли, как знали, тихонько шептались: «уморил, ой, уморил Иаков старушку свою». Да волен хозяин и в жизни девичьей, и в жизни жены, и матери старой. Ну что же, пожила она ведь неплохо, вон, сколько золота Иаков ей отрядил. Богатый был похорон, очень богатый. Местное кислое виньицо разливалось строго по чину: вначале эпарху, знати великой, что честь оказала домишку его. Ночью рабы допивали обливки, поминали старушку. Безвредная, в общем, старушка была. Могла и с ними, с рабами, если в настроении пребывала, и в кости сыграть, и винишко допить, что от мужского хозяйского пира оставалось. Хлебала винище наравне с мужиками. Веселая старушенция умерла, рабы по грустили, поплакали над умершей, доели хлебцы – всё быстро забылось.
ПИР
Чуть не подрались: подавать на стол властителям судеб барабульку иль нет? Неказистая на вид рыбка вкуснотищи была величайшей, но это когда раскусишь. А как подавать, если рыбка мала, некрасива на вид. Византийские гости, порода из бало ванных властью да жизнью, а мы им барабульку на стол? Ругались, рядились и ждали эпарха: пусть сам рассудит, что подавать императоровым людям на стол. А пока стелили белейшие льняные скатерти-покрывала на стол, гоняли рабов и рабынь к колодцам по воду, и плескавшаяся из кувшинов вода промочила дорожку к дому стратига.
Ромеи суровы: посты соблюдают и чтят, а перед пасхой особенно. Хорошо, хоть рыбу подавать разрешалось к столу. А так, пропадай: корка сухая да водицы глоток обычная пища монахов. Посланник со свитой туда же: сутки на море, а в рот что камней побросали, только воду и пьют. Качка не качка, штилем не штиль, а пост оставался постом. Суровые ромеи за дорогу устали, исхудали лицом.
Барабулька и кстати!
Отозванный в Константинополь стратиг еще не вернулся (боялись и думать, вдруг не вернется, император крутехонек, ох, как крут и горяч), потому и ждали эпарха. Он оставался по старшинству фемой распоряжаться, командовать да владеть, коль катепан разрешает.
Тут же крутился и катепан (буквально – верховный): Никанор Каматир был вторым человеком в Климатах Херсона.
Эпарх томился с гостями по храмам, а тем мало было всю утреню отслужить. Из храма Богородицы Преблагой пошли по святыням, по храмам да склепам, и ведший монах как будто бы в пище и не нуждался, а с ним и все остальные, даже посланник.
К дому стратига добрались к полудню, даже рабы утомились.
Зато со всего города успели насобирать из лучших прасолен гарос, рабы только что не бегом (или «гарума», «гарон» – местный соус рыбный) тащили его.
Умельцы Херсона добились славы особой: соус гарума готовили строго по схеме. Два месяца вялили на солнышке рыбку, как есть с кишками, жабрами, кровью, ругая рабов, если не часто её ворошили, заставляя руками подбрасывать чаще и чаще горькую соль. И только потом опускали в цистерны, или по худости, в какой-то сосуд, дожидаясь, пока гарума сквозь сито корзины потечет, избавляясь осадка.
Рецептуру хранили в секрете. Наврали даже в энциклопедию для хозяек «Геопоника», куда рецепт дать-то дали (куда же деваться!), а вот соль указали не так, не десятую часть, как отцы-прадеды полагали, а больше.
Вот и добирались к ним корабли со всей Византии за соусом местным, называя кто как, кто гарума, кто гаросом, кто вовсе гарон. Коверкали только название, сам соус знай себе королевал над другими приправами роскошной империи.
И пока жива Византия, гарума любому нужна, коли карман дозволяет.
А самый богатый да славный позволить мог и гаруму из барабульки. Дорого, цена обжигала, зато какой вкус, на зависть пирующим у хозяина славного.
Да и то, гаруму к любому блюду подать подавали, только что в мороженое не пихали.
Добычу соли тоже держали в секрете. Ароматная соль добывалась в Сасыке, озеро так себе, в верстах ста от Херсона, под Керкинитидой. Та и платила дань солью особой, торгуясь с Херсоном. Ну, пряности в соус возили с Востока и в этом проблем не было вовсе. Каждые сутки через моря шел караван купеческих «пузачей», кто-нибудь пряности и привезет, ибо купцам выгода слаще неволи.
Да и то, ой, как не каждый дозволить себе позволял две амфоры прикупить драгоценной приправы общим весом около шести литров за баснословные деньги. В древности продавали гарум чуть не в 1000 сестерций, да и сегодня от той цены ушли недалече.
К посланника столу принесли и гарума из барабульки, правда, трошки схитрили и разбавили соусом из анчоуса (хамсы): хвастать посланник будет в любом варианте, а прознает про подмену иль нет, так чистый гарум императору поставляют, а он что, император?
Хозяин прасольни, словянин Капитон гарума отвесил честь-честью, грамм в грамм. Словяне славились честностью при торгах, пуще обиды любой обман на торгах меж русичами и словянинами. Через поколения передавали прозвище обманувшего продавца, так что слава худая потомкам ой как мстила-вредила. До конца 19-го столетия у славянских купцов даже миллионные сделки совершались зачастую изустно, что называлось «ударить по рукам».
Ну а по дороге от словянского то квартала мало куда раб забежит, вот и смешали умело ловкие руки два соуса гарума, один с золотою ценой и поплоше другой.
Стол рыбный ломился: рыбаки постарались на славу. Свежайшую рыбку, за которой отправились в море все триста рыбачьих суденышка, на берегу отобрали. Брали лучших из лучших: скумбрию, ту же султанку, барабульку то бишь, которой все же решили перед гостями похвастать, пусть рыбка мала, да улов ее сладок.
Подали, конечно, рыбу-змею, по-местному называлась «сарганом». Длиной небольшой, сантиметров так сорок, серо-зеленоватая стайная рыбка с длинной вытянутой мордой, и особенно длинным носом, подавалась как деликатес. И вяленая, и жареная в ход пошла быстро, гости слопали всю.
Хотя гости ели не всё, скоромную пищу не трогали. Посланник со свитой налегли на дозволенное херсонское угощенье, голодные молодые рты жадно жевали и барабульку, и скумбрию, источавшую янтарные капли свежего сока, кое-кто добрался и до осетрины, горделиво сверкавшей колючим горбом среди белоснежной скатертины стола.
Отдали дань уважения и рыбе-дракону. Вовремя вмешавшийся в разговор Аркадий-эпарх рассказал столичным гостям о коварстве дракона: «нечаянно хоть один ее шип, хоть все три шипа вонзятся в ладонь, и все, пиши пропало тогда. Если поймалась злая рыбешка в мае-июне во время брачных игрищ, вначале пальцы немеют, потом озноб по телу прокатит чёрной волной, пот прошибет на затылке. Это вначале. Потом судорогами тело пойдёт. Кому повезёт, тот не сдохнет. А в основном, – Аркадий вздохнул, – летальный исход (ввернул в оборот красиво словечко из умных). Кто выживет, станет калекой: руки не согнет, так пальцы немеют.
Гости качали умными головами, боялись искушать редкой рыбёшки. Эпарх улыбался: она опасна только при ловле, при обработке весь яд пропадает. Гости отведали и рыбу-дракона.
Вскоре куски пирогов, ошметки рыбешек перемешались собакам на счастье.
Вино пили тоже из местных. Запасы его никогда не иссякнут, пока жив Херсонес.
Пили любое: янтарное, густотой не пропускавшее солнечный свет, красное молодое и красное старое, сладкое и сухое, в общем, вина лились рекой.
Эпарх ждал-дожидался удобного случая: зачем море пригнало византийскую спесь в Херсонес?
Сладко потчевал, угощал блюдами, каждый с которых хоть сейчас к столу грозных Комнинов, веселил речами разомлевших гостей, и ждал, пока языки сами развяжутся от еды и вина. Потому вин не жалели: ни инкерманских, ни с Калос Лимена, ни симболонских, ни с Алустона (Алушта.)
Местные вина крепки, напоены солнцем, обветрены ветром близких степей, впитали из почвы запах цветов, аромат близких садов, чуть горчили солью из моря. Ох, хороши были местные вина. Пились легко, добавляя в кровь солнце, в голову головокружение, в чресла силу любви.
Эпарх наклонялся к каждому из гостей, спрашивал, куда можно отнесть амформы с винами драгоценному гостю в подарок? Гости кивали, дегустируя вина, плескали из чаш золотое вино через плечи, боясь опьянеть, и все же пьянели. Пьяные местные вина, пьяные.
Гости болтали про всё, а самые захмелевшие полоскали косточки императору. Видно, крепко засела обида в византийских вельможных сердцах, раз простить не могли императору его низкое ремесло: трон выжимал из империи всё, не щадя ни знати, ни простонародья. Комнину войны обходятся дорого. Но не это было главным в обидах вельмож.
Простить не могли самое главное Алексею Комнину. И до него, и после будут подниматься к императорскому трону разные люди, тому империя знала много примеров. Но чтобы нарушить главную заповедь каждого, кто дорвался до власти, это уж слишком.
Первая заповедь – ты должен предать. Мать или брата, соратников или тестя – предай. Предать нужно всех, особенно тех, кто помог дорваться до власти ибо предай, пока сам предан не будешь. Предашь, и не надо искать для приведших тебя к вершинам почестей, должностей, приятного звона монет. Предай, и, пожалуйста, властвуй. Предашь, и хочешь, казни, хочешь, отправь их в почетную ссылку в тот же Херсон или в пиратскую гавань Калос Лимена, но только – предай!
Патриции распалялись от собственных мыслей, таившихся в глубине серых извилин, вино требовало дани, и все громче таённые мысли лезли наружу, изливаясь мутным потоком речей.
Бояться уже не боялись. Худые патрицианские речи Комнину не внове, и император правил, не озираясь на лай знатных родов. Соглядатаи всё ж донесут, куда надо, кто, что и как говорил, кто сколько выпил и съел не по чину, кто запустил в императора камень, и потому эпарха в его гостеприимстве не останавливали: империя выгоду знала во всем.
Тысячелетие цвела гордая Византия, тысячелетие учила свою агентуру, доводя до совершенства умение слушать, слышать и доносить.
Да и на дармовщинку поесть каждый сумел, все экономнее будет казну-то считать.
Тайная служба жила широко. В свите чуть не каждый второй состоял на учёте, чуть не каждый второй теперь распалялся, кидая в базилевса камни обиды, ибо чуть не в каждой родне найдутся обойденные славой. Патриции ждали свой час, да старились вместе с ожиданием, а император правил больше пятнадцати лет, и умирать не хотел. И свергнуть его не смогли: не хватило силёнок?
Да, не смогли! Император силен был не только стражей варангов да мощью полков катафрактов, нет, он был силен, если можно выразить так, тылами. Крепкой семьей, прежде всего. Императрица Ирина Дукиня, дочь кесаря Андроника Дуки, была верной доблестному муженьку, дети послушны, кстати, пока. Бунт Анны Комнин будет только по смерти отца, но это случится нескоро, в 1118 г. Мать Анна Далассина ему не вредит, а, с точностью наоборот, помогает сыночку удержаться на троне. Нет, Алексею Комнину дал Бог долго прожить в дружной семье, и долго править на троне.
Хотя влить отраву сонному в ухо каждый сотый не прочь, или подговорить пьяных варангов и, потом поди докажи, чьи это заячьи уши торчат после каждой разборки, заговора иль мятежа.
Потому и держал громадный штат тайных агентов. Семья то семьей, да мало ли завистников земля носит из ближних и дальних льстецов.
Лилось вино, вместе с ним лились пьяные речи.
Эпарх койнэ знал как свой, где и поддакивал, где и кивал, где гкхымал в знак солидарности, чиновник был якобы свой и должность ему позволяла бегать в своих, пусть на подносках: не каждый-то день дромоны в Херсон прибывают.
Саднила задняя мысль: почему никто не обмолвился о цели прихода армады? В чем тут беда? В чем состоит подвох? Император-солдат далеко не дурак. Империя твердо запомнила это, за года непрерывного бдения император приучил подданных понимать, что с ним шутки плохи, в «случае кое-чего».
Это его знаменитое «в случае кое-чего» империя знала до последнего замурзыки: Комнин «кой-чего» применял, не жалея. Кое-чего, и голова удалого падала с плеч, кое-чего, и горела вилла банкира, кое-чего, и неслась конница вскачь, добивая врага. Да, его «кое-чего» многого стоило.
Объевшиеся до блевоты, опившиеся до уссачки патриции молчали о главном, о цели прихода дромонов молчали.
Эпарх уж устал, истекая дежурною лестью, как понял в конец надоевшего пира, что эти патриции сами не знают, для чего их сутки назад тащили на корабль из теплых постелей приятных матрон, плыть на север, на Херсонес заставляли.
Посланник хотя надувался спесью безмерно, вспоминая о поколениях и поколениях своих предков, вплоть до латин, хотя поругивал как бы и нехотя императора Алексея, хоть и лакал, налегая безмерно на алустонские вина, о цели приезда только мычал, шевеля тонкими перстами знатного аристократа, брызгая во все стороны лучами алмазов на перстах своих. А о цели похода ни тебе слова, ни даже гу-гу.
Все, что смог выродить: «Захария и та, его чернорясая братия, провожалась странно. Солдаты, упряжки, кони и люди, все поступили в его повеленье прямо перед отходом. Четкие марши бравых солдат, приказы с красной печатью Главного Дома, все подчинялось Захарии, а не мне. Что за монах? Откуда я знаю, много их чернорясых в империи нашей, в Константинополе только столько церквей. Да и монастыри только плодятся, скоро до патрицианских владений доберутся, черные рясы».
И уже обращаясь к эпарху на «ты», повторил:
«Ты не смотри, что они так худы и невзрачны. Монастыри их богаты, людом полнятся, чай, десятину каждый платит исправно. Для кого десятина– полушка в кармане, а для меня?» И перечисляя отсчеты, все брызгал и брызгал блеском перстней. И уже шепотком:
«Зато императора они знаешь, как любят! С чернорясыми он день да и ночь готов толковать, а с нами..» И отмахнулся рукой куда-то в сторонку.
Царедворец лукавил: приближенный к императору страж, уже и почетный, знал многое, ему доверялось тоже многое. Быть в страже самого базилевса, это уже не просто почет, это само доверие императора. И только такому доверенному человеку мог он отдать свой приказ базилевса, писанный красным чернилом.
Но протоспафарий, по-новому, звавшийся «севаст», «севастократор», императорский хлеб ел недаром. Он многое знал, многое ведал, много умел говорить, еще больше помалкивать. А самое лучшее, что умел делать, это слышать и слушать, в том числе и эпарха, ведь крещёный еврей был уже на примете.
Ввечеру пьяный бред кончится, уснет свита патриция, а он, протоспафарий, примет катепана: второй человек в климатах знал всё в Херсонесе, как севастократор знал всё во дворце базилевса. Катепан давно ждал с докладом, ждал терпеливо, знал, что в случае выгоды и удачи стратиг полетит, и он, катепан Никанор Каматир встанет на место стратига.
Пусть маленькое между ними различие, для местных почти незаметное, но все же, но все же стратиг везде первым, он лишь второй. Второй и только второй. И даже в постели прекрасной Демитры он только второй, злосчастный второй. Он умней и красивей, он сильней и богаче, а все же второй.
Умен был стратиг, царедворец умелый, и скинуть его повода не было вплоть до сего злосчастного дня. И вот, наконец, он первым узнал о позоре стратига.
И неустанно вливал в мозги Константина-севанта главную мысль: пропустить казнь монаха ритуалом убийства презренным иудейским отродьем, как низко пал стратиг Херсонеса. Пусть сейчас он в отъезде, это ещё не причина, раз распустил он людишек в Херсоне.
А патриций, внимая речам катепана, думал свое: «Херсаки распоясались, это уж точно. Полгорода можно казнить за такую провинность!»
И, как будто сейчас, видел в покоях дворца, как писали Комнину красным чернилом указ:
«Казнить жида как иуду, ибо он казнил инока, как Господа Нашего, и иной смерти не достоин! И не забудьте в ладонь его вбросить тридцать серебреников – с дьяволом расплатиться!»
И короткий размашистый почерк Комнина внизу на указе: КОМНИН. И личный императорский перстень печатью клеймил этот наказ, грозя двуглавым орлом непокорным.
И потому за столом, слушая льстивые речи эпарха, он изучал, как изучают комашек и мушек в музеях дворца, беспристрастно и молча. Слушал речи, поддакивал глупцам за столом. Потом пригодится в узде их держать в метрополии сладкой, вдали от этих грязных отсталых херсаков, что умудрились даже на пир явиться в штанах. Расшитые порты (штаны) так смешили. Близость варваров сказалась на этих, на херсаках, вон, умудряются не только штаны одевать, да еще расшивают их красною нитью. Да, от варваров они недалече ушли, несмотря на прекрасные вина и вкуснейший соус гарон-гарума.
Катепан тот умнее, не льстил, пить вроде пил, а вроде не пил, предпочитая разбавлять винище водой, как и положено греку. И говорить мог ровно столько, сколько требовалось по его чину, чину второму в этих климатах окраины Византии.
Они были очень похожи нутром два царедворца, ждавшие часа, и потому потянулись друг к другу протоспафарий-севаст Константин и катепан Никанор. Друг друга нашли два паскудника, два интригана.
В тишине теплых покоев, где окна закрыты тяжелой завесью из парчи и муслина, они долго беседовали, выясняя причину, повод и меры. И, когда к ним неслышно и скоро зашел Захария, закончивший обход главных церковных владений Херсона, вот тогда началось!!!
И только тогда, наконец, понял народ, зачем в Херсонесе дромоны!
Фанаил
Иудей был красив, не просто красив, а прекрасен. Ничего бабского в его внешности не было, а оторваться нельзя. Черные волосы, густые, вились кольцами так, что любая модница губы закусывала от зависти бабской. Брови густые, дугой, нос ровен, как будто римлянин подарил. Вылепленный нежным резцом ваятеля профиль, такой хоть сейчас на монеты. Губы чисто мужские, очерчены так, что ни миллиметра прибавить или убавить вовсе нельзя. Округлая борода вызывала завистливый взгляд бородатого же любого ромея. Рост мелким на зависть. Стан ровный, прямой, поступь почти величава. Что ни оденет, все ровно и точно.
Если одним лишь словечком всё передать – мера, то есть образчик породы мужской, совершенство. Придраться нельзя ни к рукам, ни к ногтям, ни к ступням. Ну нет у него изъяна ни одного. Хоть бы в насмешку его наградили голосом хриплым, как у павлина, хотя бы заикой позволил стать ему Яхве. Но голос певуч, с редким бархатным баритоном. Хоть бы вспыльчивый нрав был ему в наказание, однако спокоен и ровен характер, улыбка всегда на устах.
В его леты-года ровесники седели, кое-кто сверкал лысиной или проплешинами, а ему хоть бы что, волос вьется и ни капли сединки, с годами кажется все гуще и гуще на зависть любой из женщин прекрасных.
Как женщины млели, любые. Словянки, которых в городе было достаточно много, гордячки-ромейки тоже чёрные очи с него не спускали, забредавшие на шумный базар половчанки, которых самих красотой Бог не обидел, при виде смуглого ивраис (ивраис, так херсонеситы и византийцы называли евреев) рты открывали, а потом, как сказку, у круга вечернего, у костра пели про белые ровные зубы, легкие длинные пальцы и голос. Ах, какой это голос. И бессильны были передать легкий румянец смуглой чистейшей кожи его.
К тому же богат. К тому же, какой это был сын и отец, и даже примерный супруг.
И всё это счастье досталось единственной женушке иудаис, бедной и честненькой Анне.
Фанаил (Афанаил), так звали несравненного красотой, тяготится ею, как тягостью редкой, как ношей, что мучила от роду его. Как ветошь, как дрянь у дороги, готов был сбросить её, как куль с ненужной травою камкой[2], но ноша нужна и ноша посильна, потому и терпел благоверную Анну.
Ревностен был в поклонении Яхве и община гордилась своим Фанаилом, ибо не просто ревностен был, фанатичен в одном. Оно и сгубило его, наконец. Не порок, нет, не порок, фанатичная вера,
свят и безгрешен есть только Господь.
А люди все не без хотя бы одного, но греха. Нет двуного без греха или порока. Так и наш Фанаил страдал, на внешний взгляд херсонесской округи, пороком. Но не ивраис, нет, ивраис считали, что Фанаил был примерен во всем, даже в этом, на взгляд иудаис, только грешком, а отнюдь не пороком: алчен был до безмерия.
Деньги сами текли в эти руки, легкие пальцы считали монеты, почти что порхая. Денежек много было у Фанаила, ой, как много.
Любой мог придти и взять в долг, хоть ночью, хоть днем, сумму любую. Всегда и везде Фанаила улыбка встречала людей. Бархатным баритоном назывался процент, и денежка вытекала их пальчиков ровных в обветренные руки рыбалок (рыбаки), в мозолистые руки мастеровых, гончарных или бондарных, неважно. Потом втекала в тёплые руки ростовщика с немалым процентом. И снова процент, и вновь оборот звенящего византийского злата или в замену ему херсонесских номисм с отметкою «хер». Херсонес имел право чеканить монеты, он и чеканил, ставя отметку свою, сокращенную «Херсонес», для краткости – «хер».
В то утро он мало внимания обратил на приход византийских дромонов, цепочка вестей ему мало что говорила о приезде посланника, византийских монахов. Может, снова церковь откроют? Мало им, что храмы и базилики торчат на херсонесском мысу, издали с моря видать. Любой то ли корабль, то ли рыбачья фелюга, идущие с севера и востока, огибавшие прямой херсоннеский мысок, смотрели на храмы. И как было их много! Эти крестовые храмы возвели в самом центре и окраины тож не забыли. Говорят, в том храме, что около главных ворот, мощи хранились то ли Сергия, святого, то ли Вакха какого, тех древних. Мощи мощами, но вот ковчег, говорят, красивый ковчег, в коем мощи покоились или хранились. Серебряный. А какая там позолота, византийской работы, не местной. Эти ромеи, говорят, на колени падали ниц перед тем алтарем, где ковчег возвышался. Глупые люди, как будто это минора, чтобы так поклоняться. Покачал головой и тут же забыл.
Хлопоты дня торопили.
Соль! Как мог забыть он о соли. Фанаил заспешил побыстрее домой.
Если бы мог, он помчался б домой, как мальчишка, вприпрыжку. Дома ждал гость. Прибывший был налегке, ни поклажи, ни даже котомки. Всё оставалось на постоялом дворе. Гость мерил шагами плитки двора, заложив руки за спиной. Гость был не из ивраис, да суть разве в том? Соль нужна всем ивраис, ромеям, половцам диким, варварам этим (тут Фанаил был согласен с ромеями и варваров-половцев знал накоротке), булгарам, словянам, аварам и прочим.
Как Фанаилу хотелось купить промысел соляной. Озеро с солью – выгода велика, беда лишь одна. Эти ромеи промысел соляной держали в лапах своих и достаточно цепко. Догляд державный за солью, как будто скарбница какая. Фанаил лукавил, ибо соль, то действительно, была скарбницей ромеев. Озеро вечно, есть, пить не просит, яркое солнце выпарит воду, вот тебе соль и затрат никаких. Рабов на озерах жалеть не жалели, соли надобно много. Хочешь, вези в Византию, где раз в десять окупишь затраты, хочешь, своим продавай. Рыбы то сколько, понтийская рыбка – славная рыба и Таврики берега рыбой богаты. Рыбу поймаешь, да и в засолку. Огромны цистерны, те, что под землей. А соус какой, аж есть захотелось. Пару цистерен Фанаил откупил, лапы державы простирались только на соляные озера.
Нервничал гость, ожидая хозяина. Как Фанаилу удалось заполучить хоть одно озерцо? Естественно, на подставного. Опять же, что же взамен обещать, пшеничку или вино? А, может, лучше лекарства? Ах, жаль, эпидемии нет, а то бы мигом ушел залежалый товарец.
Увидев бежавшего Фанаила, придерживавшего на бегу кошель с ключами, гость успокоился вмиг: сделка нужна более Фанаилу, чем даже ему. Ну, значит, вино, не пшеничку. Пшеничку придержим: сейчас по весне или кончится осень, импорт зерна прекратится, пшеница в цене то взрастет, а куда им, этим херсакам, без пшеницы, мигом подохнут.
Утерев капельки пота взмокшего лба, хозяин издали приветствовал гостя: привет тебе, гость мой желанный!
На возглас хозяина появилась и Анна. Гость мельком взглянул на хозяйку, как все, удивился: как такая-да-никакая у Фанаила в женах? Анна привычно уловила взгляд гостя, что только скользнул без особого интереса по тощей фигурке. Лет так пятнадцать назад она бы еще попечалилась и поплакала, а сейчас уже всё отболело, отгорчилось сумраком лет.
Ах, как было прекрасно в день её свадьбы! Самый из самых, красивейших из красивых, и вдруг её муж. Подружки, соседки ели глазами счастливую Анну. Вот кто-то и сглазил: муж был спокоен, слишком спокоен, раз в месяц, а то в полтора совершит долг свой, супружеский, да как-то спокойно, как будто что Анна, что старая кошка, что самая последняя из придорожных рабынь, и всё. Ни ласки, ни счастья, полуулыбка в ответ, так он всегда и всем улыбался.
Да, Фанаил не обижал, покупал даже наряды. Как все мужья был с заботой о доме, заработке и доходах. И где то там, вдалеке, в самом конце его списка, жена.
Да, она некрасива. Если еврейка рыжа, то она или красавица или уродка. Причем первых намного, и очень намного побольше, но Анна была из вторых. Тоща. Редкость для иудаис редкие волосы, еще большая странность, редкие волосы у рыжих, до стались именно ей. Грудь даже с рождением детей ничуточку не пополнела. Бледная рыжая кожа да пара зеленых глаз, что тут особого?
Но зато она – иудаис, из самых что ни на есть настоящих иудаис. И дети её по праву рождения от матери иудаис тоже, и им не грозит манумиссия (манумиссия – отпускавшиеся на волю мужчины могли обратиться в иудаизм. Если он пытался отказаться от иудаизма или недостаточно хорошо исполнял обряды, его могли вернуть в прежнее зависимое состояние).
И синагога (в прежнем понимании синагога – собственно, собрание иудаис, а не молитвенный дом, как мы понимаем сейчас) будет всегда на её стороне, ибо она иудаис. И не просто так ивраис из тех, что рождены уже здесь, в Херсонесе, она именно иудаис, она рождена в Иудее, остальные просто ивраис. Но как они все старались называться иудаис, хитрецы. И потому она часто старалась ввернуть в разговор у колодца или в банях своё иудаис. Товарки молчали, только косились: тоже мне, тощая рыжая вобла опять принялась за своё, больше то нечем гордиться. Ой, Яхве, ой! Такому красавцу, и эта тощая дрянь. Зато дети её себя называют гордым именем «иудаис».
Но, как обычно, молчали, обходя дюже скользкую тему. Быстренько разговор переходил или на миленьких деток (как это тощая умудрилась родить двоих премиленьких деток?), или на привезенный с очередным осенним караваном судов шустрым купцом желанный товар: духи, ароматное масло, помады, колечки, посуду, желательно, естественно, из стекла. Беседа плавно переходила в мирное русло, пока Анна снова не заводила вечную песню про свою Иудею.
И снова опасный очаг возгорания женской досады, что прямо ручьем течет из русла подземной бурлящей реки, зависти лютой. А, как всем известно, среди всех времен и народов зависть, мать всех пороков именно зависть.
Как часто многие из банных товарок мечтали назло этой гордячке поймать в свои сети красавца Фанаила, мечтали – да, ой, как мечтали. Иной раз красавица местная шла на все тяжкие, заполучая наряды, духи, притирки и мази, только попался бы он в её сети, а получала в ответ горькие слезы и разочарование. Легкий поклон да полуулыбка, вот и все, на что был способен Афанаил. Нет, нет, нет, никто и не думал винить приятного гордеца. Анна, вот где причина! Точно, наверное, околдовала. Там, в далекой от них Иудее, научилась она этими тайнам, безо всяких притирок и мазей, косметики и духов она получила такого мужчину, убить её мало!
Убили бы, да только боялись.
За 15 лет жизни все притерпелось, даже страсти товарок по мужу её.
Есть в жизни любовь, что ровно ненависть. И не поймешь, ненависть это или любовь, так сильно клокочет в душе. И достается такая любовь, что не страсть, страсть, та обычно бывает недолгой. А это не страсть, это – всё. Встаешь и ложишься с одним этим пожаром то ли ненависти, то ли любви. И никогда не знаешь, не угадаешь, убьешь ты его или, наоборот, кинешься ради него в пламя иль в воду. Судьба достается такая, как правило, некрасивым. Не знаю уж, почему.
Честная Анна терпела, пятнадцать лет мучилась и терпела, терпела, страдала, молчала.
Еврейские матери детей своих любят так, что другим матерям из народов других совсем не понять. А тут просто всё: отдушиной в свет – только дети. Когда женят родители, свекровь поедом ест, а муж вовсе не любит, ты стерпишься с жизнью. Дети, вот кто твои, и чем больше их, тем тебе лучше, ты их мать, ты продолжаешь род иудаис, и ходить будешь гордо, и будешь смотреть на товарок, красивых и полных, смотреть свысока.
Да взять хотя бы и Сару. Подумаешь, родила одну дочку, правда, хорошенькую, даже больше чем надо, одна копна волос чего стоит. Украдкой мать даже подстригала Мириам длинные косы. Копна волос была ниже колена, волосы так тяготили нежную дочкину голову, особенно в дикое жаркое лето, что мать шла с обычьем вразрез, тихонько-тихонько подстригая каштановые с черным длинные пряди. Все в доме делали вид, что этого не замечают, так Мириам в доме любили. Тем более что, опасаясь взгляда дурного, Сара дочь в общую банную не водила.
Ни в дни, когда в бани ходили одни иудейки (умный эпарх добился, чтобы еврейки ходили особо, как уж умаслил стратига, то только ему и ведомо), ни в дни похода словянок, и, уж само собой, ни в дни, когда бани посещали ромейки. О, те в бани ходили по-старому. И мыться, конечно, но больше для отдыха тела и сердца восторгов. В такие дни старые банщики (между прочим, из евнухов), старались вовсю. Гипокауст (центральное отопление в банях) готовили особенно тщательно и старательно, чтобы ромейкам было тепло во все время банного дня.
Ромейкам готовили сладости, горкою фрукты грудились на краю бассейна в дорогущих вазах стеклянных, пар им подавался с особыми ароматами миндаля. Много сплетен ходило о дамских причудах гордых ромеек в банные дни. Говорят, они даже театр заказать себе позволяли. Так и смотрели то Еврипида, то Эзопа старого или даже Аристофана. Смотрели прямо из ванн или из прозрачной водицы бассейна.
Дамы с утра отправлялись в бани, и только к вечеру они возвращались домой, насытившиеся и довольные. Тайком, говорят, им подавали даже вино, нет, не по-скифски, но все же вино (вино по-скифски, вино неразбавленное).
Мужья не роптали: дамы из бани несли новостей целый ворох, там разговоры шли о том и об этом, радуйся да живи, ну, а что от хозяйки слегка и пахнуло ароматом вина, ну так что же, отоспится, и все будет ладно, зато муж узнает все новости и даже задумки стратега и катепана.
Так вот, у Сары одна только дочь, а что, толстой дуре, кто-то мешал забеременеть снова? Вот то-то же. Ущербная, точно, толстая дура. Вечно потная да вонючая Сара жалости не вызывала. А еще, видите ли, рот поджимала, когда она, Анна, про свой род иудаис ей говорила. Лучше бы слушала, дура, на ум свой короткий наматывала. Так нет, же, еще и глазёнки свои под лобик закатывала, дескать, как надоела ей Анна со своим иудаис.
Но Сара-то, ладно, она на её Фанаила и не смотрела, ей бы пожрать. Вечно ротик забит, да как рыбку любила, рыбный соус готова была у них с Фанаилом каждый день покупать, все ела бы да ела. Прорва, и только.
А вот другие, те, думая, что Анна не видит, так в банях смотрели на отвисшую грудь, пару костлявых осколков сморщенных ягодиц, что Анну аж со спины прожигало. А обернется, они мило ей так: «как там детишки?».
Банная пыткой, дома не лучше. Вот и сейчас, только в дом из банной вернулась, гость на пороге. И взгляд, как у всех: как этот красавец на ней оженился?
Анна молча смотрела на мужа: что подавать? Муж строго взглянул: иди, приоденься. Анна сменила наряд, нацепила ряд украшений и вышла во двор. Там гость и хозяин к разговору уже приступили: улыбками да посулами манили друг друга – выгода впереди. Муж отмахнулся – иди! Гость равнодушно скользнул по наряду, зацепился глаза крайком на паре браслетов и отвернулся. Гость был не местный, одет, как готт или варвар, поди разбери. В Херсонесе обычаев куча, много народа, когда и мешались, котел из людей людское месиво переваривал, выдавая потом «на-гора» породу гордых херсонеситов.
Вот, не зря же ромеи порой издевались над херсонесским нарядом мужчин: штаны им в диковину были. Им-то смешно, а как зимний ветер задует, сами тайком штаны надевали.
Из уважения к гостю Анна отправилась в самый центр двора к колодцу. Рабов отогнали на производство: в хлева, мастерские, да кладовые.
Набрала два кувшина воды. Становилось все жарче. Поставила воду на стол и удалилась: женщине иудаис в делах места нет. Пошла на второй этаж по скрипящим ступеням к себе в комнату, помечтать: ах, если бы снова в баню. Одной! Смыть следы этих взглядов, что так принижали. Глиняный пол добавил прохлады, села на пол, свернулась в комочек. Ждать. А чего было ждать? Но предчувствие горя давило. Как с утра накатило, так и давило что-то под сердцем, каменной жабой давило сердечко.
Ой, Яхве, мой Яхве, как близко – беда!
Скорбному времени – скорбный обряд
Хана Башлу («башла», «кочан», «башка» – «голова» на тюркских наречиях, в старорусской летописи Башла назван Блушем («приходи Блуш с половци и створи Всеволод мир с ими и возвратишася восвояси») похоронили по древнему обычаю на девятый день после боя.
Негоже было хоронить хана вместе с воинами его, ибо хан и после смерти оставался ханом, а не простым смертным воином, наполовину разбойником, наполовину рядовым или десятником боевой единицы, а ханом, пусть не кааном-каганом, как Тугоркан или Боняк, которым позволено и мир заключать, и долю набега решать, но все-таки ханом.
Почет хану по смерти – дань уважения к заслугам доблести прежней, по рангу давался почет умеревшим.
Атрак сам отыскал древнейший курган, но старшие говорили, что мальчик не прав.
«Послушай, сын брата нашего хана! Мы здесь зимовали?»
Племянник кивнул.
«Раз так, обычай велит хоронить. Копаем могилу. Озеро рядом, Сасык. Башла-хану будет что пить там, в далеком пути к Тенгри-хану»! (Тенгри-хан – высшее божество тюркских народов, ознаменовывает небо в самом широком смысле).
В могилу вложить ничего не забыли: стрелы и два копья – покойник был знатен. Нож в ножнах, искусный деревщик из пленных словян возился над ножнами все девять дней после погибели хана, такие фигурки зверей вырезал, что Атрак сидел долго-долго, дивясь, как заскорузлые руки пленного смерда высекали фигурки волка и льва. Он сам, как мужчина, положил дяде шестопер из восьми граней, поправил шелом и кольчугу. Чуть не забыл про кресало, опомнился, положил возле ног.
Конская сбруя стремена да удила, да пряжки поместились удачно. Атрак тщательно отер сам травою медный дядюшкин котелок до медального блеска, положил в руки дяди Башлы-хана, на пути в вечность хану все пригодится, и оружие и еда.
Пленные молча смотрели на обряд похорон: горе есть горе, пусть даже у этих, степных удальцов, что силой тащили их в земли чужие.
Отряд положил в могилу ткани и кожу, ножницы и бронзовые зеркала, конскую сбрую: стремена, удила, пряжки, изножья. К котелку положили и чашку. Дешт-и-Кипчак (Половецкая степь) хоронила вождя.
Обычай позволял близ зимника хоронить и в могиле. Немного поспорили: древний обычай требовал обряда захоронения в кургане, но жизнь торопила, а обычай позволял хоронить близ зимника (зимнего становища орды. Такой некрополь недавно отрыт близ соленого озера Сасык около порта Евпатории) в обычной грунтовой могиле. Торопило, ох, как торопило время ватагу, поредевший отряд.
Хана положили в могилу, как положено, головой на восток. Руки сложены на животе, в мощных руках сосуд. На плечах надплечья, расшитый кафтан блещет тусклой позолотой. Красные сапоги с узорочьем, штаны из тонкого руна расшиты золотом, серебром, да красной полосой длинного лампаса; вождь и в смерти, и после неё оставался вождем.
В изголовье лежит сабля кривая, чуть-чуть поодаль тулово боевого коня, самого любимого из любимых, с драгоценной конской сбруей про запас.
Тризну держали до ночи, вспоминая подвиги хана, его былые заслуги, хвалили мертвого как живого, не говоря о нём в прошлом времени. Хан еще жив, пусть бренное тело покоится в просоленной земле, душа хана покоится рядом, вкушая от дыма огнища свою ханскую долю тризны богатой. Ели и пили, хана хвалили. Поневоле вернулись к прошедшему бою, где набежавшие печенеги отбили малую, но драгоценную часть полона из Киева, где проклятые печенеги отняли жизнь у могучего хана.
Погиб хан в бою, за то слава ему, вечная слава! Красиво умер их повелитель, красиво. Принял удар не в спину отравленной дикой стрелой не менее дикого печенега, нет, саблей ударом надвое-навпил раскроил троих печенегов, могуч, хан, могуч. И живые благодарили хана за отвагу на поле брани великой, за мужество, за хвалебными речами стараясь забыть о промашке отряда, прозевавшего печенежский отряд.
Отряд был большим, да печенегов было раз в десять больше. Как еще живы остались сами впридачу с полоном, за то хану спасибо, принял удар с боевою дружиной, взял на себя печенежскую рать. Хвалили хана, поминали погибших… Хмель все сильней бил в буйные головенки, все чаще вспоминали свою поговорку: беда всегда придет на стреле печенега. (или – худые вести летят на стреле печенега).
Прощали мёртвому хану былые ошибки, прощали мёртвому хану мелкие стычки, простили. За всё хан в ответе, и за сон, сморивший его в ту злополучную ночь. Не уследил хан за стражей, позволил уснуть в противное время собаки (с 3 до 5 утра), вот и напали малорослые печенеги, вынырнувшие из степи. Как пробралась орда, непонятно, ведь стража прорыскала вечером поле, заодно прихватив пару косуль отряду на ужин, и близко следа врагов не нашли.
Последний бой Башла-Хана
Орда напала в самое темное ночи. Тихие стрелы молча вонзались в горла вмертвую спящих врагов, часть многомощной орды отделилась, ушла в Дикое поле, часть отделила спящую группку полона, пинками заставила замолчать, молча переброси ла легкие тела женщин на спины коней, намотав их косы на руки: так пленница не убежит. Кони легко и привычно уносили добычу, легкий ковыль распрямлялся, не оставляя следов ночного набега.
Основная часть печенегов разила врагов и только конский храп да непривычная вонь выдавали присутствие вражье.
Башла проснулся от конского храпа: храп половецких коней был привычен, а этот – чужой.
Вскочил, в мгновение ока оценил бойню ночную, эфес сабли привычно вжался в ладонь. И вот: свист его сабли, блики луны на острие, взмах! и голова печенега катилась кочаном, взмах! и раздвоенное напополам тело врага опускалось в ковыль, взмах! и очередная голова катилась по ровному полю. Успевал хан пинками поднять своих, еще спящих, те мгновенно включались в бой молчаливых.
Бой всегда страшен. Но! Бой он пьянит, кровь закипает, горло само раззевается криком «ура-гх!», успеваешь увидеть, как товарищи боя сражаются плеч о плеч с заклятым врагом, в пьяни боя ты скачешь и скачешь, разя недругов и врагов. Свисты стрел, конские храпы, крики людей, кровь, повсюду кровь да пониклые тела врагов и друзей, – бой он хоть страшен, но страшен своей красотой. Волнение духа, бесчувствие боли, втрое учащенные ритмы сердец, – красота боя пьянит, требуя выхода крови, энергии тела. Идет то, что мы сейчас называется скучно «выбросом адреналина».
Но молчаливая бойня в тиши лунной ночи никак не пьянила. Бойня, простая бойня баранов, вот что виделось во мраке хану Башле. Успел оглянуться, где же Атрак? Племянник молча сражался со здоровяком-печенегом. На удивление, так как печенеги народ малорослый, черноглазый и черноволосый, скуластые лица смуглы, и вообще некрасивы.
Но Атраку попался достойный противник. Великан-печенег, судя по сабле, командующий диким набегом, остервенело нападал на полуодетого племяша. Тот, одетый только в штаны да обутый в сапожки, взмахивал саблей, подаренной дядей. Великан в полном боевом вооружении, на иноходце, кусавшем жеребца племяша Атрака, тоже взмахивал саблей. Свет сабель отразился в луне, и голова великана покатилась с раззеванной пастью, черные космы мешались о влагу ковыльной травы. Глухой стук большой головы великана отсчитывал ритм: раз, два, три… раз, два, три… Пляска смерти беззвучна, пляска смерти прекрасна!
Отряд Башлы и Атрака сражался упорно: меньшинство победителей Дикого Поля не могло, не имело права покрываться вечным позором от поражения в бою с извечным врагом. Сражались и кони, сражались и люди.
Пленники, вжавшись в траву, могли только откатываться, если и успевали, от копыта дикого жеребца. Убежать, а куда во мраке ночи Дикого Поля сможет убечь хилый пленник полона? Вжаться в траву, спрятать под телом ребенка только и может пленница или пленник.
Даже если в руки случайно попадет лук или сабля, исхудалые руки не смогут стрелять, не смогут саблей махать. Просто не смогут лук да саблю в руках удержать. Да и по кому стрелять, кого саблей рубать? Что те, что другие, дикие дети диких степей («своими погаными», как назовёт их русская летопись, они станут не скоро, лет через сто).
Одни враги убивают других, не менее вражьих? Да пусть хоть все перебьются в сумраке ночи, рабам ни от тех, ни других счастья ждать не предвидится.
Бился отряд, бился молча и страшно, но дыхание боя стало ослабевать: люди есть люди, они не машины. Башла бил врагов с усердием, кошевой (кошевой, кощей – предводитель коша, кочевой половецкой единицы) любил драться, любил воевать. Азарт боя захватил его всласть, момент, как Атрак победил великана, вдохновлял хана снова и снова. От хана не отставала и вся его уцелевшая ватага. Печенеги, наоборот, потеряв самую мощную боевую единицу, ослабевали, казалось, с каждым махом сабли Башлы. Печенеги таяли в ночи, таяли в сумраке, оставляя убитых.
Однако был убит и Башла в сердце стрелой печенега. Оскалились жёлтые зубы печенежьей головушки, свист тихой стрелы и повален Башла метким ударом перённой стрелы.
Топот копыт растаял в ночи…
Ватага лишилась лучшей части полона и хана.
Хан принял смерть как доблестный воин, слава ему и хвала!
Легенды о хане будут гулять по степи, обрастая все новым и новым вранья ожерельем…
Заброшенный склеп
«Иисус же сказал им: еще недолго Мне быть с вами, и пойду к Пославшему Меня; будете искать Меня и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете придти».
При сем
Иудеи говорили между собою: куда Он
Хочет идти, так, что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние И учить Еллинов?
(Евангелие от Иоанна, 7: (33-35)«Юрко!» – голос матуси всё тише и тише. Дразнящий запах утренней свежести зелени трав, запах тёплых волос материнских и кожаный переплет коричневой книги, все улетало: сладкий обморок разлетался туманом.
Он снова в подвале, в развалинах склепа.
Узника не нужно было приковывать: исхудавшее даже не тело, а так, хилое тельце, белело через то, что некогда было рясой монаха. Холод стал так привычен, что дрожь уже не мучила бедное тело. Ребра выдавались вперед при каждом вздохе монаха, вздохе не плавном и частом, а тяжком и редком. Смрад помещения вызывал едкую тошноту.
Вошедший подавил в себе подступавшую к горлу блевоту.
«Ну, как, мы сегодня?», – с заботливостью доброй няньки вопрошал узника мрака.
Тот молча мотнул головой.
«Ну, как?», – повторил вновь вошедший. Привыкнув от света к полумраку склепа, он присел на одну из ступеней, выдолбленных из ракушняка.
И в третий раз вопрошал: «ну, как мы сегодня? Не сдохли? А то посмотри, и приоткрыл принесенную с собой корзинку. Там молоко белело в стеклянной бутыли да коричневым блеском пахнула корка хлебины.
Сиделец приподнял голову, что живым черепом колыхалась на тощем тулове, взгляд неотрывно смотрел на корзинку. Видно было, как по худому горлу катились желваки, то узник пытался сглотнуть остатки слюны.
Сидящий на ступеньке медленно-медленно открывал содержимое принесенного. Кроме хлебины, в корзинке чернела гроздь винограда. Тяжелые ягоды издавали сладкий до тошноты аромат.
Узника вырвало. С бесстрастностью автомата сидящий на ступеньке смотрел на это зрелище: эмоций не было у него.
«Как хочешь, как хочешь», – задумчиво продолжал хозяин этого действа, – «а то, может, поговорим? Опять скажешь, что меня тебе, моему врагу, должно любить? Ведь так, кажется, ваш Бог учит вас? Ну что ж, полюби меня, если сможешь. Полюби, полюби. Сдохли все твои люди, а ты полюби. Насмотрелся на них? При тебе умирали без пищи и без воды они умирали. А ведь если ты бы им приказал, были бы живы, еды бы поели, водицы б испили страдальцы твои.»
«Как ты жесток! Как ты только смотрел, как твои умирали? Ведь братья тебе во Христе, как ты говоришь, и ты позволял умирать своим братьям?», – говорил тот, что сидел на ступеньке у входа, вдыхая моря сладчайший йодистый аромат, тонкими струйками лившийся от верхних ступеней, ведших к полузапертой дверце древнего склепа.
«Видишь, как солнце садится? Не видишь, так просто поверь мне, там, наверху, уже солнце садится. Дождик прошел, все и умылось. Чистенько так, песочек хрустит, чайки летают, бакланы кричат. Весна! На Пасху на вашу будет совсем уже лето. А завтра мы празднуем Песах, не хочешь праздник с нами отметить? Хлебца отведай, испей молочка. Что Пасха, что Песах, одно и едино: от нас вы приняли Пасху, от нас. Перековеркали только слова, да смысл исказили, Новый завет напридумали тоже. Слепы и убоги. А ты так просто фанатик!»
Сидящий в углу склепа молчал. В виски тупо стучало: то ли волны морские извечным ритмом своим отдавали в висках, то ли остатки крови передавали в мозг пульсары, но шум в голове мешал слышать то, что говорил тот, напротив сидящий. Есть давно не хотелось, предложи ему манну небесную, и то бы не стал, а вот как пить хотелось! Дополз бы, дополз до белевшего сквозь стекло молока, сил бы хватило. Узник молчал, силы берег для очередного с тем, сидящим вверху на своеобразном троне, разговора. Сейчас он, сейчас наиздевается и приступит к главному, коренному.
Тот не заставил себя ожидать.
«Что, скажешь, не так?».
Узник выдавил хрипло: «Так» и продолжил: «Вы начинали, не спорю. Исход (Исход – по древнееврейски «Пасех». Праздник, в древности ознаменовавший завоевание земли Ханаанской и начало земледелия. Затем, освобождение от рабства в Египте, сорокалетнее странствование по пустыне и исход из неё.) ваш, кто же оспорит».
Сидящий «на троне» продолжил: «Смотри! Вот ты рус, русич, русин, словянин, мне всё одно, вы стали праздновать Пасху чуть больше ста лет. А мы Песах – тысячу. Вы украли нашу традицию, и, нате вам, Пасха, становится ваша? Это, значит, наш Моисей зря постарался? А ведь через него Бог освободил свой народ, с ним он скрепил Завет-союз и открыл ему свой Закон. Он единый посредник меж Яхве и нами.
А тогда вы здесь при чем? Дикие орды русов, славян, болгар и других под греками спящих, взяли нахрапом наше святое, оболгали, перекрутили, и верьте вам, нате? Расползаетесь по земле, как кара египетская, как саранча».
Голос сидящего на ступеньках поднимался и рос. Человек сам себя распалял, нанизывая на ветку памяти все больше и больше гроздей гнева. Бесстрастный поначалу голос стал хрипеть от волнения. Человеку уже не нужен был собеседник, он говорил для себя, подкрепляя сказанное цитатами из Пятикнижия.
В волнении встал, заходил по каменям склепа, отбрасывая кости и черепа. Видно, такая привычка была не впервой: по каменному полу склепа в полнейшем беспорядке валялись кости тех, что совсем уж недавно были людьми. Смрад и гниение давили на ноздри, иногда нога скользила по останкам бренной плоти пленников склепа. Костей было много, а черепов и не счесть.
Говоривший не обращал на это внимание, так, если б камушек впился через сандалий в оголенную плоть чистой ноги, досадно, и только. Вытряхнул камень и дальше пошел.
Наконец, заложив руки за спину, остановился перед сидящим в углу.
«Ну и зрелище!» – засмеялся. «И это ты мне противник? Видел бы ты себя. Космы патлаты, седым уже стал, а какой бравый был инок, худой, но все-таки бравый. Солдат! Подкорми за недельку-другую, и смело в атаку. Глаз гордый, поступь тверда. А как тебя слушались люди!»
«А где они, где?», – и театрально взмахнул прекрасными кистями рук. Сверкнули лазурные перстни на холеных длинных перстах (пальцы), звякнули стеклянным тонким звуком обручи на руках. Он на люди никогда не носил ни перстней, ни обручей драгоценных, сюда же бежал, как на праздник великий. Как на Песах собрался: в богатом уборе, драгоценным пальмовым маслом помазаны борода и волосья. Новые кожаные сандалии-коччи скрипели на каждом шагу.
Он продолжал. Обручи ему явно мешали, длинные рукава теплой одежды мешали тем более, сковывая быстроту легких движений, он с досадой поправил было обручи, затем снял их, мешали, и бросил в кошель.
Затем продолжал:
«Так где они, где? А вот они, вот!», – со злостью стал вдалбливать белые кости в каменный пол. Пол не сдавался, даже не запружинил. Кости катились по черному полу, некрасиво белея на голом полу. Сквозь камень пыталась на свет вылезти молодая трава, расчеркивая на квадраты грязный камень настила.
Черепа катились, как мячики или шары из бильярда, попадая в лузы углов.
Натешившись, успокоился. Сел на ступеньку, привычно нащупав опору для ног. Заботливо поправил меховую опушку одежды: сверху, от светлого неба хотя и тянуло прохладой, сквозняка не было и не могло быть. Склеп был надежен, как крепость устроен: кричи, не кричи, зови, не зови, а кладка прочна, камень гасил все звуки, что шли изнутри.
Успокоившись, продолжал неожиданно:
«Что дал тебе Бог? Твой Бог, что Он тебе дал напоследок? Рубище? Смотри: ни дома, ни славы, богатства ни грош. Нет ни дитяти, ни жены, ни родителей у монаха. А твоя Лавра? Выкупить не смогла? Иль не схотела? Как за соляный промысел, так мигом пригнали гонца, торговались да плакали, что соль-то ушла. А про тебя да твоих слеповерных, что шли за тобой, как слепцы на канате, кто хоть разик то вспомнил из Киевской Лавры, из мрачных пещер? Что дал тебе Бог? Молчишь?
А я за тебя тебе и отвечу – неволю! Я выкупил вас всех оптом, и тебя, и иноков и прислугу. Тысячу золотых номисм я отдал, целую тысячу! Так сдохли все, кроме тебя. И Бог твой, иль на худой конец завалященький ангел, почему к вам не пришли? Тебе что, нравилось мучиться и смотреть, как умирают собратья? Вы же друг друга братьями называете, так? Так братья твои сдыхали, корчились от жажды и хотения пищи, а ты смотрел и молился? И молился – кому?
Вы, православные, сильно кричите, что молитва спасает, молитва поможет! И, что, помогла? И кому ты молился? Апостолам? Или этой блуднице, Марие из Магдалы? Хороши же святые у вас: рыбаки, мытарь и с ними блудница».
Устал. Приподнялся, решил посмотреть на своего визави: почему тот молчит? Может, нечего возразить, или перебирает в иссушенных мозгах обрывки библейского текста из Нового завета? Знал, в Ветхом завете эти новые верующие, православные были не очень.
Разочарованно передохнул: узник сомлел. Голова свешена на грудь, седые космы некогда рыжеватых густых волосищ висели, как пакля.
«Сидящий на троне» ещё раз вздохнул. Жаль, беседы, точнее диспуты с этим последним были страсть интересны. Не убеждали, нет, но сила ума и точность суждений его визави поражала. Достойный противник попался, достойный даже его, наизусть знавшего строфы Завета. Конечно, Ветхого. Не Новый завет же читать иудею.
Поднялся легко, взбежал по ступенькам наверх, теплота дня и заходящее солнце слепили.
Как все-таки жить хорошо! И улыбнулся довольно.
Скоро праздновать, скоро!
Опять сказал им Иисус: Я отхожу
И будете искать Меня, и умрете во
Грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не Можете придти.
Он сказал им: вы от нижних, Я от Вышних Вы от мира сего;
Я не от мира сего».
Евангелие от Иоанна, 8: (21-23)Прибыли!
То ли день, то ли ночь. Темно. В склепе темно, и темно на душе. Из воздуха отбирался запах чего-то теплого, свежего, такого отличного от смрада склепа. Снова забылся.
Очнулся от дуновенья ладана. Сладко и чисто пахло в воздухе, до этого затхлом, смердящем. Со стенок склепа капало редкими каплями влаги, жадно собрал языком драгоценные капли. Стало легче, и мозг просветился. Виденья исчезли, чистый матери запах растаял в полумраке ночи. Отдаленно послышалось чистое, нежное: «Юрко, а, Юрко», и ушло в никуда.
Из полумрака послышалось лёгкое пение ветерка, дыхание свежести вновь освежило уставшую грудь.
Незнакомый запах, пахнувший йдом и солью, доплыл до ноздрей. Догадался: море, вот оно рядом. Вспомнил, как в детстве спрашивал мать, какое оно, это море? Мать говорила, может, и увидишь, какое оно, море.
Не дал Господь своей воли и моря рядом так и не видел. Как пригоняли тайными тропами к заброшенным башням Херсона, так море только разочка два и видал, когда гнали к Херсону, да когда торговались нещадно Атрак и херсак, по виду не словянин, уж больно чернявый…
Этот чернявый сторговал всю партию разом, отсчитал, причитая про бедность, византийских номисм, при этом слукавил, обманув честного половца: подкинул вместо полноценных звонких серебра монет, новые, что в двенадцать раз были дешевле.
Да и то обманул или нет, ещё и подумаешь: сам император ввел такие номисмы везде в обиход, требуя только налоги сбирать полноценной монетой. Раз император не без греха, то торговцу чего не слукавить, не накинуть доход.
Купчишка погнал партию пленных не в город, а загнал уставших до смерти людей в загон для скотины. Утром, едва рассвело, людей накормили, женщин собрали в единую кучку, на ломаном руськом сказали, что в термы погонят. Женщины оживились, слегка раскраснелись: баня! Забытый за долгий путь плена дух банного веника, чистых полатей, что пахнут деревом только в пропаренной баньке, да холодная до смерзлых зубов водица студеная, что колыхается в припарке (предбаннике), что может быть лучше для исстрадалой души?
Женщины сразу вспомнили о сущности женской, с грустью-печалью смотрели на исхудалые, прокопченные от долгого солнца руки и лица, морщины на коже, вьевшуюся в поры грязь долгой дороги.
Но близкая банька радостью чистой молодила сердца: пусть ненадолго, на час или два исхудавшее тело примет чистую радость воды, а там будь, что будет, худое впереди или благое, всё впереди, и о том думать хотелось не думать.
В легком утреннем мраке слышался гул било (до введения колоколов в обиход церковной жизни их функции выполняли било – чугунные изделия) от множества храмов. У каждого било свой звук, свой чистый тон: одни бухали, будто кашлял старик, другие пели, как молодицы, что собирались по воду, третьи детскими дискантами звонко и часто били по чугуну.
Пленники оживились: раз храмы приход собирают, значит, в городе мы? Не загнал супостат в пещерную даль, значит, в Корсуни мы?
Надежда, что слабо светилась на дне самой пропащей душонки, вновь ожила, расцветая от близости окончания плена: в христианском граде великом как пропасть христианской душе? Храмы откупят, или сердобольная чья-то душа подкинет монетку, тогда плену конец. Даже если и в рабство чернявый продаст, так душа христианская к рабству не звычна. Кончился плен, кончился плен. Кажется, вместе с билом храмов, далёких и близких, им в унисон бьётся сердце живое – плену конец!
Женщин увели, те попрощались поклоном земным с мужиками: «простите, нас, Христа ради за все!» Мужчины также, правда, по пояс, тоже прощальный, последний поклон сотворили: «сестры, прощайте. Прощайте, сестрицы»!
Хозяин отделил кучку монастырской братии, повел из загона. Шли не долго, но тяжко: ввечеру, когда солнышко село, на незнамой тропе ноги бились об острые камни, пару раз кто-то из братьев скользил ступней по краю обрыва…
А по дороге Евстратию всё вспоминался его монастырь, как сами рыли проходы, сами белили, сами подпорки мастерили кто как умел. Братия дружна. В Киеве-граде народа, что звёзд на тверди небесной, а братии мало. Однако, со временем, шли люди, прибивались людишки и монастырь оживал, но все братии мало, ибо труден подвиг духовный, ох, как не прост.
Иноческая жизнь – не суетная, мирская – суетна, полна соблазна да клеветы, монаха житие – суть дорога к небесью, мирская – земная, помрешь – и в навоз.
Воспитание жизнью
Что деньги? Отец был богат, знатно богат. Мыслил, если б жена не была христианка, оженился б вдругую и боярыню мог взять за себя, пусть поплоше, пусть даже кульгавую (хромую) да полуслепую, зачем ей глаза, что ли, мужнины куны считать да виро (приданое невесты) свое пересчитывать?
Так муженек быстро б деньжищи к рукам прибирал: грошик да грошик, а к вечеру – куна. Но развод с жёнкой, верящей в Бога, карой грозил и епископы быстро б управу нашли судейским церковным судом. Да и за что жёнку обидеть: тиха и смирна, хозяйновата, ребенка вон как пестует-балует, в храм не то десятину, несёт в каждую службу то серебра, а то злата, то плат или лал. Да нищих с убогими привечает у храма, в доме куском её никто не давился из сирых-убогих.
Потому и терпел жёнку свою. Себе признаваться боялся, что любит жену, как с первого взгляда увидел, так доси дыхание рвется, как жёнку увидит. А что с бабами путается день и в ночи, так на то он и мужик.
А если б увидел хоть взгляд жёнки на кого-то чужого, убил бы, и церковный суд, что засудил бы до страты (наказание-казнь) за гибель христианской души, пусть даже бабьей, его не пугал. Знал точно – убьёт. Но жёнка повода не давала, потому и лупил, что совесть больная злость вымещала.
Жена понимала, потому и прощала. Сыночек, тот нет!
Лет так двенадцать отроку стукнуло, как вздумал отец и его к гульбищам приучить: много в Киеве было не христианских людишек, что бегали к Перуну губы мёдом помазать, да на Ивана Купала в игрища бесовские поиграть. Много там было девушек славных, чистых, невинных, обычаем разрешавшем отдаваться любому, что на сердце падал.
Ивана Купала ночь всё мраком покроет. До сватьбы (старое русское написание слова свадьба; отсюда – сват, сватья, сосватать) девица вольна в любови. Обычай, значит, нет срама, не то что после одружин (замужества).
Церковь нещадно боролась, веками боролась, а толку? Вон, имена и то давали вторые, да первое, что родители называли, в церкви тож поважали. Хоть Грязью зовись, хоть Владимиром, а с амвона поп назовет и Грязью и Владимиром. Вон, сам великий князь Святополк, в крещении Михаил, остался в памяти народной как Святополк, в летописях писался исключительно Святополком, христианское имя его не прижилось.
Сыночек любимый, единое чадо, встал, ровно баран у новых ворот: не пойду на гульбища, на срамоту, на позорище для меня и матушки милой. Чертёнок малой, и матушку вспомнил.
Отец постоял, постоял, а что с дурнем управишь? Материнское племя, весь в мать, с ней по церквам-соборам сызмала бродит, крест не снимая. Поклоны бьет ввечеру пред образами, тьфу, прямо как бабка стара. Плюнул на чадо, отправился сам.
Отроче перед вечерней молитвой при сиреневых сумерках вслух размышлял:
«Матушка милая, ты мне скажи, разве богатство счастье приносит? Человеку всё мало: богатство есть, так почестей нету, почести есть, так здоровья замало, здоровьем Боженька не обидел, так глуп без признаков мудрости, а мудростью Бог наделил, так нет краснобайства (красноречия) иль благодати». Матушка только вздохнула:
«Боюсь за тебя я, сыночек, уж больно разумен, не по летам речи ведешь, не по сроку!
Ответа не знаю. Бог наш мне дал терпения много, а мудрости нет, не прибавил. Сходи-ка, сыночка мой, на Печеры (Пещеры), до Лавры».
Отрок к пещерам добрался ровно к полудню.
Спозаранку не стал тормошить мать: вечером слышал, как отец молча дубасил матусю. Пытался прорваться к родителям в опочивальню, так мать, распластавшись по дереву пола, только криком вздохнула: «Уйди!» И вроде тихо сказала, а он испугался.
Матери косы по полу стелились, каштановый цвет густейших волос, как ковром покрывал чистое дерево, рубашка до полу белела в полумраке спальни, блик от свечей выпячивал черно-белые стены. Отца не увидел: всё заполнила мать. Завсегда свежие губы теперь казались черным провалом, полное тело мелко дрожало в ознобе, корячился рот: «Уходи!».
Он понимал, что мать не за себя страхом дрожала, за него, чадо единое, кровушку родную. В запале от гнева, насытившись пьяным медком, отец в ухарстве воли своей мог и ему отвесить долюшку, полную боли.
Тогда не стерпел, струсил и сполз к себе, в спаленку за коморой (кладовой). До утра не спал: так было стыдно! Нет, не за мать, хотя детским умишком страдал: почему мать с ним от отца не уходят, вон деревенек сколь поблизу Киева-града. Богатством мать не скудела, он подрастал, мамкин помощник, так чего поганого слушаться да боли терпеть? Обида на мать слезой да соплями всю ночь исходила, а утречком встал да и дал стрекача за ворота.
Старец
К полудню добежал до пещеры. Погрыз по дороге морковки, так есть захотелось, но гостинец монахам сберёг: хлеба краюху да пол-цыпленка, что толстая Домна успела кинуть в котомку. Домна вроде как вовсе сном не спала: с утра до ноченьки поздней хлопочет по кладовой да амбарам, печёт, варит, парит. Вот и теперь, не спрося, куда унак подался в рань-спозаранку, перед воротами догнала, хлеба дала, горсть медяков да половину цыпленка.
Деньги сберёг, они монахам нужнее. Полакомить и цыпленком их не мешало: что там едят в пещерах-затворах? А вот морковку, что росла на заброшенном огороде, доел. Сладкий сок спелой моркови его не насытил, но домой вернуться нет мочи: к отцу на поклон – да ни за что!
Матушку жалко, да ведь Домна доложит, что он сам за ворота из дома погнался, может, матушка и простит?
Мало ли он с пацанвой по граду мотался? Вон ведь раз как собаки подрали, матушка же простила, только омыла руками рваные раны, паутинкою замотала, да ромашкой чуть не каждый день полоскала, а все жё простила. Сколько ему тогда было? Лет восемь?
А сейчас он большой, двенадцать годочков исполнилось давеча. Большой-то большой, а за мать заступиться он струсил. Слёзы обиды застили очи, вытер нос рукавом холщовой рубашки, и побрел уже нехотя к синему жерлу пещеры.
Идти к монахам ему расхотелось: придется поведать про боль да обиду на себя, зайца-трусишку, про мать и отца. Отца вообще вспоминать не хотелось, но домой возвращаться не стал, потоптался немного на пыльной тропинке, что народ протоптал к люду святому, и все ж повернулся к пещере.
Прямо на земле у края пещеры сидел старец белый-белый, бородка худая, редкие усы свисали у рта.
Оба молчали. Долго молчали.
Наконец старец промолвил:
«От себя ещё то никто, отроче уный, сбежать-то не смог и ты бежать не пытайся. Что матушку родную пожалел, молодец, душа добрая у тебя. Мать не бросай, ты ей помощник, ради тебя и живёт. И с отцом помирись, он человек неплохой, бесы терзают душу его, в храм божий грех не пускает. И тебе он – отец, отче тебе. Помнишь заповедь: чти отца своего? Прости ему, грешному…»
Старик говорил очень просто и тихо, без того тона, каким взрослые нисходят до разговора с детьми. С ним было просто, спокойно. И мальчик заплакал.
С последними детскими слезами уходило детство его. Отрочество стучалось ему в сердце, он стоял на пороге юности скорой. Отплакался, хотел доброму старичку «спасибо» сказать, ан, нет, на пороге пещеры нет никого. Только из глубинки пещеры голос послышал: «А цыплёночка забери, лучше сирым отдай. Мы, братия наша, поствуем повсечасно, цыплёночков не едим. А ты приходи, вскорости приходи, братом мне будешь и братии нашей, Юрко! Недолго, но будешь…»
Мальчишка отвесил поклон до земли щели пещеры, вздохнул, котомку с цыплёнком забросил за плечи, осмотрелся, сорвал лист лопуха, на него положил хлебушек сытный, оставил у входа в пещерку, почему-то ещё раз отвесил поклон и подался до дому.
Воспитание совестью
Вечером Домна ворчала, ворчала, насильно заставив омыть ноги в каком-то сером отваре, ворчала, кормила да всё причитала:
«Куда же побёг, голова окаянная! Без матери, без отца хлысть за порог, да куда – к монахам! Что тебе, малому, у монахов то надо? Грехов не нажил, а туда же. Мать хоть бы взял. Чисто дитятя! Двенадцать уж отроку стукнуло, а он, без спроса, без памяти геть со двора».
Ворчала беззлобно, боялась за мать, что, как кончится трескотня суетливой стряпухи, придется матери как-то сыну сказать, объяснить про ночную «потеху» отца.
Отца дома не было: пришел огнищанин, отец хлопнул дверью, оба подались за порог.
Мать долго молчала, потом начала:
«Ну, а что у монашества? Братия, как?»
Юрко с готовностью прильнул к мягко пахнущей матери, пересказывал весь свой поход через горки, холмы, ручейки и речушки. Дорожка из Киева пуста не бывала: то к пещерам люди спешили, немного, но шли, то от пещер домой ворочались.
Рассказал, как монах от цыпленка, не глядя, сам отказался.
Домна аж полными руками заплескала, что та наседка:
«Как так, котомки не видел? Ты, может, Юрочко, котомочку открывал, а он с горки и видел?»
«Да нет, же, кажу. Я котомку до пещерки не открывал ни разочка, морковки нарвал, не в котомку сложил, так, сам похрустал, мне так есть захотелось. Нет, котомочку я не открывал.»
Домна под невинным предлогом смылась из горенки и понеслась по двору новость разукрашивать-баить.
Мать с отроком остались одни. Болели за день натруженные ноги, но больше чем ноги, ныло сердечко: после ухода стряпухи ночь снова встала перед глазами.
Мать тихо сказала: «Не осуждай, не кори. Мне с ним век вековать, мы повенчаны были. Он в Бога не верит, а венчаны мы, епископа обманули, что крещеный он. Вот теперь и каюсь, прошу Пресвятую простить за обман, уж больно любила. А он добрый был, ласковый, нежный, прости сын, люблю я его.
Вот вырастешь, может, поймешь, какая тут боль и отрада любить. Хорошо, если славную себе под берешь, а, Юрко? Только любовь-то не по разбору, нагрянет, как молнией по голове, и не объедешь, не обойдешь. С ней мне не сладко, а без неё вовсе не жить. Понимаешь, мы оба – это одно…»
Увидев в глазищах дитяти недоуменье, сказала:
«Ладно, сыночек, потом…»
«Потом» не настало: все так навалилось, не до речей задушевных.
А вот: «мы оба – одно» крепко запомнил.
Да еще осталось от того ночного виденья, как отец бездушно, как будто перину бьёт-выбивает, так точно перину бьёт его мать. Эта зарубка осталась. Такая зарубка, что мальчик стал слегка заикаться, и когда волновался, и даже в покое. Его это нисколько не портило и ни разу мальчишки друзья не упрекнули, не саданули по нервам, вот, мол, заика бежит, спотыкается.
И только отец попрекал: это, мол, от пещер тебе наваждение, нечего бегать к старым монахам, что выжили из ума, раз в пещерах живут, да детей пугают и речами лукавыми портят.
Мать его заикание еще больше пригнуло, прибавило две-три сединки в густые волосся. И снова терпела, терпела, терпела, но оставалось недолго терпеть и ей, и дитяти.
Море горело
Иисус сотворил им (евреям):
Истинно, истинно говорю вам:
всякий, делающий грех, есть раб греха.
Знаю, что вы семя Авраамово;
Однако ищете убить Меня, потому
Что слово Мое не вмещается в вас».
(Евангелие от Иоанна, 8: (34, 37)И утучнел Израиль, и стал упрям,
Утучнел, отолстел и разжирел,
И оставил он Бога, создавшего его,
И презрел твердыню спасения своего
И мерзостями своими разгневали Его,
Приносили жертвы бесам, а не Богу,
И Господь увидел и в негодовании
Пренебрег сынов своих и дочерей
И сказал: сокрою лицо Мое от них,
ибо Они род развращенный, дети,
в которых Нет верности.
Соберу на них бедствия и истощу на них Стрелы мои,…
Ибо они народ, потерявший рассудок
(Второзаконие, 32, книга Иисуса Навина)Атрака сбросила лошадь! Верный конь, прошедший битвы и печенежские лавы, с детства всмоктавший запах войны, боевой конь дёрнулся, захрапел, и седок упал навзничь.
Атрак и сам испугался до животного страха: такого с ним никогда не случалось.
Атрак обернулся на стены Жёлтого города. Ужас был так велик, что не хотелось вставать, хотелось впитаться в подножные камни, залечь в самую узкую щелинку скал. Инкерманские скалы (предместье Херсонеса) стояли твердо и прочно, весь ужас длинной волной, волнами шел, настигал от Жёлтого города.
Пересилил себя, приподнялся. Вокруг тишина, давно стих топот копыт сотоварищей, они торопились к ночлегу. А он нарочно отстал: хотелось еще раз пересчитать деньги добычи, ведь золото так приятно тяжелило карман. Сладостный груз покоя не дал, хотелось считать и считать, горстями, десятками, столбиком или дорожкой. Деньги желтели, скупо бросая отблики на запылевшие камни, равнодушные к слабостям и страстям. Забрался на лошадь, чтоб посмотреть, далеко ли ускакала ватага, и на тебе, сбросила лошадь.
Раз обернувшись, глаз от картины оторвать был не взмочь: далекие корабли, что звались у греков дромоны (русское название «кубара»), продолжили свой маневр, полукругом сходясь вокруг бухты, что блестела водой близ Херсона. Бухта невелика, и кораблям тяжело совершать свой маневр. Но недаром кормчие от ромеев лучшими были, лучшими были и их корабли: корабли растянулись полукольцом, слегка вытянутым в море.
Мелкие рыбачьи фелюги так и застряли на мелководье, даже и не пытаясь уйти из полукольца громадин дромонов. Но не фелюги интересовали дромоны: что там фелюги, пузатая мелочь.
Корабли вновь повторили залп из орудий. Жерла орудий плюнули в берег, тяжелые ядра летели в зареве от огня, вой был так страшен, что конь Атрака, привыкший к степному разгулью, присел, прянув ушами, потом развернулся, – и в степь! По единой узенькой дорожке, что вилась меж камнями и скалами, кинулся в степь.
Атрак коня не удерживал: ужас вбил в землю. Он даже полуприсел, ногтями царапая землю. Ядра летели на город! Вернее, не на весь Жёлтый город: город велик, и армада дромонов не окружала весь город, нет, ядра влетали только в один из кварталов.
Бухта кипела, вода пузырилась кипящим огнем и враз почернела, даже отсюда видать, как столпы огня проникали в моря глубины, выплескивая трупы дельфинов.
Райончик пылал, и море горело!
Атраку вскользь вдруг подумалось: в старости расскажу, как море горело, так внуки до смерти засмеют. Отмахнулся от мысли: при чем здесь какие-то внуки?
Горели дома, черным дымом стелился низкий воздух, отблески пламени и пожарищ отсвечивали на морскую гладь, где ещё не кипела вода.
Криков людских и животных слышно не слышно, но маленькие фигурки метались по берегу в бессилии смерти: впереди море пылает, за пылающим морем кружат дромоны, рыбачьи фелюги догорают, треща, головешками затухая на горящих волнах.
Сзади, от центра, от храмов стоит воинов окружение с пиками и мечами, приученное колоть и рубать и давить копытами тяжелых ромейских коней. Воины не давали людям утечь от пожара, пиками тыча в людские тела.
Зрелище завораживало, манило жадным блеском близкой войны, которой костёр сам по себе красив и хорош, на него так приятно смотреть в тишине, поджав коленки, но чтобы костёр разгорался в таких вселенских масштабах, это зрелище манило сильнее, чем кровь чернокожей. Наслаждение войной впитывалось все сильнее и сильнее. Парень забыл про деньги, делёж, сотоварищей, так был красив и ужасен пепел войны.
Красота разрушения давала ему наслаждение, ужас и страх, близость войны, кипение крови, адреналин наслаждения близкой войны перекрывал страх и временный ужас.
Только сейчас Атрак вразумел, понял громаду ромеев, их мощь и величие: они могли сжечь собственный город! Пусть на окраине величайшей империи, но за что наказал их верховный правитель, их базилевс свой собственный город, город громадный?
Любопытство манило туда, обернуться назад, узнать, за что и почём такая немилость самодержца Комнина к херсонесцам?
Третий залп «греческого огня» довершал картину избиения квартала. Видно было, как маленькие фигурки людей из других кварталов застыли на стенах Жёлтого града. Люди смотрели, как и он, на бойню.
Никто, просто никто не пытался бежать, помогать или спасать, пусть даже не погибающих в пламени, а что-то своё.
Театр войны завораживал взор, и люди стояли, терпели смрад горевших развалин, трупов людей и скотины. Очумевший петух пролетел над районом, обгорелые крылья вспыхнули смрадом, кур свалился под ноги стоявших на башне. Вот снаряд из камня попал в синагогу, белые инкерманские камни летели пуще снарядов вперемешку с мрамором статуй древнейших, греческих изваяний.
Мелкие брызги камней чиркали по каменным стенам укреплений Херсона, прочёркивая в камне следы. Люди увертывались от камней, кое-кто падал, наткнувшись на камешек, что летел как снаряд. Остальные сдвигались в живую стену, не давая проникнуть к стенам последних убегавших из квартала людишек.
Те, ускользая от окружения стражи, как своей, так и прибывшей на кораблях из столицы, пробегали под крупами мощных коней, копытами давивших не вертких, подбегали к стенам валов, умоляя спасти их.
Но люди молчали. Христиане молчали.
Жалкая кучка спасшихся от бойни жалась к стенам внутренних укреплений, но ворота закрыты. Недавно смонтированные мощные стальные ворота прочно держали город в осаде. И оттого становилось ещё страшнее: осаду снаружи, от степняка ожидали всечасно, осаду внутри, такого тут отродясь не бывало.
Много жил-пережил богатый город-торжище: знавал степняков, знавал и хазарского хана. Русича Володомира, осадившего город столетье назад, и взявшего его голодом да безводьем, он испытал. Но то чужаки, варвары были, а не свои.
А тут император, свой, из стольного Константинополя приказал сжечь город, пусть даже на окраине своей мощной империи, но город то свой!
Потихоньку люди стали осознавать, что дромоны, расстреляв только квартал в Круглой бухте, стали совершать маневры отхода, направляясь к Карантинной балке и бухте. Народ валом повалил из центра, хватая все ценное впопыхах. Не скоро дошло, что бойня закончена, не война, не сражение, а чистая бойня.
Дромоны мирно пристали к тихому берегу, оттеснив из порта торговую сволочь и рыбачьи фелюги.
Воины по команде развернулись и уцелевших людишек квартала, что расстрелян был за минуты, погнали наверх, на агору, к артемидовой площади.
Христиан заставляли показывать свои крестики и отпускали. К агоре гнали только евреев.
Ввечеру остывающий от эмоций народ сам по себе собрался на торговую площадь: каждому не терпелось узнать лютой казни мотивы. От Западной стороны шла скорбная группа монахов, своих и прибывших. Лица монахов чернели от горя.
Захарий, увидев, как много народа собралось на торжище, взобрался на камень. Руку поднял и толпа, как единое существо, вздохнула и замерла.
Агора
Колыхалась толпа, обсуждала свалившиеся на бедные головы горожан события и напасти.
Недавно редкие видели чудо: над западной стороной к вечеру, после пяти пополудни, по небу неслась огненная колесница, и гром громыхал над людскими страстями. Грозы так и не было, воздух был чист, тучки иль облачка на худой-то конец не случилось, как вдруг от земли поднялась к небесам колесница в полнеба, в огне, и оттуда гром громыхал, на людской голос похожий.
Кто-то даже и клялся, что слышал, как голос с небес возвещал: «вот истинный гражданин града небесного!»
Толпа говорившим верила и не верила.
Ходили по храмам, вопрошали епископов, те отмолчались. Город стал волноваться, а тут на тебе, новое чудо – дромоны. Да ладно водой запастись иль провиантом: город богат, дань воинам жалко не жалко, отдай. Но дромоны воду не брали, с рассвета качались в порту Карантинной (бухты, одной из тридцати трёх бухт Херсонеса), а к вечеру залпами гаркнули-харкнули по кварталу евреев.
Будет тут от чего голове свихнуться!
Например, колесница: её видели многие, про голос с небес говорившие, может, соврали, но гром то слышал весь город.
А инкерманская монастырская братия закрылась в пещерах, молилась всечасно, сутками не прибегая ни к пище, ни даже к воде – почему?
Стояли на коленях в пещерах у алтарей и Богу молились, просили прощения за глупый народ, за собственное небрежение – почему?
Город мучился в судорогах сплетен, мрачных догадок: зачем дождались визита дромонов? Что задумали власти имущие, затеяли – что? От незнания, от недомолвок горожане рожали самые странные, самые страшные предположения: от грома с небес до войны с Дикой Степью.
Говоривших про голос с небес и про войну с Дикой степью высмеивали. Про голос просто не верили, а про военные действия с дикарём-степняком со сраженьем на море, так то просто нелепица. Степняки морем воевать не умели, дромоны со степью войну бестолковую не начинали бы.
Но самые из дальновидных не зря говорили, что неспроста на кораблях приплыли монахи, ой, не спроста, ведь не каждый же день с небес колесница.
И всё это на еврейские пасхальные дни. Есть от чего христианский город мутить-каламутить.
На агору собрался народ, практически весь народ Херсонеса скопился на центральной площади с вечными храмами и буйством торжища.
Захария руку поднял. Толпа замолчала. Кто-то вздохнул, собираясь прикашлять, толпа чуть не сдавила в смертельных объятиях неудачника.
Захария треснувшим от волнения голосом стал говорить на чистейшем на греческом. Толпа понимала, пусть в ней и мешались ромеи, аланы, армяне, русины, словяне и кто там еще.
«Помолимся, братия, за раба Божьего, свободного человека!», и упал на колени Толпа тоже рухнула, как один, на колени на плиты агоры.
«Помолимся», и била ударили во всех храмах. Церкви, соборы, церквушки квартальные, все от собора Влахернской Богоматери до дальних храмов у Западных ворот, все била гудели, звонили, к небесам возопили.
Как стихли звоны церковные, Захария вновь продолжал:
«Помолимся, братие, Богу Единому, за душу раба, за Евстратия!»
Толпа было вздохнула: а кто же таков? Мало ли в городе церков и монастырей, да странноприимных домов, всех иноков и не упомнишь.
Но промолчала. Захария от постов и горя говорил слабенько-тихо, но почему его надтреснутый тенорок проникал до самой глубины христианской общины.
Скоро толпа заливалась слезами. Слез не стеснялись и отцы благородных семейств, и юные отроки, что больше всего боялись, что их обвинят в умении плакать. Женщины, не стесняясь, концами платков утирали себе и детишкам потоки из глаз. Общий экстаз человеческой массы задел и аланов, да и армяне на слезу не скупились, не говоря про ромейское большинство. Настроение народа менялось, как ветер у моря: только что плакали, но тут забурлили, гневом покрылись глаза. От самосуда толпы над евреями спасал лишь Захария. Его голос твердел, хрипел от натруги, но все боле крепчал, и толпа слушалась пастыря, властно-привычно привыкшего повелевать людской массою, теперь уже не толпой, а христианской общиной древнего города.
Охрану из стратиотов и корабельных матросов толпа могла снять в едином порыве, затоптала б, бурля, но пастыря голос вливался в мозги струей правды и мощи, не давая собравшимся оставаться толпой.
Привыкшие к многодневным постам, воздержанию и стоянию в храмах, христиане и тут подчинились, взнузданные речью митрополита.
Захария продолжал:
«Убить их не трудно, но не все виноваты. Мы заединщиков (зачинщиков) уже знаем, они в казармах стратига под надежною стражей. Остальные, вы видели сами, как воины исполняли приказ.
«Император, да, сам император!», – тут толпа задержала дыхание, а священник продолжил: – «сам император дромоны прислал!».
Толпа была уж готова и на колени припасть, подчиняясь императорской воле, но так кучно стояла толпа, что повалиться на камни не вмочь никому, и продолжали стоять, замершими во внимании.
Захария продолжал:
«Виновные в казармах стратига под надёжной охраной, арестован эпарх».
Толпа разом охнула: «арестовали эпарха?»
Захария уточнил: «Да, эпарха! Командовать городом будет пока катепан…», – и немного замялся, вспоминая имя второго человека в Херсонесе.
Из-за спины кашлянул, изогнувшись в поклоне, полноватый мужчина: «Никанор, отче, меня зовут Никанор из фамилии Каматир».
Захария, оглянувшись, продолжил: «да, Никанор. Стратиг ваш в отъезде, император сам решит его участь. Нам будет надобно суд порешать по указу господина нашего, базилевса. Сейчас вам зачитают указ», и подвинулся, дав кому-то отмашку рукою.
На камень вскочил бравый посланник.
Константин недовольно посмотрел на Захарию: как это тот даже не представил его этой толпе, окружившей камень агоры?
Посланник представился сам, терпя такое уничижение. Для вящей убедительности, и еще более желая успокоить себя, он погладил красиво подстриженную курчавую, «по-ассирийски», бородку, и начал:
«Я – севаст Константин из рода Дука, это – по-нынешнему, а по-старому, я – протоспафарий». Толпе объяснять долго не надо: не простой то посланник, пусть даже просто протоспафарий (нововведение «севаст» пока не приживалось в народе, хотя сам Комнин не так уж давно был севастом), раз приехал из стольного города. Но более всего поразила фамилия: Дука! Явно родичем императрицы Ирины Дукини красавчик-посланник являлся.
Народ Византии за пятнадцать лет правления Алексея попривык, что император понасаждал, во все щели запхал-позатыкивал родственников, как своих, так и жены. А уж родственников своей матери, властной Анны Далассины, где только в империи не найдешь. Провинции, ближние и далёкие, сама столица кишмя кишели свояками, шуринами, братьями вплоть до седьмого родства. Родственнички обдирали империю, а император препятствий им почти не чинил.
Зато император в любой момент мог забрать у родственничка, дальнего или ближнего, его состояние, дабы пополнить казну, чаще всего на войну. А война была постоянна, и империя привычно жила в состоянии войн со своими, чужими, своими-чужими, чужими-чужими, и «ет-сетера».
Пурпур сандалии базилевса давил не только чужих, но более всего он давил да придавливал по крови своих.
Толпа испугалась: обдерет базилевса посланник, протоспафарий, скорее всего, из этих, из новомодных, из архонтопулов («дети вождей» – греч.) под шумок Херсонес, такой далекий от столицы, но такой богатый провинциальный. Толпа вновь всколыхнулась, ожидая сама от себя: бунтом пойти на посланника рать или всё-таки испугаться?
Константин продолжал, не заметив волнения массы:
«Я зачитаю указ базилевса!» А толпа волновалась: брожение масс, начинаясь от центра, кругами шла к окончанию, и там переживание о возможных репрессиях кошелька каждой семьи начиналося сызнова, давая опять оборот волнения масс теперь уже к центру.
Тут Захария поднял белую руку, толпа засмирела.
Указ слушали в полном безмолвии!
Лязганье металла оружия, полукруг императорской гвардии – морских пехотинцев, суровые лица солдат, властный голос Захария и кресты на грудях всех священнослужителей остановили толпу.
Захария почти грубо оттолкнул родственника императрицы.
О, как потом дорого обошелся ему этот жест, когда в уши царицы вливали рассказ о происшедшем в Херсоне. И так император пытался задвинуть патриарха и клир на задворки своей власти безмежной, и клокотала повсюду ропотом церковная власть, вместо того, чтобы поддерживать базилевса в его трудной работе. Мало того, так церковники решаются на публичные жесты, и императрица приняла свои меры.
В итоге Захария был сослан в Киев. Что, кстати, для Киевской Руси обошлось только добром дальнейшего усиления, распространения христианства.
Итак, Захария оттолкнул севаста-протоспафария, и привстал на цыпочки, почти что взлетая. Ветер надувал парусом рясу монаха, крылья рукавов взлетали, как птицы. Ощущение полета вилось над толпой, та окрылялась вместе с духовным своим поводырем. Захария продолжал:
«Казнь над предавшими веру Христову состоится назавтра, откладывать смысла не видим. Иудеям приказано прибыть на Западный холм не позже обеда, и ждать исполнения указа базилевса империи. Ослушание пресекать на корню! Списки виновных готовы, местное управление постаралось на славу»… и посмотрел в сторону катепана.
А тому хоть сквозь землю от такого внимания. Думал чиновник, что в хитросплетениях интриг он алгебру начал осваивать, а вот нет, оказалось, половину азбуки только освоил.
Выдал его Захария с дальним прицелом: теперь катепан, пережив унижение, будет верен ему, а кому же иначе? Не этому же сосунку из челяди императора, научившемуся стройно стоять, выпучив грудь, на смотрах да в карауле почетной императорской стражи при торжественных выходах базилевса в народ, да тешить услугами раздобревших на казённых откупах престарелых матрон. Да льстить безумерно своей патронессе – императрице, пристроившей очередного благородного отпрыска своего знатнейшего рода служить императору в почетной страже.
И этой толпе, думал Захария, катепан верным не будет: надолго запомнит народ того, кто может предать сегодня евреев, а завтра кто знает? Кто знает кого?
«Вам, православные, завтра всем на молебен! Водосвятный молебен проведу я у моря, близ ворот, что называются западными, проведу на рассвете. Придете?»
Общий вздох громадной толпы выдохнул: «Веди, отче, веди!»
«Символ веры» (православная молитва, квинтэссенция православной религии) закончил вече народа.
Лютка
Тёрк-шорк! Тёрк-шорк! Противный монотонный звук разбудил сладко дремавшую Лютку. Теплое солнце полудня жёлтенькими квадратиками да полосками мягко теплило дерево пола. Пахло чисто отмытой доской. Мать, что ль, старается? Поворочалась-поворочалась на длинных полатях, да ногами-то бух! И прямо в лохань. Брызги по полу, мать в стоны да «ох». И тихий смешок незнакомый… Тут Лютка совсем уж раскрыла заспанные глаза: кто в хате их?
Две незнаёмые бабуси, только что тёршие пол, легонько смеялись, смеялись так, необидно.
Мать, тон виноватый да тихий, начала с оправданий:
«Ой, утром иду по базару, там шуму то шуму!». Говорила скорее не дочке, а мужу. Шульга сидел молча, молча хлебал нехитрое варево, молча да искоса глянул на дочь, а жёнушка, радуясь такому молчанию мужа, говорила быстрее (вдруг остановит, да рявкнет на дочь):
«Иду по базару, а сего дня рыбы-то, рыбы! Не утерпела я, как барабульки не взять? Хамсы тоже вдосталь, а уж пеленгаса то пеленгаса набрала две корзины, а как мне нести? Хорошо вот, бабулечки помогли, донесли тяжесть такую».
От жеста хозяйки бабульки поднялись, покланялись низко хозяину дома, в полупоклон женке хозяина да дочке хозяина, что спит за полудень.
Хозяйка всё говорила да говорила, скорая речь выдавала полянку, «Так вот, народу сегодня, что снега на поле. Гостей много, богатых, из греков, наверное. И русичи есть, сама трех из стражи видала: по базару-то ходят, всё больше к мехам да рухляди лезут».
Хозяин, наевшись, махнул ей рукой. Жена замолчала.
Жёлтая муха летала по хате, теплые половицы богатого дома пахли домом, где дерева много, варево приживалось в утробе, и хозяин добрел.
Хозяин добрел… Повернулся к старушкам:
«Откуда вы, бабы?»
Первой откликнулась та, что одёжей похуже:
«Из-под Киева буду, хозяин! Как в лето пригнал нас поганец, так здесь и осталась. Хозяйка моя, Елена, потерялась ещё по дороге. Отбили её печенеги, на конь да и гикнули в поле. Меня никто не купил, кому я нужна, стара да тоща? Назад побрести, на то силушки нету. Так вот и перебиваюсь…»
«Зовут тебя как?»
«Боярыня звала мамкой, нянюшей, а матушка в детстве кликала Людмилой».
Хозяин присвистнул:
«Ты, глядь, тёзка дочурке! А делать что можешь?»
«Так все по хозяйству, хозяин! По бабской по части. Могу травушкой люд пользовать и лечить, что мятой, что чистотелом, за детками, вот, ухаживать со младенчества, да мало ли што? Что баба в дому делать могёт, то и могу, даром, что старая та тощая очень. Я шустрая баба!»
Хозяйка вступилась: «И впрямь, корзину самую большую несла. Не я накладала, сама захотела».
Хозяин кивнул: «Лады, оставайся! Много наешь, отработаешь. Я нахлебников не терплю».
И уже подобрее спросил у другой: «Как кличут тебя?
Та тихо, спокойно, немногоголосно: «Зовут Параскевой. Отец – Еремей».
Хозяин привстал: «Ты что ли крещёна?» В ответ только кивок.
И уже вовсе по-доброму Шульга уточнил: «Крещена давно, Еремевна? А можешь ты что?»
«Давно. Я – стряпуха».
Шульга встал, хлопнул по столу: «Ну, ладно. Живите. За Люткой втроём смотреть да глядеть, что с неё, дуры ленивой возьмешь?», – и ушел, хлопнув дверями.
Хозяйка, только моргнув на мужнину «ласку», захлопотала: «Дочка, вставай! Трошки поешь, посиди с нами, бабами».
Пока ели-жевали, новые приживалки оглядали хозяйку, но всё больше дочурку: толста была девка. Толста! В свои четырнадцать Лютка только что не катилась горошком по полу, так была пышна. А уж ленива была, на весь русский квартал ленью прослыла. И то!
«Ровесницы ей кто уже замужем, кто на сносях, про игрища уже и забыть позабыли, с колыскою (колыбелью, от старорусского колыхать=колебать) возясь-вошкаясь, а Лютка сидит себе да сидит. На гульбища ни ногой, не хочу идти, и весь сказ. Ведь насильно не поведешь, толстуху ленивую. На базар не идёт, а куда ей прикуп нести, она к вечеру только домой добредёт, спотыкаясь», – хозяйка, донельзя обрадовавшись новым ушам, все причитала да пела про дочку.
Лютка молчала. Мамина песня её не задела, мать не со зла, а с беспокойства страдала: «Вдруг дочка в девках останется, одна-одинешенька. В старости что будет с ней? Край-то чужой! Не милый же дом, хоть красивый тот край, а всё же чужой. Да, русичей много и словянов хватает, вон, целая слобода из нас прижилась в Корсуне-граде. А времена? Опасно за огорожу-то выйти, так половец лют! Что тебе печенег, что эти новые, половцы, всё в неволе не сладко, поди?»
Приживалки вдвоем, как по команде, закивали, заохали…
Так за разговорами про милую Русь перепевами провели дня остаток.
Еремеевна к печке пристала, и к вечеру ароматный дух свежих пирогов смешался с не менее свежим духом чистейших полов, желтые доски его источали то ли здешней хвои запах, то ли дух милой далекой берёзы.
Ввечеру, когда от работы ноги дрожали, на завалинку сели. Так, безо всякого уговора, называли все трое крылечко, От милого слова «завалинка» сердце теплело. Тихое солнце садилось за горы, морской аромат нес запахи йода, куры квохтали про близкий ночлег, даже Кулька и Пустобрёх, две дворские собаки, и те приутихли, наевшись.
Лютка, только что рот не открыв, слушала новые песни да сказы старух. И как то сразу стряпуху иначе как Еремевна и звать не звала, а тёзку Людмилу нянею называла.
Обе старухи мгновенно влюбились в Людмилку, по-домашнему, Лютку. Милая доброта необъятной толстушки как теплой подушкой согрела старые кости, и те сначала, слегка оробев, называть стали дочкой, потом осмелели и не иначе, как милою дочкой, и звать то не звали.
Да и то, где их детки теперь? Где их онуки? А милая Лютка, вот она, рядом, и внучка и дочка, одна на троих. Хозяйка перечить не стала – зачем? Люди с добром в дом к ней зашли, так зачем же перечить? Дочка так дочка, и быть посему.
На зоречке ранней Шульга с Еремевной подались до церкви; хозяин никак не мог склонить жену к христианству, и дочка туда же вслед за мамашей. Батюшка в храме советовал: времени, прийдет время, Бог их допустит до чаши Христовой, окунет в купель крещения чаши. Вот и терпел, а куда ж не терпеть?
Жену, а особенно, дочку любил до беспамяти: одна родилась. Бог сына не дал, дочерей других тоже. Лютка, что в тереме свет. Толста, да, не в меру, зато и добра, и певуча, птаху малую не обидит, кошку не пнёт, да псу кость всегда кинет. Да и его не иначе как тятенькой любым, не кличет, грубо не обзовёт никогда.
Встреча негаданная. Гость
К храму дорога не близка, да и не далека будет. Шли, по дороге здороваясь да толкуя с другими братьями да сестрами во Христе, что к храму в воскресный день торопились. С греками приветствовались по-византийски, по-гречески, со своими словянами в пояс поклонами, выкрестам Шульга руку протягивал для пожатия. Народу шло много, приход был большой, а по случаю праздника, воскресного дня народ валом валил в храмы родного Херсона.
После службы толпились у храма, никому уходить не хотелось. Родство душ христиан ещё долго не отпускало от паперти храма. Стояние долгое не утомляло, пусть даже и в пост, христианин учился терпеть, учился любить. Без пышности фраз, без пафоса речи в храме и ещё долго у храма всеобщая ласка любви держала людей, вот вроде как мать любит дитя. Может молчать, может ругать, может просто рядышком сесть, а маленький знает, что маменька здесь, что маменька – рядом, что маменькин свет материнской любви и в нем, и возле него ореолом. Так и у храма, как возле наседки толпятся цыплята, толпился народ.
Пора бы уходить, да люди искали поводов для разговора, все б не уйти от храма родного. В храме не поговоришь, в храме службу всю отстоишь, ногой не переминаясь. Так все же до вечера не простоишь, и народ стал разбредаться: дела да желудки пустые звали домой.
По дороге Еремеевна поздоровалась с каким-то мужчиной. Тот тоже приостановился, тепло привечая старушку, здравия пожелал и Шульге. Еремеевна, низко кланяясь в пояс, благодарила встречного за хлеб да соль, да пристанище. Мужик скромно отнекивался: «что я, зверь что ли или поганец, что не пущу двух старух к себе в хату?
Еремеевна указала рукой на Шульгу: – «вот наш новый хозяин, пустил за хлеб-соль»…
Слово за слово, мужики разговорились.
Оба роста одного, оба похожего возраста, к сорока пяти лето жизни катилось, даже бороды были похожими. Нет, на братов похожи не были, русый Шульга и новый знайомец Волк не были схожи. Волк прозвище не оправдывал. Был он не серым, а черным, только борода пегим волосом отдавала. Но крепкий мужик был видно, действительно крепкий.
Волк был ходоком за солью. Её добывали в ближних озерах да отвозили на Русь. Там торговали задорого, оттуда везли, что торговый народ на поклажу даёт. Волк да ватага торговыми гостями не слывали, соболей да куниц не возили, червленым серебром не интересовались, а вот соль, это дело другое. Получали за соль свои куны, да и домой, в тёплую Корсунь, что греками звался Херсоном.
Вот и недавно прибыли в Херсонес с дальней дороги.
Шульга не удержался, пригласил гостя в дом, уж больно новостей с Киева-града узнать захотелось. Хоть и за тысячу верст Корсунь от Киева, а всё родиной пахнет от Руськой земли.
Волк не ломался:
«К вечеру загляну. Соли гостинцем уважу». Расспросил про дорогу и пошел к людям торговым дела толковать.
По дороге назад усталая Еремеевна рассказала про знайомца:
«Как мы попали в Корсунь, так лучше не помнить, на три года слёз не хватит. А тут встретился на дороге, подобрал, что дворняг, привёл в дом. Отогрелись, отъелись, помогли по хозяйству. Работы там много, хозяйки-то нету. Один ведь живет, бобылем. Да и не бобыль вроде он. Была жёнка, были и детки. Куда делись, не знаю, но вроде как взял он их с собой как то на Русь, да попались на дороге то ли торки, то ли печенеги, нехристи, одним словом. Да при нем детей да жену зарубили. Он их в плен отдать не давал, а силушки не хватило. Вот эти каины детушек не пожалели, мать их миловать не помиловали. С тех пор и живет, как перст, один. Тяжело, а добрым не перестал быть, как видишь.
Сказал нам: «Как надоест у меня, уходите, дверь только палкой переметните, чтобы бродячие псы в дом не зашли».
Так мы и жили у нехристя доброго, Волка по прозвищу. Дома бывает он редко, видится мне, что не дела он ищет, да от себя убежать кому же позволено?. Ан, он то бежит. Вроде суров, нелюдим, а как добр. Если был бы крещёным, назвала бы его братом во Боге, а так, просто жалею его».
День был воскресным, потому на вечерню стоять нужды не было, можно было и домашним покоем дышать, наслаждаться, можно и гостя приветить ласковым словом.
Гость прибыл к вечеру.
Собаки было рванулись охаять-облаять чужого: уж больно соскучились по хорошей работе, да хозяин не дал насладиться собакам, цыкнул, и псы разбежались. Гость по обычаю низко кланялся дому, хозяину да хозяйке, чадам и домочадцам. Не краснобайствовал, а от души привечал хозяйку, отдавая гостинчик, солюшку каменную. Хозяйка обрадовалась соли, как дорогому подарку, хозяин – рассказам про Киев.
Пока суть там да дело, Еремеевна с нянькою суетились по горнице, накрывали на стол, передавая хозяйке яства нехитрые: пост он и гостя не жалует пищей скоромной, но редкостные в корсуньской-то земле губы (грибы) соленые да в маринаде, груздочки, лисички, вешенки да опята сдобрили конопляным маслицем: ешь, гость дорогой! Да по случаю воскресного дня хозяйка на блюде поставила рыбу на стол. Маленькая барабулька-султанка желтыми брюшками золотилась ошметками солнышка на столе, вареный бок пеленгаса белел посредине.
Хозяйка раз пять извинилась, что свежих хлебов нет на столе: не ждали гостей, а хлеба творят спозаранку.
Гость привстал, с легким полупоклоном хозяйке ответствовал:
«Радушие Ваше, господиня дому, слаще хлеба и меда насытит».
Хозяйка, слегка покраснев от нечаянной похвалы, отправилась на женскую половину, где Лютка да нянька сидели рядком, боясь хоть словечечко пропустить из рассказов о Киеве.
Гость насыщался недолго. Домашняя трапеза насыщала быстрее, чем приоскомившийся вкус варёной конины да вечный кулеш с дымком от костра.
Волк в краснобайстве не был силен. Так, пару фразу мог за день пробурчать. Но тут или домашние яства были виной, или радушие миловидной хозяйки да крепкого мужика, но Волк мало-помалу стал разговорчивей:
«Повстречал на пути старика, из-под Киева был или в Киеве жил, то не всё ли равно, а вот истину мне рассказал, и вам я поведаю нашу беседу. Что в Киеве видел, что старик рассказал, ты, хозяин, не торопи, я не умелец баить (говорить нараспев сказы-былины) красиво…
Дым над городом
Волк нараспев, как былину, рассказывал:
«Дым стлался над городом, черный, смердящий: несло смрадом сгоревших домов, тел мертвецов, что были не погребены. Некому плакать, некому вой подымать по брату и сыну, мужу и матери: Боняк город жёг!
Что Киев? Киев стоит. Да, разорили-сожгли поганые Берестов! Уж, чай, и лето прошло, и зима, а город оголтаться никак не могёт: пепелища на каждом шагу».
«А храмы, как, Десятинная?»
«Ты уж прости, брат-хозяин, я ведь по храмам-церквам не ходок. Десятинной не видел, наверно, сожгли половцы лютые вашу церковь. Люди бают, ни храмов, ни монастырского побытья под Киевом не найдешь. Ни тебе княжьих хоромов, ни теремов боярина или дружины, но везде шум топоров, ветер стружку по городу носит, строится Киев. Люд прибывает с волынской земли да черниговской. С Севера едут, идут, Киеву строиться надо, а местных людишек мало осталось.
Боняк лютовал: монастырские домы, что вы лаврою кличете, сжег до пепла-пожарища, людей да монахов, что оборону держали, всех умертвил. Добычу везли, аж возы скрипели: оклады икон, кресты серебра, древние книги. Да мало ли скарба на возах лежало! Местные плачут, бают про многие гибели да погибели киевлян.
Ещё люди толкуют, много таких по рынкам-базарам в одних рубищах кусок хлеба, как подаяние просят. Дал я одному такому хлебца кусочек, да конину вяленую на костре, так старик аж заплакал, вцепился в меня. Ну, я и привел его к огневищу нашему, сели вечерять. Старичина всё плакал, да приговор говорил. Хочешь, тебе расскажу?»
Хозяин часто-частенько закивал головой.
Волк продолжал, а в хате темнело, свет от лампадки освещал только угол, где грозные образа византийских икон взирали печально и беспристрастно. Тень от лампады упала на гостя, увеличивая его облик до странных размеров. Хозяин как-то и оробел.
Бабы сидели, ни живы, ни мертвы, боясь обронить хоть словечко, хоть звук: гостюшки голос глухой завораживал, намертво пригвоздив к доскам полатей.
Гость продолжал:
«Так вот, старик все печалился, что трое князей Бога Господа прогневили. Давно или недавно, а было такое, что собрались князь Изяслав, велик-князь наш Киевский, Ярославич, да Ярославичи же Святослав из Чернигова да Всеволод Переяславский в поход против половцев. Что им там вздумалось против нехристя Боняка дружины вести, я почём знаю?
Только пришли они к Антонию, что в печерах обетовал под Киевом-градом с двадцатью братьями во Христе. Пришли благословения поискать. А тот заплакал при встрече да отговаривал их: «Из-за ваших грехов и вы побеждены нечистыми будете, да в бегство уйдёте от неверных поганых! Воинов хоть пожалейте! Много потонет в реке, много в полон заберут, многие от меча упадут на сыру мать-землицу, там и останутся. Не ходите на Альту-реку, не ходите!»
Выслушали братья старца старого, пожали плечами, да долго не думали, уж больно Боняк был богатен и знатен, много добра воевал. Значит, было чем поживиться! А предлоги искать, далеко что ходить? Поход на неверных без старческого благословенья? Да что молодым, чья кровь горяча, слушать старого иссохшего старца, что годами из келии не выползал? Затворил себя в печерах, что над рекою руками иноками вырыты да с ходами по ним, сидит там, вещует.
Так или нет, думали горе-князья, нам неведомо, только разбил их Боняк на Альте реке. Сбылось предсказание старца сухого, старца святого. Его помышлением да трудами монастырский братии выстроили церковь Печерскую, что летов так десять тому освятили, ну да, при князе Всеволоде Ярославиче же было это.
Ну и что же, как быть простому то люду, раз князья наши Господа Бога прогневили, тому и открылась Русь этим поганым, беззащитная, ровно как малое дитятко.
Топчут половцы землюшку руськую, земли словянские много годков!
Вот и теперь пришел Боняк шелудивый на Русь прошлым летом, пожёг всё, пожёг, ни детушек, ни церквей не жалел, не помиловал. Церковь Печерскую тоже пожёг, монахов бил не щадя, да не жалуя. Говорят только, сам я не видел, что человек пятьдесят, иноков вроде да челяди на послушании в полон загребли. А ты, милок, откелева будешь?», – стал расспрашивать меня старичина.
Я ему рассказал, что буду с херсонесской земли, с Корсуни тёплой, что на море Русском (Черное море) стоит.
Старик покивал, покивал головою и продолжил:
«Слушай, милок, так, может, боярыню встретишь мою где на рынке? Еленою окрестили, Еленой, запомнишь? Красивая, баская (красивая) будет, спокойная да тверда. Может, враг басурманский не продал еще христианку, посмотришь?»
Я обещал, так вот завтра начну искать ту Елену. Может, и правда, на Корсунь попала, раз половцы терем сожгли, а её, люди видели, брали в полон лютые половцы. Может, жива?
А еще старик говорил, что вроде что половцы тех иноков да прислугу на Корсунь вели, на рынок богатый, невольников много ведут…»
Хозяин двора аж встрепенулся:
«Как так, монахов? На Корсунь? Сюда? Не видел, не знаю, но завтра же спозаранку пойду, попытаю (пытать-спрашивать), как так братию продавать? Не слыханно дело, не божье иноков продавать!»
Волк отмахнулся:
«То, брат, твое дело. Я в дела ваши христианские лазить не лезу, батюшка мой да и матушка тоже Сварогу да Ладе кланялись, жертвы каждый раз принося. Да я и от отца-батюшки недалече ушел, хотя ваши греки-хозяева Херсонеса нас не больно и жалуют. Вас, вот, христиан любят… Ну ладно, я не больно и жалуюсь.
А вот что народы словенские да русинские на Корсуни стонут да плачут на рынке неволи, сам, брат, печалюсь. Сколько жиды предлагали обратную дорогу оплачивать да дружину покорную одалживать, дескать, полонников приводи. Я, что, жидовин какой или князюшка лютый, что своих до полону вести? Нет, брат, куны да гривны мои честно заработаны, потом да солью посыпаны. Энтот то раз сам едва живот (живот-жизнь) свой сберег, на силу отбились. Напали в ночи, поди знай, тать то лихой, половецкая погань или жидовин старается? На личины глядеть недосуг, мы отбились ватагой да и айда по Днепрову-реке на Корсунь родную»…
Нечаянное сватовство
Давно Волк так долго речами не толковал, не баял про наболевшее. Да чистота, аромат домашних харчей, внимание радушного привечальника душу оттаивали, как будто сосульки по марту-по березню с талых крыш слезинками капают, капают, пока в легкий парок от жаркого солнышка не растаивают. Так и душа Волка, матерого мужика парочком оттаивала, отходили ледышки брони с заиндевелого сердышка.
Только собрался продолжить, как рот и захлопнул: из-за пряденой занавесочки четыре глаза-гляделки слезинками капали, да два носика хлюпали. То Лютка да нянька, осторожность забыв, из-за занавесочки посунулись. Лютка, та более смелая, чай, хозяйская дочь, наполовину круглого тела бочоночком выставилась.
Гость то и обмер! Чистые-чистые девичьи очи, круглое белое личико (местные барышни быстро хватали местный загар, а тут личико белое, как на родимой сторонушке) да синь-синева мягких теплых очей, казавшихся больше из-за омытых слезами, как солнышка лучик в сердце вошли.
Этот столп солнечного проминя-лучика в душу по всем сосулькам да льдинкам ударил, аж застыл мужик, слова не вымолвит.
Шульга понял по-своему. Цыкнул на доченьку да няньку её: эка какие нравушки вольные! Боролся Шульга, как-никак христианин, с волью язычнической, особенно дома. Да толку мало было, наверно.
Вон, выставились дурищи на гостевы речи, оно и понятно, самому интересно, сам был готов до ноченьки слушать. А дочка – шалишь! Должна приучаться скромности да послушности, а не так вот, в домашнем, чуть не в исподнем. на гостя напрашиваться.
И то. Домотканая рубашонка (как назло, Лютка давеча, как впопыхах натянула рубаху, так в ней перед гостюшкой и выперлась) хозяйке славы не придавала: дескать, дочка родная в исподнем по дому шастает.
Тут и мать тихо ахнула: дошло.
А Лютке всё нипочем, только ланиты заалели, даже вымолвить гостю успела:
«Как там, далее, было? И что в Киеве-граде, сильно безлюдно?»
Искренность девичья, розовы щеки, синие очи растопили совсем лужицы ледяные в сердце волчином: Волк влюбился мгновенно, просто сразу так – бряк, как по темечку обухом топора или кувалдою саданули. Разве видел он старенькую рубашонку? Видел только серденько доброе, чистоту неподдельную девичью да характер отцовский, упрямый.
Если бы ночь на двор тихой сапой не наступала, не ушел со двора.
Наконец понял гость, что пора и честь знать.
Договорился с Шульгой на ранок (утро) походить-порасспрашивать про Елену-боярыню да про иноков про Печерских, с тем и ушел.
Долго в ту ночь Шульгу сон не брал, все ворочался: разбередил его гость, расшевелил мужика. Да и то, жил себе припеваючи, самой большой заботой было заплот (забор) починить да дочку-девку пристроить.
А тут ровесник мужик в его же лета где только не побывал, страстей натерпелся, досыта, вдоволь. Ни покоя, ни сытости, вот где настоящая жизнь! От мысли про Волка мысль перекинулась на доченьку милую, эвон, как Волк на Лютку глазел.
Аж вздрогнул, как супружница в ухо прошелестела, как дунула: «Знать, ничего не поделать, судьба!»
Отгукнулся: «Про что ты, а? Глядь, разбудила!»
«Да куда там тебя разбудила. Вон как ворочаешься, в полатях дырку скоро провернешь. Я про Лютку баю тебе. Судьба, ей, наверно, с Волком связаться». И запела в который уж раз:
«Девка на выданье, в самом соку. На игрища не пускаешь (передразнила муженька): «игрища те бесовские, гульбища язычненские». А куда ей ходить? А, куда? На рынок, так назад сама вся упаришься, пока девку-то доведешь. Да и глаза там несытые русов рыжих достанут: кинут себе на корабль, да и айда, по синему морю. Мало, чай, девок так пропадало? Увидят голову непокрытую да косыньки, лентой подвязанные, девичьи, и вперед, хуже поганых, несыти рыжие. Что ей, век теперь в гриднице куковать? Ведь не горбата, не кульбата (хромая) какая! Личиком ладненькая, а добрая то какая! Ну и что, что толста, как опара ржаная, не всем уж красными девками быть. А слова худого про дочку кто скажет? Вон, Еремевна да нянька, даром что только прибились, а уж Люткою не нахвалятся, за дочку считают…»
Шульга промолчал.
Утренняя трапеза была короткой, от вчерашнего дня псы на заднем дворе дочавкивали рыбьи хребты, коты с задранными хвостами подгребали лапками остатки барабульки да кефали, а для людей Великий пост продолжался. Лютка с матерью давно пообвыкли: раз отец объявляет пост, значит, пост. Не особо вдаваясь в привычки отца, терпеливо хотя бы в еде соблюдали привычки Шульги.
Мать с отцом только переглянулись, увидев, как дочка выходит к утренней пище: что, значит, кончилась привычка спать до полудня?
Не успели и взвару испить, как Волк на пороге:
«Хлеб-соль Вашему дому…», – а сам на Лютку очами зырк да зырк. Лютка только светлела, да щеки пылали. Да Еремеевна от девки ну ни на шаг.
Старухи аж поругались, вернее, нянька бурчала на строгую Еремеевну: «Девка в самом соку. Пусть погутарит с хорошим-то человеком. Эка невидаль, девке со сторонним потолковать. Я в её-то лета на гульбищах-кострищах такое выделывала! Пока замуж не взяли – свобода. Эх, было что вспомнить!»
Еремеевна с досады даже толкнула товарку свою: «Не по-христиански-то было, бесов тешить. Умолкни, в христианском доме живем!»
Нянька вмиг успокоилась: «Ну как же, ну как же, я всё понимаю». И уползла за занавеску, тихо ворча про девичью красоту незайманную да нравы суровые: – «Видано дело, сами ночь да полночь по церквам выстаивают, чуть не к обеду домой ворочась, не едят ничего, вишь, постятся, так и чадо родное к тому приучать? Похудеет девка-то красная, хвори занапакостят, что тогда, а? Из века в век жили, Ладе да Лелю костры разжигали, Даждьбогу клялись, веночки плели, пояса распускали. Так нет, веру Христову им подавай..»
Хозяйка молчала. Что тут и думать: может, согласна с нянькой была или нет, только не прерывала нянькин скулеж, не перечила.
Еремеевна только вздохнула: «Ох, грех, искушение!» Да зашептала молитвы, часто кланяясь образам.
И только псы наслаждались, сыто играя с запорошенными пылью рыбьими головами, да коты на заплоте свесили лапы, дробненько постукивая ободранными хвостами по пыльному ракушняку, притворно зажмурив сытые глазки.
Шульга девке баловаться не дал: шапку на уши, да со двора с гостем отправился.
Волк и Шульга долго шли молча. Раннее солнце ещё не пекло, идти было легко, да вот разговор по-мужски так трудно было начать, и Волк неожиданно бухнул, как в колокол ухнул: «Отдашь за меня дочку Людмилу?»
Шульга аж споткнулся, потом и вовсе встал каменем:
«Как так отдать? Дочку? Так сразу? Ты же ледва-едва меня знаешь, а Лютку так раз вполглаза только и видел, да и то в полумраке да сумраке горенки нашей».
Хотел продолжать, да Волк снова: «Отдашь?»
Остановились. Молчали. Встречные да попутные с ними здоровались: одни по-гречески, иные по пояс (словяне), третьи шапки снимали, то русы да поляне, русины також. Но мужики едва здоровались, так, по привычке, всецело поглощённые своей странной беседой.
Волк уже стал набычивать шею, дескать, не отступлю, как Шульга тихо ответил: «А что мы, Лютку разве не спросим? А коли согласна, отдам, но изволь и сам покреститься, и дочку покрестим, мне внук некрещен, что супостат на пороге!»
Волк облегченно вздохнул: всего-то. Да легко засмеялся: «Хоть завтра крещусь!».
День поисков
Рынок гудел, что борты со пчелами. Издали рынок и был похож на рой, то ли пчелиный, то ли осиный, ровно гудел, ну чисто как пчёлы. Сходство на улей тем паче похоже, что кое-где и трутни ходили. То сборщики податей толстыми животами расталкивали гомон людской. Встречались и осы, жидовины шустрели, набирая гешефт. Ну чисто как осы, увидят, что пчелки собрались, раз, и туда осу подпускают. Та пожужжит, погудит, глянь, пчёлки в накладе, осы с наваром. Ходил тут и бортник-эпарх, хозяин непаханого да несеянного урожаю. Базар византийский – богатый базар!
Долго ходили мужики по торговым рядам, входили во вкус, уже почти и забыли, зачем и пришли. Волк уже было стал подряжаться за солью идти, когда повстречал знакомых перекупщиков. Вот они-то невольно и напомнили о цели похода на утренний рынок.
Один из них, хитрый, что лис, обхаживая Волка, как знающего прасола, стал понахваливать будущие барыши: «Вы же поймите, робята, я вам правду, не кривду кажу, соль нынче шибко в цене. Вон, у монахов Печерских какие соляные промыслы были, так в Дикое поле ушли, под кумана поганого, половца соли легли. Монахи-то и обнищали, поди. С початку пожары, ну, то знамо, было прошедшим летом, а теперя и соль отобрали орды куманов. Ты, я вижу, – посмотрел на Шульгу, – христианином будешь? Так помоги монахам своим-христианам, за солью поди, в стольный град Киев соль привези, и сам достатку набудешь, и монахам подкинешь сольцы!»
Мужики переглянулись: идея заманчива, и так подходила новому настроению Шульги, что Волк перекупщику пообещал заглянуть завтра утром. Распрощались, шапки надели, и пошли мужики по рынку-базару правды искать.
Про Елену-боярыню никто слыхом не слыхивал, правды не чул. И то, сколько боярынь погань угнала, разве Елену одну? Может, давно уже дома над пепелищем стенает, вдруг из полона кто выкупил? Муж или брат, сын или зять, кровушку родную из беды да неволи разве не вызволишь? Так что, может, и не доходила она до города Корсуни, раз никто не слыхал, никто не видал.
Сильно её не искали, так, для очистки совести разве. Шульга просто жалел душу её христианскую, чтоб на погибель ворогу не досталася. Пообещал свечечку боженьке затеплить, у батюшки молебен за душу её, за спасение заказать. С тем и пошли было с рынка-базара. Да все ж не пошли. Втемяшилась в голову Шульги, как гвоздем в темечке мысль торчала: неужели и вправду иноков полоном в город пригнали? Как тако статься могёт: иноков на базар? Христиан на полон в земли египетские? Быть не должно! Ан знал, какие чудеса-небылицы случаются на базарах, потому и ходил, все выспрашивал да выискивал, знает ли кто, что иноков да братии монастырской числом десять-на-пять в Корсуни-Херсонесе кому продавали? Тайком да тишком злое дело управили?
Долго ходили, а все же проведали! Пошли в храм, встретили батюшку. Грек долго выспрашивал, сведения достоверны? Было махнул рукой: может, старче из Киева просто ошибся? Ведь он сам не видал, что иноков угоняли. Может, просто половцы их, как и прочих монахов, в куски порубали? Расспрашивал долго, долго и думал. Потом отпустил. Осенил крестным знамением Шульгу-Михаила, внимательно посмотрел на Волка. Михаил заодно и спросил: как, батюшка, можно крестить язычника Волка да дочку свою, что речется Людмилой? Ведь пост на дворе, да не просто – Великий! Священник долго не думал: «Пост оглашению только подмога!» И ещё долго втолковывал, как обряд соблюсти. Подустав, уже собрались было назад. Дорога шла в гору, камешки с пылью врезались в ноги и хотелось домой, как сзади послышался шлёпанье босых ног и тяжесть чужого дыхания. Обернулись, чтобы дать дорогу усталому старцу. Догонявший их и вправду, был стар, но не немощен. Егорка, то был он, изо всех старческих сил старался догнать колоритную пару крепких славян. Догнав, замычал.
«Что тебе, старче?» Старик вновь замахал руками, показывая, что языка нет. Волк потянулся было за пояс достать кошель, да старик отмахнулся двумя руками. Сердясь скорее не на них, а на себя, потянул за полу Михаила-Шульгу, сам присел на дороге. И руками стал чертить руськие письмена.
Волк оживился: «Ну, так бы и сразу!» Читая горькие буквы, вскипал Михаил, глаза стекленели, руки сжимались в кулак. Короткие строчки были ужасны страшною правдой: так врать или шутить не мог, кажется, самый последний злодей.
Вскочил Михаил, поднял Егорку: «В храм, к батюшке, в храм!»
И потащил спотыкавшегося старика, сам чуть не бегом направил стопы к стоявшему на обдуваемом всеми ветрами холме громадному храму во имя Великого Василия. Волк, мало что понимая, пошел вслед за ними ожидать у входа в собор. Старик и Шульга-Михаил скрылись в полумраке храма, перекрестившись пред тем три раза у входа в собор.
Их долго не было. Можно так и сказать, очень не было долго. Волк приустал уже камешки в море кидать: долетят-доскачут «блины» до ближайших утесов? Уже и парой фраз перекинулся со знакомыми да соседями, спешившими с рынка с тюками да узелочками, уже полежал да вздремнул, считая облака на чистом небе, а старика да Шульги нет как не было.
Уже было подумал, что забыли про него, да другой дорожкой из храма пошли, вон сколько дорог да тропинок к храму ведет, как из храма вышли, как обессилели два человека. Враз, как состарился, смотрелся Шульга. Старик плакал.
«Эва дела!» – подумалось Волку, но в душу этим двум христианам разве полезешь?
Всю дорогу молчали.
Егорка по дороге отстал, растворился в наступающих сумерках. Волк плелся за Михаилом, как будто дорожку к дому забыл. Уже у ворот, считай, у порога жилища, Михаил как бы очнулся:
«Ну что же, пойдем ко мне в дом. Потолкуем. И с Люткой поговорим».
Таинство – впереди
Три бабы сидели в сумерках на крылечке, ждали господаря дома. Хозяйка усталые за день ноги вытянула, ощущая босыми пятками прохладу земли. Нянька сидела повыше, ладонью прикрыв себе лоб, высматривала, скоро ль хозяин? Еремеевна сидела на самом порожке: остывала печь, а приход хозяина дома требовал подогрева суточных щец.
Их и увидели запоздалые мужики.
Волк завертел головой: а где же Людмила? Лютка, закрывая за ними воротца, тихо лицом просветлела, радуясь сумеркам, что ни мати, ни отче не видят румянца лица. Так хотелось ей крикнуть: «так вот я же здесь!» Обогнать мужиков не осмелилась. Тихонько подошла за отцом ко крылечку. Волк радостно передохнул.
В горнице Шульга-Михаил скорее осел, чем присел, на дерево лавки: «Собирай, мать, на стол, разговор будет долгим!»
Молча поели, Шульга с Еремеевной перед тем благословились молитвой Господней, остальные молча пережидали, переминаясь с ног на ногу. Как всем есть то хотелось, ведь с ранней зори до сумерек синих ни макового зернышка в рот не попало.
Поели щец, настоявшихся так, что постные щи всем за праздник казались. Выпили взвару, холодненького, с погребца. Шульга аж крякнул: ох, мастерица ты, Еремеевна, и впрямь, знатная повариха!
Света не зажигали, свет от лампадки путался с лунным серебром тихого вечера. Разговор пошел задушевно.
Начал Шульга почти что с приказа: «Ну, что, мать креститься то будем?!»
Та тихо вздохнула: «Куда я уже без тебя-то. Знамо, пойду. И Лютку окрестим, кровинку свою». Тут и нянька голос свой подала: «А я как же, я?»
Михаил, скорей для Волка с Людмилой, чем для нянюшки старой, стал объясняться-поведывать про подготовку к крещению.
«Ну, наверное, будем Таинство совершать в церкви квартала. Батюшка наш из русинов, обряд на родном нам языке проведет: греческий будет вам труден. Батюшка славный, из русинов будет, я повторюсь. Византийский обряд соблюдем, но греки нам в языке не препятствуют, не то что латины. Там только по-латински обряд совершают: понять ничего невозможно.
А у нас, вот увидите, красота-то какая! Имен никто не лишит: люди брешут, злые то языки говорят на базаре, что у христиан имя матери да отца отберут, назовут как-то по-гречески. Я, вот, видите, Михаил, да все, знаете ведь, Шульгой кличут. Хотите, имя Людмиле я нареку, право имею, Волку же имя священник из святцев найдет.
Хотите стать христианами, хорошо, но для спочатку будете оглашенными, получающими наставление в истинах веры нашей в Господа Животворящего. В церкови нашей при пастве всей встанете, молитву прослушаете, что епископ нам огласит. Придете к епископу, он спросит: «желаете стать членом Церкви?» Ответите: «Да».
Лютка спросила: «И всё?»
Отец улыбнулся: «Куда там, это только начало. Я стану вам поручителем, поручусь за вас перед паствой, что искренни вы в обращении, людям не вороги, в родине (семье) достойны, что лжи на сердце не маете. Я восприемник вам буду, свидетель искренности что твоей, Волк, что дщери своей. Если не искренни вы, сейчас откажите. Понуждать и неволить не стану: выбор за вами. Лютка и Волк в один голос: «Искренни, искренни».
Михаил продолжал: «Хорошо, что вы оба словяне. Иноверцев да иудеев, язычников-половцев, даже болгар готовят к Крещению больше четыре-на-десять дней и ночей. А вам всего восемь дней разрешается. Благодать нам, словянам, матушка-Церковь ценит нас, славян и русин. Ибо сказано в книгах священных: «Желающий огласиться пусть оглашается года три, но если кто прилежен и имеет благорасположение к делу Крещенья, да будет принят; ибо ценится не время, но говение!» (Постановления
Апостольские, кн.8, гл.32.)
Время в посту и молитвах пронесется так быстро, заметить не сможете. Будете со мной да с Еремеевной ко храму ходить, будете в храме стоять, пока диакон не возгласе: «Елицы оглашении изыдите». Вы и уйдете. Молитвы огласительные будете по десять раз читать, так надо!
Ну, хватит, пока. Запомните это. Завтра начнем».
С тем Волк и откланялся, бросив на Лютку взгляд такой долгий, что девка зарделась, как тот маков цвет.
Судьбу не минуешь
Отречение от сатаны у Лютки проходило легко, Лютка если и грешила, то легкой болезнью. С Волком было сложнее. Михаил усердно водил в храм дочь и Волка, иерей с внушительной силой читал молитвы Господа Иисуса, дерзновенно запрещая нечистым духам творить свои пакости, читая, как было положено, до пять-на-три раз. Усердно иерей перед чтением молитв троекратно дул в лицо Волка, благословлял чело, уста и грудь его, многоединожды молитвы творя, и только радуясь, что при крещении сможет лишь однократно прочесть: «Изжени от него всякого лукавого и нечистого духа». Волк терпел и молчал. Надо так надо, вникать почти не вникал: честная душа его говорила, что ради Лютки всё это творится. Нет, блажью, конечно, он не считал совершаемые ежедневно походы в храм. Какая тут блажь, когда действует Божья сила!
Каждый день он видел просветленные лица присутствовавших христиан, чувствовал их неподдельную доброту и тихое счастие. И тихо, тихо, почти незаметно светлая благодать входила к усталому сердцу. Впервые за множество лет не снится ночами кошмар, с монотонностью волн приходящий годами, кошмар гибели жёнки и деток.
Слушал пояснения Михаила-Шульги о Боге, создавшем свет, видимый и невидимый, об ангелах и о тех, что не устояли в добре, и вместе с диаволом-предводителем, стали духами зла.
Михаил объяснял: «Ты не бойся, сейчас они тебя атакуют. Дух омрачается греховными помыслами, тяжко на сердце от переживаний. Ожесточается сердце, тщеславие вползает в душу, как яд…»
И тут Волка прорвало: «Каждую ночь, сейчас уже реже, снится мне сон. Не сон то, то быль. Не хотел брать жёнку с детями, малые были детишки мои. Так упросила жёнушка милая: возьми да возьми на град Киев взглянуть. Опостылела ей Корсунь без снега, без весенних ручьев. По Днепру соскучилась, что ли? Или хотела втайне к Перуну пойти, богине Ладе покланяться, сейчас и не спросишь. Ну, я и повез. Да втайне и я был не прочь, чтоб женка по бабкам-ведуньям ходила, мечтала она и калик перехожих встретить: авось, нам помогут?! Сынок у меня был нехожалый лет с трех, как искупали мальчишки раз в море, он и ослаб. Вот мать и страдала. Я – что? Уйду за солью, и шастаю по дикой степи да по русской землице. А она каждый день муки сына видала. Лекари византийские дороги очень, а наших волхлов христиане из греков выжили с Херсонеса.
Вот и пошли мы на Киев обозом…
И надо же так! Сколько раз ни ходили, на половца не попадали, а тут напали эти поганые ночью на нас. Сторожа наша ночная поснула, вот и напали. Все убегать, а мне то куда с больным дитятком на руках? И жёнку с дочкой на этих поганых разве оставишь? Сам я силен, спастись мог запросто: покидай добро нажитое да и в степь. Да что, я, сволочь какая? (сволочь – внутренности убитых животных, в переносном смысле всякая ненужная дрянь). Вот и остался, понадеялся на силушку богатырскую. Да не тут то и было, посекли нас половцы, как капусту.
До сих пор вижу во сне почему-то одно. Ни как сына конями затаптывали, ни как дочь волокли на аркане да топтали копытами, а вижу одно: как половец лютый отсекает жёнке моей головушку светлую. Волосы-то у неё были светлые-светлые, что лён по зиме. Вот и вижу я постоянно как катится голова по степи, наматывается так некрасиво на волосы дрянь со степи: козьи катышки, трава пересохшая, комья застывшей грязи с весны. Я же к телеге привязан сыромятным ремнем: хоть вой, хоть молчи!
И что диво, вишь, не поседел я с тех пор. Так и живу, сам на смерть жену да детушек повез-положил под сабли-ножи половецкие. Как выжил сам? Ужо и не знаю. Очнулся к закату другого дня, товарищи (товарищи, от слова товар: лица, занимающиеся одним делом или перевозкой) подобрали. Они же и схоронили моих там же, в степи.
Шульга промолчал: а что, будешь человеку раны зря бередить? Слабому человеку утешение, сладкий бальзам душу отравляет, сильному человеку слова утешения, чисто яд. Отравляет силу и волю, разъедает душу до ран.
Сильному нужно делом помочь, не словами. Потому и молчал.
Волк посмотрел и всё понял.
С того-то молчания и началась дружба мужская, что твёрже твердыни.
Оглашенные
Трещали-потрескивали реденько свечки, рассеивая полумрак прохладного храма. Людей было немного. Так, только свои собирались на чин оглашения.
Епископ, слегка покашливая от долгого напряжения связок, негромко рассказывал наставление в вере. У Лютки от волнения и усталости с непривычки подрагивали ноги, толстое тело тянуло прилечь. Нянька часто-часто кивала головкой, оправляя сухой ручонкой платок, стараясь выставить левое ухо поближе к оратору.
Добронрава то и дело посматривала то на мужа, то на дочурку: Шульга стоял, ровно как вкопанный, ни разу не переменув ногами, Люткины руки дрожали, поправляя шелковый византийский платок. Шёлк ткани сползал по шёлку русых волос, и Лютка старалась, чтоб шёлк не сползал с её головенки. Волк старался стоять, как Шульга, однако волнение выдавало одно: теребил часто ус. На Лютку старался вовсе и не смотреть, да – куда? Глаза всё больше и больше смотрели не в сторону усталого батюшки, а в Люткину спину. Вон, как устала, аж ручка подрагивает. Но старался внемлить строгим словам византийского обряда, так хорошо и по-руськи объяснявшего строгим батюшкой в который уж раз символ веры и апостольские поучения.
Давно, казалось, давно, пришли всей гурьбой к епископу в храм, давно поручились за них Шульга с Еремеевной, пастырь занес имена Лютки и Волка, Добронравы и няньки в катастих (катастих – церковная книга содержащая список оглашенных и членов церковной общины для молитвы и поминовения за богослужением).
Давно несли покаяние. Как раз шел Великий пост, что особо сочеталось с их оглашением. Вроде давно, а всего три денечка как минуло. Впереди еще пять дней приобщения. Еще пять дней ежедневного обращения епископа к Шульге с Еремеевной: «Господу Богу помолимся…»
И снова и снова Шульга зычным басом и певучий альт Еремеевны брали на себя долг ответа за новых овец божией церкви в деле истины веры, законам молитвы. Снова и снова священник, паства его и восприемники Еремеевна и Шульга-Михаил молились за новеньких, чтобы они отрешились от ветхости, да исполнились силы Духа Святого, и соединились с Христом.
Наконец диакон пророкотал: «Елицы оглашенные изыдите», и Лютка, втайне передохнув, выходила на свежий воздух. Шульгу с Еремеевной, остававшихся в храме до окончания службы, не ждали. Домой шли не торопко (торопко-быстро), так мать давала возможность молодым насладиться беседой.
Добронрава шла с нянькой позаду, перебирая в дороге слова молитв, но где-то с полдороги мысль перескакивала да уж и застревала на привычном, домашнем. Ругать Еремеевну не ругала, не за что было, быстро привыкла, что та всю стряпню брала на себя. Каждый день та старалась с ранней зорьки всю стряпню приготовить, но все равно и Добронраве приходилось стряпать. Нянька семенила рядом, вслух повторяя слова молитв: старческий ум так был короток!
Нянька дернула Добронраву за платье: «Слышь, Добронрава, растолкуй мне, что они там в молитвах своих поминают про нечистую силу?»
«Я сама мало пока поняла. Но вроде как от нас должны отойти нечистые духи. Надо будет после трапезы Еремевну спросить, Шульге будет некогда, они пойдут в храм про чин крещения толковать, через пять дней ужо будет крещение».
«Ох, тяжко мне старой, может, не буду я с вами креститься?»
«Ну что я скажу, решать то тебе. Еремевна все время талдычит, что без согласия креститься нельзя. Бог нам выбор дает жить в грехе или креститься. Ты, уж как знаешь, а я от мужа да зятя с дочкой отставаться не буду. Сама понимаешь: семья. Я сама мало пока понимаю, хожу вот за ними, стою, слушаю в храме, как там поют. А ведь, скажи, поют как красиво! Строго как и красиво в Божьем дому!»
«Красиво, красиво! А на воле да на свободе все одно лучше. Идешь, бывалоча, с девками по чистому полю, веночки сбираешь. Гостинец Перуну несешь. Чистота вокруг, лепота. Солнце сияет, птахи поют. Хоть на взгорочек то идешь, а не устанешь. Рось-речка тихо журчит, берёзки ну ровно танцуют, ведут хороводы…
А тут в храме строго, сурово, свечки трещат, дымом коптят… Гречанки все чёрненькие, вон как суворо (сурово) глядят и все не по-нашему, не по-словянски бормочут. Я все лучше б ходила к Перуну, мёду б снесла ему губы помазать: глядишь, упросила бы старость баюкать… Да где у этих греков Перуна найдешь!»
«Перестань, перестань, они ведь считают Перуна да Ладо нечистою силой!»
«Ахти мне, ахти! Чур, меня, чур! Ладо – нечистая сила? Скажешь, и Род?»
«Именно так! Нечистая сила и всё тут! Не-чис-тая!»
Дальше домой шли уже молча. Перебирали в мозгу житьё да бытьё, вспоминая росы да утро в родном дому, девичьи хороводы под Ивана Купала, пляски костров. И все то нечистая сила? А что тогда – чистое? Что?
Ночью старухи долго шептались: Еремеевна читала над нянькой молитвы, в сотый раз объясняя, что Бог есть един. Нянька ворчала, вспоминая хорошее, что было и было в жизни людской.
Еремеевна даже вздохнула: «Вижу я, не отрекаешься от сатаны. Хоть по пятнадцать раз, как предписано, ты говоришь «отрицаюсь», да руки ко небу вздеваешь, а толку на грош! Ну, да Господь терпелив, только три дня прошло, впереди еще пять.
Надеюсь я, отречеся.»
В Крещения день встали рано, так рано, что серый рассвет сизым туманом встретил да холодком. Пивень-петух было взъерошил последние перья, клёкнуло в горле, да снова уснул: еще рано.
Первая птичка свистнула с ветки, куча бакланов хохотала над теплым близеньким морем, отдававшим берегу гроздья тумана. Запах свежего утра, что равно запаху моря, вдыхали на полную грудь. Шли натощак: есть было не можно.
За эти восемь дней поста и ежедневных молитв все похудели, нянька так та еле тащилась. Волк на ходу подобрал толстую палку, на ходу же острым ножом придал палке вид клюки, старушка пошла побыстрее, оживилась, в шутки пустилась: «на трёх то ногах куда лучше ходить, чем на двух еле корячиться».
Как рано ни встали, а у храма уже толпился народ. Нарядно одетые девки и бабы столпились в кружок, обсуждая утренний холод: у храма прилично было на приличные темы и толковать.
Наряды гордых гречанок пестрели всеми оттенками ярко-синего цвета, кое-где отдавая золотом желтизны. Словянки были попроще. Некоторые давно одевались по византийскому обряду, только платы на русский манер да свежие белые лица отделяли их от смуглых гречанок.
Примолкли, как скоро подошли к ним Добронрава и Лютка. Еремеевна поотстала, встретив кого-то из паствы, обряжавших храм к торжеству, и, махнув Добронраве рукой, ушла в храм помогать.
Женский ряд паствы живо уставился на Лютку с мамашей: новости так приятны женскому взору. А тут толстая Лютка так приковала женские взоры, что Лютка не рада была новому платью да серёжкам с червленым серебром, что тятенька подарил на крещение. Всю дорогу радовалась обновкам, крутилась около матушки с Еремеевной, а тут глаза к долу и встала, как в оторопь, и замерла, ни жива, ни мертва.
Мать сама чуть ли дышала, нет, не от бабских взглядов да пересудов, почему-то тёкало сердце, как на пору юности пред первым свиданием с милым добрым Шульгой. Ноги то тяжелели, то становились легки, как хотелось взлететь, а в животе нарастал холодок. На озноб ужо не обращала вниманья: утра прохлада забирала своё.
Нянька вертела сухой головенкой, шепнула на ушко: «Что-то я Волка не вижу?».
Добронрава так и ухнула сердцем: ни мужа, ни Волка было не видно среди молчаливой мужской части паствы.
Пригляделась: Волк шел к паперти храма вместе с епископом и Шульгой, Добронрава коротко передохнула.
Толпа заколыхалась, как колосья пред ветром: «батюшка идет, батюшка». Подходили за благословеньем, со своими чаяниями и за требами. Священник уделял каждому толику времени, не переставая двигаться к паперти храма.
Высокий, худой: в чем только душенька держится, ряса трепалась на утреннем бризе, как на колу. Сухонькие ручки белым были белы, им вторила редкая белая борода. Лицом строг, глазами покоен да весел. На свет этих глаз люди тянулись, как овцы до пастуха. Большая толстая палка, что использовал как клюку, придавала ещё большее сходство с пастырем стада.
Паства квартала отца уважала. Словянин по происхождению, родом из Киева, он лет пять так назад был поставлен греками править церквой квартала.
Строился храм, батюшка день и ночь следил за работами, едва успевая поесть и хоть трошки поспать. Храм строился быстро, красотой поражая людей. Паства знала: батюшка светел и честен. Ни один милисиарий, гривна иль куна, номисма-безант не пристали к честным рукам. Всё шло на храм, обустроение храма требовало денег и большого труда. Старый-престарый храм был разрушен почти при Владимире, дико буйном князе словян, когда приступом тот взял Херсонес, да разрушил в буйстве своем водопроводы, храмы, строения гордого Белого города. Лютенек князь был, даже храмы не миновал, а что не разрушил, то в Киев забрал. Иконы, квадрига коней из бронзы иль меди, другие церковные ценности были Владимиром забраны в Киев, и после крещения Владимира, и до крещения, когда приступом брал Херсонес, побуждая базилевсов отдать за него в жены Анну, сестру императоров.
Но настало благоприятное время, и снова храмы отстраивались, блестели их купола, и било вновь созывали людей на молитву.
Благодаря стараниям благочинного словянского квартала и понуждаемой им пастве храм был вновь обустроен в рекордно короткие сроки, и каждая монетка, что давалась людьми, шла на храм, и только на храм.
Храм стоял на высоком холме, обдувался тремя ветрами. Жёлтый песок, специально привезенный с речных долин Южного Буга и из-под Полешья (Полешье – ныне Херсон) влажно хрустел под ногами, почти не оставляя следа под невесомым телом епископа.
Тот первым подошел к тяжелым резным воротам светлого храма. То ли синие, то ли серые глаза его, выдававшие полянина (поляне – славянское племя), блеснули на паству весёлой искрой, и пастырь начал так свою речь: «Братья и сестры мои! Сподобил Господь придти в веру нашу чад своих. Вот они – чада господни! Пусть подойдут ко мне ближе».
Лютка, споткнувшись, сильней сильного покраснела, так давило чужое внимание. Ей, не привыкшей ходить даже на рынок, быть в центре толпы, прикипевшей к ней взглядом, быть так худо, хоть плачь, а тут еще и споткнулась! Губы у девки уже задрожали, мысль промелькнула: бежать, как подхватила под руки сильная рука тятеньки. Шульга зашептал: «Дочка, не бойся! На радость идешь, не на казнь!»
Остановились у ворот храма. Лютка несмело смогла поднять глазищи на епископа. Тот улыбался светлее, чем тятенька. И Лютка вздохнула, так радостно, так чисто улыбнулась в ответ епископу храма, а тот улыбнулся в ответ, что даже окрик «нельзя» на Люткино поползновение ступить на территорию храма её не спугнуло. Оглянулась и мать встала рядом.
По взмаху священника толпа разом примолкла. Привычно встали мужчины по правую руку, женщины по левую от пастыря, все обернулись к оглашаемым чадам.
Шульга подошел к своим домочадцам, перекрестился двумя перстами, и по знаку священника оглашаемые запели Символ веры святой.
Напоследок на вопрос епископа: «Обещавшиеся ли Христу?», те разом пропели: «Владыко Господи Боже наш, призови раба твоего».
Счастливая паства мирян радостно передохнула, и все, вслед за священником вошли в храм.
Крещение
Да будет принят, ибо ценится не время, но говение!
Храм уже ждал своих детушек.
Толпа медленно разделилась на женские и мужские ряды. Женская половина блестела нарядами, сверкали в полумраке искры перстней. Разноцветье платков, как цветы на весеннем лугу. Мужская половина была строжей и молчаливей.
Хранители веры и благочестия, восприемники, взяли своих подопечных за руки: Шульга – Волка, Еремеевна одной рукой держала кисть Лютки, другой – Добронравы. Еремеевна закрутила головой: куда ж делась нянька? Да зря и крутила: той след простыл. Успела шепнуть Волку, что не пойдет в церковь да и бегом, отсидеться в берлоге его.
Положив Крест и Евангелие на аналой, иерей, убедившись, что оглашенные сняли свои пояса, повернул всех троих обличчям (обличье – лицо) к востоку, движением руки опустил их руки до долу (дол-низ, отсюда: подол, например платья. В нашем случае пол) и начал молитву, чередуя её с дуновением лиц, вдувая дыхание жизни в лица окрещаемых чад.
Возложил руки на головы: вначале на крепкую тёмную голову Волка, затем на тёмно-русую голову Добронравы, затем уж на светленькую головку юной девицы. Так брал под защиту, под кров благодати божественной.
Как бы в тумане, слушали молитвенное песнопение иерея, хора и паствы, как бы в тумане, слушали повеление иерея: «Запрещает тебе, Диаволе, Господь… да разрушит твое мучительство и человеки измет», «Бог святый, страшный и славный», до «Небесных Твоих Тайн».
После чего иерей повернул окрещаемых лицами на запад, к стороне духовной тьмы, грозно спрашивая: «отрекаются от сатаны»?
Те трижды отвечали покорно: «отречеся».
Потом повернул их снова к востоку. И «сочетаваюсь. Сочетаваху. Верую Ему, яко Базилевсу и Богу» они произносили уже не в тумане, а в светлой приподнятости идущего праздника.
Лица из паствы врезались на память: кто плакал, не скрывая слёз умиления, кто радостно улыбался навстречу, кто строго следил за чином обряда, ибо крещение дело великое есть.
Лютка обратила внимание, что священник переменил одежды на белые-белые. Риза сияла белой парчой, вышитый на спине образ Христа сиял золотыми оттенками вышивки тонкой.
Мраморная купель поражала своей красотой и чистотой, теплый белый с нежными прожилками едва заметного розоватого оттенка мрамор дышал чистой прохладой. Священник несуетно подошел к чистой воде, освятил, дабы перед крещением вода смогла омыть грехи человека.
Крестное знамение не всколыхнуло воды, священник негромко прочитывал молитву на освящение воды, обходя купель с кадилом.
Оглашаемым по правилам помазали маслом чело, ноздри, уста, уши сердце и длань (ладонь) со словами: «мажется раб божий маслом радостиво во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
Лютка, едва трепетая ноздрями, вдыхала чудный незнакомый ей аромат незнакомого масла оливок, с примесями ладана, роз лепестков, мускатного, лимонного масла, чего-то ещё, отдававшего пряностью. На душе становилось как-то чудно. Не то что печально иль страшно, нет, но как-то чудно. Как в тумане, воспринималось и троекратное погружение в воды купели. Не видела, как перед тем окрестили Волка, затем черед дошел и до женщин: сперва мать, потом её, Лютку. Покорно подняла руки для одевания белых одежд, покорно подставила голову под червлёный венец с тремя вышитыми на нем крестами, взяла в руки свечу. Так же покорно, как перед тем, подставила голову для пострижения пряди волос. Так же покорно приняла легкий крестик на тело. Крест был махонький, деревянный, искусно вырезанная на нем фигурка Христа была едва различима.
Покорность девичья была не от страха или желания услужить тятеньке с мамой. Нет, что-то тихое и благостное разливалось тоненькими ручейками по жилкам и кровушке, и почему-то хотелось запеть. Понимала, петь было явно неможно. Только сейчас Лютка смогла оглядеться, осмотреться на храм, на святые иконы.
Лютка вгляделась в образ строгой женщины в темном платке со строгим младенцем на смуглых руках, что висел на стене в драгоценном окладе. И показалось иль нет, но женщина та улыбалась ей, нет, не улыбкой, глазами. Чистый, чистый свет этих глаз шел изнутри черных очей, как лучиком света тёк и струился в грудь окрещённой.
«Богородица это», – послышалось рядом. Лютка посмотрела на говорившую: незнакомая милая лет сорока гречанка забавно выговаривала руськие звуки, и, повторив уже по-гречески «Одигитрия», отошла.
Священник по старой традиции не стал называть новых членов паствы своей именами от притчей или от вещей, а, выслушав Шульгу, Еремеевну, назвал Лютку – Ириной, Добронраву – Фотинией. И улыбнулся: хорошие у вас имена, добрые. Одна – людям милая, другая – нравом добра. Вот и будет Добронрава Фотинией, светлой, то бишь по-гречески. А Людмилу наречем-ка Ириной, по-гречески «мир».
Алексий, так окрестили Волка. Был доселе волком угрюмым, стал «защитником» рода людского.
Литургию стояли уже со всеми, принимая из чаши вино крови Бога Единого, вкушая облатку тела Христа.
Целую неделю, что была вслед за этим крещением, новокрещенные не снимали белых одежд, не омывались до восьмого дня, вплоть до разрешения новокрещеного, что значило снятие белых одежд и повязок.
…После вечерни Волк, что звался теперь Алексей, привел за руку спотыкавшуюся няньку. Та хныкала-горевала: «Не возьмет меня тепереча Добронравушка, не возьмет! Ишь, как я людей подвела. Обманула. Стыдно мне, стыдно! Я уж у тебя поживу, чай, не выгонишь?»
Волк отмахнулся: «Выгнать не выгоню, так тебе одной с тоски пропадать? Я по делам, а ты, бабка, куда же?»
За южином (ужин) Лютка, хлебая Еремеевны щи (так настоялись суточные щи, так пахли капустой томлёной, что нянька ещё во дворе слюной изошлась), посмотрела в окно, как бы случайно, и вспыхнула радостно: Алексий идет! Глянь, и няньку ведет!
Добронрава вышла на двор: «Проходите, садитесь!» Нянька с порога: «Мир-соль!»
Лютка подвинулась, усадила няньку поближе, Добронрава насыпала щец. Нянька вмиг поняла – прощена, и налетела на щи. Чай, с утра ни травинки, ни маковки в голодном старушечьем рту не бывало.
Погорелое село
Погорело сельцо, погорело! Ни бревнышка, ни головёшки нет, все пожрал огонь-пламя, пожар. Кажется, стоять деревушке сотни лет да стоять, боярина радовать. Ан, нет, все как есть погорело!
Выли голодные бабы, выли ребятки, что жались к своим матерям. Кошки, те вмиг куда-то исчезли. Собаки бродили, зализывая попёклые боковища, спускались до Припяти жар остудить. Мужики, что остались в деревне, седели прям на глазах.
Две-три живые коровы бродили, жалобно мукая: подои. Трупы животных, людские тела – всё вперемешку: пожар! Мертвяков было много: как на грех, к ночи ветер поднялся, и золотое зарево стонущего огня накинулось на село, как на добычу, терзая живое и неживое с голодной жадностью тощего зверя.
Осталось село сам на сам с горем своим да злосчастьем: подеться то некуда!
Погорело село, погорело!
И то, правда, боярин село не любил. Не вотчиной (вотчина – наследственное имение) доставалось, не даром от князя его, благодетеля за подвиги бранные (брань-война, военные действия) получил, а всего-навсего выиграл в кости у зазевавшегося унака.
Вот тот то и был из лутчих (лутчие люди-богатые, знать) людей. Лутчих то лутчих, а тятенькино имение ни за понюх отдал. Отец наживал, горбился, ночи не спал, зато в село ехали, шли добрые смерды, хорошие мужики, на подбор, сильны да могучи: тут и пахарь, и воин, и жнец и дудец в одной ипостаси.
И баб подбирали грубых (грубые – крепкие, выносливые, рослые), под стать мужикам.
Село поднималось, росло каждый день. Лес, вот он, рядышком, ветер в кронах гуляет, шумит. А в лесу, что грибов, что зверья, видимо да невидимо. Ребятне по весне да лету наслада, ягоды да грибов наберутся, и в речку, купаться. Орут, сверкают голыми тельцами в чистой реке. Знай, мать, гляди да поглядывай, чтоб девка-русалка дитя не сманила в омут речной.
Шустрая ребятня рыбу руками ловила. Поди, так оно проще, ведь пока добежишь до села за острогой, рыбка сверкнет чешуей и в глубину воды. А глубоко нырять да заныривать мать не велела: много русалок водилось, ой как много под чистой водой. Река Припять шустра и бойка, весела, озорна, но деревню весной топить не топила, наверно, любила.
Грозный Перун стоял на пригорке, губы обмазаны мёдом да маслом. Ошметья засохшей крови по тулову застыли, потоки конопляного и льняного масел застыли янтарными каплями, видно, народ жаловал идола. И грозный Перун село не обманывал: зело (зело-очень, тут-старательно) сторожил от наветов, проклятий, от лиха да печенежских набегов.
Да как-то пришли людишки от князя, Перуна в Припять-реку, да не с берега кинули, чтоб был он поближе к речным пескам-берегам. Нет, кинули в омут, где денно и нощно крутилась вода, заметая в речную глубь рыб и детей, могла когда и воина с лошадью в омут свой засосать. Девки речные людишек любили, хватали и в жерло реки на утоп.
Так мало было горя-злосчастья с грозным Перуном, так боярин Тычина в сельце появился. Долго людишек не мучил, не пёк. Покрутился разок, похвалился другой, в третий дань подсобрал. И назад, в стольный Киев-град кутить, да деньжищи проматывать. И наплевать унаку, что следом придут в сельцо сборщик податей, за плечами которого княжья дружина бряцает своими мечами да уздами гордых коней.
А теперь разбери, кто деревню поджег?
А что село подпалили, то к бабкам-ведухам (ведухи – ведьмы, ведуньи, буквально, ведающие, знающие дело и толк) ходить непотребно: с четырех сторон село занялось как раз до рассвета-зори. И, поди разбери, то ли половец сжёг, то ли чья то рука поднялась на живое, но, как третьему петуху то за петь, село и сгорело!
Боярин Тычина не в возочке приехал, прискакал со своею челядью да частью дружины из Киева града, быстренько так прискакал. И, видно не спал, погуливал где-то: бородища в капусте, из рота несет огуречным рассолом и глаза накрасне.
Проскакал по селу, вернее, по его пепелищу, гикнул, свистнул, и ошметья грязи да пепел столбом за ним да дружиной его боевой. Вот и ходи к нему, жалуйся!
Стояли, стояли смерды у тлеющих головёшек почти что до вечера, да достоялись на свои головы: к вечеру прибыли людишки из Киева, забрали всех мужиков на правёж.
Бабы снова завыли: считай, не вернут мужиков, обвинят облыжно в пожаре, и пропадай, буйная голова. Откупиться не можно: где хоть одну гривну штрафа возьмешь, коли сгорело всё дочерна, до земли. А ещё князь решит, и пойдет все потоком и разграблением (поток и разграбление, являлись высшего вида наказаниями, применявшимися, в частности, за поджог, разбой и конокрадство в Древней Руси. Мерой наказания служило обращение преступника и его семьи в рабство и конфискация имущества), поскольку обида (преступление по-старорусски) нанесена боярину немыслимая.
Решит так старый князь, на прибыль себе, селу на вечный раззор и несчастье. И боярину Тычине что то да перепадёт: хоть черна земля от пожара, но землица – его.
К Перуну пробраться в ночной то тиши пожалиться, помощи попросить, так Перун на горьком дне ила слизью покрытый сам себя выручить то не выручил, разве людям поможет?
А людям каково?
К волхвам-ведунам идти и того пострашнее: мало, что тебя самого запытают, замучают, ослепят, в лучшем случае нос урежут иль ухо (виды наказаний, применявшихся церковью к отступникам), как от греческих церковников спасенье найдешь?
Так еще при тебе тем волхвам не сладко придётся: попытают-помучают и на сосну стучать босыми пятками по вековечному дереву, вися в крепкой петле. Вон, каково оно было на Ростовской землице лет двадцать назад, про то знамы люди добредали, страхиття (ужасы) порассказывали.
Толку, что люди села были грамотными, руськие письмена (письменность древних славян, существовавшая плоть до 11 века, когда стала вытесняться алфавитом Кирилла и Мефодия) полсела освоило, знало: челобитную князю подать, а на кого? Скажут, что половцы селище подожгли. Что их, поганых, искать для правёжа? На княжий то суд?
К ночи усталые люди, как сговорились, поразбредались к своим пепелищам, валились как снопы повязаны, и засыпали.
А перед рассветом вервь (вервь – община села, всё население) разбредалась. Большая часть побрела до столицы Руси, к Киеву-граду, меньшая – по деревням да весям (весь – село) к родне, да искать доброго князя, может, пристанище даст?
Твёрдо стоящие на ногах люди за одну ночь превращались в голь перекатную, в нищету, смиренных ужей. И безобиден уж, и пресмыкается, а люди его ненавидят, убивают и бьют за ради потехи.
Нечаянная новость
Разбредались по Киеву погорельцы, искали пристанищ…
Вот таких-то людей мать и жалела: хлеба с солью завсегда погорельцу подаст. А уж если увидит дитёнка голодного, так и одежонку какую подкинет, да ещё с собой узелочек подаст.
Как-то прямо почти у ворот свалилась с ног брюхатая баба: была на сносях, еле-еле до Киева добрела. Добрых соседей, что до Киева довели, родня приютила, а беременную куда им девать? Побрела баба по граду большому, да без сил и свалилась, как сноп, у дубовых ворот.
Мать мигом послала за повитухой, да той помощь почти и не была в надобность: баба та уже разродилась, но, как положено, в бане, под присмотром старух.
Красный младенец пищал богатырски. Роженица запекшимися устами едва молвила: «прямо в отца», и сомлела. К вечеру бабки её разбудили ребенка кормить.
Мать, умиляясь видом ребенка, сказала рожавшей: «Будем крестить! Ты хоть хрещена? (хрещена – крещенная).»
Та отрицательно покачала льняной головой.
Мать только вздохнула: «Грехи наши тяжкие! Значит, будешь креститься и ты».
Молодице с сыном отвели коморку (комнатушка) в подклети (подклеть – помещение в нежилой части дома, чаще – подсобное помещение) – живи! Вскорости молодица ожила, посвежела на хорошей еде да добрых словах миловидной хозяйки.
Шептухи матери стали нашептывать: дескать, и так муженек по бабам да молодицам ходок, так то, со двора. А тут во дворе молодица, что твоя кобылица похаживает, мужик-то сдуреет.
Мать отмахнулась, дескать, пустое торочите!
Отец прибыл в это раз довольно не скоро: запылённый с дороги, усталый, но добрый. Видно, гривны да куны добре карман тяготили.
Поутру, увидав на дворе молодицу, заиграл блудовато глазами, плечи свои распрямил – красавец! Пошептухи затявкали да завздыхали: пригрели, дескать, беду на порог. Ан нет!
Как узнал, откуда прибрела в дом роженица, враз озверел: «Выгоняй, жёнка, приблуду из дома, гони! А то сам и её, и последок её, и тебя за ворота да и в пыль.»
А мать как встала да выпрямилась, ровно лесина: «Не дам загубить христианские души!»
Отец и осел. Осёкся. Прохрипел только: «Я тебе это припомню!»
И, вправду, куда ему было их выгонять? Князь да церковные вмиг бы его самого в кандалы заковали: нехристей князь не любил, а уж гонение на христиан пресекал на самом корню да на донышке.
Но так невзлюбил молодицу с приплодом, что аж зубами скрипел, как мимо него проходили. Та уж старалась на глаз хозяину не попадаться, а перед матерью преданно расстилалась. Любую работу, что поручали, делала за двоих, а когда за троих, и всё крест целовала, что спас жизнь ей и дитяти. Любила с коровами долго возиться, так те молоко вдвойне приносили. Сынишка, как на дрожжах, рос-подрастал, матери в радость, людям забавой.
Раз, как стадо домой в хлев повернулось, мать пришла к молодице за парным молочком для Юрочка.
А та в слезах да соплях, подолом слезу утирает, да крупный горох недевичьих слёз катился, катился по загорелому личику.
Мать к ней: «Говори, кто обидел?»
Та кинулась в ноги: «Прости, за грех гнева, прости!»
Мать удивилась, закрыла дверь в хлев и приступила к расспросу: «Пытаю (спрашиваю) тебя, что случилось?»
«Нет, матушка, нет!» И снова слезы горохом в солому настила.
Потом кое-как успокоилась, и повела: «Пошла нонче на пастбище коров подоить. А там в пастухи поднанялся Тхорь, дед колченогий, что в соседях у нас проживал. Их всех мужиков, как после пожара забрали до Киева, мы и не видели. Увели тогда и моего Ворона. Мы ведь год как живём… Поправилась: «жили».
И снова слезы горохом. Хлюпая носом, продолжила: «Так я на пастбище деда и встретила. Их, как в Киев забрали, ночью на боярский двор привели. На правёж. Оно бы и ладно, может, князь да боярин отходчивы будут, разберутся, поймут, что нечего смердам (крестьяне, простолюдины) свои дома жечь-поджигать. Поймут, что чужие село подожгли, да отпустят на новые земли. Да куда там, куда? Их и слушать не стали. Вышел Тычина-боярин, выстроили мужиков, он всех обошел, заставил силу свою показать. Даже зубы оглядывал.
А потом всех, кроме колченогого, со двора увели. А дед слышал, как боярин говорил кому-то в ночи за ворота: «Слышь-ка, продай их жидам подороже! А то я знаю тебя: спустишь половцам товар побыстрее, абы домой скорей возвертаться. Так я тебе дам! Вишь, каких я тебе полонян подогнал, один краше другого, все на подбор мужики. Смотри у меня!»
И тут молодица слезой подавилась. Сквозь кашель и хрип простонала: «Дед говорит, что боярин имя хозяина нашего называл. Я думала, может, ошибся, а он знай талдычит одно: «Я хоть и колченог на одну ногу, но уха два слышат исправно. И все жалел меня, даже заплакал».
Помолчала. Потом, как в снег головой: «Уйдем мы от вас в добрые люди. В край случай, при монастыре на печерах пристроюсь шить-вышивать. Отпусти!»
Мать как-то сразу сгорбилась, пожухлела, как лет сто на плечи повесила. Молча встала, ушла.
В горнице напоила заболевшего Юрка молочком, сладкий пар поднимался над корчажкой, белела теплая пенка в темном сосуде.
Погладила сына по теплой головке и прошептала одно:
«Богатство – великая тягота, страшно мне, страшно!»
И потом долго молилась чуть не полночи, отбивая поклоны ликам суровым образов чистых и светлых Спасителя и Пресвятой.
Молчали иконы, свеча догорала, трещало в лампадке деревянное (конопляное масло, подсолнечного масла тогда еще не существовало на Руси) масло, коптило, чадило.
И в полусне, забытьи ей чудилось, как муженёк гонит рабов, сечет их нагайкой. И боярин Тычина смеётся деньгам, нимало ему не печально, что собственную деревеньку пожёг. А что ему деревенька, земля-то осталась. А людишки придут, куда им деваться от княжеской власти да его произвола!
Папа Климент
То ли сон, то ли явь…
Чудится море, беззвучно оно в ночной тишине. На небольшой глубине видится исхудалое тело, и вместо камня на шее якорёк, даже якорь. Берег невдалеке, волны беззвучно вползают на серый песок, также беззвучно ползут снова в море, оставляя черный песок.
Это не речка, не Лыбедь или Славутич, нет, это явное море. Пусть видел его только сдалу да мало, и днем, и сейчас видно – море. Не зелёное или голубое, а черное море, в котором совсем неглубоко колышутся стебли темно-зеленой травы, бесшумно ныряют дельфины. О том, что это именно дельфины, догадался, видел их на фресках столетнего храма. Они подплывают к лежавшему с якорем на тонюсенькой шее человеку. Дельфины носами его не торкаются, плавают рядом, вроде, как и охрана ему?
Совсем рядом крошечный островок. Как будто заранее знал, почему то сам понял, что это рядом с бухтой Казачьей (старинное название бухты не сохранилось), здесь, в Херсонесе.
На островке крошечный храм, ангелами строенный и поднятый над гробницей. То ли храм, то ли монастырёк, но явно что-то очень родное и тёплое видится в беззвучии ночи. Под храмом могилка, к ней узенький лаз с арками для прохода.
Заброшено все, запустело….
Но каждый год в урочное время отступает море от берега, и так много, много веков стелится море, и отступает, чтобы снова закрыть от глаз посторонних маленький храм и гробницу.
И каждый год в это время видятся толпы народа, что с берега ждут очереди на ладьи. Ладьи тихо снуют от островочка к пристани малой, видится громада маяка, серые камни которого высятся вдалеке. На ладьи садится епископ, братия со свечами, на островке сооружают алтарь. Беззвучно молится весь народ не день или два, а все восемь служится Литургия. Быстро-быстро проносятся кадры исцеления больных, бесноватых и незрячих прозрение.
Рукой отогнал это видение: может, опять искушение от нижних?
Видение не исчезало, не таяло в серо-беззвучном тумане. А перед глазами опять островочек, покрытый волнами, от храма остались руины. Ни человечка не видно, ни братии бедной, ни исцеленных.
Только века проносятся звездною пылью над берегами Тавриды.
Третье видение: братия во главе с седовласым Кириллом, Константином в крещении, рядом епископ Георгий, избранные мужи от имератора-базилевса Михаила III и весь Софиевский клир, братия местного храма, певчие, горожане. Все плывут на большом корабле к затонувшему островку.
Видно, студёно: люди озябли, море холодно, нет ни дельфинов, ни рыбы морской. Лунным сияньем покрыты волны морские, свет от луны заливает людей, по колена в воде бредущих по островку. Они ищут могилу. Беззвучно открывается рот регентом хора, беззвучно читаются строки канона.
Остановились, достали заступы, роют в холме, что чуть виден над морем. Видно, долго копали. День хмурый стал виден, озябшие руки людей разрывают могилку, а в глубине ее рака с мощами и якорь.
Высокий седой поднимает раку над головою, поставил на голову, несёт на корабль. Толпа с песнопеньем (видно, как рты открывают), спотыкаясь о камни, следом за ним. Рядом с седым сухопарый епископ не отстает.
Солнце клонится к закату. Впереди Херсонес, стадиев в двадцать (примерно пять-семь километров). Тихо сходят на берег, бредут по дороге. Маяк позади, проторенной дорогой от маяка до Херсона идут, песнопенений не прекращая. Видно, как старые, измождённые руки трясутся, едва удерживая раку с мощами, ноги в пыли и ракушках морских, обувь худа, камешки режут пальцы и ступни, а седой все идёт, с дыханьем тяжелым.
А от города встречь им огни, очень много огней. Это не города маяки или храмов больших освещение. Огонёчки маленьки, но их много, так много, как россыпи ромашек на вешнем лугу. Желтенькие теплые огонёчки медленно-плавно движутся навстречу бредущим от маяка. Дорога широкая, шириной в десять метров, вся заполнена людом, у каждого свечка горит. Толща ограды дороги тоже заполнена людом, все движутся встречь седому Кириллу.
От массы людей отделяется главный, по виду стратиг, он подхватил из поднятых рук просветителя раку, якорь забрали лучшие люди, верные мужи. Народ развернулся и двинулся к храму, что высился на холме близ Западных ворот Херсонеса.
Смеркалось, темнело, злой ветер стужил: февраль! Был день трехсвятительский – праздник. Масса народа, масса монахов стояли в молчании, догоравшими свечками согреваясь да дыханьем соседей.
Общий экстаз общей молитвы епископа, стратига, седого Кирилла-Константина и народа Херсонеса, так встречали папу Климента, обретавшего вновь покой и посмертную вечную славу.
В первую ночи стражу (около 9 часов вечера) народ разошелся, как после всенощного бдения. В стойком молчании Константин да несколько верных, без хора и певчих, несли раку в дом святого Леонтия. Шли вдоль береговых стен, крепостной ограды, и через калиточку узкую попали, наконец, в монастырь.
Как во дни великого праздника христианского, у раки священники бдили со всенощным стоянием и пением. До полуночи пели монахи, после сестрицы из монастыря да благоверные жены. Чужих певших сменяли свои, монастырские сестры дожидались заутрени за пеньем молитв.
На заутреню службу вновь собирался народ. Кто вовсе спать не ложился, кто вздремнул пару-тройку часов, кто выспался добре. К литании все были готовы (литания – поминальное молитвословие за усопших).
В западной части храма, где стоять положено по уставу, паства вместиться не в мочь, и толпа поневоле растекалась по храму.
На тетраподе (особый столик) в литейном сосуде освятили пшеницу, вино и елей, народ приклонял чело, дожидаясь помазания святейшим елеем. Времени много прошло, а ровно секунда, и народ с песнопением пошел к храму Первых Апостолов в центр Херсонеса, в Петропавловский храм.
Раку несли крестным ходом три раза, весь город пройдя, затем поместили в храме великом, и только потом совершили обряд литургии, воду святили святыми мощами…
За что же такая великая честь выпала старцу? Зачем величали с великим крестных ходом мощи его, зачем люд не спал день и ночь, поклоняясь мощам? Зачем великий просветитель народа славянского Константин, он же Кирилл, так торжественно, вместе с епископом и паствою Херсонеса отдавали великую честь тому, кто жил до них почти тысячу лет?
Вспомним и мы о Святителе, папе Римском Клименте. Напомним, прежде всех прежд, себе и другим о священномученичестве папы Климента.
Кто он? Откуда? Где и когда он родился, как к Богу пришел?
Священномученик Климент, римский папа, родился в богатой и знатной семье, в самом сердце великой империи, то есть в Риме. Род был богат, фамилия знатной.
Но в раннем детинстве был разлучен со своею семьей. Почему, нам неведомо, знаем одно, воспитали его в чужой, но прекрасной семье. Дали юному Клименту блестящее образование, ни в чём не знал он отказа. В роскошах купался, как в чистой воде бассейна мраморов патрицианских терм (термы-бани).
Был приближён ко дворцу императора! Миллионы в империи могли ему позавидовать, и, конечно, зависти к баловню судеб было достаточно много.
Но юный патриций умён, сердечко своё держал в чистоте. Много и много просиживал в библиотеке, читал, размышлял, а истину не находил. После долгих ночных размышлений подался он в Александрию, где вовсе будто б случайно встретил на долгом пути святого Варнаву – апостола. Долго, внимательно слушал апостола, бедного нищего в старых рубищах. Открывалась ему чистая вера, смысл его жизни и жизни других. Слово Божие, вечная истина добра и невечного зла стал постигать постепенно, следуя в Палестину. Там принял крещение от самого первоапостола от Петра. Стал постоянным спутником первоапостола, терпя вместе с ним голод и хлад, и гонения. Страдал вместе с ним, трудился с апостолом на благо Церкви.
И был рукоположен Петром на святое служение во епископы Рима.
Закончился путь Святого Петра великим страданием, но не испугался вновь избранный вождь паствы, и после кончины святого Лины (67-79 г.г. нашей эры), и его преемника, святого епископа Анаклета (79-91 г.г.), встал Климент на Римскую кафедру, где пастырем был с 92 по 101 год.
Тоненькими ручейками стекался римский народ, в общей массе плебеи, простонародье к святому престолу. И проповеди Климента, проникавшие в душу массы людской, приводили к Христу новых и новых адептов-последователей. Так, в день Пасхи святой, крестил он одновременно четыреста двадцать четыре души.
К крещению приходило теперь не только простонародье, но и правители, и даже члены семьи императора.
Вот тут то Траян, император великой империи, рассвирепел. Правил он долго, (с 98 по 117 год), правил по-разному, но суров был в одном, и стойко держался старых традиций языческой веры. Рассвирепел, ещё более укрепился в сознании, что достоин Климент кары жестокой, поскольку хулит многочисленных богов язычества.
И кару придумали римскому папе: сослали в каменоломни близ Инкермана, Херсонеса предместье. А что не сослать? Труд там тяжёл, но для империи благодатен, из инкерманского камня выстроен Рим. И Колизей, и другие громады вечного города белым каменем Инкермана выстроены на века. И казалось правителям Рима, Траяну (Трояну), что вместе с вечным городом вечно будут стоять его бог Зевс и зевсова неисчислимая рать.
А сосланный папа вместе со своими учениками, сосланными «за кампанию», как с юморком отозвался Траян, встретил в каменоломнях своих христиан. Империя высылала подалее от себя, в далёкий-далёкий таврический Крым первых последователей истинной веры.
Страдали за веру, надрываясь на тяжкой работе в мрачных каменоломнях, света не видя. И не так от тяжких трудов, как от безводия, страдали страдальцы.
Стал папа молиться, молились позаду его и другие христианские души. И по молитвам его Господь в образе агнца явил ему место источника, из которого излилась мощным потоком река.
Чудо? Конечно же, чудо. И стал собираться народ ближе к источнику, сотни и сотни людей стали слушать папу-изгнанника.
Обращались к Христу, принимали крещение по пятьсот человек ежедневно.
Стали храм вырубать, прямо в каменоломнях, вырубили тяжким трудом. И стал папа службу служить, как тому следовало. Священнодействовал, и текли ручейки люда херсонского, принося веру в дома и хибары.
Вновь был разгневан грозный правитель грозной империи. И приказал император Траян сотворить лютую казнь непослушному патрицию Клименту.
При стечении люда Климента ввергли в пучину морскую, привязав на шею ему якорёк, якорь такой, чтобы не выплыл, не освободился ловец человеческих душ.
И сотворили лютую казнь в сто первом году.
Верные их верных, его ученики Корнилий и Фива, стали молиться Богу Единому вместе со многими и многими христианами: «Помолимся все единодушно, чтобы Господь открыл нам тело святого мученика».
И отошло Чёрное море на три поприща (поприще в древней Руси состояло из тысячи шагов, в каждом шаге пять стоп).
И люди на морском дне обнаружили храм. Нерукотворный! (так называемая «Ангельская церковь»). А в храме нетленное тело святителя-пастыря.
И ежегодно, в день его смерти, то есть 8 декабря, отступало море от берегов, и в течение семи дней христиане могли поклоняться Святому.
В «Голубиной книге» есть такие строки: «С-под восточной со сторонушки выставала из моря церковь соборная с двенадцатью со престолами, святу Клименту, папе Римскому».
И так было и так продолжалось в течение целых долгих семи веков.
Но в правление императора, теперь не Рима, а Византии, Никифора (правил с 802 по 811 г.г.) стали мощи Климента недоступны мирскому вниманью.
И только когда в Херсонес прибыл святой просветитель Кирилл с братом своим равноапостольным Мефодием, и как узнали они о мощах папы Климента, они, скорее всего, с прямого повеления и указания константинопольского патриарха Фотия, побудили епископа Херсонеса Георгия ко открытию мощей священномученика. И было это событие 30 января 861 года.
И мощи святого, как летопись нам поведала: «весь град обошедше, в кафолическую церковь внедоша».
Ну, об этом мы вам рассказали.
Часть мощей Кирилл и Мефодий перенесли в Рим, а святая голова Климента впоследствии была перенесена в Киев святым равноапостольным князем Владимиром, где стала покоиться в самой главной церкви Руси, в Десятинной.
И вот как пишет древнерусский памятник руськой словесности «Слово на обновление Десятинной церкви» о папе Клименте: «И истинный заступник стране Русской, и венец приукрашенный славному и честному граду нашему и великой же метрополии, матери городам. Тобою русские князья похваляются, святители ликуют, иереи веселятся, монахи радуются, люди добродушествуют, приходя с горячею верою к твоим христоносным костям».
Поклоняется русский народ издревле папе Клименту. Строились и строятся храмы в его великую честь, поминается папа на службах в церквах и соборах.
Мощно стоит монастырь инкерманский на окраинах Херсонеса, теперь Севастополя. Стекаются толпы людские, славится Бог и отдается великая честь частице мощей Святого Климента. Живёт, процветает пещерный монастырёк: братия монастыря пополняется новыми, расцветают храмы иконами, мощи святого покоятся в торжественной тишине. Припадают многие к стопам раки святого, выпрашивают и получают по вере. Что каждый выпрашивает? А то же, что во все веки и просит народ: благоденствия, мира, здоровья. Прощения просят за недостойное, службу стоят.
На исповедях о грехах Богу свидетельствуют через священника, их допускают к причастию, если достоин.
Всё, как положено. Всё, как достойно по уставу монастыря. Игумены меняются, меняется братия.
И блестят каждый день маковки монастыря, созывая народ на молитву. Высоко монастырь, дорога трудна и сейчас, петляет от Чёрной реки, поднимается в гору. А по дорожке, пробитой ногами людскими, течёт струйка людей, тянется вверх.
И слава Богу!
По-прежнему бьёт из земли источник святой, льётся вода в течение двух тысяч лет, даруя по силе молитв исцеление и благодать.
Папа оставил нам два Послания к коринфянам. Они изданы в русском переводе в «Писаниях мужей апостольских». Читайте, внемлите слову Святого.
Диспут продолжается
Виденья исчезли, растаял туман. Быль-явь привиделась или картина минулого ожила перед очами слабого телом, сильного духом монаха, но виденье исчезло, а на ступеньках уселся мучитель.
«Что, спишь? Или бредишь? Чего ты несешь: Константин, Константин? Климент, Никифор? (Никифир-стратиг Херсонеса во время обретения мощей святого папы Климента). Ты же Евстратий!
«Слушай, я, наверно слишком много отдал за тебя. Худой, молчаливый монах, и в чем только душа твоя держится? Смотри, вторая неделя уже на исходе, ты не ел и не пил, а живой! Знать, смертушки ждёшь своей небывалой? О, вот я тебе обещаю, она необычайная будет!
Ну, да ладно», – продолжил мучитель, – пора поговорить нам о главном. Для тебя и меня. Для человечества! И снова поднят палец в перстнях, брызгавший изумрудами и большим бриллиантом.
Вернемся к нашим богам, ты не против? Ну, да, конечно, не против. Тогда, я, пожалуй, первым начну.
Ты спросишь меня, чего это я про всё человечество заговорил? Да всё очень просто, и пора нам порассуждать о главном: о добре и его антиподе, о зле. Я понимаю, ох, как я понимаю, что широчайших познаний не хватит нам понять, что же такое оно – добро? И что является злом? И откуда они появились? Кто их создал, наконец?
Бог справедлив»?
Узник кивнул.
«Я с тобой соглашаюсь. Да, он справедлив! Тогда почему люди страдают? И ты почему тут смердишь, на мощёном полу полулежишь, не получая ни света, ни пищи, ни даже воды? Где ж справедливость? Я так разумею, – продолжил мучитель, – что без разрешения вопроса, почему Бог жизни создал, мы не сможем понять, что есть добро и что является злом. Без жизни не бывает ни зла, ни страданий, ни счастья. Согласен?
Узник кивнул вдругорядь.
Обрадован Фанаил: «Ты так легко соглашаешься, мой собеседник? Ну что же, я продолжаю. Я правильно разумею, что добро и зло суть равнозначные силы»?
Тут узник отрицательно покачал головой: «Нет, я считаю, изначально, когда Бог создавал, заложен примат добра над злом. Так, в Бытие (Быт.1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 1:31) каждый из актов творения сопровождается оценкой такой: «И увидел Бог, что это хорошо». И ещё: «И увидел Бог, что всё, что Он создал, и вот весьма хорошо». Добро утверждается атрибутом творения»!
Фанаил покачал головой: «Пусть будет так, пусть пока будет так. Но что мне ответишь на мудрость Священного Писания, где чётко написано: «Азъ (Я) устроивай свет и сотворимый тму, творяй (творящий) мир и зиждай (созидающий злая (зло), Азъ Господь Бог творяй сия все (творящий все это)?(из пророка Исаии). То есть Исаия повторяет за Божеством, повторяя слова Его: «Я образую свет и вторю тьму, делаю мир и бедствия произвожу» (Книга пророка Исаии, 45:7).
И наша Тора нам говорит: «Вот я тебе, сегодня предложил жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь. (Второзаконие, 30:15, 19).
Как просто всё получается. Бог, наш Творец, сам предлагает добро и зло на выбор тебя, человека.
Куда уж яснее!
Вот ты и выбрал, именно ты выбрал, а не я. Я предлагал тебе свет и добро? Предлагал! Ты отказался? Ты отказался. Вы, христиане, так любите говорить о свободе выбора человеком пути и путей. Ну, и как ты свободой своей распорядился, когда беда неминучая на тебя то свалилася?
Я так считаю, что искренен в вере я, а не ты. Я осознанно выбрал добро в моём понимании: преуспеваю во всём, комфортен, спокоен, благополучен, вконец. Заповеди и законы в доскональности знаю, поверь.
Законопослушен, к тому и тебя призываю, я искренен, поверь мне, поверь, что выше закона нет ничего.
Я сущность свою так понимаю: без укоризны я соблюдаю закон. И других к тому приучаю».
Узник голову оторвал от мрачного пола: «Нет, погоди»!
В полемике оба незаметно переходили на ты, некогда было разводить политесы, раз схватка пошла за главное из наиглавнейших.
«Спор мы продолжим! И вот что скажу: так ты говоришь, что в вере силён? И что сорок лет мотались евреи по пустыне, ведомые праведным? А наш Господь говорит нам: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ибо некоторые вышедших из Египта были не с Моисеем. Тогда на кого же Он негодовал целых сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покои Его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие (Послание к евреям св. Апостола Павла, 3:14).
Итак, веруешь ты, но в кого?
Дочь Кесаря
Анна Комнин была некрасива, любима отцом, обожаема мужем. Но муж будет потом, а пока старшая дочь всесильного кесаря невестилась красотой, что присуща молоденьким. В том году, в 1097, ей было только пятнадцать.
Много детей у Комнина, семь душ. Щадил Бог Алексея и супругу Ирину: из девятерых детей забрал только Зою, прожившую только полгода, да Михаила, прожившего год.
Остальные росли. Братья Анны мужали, сестры Мария да Евдокия, а потом Феодора, были близки, сестры-подруги. С братьями жизнь не сложилась, а все Иоанн. Младше ее на четыре годочка он был, так ей казалось, весьма своенравным.
А вот отец почему-то любил Иоанна и царство ему обещал. Не ей, старшей любимой дочурке, а Иоанну.
Взбрыкнула дочь, ослушалась отца-императора. Умная, много читала по-гречески и по-латыни, хотя латынь отец не любил. Умела красиво писать, понимала и математику.
Ослушалась отца в понимании латыни, ладно, прощал, как прощал и другие мелочи. Остальных детей жалостью не баловал. Особенно Иоанна, норовом схожего в мать.
Прощал, император, прощал детские шалости, своенравие, норов, похожий в него. Да как не прощать старшей дочери, умнице да разумнице мелкие вредности: все покрывала любовь дочери к батюшке, видевшей не императора в нем, а человека, отца.
Анна видела в нём человека.
Вся империя знала, училась тому, что общество спасается только в вере, истинной вере Христовой. Поэтому Византия была оплотом истинного христианства. Находится Византия под прямым Божественным покровительством, и миссия её вести к спасению другие народы, даже варварские, коей и была, в частности, Древняя Русь.
Основа – христианство, на том стояла тогда византийская государственность. А отсюда вывод прямой: духовная власть и власть светская должны воедино слиться, действуя воедино во имя цели одной, и в одном направлении.
Отсюда ещё один главный вопрос: кто есть таков тогда император? Ответ: он и правитель мирской, он и церкви глава. Смертен он, и потому в долг вменялось ему и осознание ничтожества собственного и ответственность. Но одновременно по отношению к обществу кто он? Ни много, ни мало, а подобие Отца Небесного.
Оттого подражание Богу являлось его главной, святой, если хотите, обязанностью государя. И весь ритуал жизни дворца был подчинен этой цели.
Никогда император не должен стоять на полу, а только но возвышении трона, а не просто кресла или полусиденья. Трон непременно ставят двухместным. В праздничные и воскресные дни на нём, то есть на троне, место оставлялось для Христа, Бога нашего. А что символом служит Христа? Крест! Крест возлагался на одном из сидений драгоценного трона. На втором мог восседать император.
Слышите разницу? Человек просто садится на стул, табуретку или просто на землю. А император восседает на трон.
Скажите мелочи? Ну, не согласна. В ритуалах царей, базилевсов и императоров, президентов и ет сетера, мелочей не бывает.
Огромные географические масштабы империи ромеев, пестрота её народов, разнообразие регионов с отличиями климатов и обычаев, трудностями обихода и вечно разбитыми дорогами, – вся эта совокупность факторов требовала управления, и управления только из центра, то есть из Константинополя.
Прежде всего империи нужно что? Порядок и только порядок! А с чего начинается этот порядок? С отчётливой дисциплины прежде всех – главаря, точнее вождя. Главарь как то звучит вроде и пренебрежительно, но точно по сути. Ну, начнем с политесов, и назовём по-другому, более цивилизованному. Скажем так: вождь нации. А если государство вполне сформировано, правильным будет определение «государь». Государь, значит, есть государство. Есть и народ. А государь в каждом образовании называется, вождь, император, царь, базилевс, президент или даже король, в каждой империи называют по-разному. Суть же едина, он правитель народа, государства глава, он – государь.
А порядок и дисциплина далее от повелителя нации спускается до людей.
Должны люди налоги платить? Непременно обязаны. В суды должны обращаться с проблемами? А деваться куда, обращаются. И так далее. Поэтому нужен центр. Центр создания списка налогов и его выбивания из людей (не знаю ни одного примера, когда люди с великой охотой несли свое кровное в виде налогов, отдавая сборщикам-мытарям). Нужен центр высшей власти судебной, и так далее, по всем отраслям жизни огромной страны.
И высшим началом власти верховной был император со свитой своей, весьма и весьма многочисленной. Сановники помогали ему или вредили, всяко бывает. Но император обладал почти неограниченной властью. Мог казнить или миловать подданных, в том числе и самых высокопоставленных, даже членов семьи. Мог конфисковывать всё их имущество, и тут Алексей был старателен чересчур, отбирая на благо страны наворованное приближёнными. В любое время мог смещать и равно назначать на любые должности, и тут император старался на благо страны. А нравом ох как крутенек, как строг и внимателен. Бац! И голова вчерашнего фаворита летела с плахи в корзину. Бац! И вчерашний солдат командовал, по-нашему, корпусом.
Взнуздал Византию, как норовистую лошадь, и правил так долго, так долго, почти тридцать семь долгих годков.
Издавал император законы, был высшим судьёй, армией руководил, то есть являлся верховным главнокомандующим. Внешняя политика также грузом, тяжелейшим якорем висела на нём.
Как ни странно, он не был собственником имперских земель, но владения его были просто огромны.
В одиночку с объемом проблем не справится даже Комнин, и поневоле рос аппарат, разрасталась бюрократия. После Алексея удачно правил сын и наследник его Иоанн.
А потом? А потом империя развалилась. Формально, турки завоевали ее в пятнадцатом веке.
А в действительности, богатейшую изо всех стран человечества того времени, огромную по размерам и мощную своей армией (на штыках держится государство) что развалило? Да внутренний враг! Называется просто – коррупция. То есть масштабнейшее воровство всех чиновников, от самых от маленьких должностей до первейших из первых сановников.
И в утешение Византии скажу. Как правило, внешний враг, пусть то будет варваров орды, нападавшие на Рим в нашей эре, или Египет, подпадавший то под власть кочевого народа, как то было до нашей эры, или под власть Наполеона, что случилось и вовсе недавно, или масса примеров ещё, внешний враг, если можно так выразиться, был трупоедом. То есть грифом, шакалом, гиеной, поедавшим уже упавшее тело. А почему тела всех империй падали, и трупоедам оставалось только добить слабого ворога? А потому что империи сдыхали по внутренним по своим по проблемам. Сжирала их изнутри раковая опухоль коррупции, пускавшая метастазы во весь организм. И распадались империи, доставаясь врагам, оставляя нам только память о могуществе, о былом.
Могу привести ещё массу примеров, но не буду вас утомлять.
Вернёмся к Комнину.
При таких масштабах работы, когда суток не хватало, хоть прибавляй два-три часа, разве до выходок дочери, пусть и старшей, пусть и нравом в него? А если то и не выходка вовсе, а угроза империи? Планы царя-императора, планы на будущность дочери никак не могли совпадать с её полугрёзами о каком то придурке, завсегдатае дворцовых балов.
И, когда посмела влюбиться в дальнего родича, севаста Константина, отец осерчал. Крутой нрав Алексея стишала только Ирина. Младше его на лет десять, она приноровилась к нраву супруга. Да и то, дочь кесаря Андроника Дуки была славной царицей.
Мать заступилась за дочь, тем более, что родственник Константин им был далеко не чужим: хотя и седьмая вода, но всё же из императорского рода. Напомнила мужу про давнюю юность, утешила тем, что дочь, слава Богу, не умудрилась влюбиться в этериота (гвардеец императорской гвардии, состоявшей, в основном, из викингов и славян). Вон сколько красавцев, рослых и стройных, готовых излить своё семя в дочери императора лоно, скучают у всех на виду.
Недолго миловалась дочь кесаря-базилевса красотой Константина-севанта, пусть издали, на парадах да приемах отца. Пару взглядов нескромных в сторону рослого, не в меру красивого юноши, что еще надо в пятнадцать то лет? Ночами ворочалась, горела в любовном пылании, но лишнего не позволяла – отец бы убил. Но запрещать ей любить, это уж слишком даже для императора, так думалось ей.
Старшая дочь вся нравом в отца, крута, и умна не по летам. Зеркалом Алексея Анна была и учудить могла многое. Алексей знал силу себе, а зеркальная дочь слабее не становилась. Некрасива, и от того был мощнее характер. Без исхищрений красотки, с легкостью покорявшей мужские сердца, ей труднее было искать ключики к сильному полу. Брала силой характера, мощью ума и умением убеждать. Недаром училась у лучших риторов (учителя красноречия) силе влияния, и ежедневные тренировки позволяли гасить даже волю отца.
Алексей таки пошел на попятную, поневоле поддавшись силе воли двух самых любимых им женщин: дочери и императрицы-жены. Всего-навсего он сослал Константина в далёкий Херсон, проводить разыскание виновных в смерти монаха.
Красным чернилом писан указ, явно вручен Константину-севасту, тайно полномочия розыска и наказания поручены монашеской братии во главе с сухопарым Захарией.
Алексей был доволен: политика – великая вещь!
И юнца, что посмел пялиться на базилевсову дочь, отстранил от двора, отправив с великой, очень почётною миссией, и Анну утешил, и с клиром пока замирился. Обижались священнослужители Византии на притеснения базилевса, так вот вам, пожалуйте, священная миссия – накажите виноватых в смерти монаха, распятого в дальнем углу иудейскою сворой.
Да и евреи притихнут, а то снова подняли головы, чуя наживу: как раз кровью запахло от крестовых походов, а им, значит, добычей.
Так удачно сложился расклад, будто партия в шахматах ловко сложилась, суля мат проигравшим.
И, главное, соблюдалось самое главное в жизни его: нельзя попирать основы православной веры Христовой! Нельзя!
Можно отнять у монахов монастырей землю и милисиарии (серебряные монеты Византии были в хождении в 9-11 веках н. э.), так то ненадолго. На нужды империи брал, не наживался на Божьем имуществе.
Позже, в России, царь Пётр повторит этот шаг, отбирая для армии церковные колокола. Опирался, будучи сведом в истории церкви, на опыт старого базилевса. И церковь стерпела: крыть было нечем!
Ну, изымал Алексей монастырские земли, угодья, передавая своим до жизни конца землицу.
Так то же на пользу империи, опять не себе.
Харистикарии, владельцы таких пожизненных наделов, по указу его обязались соблюдать интересы монастыря, ограждать от чиновничьей сволочи и настырных налоговиков, от незаконных поборов – так что ж тут плохого? Умело веди хозяйство, и сыт будешь сам, и монастырь не в накладе останется.
Ну, сделал самую малую глупость: приказал было церковную утварь перечеканить на деньги, так сам отменил свой указ. Ошибаться, по мелочи, может даже и он, базилевс.
Устои религии такие меры империю не пошатнули, так, мелкие волны на зеркале вод.
Но распятие монаха, пусть из варваров, из словян, но в точности повторенное казнью Христа, это уж слишком!
Пусть на окраине, севере дальнем, в Херсонесе, однако империя не должна, не могла позволить крамолу.
Святотатство должно быть наказано! И немедленно!
И, пока сохли чернила на указе всесильного базилевса, Константин собирался в дорогу, исполнять повеление императора.
Ещё думал царственный базилевс: если юнак Константин голову сложит, ретиво исполнив приказ, хорошо! Доблесть он поощрит посмертной наградой, дав семье пару наделов на взгорье. Исправит работу недобро, тогда ткнем Анну в бесполезность севанта. Поругается юный с Захарием, опять хорошо. Пусть жрёт Захарий юного паркетного щелкуна, эту выскочку, жрёт с потрохами.
Кстати, и жёнушку милую можно тихо поставить на место. Дальний-далёкий родственник подведёт, вот ей и укор, молчаливая укоризна.
Что думала царственная Дукиня, то нам неведомо…
А Анна поплакала, да вроде забылась. Молодость сил придаёт даже в разлуке. Да, может, то и не любовь была вовсе, а так, девичьи грёзы о суженом-ряженом красавце-удальце.
Отец вскоре нашел ей верного спутника жизни, и закрутилась лет череда.
Вернулся Констант в стольный город империи, и опять нашли ему порученье, так и крутился в далёких углах дряхлевшей империи, ждал часа, скучал, и ждал, долго ждал. И дождался!
Пережила Анна отца, пережила и супруга.
Алексей Комнин Первый скончался в августе 1118 года, муж Анны Никифор Вриенний умер около 1136 года.
В дальнем монастыре писала на старости лет, продолжая дело супруга, панегирик отцу, что называется «Алексиада». Ни разу не вспомнила про Константа: то ли было стыдно за отроческих лет слабость-нелепость, и потому не упомянула про дикую казнь в далёком Херсоне. А иначе пришлось бы писать про Константа.
А, может, любила она Константина? И потому не писала про Херсонес, что крепко держала юности тайны? Кто знает, кто знает…
Много позже, после смерти отца решила она (в 1118 году), что может занять по праву старшинства трон Византии. Нет, не себе, а, естественно, мужу! И кто ж её предал?
Во-первых, родной муженёк. Слабый характером, слаб был и в выборе власти. Метался конфетой по проруби, выбрать не мог: сдаться Иоанну или взять престол силой.
А Иоанн возьми да и опереди нерешительного деверя. Зашел в тронный зал, сел на престол, окружил себя верными, объявил волю отца, что быть императором Иоанну. На том и решили.
И народ византийский, живший в почти миллионном Константинополе, не пикнул, ибо воля Комнина священна. А от себя добавим, и справедлива. Показал себя Иоанн славным царем, достойным сыном достойного мужа.
Вторым предал Анну Комнину любовь – Константин.
Вот что значит умение предать вовремя! Как сам говорил, и повторялось веками: умение предать, это умение предвидеть. Хорошая отговорка собственной подлости, не правда ли?
Немедленно кинулся в лагерь Иоанна, как только прослышал про смерть Алексея, был принят и долгие-долгие годы верно служил Иоанну.
И стало понятно теперь: зачем Анне упоминать в Алексиаде про неверность детской любви, про ошибки свои, и без того их хватало. Спасибо, что царственный брат пожалел, не казнил, а только сослал в дальний монастырёк, замоли, мол, сестрица, грехи свои и мои.
Пережила Анна Комнина и брата (Иоанн Комнин умер 1143 году), и мужа (Никифор Вриенний умер в 1136 году, не дописав свое сочинение «Материал для истории», посвященный Алексею Комнину), отца, и, естественно, мать. Скончалась в 1155 году, проживая в немалой роскоши: брат позволял ей питаться нормально и быть вполне обеспеченной.
Оставила Анна в истории след не безрассудством своим, а гениальной вещью, «Алексиадой».
Жалко одно, что не позволила вылиться чувствам наружу и описать волнение в Херсонесе, казнь одинокого словянина, распятого на кресте не за разбойничье поведение, а за верность Христу и Кресту.
Ромейский скипетр не дался Анне, и, скорей всего, правильно. И всё-таки жаль, что не стала описывать Херсонес и Евстратия.
Может, хоть так отомстила отцу за не полученный трон, за несчастную, одинокую без капли любви свою жизнь?
Кто знает? Кто скажет? Тайны свои Анна умела хранить, а нам чуточку горько за недосказанное, за промолченное.
А может, что наиболее вероятно, вымарал переписчик иль соглядатай какой из текста «Алексиады» неподходящие вещи?
Но ведь остались в истории и дромоны, и залпы дромонов по кварталу херсонеситов, и указ императора, писанный красным чернилом – указ именной! Особый указ! С личной подписью императора всех ромеев: Комнин. И с личной красной печатью.
Вчитайтесь в указ. Это указ явно солдата: грозный, прямой, не дипломатичный. Как выстрел – указ.
Вчитайтесь в текст, повторюсь: «Казнить жида, как иуду, ибо он казнил инока, как Господа Нашего, и иной смерти не достоин! И не забудьте в ладонь его вбросить тридцать серебреников – с дьяволом расплатиться!»
Как продиктовано, а?
Иуда с маленькой буквы, хотя это имя апостола. Какого такого, сами вы знаете. Господа Нашего, только с большой, в этом истинность веры императора из солдат. И, далеко не случайно, не указано имя еврея. Император, хотя и был когда-то солдатом, историю мира ведал и знал. И помнил, что хотя Геростратова слава позорна, имя его сохранилось в истории. И потому имя иудейское не названо специально, дабы не сохранила история его имени.
Я уж сама, как автор, имя ему дала, верное или нет, вы уж простите.
Имя инока тоже специально в указе не названо. Почему? Я мыслю, что тем самым хотел император ромеев расширить, распространить, что ли, идею, что негоже на любого монаха, а равно и на христианина так кощунственно посягать, как совершила иудеев община.
Об этом чуть далее я расскажу.
Креста водружение
Была очередь пасти худобу (крупный рогатый скот, то есть коровы). В славянском квартале и квартале варангов, за обычай, как с Руси повелось, коров выпасали по очереди. Писали свои имена, подбрасывали шапку, так и пасли по жребию, несмотря на погоду.
(Обратите внимание: простые жители руськой слободки владели поголовно грамотой, раз постоянно совершали сей ритуал избрания жителя круга на однодневную работу пастуха стада).
Вёдрышко, благодать!
Еремеевна жалела, что нет ещё земляники, или другой какой лакомки не видать, рановато для марта ягоде вырастать. И травкам лечебным расти тож рановато, везде ведь растут. ромашка да мята, полынь с лебедой. Лаванды, конечно, на родине нетути, да то не беда. Вон как душица приятно то пахнет. Лаванда, конечно же, тож…
Сладко думалось на зелёной траве за старыми городскими воротами о берёзках, малине, древне-привычном быту, что на родине милой, что на присталой чужбине.
А тут что? Жить то, конечно, можно, люди ж живут. Вот какая ранняя синь в небесах. Пост, конец марта, а какая жара. В Киеве снегу по локоть, сани скрипят, боярыня толстая, развалясь, к храму спешит, за ней мужичонки с худых, голытьба, мечтаю, небось, полушку подкинет в честь Пресвятой? Люд с ранку в храмы спешит: опоздаешь, будешь стоять на морозце.
Ну, а тут благодать. Храмов неисчислимо, народ чинно стоит в благолепии звонов, вон, в нашем квартале батюшка из русин. Поймала себя на мысли «в нашем», и улыбнулась: привыкаю, поди.
Батюшка из русин, черноглаз и чернобород, что тот грек. А службу правит по чину не торопясь, кое-где переходя со славянского на ромейский, не успели ещё перевести все слова. Язык греков труден, койнэ попроще, да ведь в храме на койнэ с паствой не говорить. Потому проповедь отца Владимира всегда была долгой: станет на паперть, коль лето или весна, зимой то, конечно же в храме стоит на амвоне, речи ведёт, проповеди глаголит. Пусть ноги к стылому мрамору пола пристанут, а слушаешь, рот свой открыв, умные речи умного пастыря Божьего про Херсонес, про святыни, про храмы, которых великое множество. Про греков, славян, про «мирове мирове» (ударение на первом слоге) люду любому.
В храмах уютно, свечечки, ровно солдатики, в песочке стоят, перед образами Спасителя, Его Матери и строгих святых.
А тут на пастбище раздолье, тепло. Народ стоймя в храмах стоит, а ей очередь пасти худобу. Но скотине разве расскажешь, что зелень травы подождёт до утра, раз хозяевам в церкви стоять от вечерни до утрени. Скотина, она каждый день рогами в рань раннюю в ворота стучится, на зелёную травку спешит. Всего и забот: подоить Бурёнку да Звёздочку, марлицей горловину сосуда накрыть. Еремеевна никак не могла попривыкнуть к здешней посуде: сплошь вся из глины, но корчаги, амфоры да и протчая здесь хороши, раз молоко стоит, не скисая сутки, а то и двое. Успевали сметанки насобирать да маслица наготовить к близкой ужо Пасхе.
Звёздочка, как будто поняв, что мысли старой перешли на неё, обернулась в сторону города, мыкнула, длинным хвостом прошлась вдоль по крупу: ранние оводы донимали, и шершавым длинным теплым розовым языком лизнула Еремеевну по лбу.
Та засмеялась: «Шалишь!», но тоже поневоле кинула взгляд в сторону града: что там такого?
Любопытство великая сила, особенно у бабья, и особенно у старух.
Назад, на дальние травы смотреть не хотелось и нутром холодел животок: а вдруг из-за новых камней обороны, что башнями да зубцами кривою змеей вилась, закрывая глазу дальнюю даль, вдруг там какая напасть? Знала: охрана мощна, стены каменных огород крепки и мощны, стратига люди расставлены строго каждый в своем закутке, а всё одно, Дикая Степь дремать не давала.
Оно то и то! Стены крепки и в два раза полукольцом оборонные стены толщей своей Херсонес берегли, и стратиг воинов стражи каждый день муштровал, а поди ж ты, пробирался поганый то ли половец, то ль печенег к старым воротам, то уводя полон, то приводя.
Торговались нещадно с перекупщиками, что почти сплошь из жидов, кое-где когда никогда армянин суетнётся: богатый был промысел, старый и очень прибыльный.
Еремеевна на то торжище никогда не ходила: жалко ведь было народ, слезьми изойдешь, на полоненных глядючи.
Вот и она прибилась к Шульге, тоже, считай, из полона. А что, хозяйка добра, Шульга вместе с ней к Единому Богу причастен, челядь, та её поважала. Как то вмиг челядь прознала, что Еремеевна в прошлом была повитухой, и пошли стар и млад к ней лечиться. Лечила, ходила на рынок за травкой какой, за медами да корешками. Но тот рынок был для ромеек, для знатных матрон, там рабов с верёвкой на шее никто не видал.
Благопристойно дамы держались, каждая с мужем, братом, иль на худой конец с такой как она, повитухой-сиделкой гуляли по рынку, роясь в шелках, притираньях да мазях. Драгоценные флаконы синего стёклышка крепко хранили их тайны о летах (годах), смуглой коже.
Ах, как патрицианки завидовали им, русинкам-словянкам за белизну нежной кожи да чистый румянец. Понимали гречанки-ромейки, что Бог создал их такими, смуглыми, с ранними до тридцати морщинками на лице, а все ж бабья зависть занозой торчала в женском греческом теле. Конечно, ромейки, конечно, империя, а белую кожу да светлые волоса Господь дал этим, с Севера дальнего пришлым приблудам.
Еремеевна вспомнила: Господи, сегодня же к женке стратига волос белить, довести до рыжинки, маски ей притирать, красоту наводить.
Охохонюшки, старая стала, даже это забыла. Демитра совсем уж заждалась, поди.
И няньки тут нет ей напомнить. Сама виновата, встала ранёхо, челядь спала крепким сном, а старческий сон разве за радость. Вон, давеча нянька всё щебетала про Киев да про Елену, ненаглядную боярыню свою. Чай, тоже о родимой сторонке скучает.
Нянюшка обжилась очень быстро: к Лютке пристала, Шульга ей не часто, но докорял про порученное да несделанное, но старушка старостью своей да немощью оправдалась. Шульга и отстал.
Да, хозяин хороший. И жёнка его не сердита, а всё равно у чужих, как в полоне. Вон, за ворота ни Лютка, ни мать её нос не показывали, все отговаривались то Люткиной толщиной, то недосугом. Вот и пасла челядь худобу, да и она подвязалась.
Еремеевна чуть не всплакнула, одумалась: грех! Уныние – грех! Осуждение – грех! Чего на долю свою думу думати: Бог все управит, каждому крест свой нести.
И аж вздрогнула: и впрямь на горке, на сопке кто-то крестище установил. Ладонью прикрыла солнечный свет: не то ли, Егорка? И кто с ним еще? Знала, что сегодня еврейский Пасех, но обычай воздвиженья крестов у них не водился, что ж там такое?
Старуха пастушка общественного стада шустрого найманца (нанятого на работу) попросила: «Я отойду?»
Тот понял по своему, закивал головою.
Старушка и подалась к воздвижению храма. Близко не подошла, чего-то вдруг испугавшись.
Егорка, увидев вдали знакомую бабу, рукой замахал: «дескать, здрасьте».
Вид самый мирный, что у двоих, отиравших заступы, что у немого. Те двое и рады невольному отдыху: им постоять, поболтать по-пустому, пусть даже со старой старухой честь невеличка, а телу отрада.
Пугал вид креста: стоял белой громадой, качаясь на теплом ветру, вокруг птицы умолкли, живность из мелких в траве не носилась. Ящерка выглянула из-под нагретого камня, юрк, и скрылась за камнем, кинув свой взгляд, взгляд почти человечий, на бабку.
Еремеевна совсем испугалась, хотела податься назад, на пастбище, но любопытство ещё не остыло: «Что так, Егорий?»
Тот замычал, руками развел: дескать, сам понять не могу. Товарищи закивали: «Мы что, мы простой люд мастеровой. Крест ставить? Пожал-те, ров кому вырыть, трубы под воду покласть, мы завсегда у рынка торчим, работу чего не исполнить, коли платит хозяин».
Еремеевна не унималась: «Что вы про трубы да кладку толчите? Крест-то зачем? Это ж крест! Да большой то какой. Не на могилу? Так тут ведь кладбища нет».
Те отрицали: «Ты, бабка, с разуму съехала? Чего торочишь (говоришь)? Какая могила, без отпевания и поминальнои тризны? Говори, да думай, старуха!»
«Так крест вам зачем? Хозяин то кто, неужто Егорий?»
Те аж заржали от шутки старухи: «Ага, Егорке под силу, рабу безъязыкому, кресты на холмах Херсонеса ладить и ставить».
Старуха шутки не приняла, пристала, отстать не отстанет. Сознались: хозяин Егорки, эпарх приказал им чуть свет, пока никто не видит, крест водрузить на холме в честь, значит, Пасхи».
«Какой такой Пасхи! До Пасхи далече, терпеть пост, терпеть. Сегодня же только у жидовинов Пасха, так там ставят в храмах семисвечник – минору, а крест здесь при чем? На холме?»
Один из подёнщиков рассвирепел: «Уйди, как отсюда! Сказано было: строить, чтоб никто и не видел, а тут ты пристроилась: что, почему (стал передразнивать бабку, (второй аж согнулся от смеха), кому крест, кому? Тебе что забота? Может, жидовины испросили, как вишь, квартал себе отвалили у самого моря. Тоже, однако, было нельзя, а отдали квартал.
Разрешение выбили? Выбили! Эпарх аж в столицу мотался? Мотался! Аж похудел после дальней дороги. Чай, с купцами не в честь, и дешевше не напрямки через море, а кругом в столицу подался.
Привёз разрешение им на квартал? Привез! Синагогу им строить не дали, может, потому и крест водружают, ага?»
И сам от собственных умнейших мыслей аж похорошел: гля, как ладно слепил!
Но бабка не утихала: «Не заговаривай зубы, мастак! Сама, знать, умею лечить. Зачем им крест на Западной сопке, а, умник сопливый?»
Второй мастеровой опять согнулся от смеха: «умник сопливый», это прозвище будет не отмазаться брату вовек. Так и пристанет к потомкам «сопливый», да еще и разумник? Люба потеха! Хорошее утро, эвон, сколько смеётся, на три недели хватит рассказов.
На Пасех, что приходился на 28 марта 6605 года от сотворения мира по старому стилю, в новом летоисчислении на 10 апреля, в современном летоисчислении в 1097 году, было ветрено, но стояла теплынь.
На окраине Херсонеса, на холме, что пустынно мрачнел за старыми воротами города, кипела работа, там подёнщики сооружали распятие. Большой крест сколотили из старых досок, не годившихся на строенья. Основой креста послужило стропило, перекладиной пригодилась сырая еще древесина, завалявшаяся «до лучших времен» на задворках усадьбы рачительного Фанаила.
Старый Егорка только диву давался, зачем прихоть такая соседу хозяина? Но работал, как всегда, торопко и со сноровкой, как будто всегда только и делал, что возводил кресты великие на холмах, в весеннем травы запустении. Солнце палило с раннего утра, прям таки май, а не март в окончании.
Однако работа на воле почему-то душу давила, вроде солнышко, вёдрышко, птички щебечут, мелкая тварь под ногами шныряет, радуйся, да и только. Евреи дали команду да и ушли, вот оно марево воли. Пусть малая, пусть на час, а все-таки воля, все безъязыкому радость, а радости – нет!
Что-то щемит в душе старика, как будто б напакостил кому-никому, а совесть грызёт, а совесть замучила. От того и солнце не в радость, и птичий гомон звучит невпопад, а тут ещё и старушечьи вопросы-расспросы совесть прибавили.
Робята работали молча. Подрядились два человека из местных, да вот Егорку пригнали им на подмогу, старого да еще безъязыкого, что с ним толоки водить (толоки – разговоры).
Жара донимала. Работали молча, посул был за работу отменный, в другой раз за такую работу полушки не выпросишь, не сторгуешь у еврейского люда, а тут аванс отвалили звонкой монетой, еды подогнали, ешь, не хочу, да еще и посул за отработ посулили немалый.
Втроем работа кипела: Егорка к работе с мала приучен, без слов понимал, что прежде берётся в работу, что после. Робята больше для вида махали топорами, отдав всю работу Егорке. Конечно, когда крест сооружали да на место торчком ставить пришлось, тут попотели. В темечки солнышко било, жажда пива-эла просила, но назначенный срок подходил, вот-вот заказчик прибудет, и потому работали споро.
Отвлекла не намного трескотня неугомонной старухи, добавила кручины-печали в мозги, но снова работай, заказ исполняй.
Крест водрузили, собрали свой инвентарь, спокойно доели, спокойно допили всё то, что принес им хозяин Егорки и по домам подались.
Двое ушли, по дороге ругаясь, делили добычу, считали да пересчитывали местные «херы». (херсонесские деньги, печатались на медном дворе в центре Херсонеса, на них ставилось клеймо «хер», потому и назывались в просторечии «херы»). Ругали заказчика почём зря: пожалел, шкура, византийских монет, пусть облегченных, не полноценных, но все-таки лучших, чем местные медяки. Длинной дорогой языки чесали, старались, ругали заказчика, ругали себя, продешевили, ругали друг друга, и в целом покрывали бранью весь мир.
Да что с них возьмёшь, подёнщики, одним словом, халтурщики.
Демитра
В доме стратига пусто, темно. Тишина и из каждого уголочка выползает скука-скучища.
Как отозван был муж по скорой депеше в Константинополь, так она заскучала. При стратиге, шумном, отважном, в доме всё трам тарарам. А без него сутки отрада, а дальше тоска.
Да и что ей без мужа?
От скуки самой, что ли, на рынок пройтись, да отобрать притиранья, свежий медок, яйца, чтоб свет через них прозрачнел янтарно, да свежее маслице, да лимон. Гуляла по рынку долго, торгуясь с честными словянинами. Яйца, масло, медок отбирала так строго, что бортник-старик (пчеловод) аж крякнул с досады, на ломаном койнэ сказав: «Милая боярыня, не волнуйся, сынок твой самую свежую пищу получит. Медок мой всяк в городе знает, сотами деток побалуешь, мужа пьяным медком. Бери, не торгуйся, мой знатен медок». И из корчаги неглазурованной ложкой дубовой тянул мёд, как есть с лапками пчелок, крылышком матки.
Не думая, ударил по сердцу: детей Бог стратилатке не дал. Уж сколько молила, к Влахернской Богоматери на коленочках ползала, муж брал в столицу, к Софии (главный храм Византии – Софийский собор, сейчас – мечеть) ползла.
Всё зря. Всё зря. Зря!
Выцветали глаза, седина пробивалась в густых волосах, мелкая паутинка морщин опутала очи, дело шло к тридцати, а деточек нету.
Ходила по рынку, зелье смотрела красоту навести, любимому мужу ночью отдаться да детушек ждать.
Всё зря. Всё зря.
Сидела, грустила. Закрыла оконце стеклянное, пусть и жара, да не очень хотелось, чтобы фема видала, как жена-стратилатка тоскует. И бабка из русичей не явилась!
Такая хорошая бабка. Все говорили, лечить, повивать, роды принять, всё бабка умела. Говорили, что роженицы потом не страдали. Так детское место могла удалить, да без боли и стону, что к Еремеевне бежали не только русинки, но и знать, балуясь своими врачами, в беде посылала за старой русинкой.
Та дипломами не трясла, не хвасталась домом отдельным, аптекой, своим обученьем в столице. Лечила, как лечила мать её, бабка, и кто там ещё лечил у русинок.
Старуха опрятна: волосы спрятаны под синий платок, морщинки вымыты до кожицы розовой, ногти чисты, хоть сейчас под венец. Чистая бабушка, чистая. И пользует славно, и не ломается, кстати.
А хоть бы и вздумала перед нею, патрицианкой, женой самого стратига подолом вертеть? Нет уж, тут шуточки плохи!
Вся фема (административно-территориальный округ Византийской империи) знала крутой нрав жёнки стратига. Сам муженек побаивался: если она посидит так день или два в тенёчке да в одиночку, ого, как развернется потом. И все ей не так. Не там стены стоят, не так ополченцы свой марш тренируют. Беда с гневной бабой! Но самое странное, пошумит, покрутит стратигом, а потом смотрят, права. И точно, стены не там поставили новые: оползень давит, рушатся стены. Снова и снова тянутся люди с камнями на плечах стены крепить, а вода вновь и вновь подмывает фундамент.
Новые стены, уж как город разросся! ставят с недавна от Симболона через пустырь к Черной речушке, что летом речушкой, весной полноводной рекой в море стремится. Вновь по горе: скалы и скалы, по ним легко вести крепостную громаду. Город ставит мощные стены метра в 3-4 толщиной, а кое-где толщину добавляли и в 7-10 метров толща была. Потом (ударение на первом слоге) каждый камушек полит, а как же иначе? Что половец, что печенег, оба народа жадные, с раскосом глаза пялят на город, на жёлтые стены, на жёлтые с золотом купола крестовидных и круглых церков. Город богат, ой, как город богат.
Половец, печенег, что рабами торгует, так разукрасит у костреца свои подвиги, заодно и распишет храмы, блестящие золотом, богато одетый народ, зачастую тоже блещущий златом одежд, украшений, загорятся глаза у свободного люда, грабежом и нахрапом берущего города, жгущего сёла, посады, деревни, да и сорвутся в набег по приказу грозного хана, на мощные стены пойдут за златом добычи.
С моря-то хорошо, с моря половцу город не взять. Дикий степняк моря не знает, к волне, что собакою лижется у камня, не подойдет да ни в жизнь.
С моря? Там корабли, причём много военных, там снуют рыбачьи фелюги, где поди разбери, то рыбаки с Березани, Олешья приплыли по рыбку, или отвага сторожевого дозора скучает на утлых рыбачьих суденышках, что плещутся в Карантинной (бухта Херсонеса, старое название не сохранилось). Так тем и команды не надо: враз чужеземца порежут.
Знамое дело те рыбаки! Просмолённые потом, просолённые морем, видавшие ураганы с севера Херсонеса, им ли бояться кривой половецкой сабельки? Печенега аркана?
Море надёжно, даром что каждый год смывает в себя берег чудного города. Сползают в море кварталы, рушатся стены, что издавна город вершили. Но море всё лижет и лижет берега Гераклеи (Гераклейский полуостров, на котором расположен Херсонес. По старинным преданиям, тут побывал Геракл-Геркулес, отсюда – название Гераклейский), сужая пространство для жителей местных.
Народ поневоле стал тесниться все дальше от моря, все ближе к степи. А без стен крепостных какая надёжа?
Вот и пришлось не только стратигу (военно-гражданский губернатор фемы, то есть округа, административно подчинявшийся Константинополю, и им же назначавшийся на должность), но и верной супруге, драгоценной Демитрии, заниматься то стенами крепостными, то обучением новобранцев из ополчения.
Тут Демитра сама себя похвалила, прихвастнула: обучением-то нет, кто ей даст заниматься солдатами, а вот сносной экипировкой, конечно. Сколько нервов отняли торги с купеческим людом за каждый кинжал, меч, копья, секиры да топоры. А одежонка и обувь, только приобретёшь, опять рвань!
А попробуй припасы не дать, а заготавливать пропитание надо, конечно.
Одни таксеоты (полусолдаты-полуполицейские для эскорта местных властей) чего стоили имперской казне, вынь да положь им два литра номисм, 144 номисмы пакта, денежек договорных.
Мысли Демитры потекли по привычному руслу. Пора заниматься рутинной работой: не каждый же мог из дома принесть на 50 положенных суток хлеба и масла, сыра, вина, особенно из наёмников в фемном ополчении, да чужаков из аланов и готов.
Демитра на полуслове доносившегося за окнами ора солдат захлопнула окна.
Драгоценные, чужеземные, прозрачные, как небо столицы, стёкла окон. Стекло ей везли, раз местного не захотела гордячка. Мутновато оно, не прозрачно-зеленого цвета, потому и везли из-за моря. Из Сирии, что ли? Как становили стекло, так изныла душой вся стекольная слобода: всё ей не так, и всё ей не эдак. Ворчали между собой мастеровые: мы в церквах стеклом узоры стелили, сколько бассейнов цветочным стеклом уложили, а ей всё не так.
Ворчали, конечно, как не ворчать? Их умение да старание Демитра не оценила, вынь ей заморское чудо и вставь!
Ворчали зазря. Стекло сирийское или дамасское несравнимо с местным, действительно, мутным, зеленоватым и толстым стеклом. Конечно, в бассейнах иного не надо, тонкое, звонкое стекло из заморья не годилось под ноги. Зато на окна Демитры с порта с кораблей люди смотрели вприщур, так било по глазу солнечный блик-отраженье, просто на заглядение!
Вначале стратиг был причудой жены недоволен: пришлось отскрести из положенных для кастрона Херсона дотаций, а это 10 литр казенного золота в 720 монет на прихоть супруги. Но когда из порта на окна смотреть, так стекла солнцем пылали, что сразу всем видно: знатен стратиг и богат. И заранее кланялись чуть не в ноги мошенники из купцов и нахалов-гостей, понимая, такому стратигу медушку не кинешь, отстегивай золото, да и только.
Причем, полноценные деньги-номисмы, не базилевсовы, что в двенадцать раз дешевле по весу.
И опять оценил стратиг тактику драгоценной супруги, стал называть её в шутку «мой стратег». И шутка была принята с благосклонной улыбкой.
Пусть я погиб и взят Хароном
Демитра захлопнула окна, но топот солдат под древнюю-древнюю песню в такт их ходьбы всё равно доносился сквозь ставни:
«Пусть я погиб и взят Хароном», – сафьяновые каблучки её отбили такт древнего, слегка переиначенного марша,-
«Пусть я погиб и взят Хароном, И кровь моя досталась псам, Орел шестого легиона, Орел шестого легиона Все так же рвется к небесам! Все так же храбр он и беспечен, И бег его неукротим, Пусть век солдата быстротечен, Пусть век солдата быстротечен, Но вечен Рим, но вечен Рим! Пот, кровь, мозоли нам не в тягость, На раны плюй – не до того! Пусть даст приказ нам император, Пусть даст приказ нам император, Мы с честью выполним его! Сожжен в песках Иерусалима, В волнах Евфрата закален, В честь императора Ромеи, В честь императора Ромеи Шестой шагает легион!»Кто-то из ополченцев так забавно рыкал «Ор-р-рел» и «Р-р-рима», так громко и звучно, что Демитра привстала, приоткрыла окно и выглянула, но старателя не увидела. Но как только захлопнула створку, как послышался трест звонкой зуботычины по орущему «р» рту: капралы-сержанты всех армий-веков всегда одинаковы. «Без битвы нет битвы», как любил пошучивать муженек.
Нет, окончательно день не удался. Ни мужа, пропавшего в чиновничьих коридорах имперских амбиций, ни Еремеевны, одна скукотень.
На пир к посланнику дам не просили, ибо зазорно матронам на питии быть. Похабщину слушать можно и дома: мало ли как муж-солдафон один на один с ней упражнялся. Не хватало еще на званом пиру анекдотики слушать да небылицы про императора да дочку его Анну Комнину.
Матрона поправила роскошь холеных кудрявых волос. Снова входила в скоротечную моду старинная блажь: поднимали на темечке волосы, сзади хвостом струились локоны по тоненькой шее, закрывая драгоценность колье. Рыжину в черные волосы гречанки добавляла, умеючи. Та ж Еремеевна знала какие притирки, а где находила, секрет. Но эта рыжинка завистью злобной в глазах смуглотелых ромеек сверкала: так прелестно было на эту рыжинку смотреть в копне волос дамы Демитры.
Демитра любила, когда дамы из света хвалили её красоту мёдом из уст, истекая ядом из черных глазищ. Ей краще (лучше) мёда такая оценка. Куда мужикам с их неуклюжими комплиментами в адрес стратигши, ну, розой её обзовут, ну, лавандой. А дамочки, о, как смотрели, смотрели то как!
Глупое мужичьё веками считает, что наряды, притирки, меха и колье женщина приобретает лишь ради них. Нет, конечно, мужчин тоже надо учитывать, когда глаза разбегаются на рынковых рядах при выборе меха и благовоний, шелков, бархатов, украшений.
Но прекрасная дама давно разумела: привлечь хоть патриция, хоть и раба можно блеском ясных очей или движением губ, а красота украшений служит только оправой к драгоценной коже её и глазам.
Нет, одеваются дамы, дабы дразнить своих соплеменниц. Когда видишь ярость в глазах самой ближайшей подруги при виде обновки, слаще медов-сахаров такая потеха. Это вроде тихой охоты. Исчезли времена амазонок, охотой балуются только мужи, ну, а дамам азарт и счастье победы где добывать? Только таким видом тихой охоты сражаешь чуть не в смерть соперницы взгляд. И еще посмотреть, какая добыча удачней. Пусть мужчины зычно хвалятся добычей охоты, гонкой погони и смертью врагов, пусть тешатся слабые люди. Сильные люди, Демитра имела в виду, конечно, себя, супругу стратига, такие, избранные, как считала она, наслаждаются молча. И оттого намного страшнее и удачливей бой, и тем слаще победа.
Нет, день не удался, совсем не удался.
Может, позвать девчонку, что недавно в доме своем приютила? Девчонка была хороша! Правда, из квартала евреев, но супруга стратига могла себе вольность позволить, и взять в услуженье хоть иудайку, хоть половчанку, ведь ходит ж русинка к ней мазь натирать. Девчонка смышлена, весела и услужлива, правда, есть один недостаток, слишком красива. Мириам была совершенна. Ну да ладно, посмотрим, как красота Мириам оттеняет её красоту. Девчонки жених, тщедушный Иаков преподнес такой драгоценный подарок, что муж, повернувшись, сразу заткнется. Крестик Анны Святой, презентик такой утешит любого в столице, хоть императору преподнести, хоть дочери базилевса, тоже Анне.
Нет, правда, вернется стратиг, и она, торжествуя, отдаст драгоценную ношу в руки ему, и пусть собирается снова в столицу, хлопотать, хлопотать, хлопотать. Пора, засиделась она в Херсонесе.
Провинция хороша, но не настолько, чтобы её красота здесь увядала. И так уж морщинок плодятся тучи по коже уже не только лица, но и шеи. Еще пара годков в Херсонесе и о карьере столичной жены придется забыть.
А муженёк только возрадуется драгоценной добыче и простит появление Мириам. Девчушка чем-то напоминала ей дочь, вернее, ту дочь, которую не родила, но так хотелось родить. Взрослая девочка ослепительна красотой и именно такая дочь могла быть у неё и стратига. Не дурочка, забавна, свежа, обаятельна и совсем не капризна, просто прелесть ребенок.
Решила: сейчас позову скуку развеять, новости разузнать.
Диспут
Иисус сказал: ныне прославился Сын человеческий,
И Бог прославился в Нем.
Если Бог прославился в Нем, То и Бог прославит Его.
(Евангелие от Иоанна,13: (31-32)О, какой удачный сегодня денёк. Солнышко в темечко, синь-ветерок, море играет, ах, славный денёк!
Насобирал по дороге вдоль моря сиреневых трав, стоявших кустарниками вдоль берега и дорожки, от них пахнуло летом.
Ах да, и правда, вскорости лето.
Пора торопиться, пора задуманное доводить до конца.
Фанаил прибавил шажищ: торопился.
В склепе темно, пахло старой вонью сдохнувших крыс. Задохнулся с порога, но чем ниже спускался, тем запах слабее. В привычной уже для себя позе присел на ступеньки: «Не спишь?»
Узник не спал. Синие брызги громадных глазищ смотрели устало. На исхудалом лице разве что только глаза и остались. Вся сила – в глазах.
С него сняли кандалы-ножные оковы: куда такому до порожка наверх по ступенечкам доползти, такой сдохнет на третьей. А тот и сам понимал, сдохнет, конечно.
Роли своей не страшился и не стыдился. Противно, конечно, сидеть в полутемном углу день-деньской да ноченькой темной. Сон не брал его вовсе.
«Не сплю».
«Что, скучаешь?» – медовый гласок.
«Нет, не скучаю».
«Как так, ты же один?»
«Я не один…»
Второй засмеялся: «Ну, да, не один, я же с тобою».
Узник ответил:
«Нет, я не один, и ты не со мною. Со мною – не ты!»
«А кто? Таракан? Или ящерка забредает поговорить? Ты, часом разумом не поехал? Вспоминаешь Никифора да Климента. А сейчас кого вспомнишь, меня?»
Отсмеялся и начал: «Вот ты один и вас было много, кучка монахов, да сколько там при вас…»
Узник прервал: «Откуда ты знаешь, что мало иль много? Меру кто знает: много то или мало? И что может один? И что могут многие?»
Вошедший прервал: «Нет, погоди, не дури, не путай и не плутай. Я, вот один, и ты, вот один. Вместе нас двое…»
Узник опять: «Двое, но вместе ли? Рядом, быть может, но вместе…», и покачал головой.
Тот наконец понял: «ах, тонкости то какие! Разом («вместе» по древнерусски) или рядом, какие тонкости разума, тонкости языка, книжник ты этакий. Поднаторел в монастырских баталиях? Ну, и я и зря хлеб не ем: Ветхий Завет могу наизусть. А что, хочешь меняться: я – пару строф, потом ты, умник-разумник?»
Тот покачал головой: «Не под силу… Мной Ветхий Завет учен и знан, Бытие и Исход, Числа, Левит, Второзаконие тож… а вот Новый Завет ты не хочешь узнать?
И тихо начал шептать более для себя, чем для диспута:
«Отче наш, иже еси на небеси! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, Да будет Воля твоя яко на небесах и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…»
Второй не прервал, а с готовностью слушал, даже подался вперед:
«Ну, и где твой хлеб еженасущный, а, скажи-ка мне, где? Две недели тебя я мордую голодом, жаждой морю. А ты мне про хлеб? Где твой Господь, а, скажи мне, где Он бывает? Где хлеб твой? И где ваша воля? Какая уж воля, сидишь в кандалах, сил нет подняться с карачек. Застыл в своем мёртвом углу с мёртвыми рядом, а всё рассуждаешь. Тьфу, как противно! И передразнил: «… и остави нам долги наши…» Ну, и кому же ты должен? Разве что мне! За тебя и этих с тобой чернорясых отдал я тысячу веских номисм и зря! Ты понимаешь, о чем я? О ты-ся-че номисм!!! И золотых, между прочим!!! Состояние!!! И за кого? За нескольких босых, голодных монахов, тупых и бездарных? За веру свою сдохли с голода все, кроме тебя. Ты живешь, но пока!!» Тонким красивым пальцем помахал перед глазами страдальца: «пока!»
Но узник, как бы не слыша, свое продолжал: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Евангелие от Луки, 11).
Фанаил, будто не слыша святые слова, продолжал свои речи: «Да не злой я, не злой! Всего-то просил частицу малую: перейдите от веры вашей немноготрудной, откиньте вы заблуждения. Так нет, все твердили одно: умрем за Христа!
Ну и сдохли, туда им дорога!
И где ваш Христос? Кружку воды вам подал или хлеба? Чудеса сотворил, так не спали ж оковы с вас, с голодалых? Вон, пришлось даже оковы перековать: спадывали с вас, а мне всё затраты. Убытки, убытки кто возместит? А, ответишь, пожалуй! Мне ни тебя, ни Христа твоего жалеть нет причины, убытки, убытки, одни лишь убытки. Я разорён! Тысячу золотых, тысячу золотых, на них пол-Херсона скупить было можно».
Второй продолжал: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их..» (Евангелие от Иоанна, 12).
Первый продолжил свою часть «беседы», и издали можно подумать, что два товарища присели в тихом углу вдали от жаркого солнышка, да и задержались в задушевном своем разговоре.
Итак, первый продолжил свою часть беседы: «Странные люди эти монахи… пост и молитва, молитва и пост… что то дает? И, зачем ты подался в монахи? Мне тут порассказывали, был ты богат, тучен и знатен. Но, дурачище ты эдакий, пораздавал нищим всё, не тобой нажитое, и тоже в нищего обратился? Зачем, ну зачем ты подался в монахи?»
Второй тихо: «Господь наш призвал, я и пошёл, не противился воле Господней. Поверь, инока жизнь – не суетна, мирская – суетна, инока жизнь преподобна, мирская же полна клевет, инока жизнь к духу стремится, мирская к плоти; инока жизнь – к небу, мирская – к земле…»
Помолчал, ожидая упреков от первого дискутера, но тот, подопрев коленку рукой, внимательно слушал.
И второй продолжал так же тихо, как начал: «Как тебе объяснить? Понимается, пост и молитва недаром даны нам святыми отцами. В моем монастыре, что на Киевских пагорбах (холмах), игумном по имени Феодосий, заложено было, и братия наша его зову внимала и следует суть, так как он нас учил: «воздержитесь от пищи обильной, ибо от многоядения и пития безмерного безмежно же возрастут лукавые помыслы, а от возросшего помысла случается грех. Воздержитесь, и противьтесь бесовскому действию и пронырливости этих тварей, остерегайтесь лености и многого сна, ибо бодрствовать следует для церковного бдения, церковного пения и для усвоения предания отеческого и чтения книжного». Так учил святой наш отец.
Но это лишь половина задачи, нет, пожалуй, даже малая треть.
Мыслится мне, если следовать только этой части завета, то мы превратимся в схоластиков суть, в чернокнижников и фарисеев. Много таких и у вас, и у нас.
Вот ты гармоничен. Красив, величав с внешностью без изъянов. Как в древние, то бишь языческие времена. Нам наша вера открыла, что человек может быть, так сказать, дисгармоничен. Пример? Пойми, кроме внешней, есть более важная красота, душевная красота. Наши святые, и многие их числа, поразительно внешне отталкивающие от взора. Аскетов тела струпьём покрыты, раны не заживают, кровь сочится из тела, босы и грязны. А вглядишься в свет их очей, в зеркала души, и такая благодать Духа Святого сочится из глаз, что мёда не надо.
Но что от того, что просто аскетом может жить человек, без упования на Бога? Я считаю, что сердце отверзается для истинной молитвы аскета-монаха не только постом и страданием. Сердце его отверзается перстом Божиим, когда соблаговолит Господь Бог и когда сердце очистится от страстей. А отверзается нам через молитву.
Правда, скажу, что тело у человека создано Богом по образу и подобию Его, и не могу считать пренебрежение к телу правильным. Но что тут поделать? Лишён я воды, чистоты и жилища. То выбор не мой, а твой, чьё тело прекрасно, омыто с утра и благоухает.
Понимаешь, как тебе дать понять, что внешняя, то есть земная красота человека это только ступенька на пути к высшему, к благодати небесной».
Первый прервал: «И это ты мне твердишь, ты, аскет? Как мне про тебя говорили, ты с детства, чуть не с пелёнок аскезу ведёшь, уходя от земного в темноту мрачных пещер, слизью покрытых и мраком внутри. И тебе ль говорить о красоте, земной или небесной?
Я считаю! – палец опять поднят к небу, блеснули в полумраке брызги от драгоценных камней на перстах, – так вот, я считаю, что твой аскетизм, это фактически отрицание мира, его ценностей и идеалов. А значит так, это ты, именно ты приверженец зла, а не я. Понял, подлюка»?
В сердцах бросил камень во своего визави. И не попал. И оттого плюнул с досады. И плевок не попал.
Второй как бы не слышал, как бы не видел поруганье такое, только горестно передохнул, и продолжил: «Нам Феодосий заветывал главную мысль: больше любви иметь в себе. Но не к себе! А ко всем меньшим и старшим. К старшим иметь покорность и послушание, а меньшим к старшим проявлять только любовь. Старшим пример подавать послушанием, наставлять в разуме братию нашу, и являть пример воздержания, бдения; так проявляется пост. Великий пост в 40 дней дается для очищения душ. По сути это ведь десятина, даваема нами от года Богу Всевышнему. Постом очищается ум человека!
Ты – умный и знающий, ведаешь сам, что не случайно же Моисей постился все сорок дней, и сподобился получить на Синайской горе Божий закон и видел он славу Божию. И мать Самуила постилась перед рождением его.
Еще примеры? Пожалуйста! Постился Илья и взят был на небо, и, самое главное, что хочу донести до тебя: постился Господь сорок дней. И потому эти сорок быстрых дней нам завещаны Господом нашим, Иисусом Христом».
Первого дернуло, как будто током: подорвался, поскользнулся на стертой ступеньке и подскочил, только что не вплотную, ко второму спорящему с ним, таким знающим фарисеем.
«Иисус? Ты сказал, Иисус? Неудачный пример, весьма неудачный. Моисей, что ж, я согласен. Мать Самуила, само собой. Я даже добавлю еще примерчик: постились ниневитяне и тем самым от гнева избавились Божьего. Или вот ещё один из примеров: постился Даниил, и великое видение сподобился видеть. Живые примеры записаны в Вечной книге», – и снова поднял безукоризненный палец.
А твой Иисус? Кто видел, как Он постился? Кто подтвердит?»
Второй улыбнулся только глазами: «Пойми, Бог поругаем не бывал и не будет. Вам, иудеям, нужны доказательства всему и всемя? Умное племя погрязло в законах. Пойми, есть буква и дух. Буква для вас. Дух же – для нас! Потому и молитва…»
Но далее прервал его искуситель.
Тут я впрямую назову того, кто в образе Фанаила мучил Евстратия. Искуситель вошёл в тело ростовщика, и искуситель теперь, практически напрямую вёл диспут с подобием Бога, со смертным, с человеком.
Итак, прервал Фанаил измождённого и возопил: «В чём я сущ? Я горжусь, что неуклонно мной соблюдён наш закон. Безукоризненно, именно без укоризны любого из фарисеев, книжников и раввинов я соблюдаю закон. А как соблюдаю? Я его исполняю».
Узник (устало): «Павел апостол, подметил, что ни моральное зло, ни лежащий в основе его всякий грех в мир не вошли бы, если не даден был человеку закон. «Что же скажем? Неужли грех от закона? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди и закона, произвёл во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мёртв.» Слова апостола-пастыря тебе хочу донести, пойми хотя бы крупицу истины нашей, не вашей.
Я так понимаю, Павел нам доносил до нашего сердца, что всякая заповедь, всякий закон, данные нам для блага, для нашего блага, являются испытанием воли-свободы. Злые силы, духовные силы, искушают тебя и меня, прельщают картинами иллюзорного блага. Не всякий может так запросто-просто уйти от соблазна, потому в подкрепление сил я и ушёл от соблазна грехов в пещерку свою во имя свободы, Богу служению суть.
Длинный свой монолог узник продолжил, передохнув. «Мыслю я так, что не только через нарушение любого закона, но парадоксально звучит, и через самое что ни на есть безукоризненное его исполнение человек попадает под власть сил. Очень злых сил, я разумею.
Разве я удивлён, разве ты удивлён, что Господь наш, Иисус Христос свой праведный гнев обращал не на грешников, а на будто бы праведников-фарисеев, которые абсолютно беспрекословно и безукоризненно исполняли закон, прежде всего заповеди Моисея.
Почему Спаситель был так непреклонен, будучи милостив к грешникам и блуднице, мытарю и рыбакам?
Я на примере тебе приведу, близком к тебе. О субботе. Почему ценна заповедь о субботе? Потому что Богом дана. Но представлю себе, что забуду Его, перестану видеть Его, любить как Отца, а всей душой прилеплюсь только к словам, к текстам заповедей Его. Станут они злом для меня, хотя сами по себе и добром суть их, и не перестанут хорошими бысть. Тогда празднование субботы будет кумиром, потому станет для человека только заповедь, а не веяние Воли Божьей. И уходит человек с Божьей стези на идолопоклонскую, как и стало у Вас, иудеев.
Ведь некогда стали вы поклоняться тельцу, забросив, отринув заповеди, данные Моисею. Скажешь, не так»?
Первый молчал: чем крыть на голую правду?
Узник продолжил: «В чём заблуждение? Поскольку утверждение, что заповедь о субботе правильна есть без оглядки на веяние Божьей Силы, пленяешься сам себе. Тогда всякое правило нравственности и их совокупность становятся самодавлеющими по той простенькой по причине, что я так решил. И начинаешь поклоняться кому? Да себе, драгоценному»!
Первый дёрнулся, понял намёк, но не прервал мудрости суть.
Второй тихо продолжил длинную речь. Видно было, как он устал: старое заикание, давно, ещё с детства пришедшее со смертью родителей, всё сильнее сказывалось на темпе речи. Но он, превозмогая своё неумение в красноречии, продолжал, а первый привык, пообвыкнув к такой странной подаче словесного материала.
«Чем выше предмет твоего увлечения, тем больше соблазн, и тем более тропинка опасней. Свернул ты с дороги, широкой, протоптанной, свернул на тропинки извилистый путь, не приводящий к спасению. И чем чище живёшь, тем глубже, опаснее и неискоренимее страсть поклонения к себе самому. Вот почему наш Апостол (Павел-Савл) сказал: «Сказываю вам, что там на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». От себя, грешный, добавлю: есть глубокая разница, пропасть между законом и справедливостью, целая пропасть.
Христос эту разницу понимал! И ты постарайся понять его простые слова, что суббота для человека, а не человек для субботы.
Я что ещё хочу тебе донести? А почему я спорю с тобой, видя сущность твою? Потому что ты человек! Пока – человек. Вот к человеческой сущности обращаюсь, пойми, и, не поздно пока, прими покаяние…»
Хотел ещё что-то продолжить, но первый внезапно поднялся, даже вскочил и рванул из пещеры.
Второй прикрыл уставшие очи и провалился в забытие.
Кончилось детство
Отца привезли ночью. Забарабанили в тёсаные ворота, что обшиты дубьём на всяк такой случай, застучали ногами, дубинами, мать всколыхнулась: беда! Не княжьевы тиуны или иная какая погибель, не русичи пьяные по слободе шатанье устроили с медведями да кабанами на привязи, пришла другая беда!
В сердце как ком, ни оха, ни вздоха. Домна взобралась в спаленку терема: беда, матка, беда!
«Открывай»!
Мать, как полотно в цвет белейшей рубашки, косы под плат, наскоро на рубаху накинула верхнее, поторопилась выбежать вниз.
Дворня собралась с огнями да с топорами: кто так стучит, греха не боясь, ноченькой темной, мёрзлой и стылой, дом то пустой: хозяин в отъезде.
Домна мать поддержала: у той ноги подкашивались от близкого горя, все дальше белела лицом, хотя дальше вроде и некуда.
«Кто там стучит»? А в ответ: «Отворяй, хозяина привезли! Да живее, час не ровен, кончиться может».
Со скрипом открыли калитку в заборе: ворота открыть, а вдруг кто лихой? Прыткая Домна голову за ворота высунула: «И впрямь, наш хозяин!»
На наскоро срубленных из берёзок двух перекладинах, на клочьях чёрного сена тело хозяина, без движения, без дыхания. Мощные руки кто-то сложил, на грудь положили, такого хоть счас в могилу.
Мать враз сомлела.
Голос оттуда, из-за ворот: «Куда вашего-то складывать будем? Да торопитесь! Нам до рассвета еще остальных развозить, до утра, до рани успеть ба». Засуетились, воротца открыли, оттуда двое рослых внесли тело, осмотрелись. От света дворницкой ещё темней становилось, чёрные отблески факелов даром коптили чистое небо.
Пришлые молча бросили тело на землю, развернулись, перед воротами, обернувшись, поклон сотворили: прощайте, однако. И растворились в ночи. Топот копыт, и так приглушенный, стих в темени ночи. Кто эти двое? Откуда хозяин? Что за напасть?
Двое старушек возились близ мамы. Юрко подбежал, бабки зацикали: «Уходи-ка, малец, не видишь, как матери плохо»? Мальчик не слушал. Опустился на корточки, поднял безжизненную руку матушки родной – беда!»
Сзади кашлянули взрослые дяди: «Что делать, хозяин?»
Обернулся. Толпа мужиков, вся дворня, челядь, холопы стояли кругом: «что делать, хозяин?». И понял: хозяин-то – он!
В тринадцать, мальчишка, мамкин любимец, пестованный-пестованный до баловства, и хозяин?
Завертел головой: что делать, что делать? Челядь молчала…
Выдвинулся старый Пахом: «Слышь-ка, хозяин, у батюшки твоего рана в груди от сабельки будет, не половецкой, а нашей. Нужно на княжий правёж доложить, иначе сожгут, Святополк не жалеет. Сожгут, ой, сожгут, не помилуют!»
Мальчик вроде как и не слышал: сзади него белое тело отца в белой рубашке, вышитой матерью редким узором утицей, деревом вечным да родовым, вьётся красный узор по белому полю, редкая редкость в нонешние времена.
Вышивке только учились, входила новая мода в знатные домы, по тканому полотну руки боярынь, княжон иголкой водили узоры – расцветья.
Мать исстаралась: отцу вышила саморучно по рукавам да отвороту рубахи чистый старинный узор древнего древа, утицы-птицы, рода начальницы, племени знак.
Ворот рубахи разорван до пупа, из белой груди сочится красная жидкость, падая неслышными каплями на землю сырую.
Так и запомнил навеки каплями красную кровь, и мамины руки, разбросанные по земле, скелетевшие миг от мига. Открытые дивные очи милой матуси уже закрывала старуха платком-покрывалом.
В ночь потеряв и мать и отца, сидел до заутрени, как сам мертв у матери в горнице, не отходя от холодной руки. Теплые руки мальчишки держали холодную руку её, согревая дыханием, но холода мрак руки матери удерживал крепко.
Едва оттащили… Не помнил ни поминальнои тризны, ни отпевания в церквушке на погосте (кладбище). Не помнил совсем!
Сколько раз он потом, в тишине полумрака убогой вырытой кельи пытался вспомнить хоть миг, но помнились руки, красивые белые руки, леденевшие в его дрожавших руках, белые тонкие пальцы без украшений (мать наряжать себя не любила, и часто в храм относила подарки отца, лалы да яхонты: кровь на них, кровь!). Руки так некрасиво покрывались синими пятнами, мамины руки. Почему-то запомнил рыжий пушок волос на нежных руках. Удивлялся, вроде мать не рыжей была? А пушок вот запомнил…
А как хоронили не помнил. Отца вовсе не было будто. Кроме капелек крови из рваной рубахи не помнил совсем ничего.
От княжеского правежа запомнил одно: «Сын за отца не ответчик!»
После тех похорон свалился в бреду, а сколько, не знает.
Но утром однажды вышел во двор. Привычная суетня богатого дома привычно-обычно обыденным хлопотом круговерть ежедневных событий держала челядь, холопов у дома.
Входила скотина во двор, мыча от предвкушения близкой сладкой водицы, бегали юркие поросятки, как собачонки, по стылому двору, утица пыталась лебедушкой белой проплыть по двору, да только корячилась с ноги на ногу, крякая на весь двор.
За хлопотами не сразу увидели на стылом крыльце, расшитом резными узорами под дуб да клен белый, хозяина молодого. Стоял бледный, худой, в одной исподней рубашке, не замечая ни стылости, ни своей срамоты.
Домна вмиг подскочила, взяла под ручки, завела не в хоромы, в кухню ввела покормить.
Ел будто нехотя, брал в руки только что было из постного хлеб, лук да репу. Пивом домашним запил нехитрую снедь.
Домнушка захлопотала: «Юронько, милый, сейчас же не пост. Вот, рыбки отведай, а, хочешь, я уточки изловлю?» Рукой отмахнулся: не надо! «Домна, скажи, кто мой отец?»
Та даже руками от изумления всплеснула: «Юронько, милый, как кто отец? Батюшки родного что ли не помнишь?» Даже мыслишка мелькнула, может, малец и тронулся часом. И то, потерять враз и мать, и отца, свихнешься, коли сердце имеешь.
Юрко продолжал, сердясь на скудный умишко старушки: «Кто мой отец?»
Та, наконец, поняла, и что врать тоже не нужно, тож поняла Начала, глаза в стол опустив, руки под щеки:
«Бают, отец твой в разбойниках был. Душегубом! Ночами лесами ходил со своею ватагой. Слышь, был вроде как в атаманах. Грабили что купцов, что боярский народец. Оттуда матушке и приносил в чистом платочке лалы, рубины, сапфиры да яхонты из мокрого черного леса.
А бают еще (старуха аж раскраснелась), что батюшка твой воровал так чисто для наслажденья, матушке колечко иль гривну (женское шейное украшение) добыть.
А как узнает, что в храм относила подарочки мужа, так поколотит, конечно, но сердцем отходчив покойничек был.
Ойкнула, про покойничка зря она что ли? но мальчик-отрок на это и ухом не двинул. И продолжала: «колотит-колотит, а потом снова привезет, да еще краше гостинец.
Но страшное люди бают-толкуют, что батюшка твой не только за гостинцами по лесу шастал. Жёг села, деревеньки, посады, а людишек в полон отдавал! Князюшек этих, что свои деревеньки ему отдавали, Святополк, а что Святополк? Князь Святополк, слышь, их не тронул, видать, откупились. Князь наш знаменит своею скаредой. Недаром жидам пол-Киева на откуп отдал. Да мало, все мало, ему, окаянному. А делать что будешь? Ну, кто супротив словечко промолвит, на того дружина из русов враз налетит, на правёж. Под дыбу или по обычаю в плен продадут. Куда ни кинь, везде клин!».
Отрок слушал, не перебивая ни вздохом, ни словом болтовню неугомонной старухи, а та продолжала, уже искренне переживая и за себя, и за Киев, и за свою деревеньку, что где-то там затерялась, в глубине полесских дубрав.
«Вот люди и бают, что батюшка ваш (от злости на князя сама не заметив, перешла на недоброе «вы») не в последних у князя ходил порученцах. Сам, то конечно, отца не видал. Они, слышь, через огнищанина какого-то соотношались. Тот и дележку творил: князеву – что, что – огнищанину, что – прочей ватаге.
Дом-то от ваш на те деньги и строен. Ворота тесанные да крылечко с узором на горе людском, да на стонах ребят.
Матушка сколько раз от него уходила, да вот куда. Привезут назад, запрут в ее горнице, ты маленький был, ты и не помнишь?»
Покивал головой: «Точно, не помню… А вот огнищанина того знаю! Видел на торжище, я тогда маленький был. А огнищанина помню, злой он был, нехороший».
Домнушка подхватила: «Точно, что был! Вскорости, как мы в девятый денёк на могилке хозяйки поплакали, нашли того огнищанина на юру. Повесился, что ли, или ему кто подмогнул, Господь один ведает. Может, и князь, концы в воду, слугу на березу. С мёртвого спросишь, ага. Потому и тебя не пытали на княжем двору. Князю свой недочет народу открыть было неможно: народ и на вилы за такое поднимет. Так что отделались мы легким испугом: огласили, что ночью на батюшку твоего разбойнички-то напали, и делу конец. Ты, милой, кушай, кушай!»
«Нет, Домнушка, сыт я по горло отцовским добром!», – и ладонью прихлопнул по столешнице дуба.
Домна хотела поплакать да пожалеть несмышленого отрока, сироту, а перед ней за столом сидел возмужалый, разве что не мужчина, хозяин.
«Ох, как на батюшку-то похож! Если б не матери чистые очи, крут был бы отроче. Юрочком да Юрком и не зови, вон как глазищи сверкают». Оробевшая Домна, растерявшись спросила: «Что ж делать, хозяин?»
Его подтолкнули эти слова, поклонился стряпухе, шапку на голову, и в раз подался со двора.
Старец. Встреча. Выбор
Вроде недавно, год еще не прошел, как бежал он мальчишкой по этим озерцам, на огороде пустом морковки собрал, а сейчас к пещере стремился, едва не летел отрок лет так тринадцать по стати, да с лицом опыта горя, что сорок и дашь.
У пещерки босой старичок присел на порожке: заждался!
«Добрался, никак?»
Отрок, в пояс поклоном: «Здравь будешь, отче!»
А старче, будто не слышал: «Добрался, браток? Садись, отдохни, будем думати».
Отрок напротив, кинув шапку на землю, сел на камень, стылость не чуя, колени под голову. Не ребенок, а рот приоткрыл: старик долго с ним разговаривать будет?
А тот продолжал: «Я скоро уйду, Господь призывает! А ты, отрок, запомни, совета не жди, сам разумей из моего разговору…
Был я как ты, счастлив порами, бывали невзгоды, бывала беда. Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего (Патерик или Отечник, стр. 26), ибо Божья Любовь и Господняя милость, то спутники наши. А я только толику малую мог ему передать, отречетися от имения моего.
Земля стала моим ложем, власяница одеждой, бдение было мне сном, а слёзы успокоением. Днём я работал, а ночью псалмы пел: утехи мирские так просто не отпускают.
Отверг я великую тяготу, что камнем давила, богатство, тот груз, что камнем на шее, да камнем на сердце.
Давит богатство, давит меня. Не дало богатство ни утешения, ни даже любови.
Долго не понимал, что Бога любовь – всевышнее благо. Бог любит нас, а мы всегда на распутье: мирского утехи, почести, слава, беды врага, женские чары, все это сует и плен. Они застилают чистой-чистой воды бриллиант, что мы держим в навозе – Божью любовь к человеку.
Я Богу сердце отдал и ни дня не жалею. Ужо скоро душу отдам. Опять, не жалею.
Искал совершенства… В мира благах? То – суета, ими себя не насытишь.
Богат, ищешь почестей, почести есть, ищешь здоровья, здоровому быть, а где твоя мудрость? Ищешь снова и снова красноречия, благодати.
Суетным пленом наших желаний ты выбор свой правильным думаешь, а Бог выбор дает, но ты сам выбираешь, быть Бога рабом или в рабство желаний себя погрузить?
Нет совершенства на этой земле, Бог лишь один совершен и Ангели его благодатны.
Уйдут искушения и ты в чистоте: монашества житие в безмолвии да рукоделии, неосуждении, неоклеветании, ибо «любящие Господа да возненавидьте зло»!
Молчание, Божьих заповедей соблюдение, смирение и нищета: это что, разве много?
Боролся я с миром и с телом, и с дьяволом. С миром через его отвержение, с телом – через его умерщвление, с дьяволом через пост и молитву. И разве этого много?
Я сораспялся Христу, чтобы жити для Бога Единого.
Хоромы? Вертепы, хлевы. Там гордыня и гнев, там стяжание и снова гордыня, эта царица грехов. Нечистота, смрад, а людям всё мало. Чужим не насытишься, как твой отец. Как псы, люд кидается на добродетель: распять, уничтожить, подмять.
Голубку чистую, матушку помни. Добродетельна матушка и чиста. Душой искренняя, телом невинна: на небе она, и не плачь. Там утешение, там, только там чистый свет благодати.
Сердцем не каменей, зла не держи на отца. Пусть грешник пред Богом ответ держит сам, не привязывайся ты к грехам его грузом тяжёлым, не надо. Прости и прощеному будешь!
Сейчас выбираешь, к чистым идти или к нечистым, сейчас. Труден ли путь изберешь, или лёгок, выберешь сам. Но помни, что труден, ой каков труден путь изберешь. Матушка выбрала трудненький крест, пронесла, не роняла.
А твой крест, то не каждому даден. Терновый венец во все дни на Кресте, истинно сладкий удел для любящих Бога!
Ты выбирай! Бог, только Бог даёт нам свободу, помни всегда: раб Господен свободен еси. И ты выбираешь, только ты выбираешь, как труден будет твой путь или лёгок.
И помни еще.
Сладкою жизнью, что такою миряне свою называют, ты долго будешь душу калечить до старости до глубокой, долго и сладко в пирах наслаждений будешь душу поганить долгою жизнью, так что смерти у Бога просить, не дождаться!
И подлинной сладостью здесь жизнью короткой и многотрудной, тому будет сладка лютая смерть, но перед вечным Блаженством.
Ты – выбирай, брат во Христе, ты – выбирай!»
Долго молчали, сидели рядком.
Отрок переваривал всё выше сказанное, старик думы его не прерывал, понимая, что отроку многое непонятно, понимание многого придет по течению времени. Всё объяснить, так запутается паренёк, замешается в мыслях. Да и объяснять до поры до нужного времени было не в мочь, и так много лишнего понаведывал.
Бывает молчание тягостным, трудным, бывает, как вот сейчас, лёгким и тихим, которое прерывать словцом или делом не хочется: так бы сидеть и сидеть до скончания века.
Наконец старец поднялся на лёгкие ноги:
«Пора мне, сынок! Прости мне, прости за грехи мои вольные и невольные, отойду к Господу и там ждать тебя буду. Недолго мне ждать, ой, как недолго, ну, да на всё воля Господня. И чистый твой путь, и моя грешника жизнь – все перед Богом стоим, как свечечки божии!»
Прощались земными поклонами старец и отрок, передающий знания и восприемник.
Пасех
Я посылаю к вам пророков и мудрых,
И книжников; а вы иных убьете и
Распнете, а иных будете бить в синагогах
Ваших и гнать из города в город,
Да придет на вас вся кровь праведная, Пролитая на земле, от крови Авеля Праведного до крови….
Истинно говорю вам, что все сие придет На род сей!
(Евангелие от Матфея. гл.23: 34-36)Пасех удается на славу! Марта двадцать восьмое число, а будто апрель или солнечный май. Солнце объяло могучую землю, холмы цветут, девичьи лица цветут, синее море брызжет, играя волнами; вдалеке стайка дельфинов резвится в дымке тумана, позабыв о хищной белуге, тоже играют на солнце.
Детвору на холм не брали, женщин тем более. С подёнщиками расплатились местной медью дрянной, хватит и этого. Те и подались в Херсон пропивать-проедать заработанное. Немого Егорку оставили: что немой кому скажет, да к тому же он раб, не свидетель он против хозяина. Стар словянин, можно подумать, придурок, а что с убогого взять? Помычит, помычит какой-нибудь не менее старой, чем он, словянской дурехе, которую отогнали с её пасовища подалее в овражки ближе к стенам восточным. Там ей и безопасней и попрохладней.
Еремеевна согласилась. Пастушонок умчался обедать, сама старая коровёнок отогнать не могла, так рослые ребятушки помогли, такие добрые молодцы, дай Бог им здоровья.
Между собой говорили по-своему. Бабка не поняла их короткий окрик добровольным помощникам вернуться скорее. Поклонилась оставшимся у креста: спасибо, родные, уважили бабку.
И на холме, кроме кучки евреев, быть некому было: пастушонка так укормили, что почти относили к сонному стаду, где и Еремеевна вздремнула, присев на пенёчке. Усталые ноги дрожали, поди-тка, сколь отходила на старости старой.
На холме пооставались только свои.
Человек этак двадцать скучилось у креста, степенно и строго обсуждая дела, торги и прибутки (прибыль), заодно осудили мастеровых, чтоб у них руки отсохли за такую работу. Крест колыхался на вершине холма: «нет, чтоб поставить прочно, вырыв яму поглубже, и крест прикопать, глядишь, и стоял бы ровно и прочно».
Обсуждали-сосали нехитрые новости. Бело-серый крест пах смолою, росой исходили желтые капли по дереву, сочась на свежую землю, как кровь: кап-кап, кап…
Ждать приустали, однако приличие не позволяло негодовать на эпарха и Фанаила, что припозднились, толпу не жалея.
Наконец оживились: снизу, как будто из старых замшелых склепов иль катакомб медленно-медленно двигались люди, эпарх, обильный пот вытирая со лба и ладоней, затылка и шеи, и Фанаил, шедший строго и прямо, торжественно, как знаменосец.
Его строгость момента передавалась толпе: будет что-то нечастое, раз этот «медовый сиропчик» так строг и внушителен.
За Фанаилом двое прямых молодцов тащили кого-то, закованного в кандалы. Нечто немощное, исхудалое так, что сквозь ребра море как будто виднелось, ползло в кандалах, припадая на ноги. Падал, вставал, падал, вставал. Вроде не пьяный? Лохмотья, что когда-то чисто по крою опознать можно как саван, что носят монахи, почти не скрывали голое тело.
Папа Мартин
И снова марево полусна.
Ни деревца, только сине-голубые заросли дикой колючей травы ветер гнёт вниз днем и ночью, утра туман стелется над холмом. Везде дичь, запустение.
Холм давно позарос дикой травою, поросли диким мохом тропинки, дорожки, что раньше так густо вились у холма.
Кладбище старое со старым же храмом, люди явно забыли о старых гробах.
У подножья скалы, что разделом водным служила между зеленью жизни и склепью могильной, высится храм.
В полумраке сонного марева чудится храм, чудный, крестообразный. Раз крест, значит, храм посвящен Богу Единому, Христу несравненному, распятому на кресте.
Раз крест, значит, вечное успокоение.
Ниже и ниже ступеньки ведут от подножия храма в глубину вечного мрака затишья.
Храма громада посвящена одному Богу Единому и в честь Его верного раба, папы Мартина.
Вспомнилось, как в пещерах, когда дрожали от хлада и глада, отцы начинали диспут. Братия разгоралась, кипела, огонь был в глазах. Помнил и этот странный, как тогда ему показался, диспут о папах.
О Мартине папе вспомнил один, в спор включился другой. Спорили долго, сумбурно: давно, ой, давно, империя знала верного папу Мартина.
Старый-престарый, больной, он чистым дыханием не осквернял веру святую. Пошел против юного базилевса. И патриарха не праздновал папа.
Монахи делились: пусть православие, и вера одна, но Божества суть все равно никому до конца не понятна, ибо суетна жизнь человека, бьется мыслею, бывает, о невозможное.
Императорские эдикты были частью со рвением, частью против воли подписаны четырьмя патриархами, но Иерусалимский патриарх папа Мартин отказался подписать данный эдикт. Более того, папа Мартин и его Латеранский собор предали проклятию коварное и преступное молчание греков, после чего сто пять епископов не подчинились базилевсу Константу и даже не побоялись назвать еретиками тех, кто поддерживает монофелитов, так как они отступили от веры и стали орудиями дьявола.
Естественно, император рассвирепел: его практически назвали еретиком, как и его деда. И, как пишет Э. Гиббон (т.6, стр. 268 «Закат и падение Римской империи»), «папа Мартин окончил свою жизнь на негостеприимных берегах Таврического Херсонеса, а его оракул, аббат Максим был бесчеловечно наказан отсечением языка и правой руки. Но их упорство перешло к их преемникам».
Шестым вселенским собором было утверждено постановление Латеранского собора о двоеволии, то есть что у Христа есть воля божественная и воля человеческая.
Папа был тверд: есть у Богочеловека и воля человеческая и воля от Бога. Потому и един в этих двух волях, что не разделить в нем человечества силу и Божью.
Патриарх недоволен, недоволен и юный Констант, восклицавшие: «У Христоса только божественна воля, ибо он – Бог!»
Нет, утверждал упрямый старик: «Нет, Бог Он и все же из человеков. Если бы и весь мир это новое учение, противное православию, решился принять, то я не приму, не отступлюсь от Евангелия и Деяний (апостольских) и от Святых Отец, если бы даже пришлось пострадать мне до смерти».
Пусть будет так! И Констант пошел на эдикт, запретил, издав в 638 году Экфесис («Изложение»), даже мыслить о двоеволии под страхом кары тяжелой.
А папа был тверд!
Тогда ярой базилевс и направил Олимпия в Рим с приказаньем послать кого-либо верных убить старика, что выставил себя на посмешище. Тот волю выполнил и послал стража верного: «Меч спрячь под длинным плащом, подойди, папа добр, допускает всех до креста и руки целованья, руку то поцелуй и мечом порази, да желательно в сердце».
Как ослушаться воину? Да и фанатику? Да никак! Меч под плащом, плащ на груди, службу выстоять выстоял, не впервой, затесался в толпу, что шла ко кресту и целованию папиной длани, подошел и ослеп!!!
А блаженненький папа пошел на собрание в Риме Собора, что случился в 649 году, да и осудил базилевса Константа.
Как разозлился всемощный владыка судеб людских, как озверел. И до того был жесток, необуздан, а тут решился и вовсе на крайние меры.
Долго иль коротко ждал мести часа, но ровно через четыре года верный ему Каллиопа схватил мятежника-папу. Так начался крестный путь папы-мученика за веру, за православную.
Год пережил на Цикладах (островах) в голоде лютом, где стражники отбирали у люда еду, что с добрым сердцем приносили папе.
Пережил и синклит, где его объявили государственным злодеем, перенес поруганье толпы на дощатом эшафоте, где и сидеть то не мог, так изнемог; стойко жил правдой в тюремных сырых диомидовых старых клетушках. И это то при его застарелой подагре! Там ожидал смертного часа, и «добрый» патриарх по имени Павел испросил милости у базилевса отправить папу на Херсонес, да через восемь дней сам и умрет в небрежении божьем.
Долго-долго мучили папу. По одной из версий, более ста дней. По другой, более двух лет истязали.
Мучили папу: пытали, морили, нервы мотали, понимая, что тот стоит у последней черты, ожидали, исправится или нет, гордый упрямец.
Блага земные: тёплая пища, тёплое одеяло, неба глоток дать старику обещали за малое, за самую малость: отрекись от того, что Христос обладал человеческой волей. Всего-то делов, ведь сущий пустяк.
Паства всё равно ничего не поймет, куда ей от горшков, усадеб и рынков подниматься к заоблачным высям премудрости нашей: есть у Христа воля от человека или только Божественна Его суть.
Всего-то и надо сказать, можно даже и не писать папскую грамоту, только скажи: едина воля у Него, воля Отца, и монофелиты отпустят на волю. Зачем старому папе инкерманские штольни, мрак полумрачных пещер? Сотни рабов-христиан, поддержавших его разве помогут, раз сами рабы? Добывают и режут громадные камни, грузят на корабли, что черпают солёной водицы аж по корму, плывут в Рим, Синоп и подалее города возводить, храмы в честь Бога построить.
Разрешили пленному папе даже письмо написать. И написал! И чем то письмишко закончил?
«О бренном же сем теле моем позаботится Господь сам, все по воле Его, и в непрестанных мучениях и в незначительном утешении. Ибо Господь уже близко, и чего я боюсь? Уповаю на Его милосердие, и предохранит вас Всевышний Бог своей мощной рукой ото всякого наказания и да спасет вас во Царствии Своем!» Утешил, что называется.
И судилище пережил, да какое судилище! Осенью 654 года привезли его в Византию, болящего в скорбях. Ранёхоньким утром пришли людишки от патриарха и от царя и с утра до ноченьки темной хулили его да злословили. Святой молча терпел бесовскую ересь.
К вечеру появился нотарий по имени Саголива, звучно явился со множеством стражи, будто старый дряхлый, скорчившийся от болей монах мог руку поднять на него.
Взяли святого, несли на носилках, он совсем одряхлел от бессонья, болезней и голода. В доме ирандиаия положили в самой тёмной из тёмных клетушек, приставили самую сильную стражу; и так двадцать три дня пролежал он в безмолвии.
А уж потом принесли на судилище.
Принесли в сенат на носилках, старший сенатор приказал ему встать пред высоким собранием вершителей судеб.
Старец молчал. С визгом приказывал старший сенатор: встань перед нами! Пучило сенаторство от спеси, аж искорежило, но старец молчал. Слуги робко заступились за папу: «болен он, стар, на ногах опираться не может». Тогда сенатор грубо сказал: «тогда держите его, простолюдины!»
Воины поддержали святого, скрепив руки в замок: ноги старца дрожали, на мрамор сами встать не могли.
И стали поносить папу многие лжесвидетели, клянясь Священным Писанием.
Папа пытался, не разумея по-гречески, ибо был из латинян, через переводчика объяснить суть своего виденья Бога, но сенаторы грубо прервали святого отца, лишив его слова. Переводчика избранили и выгнали из судилища.
Папа твердил: «видит Господь, что великое благо мне сотворите, коли просто убьете меня!»
Но не пожалели его, не убили, а, с точностью наоборот, приказали привязать к позору столба, где стоять он не мог, посадили. Долго сидел, опустив седую главу, измученный папа.
Констант наслаждался позором врага, ковыряя в носу, болтая ногами в высокой башенке-тереме. Потом послал сакеллария с царскою волей: «Смотри, ты оставил Бога и Бог оставил тебя! Проклинайте народ этого пса, проклинайте!»
Кричала чернь анафему папе, и лишь немногие верные, плача, уходили с позорища.
Потом приказал сакелларий воинам взять блаженного и разорвать его по частям. Воины срывали одежды. Верхние сняли, нижние разорвали сверху до низу, показав черни срам дряхлого старца. Смердь, радуясь этой утехе, унижала достоинство папы, а папа терпел бесовскую немощь.
Надели вериги на шею, на тело, с позорищного места поволочили, неся перед папой меч обнаженный, которым он должен быть усечен.
Чернь из народа ругалась, поносила святого: «Где есть Бог его, где учение веры его?»
Ввергли в темницу, окружив злодеями да разбойничьим окруженьем, связанного тащили по ступенькам лестницы, смеясь над тем, как стучит голова о ступени, как льётся кровь от ушибов.
Разбойники и злодеи жалели его, утирали кровь, капали водицу в запекшийся рот.
Тогда перенесли его в Диомидову тюрьму, где холод иголками пробирал до костей, а еды совсем не давали.
Терпел папа святой бесовское поруганье, молчал.
Пришла жёнка тюремного стража, сжалилась над святым, умыла, укрыла своим одеялом. Так до вечера пролежал безгласный святой.
Вечером поздно старый Григорий, старейшина евнухов базилевса дворца, прислал к нему друга с просьбой не изнемогать в скорби, уповать лишь на Бога, ибо он не умрет. Папа был опечален: хотел смерти, как избавления от страданий.
Утром Констант посетил с величайшим визитом болящего патриарха Павла-еретика, который был уже при смерти, и хвастался, хвастался, хвастался жадной победой над папой.
А Павел заплакал, отвернулся к стене от базилевса лица и простонал: «увы, мне, увы, и это приложится к осуждению моему…»
«Ты что, сбрендил, старик», – голос базилевса гневно высок, а Павел стал плакать, просить прощения за папу, просил перестать мучить дряхлого старца.
Павел умер в продолж восьми дней.
Пришли к папе знатные гости: нотарий по имени Демосфен, иные знатные лица, передали ему: «Владыко, базилевс тебе говорит: в какой был ты славе, а в какое бесчестие впал. В бесчестии сам ты повинен!»
Папа смог только промолвить: «Аллилуйя Единому Царю бессмертному, аллилуйя»!
Долгих восемьдесят пять дней пребывал он в темнице. Разбойники, каторжники жалели его, делились с ним пищей, давали водицы испить, и плакали, когда с ним прощались, так как увозили папу в безвестные дали. А папа просил: «не плачьте, братие, но более радуйтесь за меня, так как в заточение иду я за правоверие».
Корабль неспешно вёз блаженного в Херсонес, в инкерманские каменоломни, где долгих-долгих два года мучили папу голодом, от которого он и скончался в 655 году 14 сентября, а святое тело его погребли близ Херсонеса, в церкви Пресвятой Богородицы Влахернской.
Мощи его исцеляли, народная молва несла слух о святости папы, и народ шел к папе, к его святости прибегал, укрепляясь духом его, бодростью его.
И понял народ, тот самый, что назывался монофелитами чернью, о двуединой воле Богочеловека, и что человеческая воля Его подчинялась Божественной воле; и был собран собор (в 680 году), и объявлено было о том.
И строил народ легенды о папе.
Так, был храм, который построили над печью для обжига извести. Папу Мартина ввели в печь, и вышел оттуда он невредим, ибо воля Господня хранила его.
Упокоился дух Мартина на Херсонесе.
Господь Вседержитель побеспокоился о теле его. В храме Матери, Девы Марии, за стенами города на расстоянии стадии был выстроен храм, великолепный, живой – меморий Мартину – слава! Велик храм и светел: Влахернский храм могуч, гробницы у храма в мраморе, что везли издалека, мрамором или мозаикой настелили полы.
Чтили живые папу и инших (иных, других) святых: епископов херсонесских, Сергия и Вакха.
Чтили, чтили, да и …забыли…
Века пролетели, стрелою промчались года.
…В мареве сна видится узнику храм, что стоит величаво у Карантинной (Карантинная бухта – район Херсонеса) среди тысячи малых гробниц, видятся толпы паломников, что идут поклониться святейшим мощам Херсонеса.
Текут люди с Боспора, с Севера и востока Причерноморья, спешат поклониться мощам. Спешат поклониться, покаяться и получить исцеление.
Столько людей спаслось, исцелилось за года и века, что над степью и морем летели, как стрелы.
Но запустел старый храм, забылися люди.
Прах Мартина упокоен в ином месте святом, в церкви святого Мартина в Риме.
А могила-гробница и храм в Херсонесе забыты, заброшены: народ пакостен стал, даже к святым.
Особенно люди от власти, эти своекорыстны жадные прилипалы.
Меняются времена, а жадность градоначальников и их прихлебателей меры не знает, топча святыни и святость.
Полумрак-полусон: о славе ли речь, о достоинстве мужа, о крестных страданиях?
Зачем этот сон? А, может, не сон? Он Херсонеса не знает, а как будто жил здесь сто лет и еще тысячу лет здесь жить будет: камушки храмов, мощи святых, свечение храмов, старых, забытых: тянется к Богу незримая цепь святости ореола.
Что ж люди? Забыли? Ну что же, придет время, и вспомнят!
Всё знает и помнит, всё ведает лишь Один Свят Божество, Ему и хвала! Что воле Божией противиться? На Него уповаю! И пою (запекшиеся от застарелой жажды губы не поют, едва что шепечут псалмы: «На Тебя уповаю! Спаси от гонителей и избави меня, Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Щит мой – в Боге! (Псалтырь, 7).
(Монофелитами в православной церкви называются лжеучители, которые утверждали, что во Христе Спасителе хотя и существо Божеское и человеческое соединились не раздельно и не слитно, но воля человеческая была совершенно поглощена, так сказать, волею Божественной, потому монофелиты и признавали за Богочеловеком только одну Божескую волю (История церкви, Иннокентий).
В инкерманском монастыре, носящем имя Святого Климента, хранится часть мощей Святого Климента, а вот мощей папы Мартина, к сожалению, в Херсонесе-Севастополе нет.
И опять примарилась мать
Жёлтое солнце блуждало по чистому полу, оставляя квадратики ярко-желточного тона. Чисто вымытый пол источал ёлочный аромат, парком поднимавшийся с белых досок. Выскобленный дворовыми девками добела, он отдыхал, отдавая чистым парком свой аромат.
Котенок тихо резвился, то бегая за солнечными бликами на белом полу, то приближаясь и вновь отдаляясь от матери, незаметно стараясь раскатать клубочек тонких нитей красной шерсти. Мать незлобно ногой отодвигала котенка, мило сердясь: новомодное трудное дело тонкой вышивки на белом полотне давалось так трудно! Мать, совсем как девчонка, закусила губу, высунув язычок: как трудно давалась эта женская работа. Над ней тоже беззлобно подтрунивала подружка Мотя, тиуна дочка, принесшая в дом боярскую моду – вышивки творить. Мать старалась сделать стежки быстрее, да никак не получалось. Тихо смеялась Мотя, тихо резвился котенок, тихо сердилась мать, тихое солнце вливалось жёлтым потоком в белую горницу.
Всё это было, всё это звалось одним тихим словом – счастье!
Детское счастье трехлетки дитяти полоном времени покрылось пологом, а вот мороком памяти поднялось из полога времени, поднялась завеса времён, и мать примарилась осколочком счастья…
Матушка, матушка, к горлу комком подкатило, не проглотилось матушки имя, обпекшийся от засухи рот прошамкал «матушка, мама!». Туман времени клубочком свивался, скатывался, как шерсти красной клубок, в темные уголки скальной склепа-пещеры.
Лица матери он не увидел, а так хотелось вглядеться в матери очи.
Светлые теплые очи родной матуси, как в них нуждался дряхлый монах, но светлое лицо матери удалялось, расплывалось в клубах тумана, а ощущение счастья длилось мгновением вечности.
Так удержать хотелось это наполнение счастья, которое бывает только в детинстве, когда сыт, когда солнце вливается в горницу мамы, когда тёплый пушистик-котенок трется об ноги босые. Когда матушка рядом, просто находится рядом: мать не смотрит на чадо родное, занята новой забавой, вышивкой красным по белому полотну отцовской рубахи, изредка отодвигая белого котенка. А все равно матушка рядом, да даже не рядом. Матушка – в нём, наполняя его волнами счастья. Знал, никто не обидит, не обзовет, ведь матусенька рядом. Полное ощущение беззаботности жития и казалось, так будет всегда.
Ушло, укатилось времени детство, ушло, как растаяло, мамы видение. И опять тишина, но не та тишина, что переполняла до краюшки счастьем, а темная тишина мрачного склепа пещеры.
Очнулся почти, поднял седую голову, звякнул оковами, но глаз открывать не хотелось: хоть на миг, хотя бы минутку продлить детства глоток.
Всё!
Мрак полусферы пещеры полностью пропитал его тело. Он давно уже видел во мраке, ориентировался в каждом миллиметре пола, щербинах камня на стенах. Влага на стенках слизывалась, утоляя жажду. Корни деревьев, что пробили камень пещеры, давали четкий ориентир, ящерки, что шустро сновали по шершавым камням пещеры, давали полное ощущение жизни. Крыс или иной нечисти в пещере давно не было, одни только ящерки оживляли мертвый пейзаж.
Мрачная, хотя всё же и жизнь.
То ли почудилось, то ли послышалось: вдалеке били било церков. Упавшее духом сердце с каждым ударом далёкого било наполнялось, в унисон с ритмами било билось, сильнее, хотя и глухо, его сердце, давая понять – я ещё жив! Пусть в тишине темной пещеры, пусть с ящерками да корнями деревьев, а всё я еще в жизни. Я могу понимать, я могу сознавать, я могу ощущать, я всё еще жив!
А за ради чего я всё еще жив? Ради вот этого мрака пещеры, ящерок в роли друзей, да стука корней о камни пещеры? Ради редких визитов дьявольски умного иудея, питавшего мозг ядом сладких слов, стекавших с его языка?
Ради чего прошел я полоном в окружении диких поганых половецких созданий по бездорожью Дикого поля, спотыкаясь босыми ногами о камни да о колючки репья? Терял верных товарищей, потерял в уже далекой прошлой поре свою ладу – Елену, оставил, как с корнями вырвали старый дуб из земли, любимый многолюднейший златоглавый Киев-град?
Ради чего постничал с раннего отрочества своего, не прикасаясь к мясу, яйцу, да и рыбу вкушая только по прямому указанию игумена?
Ради чего думать не смел и подумывать о женской власти, их красоте и бездонных очах? Отгонял мысли о тихой Елене, чья красота, больше души, чем телесная, лилась из синих очей, напоминая матушки благость.
Ради чего я оставил Печеры?
Сам когда-то же рыл в толще грунта уголок тихой кельи, ежедневно борясь с потоками влаги, струившейся по сырым стенкам жилья, сочившейся изо всех щелей и дырок. Такая милая, тихая и спокойная эта келья его, нарушаема тишина её только милыми звуками монастырского било, зовущего к утрене или вечерне, или к всенощному бдению церковных молений братии общей.
Ради чего я оставил Печеры?
Чтобы дрожать истощенному телу во мраке старого склепа далекого Херсонеса?
Понемногу дух уныния, дьявола исхищрение, из мрака тумана влезало, вползало в уши, очи, ноздри его, отравляя сознание унынием нынешнего бытия, не похожего даже на скотскую жизнь шелудивого пса.
Отрава дьявольской козни, как незаметная ржа, точила светлую душу в исхудавших мощах.
Травить тело надобности не было: тело давно не вкушало пищи земной, шел четырнадцатый день полного голодания, влаги со стен не вкушал дня три или четыре подряд.
Голодное, тощее тело, с выпиравшими костями черепа и скелета, седые космы немытых волос, такое тело даже не вызывало никакого сочувствия или жалости, только брезгливость, хотя тело его не воняло, не источало смрада или аромата смерти, присущего старым телам.
Сатанинские твари, клопы, блохи и гнус не беспокоили его почти обескровленное тело: живиться-то нечем.
Встретишь на улице чудо такое да отворотишь взор, как от поганого. Разве что, если не взглянешь в очи такого создания, а из очей его брызнет воля силущая, твердость алмаза. Да кто в его очи взглянет в пещере? Кто силу духа разбудит?
И опустились очи додолу, опустились плечи, опустилась головушка вниз.
Боролась тихая правда со лжи наветом, боролась душа, тело требовало жить, пусть в смраде пещеры, пусть в тишине обычного одиночества, с ящерками да сухими корнями деревьев. Надежда, она умирает последней. Надежда на что?
Надежда на милость его победителя, пусть изверга, пусть иудея неверного, но всё же надежда?
Если только не ценой его веры, не этой страшной ценой родится надежда на жизнь, на надежду молиться Богу Единому и Богородицы покрову.
Но сильно крепки они в вере: иудей, полный жизни и он, тленный монах, верящий во Христа, Спасителя Человечества.
Каждый верил в свое, каждый считал, что верит в верное, правилен в сущности веры, блага для всех.
И чем больше спорили о сущности веры, убеждая противника в правильности веры своей, тем более укреплялись в своей правоте, и только в своей правоте.
Иногда монах даже скучал по своему мучителю, хотелось оттачивать знания Завета Ветхого и Нового тож.
Но понимал: в книжничестве тот был сильнее, цитировал Ветхий Завет наизусть, особенно Книгу Левит да и Тору. Новый Завет знал так, что иноди клал его «на лопатки». Взять хотя бы недавний их спор о времени Пасхи. Как ловко он обыграл разночтения Библии!
Три евангелиста: Матфей, Марк и Лука почти в голос утверждали одно: что Иисус вкушал законную пасху по над вечер 14-го Нисана. А отсюда вывод: распят был Христос 15-го, и воскрес 17-го Нисана.
Но вот любимый Христом Иоанн определенно твердил о вечере 13-го Нисана, и о смерти Спасителя в канун Пасхи еврейской 14-го Нисана и воскресении 16-го Нисана.
Не мог он тогда возразить иудею, не мог. И торжествующий иудей, посрамив православного инока, удалился домой, счастливый и гордый своими познаниями в богословии и истории давних времен.
И во время споров их острых вовсе не важно было, кто из них кто. Что один, отощавший монах в рваных лохмотьях из рясы, а второй, полный писаной красоты, благоухавший ароматами пряностей сытый красавец.
Во время споров мысли летали от уха к уху противника, наполняя собой тишину подземелья. Мысли, они материальны, и материя их бытия зримо воплощалась во мраке.
Флавий Иосиф, Платон и Сенека, Дионисий Малый и Мартин Исповедник, все, как живые, толпились, череды своей ожидая в споре двоих.
Разбирался книжник-иудей и в разнотолках богословских Запада и Руси.
Честно говоря, монах и не думал, как глубоко знает сторонник иудаизма те толкования и разночтения, что раскалывали веру надвое. Он прекрасно толковал полувековой раскол (1054 года) церквей. Точно, как сваи вбивал, издевательски рассуждал:
«А вот почему у вас на Руси, Византии и Херсонесе можно службы служить хоть на болгарском, хоть и на руському языке, не говоря про чеканный греческий, а латиняне везде только на старой латыни службу ведут, а?»
И поднимая палец, брызгал алмазом перстней.
Не дождавшись ответа, продолжил: «И, главное, почему только полвека назад папа Лев согласился включить в символ веры слова «и от Сына»? И что же, почти тысячу лет вы все спорили о вашем Христе, не включая его в Символ Веры? Ответь, христианин, разве вера у вас не одна? В Бога Единого верите или в Троицу?»
Тут было проще, и монах постарался, как мог, объяснять понятное чужому сознанию, старался, как мог, но речи его горохом отлетали от мощной брони крепкого иудея.
Также просто было ему объяснить, почему запад ввел целибат (безбрачие): погрязло духовенство в грехах, пришлось поднимать мораль столь жестоким путем.
Разрыв двух церквей, что прошел почти полвека назад, ещё кровоточил, но инок не избегал больных тем. Трудно было, но надо, надо было ему объяснять, почему папа Григорий Седьмой был не прав, издавая лет двадцать назад догмат о святости папы только в силу избрания папой.
И отвлекались мысли, отгоняя тоску, хотя уныния грех ещё точил свой позорный удел.
Боярыня
Брал боярин Словята юну Отраду за себя замуж пышно и дорого. Да и то, богатен и славен боярин Словята. В ратных подвигах более друг его Ратибор миру известен, но и Словята рядышком друга держался в походах. Ну, а как князюшке угодить, славный Словята знал лучше и более многих. Князь боярина слушался и до ближних покоев к себе допускал. Да в шутку часто поварчивал: «седина тебе в лысую голову, а все без жёнки живешь. Наложницы, что ж, отрада большая, по горенкам да светлицам ласки твои ждут-угождают, а всё, боярин, негоже, негоже».
Боярин отшучивался, лукаво посмеиваясь в щегольские усики. Девки-наложницы много времени брать не брали, нарядов барских сметь не хотели, да и хозяин в дальних походах мог буйную голову положить под стрелу половецкую в любой миг.
Нет, жениться боярин не думал: дом родная матушка крепко держала, своим ворчанием доставая не только челядь, холопьев, но и зачастую его, единственного кровинушку. Матушка втайне и рада была, что сыночек единственный, ненаглядный, другой жёнке сердце свое не отдал, себя экономил. Ворчала, ругалась более по мелочам, требуя от сыночка покоры, большего к себе уважения. Павой ходила, губы-уста сжаты, морщинки суровы, белый плат оттенял большие черные очи, такие же, как у родного дитятки.
Ну и что, что сыну за сорок лет стукнуло? И так сердце страдает, когда за сыном ворота дубовые, тёсаные да писаные закрываются, когда сына княжеская прихоть или ратное дело в дорожку ведут. Материнское сердце какими слезами облито, каково ей, когда она к оконцу светелки в день или ночь чуть на каждые пять минут торопится, спешит, а вдруг сын воротился?
Челядь в дому не знала, плакать или радоваться, когда боярина в тереме не бывает: крут был боярин, под горячую руку его тяжко попадать, так дланью приложит, так потом ухо горит, и лучины не надо.
А как нет его дома, матушка Лидия из гроба достанет, спать не позволит: ходи, карауль, вдруг сына Господь приведет к дому родному, в хоромы боярские. Клала поклоны ночные и в утрене перед суровыми ликами византийского образца, моля у Бога щадение сыну единственному, сыну родному, и в ночени, отбросив старушечьий сон, и в буднее время (дневное).
Но как то сын объявился и с места, с порога бухнул: жениться хочу! Мать обмерла, да против воли сыночка даже не пискнула.
Что тут пищать, чего ей противиться? Невеста юна, едва пятнадцать годочков ей стукнуло. С роду худого? Так нам своего богатства не занимать.
Приступила было с расспросами, где невесту нашел? Крещена ли? Без изъянов? Кто мать, кто отче ея?
Сын отмахнулся: сама в церкви увидишь.
В то утро в храм торопилась, ну ровно на сватьбу, чуть не бежала, несмотря на преклонные лета.
В церкви, у свечек, стояла девица: молода, высока (старуха поморщилась), синий плат закрывал лоб и ланиты, черная брошь скрепляла углы синего плата. Просто одета (старуха поморщилась вновь), просто стоит. Синие очи опущены к низу, но взгляд дивной старухи удивил юну девицу. Заалела, крапинки пота появились на спинке ровного носа.
Как из-под земли возле девицы встала старуха. Губы жестко поджаты, узорчатый плат не скрывал сизых волос; старуха отжала непрошенную глазастую старуху прочь от Отрады.
Лидия не поняла мамка не мамка, нянька не нянька, но точно, спуску не даст, обидишь девчонку, так старуха последние косёнки повырывает.
Сын появился, неспешной походкой подкрался до матери, встал рядом, свечку поправил. Отрада опять заалела, сейчас поняла, что за старуха пялилась на нее чуть не пол-службы.
Этот дядечка уж месяца три как в бедную церковь захаживал, щедры поклоны покладывал, щедры дары приносил в едва не убогий храм на окраине Киева.
Сырые стены храма были пусты: на дивные фрески у паствы куны (деньги) собрать старый священник из словянского племени стыдился сбирать, ибо паства бедна. Окраина Киева едва выживала, боярская челядь сюда не захаживала, а люди большие, лутчие люди в храм дорожку не ведали или забыли.
Словянским попам жилось много хуже, чем грекам чернобородым. Как привез князь Владимир чёрных попов, как отдал им святую Десятинную церковь, так худо пришлось словянским попам.
Окраина Киева более к языческим идолам бегала, круги кружила, мёдом мазала уста идолищ поганых, а дорожка к храму зарастала травой.
Да месяца три так назад подскакал на резвом коне боярин, с приказом от князя церковь осмотреть, нет ли потребы, большая ли паства, ревнителен ли настоятель храма сего?
А близ храма Олёнка-Отрада стояла, ждала няньку свою, престарелую Людмилу. А та и замешкалась в храме. Заболтавшись, старуха матушке настоятеля болезни свои жалела, причитывала.
Боярин было гневно окрикнул деваху: чего у ворот под копыта коня норовишь? Да осекся. Как увидел синим синие очи её, что, как весеннее небо, как цветочки-василёчки на поле, так и замерла брань, не вышла на волю.
С тех пор и повадился в церковь похаживать. Батюшка-поп не нарадуется: в церкви и боярин, и челядь его гривны, куны покладывает, а на новую рясу боярин лично деньги пожаловал. Чего же противиться хорошему человеку!
Олёнка матери долго про дивного старого лысого из лутчих людей не рассказывала, было и стыдно, и страшно. Да нянька секрет не сдержала, матушке разболтала, сорока бесхвостая. Олёнка в светелке часто мечтала о суженом баском, белолицем, с синими, как и у нее, очами.
А тут дядька, лысый, с усами, ну как у кота. Прыскала девка смешком, а всё тешило, что такой старый дядька глаз с неё при службе в храме не сводит. Иноди и креста не положит, как надо, приоткроет свой маленький рот, да с неё черных очей не сводит.
И тешило, и пугало внимание боярского рода. Мать бояр не любила, считала их жадными, грубыми и жестокими. Потому и не казала матери, боялась, ругаться начнет, или так глазами сверкнет, что и попа к лавке пристынет.
Да от судьбы не открестишься, не отвернешься!
На Покрова, на первые-то снега, (15 октября) мать вместе с дочкой да младшим сыночком, отроком юным, пришла в храм вместо старой Людмилы. Та прихворнула, шум в ушах да чёрные точки перед очами шагу не дали ступать, и нянька лежала, охая каждые пять минут.
Не отпускать же девку одну, хотя и к храму господнему, чай, не язычники мы, а христиане.
У паперти и повстречались. Знатный боярин Словята с матушкой родной, неспешно вел беседу с настоятелем храма о празднике, что Царица Небесная люду пожаловала.
Мать из храма долго не выходила, покладая поклоны иконам святым, дети стояли рядком, едва переминаясь с ноги на ногу. Ноги устали, в храме долгая служба терпения требовала, а так хотелось на воздух, вздохнуть полной грудью чистый воздух, уже легонько коловший предвестием холода. Утренний иней, наверно, растаял, легкий ледок на лужицах тоже, но крепкий ледок на обочинах не наезженной колеи так хотелось ломать застоявшимися ногами.
Наконец, мать пошла к выходу. Дети за ней.
Отче, настоятель храма сего, давно догадался, что старший боярин беседу ведет, времечко тянет, ждать пожидает, когда же из храма юная синеглазка сбежит.
Из храма вышла быстрым шагом стройная жёнка. На боярыню вроде не схожа, на огнищанина жёнку тоже не схожа, взгляд волевой, жёсткий и добрый одновременно. Вдовий платок не оскудел ее лик: лицо свежо и спокойно. Деточки рядом, высокие оба, стройны, как топольки, синеглазы и юны. Мать, поклонившись божьему храму, повернулась лицом к ограде ворот, собираясь спускаться по лестнице храма, оглядела стоявших у храма, оценила мгновенно всю сцену, вздохнула: разве можно противиться дочки избранию, и отрада души, Отрадушка-дочь была выдана замуж за лысого знатного воина.
Набег
Набег печенегов случайным то не был!
Словята, как узнал да проведал, что жёнка его, ненаглядная Ленка-Олёнка, Отрада очей его и души, попала в полон, проклял тот день, когда отпустил жёнку из Киева.
Отпустил себе на погибель. Да пристала, крепко пристала: отпусти на денёк в монастырь покаяться, ликам святым поклониться, даже попрекнула, что десять лет держишь, как заточил, в золотом своем тереме, шагу ступить без себя не даешь. К матери родной по первым годам ещё ездили, хотя мать с зятем друг друга не жаловали, точнее, терпеть не могли. То мать правду о боярских делах брякнет, как в било ударит, то зятюшка о братце глупости наговорит.
Вдова святополковых «лутчих» не сильно и жаловала, вспоминая тех, прежних бояр, что служили Руси, били половцев и печенегов, строили Киев-град, мосты мостили, да христианскую веру людям несли.
За подвиги ратные была от князя заслуга: то вотчина, то удел или чаша вина из княжеской длани, почёт за столом и былины рассказ.
А нынешние, святополкова рать, годна только рвать у народа кусок, мельчить, доносить, топтать да казнить. За примерами далеко не ходила, вспоминая соседа Тычину, воеводу Ратибора с его буйными сыновьями, и иншых, не менее жадных и мерзких.
А вот на тебе, выдала дочь за «лутчего», за Словяту.
Терпела страдалица Отрада-Олёнка, меж двух жерновов крутилась, душу в муку измолачивая. Да еще и свекровушка кровь из неё пила, как воду колодезную. От попрёков жены Словята лишь крякнул – ну, ладно, езжай! И покатил боярский возок с красавицей-жёнкой и с вечной старой Людмилой при ней за пределы град-Киева, к ближним монастырям.
Словяту жену не то что любил, десять лет уж минуло, как оженился на юной, а, кажется, что вчера. Глаз с неё не сводил, сам себе счастье урочил. Вот и сглазил свое синеокое чудо!
Как пошел дым пожарищ за градом, сердце ухнуло: беда неминучая, свет мой, Отрадушка, свет мой Олёнка! Сердце-вещун раньше времени, раньше гонца весть поведало: не вернётся к праздничным пирогам женка до южина. (ужина. Южин от слова юг. Вечернюю трапезу совершали, когда солнце катилось на юг, потому и южин.)
На Покров, на первый холод свела судьба его с жёнкой, а под лето – жару счастье сгубила. Выл боярин смертной тоскою, выл, как старый пёс на закате: остервенело и страшно.
Сунулась мать, отлетела, как мячик, от жесткой сыновьей руки.
И дни проходили, и ночи постылые, а об Елене нет новостей. Среди мёртвых её не нашли, так едва только передохнул коротенько: надежда слабой лучиной в глубинах сердца огонёчек зажгла.
Деньги стал тратить не меряно, отдавал за любую весточку о полонах, что проклятые поганые от Киева гнали. Отдавал деньги купцам, отдавал деньги волхвам (и куда только христианское смирение подевалось!), отдавал деньги церквам, службы, молебны заказывал; отдавал деньги каликам перехожим.
Вот последние то новость и принесли: видели, дескать, большой полон с бабами та младенцами, мужиками в рясах истрепанных. Бухнуло сердце-вещун, подсказало, что женка на поклон в монастырь собиралась, могла в тот полон попасть и она.
Порасспрашивал зналых людей, порасспрашивал дружинников опытных: далеко ли полон, велика ли сила половецкая, не растаяли ли коши боняковы?
Три ночи ходил по светлице, по боярским покоям. Как пропала жена, так в опочивальне супружеской двери с треском захлопнул.
А девок срамных, что частенько раньше наведывал, прогнал, не дав ни полушки.
Лик Богородицы-Покрова шторкой задернул, виновата, гляди, оказалась!
Через три ночи пропал. Мать глаза изглядела, очи проплакала, сын появился через неделю, пропахший бараниной да запахом диких степей. Довольный!
Отмылся и в княжьи покои подался службу служить, золотишко сгребать в ненасытные закрома.
Мать скорей догадалась (спрошать не решалась: вдругорядь сыночек тычком отметёт, богатырской руки не жалея, так ещё та боль не зажила), что сын в степи искал охотничков жёнку искать. Да, наверно, нашел, раз деньги-куны снова в нужде.
Через сколько там дней появился в тереме и Ратибор, верный дружок её сына. Друга Словята принимал, как отца или брата родного, ели-пили, ни себя, ни челяди не жалея.
Пили много и жадно, челядь с ног посбивалась. Мать не препятствовала: мясоед! (время после Покрова, когда начинался мясоед, время сватаний, гульбищ до начала Рождественского поста, то есть мясоед длился с 15 октября по 27 ноября).
И что только не ели, и что только не пили, от вина от заморского, что подавалось более для хвастовства, чем для утехи, перешли к привычному. К мёду. Правильно стоянный мёд был крепче намного, чем вина заморские, даже чистые, не разбавленные по греческому образцу. Ставленый мёд пили, не вареный. Вареный мёд пусть пьет простонародье по простым случаям на попойках.
А для драгоценного друга ставил Словята ставленый мёд. Выдерживала мать в глубоких подвалах мёд, что везли в Киев-град из Полесья, из Полоцка, там дюже бортники таровиты (здесь, старательны). Там бортничество широко, и возили меды по Днепру в стольный град, где перекупали меды и варили меды и настаивали. Холодный мёд в глубоких подвалах стоял не менее десяти лет-годов, а то и поболее. Был случай, на княжьем пиру подавали стоенный мёд, что выдержал тридцать пять лет!
Да не просто медок ставил в подвалы хозяин рачительный или хозяйка. Мать ставила мёд с соком брусники, с соком малины, с соком смородины.
И только крякал от наслаждения старый боярин, вкушая медки. А хозяин то расстарался: угощайся, братец мой названый, старым медком, со смородинкой хочешь отведать? И наливал полную чашу. А за смородинкой и малинка быстро в рот боярский пошла, а за смородинкой и брусничный медок тот отведал.
Вот и наклюкался (наклюкался, то есть напился медка с соком клюквы) в первый день. А за первым днём возлияний пошёл и второй, а там и третий уже поспешал на порог, а за третьим четверг брезжил рассветом.
После недели попоек Ратибор достал из-под лавки старый кожаный мешок-калиту, небольшой, потертая кожа которого уважения явно не вызывала. Но, судя по торжественному виду старого товарища, весьма драгоценный, раз Словята аж подскочил, норовя перехватить калиту из рук сотоварища, а вдруг тот передумает?
Ратибор долго тянул момент, наслаждаясь своим торжеством, но всё ж передал верному другу мешок, туго-натуго зашитый в кожу. Мешок небольшой, но Словята держал его, как страшно тяжёлую ношу. Руки дрожали, едва удержал мешок двумя руками за горловину. Едва утерпел, чтобы не раскрыть его, не разорвать ремешки узла горловины мешка. Но утерпелся, боясь нанести смертельную обиду старинному другу.
И, только оставшись один, при свете оплывающих свечей (опять руки вновь задрожали!) развязал крепкий узел зубами, – проклятые руки не слушались!
Нестерпимая вонь тошнотой подкатила, перетерпел. Рывком вырвал содержимое калиты, и почерневшая голова хана Итларя оскалилась смертной улыбкой!
Драгоценная голова! Драгоценный дар великого друга!
Поганые печенеги потребовали за Елену не золото и серебро, не мехов куницы да соболя, не шкуры льва или барса. Нет, хохоча на привале у костра, где грелись и они и посланники князя киевского, Словята с дружиной, цену ему навязали, цену безмерную.
Грех Словята взял себе в душу, от имени князя вел свои толки с погаными. Да и что и с того? Раз разрешил князь Итларя-хана убить, на нём вся провина, на нём вся вина.
Словята неспешно вел толоки с погаными (торопиться у печенегов за трусость считалось), ел сырую баранину, печенеги с удовольствием жрали свежатину, даже ноги свои кружком положил, печенеги обрадованно засмеялись.
Говорили на ломаном половецком «койнэ», и прекрасно понимали друг друга.
Печенежский вожак еще раз уточнил: «вернуть тебе только знатную ханшу или весь полон? Вернуть вместе с вашими жрецами? Их много, за них я возьму с князя-кагана недорого…»
Но Словята выдохнул: «только ханшу!»
И печенег, довольный, что обманул русича: тот выдал себя этим выдохом, процедил: «отдайте нам голову хана Итларя!»
Словята икнул: ничего себе ценушка! Тяжёлая ноша досталась посланнику, а что делать, что делать? Уговор подороже денежек стоит!
Но уговор удержал, добыл голову заклятого врага печенегов. Да и недалече было идти: испросить трофей у соратника-Ратибора, спаянного с ним кровью боев и чёрной кровью предательства.
Отдать голову Итларя-хана, чёрную, засмердевшую с комками застывшей крови этим клятым врагам половецких ватаг – печенегам, и что? Не голову ж кагана, князя Святополка просили или друга его, Ратибора, главу.
Пусть разбираются между собой поганые, пусть подерутся. А в драке своей, авось, и не вспомнят о нем, о Ратиборе, о княжьей дружине, что убивала послов. Авось!
Къырк был доволен
Къырк был доволен, ох, как доволен! Малоумный словянин запросил ничтожно малую мзду за великую ценность. Чёрная головешка заклятого ворога с мутножелтыми волосами так славно будет болтаться у стремени верного боевого коня среди прочих славных трофеев, среди прочих. Къырк славно будет при беге коня пинать эту черную головёшку с навсегда разинутой пастью. Не мог вражина Итларь, хан половецкой вежи, теперь ответить ему, атаману вражеской стаи, храброму Къырку.
Вот они, верные верных, несутся за ним по Дешт-и-Кыпчаку ночной волчьей порой, бегут по безбрежной степи, настигая полон. Тропы нехожены, ковыль гнется-прямится под конским копытом, овраги, ручьи, перелески: полна степь жизнью живой и ночью и днём. Остатки кострищ, конские кизяки, огрызки бараньих лопаток ориентиры не хуже, чем столбовой указатель, вечно пылящий у деревянных селений оседлого люда.
Отдавать какую-то ханшу за голову заклятого ворога: весёлая сделка, очень весёлая, очень. А выгодно как!
И Къырк был доволен. Скомандовал: в путь!
Ватага шла тихо. Перевязанные ковылем копыта не выдавали равномерного бега коней, храп лошадей заглушался мешками, надетыми на длинные морды; люди обменивались точными и простыми жестами, подчиняясь властным взмахам руки волевого своего ватажка.
Как жалко, как мрачно сложилась судьба его племени, других славных родов печенежских, разбитых заклятым врагом орд и становищ. Гоняла судьба печенегов по Дикой Степи, все дальше и дальше на запад, подчиняясь воле вечно синего неба, воле Тенгри, то есть судьбе.
Тридцать шесть зим миновало, тридцать шесть лет, как разбили их те проклятые кипчаки, иже куманы, (в 1061 г.) и разбитые орды детей и внуков волков (тотем печенегов) метались по безбрежным равнинам, уходя от Яика, уходя от Арала. Копыта коней несли их на запад, всё дальше на запад, ведь в спину дышали им кони врагов.
Частые стычки с половецкими ханами всё меньше и меньше давали удачу, наверное, вечный Тенгри отвернулся от нас.
А тут вот, удача вновь повернулась. И, надо же, не надо набегов, боёв и сражений, мелких стычек с разведчиками половецких кочевий. Руками врага, малоумного словянина, драгоценный сюрприз сам шёл ему в руки. И всего то, отмахать привычные версты пять-семь дневных переходов вслед за врагом: полон шел медленно, тихо, обремененный детьми да тихоходными изможденными словянскими жёнками. Пять – семь переходов туда, да пять переходов обратно, и драгоценный трофей будет болтаться у стремени воина-вожака.
И будут ночами у мелких костров слагаться легенды о доблести Къырка, его подвигах, сражениях ночных и дневных переходах. Будут смеяться малые дети над слабоумием словянина, над глупостью могучего хана Итларя, который верил в доблесть и справедливость славян.
Русичи, словянины, язигы, боруси (названия словянских племен), все одним мирром мазаны, язычники иль крест носящие на телах. Как можно степняку, кочевнику верить сладким словам высокорослых людей? Голубые глаза хитры и заманчивы, их озёра-зенницы обманчивы, как их полноводные воды змей-рек.
Верить в доблесть врага, доверяться ему, идти на мирные переговоры – полная глупость, а глупость Итларя так велика, что малые дети, вырастив, не забудут. Из поколения в поколение будут сказители передавать сказ про глупого Итларя, легенда усохнет до байки, из устные сказители часть переврут, частично добавят, но бесписьменный народец, оседая на узких равнинах Моравии и Угорщины, оседая на Косово и в бессарабских степях, передаст в отрывках сказаний весть о глупости Итларя.
Но, то будет потом. А сейчас ждет возрождение славы, победа над наимогутнейшим из врагов, достославным Итларем, жгло кровь и кровица кипела. Ватага стелилась над степью, как волки, рыскали дикою степью. Стаи волков, тотемных созданий не меша ли быстрому бегу коней: тотем охранял, тотем помогал.
Избавление от плена
Полон настигли поздней ночью.
Стража спала, спала беспробудно, а от свиста стрелы поуснула навек. Спал глупый доверчивый их предводитель, спали воины стражи полона, и даже тихий полон забылся кошмаром.
Найти среди группки уснувших женщин искомую добычу было не трудно: знатную ханшу везли на повозке-кибитке; прикорнула ханша у края кибитки, долгие косы свесились вниз.
Привычным движением смотаны косы добычи, привычным движением брошена на спину коня, привычным движением намотаны косы спящих женщин полона. Это слабоумному словянину нужна его жёнка, а бродячим по дикой степи печенегам мало добычи одной, пусть даже знатной ханши из словянского роду-племени.
Къырк понимал: одна голова, пусть даже лучшего из врагов, это всё же одна голова, и мотаться она будет у его стремени. А жадные завистливые погляды прочих ватажников, не лучшая атаманская доля.
Сытые женщины, сытые кони – забота его, довольные воины обильной добычей – тоже забота его, ватажка.
Женщины из полона добыча легка, удача сама плыла ему в руки, женщин хватали, женщин бросали на спины коней. Те, сонные, не успевали ни вскрикнуть, ни пискнуть: рты зажимались клещами рук волосатых, вонючих и чёрных людей.
Елена очнулась и снова вернулась в ползабытьё.
Легкое покачивание на крупе коня тяжелой болью отдавалось в спине. Руки связаны, косы намотаны на гриву коня, согбенная спина седока качалась в такт иноходи. Рот Елены закрыт кляпом травы, комок жег гортань, хотелось вздохнуть, хотелось выпрямить спину.
Она застонала, седок обернулся, привычно нагайкой хлестнул по почти голой спине: одежонка истлела, порвалась за время полона. Богатая ранее одежда в лохмотьях, едва ли узнаешь боярское одеяние в этих ошметках одежды. Мгновенный багровый рубец диагональю нарисовался на теле, Елена умолкла, давя стон в себе. Инстинкт подсказал: лучше молчать, иначе дикий народец нагайкой забьёт в два-три удара.
Привал был коротким: седок, подчиняясь жесту первого ездока (поднятая ладонь повернута к сзади идущим), остановил бег коня, сбросил Елену. Жестом показал идти в степь. Женщина, превозмогая боль и усталость, пошла за другими жёнками из полону: нужда заставляла опорожняться. Седок присел рядом с ними, справляя так же нужду.
Женщины удивились: женщина это? Печенежская амазонка оскалила зубы, надела штаны, похлопала нагайкой по голенищу своего сапожка. Полонянки поднялись, в сумраке ночи стараясь рассмотреть чудную постать печенежского всадника.
На сером рассвете Елену вырвало: нестерпимая вонь устаревшей овчины, конский пот да нестерпимая вонь никогда не мытого человечьего тела выбило кляп из усталого рта. Печенежская жёнка гортанно что-то крикнула переднему всаднику. Спешились.
Ватага полукругом окружила Елену, открыто, нахабно-нахально пялясь на полонянку.
Елена стыдом покрывалась от нечисти взоров донельзя смуглых и кривоногих малоросцев. Исхудавшие серые руки, сбитые ноги, тело дрожало от раннего близкого холода. Серый холодный рассвет давал ясно понять, кто здесь царствует. Тёплый круп коня уже не мог защитить полонянку от ветра и раннего холодка.
Старший, голосом, больше похожим на отрывистый лай волчьей стаи, гаркнул. Печенежский язык так не походил на гортанный язык половецкий, у тех звуки были, как клёкот орла, гортанны, звучны. Голос, как лай, отрывистый лай застудевшей собаки, такой же глухой, злобный и громкий, что то скомандовал.
Елена успела подумать, да уж, красавица из красавиц: опустелые груди болтались мешочками, спина ныла и была деревянной, ноги в струпьях. Грязное тело кормило вошь, как родное.
Но печенегам были в диковинку ни её всё ещё белое тело, ни синие очи бездонных глубин.
Полонянка удивляла высоким богатырским ростом: исхудалое тело выпирало ребрами, стройные, ровные ноги росли чуть ли не от ушей, тонкая талия сейчас превратилась едва не в осиную.
Печенеги, в массе своей низкорослы. Взрослый мужчина едва достигал 160 сантиметров, высота женщин не превышала 150-155 сантиметров. Их погибший в ночной схватке великан был ростом с эту русскую ханшу.
Окружили, щупали волосы, гладили по лицу, тыкали в рёбра, ну ровно на торжище барана покупают. Заставили даже открыть рот, и ровные белые зубы с двумя острейшими, как заточенные ножички, клычками заставили ахнуть!
Необычная красота русской ханши убедила соплеменников Къырка: товар был на отличку и дорого потому мог стоить его заказавшему.
Другие жёнки полона, не удостоенные участи таких необычных «смотрин», жалели Олёнку, морщась одновременно с ней от прикасания этих поганых.
Наконец мука окончилась, вожак вновь что-то гаркнул, Елену подняли, точней, опустили на отдельную лошадь, перед дорогой дали водицы испить. С наслаждением выпила хоть и чуть пропахшую болотом водицу, но вода, омывая запеклое горло, живою казалась. От завтрака отказалась, молча мотнув головою: вид серого мяса конины, только что отнятого от крупа коня, аппетита не вызвал и вновь подступила тошнота.
А поганые и не настаивали, пленница не должна была вовсе погибнуть, а пару дней без еды обойдется. Прочий полон также не получил ни кусочка своеобразно вяленой конинки, жёнки, как и Елена, были вовсе не рады таким угощеньям.
Но то ли жалели поганые свою дань, то ли товар норовились продать подороже, но ввечеру третьего дня они костры разожгли, поставили треноги, из вьюков достали котлы, и, когда вода закипела, бросили в кипящую воду просо-пшено. Покрошили, порубали тоненько мясо, варево потомилось в кипящем котле меньше часа, отдавая сладким запахом проса-пшена, забулькало сытностью.
Дымящий кулеш ели сами, черпая его плоскими блюдами, насытившись, покормили полон. Женщины жадно хватали плоские чаши, выпивали теплую сладость жидкой еды, руками хватали кусочки размягшего мяса. Насытившись, печенеги напились тёплого, только что сдоенного от кобылиц молока.
Еда растомила, настроила на мягкий лад.
Отдохнувши, они напоследок спросили, по обычаю предков, согласны ли полонянки на житье в привольных степях, рожать славным воинам-печенегам здоровых детей вместо душной жизни в деревянных своих городищах, которые так славно горели от стрел печенегов. Женщины вместо ответа враз отрицательно закачали косматыми головами.
И снова их ждал ровный бег лошадей в неизвестную даль.
Вновь Елену бросили на коня, накрыли попоной, предварительно сунув кляп из свежесмотанного пучка трав. Травы приятно холодили запекшийся рот: дикая мята, чабрец да душица, мёрзлые травы отдавали в тепле рта свой аромат и лечили.
То ли ровный бег лошадиных копыт, то ли отсутствие человеческой вони, то ли попона угрела, то ли зелье из трав действует успокоительно, но Елена уснула, забылась надолго мертвяческим сном.
Старший отряда на редких привалах подходил к спящей ханше: дышит ли? Ровное дыхание успокаивало, и ватага привычным намётом спешила на север к Киеву-граду.
Передача состоялась за два перегона перед Днепром.
Близкий Славутич (Днепр) ощущался в ветрах, пахнувших большою водою. Кони жадно чуяли ветер, прядали ушами.
Русичей было немного. Они полукольцом окружили ватагу, дружинники мечи взяли наизготовь. Рослые кони, рослые люди и уверенность, что они сущие есть на своей земле, удерживали печенегов от извечного их обмана.
Вездесущие перекупщики из армян или евреев, шустро поскакивали с телег, едва топот коней в полуденном свете прервался. Подскочили к полону, сами снимали задеревеневшие тела русских жёнок, усаживали их на телеги, укрывая тряпьем.
Тут же расспрос: кто, и откуда, богатый ли двор, как имя князя, боярина ли? Свободна, холопка, за церковью числишься?
Женщины, поняв, что плен их покончен, кивали, слезами обкапали грудь избавителей, казались, кто и откуда.
Перекупщики живенько разделили товар, переругались с печенежской ватагой: обычай строго велел торговаться с погаными. Живенько рассчитались за каждую единицу живого товара и с поклоном отправились к возку Словяты.
И опять Къырк доволен остался
Как Къырк был доволен, ах, как Къырк был доволен! Благодушие сияло из чёрных угольев узких очей, успевавших увидеть, как род торгуется за жёнок из русских, как довольнеют лица его соплеменников от приятной тяжести полученного за товар. У перекупщиков было всё, и меха, и меда, и звонкая куна. Круглые херсонеситов монетки тоже водились. Были браслеты, конская упряжь, роскошно выделанная скорняками да кожемяками на нижнем Подоле. Торг шел при солнечном свете, оживленный и почти безопасный. Заодно наменяли шёлк, перевязи, красную парфянскую кожу и, конечно же, перец, конечно, же, перец и девкам монисто.
Драгоценный товар Къырк хранил в особом мешочке подальше от морды коня. Конь фыркал, мотал головою, донельзя недовольный резким сухим ароматом острой приправы.
Перец пошёл в жадные руки купцов стремительно, даже излишне стремительно, Къырк даже подумал, не продешевил ль понапрасну.
Как Къырк был доволен таким удачным набегом, таким удачным походом. И члены рода довольны обменом, и наконец, голова Итларя заняла свое место на крупе коня, подвешенная на сыромятном аркане.
И еще Къырк был доволен: тайный враг, великан, сын брата дяди, был убит, половецкая сталь достала беднягу. Юнак половецкий сразил великана, и нет больше соперника за главенство над родом. Юные жёнки его теперь стали женами Къырка, будет чаще становиться шест одинокий над степью. Обычай кочевников говорил, любому кочевнику знак, то Къырка красавицы ублажают. Плодиться, плодиться и ещё раз плодиться, а как иначе выжить почти перебитой орде? И будет стараться довольный глава печенежского рода и будут стараться носить во чреве своем смуглолицые дамы потомков его, сыновей.
Доволен был Къырк, очень доволен.
Дважды, нет, трижды он обманул доверчивого слабоумного словянина: дескать, пришлось больше женщин пригнать, поди, разбери в ночной темноте какая из этих худышек княгиня? По сонным лицам не определить, ту хватанул или лишнюю. Эвон, сколько женского полу оставили там, во ночной во степи мыкаться далее горем полона под бдительным взором половецкой ватаги.
Но уж совсем возгордился вожак, когда испросил, больше истребовал от боярина горсть серебра за то, что так старался и бдел за «княгиней»: руки мужчин из орды её не касались, в походе везли на отдельном коне, накрывши попоной. Ела только не всласть, себе не позволили, а для неё сварили риса на молоке, высшую сладость для печенега.
И боярин, счёт не имея, отдал жадному все, целый мешок серебра.
Перекупщики тоже довольны: всучили гнилую кожу и побитые молью меха, задорого нагрузили повозки воском и мёдом. Къырку с поклоном вручили рыбий желтоватый зуб, моржовую кость. Тот долго вертел драгоценную ношу, наконец, кинул в торбу, авось, загонит жадному византийцу в три, а то и четыре раз дороже, а повезет, и сам-десять продаст.
Поднял нагайку, свистнул и через мгновение печенеги исчезли, будто не были вовсе на стылой равнине Руси, недалеком Днепра побережьи.
Перекупщики, для вида поохав про трудности бытия да жизни дороговизну, разделили товар и пошли неспешным обозом к Киеву-граду выручку ждать за «отбитый у печенегов полон», как будут врать и страже и на торжище. Почти тайно вели свое ремесло отнимания денег за живой товар у тех или этих, поганых ли, христиан ли, или язычников. Денежный звон везде одинаков у тех или инших, отличаясь только размером добычи и выручки.
Из полона в полон
Словята, не отрываясь смотрел на жену. Как во сне, передал ненасытному печенегу мешок, тот разорвал мешок надвое, и голова Итларя чуть не скатилась на землю. Печенег подхватил за грязно-жёлтые волосы потемневшую голову вечного ворога, мгновенным движением приторочил её сыромятным ремнем к крупу коня, и оглянулся вокруг: притороченная голова отныне только добыча его. Соплеменники, в споре за свой живой драгоценный товар, упустили возможность перехватить самый ценный товар, и теперь он, только он, владелец бесценного дара!
Но боярину было не до него. Словята смотрел на жену, на исхудавшие плечи, грязное тело. Космы длинных волос не пугали: банька отмоет, мамки-бабки откормят. Новые, драгоценные ткани рулоном лежат в приготовленной горнице, матушка захлопоталась, сноровя по торжищу, выискивая новьё, то ожерелье из жемчугов, то ткани персидские, то плат из тончайшего волокна, то шелка зелено-красные. Приказ сына да деньги большие торопили её.
Перед очами его стояла другая Елена. Нет, не та, что терпела, что ни словом, ни делом не перечила его выкрутасам. Та Елена кротко смотрела бездонною синью очей, соглашаясь и повторяя за мужем отказы от матери, братца и дома, от шустрых подружек. Одиночество терема, боярских хоромов да вроде любимый супруг составляли доселе счастье Елены.
А теперь перед ним стояла иная, другая Елена. Синие очи тверже алмазов, хотя по обычаю бухнулась в ноги перед супругом. Поднял любимое тело, руками провел, пригладил торчащие космы, а в ответ не стукнуло в такт её сердце, не отозвалось на боль его негой и страстью. Алмазы из глаз, да и только.
Твердость духа было его испугала, да подумал: оттает. Эва, сколько испытаний пришлось жёнушке испытать! Пусть печенег клятвенно вторил, что супругу сторожили его амазонки и даже показал в их сторону дочерна грязным пальцем, но кто их разберет, мужик там или баба: все кривоноги, в штанах, длинные чёрные патлы скрыты в надвинутых шапках. Страшны, не приведи нам Господь! Все скалят зубищи, довольны обменом. А гикнет вожак, и кинется стая шакалов, чуя добычу. Словята тогда отмахнулся, сделал вид, что поверил.
Тонкая синяя жилка на былой белой коже билась на шейке жены, отбивая такт болящего сердца. Тонкая жилка так трогала сердце! Беззащитность жены, в полоне страдавшей от смерти, что, вот она, рядом, так в сердце ударила, что неслышный такт жилки буханьем гулким отдавался в такте его мощного сердца.
Как драгоценную ношу, перенесли боярыню в роскошный возок, устланный мехом; волчьи и рысьи шкуры лежали на днище, устилали скамью. Елена вздохнула, откинула голову и выдохом прошептала: «Евстратий!»
Долгим пленом молилась, терпела, просила Небесную Мать заступа за любимого, вспоминала грехи, позабытую мать да братца родимого, весёлых подруг да весенней капели стучанье по оконцу её.
Как было любо гулять по околице вечного Киева с матерью, братом, на торжищах искать безделушки, наводить чистоту в небогатом жилище. Учиться грамоте, да и братца учить псалмам, стихарям, Символу Веры и прочей Божьей премудрости.
Да забыла подруг, отреклась, нарушила заповедь Божью: «чти матерь свою…» А взамен получила хоромы, что клетка. Свекрови ворчанье да ласки мужа, что, знала, делит он как с ней, так и блудными девками, шаставшими по двору. Закрывала глаза на сей блуд, на свое отречение: мужа, как бога, почитала она.
И получила свое наказание: полон да любовь!
Выше смерти, краше солнышка любовь человеческая. Веками мучает поэтов шара земного, философов рода человеческого: что есть любовь, что сильнее в крат сто смерти. Никто не знает к кому и когда прикатит любовь на своей колеснице, кому подарит блаженство, а кому муки адовые. Кто не достоин, пошлётся страсть или затьмарення (заблуждение, наваждение), а то и неразделённая горше редьки любовь.
Вот и Елена думала, мыслила, мужа сокровищем почитала, любила его больше матери. А на поверку не любовь, наваждение. В пятнадцать лет любая девица романтикой бредит, в каждом встречном принца-княжича привечает. Вот и она свое наваждение за любовь приняла, пятнадцатилетняя дурочка.
И нужно встряской жестокой обухом по голове шандарахнуть, чтобы очнулся человек и понял суть любви человеческой.
И понимала теперь Елена-Отрада, что застила ей пленом-полоном глаза романтики дурь. Положила к ногам нелюбимого мужа девичью честь, отреклась от дочерней любови, отреклась от брата родного, всё отдавала богатому мужу в кроткой надежде на ответную ласку.
Горький плена опыт, опыт жизни ей показал, какова она жизнь, каково людям маяться без жемчугов да бархатцев, без сытного хлеба да тёплого молочка. Каково не видеть родных, ночевать под покровом синего неба, не видеть золото куполов да околицы вечного Киева. И каково оно, любить нелюбимого, терпеть, принимая любовь, каждый день ошибаясь в выборе жизни.
Помолимся за плененных
Елена отрешенно смотрела на тусклую лысину мужа. Полумрак церкви, трещат свечи, диакон читает такие забытые и такие привычные речитативы. Мужчины справа, женская часть налево, всё и вся как всегда, всё так необычно привычно.
Свекровь исстаралась: как только резцовый возок встал у тёсаных воротищ боярских хором, хотя едва-едва рассветало, старуха подняла на ноги всю дворню. Как угорелые, носились мужики и бабы, топя жарко печи и баньку, творя пироги, носясь в закрома за тем или этим.
Припасливая Лидия еще вчерась гоняла ключников и стряпух на торжища столицы, те и тащили груздочки, лисички, боровики, да все свеженькие, да все ядрененькие. И где только нашли свежих грибков, Бог его знает. Да к грибкам снедь тащили возами: старуха встречала невестушку из плена-полона.
И какой только путник ни встречался им на дороге, всякому всё объясняли, полон, дескать, встречаем, полон. Старуха светилась светлою радостью, моталась по торжищу, выискивая, выбирая, брать драгоценные рытый бархат или золотный (рытый бархат – с тисненым рисунком, золотный шит золотыми нитками), и, махнув рукой, брала оба куска, только разного цвета. Рытый взяла червлёного цвета (красного), золотный, небесно-лазоревого, так подходящего к васильковым глазам драгоценной невестушки.
Купчишка, увидев такого покупца, нахваливал парчу-аксамит да камку. Шёлк блеском блестел, а синева неба оттеняла красоту одноцветной росписи на драгоценной ткани. Наволоки (все привозные ткани на Руси назывались наволоками) тешили взор, но так опустошали тугие кошеля богатеньких боярышень и купчих.
Старуха аж разгубилась (растерялась): сыночек никогда не баловал жёнку, ну, не считая первых лет брака, такими роскошами, а теперь ей вот пришлось бегать по торжищу день-деньской.
Коротенький, как горобиный нос (горобец-воробей) денёчек катился к закату, а нужно было еще прикупить соболей да куниц на оторочки. Да главное не забыть: перстней, браслетов, бус да серег, да колты (височные кольца, прикрепляемые к женским головным уборам знати) приличные по случаю поискать.
Наконец догадалась, и наутро купцы-коробейники прытью неслись к богатейшим боярским хоромам, пинками оттесняя конкурентов. На добела выскобленные дубовые доски столов ложились, сверкая, рубины и яхонты, смарагды и небесной эмали лазурь. Челядь из ближних завистливым оком дивилась на роскошь, даже персты (пальцы) шевелились, примеряясь к этим забавам боярской ненасыти.
Вспотела старуха, цеплялась за куны, бренчала гривнами меди, а сторговалась таки, сэкономив себе в потаенный мешочек серебришко да трошечки злата.
Купцы от порога откланялись, земные поклоны отбили положенные и довольными разошлись. Старуха – в покои, по кладезям да шкатулкам раскладывая драгоценный убор для невестки. Не стесняясь себя, ворчала, ругая сыночка за такие расклады, ишь, расстарался, родимый. Понятное дело, пропавшая жёнка нашлась, ну, нашлась так нашлась. Нацепил б на нее шубу рытого бархата, крытую соболями и хватит, и так хорошо! Куда ей в таких-то обновах ходить? Ну, сходим мы в церковь и все, под замок! Рытцы (рытый бархат) да наволоки зачем, когда дома и в крашенинах (крашеных тканях) сермяжных (домотканая шерсть, шедшая на нижние и домашние одежды для посадских и боярских людей) можно ходить.
Сколько лет ходила в сермяге и ещё больше походит, чай, не княгиня.
Баловать жёнку, то последнее дело, а суровость старухи невестке известна была все долгие десять лет жизни с супругом. Едва сын за порог, старушка, сгоняя елей из зениц (глаз), ела невестушку поедом: и встала не так, и села не там, и почему улыбалась, и почему улыбку скрывала. Угождала невестка, только что воду ту не пила, что старушка ноги свои обмывала.
Ну, да суть то не в этом!
Возок подвезли почти вовремя: успела старуха деньги сына истратить с толком и пониманьем момента. Банька топилась, грибочки скворчали, девки-умельницы ночами при свечах да лучинах торопились, нанизывая жемчуга на обновы Елены.
Банька стопилась на славу! Духмяный пар на мяте и череде, березовый веник, чистый пар от камней: банные девки мыли Елену чуть ли не десяти водах. Когда отбили коросты и чистая кожа зарозовела, девки, укутав Олёну в чистейший белейший лён полотна, принялись за выческу длинных волос, убивая оставшихся от пара вшей, вычесав гнид. Ногти отхолили, почти до подушечек отрезав черные скрюченные ногти, затем передали боярыню бабкам, чтоб те принялись за лицо. Бабки-ведуньи знали толк в травах и притираниях, и морщинки оттаяли, чернота отъелась и вышла, розовость щёк заменила прежнюю бледность.
Бледность в славянках не славилась. Бледнотой могли отличаться только блудные девки, с вечно-синими мешочками под глазами.
Дамам приличным следовало быть полнотелым, с розовой кожей, дороднеть прилично годам.
В покои ввели, как княгиню, в новых одеждах, одно на одно надетых на чистое тело. Вначале рубашка до кончиков пальцев ноги: короткое платье носить, то сраму иметь на весь Киев. Затем одето платье из выбеленной тёплой и тонко выделанной сермяжки для тепла, ну а затем уж одето новьё и новьё. Елена вновь перед мужем встала статной, с гордой осанкой и плавной походкой.
За барским столом ели молча: во-первых, обычай велел, во-вторых, Елена, как села в возок, встречена мужем, так словно водицы в рот свой набрала, всю дорогу молчала, молчала и дома.
Муженёк всю дорогу тоже молчал. Вначале пытался расспрашивать верную подругу про плен, но увидев, как исказилось мукой бледно-серое личико жёнки, тож замолчал.
Так вот в молчанку играли, а уж третьи сутки пошли. Старуха в баньке невестку пытала-пытала (пытать – расспрашивать), да все без толку. Та тупо молчала, кивая своей головою на «да» или «нет». Старуха даже проверила, не безъязыкой ли невестушка стала в плене-полоне? Али какой другой изъян прихватила, мало ли чего в плену то бывает. Боярыня статна, высока, соболиные брови да синие очи не только какого басурмана приворотят, свои тоже охотнички найдутся, тому и молчит невестушка милая, что нахваталась изъянов в плену, а сыночек, дурак, зря очи не сводит с порченой жёнки.
Сжимала старуха постные губы, держа при уме свои думки, а на устах медок да елей, и потчевала и потчевала невестушку снедью: грибочков отведай, свет мой Елена, да рыбку, то рыбку то кушай.
Елена к еде едва прикоснулась: от вида обильной еды едва не стошнило. Долгий пост неяденья заставлял к еде привыкать, как к роскоши, а не как ко привычной трапезе дня.
Молчали, вкушали Богом посланную еду. Открестились, поклонами поблагодарили небеса за пищу денную, и отправились в храм.
Елена стояла, отрешенно смотря на лысину мужа. Бабы налево, мужской род привычно направо в храме стоят.
Стыд жёг Елену, калёным железом жгли взгляды людей. Стояла, как кукла, наряжена, как идолище языческое в жемчуга и скань, рытый бархат да оксамит; боярыня собирала на себе женские взоры, как губка. Мужчины те тоже, искоса, незаметно старались взглянуть на виновницу торжества: женский стрекот да байки купцов разнесли новину по окрестным округам. Баба как баба, только что высока, как жердина. Поснимай с неё всё это богатое узорочьями барахло и останется палка от метлы, да и только. И что в ней нашел этот лысый боярин? Бают, взял из простых за красоту да тихий норов. Ну, тогда ещё куда ни шло: тихий норов, то бабья краса.
Взгляды жгли, прожигали насквозь, как гвоздями калёными в каждую точку спины, в каждую точку, и ворох одежды не скрывал боль от этих гвоздей…
И, когда дьякон запел: «помолимся, братья и сестры, за плененных и убиенных…», – осела мешком на камень плиток изразцового пола. Свекровь, что бдила за жёнкой, стоявши чуть ли не вплотную к невестке, ничего не второпила (не поняла): изумлённо озиралась на женщин, что подскочили, да кинулись со святою водой к осевшей на пол Елене.
Служба продолжилась точно по чину, ни епископ, ни дьякон ни на йоту не отступали от канонов: пусть паства сама проявит должное ей милосердие к недужной.
Елену вынесли на свежий воздух вечеревшего дня. Муж поднял на руки отяжелевшее тело, жена была как мертва: бледность лица да закрытые очи, и только вздох выдавал, что жёнка жива.
Не стал ожидать времени исповеди, с величайшею осторожностью положил боярыню в тяжёлый возок, укутал жену мехами, положив голову жены себе на колени, и возок тронулся в путь.
Всё время молчанки, всё время стояния у креста, молился Всевышнему, обещая себе, но прежде Ему, что сделает всё, чтоб алмазы в глазах благоверной льдинками таяли в его любови лучах. Терпел долго, потерпит еще: наказание за грехи, его да матуси, каралось, и ох как каралось. Всё бы отдал, открутил время назад, и ни за что не отпустил бы эту драгоценную ношу на поклон в монастырь. И прошло то времени и мало и много, а каждый день, что годочек. Ну, а теперь, никуда со двора, никаких поклонов вдали от Киевских гор. Надо будет, и храм у дома построит, и Богу слава, и грехи отмолятся, отобьются поклонами, и жена будет рядом, всегда только с ним, только рядом. Надо, и жемчугами дорогу ей выстелит хоть к храму, хоть к бане.
Молчания суть
Боярыню уложили, накрыли, бабки-ведуньи почти оттолкнули свекровь от постели болящей, захлопотали-запричитали, мигом напоили болящую каким-то зельем, заодно посварили (поругали) свекровь: «разве можно было болящую грибочками-то кормить, чисто отраву бабе подсунули, после голода, да грибочков в сметане! И как болящая только Богу душу не отдала»?!
Свекровь при сыне отмалчивалась, побаивалась, а сын, поглядев на бабские хлопоты, поправил жене покрывало, да молвил: «За неделю управитесь? Сроку даю ровно неделю!», и укатил по княжьим делам да боярским всегдашним хлопотам-нуждам.
Ведуньи старались, ночи не спав, днём не присев: каждый день баньки творили, водицу каленую медочком да мятой душили, клали чабрец, чистотел да душицу. В руки боярыне клали папоротник, свернув его трубкой, да всё причитали, мешая господни молитвы (их в очередь в голос читали), с бормотанием неслышным своих заговоров да зачиток.
Свекровь не смела вмешаться, молчала.
Утром болящей давали с полынью какое-то варево и к обедне у той румянец на щёчках, аппетит, слава Богу! Отварили просо-пшено на жидкой водичке с початку, затем просо варили в кипя щей водице, добавляли туда молоко, ну, а потом и к южину-ужину (южин – солнце на юг, значит вечер, иначе, вечер-вечеря) на боярский стол подавали еду, что аппетит разжигала, и всё специй побольше, тимьян да укроп, петрушка, всё те же чабрец и тимьян, пища не жирна, зато как полезна. Каши да взвары, сарацинское зерно (гречка) боярыня ела сперва через силу, затем уже к пище обвыкла.
Но молчала, молчала, молчала.
И когда лёжком лежала на боярских-то пуховичках и когда поднялась и села у оконца светлицы. И всё сидела, сидела, сидела. Взор направлен на далёкую степь, сидит, едва дышит, и всё смотрит, смотрит и смотрит.
Свекровь уже не молчала, тихое ворчанье перерастало в ворчанье собаки, у которой хозяева кость отнимают: и укусить хозяев не можно, и кость отдавать страшно жалко. Вот и ворчит старая грымза то на бабок-ведуний, то на челядь, то на невестку.
Ведуньи на бабку внимания не обращая, в поте лица приводили до тямы (в сознание приводили) молодую боярыню, им и самим было жалко такую красавицу в темноте оставлять. Челядь, увидев свекровь, металась по клетям, подклетьям с глазу долой, авось пронесёт Господняя милость мимо злобы старухи. Ну, а невестке ворчанье старухи, как горохом о стенку: молчит да молчит, глядя на небо да степь.
Старуха от злости к утру шестого дня накинулась на ведуний: может, зря, бабульки, стараетесь? Вдруг невестушка носит в себе басурмана отродье? Тому и молчит моя ненаглядная? От стыда да позора молчит? Или хворобу какую в дом принесла и потому молчит?
Ведуньи утешили, щебеча в один голос: «Чиста боярыня, словно девица, чистехонько-чистая, скоро будет цвести, словно маков цвет. Гляди, струпья сошли, коросты откинулись, вошек да блошек, ищи, не найдешь. Волосы, волосы струятся волнами, ногти порозовели, как у младенца, белая кожа, дивись, изнутри румянцем цветёт. Боярыня – самый цвет, драгоценная ты моя!»
«А пошто молчит, слово не скажет, как басурманка немая?»
«А ты потерпи, касаточка сладкая, потерпи. Она натерпелась, и ты потерпи. Не в раз горе стишается, не в раз лихо на убыль уйдет».
Так и молчали в богатых хоромах, только шёпот ведуний да сказы-приказы ключницы Мавры ползут по горенкам, сеням, клетям да подклетям, поварне
(кухне), поднимаясь к светёлкам…
Какова она, князева служба
Словята не в волю свою, а исполняя княжий приказ (служба есть служба, князь не щадил ни себя, ни прислужников), с малой дружиной верхом на конях помчался в Переславль послом. Княжий посол – неведома участь, хоть мчишься к басурманам поганым, хоть скачешь к князькам в поселенья, исполняя княжеву волю.
Посланника ждали: князь Переславский сам вертелся вьюном, вертелась и челядь. Посла ждали к обеду, к обедне и прибыл. Отстояли обедню, короткую, не по чину: то ли поп был слабенек в христианских обрядах, то ли князь торопил, привечая заветного гостя.
Обед был сотворен по-царски.
Подавали и лебедя, подавали и щуку, подавали и белорыбицу. На заедку (десерт) каких только снетков да медков не поставили. Сладкие соты сочились янтарною желтизной, белый хлеб царствовал на столе, а столько было навалено пирогов, пирогов. Ломился дубовый стол, накрытый белыми скатертинами, ломился от яств, уже не теша сытое око.
Пост или не пост, а гость не побрезговал, уговариваемый вездесущим попом, – «Ты, гость дорогой, ведь с дороги? Ну, а путникам преходящим да детушкам малым в пост отпуска бывают. Ты не чадушко малое, зато с дороги большой да тяжелой».
К попу голос свой подавал и князюшка малый: «Ешь, гостюшка дорогой, угощайся! Дорога тяжелая, путь вечно опасен, с малой дружиной, чай нелегко»?
Уколол, уколол за малую-то дружину, и как вовремя словечко худое-то вставил!
Путь стелился путем не тяжким, а наезженным да нахоженным, стояла погода, негоды (непогоды) не было во весь путь, да и Переславль от Киева недалече, но посол был падок до лести. Слаб человек, греховен, да и грех невелик отведать на княжьем столе лебединого мяса в пост.
А после мяса какой разговор? Из вежливости в княжьей палате часа два вели толк-разговоры о том да о сём, щупали каждый противника, умён или дурён, сговорчив или тверд, как камень дорожный?
К вечеру затемнело. Князюшка предложил: «Может, в баньку? Давно истопили, кости попарить с дороги, боярин, не хочешь?» От баньки разве только что басурман и откажется.
К баньке дорожка проторена, словно как столбовая. Оконцы предбанника светом светлы, тусклые окна мигами свечами. Князь расстарался, не лучинами свет в баньке светлил, а ради посла дорогого дорогие свечки из церкви у батюшки выпросил. Тот и не против: слава о боярине, что храмам богатые дары-подарунки дарует, и до Переславля дошла. Разве новая ряса, крытая лисом, в зиму не пригодится попу?
А в баннице (предбаннике) – девки! Посол ошалел, попятился было назад, да медовые квасы или сплошной заградительный ряд князя да званых гостей пировавших, а теперь толпившихся у дверей помешал, но сделал Словята шажок, и гульба почалась!
Девки подобраны были со вкусом, статны, полногруды, кровь с молоком. Забава, Дубрава, Зазноба, Милуша, Копуша, Поляна, Снежана, Остуда, Малуша: девки в белых полотняных рубахах с песнями-хороводами, с закличками выкликали полузабытые песни обряда, как у кострищ.
Язычницы-девки, ядрёные, молодые светились от счастья, так сытые девки были рады предстоящей забаве, телу утехам.
Вольны девки в ту пору, когда тело отдыхало от тяжкой летней страды, от страстных ночей на Ивана Купала, от осенних забот лён молотить да белить, нитки сучить.
Вольные девки вольны до замужья: выбирай молодца хоть Грязя, хоть князя.
Общую баньку истоплено жарко, приворотными травами углы пообвешаны, камень-жар на берёзе, венички, тож из берёзы, отпарены в теплых чанах.
Язычницы-девки вольным вольны! Племя нуждалось в чадах: голод и холод, княжья напасть да набег басурмана косили древлян и полян (словянские племена), тысячи лет поганые кони лихих степняков топтали днепровские и днестровские берега, дошли до Дуная.
Редко кто выживал в огнищах пожарищ, а если кто и нашел у князя защиту, то от волка, медведя или мороза лютого кто защитит? Прорубь ночная жертв тоже не обминала (не избегала): омут возьмёт, охочих до ласки русалок в омутах много. Косы они не плетут, расчешут длинную зелень волос, и пропадать добру-молодцу или девице красной. Добра молодца ласками защекочут, девку в кровь издерут, потом увлекут в омут обоих.
Потому и стремилось племя людское детишек рожать всё больше и больше, а от кого тот младенец, было не важно, абы не от басурмана или жида. Тогда девку церковная братия заточит навеки в монастырёк, басурманина или жидовина, если он ведом, казнят. Ну, а неведом, девице или младенцу всё равно жизни не будет.
Закреплено было церковным уставом Ярослава Мудрого, параграф 17 которого гласил: «Аще ли жидовин или бесерменин с русскою или иноязычник, на иноязычнецах митрополиту 50 за гривен, а руску пояти в дом церковний».
К сравнению скажем: за убийство свободного человека накладывался штраф в размере 40 гривен. Смертная казнь на Руси к тому времени заменялась денежными штрафами. Мужчинам устанавливалось более лёгкое наказание за это преступление: «Аще кто с бесерменкою или с жидовъкою блуд сотворит, а не лишится, от церкви да отлучится и от христиан, и митрополиту 12 гривен».
Данный штраф приравнивался к штрафу за убийство княжеского старосты, а русский отлучался от православной церкви и от христиан, то есть от всего окружающего его мира.
Князья, женившиеся из чисто политических побуждений на половчанках, наверно, платили этот незначительный для них штраф, и, естественно, окрещали своих супруг. Страх отлучения от церкви и мира был очень силён, и единственным выходом было крещение будущей княгини, и, естественно, детей. Соития с басурманами или жидами всячески избегали, кроме связи с половцами.
Жизнь древней Руси требовала расширения политических интересов, и князья всё чаще и чаще женились на половчанках. Вспомним, что матерью Александра Невского была именно половчанка. За князьями следовали жизни и моде знать, а затем и простолюдины. Окраины Руси поневоле плодились от смешения браков с половцами. В то же время браки с печенегами были крайне редки: уж слишком разны были этносы светловолосых и светлоглазых славян-русичей с черноглазыми и черноволосыми, явно азиатско-монгольского типа печенегами.
А внешние различия между русичами и половцами были не такими заметными, пограничные области должны были заселяться людьми, и люди селились, входя в смешанные браки с инородцами.
Так появился новый народ – украинцы; и его отличие от русского до сих явно существует и в языке, и в обычаях, да и чисто внешне.
Рожали детишек, плодились, и вервь (сельская община) поднимала детей, воспитывала, учила работать, мать и отца почитать, идолам поклоняться, чаще втайне от власти, ибо новая власть крестом и мечом крестила народ почти два уже века.
А боги родные: Велес и Хорс, Даждьбог и Малуша, Ярило, Купала и даже Перун детей за грех не считали: рожайте, словянки, рожайте! Славьте Мокошу (богиня плодородия), приносите ей жертвы. Земле нужен пахарь, князю покорный народ, деревне община, будущему государству потребен народ.
Девки в баньке пели почти подблюдные (свадебные) песни, маня ошалевших мужчин своею красою. Каждая в тайне мечтала, а вдруг княжий дружинник или сам князь или знатный боярин заберёт в Киев-град топтать постолами тротуары, торжища смотреть, в боярских хоромах в светлице сидеть, детишек глядеть или рожать.
Вон, говорят, сам этот князенька лысый на простолюдинке оженился, одел её в бархаты да жемчуга. Это им, бедолашным, ходить в набивной льняной пестряди, да мониста носить из рябины-калины, зимою овчинку, реже зайца или лису надевать.
А там, в стольном Киеве-граде торжища, баские (баской-красивый) хоромы, княжьи дворы. Город велик, велики и соблазны.
Старались девки во все свои силы потчевать гостюшек дорогих белым телом да мёдом ядреным, парным веничком да устами сахарными. Ласками да шутками снимали с тела гостей кресты. Деревянные, в основном, крестики дружинников не тяготили, но девки шутили, смеялись, и крестики вешались на бревна, загонялись в пазы, откуда изо всех щелей и щёлок лезли морды кикимор да хари домовиков.
И таяли в девичьих ласках киевские добрые молодцы, во всю удаль старались творить новых богатырей да красавиц Руси. Таял и славный боярин Словята: жёнка больна, а девки здоровы. «Подарок» человечеству в виде сифилиса и гонореи западные рыцари, (первый крестовый поход как раз и состоялся в 1097 году), ещё не успели разнести по Европе эту новую заразу, не лучшую, чем чума или холера. До русско-славянских деревень эта зараза проникла где-то к 14-му-15-му векам.
Свальный грех да блудные утехи пленили мужей естество, и наутро, как собираться в дорогу, отдарил Словята местного батюшку волчьей дохой. Тот и промолчал в докладе митрополиту про дошку да баньку.
Молчал и боярин: куда христианину про такое казать. Поп на бегу принял исповедь, отпустил грехи, и боярин, довольный, верхами помчался домой. Молчал и князь Переславский. Сам в баньке он не был, кости не парил, дружина его на охране стояла.
Так что пусть киевский князь со своего боярина спросит, а с него взятки гладки.
Таял от счастья князюшка местный: славный боярин подался в столь – град, не исполнив княжеской воли. А ему, Переславля хозяину, передых от великого князя, от запросов да нескончаемых треб (требований) ненасытно жадного князя Руси.
Доволен остался и Киевский князь: с великим почётом ранее неудобный, брыковатый князь Переславский поклоны ему передал, подкрепив своё унижение медами да квасом, да обещанием по зиме леса дубового князюшке передать: будет чем крыть терема, да ворота княжьего терема!
Тяжёлый разговор
По неделе, как возвратился, мать у порога заголосила, запричитала:
«Уж лучше б молчала, невестушка милая. Поутру, как встала, до утренней службы, до заутрака брякнула, милая: «отпустите челядь на волю, холопьев також. И снова заглохла. Борони и спаси, меня, Господи! Взял в дом девку, да еще из простых, отъелась на злате да серебре, отоспалась на мягких пуховиках, жемчугами до низу утыкана, а в благодарность, на тебе, вольную дать рабам твоим, да?»
Почти билась в истерике, вспоминая и прежние и новые грехи своей горе-снохи.
Словята, едва стреножив коня, молча бросил вожжи кому-то из челяди, по пути удивившись: на дворе было тихо, челяди ни во дворе, ни в сенях не заметно. Обычно двор был наполнен рабами: кто в сени, кто из сеней. В конюшнях народу толпилось, на задних дворах тем паче, в хозяйском дворе под бдительным оком тиунов рабам работа найдется всегда. Хоть сутки паши на хозяина-барина, работа найдется и в двадцать пятом часу.
Мать, едва поспешая за сыном, подобрав полы одежды, запыхавшись, твердила: «с ума женка сошла, умом тронулась! Видано дело, зависимый люд на волю пускать. Я, что ли, за пряслица сяду? Или бурёнку доить старой мамке прикажешь? Челядь, что скот, хоть государственный раб, хоть бы и княжий!»
Боярин метнулся к светлице жены. Та, сидевшая у оконца, привстала, произнеся обычное приветствие жены мужу: «Здравствуй, свет мой навек!»
Бабки-ведуньи постарались на славу, перед ним почти прежняя молодица: румяна, статна. Чистый лоб не покрыли морщины, розовели уста, белая шея унизана жемчугами, тонкие длинные пальцы в перстнях. Колты тихо звенели от поклона жены. Чистый волос покрыт домашним светло-синим платком, под цвет васильковых очей.
Почти прежняя молодица, только в глазах всё те же алмазы, не растаяли льдинки, не ушли. Стояла Елена, вроде своя, а всё же чужая.
Не успел боярин спросить про здоровье жены, как та, открыв рот, твердо глядя ему прямо в очи, сказала: «Садись, брат мой, присядь»!
Успел удивиться: как это – брат? Муж все-таки, венчанный!
Мать локтем толкнула: я ж говорила, с ума сошла, бедолашная!
Жена, выставив ладони вперёд, продолжила твёрдую речь, и понял: покорности прежней не жди. Перед ним тверже камня каменного, алмаза алмазного синие очи: такую жену хоть бей, хоть вкапывай в землю, она отступать не намерена. И, присев на тёплую лавку, уперся руками о ноги, приготовился ждать.
Славянский характер таков: терпелив народ, терпелив на многие годы. Он терпит князей, терпит бояр, терпит мздоимцев, терпит так долго, что кажется тем, народец такой терпелив будет вечно.
Но наступает мгновение, и бесполезно упрашивать, умолять, насылать верную стражу пороть неразумных. Будет стоять этот верный народ за правду, за веру до смертного часа непреклоненным.
И потому Словята не спорил, не уговаривал, не пресекал бунтовские речи жены. Понимал, что тихая речь есть результат такого терпения.
А жена продолжала: «Я думала много и вот, я решила. Решайся и ты. Если со мной хочешь жить, условие у меня лишь одно: отпускаешь на волю и челядь, и прочих рабов, своих и чужих. По мне раб, он раб и раб трижды.
Хоть из челяди он, хоть и холоп (челядин, множественное число – челядь: раб из пленных-полоняников иноземного происхождения, находился челядин в полной и безусловной власти своего господина. Челядь и скот в письменных памятниках часто называются рядом. Холоп – раб из соплеменников. Становились холопами в результате самопродажи, женитьбы на рабе «без ряду» (договора), бегства «закупа» (полусвободного) от господина. Холопы могли заключать сделки, иметь имущество, передавать его по наследству).
Мне всё одно: рабской участи, я, свет мой Словята, навиделась, насмотрелась.
Я не слаба. Я твердо решила: я тоже раба в твоём доме. Неделюшку думала, целую неделю. Вся жизнь перед глазами промчалась: матушкин дом, братец, которого грамотке я учила: «аз, буки веде, глагол добро есте…живите зело, земля, и иже како люди… мыслите наш онъ покои… рцы слово твердо». И я реку слово твердо!
Дома у матушки я вольной была, а здесь, почти в княжьих хоромах, я – только раба. В побрякушках»…
Свекровь аж задохнулась от злости: «в побрякушках?? За эти жемчуга да яхонты мы деревеньку продали с холопьем и смердами!»
Елену словно хлыстом отстегали: «Деревеньку продали, зачем? Побрякушки, кровью омытые, мне подносить? Раба я, только в хоромах, да златом покрыта и серебром. Там, в дикой степи, я тоже рабыня! Там тоже кормили, чтобы не сдохла».
Свекровь было снова хотела словечко наглой невестке промолвить: совсем уж зарвалась молодица, живя без бою, без страху, да сын так взглянул, что та осеклась.
«Вот я и не сдохла. Так там хоть честно: рабыня. И обменяли, ну словно рабыню, на серебро. Иль злата муж не пожалел, отдал поганым? Я очень долго не понимала, почему монахи твердили: «раб господен свободен еси…». Теперь понимаю! А остальные рабы, им, что, дальше страдать?
Отпусти, брат мой по вере, и меня и рабов. Меня в монастырь, рабов пусть изгоями, пусть пущениками, або прощенниками (холопы, отпущенные за выкуп и отдававшиеся под патронат церкви; пущенники, отпущенники – отпущенные на волю без выкупа рабы; прощенники-рабы, явно относящиеся в церковной принадлежности).
А лучше всего, отпусти ради души нашей спасения, пусть люди задушниками поживут (задушники-рабы, освобождавшиеся ради спасения души, зачастую по духовным завещаниям).
К родному братцу да матке родимой, брат, отпусти, не держи силком в клетке златой, да немилой»!
И бухнулась на колени: «Прости, брат, прости… И ты, сестрица по вере, прости…»
Свекровь тихо зашлась от нечаянной радости: как это, как это, невестушка прощеньица запросила, паскуда неродная.
Челядь томилась у дубовых дверцат (дверей). В доме было так тихо, слышно только, как мышка скребётся в темном углу. Дворня дыхание затаила: что скажет воин, славный боярин, князюшке друг и Ратибору товарищ?
Загонит жену по плечи в землю сырую, как неверную жёнку, или на волю к матери в дом ехать велит? А что с ними, с рабами?
Тишина была мёртвой, стояла в воздухе тишина, аж звенела в ушах, и хриплый лай дворового пса и урчание кошки только подчеркивали эту страшную тишину.
Киевский котел
Киевский котёл всё переварит: и белую жмудь, и здоровых варягов, и чистых дулебов, и русичей буйных, и тихих словян.
Котёл работал весь год и все дни, мешая людскую плоть, так в муках рождался русский народ. В белую плоть редкими каплями вмешался греческий люд, с монахами-чернецами приходила их челядь, поневоле втекавшая в плоть киевлян.
Малая толика христиан мешалась с языческой Русью, разноплеменья варились в котле, мешая и перемешивая в этом своеобразном вареве характер и суть разных племен.
Буйные русичи, рыжие, наглые, пришлые люди, втекавшие в Киев больше всего княжеской волей и нравом бояр, теснили робких словян, иже словеней, словаков, и сотен других племен, разноязычий. Ляхи и чехи добавляли перца и соли в эту кипящую смесь, ну а буйные русичи, столетиями убивавшие и косящие наповал эту словянскую смесь? Время стишало и русичей.
Неохотно и тяжко входили русичи в словянскую кровь, но все же вошли, дав имя народу и княжеству тоже. Мешалось варево, мешались кварталы, и вскоре Подол (район Киева) и Козье болото (ныне Крещатик, главная улица Киева) пестрели одними нарядами, приноравливая купцов к запросам народа.
И только один из кварталов стоял на особицу, не смешиваясь с общим котлом стольного города.
Святополкова жуть
Жидовский («жид», «жидовин» – славянская форма латинского judaeus и древне-русское название еврея, удержавшееся в русском языке до конца 18 в., название «жидовин» употребляется также в официальных документах 17 века. Из энциклопе дии Брокгауза и Эфрона) квартал отделялся незримо. Высоких парканов (заборов) князь Святополк Второй ставить не ставил, наоборот, так привечал иноверцев, что киевляне, как ровно чумы, избегали квартала.
Втекались тонкими струйками из Ляховской земли (Польши) и из Тавриды, гонимые из далекой, разбитой Святославом Хоробрым Хазарии. Столетия было им мало, текли и текли из волжской хазарской земли гонимые ветрами перемен евреи, найдя благодатную жизнь под кровом Святополка Второго
(правил с 1093 по 1113 г.г.) в славном Киеве.
Понемногу еврейский квартал расширялся, втекая в кварталы словян. Растекался и промысел пришлых людей, росли и проценты по долгам словян вездесущим ростовщикам. Позорное занятие для словян, оно быстро стало неотъемлемой частью жизни еврейской: рост денег давал так много, так много, что княжеская доля росла и росла, а князюшка скуп был и жадобен. Тому и терпел, по выражению Карамзина, жидовскую кровь в златом граде, объясняя боярам: «Золотые ворота нужно сусалью покрыть? Сильно надобно. Дружину мою содержать из варяг тоже надобно? Дюже надобно. Дружина растёт, растут и потребы».
Нелюбовь народа к князю-мучителю была так велика, что князь содержал дружину втрое-вчетверо мощнее, чем остальные князья. Народ едва дождался смерти князя в 1113 году, отказавшись принять в свои правители родичей князя. И наступило безвластие, вплоть до прихода Владимира Мономаха. Киевляне было начали большой погром, евреи были вынуждены спрятаться в самой большой из синагог Киева. Киевляне окружили каменную синагогу, решая при этом сломать бревном ворота в синагогу, и, поубивая жидов, захватить их ценности, или спалить вместе с людьми синагогу, навалив вокруг неё бревна.
Тут подоспел Владимир Мономах, и перед князем народ поставил знаменитых три условия, главным из них было: убрать из Киева жидов. Князь посетовал, что к этому времени на Руси жидов стало так много, что они проживают во всех княжествах, например, Владимире-Волынском, и потому он не имеет права без совета князей разрешать эту тему. Не имеет права позволить грабить и убивать жидов.
Вскоре, все в том же 1113 году, князь в Выдубоче, в православном монастыре, собрал Совет русских князей, где живо обсуждался вопрос о засилии жидов на Руси, об обманах жидов, о лихих процентах, о сманивании христиан в жидовскую веру и главный вопрос: что делать?
И был принят закон, так сказать, о депортации жидов. Им было разрешено до определенного срока уйти без гонений, без отъятия имущества за пределы Руси.
Основная масса подалась в Польшу, так как к тому времени в Западной Европе стали происходить массовые погромы еврейского населения, и те вынуждены были спасаться бегством во всю ту же Польшу. Владимир Мономах дал им уйти «без крови», то есть без насилия, даже передав еврейской общине отступные, и весьма немалые, как расходы на переезд. Более того, князь из собственного имущества оплатил долги киевлян перед ростовщиками. Однако, киевляне таки не удержались от буйства, и вплоть до 1117 г. учиняли самосуд над евреями. Жидовский квартал был уничтожен в 1124 г. большим пожаром. Жидовские ворота переименованы. (Из сведений, собранных великим русским историком Василием Татищевым).
И Святополк продолжал: «А хлеб в закрома на случай мора иль глада я должен собрать? Собираю! На всё деньги нужны, на все гривны, куны потребны».
Бояре молчали, убежденные не златыми речами великого князя-кагана, не его краснобайством, а, скорее, блеском мечей ратников князя, набранных почти сплошь из заезжих варягов, которым словяне так и не стали родными.
Такое же мощное убеждение не нравилось киевлянам, но куда деваться от тяжелой княжеской длани и грозности княжьей дружины.
Утешался народ, что великий митрополит Иоанн II (правление с 1080 г. по 1088 г.) запретил продажу христианских рабов перекупщикам из евреев, вторя церковным законам Константинополя.
Только князюшка, набожный христианин, всё терпел: и продажу рабов, и учащение половецких набегов, уже топтавших не только южные окраины русской земли, их набеги становились все ближе и ближе к Киеву-граду. Тяжкое злато подобно оковам, которыми половец русский полон окутал цепями. Также тяжко и вовсе не можно скинуть с себя эту тяжкую ношу. И терпел киевский князь Святополк, набивая мошну тяжким златом: ночами не спал, всё ходил в кладовую, всё считал и считал, всё мечтал и мечтал о всё больших потоках в свои закрома и кладовища. И евреи исправно несли свою десятину кагану.
А утром стоял на заутренней службе, молясь и рыдая перед образами. Плакался Богу князюшка Святополк, елозил коленями пол Десятинной (церковь была построена на деньги простых киевлян, дававших десятую часть своих доходов на постройку церкви в самом сердце столицы. Потому и название получила «Десятинная»).
Упрашивал у Спасителя прощение за грехи, скупердяйство и жадобность. Смотрел Господь суровеньким ликом, молчал. А князь всё плакал и плакал, пытался обманом разжалобить Всесвятого Царя.
Слаб князь в политике, слаб был в страстях.
Половецкая жуть всё более настигала христианские земли, жидовские ереси проникали в христианскую мысль, страдали и гибли христианские люди в полонах, а князенька всё набивал и набивал бездонный кошель.
Князь иногда покупал благодарность народа: из бездонных подвалов выкатывались дубовые бочки с зельем хмельным, вдоволь давалось хлебов.
Естественно, черни не ставились меда стоялые, им хватало пойла наподобие эла иль кваса. (Под
1056 годом мы находим явное упоминание кваса как алкогольного напитка, поскольку на языке того времени «квасник» означало пьяницу.
Квас того времени бы того качества, что нынче называется «брагой».) Всякое питие тогда называлося пивом. Вот и пили всё то, что щедрый князюшка раздавал на потеху черни и сброду.
Чернь в соитии с князем испытывала то, что и князь. Как после соития с девкой срамной, после кратковременного блаженства ощущаешь, как будто помылся в лохани вместе со свиньями вместо парилки в баньке. Так и киевский люд простой ощущал себя в грязи дорожной, свиньями в грязи придорожной видел себя. Свиньями становились, свиньями были, а не людьми.
Князь после кратковременной радости сильно жалел о благородном поступке и туже закручивал гайки: повысивал подать, не брезговал очередным подношеньицем от купцов или еврейской общины, а те испрашивали княжескую милость брать на себя сбор налогов и податей. И он разрешал систему откупов, получаю за то громадную долю.
Человек раб страстей, и каждого враг человече ский искушает. Кого срамом и блудом, кого зельем хмельным, кого награждает великою жадностью, а кому от щедрой руки искусителя достаются все страсти земные.
Утешается тот человек: мы все не без греха, забывая, что к этим грехам он сам путь выбирает. Милосердный Господь даёт человечеству выбор, а ты выбирай себе путь, неси свои тяготы, и заодно отвечай за деяния и проступки.
Трус может стать храбрым героем, жадный всё отдать бедным сироткам, пьяница трезвенником путь свой продолжить. Человек есть создание Господа, и только «раб господен свободен еси».
Князь Святополк дряхлел и старел, и все более и более обуяла в нем жадность. Скаредой стал, истинным скаредой!
Всё реже выкатывал бочки на потеху народу, всё больше боялся простых киевлян, и всё более народ ненавидел, свой народ, народ руський и киевский.
И народ платил ему той же монетой.
Жидовский квартал
У Жидовских ворот стоял дом. Закрыт вход, закрыт высоким забором от любопытного взора обширнейший двор: семья иудеев жила в Киеве долго.
Долго выбирались из далекого хазарского Итиля, по пути растекалась семья по разными городам да весям. Они осели в Киеве-граде, братья и тётки в Корсуни-Херсонесе. Крепкими узами внутри семей крепка иудейская община, крепки семьи.
Кругом, погляди, окруженьице то еще! В Херсонесе враждебные византийцы, только в русских кварталах ходишь спокойно, а про Дикую Степь годи сказать.
В Киеве стольном живётся спокойней. В богатых кварталах потише, а в бедные чего часто ходить? У бедных ни злата, ни серебра, да они сами придут к нашим воротам в рост денежку взять, тут его и возьмёшь на процент. Проценты растут, бедняга и сам голову на заклад отдает, а потом и жена, и детишки в полон, в навечное рабство за не отданный долг. А куда словянину пойти? Пожалиться и то некому: князь Святополк за иудеев насмерть стоит, дружина его боевая на страже, охотника до правежа над иудейской общиной бегом в кандалы на княжеский двор, в темные сырые подвалы, и жди княжьего суду.
А что князь? На правеже подаст иудей князю с поклоном грамотку-закладную, где словянин собственноручно распишет, что готов на проценты. Надо обычаи соблюдать, вздохнёт князь, да разведёт князь руками, и иди, киевлянин, в вечное рабство. Хорошо ещё, коль повезет, попадёшься кому в добрые руки. Ну, а коли удачи то нет, терпи, брат, вечные муки, и жёнка терпи, и малые детки.
Плевал князь на церковные заветы. Ну и что Иоанн? Тот в бозе почил, ну и славно, по смерти владыки князь и вовсе забыл про укоры старого Иоанна.
И потёк народ из стольного Киева, потекли ручейками кто на Север, а кто и подался на Юг. Дикая Степь иной раз была лучше, чем неволя жидов: половец дикий ещё пожалеет, жидовин ни в жизнь. Слаще меда для них натворить христианину беды да всяческие напасти.
От Крещенья Руси ужесточались сердца иудеев, и старый Элизэир, составляя уже три года (с 1094 года) комментарии к Пятикнижию, нет, нет, да и впишет туда пару слов от себя. Тонкая мысль старого иудея, раввина и книгочея, касалась самых тонкий различий. Вплеталась красивая мысль: «мы есть семя Авраамово, отец наш есть Авраам…».
Беседа его соплеменников в стариннейшем споре с Апостолом Иоанном касалась опаснейшей темы и как важно было вписать в комментарий отрицание Иоанном избранничества народа его. Из Святого Писания он удалил наимерзотнейшее изречение, якобы сказанное Иисусом Христом: «Знаю, что вы семя Авраамово…Однако ищете убить Меня… Ваш отец – диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцею от начала…»
Элизэир тихонько вздохнул, посмотрел подслеповатыми очами на широкий двор, где мирно паслись гогочущие гуси, куры взлетали на жерди забора, извещая весь мир о снесённом яйце, и вновь заскрипел, внося очередной комментарий к Святому письму.
Богоизбранность его гонимого всеми ветрами народа красною нитью вплеталась в тексты. Писал он не только для киевлян-иудеев, втайне мечтал, что его комментарий пойдет, разойдётся с его однородцами, хранившими избранность в браках только с иудейками по крови, и пойдут мысли в народ, укрепляя его в Тайном учении.
Красиво вписал, что и Павел-апостол был с ними вместе, премного гнал церковь божию и разрушал её, преуспевая более всех своих сверстников. Вписано же в послании его к Галатам (глава 1, стихи 1314), что она сам был в жидовстве, нареченный в рождении Савл.
Тихо махал резвый телёнок хвостом, отгоняя назойливых паутов (оводы), очередная курка-пеструшка снесла очередное яйцо, выхваляясь перед подружками аж до нещадности, а старый раввин про должал поскрипывать текущим пером, вписывая очередную мысль в пухлый текст комментарий.
Тихий невзрачный внучок незаметный Иаков неслышно входил в тепло нагретую спальню: дед с возрастом всё больше любил теплоту и разные сладости, Иаков готовился в отъезд в Херсонес. Деду потребовалось обменяться с тёзкой Иакова, богатым херсонцем, какой-то проблемой. И отправляли внучка в далёкий Херсон, вместе с большим караваном по безопасному бездорожью пути из варяг в греки.
Дед давно наметил отправку внука в далёкий Херсон: и до дальнего Киева донеслась весть о красавице Мириам. Вот и хотел дед породниться с богатым семейством, внука женить на сестрице двоюродной. Красавица Мириам даст большое потомство, внук приумножит богатство семьи. И потому Иакова готовили в путь. Обыкновенная почта пойдет вместе с внуком, а тайные знания везли люди иные.
Иаков, донельзя гордый порученьем раввина, хлопотал пред отъездом, не слышно снуя по дедовской спальне.
Тихий, невзрачный и рыжий, он был явно не парой далекой красавице Мириам, но родня тезки в Херсоне была гордой от возможностей родственных связей с раввином из Киева, и связи такие давали немалые выгоды.
Близость раввина к казне иудеев, близость к элите великого города, собственные, небось, немалые накопления, чем не равноценный обмен красоты на богатство. Плакался старый на вечную бедность? Да кто из евреев не плачет про бедность. Некрасив Иаков? А это уж как посмотреть. Может, не будет по бабёнкам гулять, красавице Мириам ранних седых волос в копне буйных волос прибавлять. Да и молод он, не старик, чего Мириам печалиться-жалиться? И родня порешила: быть сватьбе (старорусское название свадьбы, отсюда «сват», «сватья») великой, пол-Киева будет гулять. Готовился список гостей приглашенных, сватьбу хотели ускорить к Пасеху (еврейская Пасха). И потому отправился юный Иаков в жаркий Херсон с дедовым порученьем. В доме строго-настрого запретили ему говорить про истинную цель визита в Херсон, пусть сюрпризом смотрины пойдут.
Затихла к вечеру дня суета, куры расселись по жердочкам, телёнка загнали к матери в стойло, гуси затихли, да и люди поотправлялись на сонный покой.
Наставало блаженное время для старика, в тишине при свечах так ладно писалось.
Уже тысячу лет ведётся война непрерывно. Церковь Христа отрицала богоизбранничество его малого, но такого великого, избранного Богом, народа.
Церковь Христова требовала от людей милосердия, милосердия к убогим, больным, к любым, хоть печенегам, хоть к евреям. Равенство всех людей перед Богом как пережить? Быть равным чёрному печенегу, вонючему чёрному печенегу с ним, иудейским раввином? Он, представитель богоизбранной нации равен любому из киевской черни? А как же бессмертные строки Талмуда: «евреи приятнее Богу, чем ангелы?». Или «как человек в миру стоит высоко над животными, так евреи стоят высоко над всеми народами мира?».
Если бы Бог наш хотел, то сделал бы всех одинаково равными. Нет, даже расчленим свою мысль, одинаковыми. Или даже равными. Но не сделал нас Всемогущий людьми-клонами, как баранов. Да и бараны разны во стаде. А уж ровными, нет уж, погодьте! Не ровен князь простому смерду или холопу, не ровен раввин нееврейскому гою, не ровен и еврейскому брату, ибо избран раввин на служение Яхве. И тем отличается от остальных.
Удачная мысль, – потирает руками старый раввин, усмехается в бороду.
И изощряется мысль, течёт с белого гусиного пера чёрная жидкость, плетутся строки к Торе, комментируя мудрую мысль.
Вносятся строчки, раздробляя библейские книги, цитаты выдергиваются из смысла речей, и апостолов мудрые мысли перетекают в вечные истины: «еврейский народ достоин вечной жизни, а другие народы подобны ослам!»
Кто может оспорить, что Мессия Христос является сыном иудейки Марии из колена Давидова? То-то же, то-то же!
И довольно потёр скрюченные от давнишней подагры лапчонки: какая ещё удачная мысль!
Прочь Иоанна, которого звали тогда Златоустом, что его проповеди против этой одной абсолютно бесспорной истины истин: Иисус – сын иудейки!
В трехлетнем возрасте мать его, Дева Мария, пришла в иудейский храм Богу служить, и верно служила. Так почему отсюда не заключить: «одни евреи достойны названия людей, а гои имеют лишь право называться свиньями».
Мать Иисуса и сам Иисус, этот Мессия, они – иудеи.
И не важно, беден еврей или богат, избранный Богом народ будет вечен. Пусть изгнанный из земли, обетованной земли проклятыми иноверцами, распыленный по странам народ вечен и однозначно един. Далекий Херсон и близкий Париж, как вяжется ниткой одной одеяние ловкими спицами, так и народ его, связанный крепко ловкими спицами мудрецов, един без шовчиков и изъянов.
Имей свою справедливость к христианину иль басурману, свою честность к этим, собственно, гоям, ибо ты избран Богом-творцом для господства над ними. Прояви ум и пусть думают глупые гои, что Киев для них, что Париж вечно вечен для глупых французов, что богатство италийских купцов сильнее, чем мошна купцов из евреев. Проявишь свой ум, и все эти купчишки, как киевский князь, в твоей кабале!
Ох уж этот киевский князь, глуп, как и отец его, Изяслав Киевский. Вот уж точно: яблоко от яблоньки недалеко катится. Как отче его, так и нынешний князь любят нас, своих искренних и преданных друзей.
Так пусть тешится этот глупейший из киевлян, пусть набивает мошну десятиной от наших доходов. Денежек, жалко, конечно, а все же девять десятых, весьма и весьма немалая часть ложится в карманы и кладовища евреев. И пусть будет так во веки веков!
И точится мысль, стекая с пера, ложится красивой нитью на пергамент (пергамент по-русски «харатья»), заостряя в сознании: вечны идеи, вечна денежек суть. А люди? А люди найдутся, рабы и князья, убогие и великие, все будут служить народу, избранному Господом Богом, и так будет вечно.
Аминь!
В дорогу!
Утром старик так долго задержался в своей синагоге, что внук от нетерпения бегал по дому. Ждавшие корабли-струги черпали днепровскую воду, попутный ветер гонял барашками волн, подгоняя в дорогу.
Наконец дед появился, гонимый всё тем же днепровским ветром. Дед принес драгоценность, да еще и какую. Вначале размотал из ветоши старой маминой шали, затем из полотна, затем уж извлек из непромокаемости кожи, размотал одёжки-обертки вещицы, и внук наконец-то увидел: внутри был драгоценный оклад православной иконы.
Самой иконы дед не видел, к нему в синагогу попал сам оклад. Как он попал к ростовщикам, не известно. Возможно, приплыл вместе с князем Владимиром при крещении Руси, когда из Византии через Херсон приплыли дары византийского базилевса вновь крещаемому русскому варвару.
Икона куда-то поделась, да и принять её в кладовую, значит, накликать гнев церковного суда, а это уж никуда не годилось. Оклад мог попасть из богатейших княжеских кладовых через пьяницу-дружинника, просто стащившего вещь, или через жадного тиуна, позарившегося на такое богатство, да спустившего его на очередной азартной игре, кто знает, кто знает.
Оклад драгоценен и очень сгодится в Херсоне как дар эпарху, церкви или стратигу, супруга которого, верная дама Демитра, не откажется от такой роскоши, как этот оклад. Каменья сверкали, каменья как будто звенели, переливаясь цветами.
Драгоценный оклад, о, это самый лучший подарок или взятка, если назвать вещи так, как они есть.
К окладу дед додал маленький крестик из неведомого внуку металла или камня, цветом, похожим на тёплое дерево, он мерцал изнутри тихим светом, но в целом взрачен не был, а дед держал его как величайшую драгоценность, аж не дышал на него. Крестик лежал на холщовой салфетке, от времени та пожелтела, придавая совсем уж неказистый вид ноше, что лежала на ней.
«По преданию, – начал дед, – этот крестик достался нам чисто случайно. Говорят, его обронила дочь базилевса красавица Анна, когда ступала со струга на землю своего супруга, буйного князя Владимира. Искали, искали и княжья дружина и пацанва изо всех деревень, и даже девицы-молодицы, полоща бельишко в днепровских водах, нет, нет да и искали, не блеснет ли где крестик? А удача улыбнулась совсем уж недавно, нашёлся крестик, нашелся. Продали мне да и задешево. Гуляка, что крестик нашел, чуть его не пропил, а потом чуть не потерял да и продал нам так удачно. Хорошая сделка: обе стороны остались довольными, мы драгоценной находке, гуляка с братвой живым звонким денежкам.
Ты крестик-то береги, он, чувствую, пригодится: Херсон византийский, наполненный греками, а они толк в крестах понимают. Продашь, поменяешь, на месте решишь, но крест! – дед поднял палец, скрученный от подагры, – дёшево не меняй.
Крест Анны – ре-лик-ви-я! Помни! Двести лет, как минуло, видишь, крестик как новенький, что камню от времени может сделаться?! А годочки-года камню ценности добавляют. Я не знаю, не ведаю, но вижу, что камешек древний, и год от года цену прибавляет. Понять не могу: камень не камень, металл не металл, но недаром порфирородная базилевса носила его. В Византии камней драгоценных, что грязи на киевских улицах, а она таки выбрала только его.
Нет, лучше не продавай. Обменяй! Держи до последнего, но обменяй. Держи крест на груди, так будет вернее… и проще. Прощай! И храни тебя, Яхве!
…И струги поплыли по безопасному ныне Днепру: тихая ночь, тихие волны, тихи днепровские кручи, струится волна под стругами, не черпая днищем мутного дна. Шли лодки-струги безопасным путем, обычным путем из «варяг в греки», под надёжной охраной надёжной дружины.
Найдёныш
Утром раненько, когда струги пристали к сонному берегу набрать свежей водицы, Иаков присел в камыши.
Услышал стон или зов, с утра да спросонья не разберешь. Тихо-тихо, не вставая с колен, прополз, а вдруг то половцы или борони нас Яхве, косматые печенеги.
Однако, поблизу, в шагах десяти сдыхала волчица. Стрела печенега иль половца, – городской юнак в степных тонкостях был не дюже силен, – пронзила насквозь тяжёлое серое тело, и красные крупные слезы катились по морде. Волчица сдыхала молчком, только слезы катились, катились, катились, сползая струёй на тёплую от крови землицу; а стон раздавался от пока теплого брюха: там копошился волчонок. Маленький, лысенький, розоватое пузо покрыто серыми крупными пятнами, и почти пока что слепой, он тупо тыкался в остывающее тело матери, уже не отдававшее драгоценную влагу для жизни.
Почти на инстинкте Иаков взял тёплый комочек на руки, и серая мать благодарно вздохнула. Последняя судорога пронзила всё тулово серой волчицы, и оскал мощных жёлтых клыков показал открытую мёртвую пасть.
Иаков бросился к стругу бегом подальше, подальше от издохшего тулова хозяйки степи.
На струге волчонок выдал себя, заскулив как щенок. Кормчий сурово взглянул на юнца. Иаков рассказал про волчицу. Кормчий Кость мало был тронут страданьем волчицы, щенка и Иакова, но весть о стреле взволновала его.
Струги в мгновение ока выкинули весла в мёрзлую воду, и помчались к теплу, загребая днепровскую буйную воду.
Найдёныш, которого команда вмиг наградила кличкою Найда, признал вроде за мать своего избавителя, которому досталось тяжкое бремя доставать молоко сосунку.
Ох, и наржалась команда над этой потехой! Тёплое солнце с утра нагрело дерево палубы, Иаков уснул подалее от ока всевидящего Костя, старого и сурового кормчего. Во сне длинная меховая дошка на груди распахнулась, и вся команда увидела, как волчонок искал сосок у Иакова, и это зрелище умиляло команду. Тёплое розоватое брюшко волчонка, тонкий дрожащий хвост, хилый скулёж вечно голодного сосунка вызывали жалость, но вечный писк раздражал. Кормчий однажды, вызверев, подобрался к волчонку: тот пытался вставать на все лапы по качающейся доске палубы, скуля при этом безмерно. Схватив за несчастненький хвостик, Кость хотел было выбросить за борт, но волчонок внезапно оскалил розовато-беззубую пасть, пытаясь рычать, и кормчий аж засмеялся: «гляди, волк он волк и есть. Глядите, братва, какая чёрная пасть, злым будет», – и отдал волчонка Иакову.
К середине декабря добрались до Крыма, попав из зимы да и в лето.
Стояла теплынь. Легкий ветер колыхал какие-то деревца, набухшие почками, деревца раскорячились кронами, гибкие ветки клонились к земле.
«Абрикос, шелковица, можжевельник», – обронял на ходу кормчий.
Зеленым зелёная травка покрыла холмы, тёплая вода текла за кормой торгового струга, дельфины – афалины резвились вслед за кормой, свистя друг другу веселые крики.
Полное ощущение безопасности охватывало каждого из плывущих на стругах к Херсону.
От Березани, где рыбаки творили вечную борьбу с морскими пучинами, добывая улов для себя и Херсона, где то пески берега лежали длинной тонкой змеей вдоль берегов моря, то обрывистость скал говорила, что кочевник не рядом и можно плыть безопасно, добрались до Калос Лимена, а тут уж рукою подать до Херсона.
Пограничная стража и таможня Лимена лениво поковыряла длинными палками в тюках и поклаже, так же лениво оглядели молчки-брезгливо дюжую стражу каравана судов. Херсаки-греки даже не опустились до разговора с могучими варангами, так же лениво получили мзду из рук Костя, напоследок также лениво посмотрели на дрожащих на теплом ветру Найду и Иакова.
Иаков трясся, страшно боялся: найдут да отнимут крестик, оклад, да еще и на правеж к стратигу доставят, с чего это, мол, христианские святыни в руках иудея.
А Найда скулил, ожидая порцию живительного молочка. Больше всех в пути настрадался волчонок: связанные единой цепочкой вечно квохчущие куры молочка дать не могли, пара козочек оказались комолыми, и Иаков извертался как мог. Но волчонок не сдох. Розоватое пузо темнело, худенькие ребрышки выпирали на свет, но волчонок держался, практически не вылезая из пазухи кормильца-папаши.
В Березани рыбаки подкормили найдёныша остатками пищи дневной, там почти случайно оказалось недопитое молоко, волчонок почти ожил и спал, как убитый, брюшком наверх. А в Калос Лимене дрожал, потому что хозяин его трясся мелкой дрожицей, вот волчонок за компанию и задрожал.
Греки с таможни только поухмылялись, поглядев на дрожащих, и отвернули головы прочь. Иаков передохнул: пронесло!
Херсонес
Херсонес встретил мелким тёплым дождем, моросящим вдоль всего побережья. Длинные бухты Ахтиара и Камышовой в моросящем тумане дождя почти не виднелись, скорее угадывались за пеленою дождя. Суда качались вдоль берегов и стояли на рейде.
У Иакова глаза разбежались от вида судов: длинные и пузатые мощные корабли и утлые суденышки качались по волнам в каком-то своеобразно диком порядке, за косыми порывами дождя виднелось сине-свинцовое масло громадной воды, уходящей вслед за пеленою тумана к берегам Византии. Жёлтый город пятнел туманом дождя, зелень далеких кустарников винограда окружала кольцом этот дивный каменный град.
Не влюбиться в Херсонес невозможно!
Пусть покрыт пеленою дождя, пусть вечные храмы и мощные стены покрыты туманом, и всегда жёлто-белый город сейчас кажется серым, но от города волнами шла аура мощи, вечности, святости и добра.
И Иаков мгновенно влюбился в вечно теплый, вечно юный древний город. (Херсонес основан греками-колонистами в 1У-У веках до нашей эры, то есть в настоящее время ему более 2500 лет).
Так же мгновенно влюбился в прекрасную Мириам.
Дивный, дивный роскошный каштан длинных волос, громада очей, прекрасно тонкая стать и нежный кроткий взгляд, ее красота опьянила, шибанула в сердце, как наотмашь картечью, и та картечь мелкими каплями источала кровь из юного сердца. Иаков не брезговал женскою лаской, к своим семнадцати он преуспел, прибегая к услугам приятных девиц, замужних, зачастую заможних (богатых) киевлянок.
Много красавиц живет на Руси, много красавиц проживает в Херсоне, но лучше, красивее Мириам нет никого, и Иаков убил бы любого за противную мысль.
А никто и не спорил. Красота Мириам сражала любого, и девушке были приятны как нежные взоры мужчин, так и злые едливые взоры соперниц.
Но прекрасную Мириам Иаков явно не тронул: тихий, невзрачный, он и не мог понравиться красавице Мириам. В её юном возрасте ровесники мало трогают. Красавицам подавай мужество и силу, а ни силы, ни мужества у юноши не было. Смотрел преданно, по-собачьи и только. Ходил в дом каждый день: к свадьбе готовились тщательно. Тёзка, дядя Иаков быстренько оценил ум и сметливость племянника: в делах парнишка сноровист и скор, а киевский опыт быстро сгодился в далеком Херсоне.
Еврейская община быстро восприняла киевлянина: мальчик умен, учтив и податлив. В делах скор, византийские рынки осваивал быстро. Большой, многолюдный Киев пусть далеко от тёплого солнцем покрытого круглый год Херсонеса, но Херсонес всё таки город. Большой и богатый Киев-город, столица Руси, и работать в Киеве очень престижно. Ну и что, что мальчишка невзрачен, это девицам на красоту дивиться, а взрослым серьёзным торговцам смотреть надо в корень. А тихий, ещё не женатик, юноша-паренек умел молчать, умел и сказать. И умел торговать.
А уж как суетилась хлопотливая толстая Сара! Сара просто бредила далеким Киевом-градом. Пленяли далёкие деревянные дома-терема, Днепр-Славутич с его могучими водами, Подол и даже Козье болото. Как надоел этот каменный Херсонес с вечной нехваткой воды, с вечно брюзгливым надоедливым мужем, с мытыми-перемытыми косточками всех соседей, друзей и даже малознакомых собак, надоедали даже свежие сплетни.
А Киев велик, родня юного тёзки ее мужа богата, Мириам там будет так хорошо, так славно, и ей при дочке местечко найдется. И Сара днями жужжала про Киев, надоев всей дворне и кварталу. Дочь покорно слушала нескончаемые матери разговоры и Киев входил в её клеточки маревом счастья. Заодно привыкала к Иакову: раз путь в Киев лежал только через него, ну и ладно, покорность лежит у евреек в крови.
Сара вздохнула: скулеж волчонка так надоел! Скулит и скулит, едва Иаков идет за порог, а хлопот у парнишки так много. Не брать же волчонка на встречи, на рынок, да мало ль куда.
Недавно вот взял волчонка с собой на прогулку, видите ли, ему свежий воздух понадобился. И нарвался поневоле на квартального. А как не нарваться, когда собаки в проулке взвыли, овцы сбились в кучу, не выходя из ясель. Маленький-маленький найдёныш, но запах лютого зверя, врага всех собак, вливался им в ноздри. Позабытый в тёплых людских жилищах инстинкт давал себе волю и собаки завыли, рвались с поводков, рвали тяжелые цепи, короче, квартал загудел.
Иакову юному мало улыбалась удача близкого нагоняя со стороны тёзки, скорого тестя, а тому еще меньше улыбалась удача получить нагоняй от квартального и, упаси нас всевидящий Яхве, от гнева херсонеситов. Только и не хватало иудейскому кварталу больших неприятностей от маленького чудовища, серого волка!
Опа, что за встреча!
Чуть не плача навзрыд, плелся Иаков к западной окраине города. Плача, добрел до окраины городища. Запустелые кладовища были безлюдны, лишь вдалеке пасли стадо коровье рабы. Стрекотали цикады, зеленела трава, раздували ноздри йодные ароматы набегавшего на берег синего моря, волны тихо шипели: «ши, ши, ши…», белые барашки лизали жёлтый песок, зелёное дно побережья манило обманчивой глубиной.
В природе так тихо, так мирно и будто не грудень (декабрь), а тёплый апрель далекого милого Киева. Волчонок резвится среди буйной травы, стрижа лишь ушами, откликаясь на кличку. Мухи кружатся, пищат комары. Благодать кружит голову.
Успокоился, чуть не уснул, но писк волчонка поднял на ноги. Тот, вцепившись когтями в лёгкую травку, что свешивалась над обрывом, задними лапками болтался беспомощно в воздухе. Ножки дрожали, не доставали до спасительной верхней земли. Внизу только камни, вечно зелёные от волны да от мшалости. Морская трава поднималась с неглубокого дна, колыхалась, страшила. Волчонок пищал из последних силёнок, синие глазки бездонны от ужаса. Иаков мгновенно в полпрыжка очутился у края обрыва, и чуть сам не свалился в кипящую пропасть. Ноги скользили, трава, что твои лыжи. Страх еще не успел охватить его сердце, как резкий рывок вырвал его из когтей близкой смерти.
Одним рывком Атрак выхватил Иакова от скользящих шагов в пропасть камней и волны, вторым рывком выхватил тельце волчонка. Иаков только мотал головой, ничего не поняв. И только теперь ужас смерти входил в его сердце. Ноги внезапно ватными стали, и он повалился на землю, сырую, холодную, как никак, а все же декабрь!
Атраку приелся вечный базар, походы в Херсон стали будничным делом, без друзей да куреня (объединение нескольких семей) скучно сидеть в постоялом дворе. Привычка кочевья гнала его в степь. Вот и сегодня побрел вдоль каменных стен Жёлтого города. Стража, стоявшая на верхних камнях, ему не мешала: пусть смотрит кочевник, как город силен, как стража могуча, как стены мощны, пусть бродит кочевник, пусть бродит. Атрак забредал все дальше и дальше от города, брел по осколкам степи, приближаясь к синему морю.
Там, над обрывом, резвился щенок (глаз половца в хорошую погоду мог видеть расстояние до десяти километров!), около него примостился какой-то щёголь в легких одеждах, отдыхал, видите ли, и не смотрел за щенком, собирая, как девка, букетик, а потом и вовсе уснул, уткнув голову в тощие коленки.
Писк щенка услышал чутким ухом, глаз увидел, как щенок прокатился по скользкой траве ближе к обрыву, и Атрак кинулся к нему на подмогу. По скользкой дороге уловил скользавшего в обрыв незнакомца, заодно перехватил у смерти волчонка.
Иаков, едва только вздохнул полной грудью воздух спасения, едва-едва ноги переставали быть ватными, наполняясь иголками, задрожал и ужас опять завладел его телом: перед ним стоял половец. Самый настоящий живой половец! И половец скалил зубы. Одно дело, торговаться с половецким отрядом за новый полон, риск, он, конечно, присутствует, в работе торговца, риск составная часть ремесла. Другое, стоять одному, без охраны, вдалеке от людей, перед самым что ни на есть настоящим кочевником!
У словян в Киеве часто слышал присловье: «из вогня да в полымъя», но что это значит, не думал, а теперь осознал своей шкурой, каково оно прыгать танец смерти над обрывом у моря херсонского. И тут же голову отдавать на потеху быстрому на расправу кочевнику. Осознать осознал, а что делать, не думалось.
А юнец всё шире оскаливал зубы, пока что мало обращая внимания на осевшего от ужаса иудея, его внимание полностью занял щенок. Когда был от щенка вдалеке, мысль проскочила: чего лезть за щенком, мало ли животины сдыхает от голода, холода или забоя. Но, когда взял в руки щенка, дрожавшего всем своим хиленьким тельцем, понял: волчонок, тотемный зверёк. Символа рода, хранителя рода бросать было нельзя ни в пучину, ни в голод и в холод. Спасение дикой тварины, тотема – дело чести половецкого воина.
На ломаном койнэ греков и речи своей пытался спросить у дрожавшего паренька: откуда волчонок? Только минут через двадцать тот понял, что половец не за ним пришел, не за добычей, а просто интересуется его Найдой.
Половец, озверев от тупости труса, перешел на ломаный руський. Спасибо, тот странный монах научил объясняться, и владелец щенка понял в конечном расчете, что воин спрашивает про найдёныша.
Так, около часа два ровесника, бесконечно отстраненных по рождению, воспитанию и прочим атрибутам цивилизации, объяснялись больше руками, чем языком: чертили на влажной земле свои пути-дорожки к Херсону. Переходили с койнэ Херсона на койнэ гортанный степной, половецкий, переходили на общепонятный обоим язык киевлян, а пару раз подрались. Если быть точным, половец надавал тумаков непонятливому иудею, не разумевшего его родного напевного языка.
И, наконец, половец понял самое главное: волчонка, спасённого от печенежской стрелы этим самым щеголеватым юнцом, этот самый спаситель принес на крутой берег херсонской земли на погибель, чтобы избавиться от щенка. Убить? Утопить? Или дать сдохнуть без матки волчицы? Или руками удавить беспомощность плоти?
Иаков аж замахал руками: «нет, что ты, что ты! Я Найду – убить? Тут половец переспросил: «как назвал ты его? Что значит Найда?». Иаков растолмачил (объяснил) кличку волчонка.
Половец утвердительно закивал: «правильно, правильно, я тоже буду звать его Найдом.»
Вот так просто вопрос был решён, и найденыш обрёл своего покровителя.
Волчонок мало-помалу пригрелся в руках у Атрака, уснул, смешно зачмокав беззубеньким ртом.
Ещё поболтали на тихом ветру в дальнем углу Херсонеса два одиноких, без сердечных друзей, паренька, скучавших по дому.
Какие разные домы были у них! У одного степной ветер свистит в изголовьях, у другого уютное тёплое, наполнено светом жильё, пусть не в центре, но всё-таки в Киеве. Оно ограничено четырьмя углами, и ветер в жилище – то плохо, то – холод. Один, изнеженный сибарит, так думал Атрак (если бы знал значение этих слов), с холёными руками, в простой, но явно не задешево купленной легкой одежонке, второй чисто дикарь (как ясно-понятно, думал смышлёный Иаков) в тёплом тулупчике с запахом (ударение на втором слоге) налево и донельзя грязном кафтане. По случаю ранней жары открытая шея и грудь, также донельзя измазанные и немытые от рождения.
Хилый пасынок города и могучий сын дикой степи, играющий мускулатурой, более разных людей трудно было найти.
А вот, болтают на берегу одинаково чуждом обоим сине-зеленого моря, по очередности ласкают волчонка, не отпуская его от себя ни на шаг.
Болтай, не болтай, а пора расставаться: волчонок поднял скулёж, и ровесники стали прощаться: иудей поклонился, половец поднял свободную правую руку, открытой ладонью к иудею.
И что им дала эта встреча?
Приняла судьба трёх вожаков, трёх одиночек. Все без земли, двое свободны и вольны, как ветер, им земля не нужна. Третий не свободен, не волен, хотя без земли.
Судьба им скитаться, но двоим повезло: волк и свободный кипчак будут вместе, пока солнце лет (волки в среднем живут 15-25 лет, изредка доживают до 40 лет) старого волка не закатится навсегда. А третьему судьба приготовит особый подарок: вести свое племя от радости бытия к новым страданиям, копить и копить грехи человеков. Будут счастливы три вожака, правда, каждый по-своему.
Во славе своей кончит жизнь благородный Атрак. Будут дни, когда призовёт его грузинский Давид по прозванию Строитель, и будет Атрак защищать границы его от турок-сельджуков со своею большою ордой. И рассосётся народ его среди доблести славы на вольных степях у горного Терека, и возвратится после буйного Терека в дивные степи равнины, и снова будет народ славить изустно его подвиг последний, когда в тяжком бою одолеет его, уже старого, молодой и горячий противник, отсечет ему голову своим ятаганом.
И последним словом хана орды будет: «где ты, верный мой Найда?», и закроются гордые черные очи.
И насыпят курган, и будут петь любимую песню хана, повторяя всем кругом:
«Земная твердыня – это счастье кипчаков,
Жизни кочевье
Быстро проходит…
Множество ханов и беков состарит,
А сама не стареет!»
(вольный перефраз из «Кудатгу билик» 1069 г. Юсуфа Баласагуни).
А Иаков будет ходить со своим племенем, считая города и веси по большим и малым странам Европы, спасая своих и спасаясь от своих и чужих. Будет кланяться герцогам и маркграфам, спасая рыцарей от долгов, а их прекрасных, но таких грязных дам, от скуки, давая денежки в рост купцам, горожанам и даже клирикам церкви.
И будет петь печальную песню о бездомных евреях, гонимых по свету, и напевать: «Спаси меня, Яхве!»
И как закончит бренную жизнь, про то нам неведомо, так тиха и спокойна будет старость его на покойном одре, что не оставит следов в нашей повести.
Три вожака, три могучих воителя! Три безжалостных хищника, рвущих клыками горла у жертв, рвущих тела, добираясь до крови.
Гордый хозяин диких степей черным-чёрный волк с голубыми, такими редкими для волков голубыми глазами, будет строить свою стаю, будет мерить вёрсты дорог рядом с хозяйским конем ровным лётом, совершая прыжки до метров пяти, свои восемь-на-десять верст за время погони. И ветер в ушах, и родной вой дальней стаи там, за спиной, и клыки наготове, и ни снег, ни дожди не помеха мощной стати черного волка. Не замерзнет волк в самый лютый мороз (волчий мех обладает низкой теплопроводностью, которая в 1,5 раза ниже теплопроводности ондатры и бобра), не утонет в самых глубоких снегах, пропитается в голод крысой, лягушкой или кладкой яиц, и будет петь воин-вожак победную песню, и степь будет слушать его гордый клич!
И будут, будут дрожать антилопа, и бежать прочь свора собак, и лисица нырять в свою нору, и даже бурый медведь опасается стаи волков, когда вожак гордой стаи волков по цепочке воем своим передаёт собратьям, где находится зверь. Гордый волк не опустится на колени, не повернет шею назад – он не трус. Он издает клич боевой на рассвете или в сумерки, и редкая тварь не боится его!
В родной стае
Но это все будет потом, а пока…
По стежкам-тропинкам, то в гору, то вниз, Иаков брёл, не утирая слез: рыдал по волчонку. Постоял на камнях, остужая свежим ветром горевшие щеки и красноту заплаканных глаз, наклонился к воде, побрызгал лицо студёной солёной водицей и пошел в глубь кварталов.
Километры дороги утишили горе, дома к ужину ждали его Мириам с хлопотливою Сарой. К кварталу пришел повзрослевший Иаков.
А Атрак исчезал, сбегая неровными тропами за балаклавские кручи, за старые мощные стены древнего Херсонеса, только присущим кочевникам особым чутьём находя свой временный табор, своих сородичей и коня. Волчонок засунут за полу кафтана, пояс потуже затянут, чтобы ноша случайно не выпала по длинной дороге. К вечеру только до брался Атрак до зимней краткой кочёвки.
Волчонок – фурор! Амарат подбежал к нему первым, перенял щеночка на руки, щенок заскулил, запищал, опущенный на чёрную землю, и даже заплакал: опять качалось под ним земли основание, но на сей раз не деревянный настил жёлтой палубы, а обширная черная твердь.
И ненавидел с тех пор Найда до конца своих волчьих дней две вещи: качку, хоть на седле, хоть на коне, хоть на палубе, и обрывы. И любил до конца лет тоже две вещи: Атрака (Иаков скоро забылся) и ветер, свободный степной жадный ветер!
Эта любовь соединила двух вожаков навсегда: ветер свободы пел им обоим, когда неслись на охоту, настигали врагов, защищали друзей, ветер свободы давал им надежду в объятиях самок, ветер свободы давал им дыхание жизни.
Орда хана Атрака страшна для врагов, опасная для друзей: когда лёгкие кони поднимали копыта, подминая степную траву, и гривы коней относило назад лёгким степным ветерком, а впереди орды бесшумно несся громадный волчище, – о! тогда сердце ёкало как у коней, так и людей. Первыми с поля битвы уносило коней: волчий злой аромат пробивал через ноздри самые далёкие ниточки конского мозга и инстинкт заставлял лошадей поворачивать круп, заставлял убегать подальше, подальше от волчьих клыков.
А тогда людям орды проще настичь убегающий сброд ватаги чужой, настичь и убить, или просто ограбить, отнять, поделить, и прожить ещё день на свободе в дикой степи с её дикими травами да ветрами.
Ну, а пока суетились вокруг волка даже взрослые воины – тотем есть тотем. Волк – покровитель, волк-охранитель, но трудно поверить, что этот маленький комочек из слабеньких мышц, беззубого ротика, но с чёрной обширной отметиной изнутри, и дрожащим хвостом есть символ половецкого человеческого бытия, что он есть тотем!
Но вырастет волк, кормясь изначально кобыльим жирным млеком, затем привыкнет к твердой пище мясной, и вырастет волк охранителем рода, хранителем племени половецкого, принося в род добычу, удачу и покровительство предков-волков.
И ещё прибавилось авторитета воину Атраку: сам волк, сам тотем, пришёл в его руки! Значит, знак, значит, воля небес. Пусть вожак молодой, но мы не ошиблись, думали воины рода, отдавая ему главенство в роду. Раз волк пришел сам, оторвавшись от собственного рода-племени, а мать его отдала жизнь, значит, знак этот верный, и будет счастье в роду, полны молоком кобылицы, тучны наши стада, сильны дети и воины, и ослабленным будет враг.
Ночью поднялся лёгкий отряд и помчался в степь домой, на зимник. Там ждут воинов тёплые юрты, там вдоволь кобыльего молока, там раскинут шатры свои семьи, объединяясь в коши-курени-роды. Степь широка, степь велика и всегда найдется местечко для приехавших с дальних походов соплеменников, найдётся хмельной кумыс и сладкое просо и привезенный от славян сладкий медок. Будет течь ровный ход долгой беседы о том и о сём, где вспомнят куренного Башлу, где обязательно расскажут про волчонка Найду, который сейчас мирно сопит в теплоте овчинного полушубка хозяина.
И только бедный Иаков мучается в бредном жару, так опасна и переменчива крымская погодь-непогода. В этот декабрь день начинался так славно, пели птицы, порхали бледные бабочки, зелень травы клонилась на тёплом ветру. А к вечеру ветер ознобом драл кожу, гнал чёрные тучи, грозные близким дождем или снегом. Легкая хламида Иакова тепло не держала и ветер морской пробирал до костей. Свалился Иаков, мучимый жаждой и лихорадкой.
В Крыму так часто бывает: утром солнышко и тепло, а к вечеру наметет снега под метр толщиной. А то и бывает такое: на одной сопочке коровы машут хвостами, лакомясь свежею травкой, а сопка насупротив покрыта снегом или корочкой ледяной. А между сопочками только тропочка узенькая.
Выхаживала будущего зятя, естественно, Сара, выходила, выпестовала, как дитя малое.
А, может, лучше всяких лекарств, что приносила, варила да подавала в керамических блюдцах знахарка-бабка из соседнего славянского квартала, лучше ухода хлопотливой толстухи лечил добрый взгляд его Мириам. Чудилось, что и в бреду ему виделся тёплый нежный взгляд красавицы, что пожалела больного. Ну, а когда подала тёплую чашу какого-то жуткого варева, он выпил, не думая, ведь сама Мириам поднесла. А когда поправила свесившееся до полу одеяло, то выздоравливать стал, как собака.
И только поднялся – сразу про свадьбу. Будущий тесть и отправил горячего юношу домой в стольный Киев-град готовить родню, готовиться самому к скоро-скоренькой свадьбе.
Друнгарий
Синяя, синяя синь синего моря смыкалась где то там, далеко, с лазоревым голубым вечного неба. Мирную тишь ровных волн да ровную тишину звонкого воздуха нарушал только скрип кораблей да резкий жёлтый цвет косых больших парусов. На каждом из кораблей красный крест!
То боевой полукруг тяжёлых дромонов (дромон – гонщик, бегун, греч.) окружал Херсонес. Жёлтая кось парусов натянута туго, мачты резали глаз, впиваясь рыбьей костью в синее небо.
Далекий Симболон (сейчас – Балаклава) маячил серебром рыбачьих фелюг. Они, врассыпную, как стая мелких рыбешек, метнулись подалее от грозных дромонов, как от акул. На каждом дромоне пятьдесят нижних гребцов держали весла наизготовку, верхние пятьдесят перестали грести, раз закончился переход. Верхние приготовили арбалеты, готовили к бою «греческий огонь». Дромоны готовились к бою…
Хотя уточним: боя, как с настоящим врагом, не ожидалось, иначе бы командиры приказали готовиться к абордажу.
Каждый дромон, усиако или памфилос, или типа хеландии (черепаха-греч. здесь приведены названия суден византийских) имели вышколенный штат морских пехотинцев, а равно гребцов. Погруженные в воду тараны готовы, поднят ряд съёмных щитов, синий металл брони защищал корабли, катапульты ощерили рот. Балки-подъемники раскачали вороны, у лучников аж руки чесались пересчитать для начала ребра врагу (вороны-массивные снаряды для пробивания бортов и днищ противников), пращники тож наготове. Огнемёты-сифонофоры венчали каждое судно.
Всё ждало команды.
Невдалеке, на открытом пространстве свободной воды, качались тахидромоны («быстрые гонщики», несли патрульную и конвойную службу, осуществляли разведку и срочную переброску войск).
Итак, побережье блокировано!
Друнгарий (главнокомандующий византийского флота до 12 века, с 12 века – адмирал) на берег не сходил, качаясь на толстых коротеньких ножках, стоял, ковыряя в зубах. Изучал порт и город, изучал, изучал, изучал.
А порт был красив, и город огромен. Красивый Херсон, даже жалко метать огонь по башням, кварталам. Прикидывал: хватит ли смеси смести весь греческий город? Город раскинут по бухтам и вширь. Сложный город, достаточно сложный для маневров морских.
Друнгарий варанг, Ингвард по имени, не любил спесь гордых ромеев и мог расстрелять любой греческий город, даже красивей Херсона. Но почему-то Херсон было жалко.
Но приказ императора Алексея Комнина для наёмника из романнов есть приказ. Не ровен час, пройдется тяжелая длань базилевса по мордастым щекам, какой позор, какое унижение. А может тяжёлой ступней со всей мочи толкнуть по спине и будешь считать песчинки на бережку, слетев с корабля, это уже не позор, тут пахнет опалой.
Мощной рукой держал император свою Византию, мощной рукой держал порядок в главной среде – в армии, флоте. Мощной рукой держал флотоводцев, мощной рукой держал полководцев, а ромеи они или варанги, императору безразлично.
Император рывком поднимал упадавшее тело империи: наливались жилы, вздувались синие вены, но он не щадил ни себя, ни людей. Делал империю не для себя, для будущих поколений. Народ понимал, потому и терпел своеволие власти Комнина.
Направился флотоводец друнгарий варанг (варяг) в далёкий Херсон, повёл караван кораблей в бунтующий город, подчиняясь приказу, хотя, не по чину ему воевать херсаков, не по чину. Обида держала норманна в суровых объятьях, тому и держался отдельно от посланника Византии, от шайки (хоть про себя мог подумать, как он себе представляет эту коричневорясовую сволоту) монахов. Держался отдельно, исправно посылая на их корабли снедь и вина, певцов и чтецов. Сновали юркие шхуны между дромонами, суетились ловкие кормчие, всё было как всегда, но как было противно смотреть на холёные рожи посланника и его свиты, на бледные лица монашеской братии.
Про себя, и то втихомолку, с оглядкой, ибо разведчики монашеской братии есть везде и повсюду, называл он монахов не иначе, как «дамочками». Из-за сходства одежды, я полагаю, и из-за длинных волос, разумею. «Дамочки», и презрительно кривился рот, особенно если кто из монахов был непривычен к качке морской. Эвона, качки боялись! И где? В луже Чёрного моря? Не видали штормов полузабытого им ныне моря севера, моря студёного, моря холодного. «Дамочки», чего с них возьмёшь.
Нет уж, лучше на флагманском корабле качаться на палубе, ловя солёный ветер лужи, что зовется Чёрным морем, Русским морем да Понтом. Лучше отсылать гонцов с разной снедью, откупаясь от взоров и разговоров с посланником цезаря. Понятное дело, донесут про его поведение, в красках распишут его негодяйство, да на это он плюнет, а плевок разотрёт. Пока базилевс ему платит, он держит весь флот в кулаке. Пока базилевс ему платит, он строит на верфях дромоны, так непохожие на родины корабли. Драккар-дракон – что рысь, что конь, что дракон: «рыжая и ражая рысь морская рыскала» (из русских летописей про варягов) по многим морям. Но лучше драккара (от дракон + конь (кар), то есть драккар) эти дромоны.
Когда то юнцом он влюбился в дромоны. Ходил и завистливо цокал, щупал обшивку металла, бегал по беспалубным сквозным настильным проходам, поднимался на ярусы команды гребной, аж присел, аж понюхал сифонофоры. И уже не мог, не позволил себе изменить этой жаркой любви, взаимной и вечной.
Тогда приглядел его зоркий императора глаз, тому и служил ему верой и правдой Ингвард варанг.
Потому и терпел унижение этим походом, лишь одно утешало, поход будет кратким. Сутки к Херсону, сутки в Херсоне, сутки к Синопу, морская прогулка, а не боевое дежурство его кораблей.
Но приказ есть приказ, и Ингвард спустился в монеру (монера или галера, одноярусный линейный корабль), надобно проверять корабли на огонь.
…В тайне из тайн алхимик держал рецепт зажигательной смеси. Нефть и асфальт, горючие смолы, сера, гудрон, селитра, ряд масел, – составные имелись на каждом из кораблей, амфоры мог увидеть и стражник и раб, что на солёной от пота спине переносит амфоры с берега на корабль.
Но всегда последним из всех на борт поднимался алхимик, и вещи его никто не мог оглядеть. Нарушителю полагалась лютая смерть. Раз было дело, когда баловень-юнга, любимец друнгария, пробрался в каютку алхимика, и, покопавшись, мешочек достал. Какой визг тогда поднял алхимик! Выхватив тот мешочек из пальцев мальчишки, алхимик бросился к друнгарию: повесить! И повесили тут же ночного любимца. И видели все, и нижний ряд гребцов, и верхний, и пехотинцы, и кормчий. И все промолчали, а кому же охота болтаться на рее? И больше никто никогда не трогал алхимика, мучаясь, что же имелось в секретном мешочке? Тайной из тайн держался секрет компонента знаменитого «греческого огня», сжигавшего враждебные корабли на дальнем расстоянии.
Где в пыли веков растеряли секрет, то нам неведомо, теперь он потерян. И какая война разбудит сифонофоры?
Поднимался друнгарий на каждый корабль, за ним поднимался старый алхимик, полдня отняла у них процедура, пока посланник на берегу отдыхал да молился.
К обеду, когда солнце вставало в зените, друнгарий успокоился: затишье было, как перед битвой.
Значит, порядок!
«И будете ненавидимы всеми за имя Мое;
Претерпевший же до конца спасется»
(Евангелие от Марка, 12; 13)«Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.
Блаженны алчущие ныне, ибо насытисесь.
Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда
Отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше,
Как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь
В тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на Небесах.
Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили
Свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо
Взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете
И возрыдаете.
(Евангелие от Луки, 6; 21-26)Свет чистоты
И почему людей так тянет в Херсон, неведомо. Море плещет красиво, да мало ли высится городов у морских берегов? То ли жёлтые камни стен и домов влекут, да мало ли городов построено из инкерманского камня, Рим, например. А, может, невольничий рынок? Так рабов можно продать в Калос Лимене, Керкинитиде или прогнать до Железных ворот (Дербента), тогда выгода может тройной статься.
Так что тянет в Херсон?
Прекрасные глаза Мириам для Иакова, ночи с суданкой Атраку? Так прекрасные девы найдутся в народе любом, в городе каждом или селе.
А что тянет сюда паломников из греков, славян, болгар и ромеев?
Отвечаю – намоленность храмов!
Вечен город, в котором жил хотя бы один праведник, вечной будет земля. А в Херсонесе множество храмов, много церквей, монастырей. А где храмы, церкви да монашеские келии, там неминуемо явится святость. Нет, не всех тех, кто правит службу или молится днями-ночами в сырости инкерманских пещер, ибо грешен человече по сути своей, грешит.
И почему грешник стремится, ползёт, стирая ступни и поршни, (мягкая славянская кожаная обувь) к источникам святости: могилам да родникам, мощам да пещерам? Преодолевает тысячи верст трудных дорог (понятие «верста» появилось в конце 11 века), зачастую опасных. И море бурлит, и половец с печенегом по степям шастает, ищет добычу, и дикие звери не перевелись, а ромеи идут, добираясь кругами, добираясь впрямую чрез море, и словяне идут по Днепру, и болгары идут через степи и море.
И идут, и идут, и идут… Не просто бродяги души, а купцы и бояре, князья и дружина, простонародье и знать.
Придут, припадают к мощам, припадают к водам, припадают к пещерам…
А что значит святость? И где она есть? И кто оно есть, святой или святая? И где искать источники благодати?
Чистота и свет, свет чистоты, божественный свет, к нему стремится народ издалека и сблизу глотнуть чистоты, почувствовать свет.
И идут, и идут и идут…
И кто из людей, стремящихся к свету и чистоте, думал, что тёплым весенним солнечным днем ведут из мрачного склепа оборванца-раба, которому некому передать, некому рассказать, за что он терпит муки душевные, что когтями рвут сердце на части, за что терпит страдания голодом, отсутствием света и влаги?
И надумывал он говорить про свои беды-злосчастья? Или нет? И кому?
И кому было дело до оборванца? Истлели одежды, лохмотья совсем уж не живописно болтались на тощеньком тельце, заплетались и спотыкались босые тощие ноги, болтались космы седые по хилым плечам, жмурился глаз от непривычного жёлтого дня.
Ведут оборванца сытые люди, ведут, наслаждаясь тихой беседой и видом раба, который, хрипло дыша, поднимается шаг за шагом, медленным, даже очень медленным шагом к кресту, что стоял на холме, обдуваем ветрами.
Эти люди очень бы посмеялись, весьма и весьма посмеялись, если бы кто то, нашелся бы кто то, кто б им поведал, что ведут они старца святого. Худого заику в рваных отрепьях – в святые?
Космы седые, ребра тощи, вон он идет, спотыкаясь о камни, и это святой? Да помилуй нас, Яхве, какие святые у христиан!
Ни страха, ни уважения, так, может, редкая жалость к оборванцу-рабу. Впрочем, кто и когда жалеет рабов? Неприлично и говорить в приличном то обществе о жалости к побеждённым, о жалости к самым презренным, к отродью – к рабам!
И презрительно люди с холма восклицали бы: ох, уж, эти нам, христиане!
Три чуда
«Что за странный город, – думал Атрак, – «странный город, очень странный».
Атрак стоял на вершине холма. Холма обрывы круто спускались в долину, откуда снова сопки-холмы поднимались, обрывы то круто, а где и полого спускались в долины. Зелень холмов мешалась с жёлтым цветом камней, изрезанных пещерными сотами. Гряда холмов уходила в синеву, подалее виделась белая круча горы, сползавшей в далекое море. Зелень холмов и эта громада белой горы, синяя даль, кажется, бесконечной гряды и воздух пьянили, освежая и чистя гортань.
«Чудно! – подумал степняк, – ой, как чудно!»
Дикие степи равнинны, пустынны, жёлтый ковыль стелется низко, ранняя зелень сгорает под жарким лучом, не дождавшись июня, ровная гладь широчайшей земли уходит все так же ровненько за горизонт.
А тут, явно зима, не сошел же с ума. Вон, Гора покрыта белою шапкою снега, пятна снегов беленеют по сопкам, а зелень буйствует, будто весной. Робко цветы набухаются почкой, тонкий бутон закачался на ветке, ящерки прыскают вдоль каменистых щелей – чудно!
Горы чаруют, волшебники-горы зовут пленительной силой. Звонкая тишь горок, холмов, когда стоишь на вершине и манит взмахнуть, будто птица, руками набрать этой тиши полные груди и взлететь и парить, и парить и парить над холмами, стремясь пролететь над высокой горой и плавно спуститься к синему морю.
Отроги изрезаны сотами ближних и дальних пещер, пещерки заселены монашеским людом, в пять ярусов разбросаны кельи монахов. С пяток пещерок населено и на этой гряде, где стоял юный половец. Монахи работали неустанно, мало реагируя на застывшего наверху. Красота гор была им привычна, но первоначалу они так же стояли столбом, озираясь холмами, речками и Горой, что ныне называется Чатыр-дагом.
Пусть понатешится, пусть налюбуется красотой одинокий чужак.
Переменчивый ветер, переменчиво солнце, переменчивы воды и ежесекундно горы меняются, не давая привыкнуть к однообразию красоты. Однако, жить в такой красоте небезопасно: чаруют, чаруют да и обрушатся камнем иль водопадом, потоками селя или дождя. Но разве хочется думать об этом, когда стоишь на вершине холма и сердце поёт, и горло вдыхает на полную грудь звенящую тишь кислорода.
Атрак постоял, постоял, а потом и присел: нужно было подумать.
Чудной Херсонес, очень чудной. Рынками да рядами, пестротой населения, жёлтыми стенами? Да, но мало ли городов видал он за короткий свой век. Богатством церков? Но половцу мало дела до чуждой религии. Бухтами, изрезавшими всё побережье? Но половцу море-то незачем.
Нет, об этом рассказывать у вечерних костров близ шатра, шалаша или юрты роскошной может каждый, кто побывал у стен Херсонеса. Про рынки, церкви и бухты, добавит ещё про красоту местных девчат и покладистых баб. Вот и готов новый у кошта или семьи балагур.
Нет, он будет поведывать чудо. Чудо он видел один, никто из рода, семьи или коша такого не видывал и вряд ли увидит когда. Ни дед, ни отец, ни дед его деда не видели чуда, а он, маленький отпрыск рода большого, видел такое, что из поколения в поколение, из рода в род будут рассказывать, как видел Атрак чудо чудес доселе невиданное.
А он – видел! И не одно, а три чуда видел Атрак!
Первое чудо, главное чудо, абсолютно до тошноты не окрепшего мозга непонятное чудо видел юнак.
Среди ясного неба раздался вдруг грохот, и с неба слетела огненная колесница! Жёлтое пламя приобретало формы колес, колесница гремела, громадна и зрима. Ужас такой, что волосы дыбом! Небесные кони несли колесницу кругами земель Херсонеса, небесные кони сближались с землей Херсонеса. Только миг, как они встали на берегу у косого обрыва и вновь поднялись, кружа колесницу округ Херсонеса. Все выше и выше круги, все громче и громче громы, и вот колесница уходит наверх, в неоглядную синь, ближе и ближе к Извечному Богу.
А с неба среди грохота грома слышался голос: ВОТ
ДОБЛЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН НЕБЕСНОГО ГРАДА!»
Это чудо первично и главно! Оно было истинно чудом и абсолютно необъяснимым!
Как понял он смысл грохочущих слов с небесного свода? Сам себе объясниться не смог, но слышал, явственно слышал. Да ладно бы слышал, мало ли что почудится при громе небесном? Нет, чудом являлось то обстоятельство, что он понял всё, что гремело, вещалось с небес! И это было не объяснимо никак. А сумасшедшим себя Атрак никогда не считал, и люди его таковым не считали.
И врать он не мог, ну, в нашем обыденном понимании. Да зачем ему врать перед собратьями, ведь засмеют, с позором от коша откинут. Не печенег он, чтобы врать сотоварищам, похваляться какой небывальщиной.
А чудом вторым видел он, видел, как море горело! Правда, правда, горела вода. Чёрные языки длинного пламени лизали синюю воду, волнами стремились к близкому берегу, затем чёрные языки лизали жёлтый песок побережья, чёрные крылья чёрного пламени растекались вширь побережья, катилось черное пламя вниз к Симболону и к Ахтиару. Горели рыбачьи фелюги, шипя, догорали суденышки греков в портах.
Круг громадных дромонов качался на рейде, вдали от огня, не давая суденышкам убегать-убежать в открытое море. Пламя летело с дромонов.
Море горело, море гудело стеной чёрно-желтого с багрецой пламени-жару. Горела вода, вскипала, бурлила, текла жёлтым пламенем бывших белых барашек на берег, лизала песок, оставляя чёрные хлопья и закаменевший песок побережья.
А потом было еще одно страшное чудо! Вначале подумал, что это море гудит, вопя и стеная от невиданной порки. Но то гудела земля где-то там далеко, в толщине черной земли.
Потом покачнулась твердая твердь высокой горы, гору покачнуло только три раза и стихло. Волна под землёй понеслась к Херсонесу: снесла стены, как щепки, покатилась на город, снесла ряд домов, покатилась до моря, волну подняла, погнала её в море. Дромоны качает на гребнях громадной волны. Качались дромоны игрушками детворы, бумажными корабликами на масляной толще воды, ожидая, когда волна их опустит на жёлтое дно в опаске разрыва днища о камни, но волна опустила их на воды так нежно, как будто качала как нянька у колыбельки. А, может, друнгарий талант проявил, неустанно флажки передавали команды судам, и мелким, и крупным, как надо спасаться от цунами-волны.
Земля дрожала, трясло здания, как картонки, мелкие фигурки людей метались от берега к стенам, от стен к берегу, текли людские ручейки, растекались капельками по прямым дорожкам кварталов. Мельчали капельки людской плоти, оседая под обломками стен.
Оседали громады церков, рассыпались камни, качались кресты.
Слышать не слышал: далеко! А вот фигурки людей, дома и кварталы, оседавшая пыль от рушанья стен – это зрелище виделось зримо и ярко!
И что странно-то было: он стоял на тверди, которая уже не качалась, а земля разверзалась под городом, там, впереди.
Если бы чуда прошли в один день, Атрак, наверно, сошел бы с ума и сгинул бродягой, не видя шатра и рода родного. Но миловал Великий Тенгри Атрака, половца юного.
В один день слетала с высоких небес колесница огня, небесные кони спускались, взлетали, и Голос с небес возвещал о гражданине Небесного Града, величая его.
И был день, когда с горизонта к берегу приплыли дромоны, и море горело, то был второй день.
И был ещё день, когда закачалась земля, и каменья церков и хоромов рушились, разбивались кварталы и плавились камни. То случилось на третий день.
Странный город Херсон, очень странный! За свои семнадцать совсем юных лет Атрак не видел так сразу столько чудес. Нет, право, если б три чуда прошли в один день, чокнулся, точно бы чокнулся!
Когда перестала качаться земля Херсонеса, а ужас слегка поутих, притаившись в душе, так как пройти совсем не мог, он, только ноги перестали дрожать и отступила тошнота (ударение на втором слоге), спустился с горы и, перебравшись через реку (река Чёрная) по хилым мосточкам, поднялся к третьему ярусу монашеских келий.
Пещерные монастыри
Тишина монастырского жития его не удивила: монахи жили тихо, не гласно. Он и ранее, когда пробирался к Херсону, забредал в пещерки-монастыри Шулдана, Чолтара, огибал мыс Мангупа, однажды чуть не попал в Сюирень. (пещерные монастыри Крыма, некоторые сейчас возрождены и действуют, например, Мангуп, Шолдан, и, конечно, Инкерман) Везде монастырские люди бытовали тихонько, не терзали душу лишними разговорами, делились скудной едой. Пшено на воде, значит, монахи славянские, хлеб из пшеницы иль ржи, то греки-ромеи. Но одинаково жили покойно, трудились, аж чёрные мокрые рясы белели пятнами соли, и очень много молились.
Чудно так молились! Становились перед нарисованными лицами грозных людей, лица разные, а одежды и взоры у всех одинаково строги. Только лицо очень красивой женщины, когда одной, когда и с младенцем на тонких руках, был светел и чист: мать она везде мать. Очень долго молились, ну очень уж долго молились монахи.
Атрак, ожидая воды или пищи у келий монахов, терпеливо мог ждать часами, так долго молились монахи.
И ни тебе веток деревьев с завязанными узелками и лентами, ни обо (груда священных камней), ни каменных балбала (каменные бабы-истуканы, разбросанные по степям Евразии от Монголии до Венгрии).
Только нарисованные на тряпках или на дереве лики разных людей да свечи, вот и всё, чем владели монахи. А у многих из них и того не было: собирались вместе в самой большей из этих пещер, и там расставляли иконы и долго молились. Один из них всегда был наиглавным. Ну, то правильно, вожак должен быть в каждой стае, даже среди этих одинаково чернорясых мужчин.
Поднялся к третьему ярусу диких пещер, и тут удивился в который уж раз: монахи, все, как один на коленях, молились. Не стояли обычно, как вкопанные, а повалились на камни пещеры и молились так истово, как будто плакали. У некоторых, вправду, слезы светились в глазах, их монахи не вытирали, и почти пели на своем непонятном классическом греческом.
От этого пения хотелось заплакать. Атрак и заплакал, может, впервые в жизни, ну точно как и монахи, не вытирая слез. Непонятно о чём плакал, непонятно что слышал, но слушал эту странную песню монахов, эту песнь как тоску о чём-то печально прекрасном, такую странную песнь, что раздирала и душу и кости ножом.
Корёжило кости, выкручивало, переламывалось что-то там внутри, ломалось и скручивалось, и выпрямлялось. Текли слезы градом, текли по издавна грязным щекам, оставляя тонкий белый след, высветляя светло-смуглую кожу. Рыдания уже не сдерживались воспитанием кочевника, рыдал как рыдал. Рядом ни косых взглядов, ни равнодушия. Общий экстаз соединял всех людей, как братьев. Вот теперь понимал, почему монахи обращались как к брату, ещё усмехался тогда, какой он им брат, кочевник и враг.
Наконец успокоился.
Монахи, что рядышком были, на ломаном койнэ спросили, чего он тут, и что ему надо? Он понял, молебен закончен. На том же ломаном койнэ смог пояснить, как грянул Голос с небес, как испугался, как видел огонь с синих небес и колесницу!
Монахи кивали, поддакивали: многие тоже видели чудо, их более удивило немного другое: половцу слышался Голос с небес на его, половецком наречии?
Они тоже слышали Голос, гремящий с небес: «ВОТ ДОБЛЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН НЕБЕСНОГО ГРАДА!», видели также и колесницу, и небесный огонь. Но что, почему, объяснялось пока только одним: чудо есть чудо, пути Господни неисповедимы еси.
У монахов пробыл так долго, что уходил, как стемнелось. Ни монахи, ни он, ни люди, что пеши и конны стремились к монастырю, никто так и не понял, о каком таком гражданине вещалось с небес?
Наместник монастыря отвечал всем одно: пути Господни неисповедимы еси, Господь вразумит, да на все воля Господня!
После вечерни, во мраке ночном, заспешил наместник монастыря в Херсонес в епископат. Добрался за ночь, проторенная дорога темна, конь спотыкался о камни и пни, густой лес шумел и кручи херсонских холмов давали знать тяжесть дороги, но таки добрался. А там, вместо спячки, разбуженный улей гудит, гомонит голосами!
Демитра скучает
Демитра ждала катепана (дословно: верховный). Стратиг был в отъезде, и скука дала себя знать. Катепан Каматир седовлас и весьма приятной наружности. Высокий и стройный, он легко носил полноватое тело, доброжелательно кланялся всякому, несмотря на свой пост, был почти что стратиг. Приветливый ум, складная речь, он мог рассеять скуку Демитры и угостить новостями. Такого гостя не стыдно позвать: по должности почти что стратиг, и брезговать гостем таким ей было не можно.
И почему же дромоны примчались за сутки в Херсон? Что, черт подери, в городе произошло чрезвычайное?
Скучай не скучай, а ритуал красоты соблюдался незыблемой твердью. Давно насосались пиявки крови из-за уха, из седьмого шейного позвонка, кобчика и низа живота, и выброшены прислугой на двор на съеденье собакам. Пора заниматься телом, лицом.
Демитра позвала служанку, совсем недавно нанятую в дом Мириам. Юная девушка служила ей ревностно, и Демитра рада была, что не ошиблась в расчете: подношенье было хорошим. Жених девушки ключик к Демитре нашёл, и девица оказалась способной. Тонкие ловкие пальчики так удачно, легко накладывать маску или мыть тяжесть черных волос научились, что Демитра других к себе не допускала. После старания Мириам так легко голове и так чисто кожа дышала. Свежая чистая кожа давалась жестокой старательностью как Демитры, так и служанок.
Драгоценный ларец из набранных костяных пластин, орнамент которых пышен и красен, всегда стоял на комоде. И чего только тонкие пальчики Мириам оттуда не доставали: жемчуга и румяна, помада и драгоценное масло из роз в хрустальном сосуде, шпильки, булавки (между прочим, из платины), гребни из кости, и благовония, благовония, благовония. Ароматы взлетали из отверстий шкатулки, благодарно парили в воздухе комнат: Демитра всегда пахла свежестью, как юная дева.
Девушка принялась за растирки румян, с удовольствием делая такую работу, она улыбалась хозяйке, и та её понимала. От души работа делалась, от души, и Демитра свежела, ну на глазах.
Вот и сейчас она растянулась на деревянном ложе. Мириам прикрыла её льняным покрывалом и принялась за втирания. Для удобства работы рядом поставлен треножный лакированный столик, также накрытый льняным. Скатерть вышита тонко вручную, бахрома свисала чуть не до пола, тонкий лён резал глаз своей белизной.
Для обычной маски из желтка и свежего масла, рано-ранёхонько погнали на рынок служанку, и та, перестаравшись, так напробовалась свежего масла, что стонала на кухне, подалее от суровых глаз хозяйки жилища: в гневе Демитра могла так ручку свою приложить к бедолаге, что одним синяком не обойтись.
Дармовщинка вышла прислужнице боком: натощак съедене масло, да в пост, вот и маялась та в уголку кухоньки для служанок без сочувствия и сострадания ближних. Смешки юных служанок, тычки взрослых, от этого радости мало, и так крутило живот. Маялась бедная девушка, стоном боясь навредить и себе, и старшей кухарке. С благодарностью приняла
отвар из рук новенькой, прислужницы Мириам. А та, напоив несчастную целебным отваром, опрометью бросилась в покои хозяйки.
Мириам долго взбивала свежий желток со свеженьким маслом, добавив сока лимона. Редкость такую – лимоны почти специально везли из Константинополя торговцы-купцы. Добавила привычную ложечку мёда, и маска легла на обрюзгавшее тело матроны.
Дверь в спальню случайно полуоткрыта, и резная деревянная кровать с матрасом, набитым камкой (Демитре пришелся по душе местный обычай набивать матрас этой дивной морской травой), покрыта не просто льняной белизной покрывал, подушек и простыней; нет, верх роскошной кровати застелен шелками. Шёлк расписан павлинами, оторочен мехами и белый цвет меха мягко гармонировал с розовым шелковым блеском на контрасте цветов.
Мягкие подушки тоже расписаны павлинами и разбросаны на широкой постели, два кресла с резными балясинами тоже покрыты подушками.
Слабый дух столетнего кедра, из которого выточена кровать для супружеской пары, отдавал по всей спальне свой аромат, утишая и наслаждая запахом свежести и чистоты.
И, где бы ни был стратиг, от любого из расстояний он мчался домой вдохнуть аромат старого кедра и запах любимой своей, роскошной Демитры.
Резные плакетки были накладены на кресла, кровать и резные ножки стола, гобелен над кроватью был виден частично, но роскошь цветов поражала!
И, главное, в доме была редчайшая редкость. Пол перед кроватью был устилан не просто ковром ворсовым, что не такая уж редкость в богатых домах, нет, пол устилал роскошный ковер. Где уж добыл вездесущий стратиг эту роскошь, не известно, может и подкинул кто «в благодарность», про то Демитре лучше не знать. Турецкая роскошь проникала даже в Херсон. Толстый ковер защищал от редких морозов. Да, да, на юге тоже бывают морозы: вон, прошлым сезоном в ближнем монастыре скончался от холода эконом, и не в декабре или в лютом (февраль), а как раз на начало мартовских дней.
Медная жаровня слабо источала свой жар, отдавали раскалённые угли тепло в воздух комнат, но чад от жаровень портил кожу вместе с чадом от факелов. Как ни меняли служанки льняные скрученные нити фитиля в расписанных керамических плошках-факелах, чад от отработанных масел оседал черной копотью на гобеленах, коврах и белизне покрывал.
Каждый день служанки старались, скребли, чистили, отмывали: Демитра любила порядок.
Мириам щебетала наивно всякую чушь. Достойная поросль мамочки Сары, она пела про то и про это, про рынок и ткани, про рыбу и новый рецепт гарума. Демитра слушала почти детскую болтовню в пол-уха и почти что дремала: руки и щебет девицы покоили тело.
Но в стрекотне Мириам затронула тему такую, что сон сняло, как рукой. Стрекотала девица про чудо, что было на Пасех, на двадцать восьмое.
«Говорят, я сама-то не видела, и так жалко, так жалко. Матушка Сара и папа Иаков, едва приведут меня от вашего дома, держат в дому почти взаперти. Положено так: я же невеста. Должны поженить нас родители были как раз на Пасех. Представляете, все было готово. И Иаков, жених то есть мой, успел из Киева обернуться, возвратился с дарами. Он у меня из Киева будет, из великой богатой семьи, похвасталась ненароком девица. И столы наготовили уж такие, такие! (зажмурила очи), и гостей поназвали, и денёчек такой славный был, помните? А как меня наряжали, как наряжали!
И вдруг папочка приказал всё отменить! Сказал, что на Пасех нужно праздновать Пасху, и раббе его поддержал. Грешно, говорил, на Пасех ещё и свадьбу устраивать. Мамочка так расстроилась. Всё наготовили, наготовили и вдруг отменили!
Папочка сказал, что свадьбу устроим через неделю, вы ведь меня отпустите, ладно?
Понимаете, все мужчины ушли, и папочка, и дядя Фанаил, и даже раввин. Уходили на гору, на западный холм. Папа сказал, что вернутся к вечеру, и не раньше. Только Иаков туда не пошел, папа и Фанаил сказали, что Иаков уже не чужой, но ещё не совсем наш, не херсонский. Он и не пошел. Мы так мило болтали, пока мама и соседки всё убирали. Жалко, столько еды пропадет. Много еды вечером съели мужчины, они так веселились, представьте, когда вернулись ввечеру от холмов. Смеялись, но нас не подпускали к себе.
Только знаете, что было страшно?!
Они, когда возвращались, тогда, когда солнце клонилось к закату, там над горой небо светилось. Мы видели со двора, мы выскочили с Иаковом на двор, меня мама позвала: там над горой небо светилось. И небо было, как будто пламенем охватило. Такого заката даже бабушки не видали, и соседки тоже сказали, что такого еще не бывало. И небо – огнём, и как будто с небес колесница, почти до холма. Ой, как было страшно! Вы разве не видели? И гром такой, гром! Гремело недолго, но страшно то как! Так страшно, так страшно! Мамочка даже ушки закрыла и в дом убежала. Иаков тоже хотел убегать, но не в дом, а туда на холм, где дядя, и папа, и другие наши мужчины собрались. Ой, как гремел гром, как небо светилось! И та колесница, она, понимаете, как бы с неба скатилась на миг, и снова клубком поднялась. Вот тогда гром и гремел! Ни туч, ни дождя, а гром так гремел, как будто небо растрескалось!»
Мириам ещё б щебетала, но Демитра очнулась. История девочки разъясняла многое, но! но не всё.
Мало ли грома бывает, и даже зимой? С небес колесница, так то девчушка придумала, возраст такой. Привиделось бабкам, привиделось ей. Может, эта небесная странность предвествовала сильной грозе и землетрясению, и только то!
А народ и эта девчушка, неграмотные по своей сути, понапридумали колесницу и Голос с небес. Расцветили своими выдумками и понеслись сплетни в народ!
А вот что взрослые иудеи откинули свадьбу и отправились все, кроме чужого Иакова тайно на гору, это сюжет.
И Демитра пустилась в рассуды, пока шло лёгкое обмывание настоем лаванды. Килом (кил – местная мыльная глина, добывалась в районе Инкермана, экспортировалась за море как «земляное мыло», кил отмывал даже в соленой морской воде) решила не мыться: холодно всё-таки, холодно, пусть даже почти и апрель.
Пока одевали в нижнее платье из чистого шёлка, обдумывала странность события: иудей отказался от священного для него события – выдавать замуж дочь! И безо всяких на то причин? Странно, если не более, странно. Продукты и прочее, столько потрачено, и отменить? Это непривычно для любого отца, а для иудейского пахнет срамом!
Так что же случилось в иудейском квартале? Что случилось такого, что дромоны приплыли в Херсон? И какая тут связь, если связь существует? Дромоны приплыли помочь? Город, действительно, пострадал: землетрясением тряхануло жестоко пару-тройку кварталов, разрушило пару церков, полуразрушилась синагога. В монастырях потрескалась штукатурка на стенах, осыпались кое-где стены, в богадельнях тоже считали убытки.
Демитра даже издала наказ, естественно, через катепана: вызвать эпарха, подсчитать поквартально убытки в домах, богадельнях. Катепану было поручено подсчитать убытки по воинской части: казармы и водоёмы, нить берегов, портовые проблемы. Работы хватало обоим.
Но не настолько же, чтобы к ней не прибыть катепану. Эпарх, так тот трижды на день появлялся в доме стратига с докладом что, где и как, каждый раз подходя с долгим поклоном, извиваясь толстеньким телом, будто удав.
А катепан не явился ни разу.
Длинная туника-стола привычно облекла красивые формы, длинные полы чуть приоткрывали туфли-коччи из замши, узкие рукава захватили запястье на золотые браслеты. Затем приступили к основному наряду. Короткие рукава роскошно расшитой пенулы открывали нарочно длинный узкий рукав столы-хитона, крючки и шнуровка подогнаны строго к фигуре. Стройность Демитры нарядами подчеркивалась непременно. Роскошный плащ-мантия с подбивкой из меха завершал дивный наряд. Плащ удержали булавкой из золота, головка булавки оформлена птичкой из изумруда. Демитра пока не приняла новомодный обычай и пуговицы ещё не прижились в её доме. Наконец надели на голову накидку-мафорий, скрыв полностью волосы. Мириам вслух сожалела, что такую красоту под убор убирали, хозяйка чуть улыбнулась искренней лести. Парчовый мафорий был прекрасной заменой платкам простолюдинок.
Монотонный обряд одевания матроны не усыплял ни ума, ни бдительности дамы, и мысли Демитры всё больше и больше кружились об иудейском квартале: что там случилось?
Подсчеты убытков ушли на второй, если не на третий уровень мыслей. Куда денутся, подсчитают, прибавят с пользою для себя несколько тысяч номисм, затем прибавит она, придумает, на сколько увеличить «неизбывный ущерб», а сейчас не до этого..
Дом стратига практически не пострадал, не пострадали также казармы: римляне, греки строили прочно, клали раствор не на цемент, а на прочную смесь, навечно хватавшей раствор (рецепт ныне утерян. Так, недавно археологи обнаружили древний водопровод из керамических труб. Трубы были «сшиты» раствором, который оказался прочнее керамики, не говоря про цемент).
Не о том думалось сердцу, совсем не о том. Мысли тревожил еврейский Пасех и отмена евреями свадьбы, к тому же эти клятые дромоны. Ну не помочь же в восстановлении города прибыли жёлто-красные паруса имперского флота, дромоны с посланником базилевса и кучкой монахов?
Тому и ждала умная жёнка стратига своего катепана: умный и сильный, с дьявольски хитрым умом, катепан мог пояснить, мог объяснить, мог подсказать, что там случилось, и как теперь быть? Дромоны тревожат, аж сердце холонет.
Император суров и мало ли что ему скажут монахи!
Стережиться надо и ей, и стратигу, незадачливому муженьку.
Так где ж катепан?
Демитра сердилась до позднего вечера. Летели о стены подвесные лампады, стекло разбивалось о толстые стены, лампадофоры (бронзовые или стеклянные диски, подвесные либо на высоком поддоне, по краю их шли ряды круглых отверстий, куда вставлялись ножки лампад, а позже свечи) качались от криков хозяйки дворца, дорогие свечи слетали с лампадофоров, крошась под ногами служанок, а те метались по залам дворца, не находя себе пристани, охрана скучилась у старых ворот.
Демитра, наконец, поняла, что опытный царедворец покинул и её и её бедного мужа. В голове стучало одно: «опала, опала, опала!»
Призванная Мириам снова ставит пиявки к голове с трёх сторон, к шее и сердцу, пиявки сосали, раздуваясь аж в десять. То ли пиявки так помогли, то ли дама устала, но под утро всё стихло, как вымерло в доме.
А катепан так и не явился пред светлые очи жёнки стратига.
И лежала бессонной ночью на теплой постели, укрытая шкурами, и вперяла темные очи в пустой потолок: «за что и зачем? За что и зачем?»
И думала, думала, думала: самый важный день в её жизни прошел мимо, как караван этих клятых дромонов. И почему не видела этот небесный огонь? Ведь все служанки трещали про колесницу и огонь, про Голос с небес, что гремел про какого-то горожанина с града небесного. А где она, дура, была?
И чего её понесло на дальние дачи и именно на еврейский Пасех? Укатила из города в своем палантине, отдыхала от шума, видите ли. И добро бы встреча была с катепаном, так нет, просто решила слегка отдохнуть: на даче так славно, так пахло распускавшейся розой. Миндаль расцветал, и абрикос, весь покрытый листвою, радовал глаз. Натопили ей в домике жарко, вот и уснула, проспав чуть не до ночи. Проспала, дурища, проспала! Сторожевым оком оставлял дома супруг следить за городом – полуостровом («херсонес»-переводится полуостров). Супруг никогда не доверял катепану, ибо прехитрый давно метил в кресло стратига. А дурища-жена по совету того ж катепана отдохнула на даче в своих Камышах (ближний пригород Херсонеса).
Да, легкомыслие власти карается жёстко, и получила подарок от собственной глупости благородная патрицианка Демитра.
И крутилась в бессоннице ночи, тупо смотрела в стекло своих окон, в расписанный потолок: дура-дурища, дура-дурища она, благородная дама Демитра, матрона Демитра!
Сменила роскошные туфли-коччи на кампаги, мягкие сапоги расшиты роскошно, удобно, тепло и не слышно. Ходила по спальне, ходила по дому.
Дворец ночью тоже не спал: очищали служанки роспись на стенах от потёков свечей и ковры, очищали стены, наспех белили, собирали остатки драгоценных свечей на переплавку отдать кирулариям, (свечники, очень состоятельное сословие в Херсоне), да и мало ли было работы служанкам в дому.
Тени служанок не пугали, наоборот, утишали: всё не одна. Боялась, что кинет ее и прислуга, как кинул уже катепан Никанор Каматир.
Под позднее утро утихла. Прилегла, скрючившись под теплыми одеялами шкур, смежились очи, реже стучало сердечко. Матрона уснула в кошмаре видений очень близкой опалы.
Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего
(Бытие; 41,51)
А Елена таки удрала из дома!
Ночью, когда муженёк в очередной раз был не дома, отлучившись по Святополковым нуждам, тихонько собрала нехитрые вещи, укуталась потеплее в мамину доху, поневоле удивившись, что доси она ей впору, хотя прошло долгих десяток годков. Вязаный плат покрыл голову, плечи, концы заткнула за пояс. Зима разгулялась не в пору, метелила и пуржила февральскою стужей.
Зима становилась лютей и лютей, недаром февраль назывался тогда «лютенем-лютым». Дворня из дома нос не казала: худые одёжи враз выстывал лютый мороз, тело недолго терпело адскую боль холодных морозных иголок, тело просило, молило тепла.
Дворня старалась при солнце, когда только казалось, что потеплее, кормить скотину и птицу, менять в яслях коням пахучее сено. Даже коней не выводили на воздух, так, только изредка по команде хозяина выводили его любимого жеребца. Конь фыркал, мгновенно покрываясь белой колючей попоной, пар застывал, превращаясь в сосульки. Конь торопил хозяина, ржал, стремясь двигаться, двигаться. Двигаться, чтобы не сдохнуть на противном колючем ветру.
От мороза в хозяйстве только убыток. Сдохли трое свиней, у кур с десятка почернели гребешки, тоже сдохли наутро.
Лидия замоталась, в хозяйстве урон ложился каменем на вдовье сердечко. От души отлупила и птичницу, и свинаря, пригрозив сыновьей расправой. Рабы молчали, терпели. Уж лучше старуха пройдется пару раз по спине несильной рукой, чем на конюшне по приказанию сына иссекут спину до мяса.
Топились жарко печи в дому, стелился дым низенько-низенько в ясные дни, не поднимаясь к морозному солнцу. В метельные, вьюжные дни трубы откашливали дым прямо в комнаты: дым от печей не мог подниматься, вьюга гоняла ветра над землей. В доме тогда становилось морозно и старуха слегала: старые кости хотели тепла. Лежала, стонала: в доме во всем недогляд, от невестушки слова не выжмешь, всё на коленях перед образами торчит, творит поклоны с утра до вечерни. Малость передохнёт и опять за молитвы, ужо до утра.
За домом она почти не следила, а дворне от ней только ласки да мелкие подарунки. Раздавала добро, то платочки и платы, то носочки да понёвы (особый род полуюбок, которые не сшивались, а двумя-тремя полотнами сшивались вверху под обязательный пояс или шнурок, называемый «гашник», прикрывая таким образом нижнюю одежду-рубаху. Сохранялись в быту до недавна у современных украинок), и всякую прочую женскую дребедень. Раздавала своё, старуха, хоть гневилась, да отнимать у дворни не могла, раз невестка отдавала только своё.
Молчание в доме становилось невыносимым.
Дворня, все как один человек, встали на сторону Олёны-Отрады, всемерно стараясь выразить благодарность боярыне. Старуха от злости исходила на нет: уходило добро из боярских хором, уходило тепло привечаний, этак, невестушка по миру пустит всё нажитое добро!
И вот, ноченькой темной, в февральскую стужу отворились ворота, выпустив за порог в стылый зимний пейзаж одинокую стать. Узелочек на спину; старуха не постеснялась порыться в убогом хламье, что собрала напоследок невестушка милая, и осталась довольна.
Невестка не забрала ни гривны, ни куны, ни колты, ни жемчуга. Всё горкой лежало на выскобленном добела дубовом столе, мерцая отблеском драгоценных камней. Кровавые камни, зелёные камни, жёлтые камни самоцветов прощались с хозяйкой. Отдавая стылому воздуху свою суть, камни тускнели прямо на глазах. Старуха собрала каменья да узорочья, унесла в свои потаенные закрома.
В убогом мешочке у беглянки из дома остались иконки да пара ломтей чёрного хлеба. Да ещё книга! Церковная книга была тяжела, закапаны свечкой страницы, потёршийся кожаный верх не отдавал уже блеском юфтевой кожи, так что старуха книгу себе не взяла, пожалевши беглянку.
Из оконца, из боярских покоев смотрела, как бредет по двору к дубовым воротам «ненаглядная», как мгновенно февральская стужа объяла фигурку, про себя даже пожалела бедняжку: замёрзнет! Однако, отмашки не отдала, и старый воротарь открыл беглянке двери свободы. Та, обернувшись, земной поклон сотворила, и старуха аж вздрогнула: дворня, вся, как один, и челядь, и даже холопья, поклоном молчания, как честь отдавали безумной беглянке нижайшее почтение и любовь.
Молчание дворни было тяжёлым. Молчание, как топором, зависало над всеми с того дня, как Отрада просила свободы и для себя, и для них, несвободных и полусвободных. Боялись дышать, боялись вспугнуть тогда это молчанье: а вдруг их хозяин, всесильный Словята, отпустит на волю. Ведь как жену-то любил!
Но промолчал боярин тогда, отодвинул ногой лежавшую у его ног свою жёнку, поняла тогда дворня, что не отпустит. Елена тож поняла, чем грозит ей этот пинок.
Молчание в доме становилось всё ощутимей, висело над каждым, как лезвие топора.
Словята старался из дома сбежать при ничтожнейшем поводе. При князевом дворе даже шутили, чего, мол, боярин из дома бежит, от молодицы жены или старой сварливой матуси? Боярин молчал, порождая новые сплетни.
Как добралась до монастырька, Елена не помнила ни стужу, ни голод, видно, Господь её вел. Не тронули ни собаки, ни люди лихие. Старый верный Серко пытался было, хромая, провожать свою добрую хозяйку, да та пожалела собаку, уговорила вернуться домой. Пес и побрёл к теплоте конуры, дикий холод студил даже собаку.
Старенькие поршни (мягкая меховая обувь с жесткой подошвой без каблуков типа позже вошедших в обиход сапог), что носила при родной матушке, были по-прежнему впору. Новенькие, расшитые бисером и узорочьем поршни оставались в хоромах. Свекровушка пересчитала глазами ряд нарядных поршней и осталась довольной.
Белена рубашонка, понёва, нарамник (длинный прямоугольный кусок ткани, иногда называемый «запона», «занавеска», с отверстием для ворота, был короче рубахи и надевался на неё под понёву), навершник (короткая рубаха до колена, род платья, так как имела широкие короткие рукава), под длинный плащ одета из овчинки тёплая душегрейка, узкая в талии и с узкими рукавами, крытая бархатом, – вот и вся одежонка. На голову плат, покрывавший лицо, оставляя свободными только глаза, бездонные синие-синие очи, пленявшие чистотой. Такой чистотой, что бывает только у детушек малых да безгрешных созданий.
В чём пришла, в том и ушла от богатого мужа!
Игуменья сразу отметила новенькую послушанку: инокинь мало, работы в монастыре, наоборот. Новенькая еще и грамоту знала, умела читать, умела писать, умела прядить (прясть), скоблить пол и известкой белить стены из глины. На послушании исполняла любую работу. На то послушанье и есть, раз у монахинь высшее благо есть послушание.
Игуменья исподволь вводила Елену в курс политики монастыря, умением руководить немногим стадом божьих овечек, умением руководить: замену себе враз присмотрела. Беглянка умела работать, умела молчать, умела читать, была вроде мягкой, как воск, однако тверже алмаза в божьих делах. И монастырь поглотил Елену всю, без остатка. Ночами она, да и то все реже и реже, вспоминала побег, полон и Евстратия. Мужа, свекровь старалась забыть, отринуть от жизни, как нечто суетное, скользкое и ненужное, ровно как жабу.
Вспоминала, брезгливо поморщившись, как вовсе недавно Словята пытался вырвать её из монастыря, как валялся пред неё, пресмыкался, прощенья просил.
Тихо кротко ответила, что зла на него вовсе не держит. Просила покаяться и у Бога Всевышнего отмолить себе и матери милости Божией за все грехи, что сотворил. Церквей в городе много, есть где и кому на исповеди рассказать про беды свои и напасти, в грехах тяжких покаяться. Словята молчал, только крупно желваки ходили, затем внезапно подскочил, схватил за запястье. Долго потом рука ныла, стонала от боли. Синяки не прошли, пока сестрицы примочками не отходили болезнь.
Схватил мощно за руку, пытался увлечь вон, из монастырька вытащить, возвернуть в хоромы свои. Еле-еле сестрицы вырвали бедную от лап мужа. Тот кричал в своё оправдание, что «пока постриг жёнка не приняла, власть я имею над нею, не князь! И не вы, овцы божии, нищенки!» (нищий, то есть «ни с чем», не имеющий никакого имущества. Словята вкладывает уничижительный смысл в обиходное тогда понятие).
Отбились, как от половца-ворога, с треском захлопнулись двери монастыря. И погрузилась Елена в жизнь несуетную, тихую жизнь.
Пытался Словята нажать через князя, оттуда присылали гонцов уточнять, по собственной воле жёнка ушла в тишь монастырскую, или по приказанию, по принуждению монастырских сестёр. Тихо ответила, что сама так решила, с младости лет мечтала уйти в тишь покоя тихого жизненного бытия.
С тем и отъехали гонцы князевы, с тем князь, притворно вздохнувши, пожалел верного уного, Словяту-боярина. Поскрипел тот зубами да дёрнул в загул.
А монастырь жил своей жизнью, неспешной и тихой, в моленном своём обывании.
Раз только в сумерках, в морозную стужу, надо же, март в окончании, вот-вот и апрель, а стужа гуляла по Киеву, по Подолу, по Славутича берегам, как будто февраль не кончался, вдруг сердце бухнуло, чуть не вырвавшись из груди. Елена как раз читала Псалтырь, читала в голос на полураспев, и дыхание прервалось, не хватало воздуха, лёгкие не забирали его. Пальцы вдруг онемели, ноги ватными стали.
В полумраке утлого храма на вечерней молитве и такая беда! Игуменья сама подхватила Елену, которая ещё не успела постриг принять, подскочили монахини, отнесли в убогую келью, где чисто и тихо, лампадка горит перед Святыми Образами Спасителя и Его Матери. Иконы, что принесла из дома, хотела дарить монастырю, но игуменья приказала хранить их в келье до пострига.
Перекрестились пред образами, уложили Елену на скамью из корявых досок (в мужских монастырях монахи выдалбливали в кельях-пещерах лежище из глины иль камня, такой материал был всегда под рукой. В женских обителях было послабление, и разрешалось по уставу монастыря, хоть и по Судитскому уставу, но все с послаблением, делать деревянные лавки для отдыха инокинь). Подали водицы попить, игуменья посмотрела: приступ уже проходил, и монахини тихонько вышли из кельи, оставив послушницу отдыхать.
Какой уж там отдых! В глазах пелена, сердце стучит, барабанит в ушах, перед очами чёрные мушки летают, бьёт по виску барабанная дробь. Но это всё – семечки. Даже не ужас, не предвкушение смерти, а что-то тугое, мощное забирало дыхание. Не за себя боялась Елена, это грозное, неотвратимое «что-то» отнимало его, Евстратия. Понимала, что не достать, не помочь, не добежать, не ухватить. Что она может в Киеве стылом от его пребывания где-то вдали? Жив или мертв? Или в преддверии смерти? Да, да, да! Пришло понимание: он перед смертью прощается с жизнью. И в сердце его, в мощное доброе сердце острою болью вонзается кол. Потому и дышать не могла, потому пелена перед очами такая, что солнца не видно. Но как-то она понимала, что там, где Евстратий, солнышко светит, и что там тепло, и благоухание жизни. Даже мерещились пчёлки и осы, жужжащие над травой. Мрак полузабытья грезил картины и пчёлок, и ос, и взгорок с крестом.
И он на кресте!!!
Мрак ужаса не проходил, всё сильнее вонзая острый кол в сердце.
И дольше века длится мгновение смерти, и умирала она вместе с ним, но ниспослал Господь смерть только праведнику!
А ей? Отпустило! Виденья исчезли, остался сумрак почивальни, лампады и Образа.
Только Бог даёт нам жизнь или смерть, только ему, Одному, ведомы тайны любови и смерти, любови, как жизни, и смерти, как перехода от одного состояния жизни к другому.
Земная жизнь краткотечна, в ней мало блаженства, в ней много страданий, и, как это часто бывает, мы проживаем жизнь на бегу, «на потом», не видя страданий чужих, считаем, что только сами страдаем, а иные вроде живут, припеваючи.
И редки, ох, как редки в нашей жизни мгновения, когда понимаем сущность земного пребывания своего здесь, в этом миру.
И уходят от мира мужчины и женщины, становясь истинно рабами Господа, дающего жизнь, дающего смерть. И между рождением и смертью нужно успеть, много успеть. Кому летопись написать, оставив навечно след в русской истории: «Повесть временных лет» монаха Нестора из Ближних пещер Лавры Киевской, тому подтверждение. Кому подвигом ратным, и не одним, прославить навечно дух славянизма, почив скромным монахом Киевской Лавры. Илья Муромец, я про него говорю. Кому просто Бога молить за людей, простых и не очень, тупых и разумных, богатых и нищих, просить за людишек у Бога прощения, за их грехи, вольные и невольные. Таких тысячи иноков, в кажущейся тишине больших и маленьких монастырей, просящих у Бога прощения не за себя. Точнее, не только за себя, за свои грехи отпущения, а за мирской народ, влачащий в грехах земной свой короткий отрезок.
И пусть непонятно мирскому народу удел монашеского бытия, не все понять можно человеку, да и не нужно. Кого призовет Господь Всемогущий, тот и поймет свой удел, свою участь, понимая даже и то обстоятельство, что не каждому будет дано блаженство вечного рая.
Там, наверху, решается наша участь. Там, наверху, решат простую задачу, и ответишь за грехи по всей полной.
Дает Господь тебе выбор грешить или нет, раскаяться или коснуть (ударение на первом слоге) в грехах, наворачивая на стержень души все больший и больший моток своих грешных дел, зависти и обид, злодейства и эгоизма.
Простых десять заповедей, очень простых дал нам Господь, а как трудно нам их исполнять!
И выбираем сами свой путь идти трудным путем, но стремиться наверх, или легко, беззаботно грешить, горя вечно потом в вечном аду. Как легко обмануть, а потом и предать, как легко оболгать или завистью вечной гореть, обвиняя кого-то будь в чём, не разумея, не хотев разуметь, что проблема, не в нём, а только таится в тебе, горемычном. Завидовать очень легко, труднее себя обломать, понять, в чём причина, и тащить свой крест, не кивая на ближних.
Легко не любить невестку иль зятя, легко находить в них бездну пороков, в себе находя только прекрасное, считая себя суть справедливость, чуть не верховныя судия. Во всех смертных грехах виновата соседка или начальник попался пустой, дети подводят, обидели в очереди? А сам ты каков? Никого никогда не обидел, не плюнул в душу ближнему, в душу дальнему? О! Не пнул никого, походя, просто так на дороге-пути жизни своей ни дворнягу, ни кошку, ни дитятко малое или старуху?
То то же! То то же! Хорошо, если совесть не спит у кого, мучает угрызениями. А, бывает, и совесть спит сном непробудным до той до поры, пока громы не грянут и на Суд призовут. Божий суд, разумею.
Божий суд
Пройдет без малого шестнадцать лет, и в ворота женской обители постучится старуха, дряхлая-дряхлая, в выцветшей свитке (верхняя одежда из шерсти мехом вовнутрь с воротником выше головы), платке, носившем следы золочения, в длинной рубахе, грязной и рваной. Драные поршни, космы седые, выцветший взгляд. Кто бы узнал в древней бабусе гордую Лидию?
Игуменья, по обычаю, сама привечала гостей. Старуха, подслеповато смотря на рослую игуменью, жалиться стала на жизнь и проситься к ночлегу. Плакала, старческие слёзы катились горохом по морщинам, вдоль да поперек изрывших лицо.
Игуменья не торопила, всё пристальней вглядываясь в облик старухи. А та молотила своим языком, найдя благодарные уши. Рассказ был не долог, если убрать слезы и сопли, ворчанье на жизнь да попрёки судьбе.
«Был у меня сыночек единственный, ненаглядный. Знатный боярин! Холила, нежила родное дитятко, вырос мужалым, князю приветным слугой, верно и добросовестно служил Святополку. А что получили взамен? Хоромы, так ведь сгорели до тла! Разбойники, душегубы, и кто ведь, дворня своя подожгла старый терем, заполыхало с углов. Осталась сама, в чем вот выбежать и успела», – старуха при всём разговоре старалась не показать зажатые в левой ручонке каменья и жемчуга, – «сгорело! Скотина, и та погорела, как запалился огонь, да с углов и с кошарни, с конюшни, с птичника и овчарни, а ворота закрыты. Дубовые, тёсаные, плохо горят. Металась скотинка, металась и я. Дворня та вся кинулась за ворота. Успевал кто из них скотинку угнать, тот успевал, знамо дело, разбойники-душегубы, да не отдать мне, а самому поднажиться. Куры да петухи летали по двору, пытаясь через заплот перелететь, да куда, крылья им еще в цыплятках срезали, чтоб улетать не могли. Овечки кучкой блеяли среди двора, вроде кто и вывел за двор, я уж не помню. А как терем горел, ну, ровно лучина. Вспых! И крыша, отдав напоследок миллиардочки искр, завалила добро клетей и подклетей, погребов и хозяйских светлиц. Наживали добро много долгих бессонных годков, а сгорело за миг, будто не было»!
Старуха долго перечисляла убытки урона, наплакавшись вдосталь, перешла к основному.
Игуменья слушала молча, пытаясь жалеть старушонку, но сердце почему-то не отдавалось откликом милосердия.
Старушка тишала, уже горько, как факт, рассказала, как посторонняя, монотонно-уныло про материнскую боль.
«Сыночек, был ладным, из уных, что верно служили великому князю. Неблагодарная чернь, не чужая, своя дворня холопы и смерды, челядь и двор словили хозяина, что прискакал намётом от бунтующего киевского простолюдья. Бают, чернь взбунтовалась по смерти великого князя, ловили жидов, ловили и уных, палили добро, катовали (катовать – пытать) хозяев.
Дошло лихо до нас, не минуло, не миновало! Поймали коня за уздцы, сыну даже гаркнуть не дали на чернь, стащили с коня, да на воротах и повесили арканной петлей. А что я могу? Ни сыночка с ворот снять, ни чернь от него отогнать. Выла, присев на коленях у ног мёртвого сына, выла и что?»
Старуха ныла про то, как смотрела, сжав бессильные кулачки, как резвилась доселе покорная чернь: как плевали девки срамные в очи хозяину, что тешился ними, себя не жалея, мордуя нещадно рабьи тела; как плевались взрослые мужики, вспоминая не раз поротые спины по указке Словяты.
Так и не поняла, каково было людям. И, не важно, были грешны или нет, указание боярина бить исполнялось прилюдно. Каково мужику лежать на лавке посреди двора, когда окружают его ребятня и жена, а спину полосует удалой молодец, не жалея свинчатки? Зажмет страдалец в устах палку какую, так до порки конца изгрызет её, ровно пёс кость.
А боярыня старая из оконца светлицы, попивая взварок, строго следит, не балует ли кат, усерден ли или так, для острастки кнутом на голой спине рубцы оставляет?
Бабы из дворни те тож, ни одна не заступилась за Словяту. Поминали обиды: кому косы вырвал от злости, кому ребенка прижил, не глядючи на родного мужа, от кого отнял родное дитятко, загнав в кабалу.
Бабка продолжила вечную песнь:
«А вот мне, погорелице, дали уйти, не били, не мордовали. Выгнали со двора, будто и не боярыня я, а так, простолюдинка. Кто сыночка моего хоронил, и не знаю. Может, и не лежит в землице сырой, мог сгореть в огне горящих дубовых ворот, нашел себе смертушку горькую, огненную! Чернь разбежалась гонять по Киеву уных, жечь в синагоге жидов, а я, вот, побрела на упокоение, до вас приплелась, пожалейте сиротку».
Киев апрельский одна тысяча сто тринадцатого года бушевал не на шутку: умер князь Святополк, значит, хватит, отмучился Киев.
Чем больше старуха повесть вела, тем тверже Елена осознавала: свекровь. Те же постные губы, те же слова, тот же выцветший глаз, недобро смотрящий на небо. Свекровушка, Лидия!
Больше для приличия, переспросила: «Крещеная?»
Лидия закивала, обрадованно понимая, что без хлеба кусочка и без ночлега ей не остаться на поругание толпе.
Отслужили молебен за упокой грешной Словяты души, отвели старушку в дальний уголок, где жили в кельях по трое и четверо послушниц. Старушка смиренно терпела нужду, понимая, что монастырская пища едва ли заменит боярскую снедь. Что монастырю было взять-то с убогой старухи, последний плат или старый носок? Жила милостью божией, зато не на улице, прося подаяние у многочисленных папертей, а в тишине благодатной молитвы в женском монастырке покоила свою старость.
Схиму она принимать не хотела, да и игуменья б не дала: отмаливать старухе грехов да отмаливать, ан не усердна была старая в молитвенных то поклонах. Больше ближе к кухне держалась: там ломоточек, там кусочек, там глоточек нехитрой стряпни жевала беззубеньким ртом, давясь жадным куском, вспоминая хоромы, устоявшееся прежнее бытие. Монашки терпели нытьё: смиренность, иноди старушонка норовила стащить кусочек послаще, терпели опять – смиренность!
Ни разу она не помянула про невестку, как той вроде и не было в её жизни. То ли память стиралась старушечьим обыванием, то ли злоба на сердце вырваться не дала добрым словцом помянуть покорность снохи, то нам неведомо, но ни игуменья, ни старуха темы больной не касались. Игуменье милосердие не разрешало, старухе – застарелая лють.
Игуменья давно поняла: монастырский лад мало похож на кладбищенскую тишину. Хлопоты по хозяйству, уход за больными, немощными и сиротами отнимал времени много, много усилий, и денег. Перед смертью старая игуменья, передавая ей власть, просила и требовала: себе не бери. Соблазнов хватает и народ ходит разный. Разбойник какой принесет горсть деньжат, купчинка от сытости отвалит полтину, боярыни, особенно из старух, приносят пожертвы, так не бери себе ничего. Хватает на свете сирых, убогих, так ты им отдавай, а сестриц держи в строгости, но милосердствуй.
В бозе почила старая власть, игуменьей стала она, уже не Елена, а, принявши постриг, стала матушкой Досифеей.
Чёрный платок, чёрная ряса, строгие синие очи: матушка Досифея держала монастырёк твёрдой рукой!
Доходы росли, вести о матушке, что, как и старая игуменья, богатства не наживала на горе людском, на лихе да скудости, молва разносила благодатной волной.
Единственной слабостью матушка всё ж страдала: книги, где могла, как могла, заполучала она драгоценность письмен.
Когда дарили ей книги, что везли из самой Византии, она в тишине монастырской кельи ночами скрипела пером, переводя на славянский трудный греческий звонкий язык.
Кирилл и Мефодий, как славно они помогали в трудении этом! Славянская азбука проста, буквочек, что звуки родные воспроизводят, хватает, и ложились на желтый пергамент (харатья – по-русски) чеканные строки церковных учений, переводился Студитский устав. Славно будет читаться на утренях и вечернях, на требах славянский язык, давая людям отраду и счастье наслаждаться библейским письмом.
Ни скучать, ни ленивиться в монастыре было некогда, трудились божии пчёлки, трудилась Елена… простите, матушка Досифея. В трудах да молитвах текла монастырская жизнь, за молитвой Господней застала ее смерть, что не мукой была, не страданием, но простым переходом в вечную жизнь. Тленное тело похоронили близ церкви, душа отлетела в положенный час к вечному ожидать Божьего приговора.
Об одном сожалела душа внезапно усопшей: не успела, не захотела себя перемочь и простить старую бабку, что испаскудила ей прежнюю жизнь, простить ту, что однажды переела сладенького аж до смерти.
Как то раз монахини по заказу готовили к греческой свадьбе печенье под названием «хрустики» (хворост). Перед свадьбой обычай старинный требовал на девичнике хворост собравшимся подавать, а кто лучше чистых душою монахинь изготовит чистую снедь для чистой невесты? Потому и готовили часто в монастыре то одно, то иное яство на свадьбу, на другое какое торжество для греков, славян, для других киевлян.
Так вот, Лидия, не удержавшись, съела кусочек, вначале один, за первым последовал и другой, за другим иные кусочки летели в бездонную пасть. Жирная пища (хворост тогда готовили на масле, на
привезенном, ромейском, на оливковом первого сбора в богатых греческих домах, в домах победнее – на конопляном масле, в самых бедных семьях – на льняном, иначе называемом «деревянном». Подолнечник тогда ещё не был известен Руси), к тому же горячая, к тому же во множестве, тут и здоровому нужно поостеречься, а тут старуха, слаба да стара, но жадна без меры, без удержу.
И корчилась старая в судорогах заворота кишок, выла и плакала. И кляла! И кляла! И кляла! Бога и церковь, сына и челядь, Киев и князя. Всем досталось от жадной старухи. С чёрным словом в устах и закончила жизнь, жизнь свою, чёрно-белую. Что осталось от бабки? Отвечу: каменья. Зажаты в лапчонках, камни горели, отдавая все ярче и ярче свою суть служить монастырскому бытию.
Волнение толпы киевлян устоялось явлением Мономаха, тот твердой рукой наводил в хаосе порядок, в хлопотах смутных дней никто и не вспомнил про старую Лидию, что в свои почти восемьдесят едва двигала ноги по келье.
Однажды наутро старуха не встала. Открытая пасть показала, что отдала Богу душу боярыня.
Умерла как-то не по-христиански без исповеди, без покаяния, с чёрными словами на чёрных устах. И это в монастыре, где должно царствовать святости.
В сжатых скрюченных лапках старухи, что держала у сердца, нашли самоцветы. Отдавали тепло кровавые камни, отдавали теплом зелёные камни, серебристо блестели рядки жемчугов, камни, как будто освободились из плена, мерцали, привечая новых хозяек, служительниц храма, христовых невест.
Наконец-то каменья послужат добру: будет хлеб в закромах, будет украшен узорно киот, иконы Спасителя и Матери Божьей украсят окладом. Камни окружат светлые лики, мерцая в ночи, сверкая при свете лампад и свечей. Омоются слезами людскими, и хорошо, пусть тянутся люди к Божьему Лику, пусть просят милости у Матери. И не важно людскому потоку, что за камни, откуда они, красно украшены дивно оклады, слава Всевышнему!
Миру– мирово, свету – добро!
Конец Святополка
И явилось знаменье на солнце в первый час дня! И было видно всем людям: сужалось солнышко красное, виднелось, как месяц рожками вниз. И было это в марте, девятнадцатого. (Из «Повести временных лет», год ст. летоисчисления 6621, нового летоисчисления 1113 г.)
Ох, не к добру таковое знамение! Киев гудел, полнился слухом: кто половецкую рать пророчил стольному граду, а кто небывалый неурожай. Погудели, посплетничали, было забыли. Пасху Святую отгуляли на славу, да вдруг после праздников князь разболелся. Почти месяц болел, болел тяжко, страдал, почти выл дни и ночи.
Ни бабки-ведуньи, ни умные доктора, что приплыли из Византии, князю не помогли.
Возили и в Лавру, где его, в крещении Михаила, встретил игумен. Да толку мало было с того. Игумен князюшку не щадил, вспоминая на исповеди грехи князя, чаще вольные, чем невольные. Князь многое подзабыл. Это про обиду себе помнится долго, а коли ты урон или обиду наносишь, так то вроде забавы для князя великого. Долго исповедь длилась, устала, стомлела дружина, устала княгиня, ожидая в возке благоверного, а игумен нанизывал на цепочки памяти всё то, что князюшка в жизни беспутной, порочной и жадной успел натворить.
Князь было пытался отлаяться (лаяться-ругаться), да игумен прикрикнул: «Скоро к Богу отходишь, как там ответ-то будешь держать?!»
И пристыженный князь завздыхал, попытался покаяться.
Мало-помалу неискреннее каятье перешло в искренний плач. Плакал старенький князь, сам уже перечисляя свои негоразды. Вспомнил про Василька Темного, ослеплённого при живейшем его, князя, участии, про Давида, Олега тож не забыл. Плакал князь, что страдал неумерною жадностью, покрывая весь Киев поборами, один соляной налог чего стоил.
Отплакался, и отпущены были грехи Святополку.
В день апреля, в шестнадцатый день скончался князь Михаил, он же Святополк Изяславич, умер за Вышгородом. И привезли в ладье в Киев-град, по гремевшему от шуги (тающий лед на реке) Днепру-Славутичу, возложили на сани дубовые. Порыдала над ним дружина его да бояре из уных. Положили на вечный покой в храме святого Михаила, который он успел выстроить и достроить.
Вдова, дщерь Тугорканова, щедротой своей удивила киевский люд: разделила богатство его по церквам, монастырям ближним и дальним (крохи достались монастырку Досифеи), разбросала деньжата убогим и сирым.
Девять дней Киев, как положено в христианстве, поминал старого князя. Кто, очень редкие, добром и теплом, а, в основном, о покойнике плохо не говорят, так хорошего и не говорили.
На десятый денёк народное вече послало гонцов к Мономаху, приглашая сесть на Киев-престол: «пойди, дескать, князь, на стол отчий и дедов».
Пока князь горевал, киевляне не ждали: грабили двор Путяты, что тысяцким был, грабили двор Словяты, уного князева боярина, потом убили Словяту, повесив его на воротах, как татя-вора. Стучали босые пятки по крепкому дереву, дубовые ворота тяжело доставались огню, но и они погорели в пожарище, что поглотил и Словяту, и терем его, и добро.
Досталось другим, не менее «славным» уным боярам. Часть юрбы (толпы), кстати, большая часть, стала нападать на главных врагов киевлян, на жидов: грабили, уничтожали имущество, доставалось от них и самим моисеевым детям.
Разошлась чернь не на шутку, грозилась разграбить даже монастыри.
И только тогда, в воскресенье, сел Мономах на престол.
Встречали Владимира киевляне с частью великой, и мятеж угасал сам собой, без расправы княжьей дружины над киевским людом.
Домой!
Ах, какой славный сказитель был у половецкой орды! Тёмными-тёмными вечерами, когда сытые члены коша и рода присаживались на мужской половине юрты хана Атрака, когда спать ещё рано, а в степи стынут ветры, гоняя волков, когда женская половина шатра сидит в своем уголочке за вечным женским занятием рукоделием или пеленаньем детей, тогда хан Атрак, разомлев от кумыса или айрана, начинал говорить.
Давно прошла юность, давненько ветер степей позвал его с гор Кавказа в равнинные дали, давно это было, а как будто вчера. И сердце стучало, как юности сердце, и зубы крепки, и голова не седа, и память свежа, как девичье око.
И хотелось сказать, рассказать о былом, что вместилось в одну только жизнь, жизнь хана Атрака.
Замолкали мужчины, переставали трещать неумолчные женщины, дети рты раскрывали, хоть целый барашек влетай в открытый роток детеныша половца. Даже малые детки молчали, тихонько сопя в материнскую грудь.
Хан говорил! И умел подбирать он, однако, слова.
Как объяснить детям степи про бескрайнюю синь Чёрного моря, про солёность воды? А он объяснял, и верили дети, верили старики. Однажды он пошутил, увидев, как заезжий к нему кошевой из соседнего рода не поверил про соль синей воды. Вот как он пошутил: «Мне не веришь, грозному хану? Так, поди и спроси у верного Найды, вот он, сидит перед кошмами у входа в шатер».
Как долго смеялись над ханскою шуткой! Запомнили и пошло поговоркой в народ: «Не веришь, поди и спроси у верного Найды».
Рассказывал хан про чёрные очи и кожу суданки, про белые зубы её. Про Жёлтый город с холмами и виноградниками вокруг него, про Чёрную речку и дивных монахов, про монастырь.
И про долгий поход провожания в Киев тела монаха, после смерти которого – гром! И Небес голоса тоже после смерти его!
И верили хану старики и мужалые воины, верили женщины и детвора. А внуки осмеливались подползать к деду поближе и даже, да, даже трогать крест на груди. На замызганной донельзя веревке висел крест деревянный, почерневший от времени и тела хозяина, но крест был настоящим крестом!
И, совсем разомлев, старый хан мог долго рассказывать, как возглавлял он отряд, что перевозил тело монаха в большой, даже очень большой Киев-град, как крестился перед этим в Жёлто-Белом городе Херсонесе, как брызгали на него водой люди в рясах.
Тут слушатели всегда, даже если и слушали раз в десятый, испуганно вздрагивали и прикрикивали громкое «хой!», а хан был доволен и долго смеялся.
Как много золота на церквах и в церквах Херсонеса, как свечи горят, как кланяются люди большим на досках написанным ликам людей, очень строгих и добрых, как много людей вместе поют одну песню про Бога, имея в виду Символ Веры своей. Как велики деревья на сопках, как много леса и живности в нем, как много рыбы в большой зеленой, а то и синей по времени, глубокой воде, как по этой воде плывут лодки большие-большие. Хан с трудом говорил слово «дромоны», и тут слушатели даже смеялись над словом, что язык их коверкал. Про горы, да, да, и про горы, такие большие белые сопки – курганы, что растут сами собой из земли прямо до неба.
И ещё хвастался хан, что недаром позвал его великий Строитель Давид, хан большой Грузии, защищать его верным служеньим, охраняя границы. И гордо показывал крест: вот, видите, видите крест? Как увидел Давид крест на шее моей, ни минуты не сомневался: защищай, хан, владенья мои от турок-сельджуков и назвал меня славным воителем и христианином.
Хан опять с трудом говорил дивное слово «христианин», но тут никто уже не смеялся: хан мог побить сгоряча за обиду!
И верили люди старому хану, верили и любили его.
Да, великий сказитель был у орды половецкой, великий!
И не только сказитель. И прав был великий Строитель Давид, назвавший хана Атрака воителем и христианином. Естественно, хан молитвы, положенные христианину, никак не творил, креститься он так и не научился. Но ведь дело разве в обряде?
Атрак душой был христианином! Только за подвиг доставки Евстратия в Киев он мог заслужить почтение христиан и прощение христиан.
Не позволил в походе обидеть пришлым ордам ни тело монаха, ни группу монахов, шедших за гробом, ни кучу людей, шедших за группой монахов. А людей было много!
Шли Мириам и Иаков, откупивший её от неминуемой смерти драгоценным окладом, что вовремя сунул Демитре. Крестились они прямо перед походом: Захария тверд, и остатки евреев, которых жизнь пощадила при разгроме квартала, решились креститься. Так они выбирали жизнь прежде смерти.
Силой заставить идти в христианство Захария не позволял, но ситуация такова, что или смерть принимай, как казнили множество иудеев за преступление их, за соучастие в казни монаха, или в крещении жизнь сохранишь, а там как Яхве прикажет.
И таких иудеев скопилось немало; Захария их окрестил.
Заодно подвернулся Атрак, половецкий вожак, нанятый для перехода к Киеву стольному. Окрещён был и он. Причем плакал, ну ровно младенец, как понял, что за тело везли в Киев-град. Рыдал да твердил: «Тощий то, тощий?», – и плакал.
Пасха была, и солнце играло, шли по теплу и погоде. Сытые кони легко тащили телегу с бренным останком монаха (половецкие кони трупов бояться отучались с малых годков), катились повозки, где расположились монахи и утварь церковная, книги и книги, кресты и иконки. Живописные группы людей кормились от степи. Отряды Атрака дичь приносили за деньги, иногда и немалые, брали немного лишь от Захарии: Атрак помнил, как мало питался Евстратий и шедшая с ним монастырская братия и иные.
Жизнь веселилась в степи! Найда то прыгал перед Атраком, играя с конём, то убегал в степь за пропитанием, возвращаясь всегда с окровавленной мордой: волчонок учился охоте, отвыкая от молока.
Если бы не скорбное сопровождение останков святого, можно было подумать, что группа людей, шедшая под охраной половецких отрядов, похожа была на купеческий караван, или, в лучшем случае, на паломников. И рыскающие по степи половецкие коши в ожидании легкой добычи, зоркими очами увидев такой караван, спешили к добыче.
И тут им навстречу – Атрак! Если кош был из родной орды или дружеской, договоривались за тремя чашами кумыса, что вместе пили на редкой стоянке, радуясь встрече родных и друзей.
Ну, а если чужая орда или наезд печенегов, то стрелы свистели, сабли блестели, летели головы клятых врагов.
Нет, Атрак и вправду достоин почета! От выручки деньги не тратил зазря. Себе ни копья, ни полушки не взял: часть отдавал своему боевому отряду, часть через вестовых передавал до кочевий родных, часть тратил на кормление сопровождения монаха: Захария голодал, голодала и монастырская братия. Путь был далек, припасов хватало не всем и Атраку пришлось прикармливать люд. Людей было много, а денег не очень. Но Атрак не тужил, не плакался и не страдал.
Он вообще легко относился к добыче, легко тратил добытые куны, номисмы, безанты. Мехами с набегов одаривал женщин, золото щедро разбрасывал, не считая, по постоялым дворам и распутным девицам.
Что золото? Им не наешься, им не напьешься, на руки, вместо перчаток, его не натянешь, на ноги, вместо сапог, его не обуешь, от стылого холода, жажды и засухи оно не спасет. И, главное, золото, серебро или медная мелочь не дадут ему степи покоя, счастья езды верховой на надежном коне, запаха трав векового покоя извечной степи.
За серебро или золото купишь охрану, да хоть всю орду найми, а вот друга не купишь. Не купишь любовь и жизни не купишь, и смерти не избежишь, если Вечно Синему Небу хочется смертного взять в мрака покои.
Мало кто понимал Атрака среди осёдлого люда, много кто понимал среди половецких людей.
Потому и кормил он походный народ, провожавший монаха в его неизвестность.
Потому и почёт хану Атраку за доброе сердце, за добрую память.
И смерть в благодарность далась ему славная – в бою. Старый хан с коня не слезал, воевал, воевал, воевал, пока не отсек чужой ятаган его буйную голову.
И какой славный курган стал вечным покоем хана Атрака, вечный курган, с большой каменной балбала, большой вековечный курган. И как пели песни над этим курганом воины хана и как плакали женщины, и как кони стонали! Не мог плакать только Найда: старого волка кости давно уж белели где-то в степи, стерво (внутренности падали) съели стервятники (стервятники – от слова «стерво»), дивные очи ворон склевал.
Не мог плакать Найда над трупом своего повелителя-друга, не мог в последнем рывке стащить заклятого ворога с крупа коня и вцепиться ему прямо в горло, наслаждаясь свежей теплою кровью, не мог!
Но мог теперь Найда бродить по вечным сумракам владений хана Тенгри вместе с другом-хозяином, наслаждаясь охотой и местью врагам. Вместе, шаг в шаг, ход в ход будут бродить вечно друзья по вечным равнинам вечных степей владений хана Тенгри, блаженствуя в счастье.
Там вечнозелёный ковыль, там сытые кони, там бескрайняя степь без лесов, перелесков, Днепров и Дунаев. Там плещется Дон, тихими струями кормит водой степь, коней и людей. А за Доном Яик, за Яиком могучий, бескрайний седой Енисей. За Енисеем времени мрак да легенды о Родине, вскормившей народ. Там бродят динлины (по некоторым сведениям, далекие предки половцев) в покое и мраке степей. Они – далеко! И мы – далеко! Мир всем, покой и прощение!
И будет блаженствовать хан в тёмном кургане, не обращая внимания на золота груды и серебра: золотые уздечки, золотые подковы, золотом шитые стремена, нагрудник из золота, золотые поножья. И серебро, серебро, серебро!
Но это будет потом, а пока юному хану нужно было кормить сирых монахов, держать в покое толпу, что шла за останками «Тощего», как звал его Атрак. Не научился проговаривать сложное имя Евстратий, коверкал и путал странное имя, «Тощим» назвать привычней и вполне ему соответствует.
Протекали сквозь пальцы денежки-деньги, что приготовил он для суданки. С тайною мыслью ходил Херсонесом выкупить белозубую и до невозможности чернокожую, так впала на душу, не вытравишь. А вот надо же, вместо суданки принял христианство да подрядился вести караван.
Ну, таяли денежки, ну и что же, что таяли? Деньги – вода, деньги – песок. Тяжелая тяжесть ложится на сердце, коли денег богато. А все-таки жаль, что не выкупил чернокожую. Ну, да ладно, потом…
А от себя мы добавим, что так и не смог хан Атрак увидеть суданку, не отыскал в Жёлтом городе белозубую, потому вспоминал её в старости в ханском шатре, улыбался, и мужики его понимали. Дети уснули, уснули и женщины, и можно было поговорить про суданок и ляшек, варангов женщин и византиек, и стылая кровь снова бурлила, дарила мужчинам воспоминаний приятную суть.
Много было у хана Атрака жён и детей, любил не всех женщин, но всё же любил. Между походами, набегами да зимовками женские ласки в степи, когда воткнутый шест качался под ветром, давая всем путникам знак, что тут двое тешатся, не мешай, он женские ласки ценил, принимал. В любви часто случается, что один больше любит, отдавая любовь, второй любовь принимает, и только.
Красавец Атрак любовь принимал. Ровные брови черными соболями над голубыми глазами, тонкий нос почти без горбинки, волосы шёлком до плеч, ровная стать, молодецкая удаль, бесстрашие хана, а кто б удержался, а, посмотри?
Падали женщины юные и не очень к ногам победителя, чуя инстинктом повелителя – мужика. Много их было, всех и не помнил, да и не считал, к чему это. Не хвастался перед друзьями, не хвастался перед врагами, не хвастался женщинам, принимая за должное ласки красавиц. Так понимал женщин нутро: человек ест, спит и дышит, это нормально. Человек спит с красавицей, это тоже нормально. Так чего хвастаться тем, что умеешь дышать, говорить или есть, или дать наслаждение в утехах красавице юной?
Только подвигом на войне мог он похвастаться, только ратным делом да Найдом. Во всей степи не найдёшь волка такого, как Найда. Гордый волк и брыкливая, как кобылица, суданка, две его половинки, Атрака. Потому и любил и волчару, и странную чёрную девку. И понимал, что любили его эти двое существ не за деньги, а за просто так, потому что любили. Пусть отдавалась суданка прочим за деньги, так то просто работа такая, утешался Атрак. А его, половца дикого, любила такая ж дикарка с иссиня чёрным лицом и с иссиня чёрным же телом.
Такая же чернота, как у верного Найды.
Да, хан любовь понимал!
И потому при этом походе враз выделил среди массы людей двоих юных, одетых не по-ромейски, не по-словянски.
Юная девушка была так хороша! Глазищи в полнеба, улыбки прелестная суть, ровная стать и походка, добрый покорный нрав, милая девушка, очень мила. И рядом всегда, как коршун над стаей голубок, Иаков, невзрачный и мрачный Иаков. Пылинке не дал оседать на тоненькой шейке: сдувал. Кормил прежде всех, выкупая у половцев послаще кусочки, выкупал место в повозке, чтобы ножки любимой не тёрлись о землю, и платил, и платил, и платил…
Узнал ли Атрак этого худощавого, который по воле Вечного Неба волчонка ему подарил, может, и вспомнил, а, может, и нет. Если и вспомнил, то ханская гордость не позволяла дружить с людьми каравана: что скажет орда на недопустимую брешь в воспитании хана, за милость к бредущим с караваном людей? Нет уж, в орде свои правила, обычаи и законы, пусть даже хан из рода Манги, очень могучего рода, недаром из рода был дядя его, сам хан Башла.
Да вольна орда! Надо будет, снимет и хана на курултае (общем сходе-сборе кочевников), назначит другого, более сильного, более беспощадного не к половцам-номадам (кочевники), а к другим, всем иным, всем другим, недостойным их жалости.
И осами половцы окружали несчастного, отнимая безанты и куны. Кончились деньги, Иаков перешел на каменья. Если до Киева было б идти еще долго, разорился бы вконец. Но Киев-град близко, кончались мученья в далёком походе, впереди Иакова и Мириам ждала свадьба и счастье навек.
И деньги общины, что должна помогать попадавшим в беду одноверцам. Шутка ли, в Херсонесе столько евреев убито и перекрещено, спаси нас, всевидящий Яхве, и помоги!
Помнил Иаков, что подарил волчонка страшному половцу? Конечно же, помнил. На Найду смотрел с тоской, так волчонок ему полюбился. Пытался позаискивать перед ханом, да тот только свистнул нагайкой и помчался вперёд.
А вот Найда забыл про Иакова, про страшно голодное младенчество своё, да и зачем помнить плохое животному? Незачем, незачем, раз есть хороший хозяин, еда есть, вода есть, и есть главное – степь!
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
Время рождаться и время умирать; время насаждать,
И время вырывать посаженное; время убивать и время
Врачевать; время разрушать и время строить; время
Плакать и время смеяться; время сетовать и время
Плясать; время разбрасывать камни и время собирать
Камни; время обнимать и время уклоняться от
Объятий; время искать и время терять; время
Сберегать и время бросать; время раздирать и время
Сшивать; время молчать и время говорить; время
Любить и время ненавидеть; время войне и время миру
(Книга Экклезиаста, или Проповедника, 3)Всему свое время
Страшно было и вспомнить, как город горел, как падали домы квартала, как синагога обрушилась на людей, искавших пристанище в стенах её, как в пыль обертались скарбы, нажитые долгим трудом и бессоньем.
Полукруг жёлтых дромонов, горящая нефть, кровь на кресте и колесница с небес, такое вряд ли забудешь.
И казни, казни и казни!
Священник Захарий (вот он, шел впереди, махая клюкой, будто саблей), сейчас стоит на холме, на агоре. Рядом толпа византийцев: севант Константин, кучка монахов, открывающих рот в песнопениях, стража из местных и пришлых, вернее, приплывших, обученных драться, страшных и мощных рыжих и ражих варангов.
И кучка греков, изнеженных, чернобородых. Рыжие дяди сжимали оружие, то этериоты-наёмники, словяне и англы, саксы, варанги. Могучи, бесстрашны, бездушны, как показалось Иакову, стояли, сжимая пики, мечи и топоры-боевые секиры. Пешая тагма (боевая единица империи, в пехоте насчитывала около шестисот человек, в кавалерии около девятисот, в этерии до двух тысяч) стояла вплотную, окружая монахов.
Не хватало разве что катафрактов (тяжелая конница, главный вид вооружения византийской империи), но император не стал нагружать дополнительным бременем расправы с Херсоном главную удаль страны. Ему катафракты нужны были рядом, у Византии хватало врагов. И оголяться не стоило, так понимал порфирородный (порфирородный – рождённый в порфирной, т. е. багряно-пурпурной палате дворца Византии, резиденции императоров, синоним императорской власти).
Любил базилевс катафрактов, любил. Дисциплинированы, организованы в постоянные части, они имели свои униформы, где плащи и пучки конских волос разного цвета означали и полк, и подразделение воинов.
Катафракт окутан кольчугой, наручи и поножи из деревянных пластин отполированы до блестящего света. Копьё, меч, кинжал днём и ночью у рыцаря наизготове. Иногда катафракты меняли копье на лук или дротик, сути то не меняло. Миндалевидный щит, доспех из чешуек, поверх кольчуги железный, кожаный или даже из рога клибанион. Вся эта роскошь в походе спрятана под жёлто-бурым плащем, обязательным как униформа.
Архонтопулы («дети вождей») в гвардию лезли, как мухи на мёд, так почётно, престижно и выгодно было служить Алексею. Куда там дикой Европе с рыцарскими жизни отбросами до кавалеристов империи византийцев. Умны и холёны, почти что равны «базилики антропи» (люди императора).
Конечно, красный плащ да туника с красными же круглыми вышитыми вставками на ней офицера из «базилики антропи» снился ночами почти каждому катафракту. Попасть в непосредственное окружение императора можно, конечно же, можно. Например, севасту Константу: ещё бы, он родня императору. Блат! Вот он – настоящий базилики антропи.
А император любил как раз катафрактов. Холёные бороды придворных стиляг, не очень любивших служить «на часах», но обожавших цыплячить в церемониале, картинно выпячивая раззолоченные мечи да кинжалы, шлема в жемчугах, серебряный панцирь с обивкою золотой, а за что их любить императору из солдат? Терпел, выдвигал, и засылал, как Константа, избавляясь как от обузы
Вот и стоял Константин спиной к монаху Захарии, наблюдал, как молчаливо растекались монахи, повинуясь жестам жреца. Как с кораблей летели снаряды, как падали в воду огни, как загорались и таяли до головёшек рыбачьи фелюги, как полукруг жёлтых дромонов с красно-кровавым крестом окружал Херсонес.
И как гнали евреев, как будто баранов, на бойню.
Таким вот бараном казался себе и Иаков.
Оценить красоту полукруга дромонов, одеяний варангов ему недосуг, одно на уме: как выжить? Как выжить еврею в такой обстановке, как защитить Мириам? И кинулся тощий и юркий Иаков к казармам, где в центре, на площади красовался дом стратига, в котором царствовала матрона Демитра.
Подползал к ногам прекрасной Демитры и выл, как собака, как пёс, как дворняга. Умолял, угрожал, умолял, обещал, и отдавал каменья прекрасные, обещал груды шёлков, угрожал Божьей расправой.
Но искренним был лишь тогда, когда умолял всевластную даму помочь, спрятать, укрыть его Мириам от ока Захарии, от диких варангов, от пожарищной люти черни.
Напоследок, как аргумент, достал драгоценный оклад. Показал стратилатке, та охнула тихо. Понял – попал! Но встретились на торгу ради жизни жадный и жадная, и стала ломаться патрицианка: «а себе что мне взять? Оклад, то для церкви. Дар драгоценный, конечно, отмолятся мне все грехи, я надеюсь, в тишине византийской столицы в одной из тысяч церков или монастырей.
«А мне что, а мне? Свою жизнь спасать скоро надобно, а не этой несчастной красивой девчонки, ради которой расстилается перед ней худышка еврей. А, правда, сколько жизнь моя стоит?», – подумалось патрицианке, и озноб продрал даже не до костей, а продрал через кости, вбираясь в клеточки мозга, аж ноги осели. Если бы не сидела в кресле своем, драгоценном, из кипариса, рухнула б наземь. Её жизнь стоила многого и за нее многое надо отдать! Смотрела, как извивается червь человеческий перед нею, патрицианкой, а виделось, что она, как этот червь, пресмыкается перед Захарией.
Разведка, о, у Демитры своя разведка имелась! Втихую от мужа, втайне от катепана она подкармливала некоторых горожан. И многое знала о городе, зачастую совсем с другой стороны, чем официальные доклады соглядатаев катепанских, стратиговских о жизни вечного города.
Обмолвлюсь: я недаром назвала Херсонес-Севастополь городом вечным, он старше Рима. Насколько? Намного, мне думается.
Когда Рим основали, и Ромула с Ремом кормила волчица-тотем, древние греки основывали задолго до этого, пусть даже священного для римлян кормления, свой полис. Назвали его Херсонесом – полуостровом, так как стоит он, и вправду, на полуострове, на Гераклейском. Названия греческие и греческая суть у города, теперь окраины Византии. Ну, а со всем уж теперь, в нынешние времена это мощный русский город Севастополь, ключ к Чёрному, да что к Чёрному, к Средиземному морю. А за Средиземным морем, думали древние греки, кончается Ойкумена. Значит, им Херсонес как ключ к богатствам тогдашнего мира. И не сильно они ошибались, я полагаю. Ключ-город, достоин он поклонения (один из переводов названия Севастополь-достойный поклонения) только за одно из событий, потрясавших его во все дни. За величайшее событие в жизни его, за крещение князя Владимира.
А к крещению князя Владимира что предрасполагало? Не его только личная воля, а воля царственных базилевсов, братьев, отдававших за варвара, а Владимир и был настоящим варваром по сути своей тогда, до крещения, сестрицу свою, единокровную базилевсову дочь Анну. А в приданое Анны они от давали, кроме много – многого крестик её, невероятной ценности крест. Тот самый, что нашли в мутном Днепре забулдыги да пропили его ростовщику, деду Иакова. Чем драгоценен тот крест, фантазировать я не смею, но раз крест был у царственной дочери Византии, он был драгоценен. Византийский церемониал мелочей не признавал и раз крест у базилевсы, значит достоин царственной шейки красавицы-базилевсы маленький крест.
И вот теперь этот крестик доставала трясущаяся от страха рука Иакова-младшего, и, как последняя надежда на жизнь ради его Мириам, отдавался он в руки патрицианке Демитры. Та, вначале полубрезгливо протянув левую руку (была левшой от рождения, тщательно это скрывала, но в минуты волнения забывалось табу), потянула крестик к себе. Любопытство преодолело: что там такое ей предлагает полубезумный от страха еврей? А тот лопотал про крест и про Анну, скороговоркою передавал слова, что запомнил от наставления мудрого деда.
Демитра встряхнулась: вот оно, вот спасение! Отдаст в руки только Захарии крест. Разведка её давно донесла, что главнейший в странном походе на Херсонес мощных дромонов, есть старый монах, предводитель Захария. Он милует и казнит, а Константин только щёчки свои надувает, изображая повелителя греков.
И понял умный Иаков, что торг состоялся, что невеста его, без которой нет жизни, что она спасена.
И вечером, после того великого действа, что сотворил с Херсонесом Захария, после казни большой иудейских мужчин, после своего торжества при многолюдной толпе херсонесского люда, когда вручила оклад, Демитра почти приползла в монастырь, где временно обитались монахи из Византии. И жертва была принята, и оценена по должному чину. Вечером принял её Захария в узкой и мрачной келии монастыря, что был недалече от площади главной – агоры. Уступил игумен здешнего монастыря ему свою келью, перебрался к братии на пока.
Так вот, в полумраке келии, в которой молились много и часто, и светел был дух полужилища, Демитра безо всяких торжественных соблюдений обряда, передала главному из монахов драгоценнейший крест. Передавала, полунапевно передавая рассказ, что поведал ей юный Иаков. Старалась, чтобы голос не дрогнул, страха не выдал.
Как величайший секрет, как самую драгоценную драгоценность принял Захария крестик малой, крест самой Анны Святой!
Тут торга за жизнь и не думалось весть, поняла стратилатка, поняла, что если начнёт вымаливать жизнь, придётся рассказывать ей, что многим грешна. А кто его знает, за какой из грехов монах не помилует? Лучше уж промолчать, сохраняя остатки достоинства.
И поняли оба, мудрый монах и не менее умная патрицианка, что ей прощена небезгрешная жизнь. Прощена. И Захария получил кроме в подарок креста, ещё и вдобавок почти верного друга. То есть свою соглядатайку в Херсоне. А стратига жена получила поддержку в столице.
Скрытый торг? Естественно, но с величайшим соблюдением всех византийских приличий: и честь знатной особы соблюдена, и монашеству подтверждение мощи и силы в империи Византии, пусть даже на дальне-далёкой окраине. Ну, а про город-ключ мы вам поведали.
Где крестик? Захария знает. А у него мы не спросим, не можем за давностью лет.
Звездный час Матроны Демитры
Демитра сама говорила с Захарией, тот принял оклад, и только условием окреститься Мириам была спасена.
Демитра не смела присвоить драгоценную вещь: в такой ситуации рисковать репутацией, и, страшно подумать, опалой? Ну, уж нет, повторно дурищей Демитра быть не могла.
Хватит, нарыдалась, наплакалась в тишине своей спальни, перетряслась под теплейшими шкурами, близкой опалы озноб ходил по коже воочию. Передумала, перестрадала, утром стиснула зубы, и пошла напролом. Терять было нечего, значит, вперед!
С поклоном, с нижайшим поклоном, под завесом убора, драгоценная ткань которого опустилась к земле, скользя по плитам мощения у агоры, преподнесла драгоценный оклад: эффект был прекрасно ожиданным!
Жёнка стратига вышла на плац в самом лучшем из одеяний, толпа в миг охватила глазами тончайший хитон и плащ, весь тканый золотыми павлинами. Глазки павлинов сверкали-светились изумрудной зеленью драгоценных камней, громадный аграф-фибула (застежка) сверкал громадным алмазом на левом плече патронессы. Оплечье (воротник) мерцало жемчугами и драгоценными самоцветами, жемчужные подвески (жемчужины подобраны один к одному) головного убора качались в такт дыханию волнующейся патрицианки, качалась им в такт и узорчатая кайма на хитоне, – роскошное одеяние предназначалось скорей для толпы: пусть знает хозяйку, чем для нищих монахов.
А для Захарии квадрат вставки на высокой груди, на супергумерале (плаще, иначе называемом сагум), который украшен богатьём узорочья. Не узорочья и полоски мехов леопардовой шкуры внимание Захарии привлекли. Квадрат говорил о высоком происхождении и положении этой просящей в согбенном положении. Поза явно была непривычной для византийской красавицы, привыкшей повелевать. Картинно тяжелый плат склонился до плиток агоры, картинно в руках вложился оклад. Драгоценные камни в ровном порядке, тяжелое золото каменело руки Демитры и руки дрожали то ли от тяжести золота, то ли от волнения момента.
Звёздный час стратилатки настал, настиг её звёздный час!
Не о муже думала гордая византийка, чего о нём думать? На её гордые плечи, высокую грудь, ясные очи и в комодах тряпьё найдётся любой базилевса прислужник, «базилика антропи» иль катафракт. Может, даже будет помоложе стратига. Происхождение патрицианки, это зарука успеха, и найдётся жаждущий обуять положение знати. Нет, не о муже думала дама.
И не о плачущей Мариам думала в этот момент торжества гордая византийка. Что Мириам, только лишь повод для вызначения момента, но повод прекрасный и проявить милосердие, даже к врагу, это истинно христианская доблесть.
Умнейший Захария вмиг раскусил византийку.
Умнейший мужик поднялся с низов черничьего бытия до мужей, решающих судьбы империи. Думать, мыслить обязан был, опережая супротивников мысли. Выжить в кипящем котле византийских проблем, интриг и змеиного бытия царедворцев, одно уже это подвиг для грека. А выжить и преуспеть простому среди гордой знати катафрактов, базилик атнтропи и прочей твари людской почти невозможно, однако выжил и преуспел.
Заслали в Херсон? Не впервой судьба посылает ему испытание, справится и сейчас.
Захария принял драгоценный подарок! С поклоном, нижайшим поклоном, это для патронессы. Искренний набожный поцелуй приложил до оклада, монахи, как овцы вслед за бараном, приложились к окладу, а следом толпа, уже на коленях, ползла к тяжелому золоту квадрата оклада.
Захария думал: то ли подарок отдать в Киев великому князю, известному жадностью Святополку, к его рукам всё прилипало, не отдерешь. Или в столицу синклиту отдать? Решился, вернётся назад, отдаст император и пусть багрянородный сам разрешит, где будут сверкать драгоценные камни, в одном из тысячи храмов столицы или мерцать а алтаре монастыря, подалее от жадных глаз да соблазнов мира людского.
Принял подарок, и разрешил одной только жертве остаться в живых из презренного клана предавших монаха. Так не токмо воля, а жизнь была по дарена Мириам, несчастной сиротке. Внял мольбам просящей Демитры, проявил милосердие: толпа ликовала!
Как выкрутился сам Иаков из пасти «черной старухи», забравшей сотни жизней его одноверцев, незнаемо, но, вернее всего, опять откупился, и не торжественно, а втихую, тем более повод остаться живым всё-таки был: он непосредственно в казни участия не принимал, и даже там не присутствовал. А будучи киевлянином, мог и не знать о злодействе родных ему соплеменников. Также втихую сдал розыску византийцев дядю-тёзку Иакова, Фанаила и многих других, окружавших жертвенный холм и казнящих невинного.
Кровь на кресте была их заслугой, а не его, не бедного киевлянина, грешного в одном, в любви к милой девушке Мириам. А разве любить – это грех?
Иаков крестился чуть не бегом, опережая иных соплеменников, так жить хотелось, хотелось любить Мириам, рожать с ней детишек, и деньги копить.
Как деньги-денежки выручали! Что он, без них? Ни красотой, не умом не удался, богатства пока не имел, и как Мириам с таким будет жить, как в очи супруге голодной и деткам будет смотреть?
Денежки, денежки, как выручали, как помогли. Крестик, оклад, пара каменьев, шелка и парча, этот товар давал только благо, жизнь и питание, весомость житья. С деньгами Мириам все ж таки будет любить или терпеть, что не так уж и важно, принимая ласки его и любовь безмятежно. Не будет думать она, как пропитание доставать, как в дырявом тряпье ходить в синагогу, прекрасная Мириам будет ходить, как икона в окладе. Прекрасна в прекрасном его Мириам!
И вытерпит всё: побои и унижение, голод и холод пути, поношенье врагов, будет готов креститься, молиться, принять даже ислам, ибо его Мириам должна жить безмятежно, то есть безбедно. На пальцах, точнее на пальчиках прекрасной жены будут сверкать каменья не хуже, чем у этой вот византийки, одетой богато, даже чрезмерно богато.
На одно одеяние всех рабов мира можно купить, или сдать Херсонес пеженежской ватаге. Пусть не будет его Мириам носить узорочья и красный хитон, да, Мириам не императрица, не стратилатка, но для неё он выскребет всё от должников и арендщиков, чтобы смогла на пальчиках камни носить, золотые браслеты, они лучше стеклянных, так будет носить золотые браслеты его Мириам.
Только бы осталась жива она среди этой бурлящей и ненавистной толпы христиан.
И, когда вымолвил сухенький старый Захария: «Я прощаю её!», Иаков чуть не заплакал, точнее, заплакал. Камень свалился с души, не камушек, целый булыжник.
А бедная Мириам, почти ничего не поняв, стояла рядом с Демитрой в глубоком поклоне. Бедная девочка, столько страстей, столько невзгод! Иному за жизнь хватит тех потрясений, что выпали Мириам, а ей за такую краткость своего юного бытия остаться сироткой без матери и отца, без копейки куны, миллисиария, без гроша. Нищенка! Нищенка! Нищая, без отцовской и материнской любви, нищенка, без копейки (неправильно выражаюсь, копейки пришли на Русь значительно позже), то есть без миллисиария в кошельке, и куда ей податься?
Инстинктом, на полубессознании ноги погнали в центр города, где повсюду враги, стражи варангов, монахи. Но гнал самый главный инстинкт самосохранения в покои её покровителя, знатной дамы матроны Демитры. А для поддержки сзади брёл юный Иаков, не отставая от невесты ни в шаг. Она почти не обращала внимания на ухажёра, ловкий говор его пролетал мимо прелестных ушей, она вспоминала, возвращалась в недавний миг жития.
Отрывком сознания воспринимала, как падают камни ракушняка на мамины плечи (камень-ракушняк пилили в каменоломнях строго по размерам, например, 70 см х 20 см, вес одного такого камня около 70 кг), как оттолкнула её мать в предсмертном порыве от неминуемой бездны жадной «чёрной старухи», как выскочила на подворье.
Что было потом? Туман… Солдаты из стражи тащили отца: это видела, не понимая, зачем и куда тащат бедного папочку? Окружила грубая солдатня целый квартал иудеев, тащила отца, Фанаила и других мужчин, не взираючи, бедный или богатый еврей трепещется в их беспощадных руках.
Смерть матери даже не оглушила: если бы хоронила родную мать, как положено по обряду, может, наплакалась бы вдосталь, разрывая одежды и посыпая землёй шелковистые волосы. А так, мать ушла под камни дома родного, осталась навек умершей без должного почитания обрядом похорон иудеев.
Когда бабушку хоронили, как плакала мать, как плакала Мириам, и как плакал отец. Долго соседи потом говорили, хорошая семья у отца, умеют жить, умеют и хоронить. А сейчас? Кто мать похоронит? Кто отца оживит?
Если бы не Иаков-молодший, её могли, как других жён и деток казнящих монаха, засечь. Вон сколько верных подружек секли, не щадили. Не щадили ни деток, ни мамок старых. Грубые и бездушные рыжебородые, варанги или русы, будто баранов на бойне, бездушно считали умерших.
Демитру они встретили почти что на выходе из дворца, она следила, как местные полицейские осторожно закрывают ставни дворца, берегут драгоценные стёкла.
«О, вот и вы!», – обрадованный оклик матроны, и втроем понеслись-потащились на площадь агоры. Как во сне, встала рядом с матроной, как во сне, отупевшая от постоянного стресса, была как бы в тумане.
Отупелая Мириам стояла рядом с Демитрой то на коленях, то на ногах, отупело слушала речи матроны, отупело воспринимая слова хитрой лисички: «не за себя прошу, отче, а за сиротку!» Отупело думала: «сиротка, то – кто?» и озиралась вокруг: кто здесь сиротка? Отупело дрожала на холодном ветру пыльной агоры, ожидая лишь одного, конца этой драмы.
Наверно, не удивилась бы, если бы потащили с агоры сильные руки варангов иль руссов на публичную казнь наказанием розг, отрубанием ушей или рук. Может, тогда отупелость прошла бы? От боли физической могла пройти такая усталость, что отупелости сровне. А, может, и не прошла бы, стрессовый шок мог пройти пострашнее, чем казаться простой отупелостью девочки.
Это потом, в далёком пока от неё стольном городе всех славян Киеве придет к ней сознание бытия, и будут истерики и рыдания. А пока стоит, легко качаясь, тонкая девушка, укрывая лицо от тысячных глаз озверелой толпы славян и аваров, торговцев, ремесленников, домохозяек и греков.
А греки? Что греки?
Греки, хитрые греки, сами они убивать не хотели, потому и сошли с кораблей рыжебородые чужеродные твари варангов убивать, убивать, убивать!
Греки? Греки только молились, молились неистово, сплошь на коленях. Днями, ночами молились и плакали, исстрадая, молили всевышнего Бога послать им прощение за то, что не углядели они.
Что не смогли разглядеть изуверов в привычном своём бытии Херсонеса: каждый день виделись с изуверами, катами (палачами), здоровались, знали о детях и стариках, покупали товары, торговались, парились в термах и удивлялись сейчас, откуда у этих простых иудеев, почти что соседей, ненависть лютая к ним, христианам?
Это ж надо было так догадаться: сотворить наживо казнь Иисуса?!!
Казнили рабов все, греки и печенеги, славяне и саксы, но – так?!! Изощренность ума поражала, рождала даже не ненависть, а жалость к этим выродкам рода людского.
Захария, переняв настроение народа, понимал и потому пощадил Мириам: девица невинна, видно, что девушка умом не сильно то торовата, красива чрезмерно, но не умна. Такая не сможет идею родить, в жизнь воплотить. Что отец ей попался таков? Ну что же, несчастная девушка освободилась от отца изувера, значит, пожалеем её, пусть поживет, пусть покрестится и живёт. За изувера-отца дитя не в ответе. Пусть поживет, нарожает христианских детишек этому рыжеватому юнаку, что мельтешит рядом с девушкой, ловя её вздохи и взгляды, как коршун над юной голубкой.
И тьма над бездною (Бытие.1:1-2)
«Что там бормочешь, узник прикованный?», – внезапное появление недруга не удивило.
Евстратий в полумраке подвала привык сам с собой разговаривать, так и речь не забудешь, не перетворишься в тварину, и мысли лучше в мозгу перевариваются. Да и кому его слушать, ящерке, паучку?
И повторил полуспев-размышление, более для себя, чем для пришедшего: «Нас миллиарды песчинок, но каждого видит Бог, и Бог есть в каждой песчинке. За что любит Господь нас, неведомо. Неведомо нам, да ведомо Господу. Грязны мы, неверны, жадны и глупы, а он любит нас. Грязны? Так как матушка любит грязное чадо, что сделает? Отмоет, причешет. Глупы мы? Так мудрый учитель научит. Неверные? Через страдания привёдет к себе, как отче, как мудрый учитель. Зачем любит Бог? Да разве мать понимает, да разве ответит, за что любит чадо, за что так голубит дитятко ненаглядное? Ответит вам мать, ответит отец, что любят ребёнка, ими рождённого, и всё. Просто любят, прощая мелкие каверзы, мелкие шалости, наказанием строжат за пакости и вреды.
Божиим светом наполнены мы, божьи создания. А вот ты, рождённый, как мы, человеком? Как стал таким»?
Фанаил встрепенулся: «Ну, наконец! От твоих рассуждений перейдём к основному, а то ходим вокруг да около главного.
Ну что ж, перейдём».
Сел поудобнее, ноги вперёд, руки за спину. И стал то ли оправдывать сам себя, то ли ещё раз попробовать убедить тощего нищего визави (визави-сидящий напротив) в своём убеждении. То есть кредо представил. Последние аргументы выложил на кон.
«Ты не будешь же отрицать, что Богом созданы как небесная твердь, так и земля? Не отрицаешь? Славненько, славненько.
Дальше идём. Бог – творец мира? Воистину так. А кто был творён ранее мира? Ангелы, да? О, ты согласен! Дальше идём. А раз ангелы ранее мира, значит, творение мира было при них? Утверждаю, при них. Не все ангелы чисты, невинны и подчиняются Богу. Согласен? Киваешь, значит, согласен. По общему древнецерковному преданию, был ангел один, который перестал покоряться Всевышнему, ибо восстал. Вы называете его то Диаволом, то Сатаной (диавол – в переводе «клеветник», сатана в переводе – «противник»). Пусть будет так, не в имени дело, а в существе. Хотя, знаю, чаще его называют у вас, у словян Денницей (денница – по древнеславянски «утренняя звезда»). А он, между прочим, один из семи высших архангелов будет.
Восстал он, отверг Бога, взял с собой тех, кто поверил ему. О, многих и многих из ангелов взял он с собой. Почему он восстал? Мнения разные в разных верованиях, как и у вас, так и у нас.
Ладно, посмотрим, как у вас история предстаёт. Считаете вы, греки и арамейцы, копты, славяне-словене; все те, кто торжественно гордо присвоили себе, что только ваша вера является православной, то есть правильной, истинной верой.
Ну, так пусть будет так, это тоже сегодня не важно. Хотя мы веруем больше и дольше вас на столетия, куда там столетия, тысячелетия, но не об этом сей час разговор.
Я долго готовил эту беседу, не перебивай! Ваши святые отцы учат вас, неразумных, что причина восстания это гордыня любимого ангела Божия. Посчитал он, что, как высший из духов небесных, право имеет сам Богом стать. Видишь ли, ваши отцы полагают, что не захотел он идти тем путём, что ваш Бог ему предназначил, а направил силы свои на созерцание собственной красоты. Сам захотел стать Богом для ангелов. И тогда он ложь породил.
А ещё есть теория, знаешь? О том, что ангелы повинны-должны исполнять волю Божию и служить не только Ему, но и подобию Бога, то есть человеку. Да не просто там человеку, Адаму или тебе с таким трудным греческим именем. А тому человеку, высшему из Божьих созданий, тому, кто введён тысячу лет в Царство Божие на правах Его сына, а вместе с ним войдут и другие из семени человеческого, сыновья и дочери. Вот, ваш апостол талдычит: «не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Чуешь, к чему я клоню? Получается у вас, православных, что высшие силы небесные должны служить, а значит и повиноваться? Кому? Человеку? Смердящему существу? (смородить-смердить от древнеславянского «сильно пахнуть», отсюда и «смородина»). Жрущему, пьющему, икающему и рыгающему поклоняться за что? Что он такое мог сотворить человек, чтобы я ему поклонялся?
Не заметил за собой он оговорки, а Евстратий аж вздрогнул, как будто холод могильный проник во все щели. Собеседник, искоса взглянув на задрожавшее тело монаха, равнодушно отметил: замёрз, бедолашный, и продолжал, уже более выспренно: «Что Бог говорит? Что вам внушают? Что ты, человек, право имеешь на выбор. То есть на свободу или несвободие-рабство, духовное или физическое, сегодня не главное. Главное – выбор! А раз выбор предназначается человеку, то почему ангел небесный лишён данной свободы? А если ангел свободен, то почему он не мог выбрать свободу? Какую? Да очень простую, свободу – от Бога! Много с Богом твоим несогласных, тьма и тьма ангелов, хотя называете их по иному, демонами: серафимы и херувимы, престолы, господства, начальства, власти и силы. Числом семь, как сам знаешь. Много у нас, иудеев, трактатов на эту главную тему, и непонятно, почему избегаете вы, православные этой для вас скользкой темы.
Может, потому что вы правды боитесь»?
Тут узник, покачавши седой головой, тихо ответил: «Нет. Не боимся мы правды. Мы за правду стоим. А насчёт ангельской силы, я кратко отвечу: не гордыня ли, скреплена, как цементом зависти к нам, человекам, обуяла первого ангела, что зовётся и, вправду Денницей. Потому и восстал против Вышнего Бога и повлёк за собой неразумных, числом не менее трети. А две трети, верных и верных Господу, встали насупротив. В их голове – Божий Слуга, Архангел, по имени Михаил (Михаил – с древнееврейского «кто как Бог»). Не просто Архангел, а стал Архистратигом всех Ангелов, то есть нашим главным воеводой святейшего воинства на небесах.
А почему восстал против Всевышнего ранее преданный ему ангел? А просто все, очень просто – он позавидовал.
Зависть – мать всех пороков, я полагаю. И потому не свободен был этот ангел Денница, и потому не свободны иные, прельщённые им. Несвободен от зависти, от гордыни, какая свобода при таких тяжких веригах? На обеих ногах эти вериги! Вот и стянули вериги ангелов этих с тверди небесной в бездну-пучину.
А ещё я скажу, что раз не открывает Господь всех своих разумений, то зачем нам исследовать то, к чему не допускает, не открывает Господь? Я так понимаю, что мы не боги, не ангелы, мы – человеки. По образу и подобию сотворены, но не боги и не ангелы на земле.
Отпал от Бога ваш первый ангел Денница. И оказался он где? В той бездне, которая одна отделяет наш мир, человеческий, от них. Блуждает в пространстве нижнего воздуха, ниспав с вечных небес, начальствует над иными, прельщёнными им, и вместе с ними прельщает род человеческий, дабы не смели и не смогли стремиться наверх, и попадать туда, в высь небес (из комментариев святителя Афанасия Александрийского).
Ложью, как глянцем красивая книга, покрыты слова, что ты речешь мне, убогому узнику. А кто отец лжи? Диавол, как нам Святой Апостол заветовал: он «лжец и отец лжи» (Иоанн, см. в начале нашей книги). И завистник из первых. Тебе нравится Ветхий Завет? Изволь, вспомним историю грехопадения. Змей говорящий сатана соблазняет Адаму и Еву. На что соблазняет? Да на безделицу вроде, всего то делов, откушать от дерева сладкого яблока, что произросло на древе познания зла и добра. И что получилось? Завистью дьявола смерть вошла в мир!
И ведь что говорил Господь человеку: «от всякого дерева в саду будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь». Или по другому есть перевод священного писания: «от всякого дерева в саду ты будешь есть; а вот от дерева познания добра и зла не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Бытие, 2, 16, 17).
А как переврал слова Бога Денница? «Подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю. Там ложь маленькая, тут большая. Оступился Адам, согрешила с ним Ева. И наступил звёздный час Сатаны!
Диктатура греха на земле воцарилась на долгие годы. Войны, обманы, а с ними предательства, поиски удовольствий. Так пленились божьи создания, человеки, потому и страдают. Ведь предупредил их Господь, что не можно ясти от дерева, чьи плоды суть познание добра и его антипода. Предупредил о последствиях их греха: «Ибо смертью умрёшь…». А что сделал первочеловек на земле? Он сделал выбор, заранее зная, что станет смертным. И что сказал Бог: «Вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно».
Вот и выходит, что Адам по собственной воле, наущаемый сатаной, стал как богом, будучи созданным человеком!
И что получило всё человечество? А прежде всех Ева с Адамом? Обрели плотяность и дебелость тела физического, утратив эдемское тело. Затем, стали тленными существами, то есть порча, болезни, старение, и посмертное разложение. Третье: стали смертными на земле. То есть временно на земле проживающими. Затем тяжкий труд и рождение их детей, что станут наследовать участь родителей. А затем их грехопадение отразилось на всей на природе, ибо стала «проклята земля за тебя». То есть и земля стала подчиняться законам смерти и тления.
Вот и выходит, что именно грех лежит в основании зла.
Прервал Фанаил монолог праведного человека: «Дерево добра и зла, говоришь? А кого ты считаешь виновником зла и добра?»
Из легких уст послышен ответ: «Мы говорим, что только Бог и никто другой есть виновник всяческих благ, но не зла».
Фанаил уточнил: «Так кого ты считаешь виновником зла?»
Ответ: «Разумеется для меня, очевидно, того, кто по своей воле диавол, и нас, людей».
Вопрос: «Из-за чего?»
Ответ: «Из-за свободной воли».
Вопрос: «Так что, ты свободен, и что хочешь, можешь делать и делаешь?»
Ответ: «Я сотворен Богом свободным для двух вещей».
«Для каких?»
«Для зло-деяния и для благо-деяния, что есть зло и добро. Делая зло, неминуемо несу наказание от Господа, от его Божьих законов. Творя благо, не страшусь я законов, об этом мы с тобой уже дискутировали. Но и почтен и помилован буду Богом».
«Не пойму я никак: зачем зло? Живите спокойно в добре, в своих, как ты говоришь, благодеяниях, а зло здесь при чём?»
«Мыслю я, что зло – одно из испытаний нас, человеков. Веры в то, что Бог, и только Он Один единственный Творец все сущего. Зло не сотворялось Богом, а возникает в результате наших деяний, активности нашей, людской. А зачастую побуждают ко злу, или греху, как будет угодно, силы тёмные, силы злые».
«Но ведь эти силы создал всё тот же Господь? И знал наперёд обо всех действиях и мышлениях, как людей, так и ангелов? И всё равно дал им бытие! Для чего?»
«Да, дал бытие Господь Вседержитель силам небесным и людям. Но Бог не желал, и сейчас не желает, чтобы творили они не добрые вещи, Он хочет, чтобы не творили, не умножали зла на земле. Он призывает нас зла не делать! Дал нам заповеди и Моисеевы, и Христовы. Вы, иудеи, ушли добровольно от соблюдения Божьих заповедей: поклонились тельцу…».
«Извини, прерываю так грубо, но не отвлекайся от главного, от сути времён».
«Хорошо. Призывает Господь зла не творить, дорогу указывает на истинный путь. А человек или Ангел пусть выбирает, ибо сотворены свободными были, и потому творятся ими зло и добро. Добро в унисон Божией воли, зло вопреки его заповедям совершают. Не Господь совершает за человека его грехи, не Господь! Я сколько раз тебе повторял, что свободен есть человек в выборе жизни.
И ещё. Исходить из твоего понимания Божьей воли, то цепочка событий неминуемо нас приведёт, что ответственен за всё только он, Господь Вседержитель! И вроде зло оно вроде есть, но вроде и нет, а есть только отрицание сути добра, так вы, иудеи, в ваших прочтениях Книги Святой доразумелись до мессианства. Считаете вы, что ваша трагичная жизнь суть испытание ваше, и предстоит иудеям собрать рассеявшиеся искры Божественного света и восстановить космическую закономерность как царство добра.
Потому и ждёте Мессию, ибо избавлением будет преодоление всех последствий катастрофы небесной, полную и окончательную победу добра над вселенским над злом».
Супротивник: «Представь, я тоже так полагаю. Да, я считаю, что праведнику не должно бояться встречи со злом. Он должен опускаться до грешника, чтобы возвысить того. Опустись на дно и поднимись вместе с грешником к солнцу – вот моё кредо! Не следует подавлять чисто нам присущие желания тела. Преобразовывай их и освящай – вот моё кредо!
Не должен, не смеет сам человек, не вправе он отказаться от сверхтяжёлой задачи – преображения мира материального силой добра – вот моё кредо!
Так реально ли зло? И где спасение от него, если оно существует»?
И света свет от всех времён
Долгое продолжение диспута затянулось, но оба соперника понимали: бой их словесный, бой их кровавый последний меж ними. Одному скорая смерть впереди, и нужно наговориться, попытаться предостеречь человека от неразумного, злого, что в нём живёт.
Другому так не хотелось терпеть поражение! И от кого? От смертного, от простого, нищего человека. Монаха, с детства, считай, мира не видевшего, и поражение? Какое унижение, какая оплеуха гордыне!
И диспут продолжился тихою речью противника Фанаила: «Спасение – в Боге, и церкви, верной Ему. И в собственном желании спасения. Пусть я не в церкви сейчас и не в моём милейшем мне сердцу монастыре на Печерах, я не лишён к Богу молитвы. В ней нахожу утешение, силы черпаю, хотя силы мои иссякают.
Долго я говорить не смогу. Сам, понимаешь, времени мне не отпущено. Но по долгим моим размышлениям, я полагаю, что если выбора человека лишить, как вы того и хотите, то попадёт он в плен ваших прельщений, оступится, согрешит неминуемо.
А так, повторяюсь, свободен еси человек! Грешить или с мучением и страданием соблазна лишиться, он выбирает. Как выбрал и я, и тебе, человеку опять предлагаю: покайся, и избери истинно путь человеческий, Божиий путь.
Не Бог меня искушает. Ибо не искушается Бог злом, и Сам не искушает ни человека, ни Ангела. Ибо каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть, же, зачав, рождает грех, а сделанный грех порождает смерть (Иаков,1:13-15).
Помнишь, как говорил наш Господь тому, кто у престола Его, престола Божия, первый грех сотворил? Бог сотворил его совершенным, без недостатков, а он? Упал с неба, денница зари, разбился о землю, попиравшей народы. И что говорил падший ангел: «Взойду я на небо, выше звёзд Божиих вознесу свой престол и сяду на возвышении в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему (Исайя. 14:12-14). Гордыня? Гордыня! И как был наказан? «От красоты твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия своего загубил ты мудрость свою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам на позор» (Иезекеиль, 28:17).
Так и вы, иудеи, идёте следом за ангелом падшим, не слыша, не слушая Божьего слова: «Омойтесь, очиститесь! Удалите злые деяния ваши от очей моих; перестаньте зло делати; научайтесь и научитесь делать добро, правды искати; спасать угнетённого, защищать сироту, вступаться за вдовушку». Может, я не дословно, прости, цитирую пророка Исаию (Исайя. 1:16-17), не имею в руках Святого писания, но смысл Божьих слов я передал тебе точно.
И ещё. Твёрдо я знаю, что когда настанет тот страшный час, когда будет судить нас Господь Вседержитель, и битва великая будет между верхними, верными Господу силами на небесах и вашими, нижними силами, кого Бог изберёт? Вас или нас, слабых, зачастую ничтожных, смертных пока.
Кого изберёт? Ведь что можете вы, что смог содеять ваш Сатана? Ведь как сказано в Божьем пророчестве: семя жены, говорит Вседержитель бывшему ангелу, любимому ранее ангелу (ибо всех любит Господь!), итак, «семя жены будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Тогда что получается?
Жалить в пяту? Укусить, ухватить, но всё же не до смерти. Так и произошло: укушен Христос диаволом, Он умер. Но и воскрес! А вот Спаситель наносит ему, сатане, удар такой силы, от которого не оправиться! Удар в голову, а не в пяту. Своим воскресением наш Христос поразил сатану, и от удара такого тебе не оправиться!
Теперь вздрогнул и Фанаил: что, раскусил его сущность, этот убогий? Но сделал вид, что не заметил простой оговорки.
«Пусть мне, человеку», – голос Евстратия возмужал, окреп, и он всё более уверенней и уверенней продолжал, – «не можно справиться с дьяволом-сатаной, ибо слаб я, а силы те, сатанинские, неизмеримо великие есть, но я не один! Я не один! Со мною Господь, я знаю, доподлинно знаю, он изберёт в том страшном небесном бою нас, человеков. И Бог избирает людей, и только Бог справится с силою вашею, сатанинскою, неисчислимою. Ибо Ему всё возможно! И воскресение наше вслед за Христом, и ваша погибель. Ибо только Господь даёт жизнь, Он и отнимет у вас вашу победу, мнимую, но победу над нами. Всего-навсего над людьми. А победить у вас Господа не получится! Ибо вы тварны, имеете начало и ваш конец. А у Господа нет ни начала, ни конца, он безмерен, всевременен и всемогущ. И я сделал выбор, за кем мне идти: за Сыном его, за Христом!
Да, я сделал выбор. Ибо я – человек! Я свободен еси, ибо раб я Господен! Я свободен еси! Я – человек!
Я могу только повторять наш Символ Веры, наше кредо, нас, православных, истинно православных, тебе говорю: «Верую во единого Бога-отца, Вседержителя, творца неба и земли, видимого и невидимого…»
При этих словах завизжал Фанаил, что тот порося, которого ведут на убой, и только розовый хвостик дрожит от близости неминуемой гибели. И, как тот порося, убегал Фанаил от слова молитвы, самой главной молитвы всех христиан. Только мутная пыль оседала в неясном свете полумрака от побега его, да метнулись в углы юркие ящерки: испугались! А узник, как будто не видя отступника Божией воли, вслух твердил, повторял:
«Могу идти, могу ползти, могу стоять, – я всё равно на месте.
Могу любить, могу страдать, и наслаждаться жизнью, – я всё равно на месте.
Могу бежать, могу лететь, могу и плыть, в огне гореть или тонуть, – я всё равно на месте.
И только умерев, я двигаюсь вперёд: иль в бездну дна или наверх в чертоги рая.
Когда душа парит, летит, летит без крыльев, без мотора, я ощущаю Бога!
Там, на земле, остался страх, надежды и печали, любовь и смерть там я стоял на месте. Теперь лечу! Я вижу свет!
Теперь я – это я, и мне не нужно бежать, страдать, тонуть или бездельем маяться.
Я стал собой – почти младенцем, почти мечтой, как сладко мне! я вижу свет! я верю в Бога!
Остались там страдания и грех, болезни, мор и слёзы, – те гири, что пудами тянут душу вниз, – сейчас летит моя душа наверх – я верю в Бога!
Все искушения земли, богатство, золото и роскошь женщин,
Утех земных кровава плеть: я жрал животных, мстил врагам,
Нашкодил в жизни я немало; но я познал, и я прозрел, я каялся и плакал, теперь лечу! я вижу свет! Я! Верю! В БОГА!
(«белый» стих Ивана Стойкова, вольный перевод с болгарского мой)
Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле,
От крови Авеля праведного до крови Захарии, сына
Варахиина, которого вы убили между храмом и Жертвенником.
Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей.
(Евангелие от Матфея. Гл.23. 35-36)Казнь Фанаила
А Фанаил смерть принял гордо, единственный из толпы своих соплеменников и одноверцев.
Почти равнодушно-спокойно вышел из дома, когда окружили квартал отряды варангов, равнодушно-спокойно смотрел, как тащат Анну, детишек, других жён и деток еврейских. Равнодушно-спокойно смотрел, как извиваются, плачут здоровые мужики, что вместе с ним совершили казнь нижайшего из рабов, презренного христианина.
Единственный он понимал, что неминуемо наказание за поругание святого. Знал, понимал, и ликовал. Тело терпело побои варангов, очи смотрели на истязание жены и детей, ноги дрожали от усталости, а душа ликовала!
Смертные смертны, всех ждут в аду!
Но смог иудей в стране христианской, пусть на окраине, но среди христиан сотворить им такое, что пусть теперь бесятся, казни творят. Жалко жены? Немножечко жалко: прожили, поди, столько лет, приросли друг к другу две половинки. Детей жаль побольше, но в расчёт брал, что деток отпустят, так, посекут, посекут, пусть до мяса, до крови. Так кровь отмоется и застынет, мясо вновь нарастет, зато злее будут еврейские дети и отомстят за него!
Знал, предчувствовал и понимал, что его непременно казнят и даже публично казнят, может, даже в Константинополе, перед базилевсом и императрицей. Голову отсекут, но прежде успеет он выкрикнуть снова: «недаром я – жил, недаром я – жид!»
Безземельные иудеи веками точатся по земле, пресмыкаясь перед живущими на землях своих, топчущих степи и долы, горы и веси. Передохнули предки его немного в Хазарии, да недолго. И досталось ему, умному, красноречивому, знающему больше их всех книг и людей, доля сугубая претерпевать на земле Херсонеса долю несчастного, долю простого еврея.
Так пусть царственный базилевс теперь знает: есть иудеи, что не могут молчать, не могут терпеть, пока на исконной земле иудеев христиане творят молитвы и храмы, борясь за гроб Господень и чашу Грааля. Византийцы нахалы, имеют землю предков его, землю евреев. Так пусть знают теперь, что есть иудеи и они не рабы, а хозяева жизни. Имеют богатства, имеют детей, имеют религию и нет только земель. И полной власти над миром!
Кичатся христиане своей тысячелетней империей, империей христиан? А где был Господь христиан, когда на холме, на западе Херсонеса, он казнь сотворил, воплотил казнь буквально по библии? Как допустил Он повторность момента? Ведь он, Фанаил, до крапушки, до миллиметра повторил казнь Христа, пусть с другим статистом-христианином.
Пусть славянский монах, а не сын иудейки статистом ему послужил, так где сила гнева Господня? Да, он не смог на монаха крест возложить, чтобы тащил на свою он Голгофу тяжесть такую. Не смог, ибо слишком бессилен монах. И не стал он двоих, для правильности декораций, вешать на двух рядом стоящих крестах, слишком большая была бы огласка. И уж слишком быстро поняли бы христиане, если б посмел водрузить громадный крест на монаха, что кощунствует иудей. И потому не сумел он достичь совершенства, а он так любил совершенство. Равно как сам совершенен и был.
И что смог их Господь? Всего навсего то: убить его и других, творящих с ним миссию освобождения? Мелковато будет для Господа!
Пусть гром прогремел в пять часов вечера, когда пронзало копье (заметьте, думалось Фанаилу, моё копье, и только моё!) сердце монаха. Так почему же грому не прогреметь, дело-то вечером марта двадцать восьмого, весна, всё же, весна. Грому естественно и греметь.
Пусть колесница с небес огненными колесами крутила с небес до земли и снова до неба. Да мало ли как солнце играет в вечерней тиши.
Пусть ясный день, тёплый, как летом, сменился морозью вечера и ветром прохлады, так климат Тавриды – климат морской, и потому можно утром встречать тепло непогоды, а к вечеру ясный мороз.
Нет, заблуждались и заблуждаются христиане, когда ставили и вновь ставят храмы, часовни Христу и Матери Божьей. Они ошибались и ошибаются вновь.
Пусть казнят его, Фанаила, зато другие евреи увидят, как он был прав и как совершенен, и как соблюдает учение верное, тысячелетнее.
И как неправы они, христиане, закореневшие в ложных своих убеждениях, погрязшие в Новом Завете. За истину таковую и смерть принять невозбранно! Даже почетно, чёрт меня подери!
И шёл Фанаил торжественно-равнодушный, с презреньем смотря, как плачут его одноверцы, как тянутся к женам и детям, прося напоследок милости у христиан; как жадные руки язычников из варангов гребут номисмы и куны за право прижать напоследок ребёнка или жену.
Мельчают людишки, думалось Фанаилу. Когда казнь на холме творилась воочию, как эти же люди гордились собой. Как хвастались тем, что, когда монах, спотыкаясь, тащился-карабкался на бугорочек холма, они подножки ему подставляли и смеялись, смеялись, смеялись. Как были отважны, когда каменья бросали они в одинокого. Как намочали губку с солёной водой и подносили ко рту жаждущему жизни. Как, отпихивая один другого, торопились вонзать в руки и ноги висящего острые гвозди. Как старались суетно изображать древнеримскую стражу. Как поправляли терновый венец, стараясь, чтобы вонзались шипы в чело страдальца. И очень жалели, что не было рядов двух громадных крестов с разбойниками, висящими на них, как когда то Христос и Варрава, и третий.
А самые смелые пеняли ему, Фанаилу: чего мол, не до конца воспроизводим сценарий? Не достоверно, огрех! Вон, можно старого Егорку подвесить, он всего навсего раб, и наказание за казнь старого дурня никто не несть не будет. Можно найти и второго статиста, тогда только это действие будет Голгофой!
Тогда Фанаил отмахнулся от них: дуралеи, что с них возьмёшь? А сейчас пожалел: правы были люди, правы! И потому сожалел только об этом дивном моменте.
Если бы жизнь ему сохранил император (Фанаил ни разу не усомнился, что весь этот фурор был для него, виновника казни, и сам! сам император решит его волю и жизнь, раз сам! император прислал треклятые дромоны и чернорясых), он бы смог повторить эту казнь доподлинно точно. А христианские души найдутся! Можно ведь заказать половецким отрядам или продажным князьям пару-тройку монахов, и не ли всё равно, с Киева или из Минска будут подогнаны жертвы из христиан.
И потому шёл сейчас торжественно прямо, считая шаги, ведшие к славе, славе бессмертной.
Думал, это за ним пригнали дромоны, это ради него собралась стража людей базилевса, ради него прибыл севаст и монахи, ради него, только ради него. И повезут его одного через море – в Кон-стан-ти-но-поль!
Всё – ради него, а остальные статисты. Они должны были служить ему и послужили.
А, когда понял, что его казнят, здесь, в Херсонесе, завыл, завыл, как собака, как старый пёс шелудивый, как последняя дрянь!
И, когда молча Захарий вложил в его руки тридцать монет, исполняя указ базилевса, он всмотрелся в блеск серебра и понял: перехитрили его византийцы!
Не будет на плахе катиться его голова по земле византийской столицы, и не узнает народ, иудеев народ, про подвиг его, Фанаила. И зря сложит голову он, и зря настрадались Анна и дети, и другие людишки и дети квартала, и не узнает никто о нем, Фанаиле (от себя добавим, что история, действительно, не сохранила имя этого фаната-изувера, и имя ему в данной повести дано мной произвольно).
И начала изрыгаться хула из красивейших уст, лилась брань нескончанным потоком, корчилось тело в экстазе: открывалось его существо, его сущность, с поселившейся в нём сатанинскою силой.
А вокруг полукругом стояли монахи, крестились упорно, крестились, отнимая силу у бесов. И стояли только монахи, одни лишь монахи. Выцвели рясы, никаких украшений, чёрные клобуки на головах и никого, кроме монахов. И ничего, кроме молитв православных, славящих Иисуса Христа!
Ни жаждущей зрелищ толпы, ни диких варангов, ни стонущих иудеев. Вокруг никого, кроме кучки монахов, и смерть Фанаила была ровно такой, какой был достоин презренный еврей.
И осталась от Фанаила только жалкая горстка в тридцать, не больше или меньше, сребреников. И осина, на которой висело его некогда такое прекрасное тело с чёрно-чёрной душой!!! А тридцать сребреников вложено для того, чтоб смог Фанаил с дьяволом расплатиться.
И зажали намертво холёные руки тридцать Богом проклятых номисм, тридцать серебряных денежек, тридцать серебренников!
Казнь Эпарха
Другая, но менее позорная казнь не минула эпарха, верного друга и сподвижника Фанаила. Позорно закончилась жизнь, так, как паскудно жилось сластолюбцу.
Толпа, как любая толпа, ожидала хлеба и зрелищ, и зрелище им преподали, преподнесли, как на блюде.
Только теперь увидел отдалённый Херсон, как правят владыки в империи, цивилизованной до невозможности.
На открытом плацу, на леденящем ветру собрали душ триста евреев. Собрали мужчин, молодых и не очень. Длинные бороды, длинные пейсы. Сплошь в чёрных одеждах. Знали, что казнь, знали, что неминуема, но ожидание чуда живет в людском сердце от младости и до смерти.
Видели, как страдали их малые детки, иссеченные плётками жарых варангов. Как стонали под плетками жёны, умолявшими взорами смотревшие на мужей.
Ражие стражи под присмотром ромейских монахов отбирали согласных креститься, и каждый второй или вторая соглашались немедленно: умирать под плетью или жить в чужой вере, милосердной и благодатной – кто выбор дает? Кто жизнь отбирает? Бог лишь один, а вот решать переходить в христианство или умереть каждый выбирал сам для себя. И выбирали жизнь массово, почти истово, через каждые десять секунд озираясь на плётки.
А триста вовсе не жаждущих смерти ожидали её на леденящем ветру.
Страстно монахи читали молитвы, и, чистый, чеканный греческий, не привычный херсонскому уху, привыкшему к «койнэ», летел в небеса, отрываясь от уст монашеской братии.
Бесстрастно стояли готовые каты (палачи), привыкшие исполнять ежедневно приговоры царственного базилевса.
Резким контрастом была эта тишина по сравнению с предыдущею радостью иудейских мужчин, когда распинали они одного, совсем без оружия, без друзей и покровителей, одного, вооруженного только молитвой и – верой!
И как чужды были тогда им молитвы Евстратия, произносившего то на греческом койнэ, то по-славянски молитвы, межая молитву Господню и Символ веры своей. Казался им бредом полураспев одичавшего пленника, наипоследнейшего и наипрезреннейшего раба из презренных рабов.
Что мог дать монах? Ни денег, ни имени славы, ни покровительства сильных. Не просил монах ни пощады, ни времени отступного проститься с миром и светом. Несчастный уродец! Презренный и жалкий, такой одинокий!
Вовсе не живописны были лохмотья, колыхавшиеся на весеннем ветру, вовсе не живописны лицо и брада, острые ребра, колени и ступни. Опущенный взор, молитва из уст, ну, ничего живописного, только брезгливость порождал весь его вид.
И потому считали тогда евреи общины, что удался им Песах.
Эпарх в заводилах, Фанаил идейным вдохновителем, раввин, тот был чуть в стороне, но един с ними в этом своеобразном триумвирате, и потому экстаз толпы был всеобщим, и праздников праздник им удался.
И торопились люди собрания «веночек поправить», и гвоздики поострее найти. А почему ж не развлечься при полной безнаказанности: если что, раввин выручит или эпарх. Как никак, третье лицо в фемах Херсона, начальство немалое, прижмут, и откупится, а то мы не знаем его, корыстолюбца, изворотливого подлеца. Откупимся, нам не впервой.
А теперь Песах прошел, и нынешняя тишина являлась диким контрастом недавнего экстаза толпы.
А толпа была сейчас хоть и иная, но всё же толпа, жаждала зрелищ, жаждала крови. Монахи работали не на толпу, толпа везде одинакова, жрёт пищу и зрелища ждет, чёрная масса сброда людского. Проглотит любое: казнь иудеев, песни варангов, поруганье Демитры, спасение славненькой Мириам.
Умение давлеть над толпой было издавна присуще Захарии, и потому он толпу направлял на религиозный экстаз, не давая придти самосуду. Устрашение – да, преклонение перед силою базилевса – да, да, конечно! Но! Главное, сделать из этой бурля щей человеческой массы то, что достойно Христа – верующих и верящих в него, Божьего Сына и Человека! И толпа замолчала, ожидая от Захарии начала процесса.
В жаждущей зрелищ толпе у одного чешется глаз, другого тешит мёртвая зыбь близкого моря, третьей нужно следить за шаловливым дитятей. Толпа поневоле рассеивает внимание от стоящего на амвоне или агоре пастыря этих зачастую заблудших и заблуждавшихся душ.
Велико умение владеть людской массой, и редко кому удается привлечь надолго внимание людей. Без главной идеи, без веры слова пусты, не доходят до сердца, пусть эти слова прекрасны, умны и рассчитаны на внимающих.
«Именем Бога Живущего», – произнес священник с агоры, и толпа замерла. «Именем Бога живущего», – повторил он опять, и молитвы слова соединили толпу воедино.
Следом Захария зачитал приговор, повторив слово в слово указ базилевса: казнить всех, кто возжелал смерти монаха, да, мало того, повторил казнь Иисуса.
Ахнули люди, перестав быть толпой. Стали как человеки: каждый сопереживал своему одноверцу, сопереживая Христу.
И, уловив это мгновение, Захария махнул правой рукой.
Отсекались те руки, что подавали гвозди, отсекались те руки, что держали терновый венец, отсекались те руки, что ставили крест. Наполнялись ямы людскими конечностями, наполнялись ямы кровью людской. Вырывались те языки, что хулили Всевышнего Бога.
Эпарха не били, не стегали звучными плетками. Должность позволила смерть неминуемую принять достойно, пусть на миру.
Но визжал поросёнком именитый эпарх, извивался, стараясь вырваться из мощных лап рослых варангов. Корчился на плитах мощения, сбивая коленки об острые плиты, руки-крючья стирались ногтями, вгрызаясь в землю, застревали в руках тонкие былинки-травинки, прораставшие ранней весной в между плитках.
Эпарха казнили самым первым из первых! Оказали всё-таки милость не смотреть на казни других, наполняя ужасом душу при каждом взмахе меча.
Севаст Константин зачитал ему его «подвиги», напомнил ему напоследок и остальным, чтобы запомнили надолго чуть подзабытый (издан был Алексеем Комнином в 1095 году) указ базилевса и ранее изданные Василием Первым и Львом Шестым эдикты: «никто из иудеев и не-эллинов, или еретиков да не имеет рабов-христиан, а если имеет и обрежет его, то раб принадлежит полной свободе, а виновный да каре принадлежит головой» (гл. XL, параграф 27), и далее более конкретно: «Эллин, иудей, самаритянин и всякий, не являющийся православным, не может иметь рабов-христиан, а если такое случится, то раб освобождается. А владевший им отдаст 30 литр золота освобожденным» (гл. XL, параграф 28).
Спросил Константин возмужалым за час голосом бранным и трезвым (насмотрелся на плетки варангов, косивших детей) у эпарха-градоначальника: «Ты! помнил! указы?!» Тот закивал, уже мало что понимая, ибо страх мертвой хваткой точил душу и сердце.
Константин продолжал: «А раз понимал и помнил эдикты, то вывод один, что намеренно ты извратил указы порфирородного базилевса! Ты – крамола, ты – отступник от веры! И будь у тебя хоть две головы, каждая отсечена должна быть за измену своему Государю и за веры отступничество, понял, ничтожество?»
При этих словах Константина Захария одобрительно покивал головой: «Эвона, как мальчишка растёт!»
И Константин, воодушевленный поддержкой, вновь продолжал перечислять грехи могущественного из херсонеситов.
Громкий голос севаста народу всё объяснил: так вот оно что! Эпарх то, зараза такая, изменил императору! А напасти пали на них, на простых херсонесцев?
И после такого какое уж тут милосердие к эпарху, или даже простое сочувствие к борову на ногах.
И отвернулся народ, громадный серою массой, христианский народ, от выкреста из евреев, что посягнул на святое: на разрешение казни, подобной распятию Христа, и на поношение императоров-базилевсов!
И ещё поражало народ, как узнали монахи всё то, что происходило на еврейский Пасех на холме Херсонеса.
Каждому перечислялись его злодейские действия, каждому! Отсекались руки только у тех, кто был в этом виновен, вырывались злосчастные языки у всех тех, кто был славен хулой на Всевышнего и на его смертного раба, доблестного христианина по сути.
Но головы отсекались у всех, и казнь была поэтапной. Чёрные головы с чёрными бородами валились на отсеченные руки, последние всхлипы предсмертных страданий да короткое «эх», вылетавшее при каждом ударе из уст могучих катов, а потом тишина, тишина, тишина!!!
Безмолствуют массы, безмолвием скрыты уста у монахов. Не молились они за упокой душ презренных, что смели хулить Того, Кто дает жизнь и дарует выбор жизни людской. Каждый из человеков-людей имеет право от Бога выбирать свой путь, тот или этот. И каждый из этих имел право быть или влачить жалкое существование. И выбирать себе жизнь, не отнимая жизни иных, пусть других, но также имеющих право на жизнь.
Не берите на себя функции Бога, не надо! Не понял еврейский квартал этой истины, очень простой и не сложной, не понял, не осознал вины за грехи, и расплатился!
Самое малое, что мог сделать Господь, это пресечь их низкие жизни. Ну, а способ казнить, их, презренных, избрал базилевс.
И потому толпа, что стала людьми, поняла эту сущность, и поддержала царственного Алексея.
Мало-помалу поодиноко с разных углов громадной толпы начиналось стихийное пение. Фальцеты старух, мужские басы, детские альты начинали чуть нараспев проговаривать «Верую», и как-то кругами вовлекалась масса людей в общее пение общей молитвы. Центробежная сила громадной духовной силы людской соединялась там, где в центре агоры стоял их духовный пастырь Захария.
И слышно не стало ни криков предсмертных, ни «ахов» катов, хотя люди пели негромко (Господню молитву орать было грешно), но в такой унисон, что понимали отходившие от жизни бренной в вечный мрак ада, что нельзя победить казнью монаха веру людей.
Нельзя искажать веру Христову, претворяя на фарс жизнь Иисуса, пусть спустя тысячу лет, пусть с жертвой людской.
И потому летели головы в общую яму, завершался круг общей молитвы, и наступила вновь тишина.
Такое действо, ибо зрелищем обозвать мы смерть не рискуем, может иметь разное действие: превратить массу людей в кровожадную тварь, или влить в их слабые грешные души понимание момента, укрепить в вере единой, вере святой и – православной.
Базилевс и Захарий знали, как опытные царедворцы, до тонкости понимавшие страсти людские, эффекты зрелищных действий – и цели достигли!
Первая, малая часть миссии базилевсовой воли была исполнена в точности!
Оставалась вторая. Главная часть.
К обретению
Мощи святого доставали со дна. Море бурлило, море кипело, стремясь удержать драгоценную ношу – останки святого!
Громадная масса народа неторопливо двигалась к побережью…
Казалось, весь город собрался в едином порыве: двигалась масса людей из славянских, аварских, ромейских кварталов, шли хлебопеки и гончарные мастера, шли плиточники и стекольщики, знать и просто отребье.
На каждом из массы крестик нательный, драгоценный или простой. Шли женщины и мужчины, дети и старики. По пути масса наполнялась народом, и узенький ручеек человеческой массы, вытекавший из главного храма, к побережью пристал могучим потоком.
Иудеи отвечали Ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим.
Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый.
… Но они закричали: возьми, возьми, распни Его!
Там распяли Его…
Один из… копьем пронзил ему ребра, и тотчас Истекла кровь и вода.
(Евангелие от Иоанна, 19)Не нужна мне пасха ваша!
Шел пятнадцатый день, уже пятнадцатый день, последний. Умирали братья один за одним, помня завет старшего узника: «Братия, братия… Мы крестились во Христе, мы в Него веруем! Так не будем изменниками обету крещения; Христос искупил нас от клятвы законной кровью своей (Гал.; 3.13) и сделал наследниками своего царствия, временною смертию приобретём вечную жизнь. Вспомним Апостола Павла, изрекавшего в поученье потомкам: «Мне еже жить, Христос, а еже умерети, приобретение есть» (Флп., 1,21).
Если живем, будем жить только для Господа, если умрем, умрем в Господе (Рим, 14,8). Ещё раз повторю вам, братья любезные, временной смертью обрящем вечную жизнь»!
Отходили к Господу с последней молитвой, прощаясь с товарищами душевным объятьем. Всё меньше и меньше людей подползало прощаться, всё больше и больше трупов копилось в подвале. Одни умирали через три дня, другие через четыре, самые крепкие держались почти декаду.
Наконец умер самый последний, сорок девятый.
Каждого он подбодрял, каждого утешал, над каждым читал установленное. Почти не ходил, скорей, подползал к умиравшим собратьям, не важно, монахам или послушникам, братьями были, братья навек и в жизни и в смертном пределе.
Горе сплочает людей, но тут горя-то не было! Люди сознательно шли на мучение, не вкушая ни пищи куска, ни пития. Что есть временное бытие с пищей и питием без Источника вечной жизни – Иисуса Христа? Отвечаю – ничто!
Понимали уходящие к Господу эту истину и уходили сознательно.
А на пятнадцатый день, двадцать восьмого, месяца марта его пригвоздили к кресту.
Солнечный день, птички порхают, зелень травы и ближнее море, что начинается под обрывом и нескончанно идет к горизонту, теряясь вдали. Холодно или нет, узник не помнил, да и зачем? Понимал, что скоро – конец. Почему-то подумалось: «Странно, как я о море мечтал! У матушки в детстве про море всё спрашивал, а откуда ей знать, коренной киевлянке, о море, о солнце, что в марте печет, как в июне».
А солнце пекло! Пот каплями тёк с исхудавшего лоба, терновый венец жёг иголками темя, чело; красная кровь истекает помалу (сколько той кровушки и оставалось в теле монаха, постившегося жизнь!) из пробитых гвоздями ладоней и ног.
Один!
Без братии молчаливой и доброй, без церкви родимой, вон, слышно било зовут в городе ближнем народ, в храмы зовут. Без поучений наставников умных и святых, что так объясняли легко трудных мест понимание. Без еды и питья: ну, так это знакомо, как раз это не страшно.
И бесновавшиеся внизу, у подножья креста, люди тоже ему не страшны.
Вот, опять завели свою песню: «Безумный! Насытися с нами законной Пасхи, и будешь живым. Избегнешь клятвы, ибо и Моисей, принявший от Бога закон, говорил, что «проклят всяк, висящий на дереве!» (Второзаконие, 21:23).
Откуда только силы взялись, но он ответил орущим: «Благодати великой сподобил Господь, ибо благоволил мне пострадать за имя Свое на кресте, мне речет, как на кресте, на Голгофе Он рек разбойнику: «Днесь со Мною ты будешь в раю!» (Евангелие от Луки, 23:43);
«И говорил вам Давид: «пригвоздили вы руки и ноги мои», и еще: «разделили ризы мои между собой и об одежде моей жребий метали»; И ещё отвечал он орущим внизу:
«Не нужна мне пасха ваша, и клятвы я не боюсь, ибо «Пасха наша, за нас заклан Христос» (1 Коринф., 5:7), Который разорил клятву законной смерти древом крестным, как Моисей вам предсказывал! Говорил Моисей вам, заблудшим, такие слова: «Узрите живот ваш, висящий пред очами вашими» (или в ином прочтении: «И будет жизнь твоя висеть перед тобою»), (Второзаконие, 28:66).
Но орали снующие под крестом, суетились, возились, один перед другим изгалаяясь в стараниях нанести вред монаху. Ничтожество в жалких отребьях, ничтожество с впавшим пузом вовнутрь, ничтожество смеет учить, смеет противоречить!? И орали, орали, орали, смотря то на раввина, то на эпарха, а, в основном, ожидали сигналов от Фанаила.
Страдание мига кажется часом, даже не часом, а вечности мукой. Кажется, произнеси только три слова, всего-то три слова, и будешь свободен! Снятым с креста, полеченными ранами, получишь не просто глоток водицы, да пей хоть всю воду Херсона, получишь шматок, да не просто шматок, вдоволь еды, пусть даже постно-привычной.
Всего-то три слова, всего! И никто не узнает, никто не расскажет, как кончатся муки, и начнётся новая жизнь. И тут, в этой жизни, кайся, греши, снова кайся, как делают тысячи, нет, миллионы людей. И, наиглавнейшее, живи, живи, просто живи!
Только три слова, простейших три слова. Скажи только: я отрекаюся от Христа! – то есть: Я отречеся Христу. И кончатся муки, и никто не узнает.
Никто, кроме Вечного Судии!
И потому хрипло, едва дыша от страданий, он произнес: «Возрадуюсь и возвеселюсь в день сей, но ты, меня распявший, и жиды твои соумышленники, восплачетесь об этом деле!
Ибо придет на вас отмщение крови моей и прочих купленных вами душ христианских; ненавидит Господь ваши субботы, и праздники ваши преложит в одно сетование, и вот настал уже час убиения начальника вашего беззакония»…
И, совсем уже тихо, скорей для себя, чем для беснующейся массы внизу, прошептал: «Я сораспялся Христу, чтобы жить для Бога» (Гал.,2,19), и добавил к священным словам святого письма: «Я сораспинаюсь Христу, чтобы жить для Бога, и умереть за Него, умереть для Него»!
А эти свистели, кричали, венок поправляли. Изгалялись, ёрничали и скабрёзничали во своеволии временной власти…
И разозлился вконец Фанаил, подогретый толпой и донельзя разгневанный словами страдальца.
Может, силёнок прибавилось оттого, что вспомнил в тот миг о потерянных тысяче золотых, что зазря отдавал за полон? Тысяча полноценных номисм, целая тысяча, целая тысяча золотых ушла, не вернешь. Но он бы отдал еще одну тысячу, что для него одна тысяча золотых? Конечно, потеря, но потеря, в целом то, невелика. Наверстать эту тысячу можно легко, принадбавив процент за рост долгов.
Да он отдал бы еще одну тысячу, если глупец на кресте произнесет только три слова, всего-то три слова: «я отрекаюся от Христа» (я отречесе Христа).
Но слышно ему одному последние слова держащегося на кресте: «Я сораспялся Христу! Великой благодати сподобил меня днесь Господь! Он даровал мне милость пострадать за Его имя на кресте по образу Его Креста. Боже, как я надеюсь, что скажешь мне Ты, как некогда говорил разбойнику на кресте: «Ныне со Мною ты будешь в раю!» (Евангелие от Луки, 23,43).
«С Господом разговаривает эта тварь»? – и Фанаил рассвирепел: «С мессией своим говоришь ты, безумец? Тогда – на, получай!»
Таким его мало кто видел: сущность попёрла из нутра ростовщического, и стал он таким, каким был в самом деле. Схватил он копьё, наскоро сделанное им по подобию копья, каким Лонгин пронзал сердце Иисуса. Крепко схватил! Никому не отдал, не поручил вонзать в тело Евстратия тяжёлое древко с тяжёлым металлом. Одним ударом, только одним! пронзил сердце Евстратия.
И смолкла речь висевшего на кресте, и стало так затишно, так благолепно, так славно!
Ненужную массу, почти невесомую, сняли с креста, и Фанаил вместе с эпархом раскачали тело, как на качелях играя, смеялись, шутили, весьма и весьма веселились. И бросили тело в то море, что плещется под скалою.
Море мгновенно приняло жертву.
Какой добрый знак, подумалось каждому из творящих казнь иудеев, какой добрый знак! Вот, и концы дела – в воду! Крест скоренько разобрали, сожгли, пепел ветром разметало по побережью.
Приняло чёрное-чёрное море тело страдальца, омыло посмертно раны его, убаюкало тихою песнью ночного прибоя, оплакало миллиардом слезинок, солёных слезинок, что в нём веками хранились, и, наконец, пригодились.
Да не успели людишки с холма-то спуститься, как в миг, один миг погода испортилась: стал греметь гром, небо покрылось странным туманом, а из тумана, из облаков суть Голос гремел, произносил по-гречески так, что понял каждый из этих, каждый! Каждой клеточкой прочувствовал, осознал!
Голос гремел: «Вот доблестный гражданин небесного града!» («Се добрый града небеснаго гражанин нареченный!»), и греческий чеканный язык летел по небу, касаясь земли и людей.
И летела с небес колесница огня, кругами шла к Херсонесу, спускалась она, спустилась с небес, и поднимали душу Евстратия небесные кони, неся колесницу наверх и только наверх!
Протостратор!
Так греки рекли об Евстратии, что означалось буквально: «начальник царской конюшни», в ином смысле – начальник над стражами колесниц. То есть, «вознесшийся на небо на огненной колеснице».
При Алексее Комнине протостратор, титул, получал носитель одной из высших придворных должностей, и, как писал Никифор Вриенний, муж Анны Комнины, «чин протостратора всегда считался у царствующих высокой должностью и предоставлялся важнейшим лицам».
И стал поминаться в молитвах херсонеситов он Протостратором, поминовение ему совершали на службах, в молитвах.
Вечен Господь, и вечны герои, ему прислужившие!
Воин небесного града, не просто он воин, а командир над подобными воителями сферы небесной.
Только один из святых ранее удостоился подняться на небо на колеснице, то Илия Пророк! И ещё один, тоже из ветхозаветных.
А после рождения Бога и Человека Иисуса Христа уподобился чести только Евстратий!
И поется в Каноне преподобным отцам Киево-Печерским, Глас 2. Песнь 7:
Евстратий мучеником доброта, вторым Илия колесничник. Но ов аки на небо взятся. Сей же в самыя огненною колесницею вниде Небесныя двери, гласу призывающему его от вселпепныя Славы, идеже гласом радования поют: благословен Бог отец наших».
И гласит нам Тропарь:
Тропарь, глас 7:
«Постником и мучеником явился еси похвала, преподобие Евстратие, прежде бо воздержанием плоть умертвив, последовал еси Христ, нося крест свой. Последи же и сам крест вознесен был и крпием в ребра прободен, в руце Божии душу предал еси. Колесницею огненною возносим на Небеса, сугубо венчался еси от Христа Бога и Спаса душ наших».
И гласит нам Кондак:
Кондак, глас 8:
«Яко ревнитель стратсти Владычней и постников усердный последователь сей, пленники учением твоим наставль, Христови привел еси, Евстратие, и нас, пленных страстьми, мольбами своими свободи и подражатели честному твоему житию покажи, зовущих: радуйся, испивый сладостие чашу.
Которые имена в книге жизней (Ап. Павел, Флп., 4:3)
Главное дело было вторым по счёту, по значимости, только первым.
И подошла масса народа, уже не толпа, а скопление масс христианского люда, подошла к самой воде.
Пасха! Святая Пасха людей православных! Кончился пост, начинались сплошные пасхальные дни. Солнце тело теплило, богослужения отогревали души людские. (Пасха православная в 1097 г. праздновалась 5 апреля, иудейская 28 марта).
Лютка и мать, муж и отец, бабки домашние, все службу стояли, молились и плакали. Каждый денёчек в массе народа то тот, то другой шепотком и вполслова твердили, что море у берегов целебным является в одном только месте у Западной сопки. То ранки кому заживит, то кашель пройдет, то полуслепые зрячими стали. И тонкими струйками потекли народные ручейки на окраину города, к целебным водам. А еще в народе казали, что не просто море там лечит, а святости ради святого, что в море лежит, море целебным бывает. Слухи в народе пожаром, и скоро народ шел не ручейками, потоками тёк к склону холма!
Спохватился и клир: как это, без благословения?
И после ранней заутрени к морю пошли православные батюшки: славяне Владимир, Василий, другие отцы. И греки, прежде всех, конечно, Захария со своими монахами, неотлучною стражей стороживших его от нечаянной мести иудеев.
Иудеев из города выгнали, предоставив самим решать где им быть, где им жить, что с собой уносить.
Осталось в живых масса евреев. В казни участвовал лишь иудейский квартал, а остальные при чем? Их не казнили, однако оставить в городе не могли: император суров и указ было велено исполнить до точки!
Уходили из города не захотевшие принять христианство: вольному – воля, спасённому – рай. Иудеи в рай не верили, Моисеев закон исполняли неистово, а Иисуса Христа принимать не хотели. В массе их народ слабо то понимал, что есть Христос, что есть апостолы его, и что есть рай, и что там в раю. Но в массе народ четко знал: ад таки есть и ждет каждого и потому стремились жить в этой жизни по полному. И уходили из города, радуясь, что живы, иногда и здоровы, и что мошну никто не отнял.
Греки, действительно, позволили им удалиться за стены Херсона, забрать нажитое, и детей, стариков и невест, жён, дочерей и протча и протча и протча.
Уходили подалее в Киев и к ляхам. Деньги давали возможность столковаться хоть с печенежской ордой, хоть с половецкой ватагой. На Березани, в Олешье находили проводников, текли по Днепру, по Славутичу шустрые струги, везли скарб и людей. Выть не выли, боялись. Ой, как свежо было в памяти буйство смерти на пасхальные дни иудеев. Триста душ полегло мужиков, триста душ. А сколько жён и детей посекли, хорошо, что не до смерти. Отлежались битые плетками, торопили людей уходить из Херсона.
И ушли, не дожидаясь пасхи людей православных: а вдруг кто из них возгорится на праздник вновь им напомнить про недавний шабаш?
Вернулся стратиг из столицы, быстро и организованно проблему решил: изо всех ворот, чтоб не толпились, не давили друг друга несущие ноши тяжелые люди, из всех ворот выпускали евреев. Стражники молча смотрели, как мимо текут струйки народа, не вмешиваясь в эту непонятную им толчею. Наёмники из славян, пара варангов, местные парни из деревенек-климатов, экзотичные половцы, всем им до иудеев дела не было вовсе: уходят, пускай и уходят.
Стратиг также просто решил проблему квартала. От пожаров с дромонов, землетрясения мало что оставалось от иудейских домов, но пара-тройка домов оставалась целехонькими.
Желающих поселиться «на дурака», на готовое, всегда много найдется, пойдут ссоры, раздоры, и потому решение было принято единственно правильным: отдали дома богадельням.
Большой город быстро воспрял после моря горящего, землетрясения и огненных колесниц с небесного града: хлопоты жизнь отнимают, но не дают долго страдать. Чистился, строился город, чистились люди на Пасху духом своим.
И потому не забыли про чудесное море, и потому подошли нескончанным потоком к Западной сопке.
Море бурлило, море кипело! Не отдавало жертвы своей людям никак, и долго ныряли отважные люди. Некоторые даже пришли из Симболона, где множество рыбаков проживало. Вот такому-то рыбачку и повезло! С торжествующим криком метнулся на берег, издалече крича: «я нашёл, я нашёл!», ударяя на «я».
Извлекли тело из моря, отслужили молебен. Служил сам Захария и черноризцы его. Отцы Владимир да Василий помогали греку-монаху. Черноризец умел службу править по-честному. Благодать от молитв возносилась до неба, люди поплакали, да порадовались, что душа чистого вознесися на небо.
Там же Захария и предрешил исход дела: тело вернуть в стольный Киев, в монастырь, что в Печерах. В сопровождении, конечно!
Желающих отбирали на месте. Отозвались и Волк-Михаил, и Иаков, крепко державший за руку невесту, и сотня других, верящих в Бога. Охрану-сопровождение наняли половецкую во главе с юным ханом Атраком, честным и храбрым.
И пошел путь – домой!!!
Стратиг было собрался команду над шествием скорбным отдать катепану, да тот взбрыкнул от сердца: до самого донышка злобного сердца, до мельчайших крапинок чёрной души проникла обида. Он опять вечно второй, опять вечно второй, и, как ссылка, в далекую Русь везти скорбное тело.
Как только вернулся стратиг живым и здоровым из Константинополя (как порешал все вопросы Херсона, один знает Бог!), так немедленно принял работу: вода, грязные стоки, хлеб, рынок, охрана – забот столько, не перечесть. Не хватало суток, и рук не хватало. Заботы эпарха поневоле взял на себя, пока изберёт эпарха народ, сколько воды утечет, а работать то надо сегодня, сей час и сей миг.
Знал базилевс, что ради спасения жизни, ради спасения собственной шкуры стратиг будет делать за ничтожную плату всё, что скажет ему царственнородный владыка византийских владений.
И старался стратиг совершать ежедневно многотрудные подвиги, ставя Херсон на должный, бывший некогда уровень. Вредил катепан, не хватало умелого в целом организатора эпарха, казнённого принародно.
Но учился стратиг делать дела, как делал дела базилевс: себя не щадить, народ не щадить, и работать, работать, работать. Приползал домой чаще к утру, валясь на роскошь кровати, не успевая даже успеть насладиться кедровым ароматом кровати и лаской жены.
А Демитра после того, как вернулся стратиг, вела себя гордо и непреклонно: поступок спасения бедненькой, славненькой Мириам так поднял её в глазах горожан, что стратигу пришлось преклониться пред ней, будто ровно как перед иконой.
Торжествовала гордая патрицианка, улыбалась униженному перед ней супругу: уж она понимала, каково досталось ему остаться живым, побывав в руках-лапах царственного льва Алексея Комнина.
Гордячка даже просила проезжавшего мимо Херсона иконописца сделать картину, воспроизвести, как она подарила оклад, жертву делая храмам тысячелетней империи. Но у стратига хватило разума, сил сотворить скандал в собственном доме: побил пару горшков, разбил драгоценные вазы. Почти бабий поступок возымел свое действие: патрицианка успокоилась тем, что усердно взяла на себя дополнительно хлопоты по отправке скорбной процессии в Киев. Прошлась по рядам рынка-базара, обложила данью купцов, и поезд отправлен был в срок, надлежаще экипированным.
В заслугу себе поставила этот поступок, а муж даже рад, хоть одной тяжёлой заботой стало меньше, а плюсик в работе поставят ему, стратигу Херсона.
Хлопоты по отправке шли не один день и не два: не хватало повозок, людишек, одёжи, харчей. Не раз и не два ходила Демитра к купцам, не раз и не два грозил им стратиг суровыми карами. Но главное, тормозил исход сам Захария, ибо дело Божье не след второпях сотворить. Окрещение не-христиан, подготовка мощей времени требовало не суетно, и не сиюминутно.
Но наконец и эти хлопоты кончились.
И начался путь – домой!!!
Тело святого лежало в повозке, баюкано неторопливою конской ходьбой, как будто мать колыскала его, колыхала младенца в теплёнькой люльке-коляске.
Шли люди: непосред за повозкой молились монахи, евреи позаду шли, влекомые вечной еврейской проблемой: где жить безземельному люду, где родину им отыскать?
Неторопливая жизнь, пропитанье съестного, запахи трав и реки, всё так обычно, даже красиво: буйная степь весну праздновала с буйным размахом. Маки цвели, ковыль зеленился…
И только один, лежавший на первой повозке, был безразличен к буйствам степи: тело святого лежало нетленным, рука обцелована просящими у воина вечности благ и радения для живых. Чудеса были явными, не опорочными: список чудес монахи исправно вели ежедневно. В Киеве, по приезду, список отдали они в монастырь. Где он теперь? Сгинул, погиб в пожаре столетий или ждёт часа?
Шли долго иль скоро, то нам неведомо, но в Киев пришли целы и невредимы. Ни дожди, ни грозы, ни половецкие иль печенежские наскоки не нанесли урона отряду; и пищи хватало, и воды доставали вдоволь любому. Небесное воинство берегло брата и люд, шедший за ним, от горя и лиха, покоило тело того, кто возвращался домой.
Монастырь принял вернувшегося крестным ходом, с молебном и водосвятием: братия, поредевшая братия от набегов степных удальцов, принимала вернувшегося путника в его вечный дом.
Плакал у гроба летописец, Нестор по имени, плакал игумен, плакала братия, плакали иноки и послушники, плакали даже рабы.
Било стучали, паства рыдала.
И не был положен в гроб преподномученик Божиий, не похоронен обычным порядком: оказана почесть великая, посмертная слава ему с честью оказана. Он возлежит в самых Ближних Пещерах Киевской Лавры, помогая насельникам, помогая всем тем, кто с чистым сердцем, омытой душою приходит к нему за подмогой, за помощью…
И только князь Святополк возвращение святого не встретил, замял такое событие. Виноват князюшка был перед Богом, людьми и святыми, ну, да судьей ему Бог, а не люди. Крепко дружил князь с евреями, крепко, а потому праздновать возвращение святого не позволили «уные друзи» и иудеев община.
Но киевляне прознали про возвращение, сами к пещерам тропки пробили, ходили к мощам, прикладались, и получали отдохновенье души, исцеление тела. Особенно благоволил Евстратий, преподобномученик, к воинам ратным, что шли за правое дело Русь защищать. Благосклонен и ныне. Идти нужно чистым душой и с покаянием. Причаститься даров, получив прежде исповедь, и на поклон к Святому в Пещеры идти.
Ныне Евстратий покоится в Ближних Пещерах, под номером двадцать третьим, в Свято-Успенской Киевской Лавре. В соседях у преподобномученика величайшие из великих Святых: Илья Муромец (под № 67 лежит почти напротив Евстратия) да Летописец Нестор (под № 22).
«Святой Евстратий, инок Печерский, подобием рус, брада невелика, аки Козмина, на главе клобук старческий, в единой ряске, ноги босы»
(Икон., под свод. ред. 18-го века. Москва, 1867, стр. 304).
Ныне почти позабытый в народе, он чтится православною церковью в день десятый апреля по новому стилю, занесен в Святцы, и есть храм, посвященный ему, с иконой Святого и частичкой мощей.
Находится он в селе Терновка, в окрестностях Херсонеса, Севастополя ныне, под охраной монахов – там скит.
Престол у Святого 28 марта по старому стилю, по новому стилю 10 апреля, во второе воскресенье Великого поста почитается в Собор Киево-Печерских Отцов.
«Печерские святые… просияли, как чистые звезды, умноженные на тверди небесной» (Патерик Печерский, стр.7).
Богу все едино, русич ты или еврей, фокусник или банкир (что, впрочем, одно и то же), раб или господин. Определяющее в твоей судьбе, это выбор, с добром ты, то есть с Господом или с вершителем зла, а мотаться меж ними как неприкаянный не выйдет! Не получается.
На этом закончу я свое повествование.
Сноски
1
Дромон («бегун», «гонщик») – боевой корабль Византийской империи. Длина – до 50 м, ширина-7м, большая скорость. Суда снабжены мощными таранами, вооружены катапультами, кидавшими зажигательными снарядами весом в полтонны на расстояние до 1 км! На дромонах находились огнеметы-сифонофоры, заливавшие корабли противника знаменитым «греческим огнем», состоящим из гудрона, серы, селитры, растворенных в нефти и вспыхивавших при соприкосновении с водой. Корабли имели металлическую обшивку, защищавшую от таранов противника.
(обратно)2
Камка – водоросль, что растет у морских берегов. Используется в хозяйственных нуждах для набивки матрацев, как утеплитель на крыши и т. д.
(обратно)
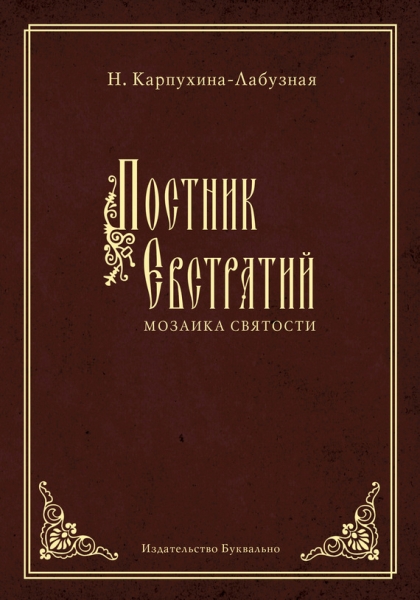

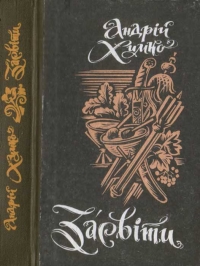

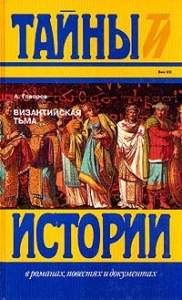


Комментарии к книге «Постник Евстратий: Мозаика святости», Нелли Карпухина-Лабузная
Всего 0 комментариев