Юрий Плашевский ЧАЙ
I
Однажды вечером, поздней осенью 1881 года, на небольшой почтовой станции по тракту, что тянется вдоль правого берега Иртыша от Омска к югу на Павлодар и далее на Семипалатинск, в чистой горнице для проезжающих сидел высокий худощавый киргиз.
Киргиз был в черном бархатном чапане без украшений и вышивки, довольно длинном, ниже колен. Из-под халата выглядывал темно-малиновый камзол, а на черных подстриженных волосах красовалась небольшая, плотная, часто простроченная тюбетейка синего бархата.
Киргиз спросил у тучного татарина, державшего на станции буфет, самовар. Тот коротко распорядился, и русская девка в розовом ситцевом платье, в накинутом на плечи заячьем тулупчике внесла через сени с широкого крыльца кипящий самовар и поставила на стол у окошка.
Затем девка вышла, а киргиз поднял с пола объемистый баул желтой кожи с большой прочной ручкой, с затейливым желтым блестящим замочком. Предмет был щегольского, необычного вида, чем объяснялись любопытные взгляды, которые изредка бросал на него из-за стойки с напитками и разной снедью черный татарин.
Открыв баул, киргиз достал из него пузатую стеклянную чайницу прохладного сиренево-зеленого цвета, отвинтил серебристую крышку, заботливо отсыпал в горсть большую порцию чаю и заварил его в фарфоровом чайнике. Затем чайник был водружен на самоварную конфорку, и киргиз, отвернув бритое смуглое лицо к окошку, где была уже осенняя тьма, принялся ждать, покуда настоится чай.
Движения все его были плавны и отличались неторопливостью. Он явно внушал к себе уважение, что было заметно по осторожным взглядам татарина-буфетчика, который, понимая свое место перед таким постояльцем, на глаза не лез, а лишь ожидал распоряжений.
Последних, впрочем, было не так уж много. Кроме самовара киргиз спросил еще сливочного масла и баурсаков, предварительно получив заверение в том, что они безусловно свежи. Сахар у него был свой, в металлической, красными цветами расписанной коробочке, и тоже, кажется, отменный.
Видно было, что обстоятельные приготовления к чаепитию, равно как и предвкушение его, доставляли киргизу истинное удовольствие.
Время и место, надо сказать, весьма располагали насладиться тем превосходным напитком, который настаивался на конфорке самовара. В горнице было тепло и тихо. Под потолком горела большая керосиновая лампа. Кроме хозяина-татарина и небольшой компании озябших возниц в дальнем углу, никого более в помещении не было. За окном же разгуливалась осенняя непогода, слышно было, как шумел порывистый ветер. Вечерний сумрак сгущался все более и наконец перешел в ночную темень.
Киргиз взял фарфоровый чайник и медленно стал цедить из носика его темную пахучую жидкость в большую позолоченную фарфоровую чашку.
В это время за окном послышались стук подъезжающей повозки, топот, шлепанье лошадиных копыт. Через минуту дверь распахнулась, и в комнату вошел новый проезжающий.
II
Появление его было, казалось бы, событием весьма заурядным: проезжающие по тракту сновали здесь и в одну и в другую сторону довольно часто. Однако достаточно ему было войти, как впечатление тихого, несколько сонного уюта сразу исчезло. Вместе со струей холодного воздуха, сопровождавшей незнакомца, в комнату проникло ощущение тревоги.
Он вошел и сделал общий поклон. Буфетчик-татарин поспешил ему навстречу и тут же провел в особую комнату, где, как говорилось в правилах для почтовых станций, господа приезжающие имели возможность оставить вещи, раздеться и совершить необходимый туалет.
Во время его непродолжительного отсутствия киргиз приказал возвратившемуся буфетчику подать в дополнение к своей чашке еще один чайный прибор. Когда же новый проезжающий, уже без пальто и шляпы, умывшись, вновь появился в горнице, киргиз поднялся от самовара и приветливо пригласил его разделить с ним вечерний чай. Тот поклонился и сел к столу.
Теперь все находившиеся в горнице могли наконец рассмотреть его, причем, надо сказать, возбудил он у присутствующих любопытство к себе далеко неодинаковое, да и впечатление произвел разное. Ямщики в углу вообще взглянули на него бегло, сразу определив его для себя как барина, то есть интеллигента, и, следовательно, тут же перестав им интересоваться. Буфетчик-татарин подошел к этому вопросу более профессионально. Он отметил хорошего покроя и хорошего сукна черный костюм, который, правда, был сильно поношен.
Киргиз же у своего самовара, заметив все то, что бросалось в глаза многоопытному буфетчику, увидел, однако, и другое, сочтенное им за предмет куда более важный, чем все остальное. Он увидел длинные русые волосы, закинутые назад, и серые, ушедшие в себя, глаза, над которыми возвышался большой бледный лоб. Впрочем, не только лицо, но и руки молодого человека тоже были бледны. Чувствовалось, что это не от нездоровья, а скорее от усталости — как телесной, так и душевной, от непрерывного и длительного напряжения.
— Разрешите налить вам, — обратился он к молодому человеку, прерывая свои наблюдения.
— Не откажусь, — просто ответил тот низким приятным голосом. — Чай, кажется, хорош.
— Мы в степи любим чай, понимаем в нем толк.
— Благодарствую.
Молодой человек принял чашку с горячим ароматным чаем. Лицо его дрогнуло, смягчилось, что-то радостное отдаленно мелькнуло в нем.
Оба принялись за чаепитие и с большим вкусом занимались им довольно долго, употребляя вместе с чаем сахар, сливочное масло, баурсаки и свежий черный ржаной хлеб, поданный буфетчиком и показавшийся молодому человеку необыкновенно вкусным.
— Вы говорите весьма чисто по-русски, — заметил наконец молодой человек.
— Да, я степняк, — ответил киргиз. — Что же касается чистоты моего русского выговора, то на это есть две причины.
— Какие же?
— Первая — это вообще способности к языкам у людей Востока, как то отмечалось многими наблюдателями.
— А вторая?
— Вторая та, что я по занятию, как выражаются тоже на Востоке, — мугалим, то есть учитель. Быть может, мы с вами в прошлом коллеги? Вы не из студенческого ли сословия?
— Недавно еще принадлежал к нему, — отвечал молодой человек с легким вздохом. — Но по некоторым обстоятельствам вынужден был из университета уйти…
— Из Петербургского?
— Да, из Петербургского. Вообще же мной избрано поприще медицины. Вы сказали, что вы степняк. А какого…
— Народа? — с готовностью подхватил собеседник. — Охотно поясню. Я то, что ныне на языке русском обозначается именем киргиз. Хотя это не совсем точно. Собственно киргизы живут значительно южнее, за хребтами гор. Мы же, при уточнении, зовемся киргиз-кайсаками или просто казахами.
— Киргиз-кайсаками? — задумчиво повторил молодой человек. — Где-то я слышал такое сочетание.
— А, без сомнения, у Гаврилы Романовича Державина, — улыбнулся киргиз. — В оде «Фелица».
— Да, да, верно…
— А как же. Мы, казахи, и к нему в стихи попали. Беспокойный, я вам доложу, народ! — глаза его смеялись. — Богоподобная царевна. Киргиз-кайсацкия орды… — громко продекламировал он.
Глаза молодого человека широко раскрылись. Почувствовалось, что в нем вспыхнул живой интерес к человеку, радушно угощавшему его чаем.
— Киргиз-кайсацкия орды, — с расстановкой, задумчиво повторил он звучные слова.
— О да, орды… Взять хотя бы само название наше — кайсаки или казахи. Казах ведь по-нашему значит странствователь, непоседа, искатель приключений. В то же время — бродячий рыцарь, если хотите, — изгой, отщепенец и при всем том — защитник обиженных. Так широк круг охватываемых этим словом понятий и, согласитесь, что близок он кругу ощущения смысла собственного бытия прошлых казаков запорожских и других.
— Интересно вы говорите, — заметил молодой человек, — но после всего, что вы сказали, я припоминаю что в старых русских летописях встречается еще одно обозначение для вольной непокорной братии наших южных степей: бродники.
— Да, да, — живо закивал головой киргиз. — Бродник — это, наверное, то же, что казак.
Он медленно помешивал ложечкой чай. В эту минуту он напомнил молодому человеку большую степную птицу где-нибудь на кургане, на широком просторе, что, нахохлившись, замерев, вот так же смотрит вдаль, не видя ничего вблизи.
— Узнать, — задумчиво продолжал он, — узнать помогли мне годы пребывания в университете. Тогда-то я и понял, что жизнеописание моего народа рассеяно по хроникам и летописям арабским, персидским, русским, византийским. Рассеивались порой и умы, и личности, рожденные в народе, творили, размышляли, прославлялись в местах иных, вдали от вскормившей их степи. Так было не раз. А у нас остались лишь песни и легенды, которые, конечно, тоже хранят прошлое, но, как вы сами понимаете, далеко не все и не полностью. Но и рассеянное соберется когда-нибудь, время этому придет.
— Так выходит, — сказал молодой человек, — что мы — я имею в виду народы наши — уже встречались когда-то в прошлом?
— Так и выходит, — улыбнулся киргиз. — И в очень отдаленном, и в более близком. Но это предмет неисчерпаемый. Как человек недавно, очевидно, прибывший из Петербурга, вы бы лучше поделились с бедным провинциалом столичными новостями. Как там после злодейского убийства государя императора Александра второго? Что говорят? Немногим ведь более полугода всего прошло. Совсем недавно.
Произнося это, киргиз заметил, что молодой человек едва заметно вздрогнул. Вообще это было странно, что бы за этим ни скрывалось. Впрочем, быть может, очень уж разителен и быстр был переход разговора от отдаленных тем этнографии и истории к злобе современного дня — цареубийству, совсем недавно потрясшему всю Россию.
III
Буфетчик за стойкой клевал носом. Ямщики в углу, повесив головы, тянули вполголоса какую-то бесконечную песню. За окнами все шумела непогода.
После вопроса, заданного киргизом, за столом наступило длительное молчание. Он и молодой его собеседник долго смотрели друг на друга.
— После убийства государя императора? — как-то через силу усмехнулся молодой человек. — Говорят и чувствуют то же, что и везде. Общество возбуждено. Огорчено.
Он не стал пояснять, как именно возбуждено и чем огорчено общество. Но киргизу, кажется, это и не нужно было пояснять.
— А скажите, — начал он, — что…
— Простите, — перебил его молодой человек, — простите, пожалуйста. В смысле обрисовки настроений общества характерна, быть может, любопытная история, касающаяся одного петербургского литератора. Я слышал ее сам, вскоре после дела первого марта, от одного лица, к упомянутому литератору довольно близкого.
— Очень интересно.
— Этого человека, то есть писателя, ныне уже нет на свете, и потому я, не боясь причинить ему вреда, могу говорить о случившемся свободно.
— Я слушаю вас.
— Дело было в январе этого года. К упомянутому писателю, широко известному своими романами, приходит однажды поутру на квартиру с визитом хороший знакомый. Видит: писатель, позавтракав, в домашнем платье, сидит у стола и набивает папиросы. Вид после сна и завтрака — отдохнувший, покойный и задумчивый. Здороваются. Пришедший знакомый садится тут же. Сначала пустячные слова, общие фразы. Но вскоре писатель, продолжая машинально заниматься набивкой папирос, начинает весьма странный разговор: «Представьте тебе, — говорит он своему визитеру, — что вы в петербургской толчее стоите где-нибудь, ну, скажем, на Невском или на Садовой, у магазинной витрины и весьма заинтересованы ею. Вам ни до кого нет дела. Иногда вас довольно бесцеремонно задевают локтями или даже просто толкают. В общем, обстановка известная. Но тут до вашего слуха начинают вдруг доноситься слова двух людей, со скучающим видом остановившихся, как и вы, у витрины, только чуть поодаль. Доносящиеся до вас в уличном гаме слова этих двух — отрывочны, кратки, на первый взгляд, — бессмысленны. Но, послушав их этак минут пять, вы начинаете мало-помалу догадываться, что речь у них идет ни много ни мало как о подготовке покушения на царя. Это двое заговорщиков, которые сошлись у витрины, уверенные, что их никто тут не заметит и не услышит, а если и услышит, так ни черта не поймет. Что бы вы сделали, окажись вы на месте господина, рассматривающего витрину?» Пришедший в гости знакомый молчал, оторопев. Писатель же после упомянутого рассказа пришел слегка в возбуждение, впалые щеки его слегка порозовели. «Хочу узнать, — спрашивает наконец он знакомого в упор, — донесли бы вы властям о страшном этом разговоре, приняли бы меры, чтобы задержать тех двоих, или нет?» Знакомый слушает, бледнеет, секунду или две размышляет и наконец отвечает: «Нет». Литератор наш приходит при этом ответе в мрачный восторг. Какое-то удовлетворение выражается на его лице. Пальцы его механически ни на секунду не прекращают заученных движений, из машинки на стол вылетают готовые папиросы. Темные, горящие его глаза смотрят на растерявшегося знакомого, губы кривятся, и он повторяет: «Нет! Вы правы: хотя долг этого требует».
Молодой человек замолчал. У него словно перехватило дыхание. Киргиз слушал нахмурившись, глаза его раскаленными угольями впивались в молодого человека.
— А кто этот петербургский литератор, позвольте узнать, был, который бедному знакомому такое преподнес?
— Федор Михайлович Достоевский.
Киргиз кивнул.
— Я так и думал, что это он. Только он и мог такие истории придумывать.
— Придумывать? — воскликнул бывший студент так, что татарин за стойкой вздрогнул и даже попытался приподнять голову. — Придумывать? А я так полагаю, что тот господин у витрины существовал во плоти и не кто иной, как сам Федор Михайлович и был!
Киргиз посмотрел на него странно.
— Вы, кажется, очень догадливы, — сказал он. — Я, однако, тоже могу рассказать вам одну историю, которая ваши слова, может быть, подтвердит.
IV
Той же русской девкой был подан новый, только что закипевший самовар. Чай пошел заново. Вместе с тем киргиз начал свой рассказ.
— Я дальний родственник знатного человека нашей степи — Валиханова, — рассказывал киргиз. — Это имя ничего, наверно, сейчас не говорит вам, но со временем, думаю, оно станет известным… Он был султаном, воспитывался в Омске и стал русским офицером. Немало путешествовал, писал. Отмечен был многими талантами, но умер, к сожалению, молодым, лет двадцать тому назад. Скажу вам вещь, которая также, наверно, окажется для вас новостью: он принадлежал к числу самых близких, самых коротких друзей того человека, имя которого вы сейчас упомянули…
— Достоевского? — воскликнул молодой человек.
— Да, — улыбнулся киргиз, — Достоевского. Причем, другом таким, которому поверяют самое сокровенное, самое важное, о чем предпочитают молчать в общении с другими. То, что я говорю вам, — не вымысел. Это подтверждено письмами самого Федора Михайловича Валиханову, в которых он говорит, что питал к нему чувства более сильные, чем к брату. Они познакомились и близко сошлись, когда Достоевский был в ссылке.
Молодой человек затаив дыхание слушал своего собеседника. В глуши, можно сказать, на краю света, случайный дорожный разговор на глухой почтовой станции становился все более значительным и захватывал необычайно.
— Я был близок к Валиханову, и он, по-моему, любил меня, — продолжал киргиз. — Незадолго до его смерти я приехал домой из Омска, где учился в гимназии, и оказался с ним вместе на горном пастбище, которое называется у нас джайляу. Валиханов хорошо рисовал, и этот свой отдых в горах соединял с тем, что делал этюды ущелий и горных вершин. Однажды мы поехали на лошадях от стойбища вверх по горному ручью. Валиханов был задумчив. Может быть, он вспомнил свою жизнь и думал о ней, потому что, кажется, понимал, что жить ему оставалось недолго. Потом мы остановились, спешились, сели на камни, и Валиханов раскрыл на коленях большую картонную папку с листами бумаги, достал карандаш, хотел рисовать. Однако задумался и долго смотрел на прыгающий у ног наших горный поток. Говорил он в тот раз немного, и я хорошо запомнил его слова. Когда глаза его насытились видом буйства и воли горной снеговой воды, он поднял взгляд на меня и сказал: «Запомни, мальчик, самую великую боль причиняет человеку пропасть между желаниями его и возможностью их осуществления». Он смотрел на меня, лицо его было бледно, и капли водяной серебряной пыли блестели в черных волосах. Русский офицерский мундир, который он очень любил, был у ворота расстегнут, оттуда выглядывала белоснежная рубашка. Он был молод и красив, и я не мог отвести от него глаз. «То, что я тебе сказал, — продолжал Валиханов, — сказал мне однажды в Семипалатинске один русский писатель, ссыльный Федор Достоевский. Мы были с ним очень дружны. Он тоже думал о стремлениях человека и препятствиях, встающих перед ним. Это мучило его. И еще он сказал: «Любезный Чокан, дорога моя далека и трудна, и тернии вижу на ней, которые надлежит мне принять. И отречься надлежит от многого, но знай, Чокан, что придет время и вновь в душе возродится все». Так говорил мне Валиханов, и я это запомнил. Вокруг были горы. В пене метался и прыгал поток. Облака плыли по небу. А с колен Чокана, из раскрытой его папки, под дуновением ветерка скользили вниз белые листы бумаги и падали в ручей. Поток подхватывал их и уносил, а Валиханов был недвижим и не пытался их удержать.
V
Киргиз умолк, сделал большой глоток чаю, отвернулся к окну. Он, видно, был взволнован рассказом своим. Молчал и молодой слушатель его, стараясь вообразить то, что пришлось ему услышать.
На дворе опять послышались стук лошадиных копыт, дребезжание подъехавшего экипажа. Вслед за тем дверь растворилась, вошла молодая женщина.
Бывший студент тут же вскочил, бросился к ней.
Они поздоровались. Женщина кивнула киргизу.
Его поразила порывистость ее движений. Иногда она замирала, но как бы в изнеможении. Когда молодой человек подошел к ней, она оперлась на его руку, и это было похоже на мгновенную передышку в долгом и утомительном пути. Они обменялись коротким, пристальным взглядом, и киргиз понял, что вести она привезла дурные.
Он встал, раскланялся, стараясь улыбкой, дружеским обхождением ободрить ее.
— Выпейте с нами чаю, — сказал он. — Вы, наверно, озябли?
— Да, очень, — как-то встряхнувшись, сказала она. — Ужасно холодно и сыро сейчас на дворе.
Она ушла и некоторое время отсутствовала. Когда же вернулась опять, все в комнате обратили на нее внимание, ибо приезжая была хороша.
Перестали тянуть песню возницы. Перестал татарин-буфетчик клевать носом, приподнялся. Видно было, что высокая, стройная, с черными глазами и черными, гладко зачесанными волосами спутница молодого человека им понравилась.
Она присоединилась к участникам чаепития у окошка.
— Вы беседовали тут, кажется, — громко сказала она, сделав глоток из чашки.
— Да, — ответил молодой человек, — беседовали. Так, что увлеклись.
— Очень хорошо, — лицо ее приобрело жесткое выражение, на глаза лег сухой блеск. — Нам надо ехать тотчас же.
— А что? — коротко и как бы небрежно спросил молодой человек.
— Голубой сзади, — в тон ему быстро ответила она. Они обменялись этими фразами вполголоса и словно невзначай. Киргиз при этом деликатно отвернулся к окну, словно рассматривая там что-то и тем самым давая молодым людям возможность поговорить приватно.
Однако их слова он хорошо слышал.
— Я отъезжала уж, — помолчав, добавила женщина, — когда подъехала еще повозка, а в ней он.
Последнего было для киргиза вполне достаточно, чтобы составить для себя отчетливую картину происходящего и понять, что за люди были его собеседники. Только как их, вместо запада, куда обычно бежали все преследуемые царем, занесло на восток? Теперь их, видно, кто-то настигал. Тракт ведь один — скачи, покуда не упадешь. И в сторону некуда податься. Как волки затравленные. А с высоты на них молнией вот-вот ударит беркут. Тогда конец.
Размышления привели киргиза, кажется, к какому-то соображению. Приспустив слегка веки, он оглядел горницу и остался обозрением доволен: интерес к приезжей уже прошел. Буфетчик опять по-прежнему продолжал безмятежно клевать носом.
— Если едете, — обратился киргиз деловито и без улыбки к своим партнерам, — то не смею вас более удерживать. Хочу пожелать всего доброго.
Он встал, хмурясь и озабоченно покашливая. И молодой человек и женщина, казалось, были несколько обескуражены внезапной сухостью его обхождения. Киргиз же на них, впрочем, не обращал уже более никакого внимания. Он надел меховую шапку, плотнее запахнул свой халат и, как-то по-особому, беззвучно, ступая, вышел из горницы, незаметно прихватив и желтый баул с пола.
Уж очень сиротливо стало после его ухода. Только тут молодые люди почувствовали, как согревали их ласковое гостеприимство киргиза и его великолепный чай.
VI
На крыльце, где, выйдя, остановился киргиз, ждать ему пришлось недолго. Как он и полагал, молодой человек и спутница скоро появились одетые, готовые для дороги.
И он и она вздрогнули и остановились, когда в полосе света, упавшего на миг из растворенной двери, увидели у перилец его высокую, темную и неподвижную фигуру.
Он приблизился к ним вплотную, сказал тихо:
— Сойдемте, пожалуйста, прошу вас.
Они послушно последовали за ним по ступенькам и далее по двору, остановившись в стороне от повозок и снующих ямщиков.
— Вы хотите нам что-то сказать? — хрипло спросил молодой человек.
В голосе его была тревога.
— Времени у нас мало, — сказал киргиз, — поэтому я прошу выслушать меня не перебивая.
Вдали, на воротах, на железном крюке раскачивался под порывами ветра большой фонарь со свечой внутри. Киргиз стоял спиной к нему.
— Вас все равно нагонят, — сказал он.
Молодой человек хотел что-то сказать, но киргиз предварил его желание, возвысив слегка голос:
— Мне нет дела до причин, которые руководят вами, но единственная возможность для вас ускользнуть — это исчезнуть сразу же с тракта.
— Но как? — в голосе женщины был испуг.
— Можно помочь. Только действовать надо быстро. Не медля ни минуты.
— Мы готовы.
Киргиз тут же исчез в темноте, наказав им ждать на месте. Через несколько минут он вернулся, ведя с собой высокого широкоплечего человека.
— Это родич мой. Я все объяснил ему. Он перевезет вас за Иртыш. Поедете на юг, а там сможете выбрать себе путь дальше.
— Мы должны вам что-нибудь за это? — спросил молодой человек.
— Нет. Вы ничего не должны. Я буду помнить о вас, а вы думайте иногда обо мне. Не теряйте присутствия духа. Ибо знайте, как говорят у нас, если всадник утрачивает мужество, его конь не может скакать.
За этими словами киргиз бросил что-то коротко на своем языке молчаливо стоящему родичу, и тот двинулся в сторону.
— Идите за ним, — сказал киргиз.
— Прощайте, — сказал молодой человек.
— Прощайте, — повторила женщина.
— Прощайте, — ответил киргиз. — Родич мой не говорит по-русски, но за Иртышом он привезет вас туда, где вас будут понимать.
Он подождал, пока стихли в темноте шаги, и пошел обратно. Он поднялся на крыльцо, где его, как оказалось, ждали.
Это был тоже степной житель, но с ним киргиз говорил по-русски:
— Принес бутылку? Давай сюда. А ты поедешь вот с этим вперед, — сказал он, передавая ему желтый баул. — Утром отсюда выедет жандармский офицер, так постарайся навстречу ему попасться. И чтобы сумка была на виду. Он спросит, откуда она у тебя, и ты ответишь, что на дороге ее увидел, оброненную, подобрал. А так как ты родственник мне и знаешь, что моя сумка, то хочешь мне ее доставить. Ты все понял?
— Да.
— Ну так поезжай.
Они распростились, и этот человек тоже исчез в темноте, а киргиз возвратился в теплую горницу.
Войдя, он увидел, что из всех возниц остался только один. Он спал, положив голову на стол. Буфетчик озабоченно перетирал чашки.
— Пока я выходил, — обратился к нему киргиз, — эти двое уехали?
— Вы правы, — ответил буфетчик, — они уехали.
Киргиз прошелся по комнате, снял шапку, уселся за свой стол и велел подать новый самовар. При этом он поставил возле чашки принесенную с собой бутылку французского коньяка.
И снова в этот вечер послышались на дворе скрип колес, топот. Подъехала еще одна повозка. Дверь открылась. Вошел новый проезжающий.
VII
Это был жандармский капитан: невысок ростом, щеголеват, с полными щечками, брюнет. Едва войдя и стянув с рук перчатки, он принялся крутить свои черные усики, одновременно с любопытством оглядываясь.
Киргиз при его виде легко поднялся и, подойдя к капитану, отвесил полный достоинства поклон.
Жандарм ответил ему весьма благосклонно.
Затем киргиз пригласил его к столу.
На лице жандарма выразилось колебание.
— Вообще-то мне нужно поспешать дальше, — сказал, задерживаясь взглядом на бутылке коньяку, но… — Он вздохнул, посмотрел на темные окна, за ними слышался тихий шелест: шел дождь.
Ничего более не говоря, офицер пошел раздеваться. Киргиз удовлетворенно улыбнулся и приказал буфетчику подать закуски поприличней. Пока тот хлопотал, киргиз сидел на своем привычном месте, отворотившись к окну, в черной его темени виделся ему образ молодой женщины в ту минуту, когда они давеча стояли во дворе и он им говорил, как ехать. Она слушала наклонив голову, и отдаленный свет качающегося на железном крюке фонаря падал ей на лицо, и вся она походила на молодое испуганное животное, чутко прислушивающееся к тревожным шорохам ночи.
Вошел жандарм. Он был умыт, свеж и еще более щеголеват. Он приблизился, поблагодарил, отодвинул стул, сел.
Стол был накрыт заново. Приступили к еде, употребляя при том коньяк, который офицеру понравился, потому что и в самом деле был хорош. Капитан сладко жмурился.
— А здесь, я вижу, приезжающих вообще маловато, — обратился он к киргизу.
— Да, — согласился тот, — не густо. Особенно, знаете, осенью. Вот перед вами двое только и проехали: господин и дама. Да и то — не здешние.
— Не здешние? — прищурился жандарм. — Любопытно. Может быть, издалека?
— Угадали. Издалека. Насколько я понял — из Петербурга.
— Вот как? Что же их занесло сюда?
— Затрудняюсь сказать. А вообще — люди весьма симпатичные. Достойные. Мы тут с ними чаю напились. И в разговоре, можете себе представить, выяснилось вдруг, что мы с этим проезжающим — однокашники!..
— То есть как? — нахмурился жандарм.
— Ну, не в прямом смысле, а так… Вообще. Я лет десять назад курс в Петербургском университете закончил. А он — недавно. Хоть и по разным факультетам, а все же… Подумать только — воспитанники одной alma mater! Я даже прослезился!
— Неужели? — насмешливо отозвался жандарм.
— Уверяю вас… И еще вдобавок, — киргиз сконфуженно улыбнулся, — глупость совершил, впрочем, простительную.
— Какую же?
— Великолепный баул желтой кожи, недавно купленный в Омске, подарил ему, в чем сейчас, если говорить откровенно, немного даже раскаиваюсь…
— Как же это вы?
— Единственно из растроганных чувств. На радостях, так сказать! Да он к тому же, однокашник мой, глаз не сводил с этой вещицы, весьма, надо сказать, оригинальной. Похвалил даже. Ну, а уж если похвалил… Вы же знаете восточный обычай…
— Знаю, знаю…
— Я ему и вручил этот баул. Настоял. Хоть он сначала и отказывался.
— Да, — сказал жандарм, подняв рюмку и рассматривая коньяк на свет, — странная история. Впрочем, одно к одному…
— А вы тоже недавно из Петербурга? — спросил его киргиз.
Жандарм кивнул.
— Недавно. Служебные дела… С одного края света, можно сказать, на другой.
— Хотел бы вас спросить, — киргиз почтительно понизил голос, — как чувствует себя столица после злодейского убийства государя?
— Столица скорбит, — ответил капитан. — Смею уверить вас, искренне скорбит. Полагаю, как и вся империя. Кроме некоторых, конечно…
Капитан не стал далее распространяться, кто эти некоторые, да киргизу, кажется, и не нужны были никакие пояснения на этот счет. Он понимающе слушал жандармского офицера, в нужных местах кивал головой или издавал восклицания, выражавшие то восхищение, то согласие, в зависимости от обстоятельств, и вообще проявил себя очень удобным собеседником.
Чем дальше, однако, тем все больше стало появляться на лице его какое-то отсутствующее выражение, словно он уносился мыслью далеко от этих мест.
…Они как раз пересекали на пароме Иртыш. Река была темна и обширна, как море. Паромщики с трудом выгребали. Два фонаря дрожали на углах большого дощаника. Повозка стояла посередине, возница, закутавшись, сидел на передке. Молодой человек и спутница его стояли прислонившись к шатким перилам парома и смотрели вниз по реке. Смутно, тревожно было у них на душе. Но светлым бликом надежды в окружавшем их мраке было воспоминание о человеке, которого оставили они позади и с помощью которого пересекали громадный Иртыш, направляясь в неведомое.




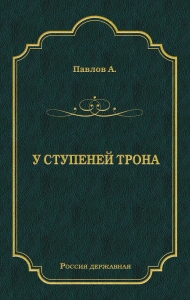
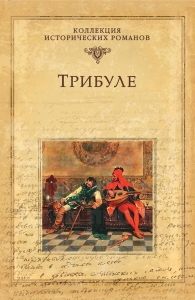

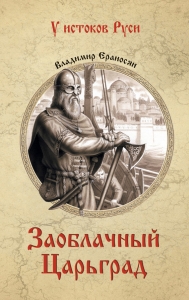
Комментарии к книге «Чай», Юрий Павлович Плашевский
Всего 0 комментариев